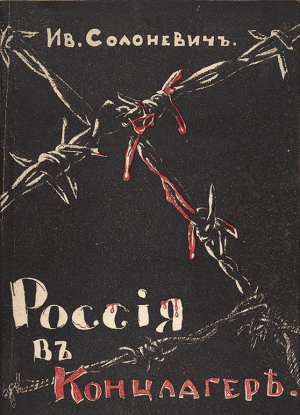
III изданіе. Издательство "Голосъ Россіи", Софія, 1938. Обложка и рисунки Ю. Солоневича.
НѢСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХЪ ОБЪЯСНЕНІЙ
ВОПРОСЪ ОБЪ ОЧЕВИДЦАХЪ
Я отдаю себѣ совершенно ясный отчетъ въ томъ, насколько трудна и отвѣтственна всякая тема, касающаяся Совѣтской Россіи. Трудность этой темы осложняется необычайной противорѣчивостью всякаго рода "свидѣтельскихъ показаній" и еще большею противорѣчивостью тѣхъ выводовъ, которые дѣлаются на основаніи этихъ показаній.
Свидѣтелямъ, вышедшимъ изъ Совѣтской Россіи, читающая публика вправѣ нѣсколько не довѣрять, подозрѣвая ихъ — и не безъ нѣкотораго психологическаго основанія — въ чрезмѣрномъ сгущеніи красокъ. Свидѣтели, наѣзжающіе въ Россію извнѣ, при самомъ честномъ своемъ желаніи, технически не въ состояніи видѣть ничего существеннаго, не говоря уже о томъ, что подавляющее большинство изъ нихъ ищетъ въ совѣтскихъ наблюденіяхъ не провѣрки, а только подтвержденія своихъ прежнихъ взглядовъ. А ищущій — конечно, находитъ...
Помимо этого, значительная часть иностранныхъ наблюдателей пытается — и не безуспѣшно — найти положительныя стороны суроваго коммунистическаго опыта, оплаченнаго и оплачиваемаго не за ихъ счетъ. Цѣна отдѣльныхъ достиженій власти — а эти достиженія, конечно, есть, — ихъ не интересуетъ: не они платятъ эту цѣну. Для нихъ этотъ опытъ болѣе или менѣе безплатенъ. Вивисекція производится не надъ ихъ живымъ тѣломъ — почему же не воспользоваться результатами ея?
Полученный такимъ образомъ "фактическій матеріалъ" подвергается затѣмъ дальнѣйшей обработкѣ въ зависимости отъ насущныхъ и уже сформировавшихся потребностей отдѣльныхъ политическихъ группировокъ. Въ качествѣ окончательнаго продукта всего этого "производственнаго процесса" получаются картины — или обрывки картинъ, — имѣющія очень мало общаго съ "исходнымъ продуктомъ" — съ совѣтской реальностью: "должное" получаетъ подавляющій перевѣсъ надъ "сущимъ"...
Фактъ моего бѣгства изъ СССР въ нѣкоторой степени предопредѣляетъ тонъ и моихъ "свидѣтельскихъ показаній." Но если читатель приметъ во вниманіе то обстоятельство, что и въ концлагерь-то я попалъ именно за попытку бѣгства изъ СССР, то этотъ тонъ получаетъ нѣсколько иное, не слишкомъ банальное объясненіе: не лагерныя, а общероссійскія переживанія толкнули меня заграницу.
Мы трое, т.е. я, мой братъ и сынъ, предпочли совсѣмъ всерьезъ рискнуть своей жизнью, чѣмъ продолжать свое существованіе въ соціалистической странѣ. Мы пошли на этотъ рискъ безъ всякаго непосредственнаго давленія извнѣ. Я въ матеріальномъ отношеніи былъ устроенъ значительно лучше, чѣмъ подавляющее большинство квалифицированной русской интеллигенціи, и даже мой братъ, во время нашихъ первыхъ попытокъ бѣгства еще отбывавшій послѣ Соловковъ свою "административную ссылку", поддерживалъ уровень жизни, на много превышающій уровень, скажемъ, русскаго рабочаго. Настоятельно прошу читателя учитывать относительность этихъ масштабовъ: уровень жизни совѣтскаго инженера на много ниже уровня жизни финляндскаго рабочаго, а русскій рабочій вообще ведетъ существованіе полуголодное.
Слѣдовательно, тонъ моихъ очерковъ вовсе не опредѣляется ощущеніемъ какой-то особой, личной, обиды. Революція не отняла у меня никакихъ капиталовъ — ни движимыхъ, ни недвижимыхъ — по той простой причинѣ, что капиталовъ этихъ у меня не было. Я даже не могу питать никакихъ спеціальныхъ и личныхъ претензій къ ГПУ: мы были посажены въ концентраціонный лагерь не за здорово живешь, какъ попадаетъ, вѣроятно, процентовъ восемьдесятъ лагерниковъ, а за весьма конкретное "преступленіе", и преступленіе, съ точки зрѣнія совѣтской власти, особо предосудительное: попытку оставить соціалистическій рай. Полгода спустя послѣ нашего ареста былъ изданъ законъ (отъ 7 іюня 1934 г.), карающій побѣгъ заграницу смертной казнью. Даже и совѣтски-настроенный читатель долженъ, мнѣ кажется, понять, что не очень велики сладости этого рая, если выходы изъ него приходится охранять суровѣе, чѣмъ выходы изъ любой тюрьмы...
Діапазонъ моихъ переживаній въ Совѣтской Россіи опредѣляется тѣмъ, что я прожилъ въ ней 17 лѣтъ и что за эти годы — съ блокнотомъ и безъ блокнота, съ фото-аппаратомъ и безъ фото-аппарата — я исколесилъ ее всю. То, что я пережилъ въ теченіе этихъ совѣтскихъ лѣтъ, и то, что я видалъ на пространствахъ этихъ совѣтскихъ территорій, — опредѣлило для меня моральную невозможность оставаться въ Россіи. Мои личныя переживанія какъ потребителя хлѣба, мяса и пиджаковъ, не играли въ этомъ отношеніи рѣшительно никакой роли. Чѣмъ именно опредѣлялись эти переживанія — будетъ видно изъ моихъ очерковъ: въ двухъ строчкахъ этого сказать нельзя.
ДВѢ СИЛЫ
Если попытаться предварительно и, такъ сказать, эскизно, опредѣлить тотъ процессъ, который сейчасъ совершается въ Россіи, то можно сказать приблизительно слѣдующее:
Процессъ идетъ чрезвычайно противорѣчивый и сложный. Властью созданъ аппаратъ принужденія такой мощности, какого исторія еще не видала. Этому принужденію противостоитъ сопротивленіе почти такой же мощности. Двѣ чудовищныя силы сцѣпились другъ съ другомъ въ обхватку, въ безпримѣрную по своей напряженности и трагичности борьбу. Власть задыхается отъ непосильности задачъ, страна задыхается отъ непосильности гнета.
Власть ставитъ своей цѣлью міровую революцію. Въ виду того, что надежды на близкое достиженіе этой цѣли рухнули, — страна должна быть превращена въ моральный, политическій и военный плацдармъ, который сохранилъ бы до удобнаго момента революціонные кадры, революціонный опытъ и революціонную армію.
Люди же, составляющіе эту "страну", становиться на службу міровой революціи не хотятъ и не хотятъ отдавать своего достоянія и своихъ жизней. Власть сильнѣе "людей", но "людей" больше. Водораздѣлъ между властью и "людьми" проведенъ съ такой рѣзкостью, съ какою это обычно бываетъ только въ эпохи иноземнаго завоеванія. Борьба принимаетъ формы средневѣковой жестокости.
Ни на Невскомъ, ни на Кузнецкомъ мосту ни этой борьбы, ни этихъ жестокостей не видать. Здѣсь — территорія, уже прочно завоеванная властью. Борьба идетъ на фабрикахъ и заводахъ, въ степяхъ Украины и Средней Азіи, въ горахъ Кавказа, въ лѣсахъ Сибири и Сѣвера. Она стала гораздо болѣе жестокой, чѣмъ она была даже въ годы военнаго коммунизма, — отсюда чудовищныя цифры "лагернаго населенія" и непрекращающееся голодное вымираніе страны.
Но на завоеванныхъ территоріяхъ столицъ, крупнѣйшихъ промышленныхъ центровъ, желѣзнодорожныхъ магистралей достигнутъ относительный внѣшній порядокъ: "врагъ" или вытѣсненъ, или уничтоженъ. Терроръ въ городахъ, резонирующій по всему міру, сталъ ненуженъ и даже вреденъ. Онъ перешелъ въ низы, въ массы, отъ буржуазіи и интеллигенціи — къ рабочимъ и крестьянамъ, отъ кабинетовъ — къ сохѣ и станку. И для посторонняго наблюдателя онъ сталъ почти незамѣтенъ.
КОНЦЕНТРАЦІОННЫЕ ЛАГЕРЯ
Тема о концентраціонныхъ лагеряхъ въ Совѣтской Россіи уже достаточно использована. Но она была использована преимущественно какъ тема "ужасовъ" и какъ тема личныхъ переживаній людей, попавшихъ въ концлагерь болѣе или менѣе безвинно. Меня концлагерь интересуетъ не какъ территорія "ужасовъ", не какъ мѣсто страданій и гибели милліонныхъ массъ, въ томъ числѣ и не какъ фонъ моихъ личныхъ переживаній — каковы бы они ни были. Я не пишу сентиментальнаго романа и не собираюсь вызвать въ читателѣ чувства симпатіи или сожалѣнія. Дѣло не въ сожалѣніи, а въ пониманіи.
И вотъ именно здѣсь, въ концентраціонномъ лагерѣ, легче и проще всего понять основное содержаніе и основныя "правила" той борьбы, которая ведется на пространствѣ всей соціалистической республики.
Я хочу предупредить читателя: ничѣмъ существеннымъ лагерь отъ "воли" не отличается. Въ лагерѣ, если и хуже, чѣмъ на волѣ, то очень ужъ не на много, — конечно, для основныхъ массъ лагерниковъ — для рабочихъ и крестьянъ. Все то, что происходитъ въ лагерѣ, происходитъ и на волѣ — и наоборотъ. Но только — въ лагерѣ все это нагляднѣе, проще, четче. Нѣтъ той рекламы, нѣтъ тѣхъ "идеологическихъ надстроекъ", подставной и показной общественности, бѣлыхъ перчатокъ и оглядки на иностраннаго наблюдателя, какія существуютъ на волѣ. Въ лагерѣ основы совѣтской власти представлены съ четкостью алгебраической формулы.
Исторія моего лагернаго бытія и побѣга, если не доказываетъ, то, во всякомъ случаѣ, показываетъ, что эту формулу я понималъ правильно. Подставивъ въ нее, вмѣсто отвлеченныхъ алгебраическихъ величинъ, живыхъ и конкретныхъ носителей совѣтской власти въ лагерѣ, живыя и конкретныя взаимоотношенія власти и населенія, — я получилъ нужное мнѣ рѣшеніе, обезпечившее въ исключительно трудныхъ объективныхъ условіяхъ успѣхъ нашего очень сложнаго технически побѣга.
Возможно, что нѣкоторыя страницы моихъ очерковъ покажутся читателю циничными... Конечно, я очень далекъ отъ мысли изображать изъ себя невиннаго агнца: въ той жестокой ежедневной борьбѣ за жизнь, которая идетъ по всей Россіи, такихъ агнцевъ вообще не осталось: они вымерли. Но я прошу не забывать, что дѣло шло — совершенно реально — о жизни и смерти, и не только моей.
Въ той общей борьбѣ не на жизнь, а на смерть, о которой я только что говорилъ, нельзя представлять себѣ дѣла такъ, что вотъ съ одной стороны безпощадные палачи, а съ другой — только безотвѣтныя жертвы. Нельзя же думать, что за годы этой борьбы у страны не выработалось милліоновъ способовъ и открытаго сопротивленія, и "примѣненія къ мѣстности", и всякаго рода изворотовъ, не всегда одобряемыхъ евангельской моралью. И не нужно представлять себѣ страданіе непремѣнно въ ореолѣ святости... Я буду рисовать совѣтскую жизнь въ мѣру моихъ способностей — такою, какой я ее видѣлъ. Если нѣкоторыя страницы этой жизни читателю не понравятся — это не моя вина...
ИМПЕРІЯ ГУЛАГ'А
Эпоха коллективизаціи довела количество лагерей и лагернаго населенія до неслыханныхъ раньше цифръ. Именно въ связи съ этимъ лагерь пересталъ быть мѣстомъ заключенія и истребленія нѣсколькихъ десятковъ тысячъ контръ-революціонеровъ, какимъ были Соловки, и превратился въ гигантское предпріятіе по эксплоатаціи даровой рабочей силы, находящейся въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Лагерями ГПУ — ГУЛАГ'а. Границы между лагеремъ и волей стираются все больше и больше. Въ лагерѣ идетъ процессъ относительнаго раскрѣпощенія лагерниковъ, на волѣ идетъ процессъ абсолютнаго закрѣпощенія массъ. Лагерь вовсе не является изнанкой, нѣкоимъ Unterwelt'омъ воли, а просто отдѣльнымъ и даже не очень своеобразнымъ кускомъ совѣтской жизни. Если мы представимъ себѣ лагерь нѣсколько менѣе голодный, лучше одѣтый и менѣе интенсивно разстрѣливаемый, чѣмъ сейчасъ, то это и будетъ кускомъ будущей Россіи, при условіи ея дальнѣйшей "мирной эволюціи". Я беру слово "мирная" въ кавычки, ибо этотъ худой миръ намного хуже основательной войны... А сегодняшняя Россія пока очень немногимъ лучше сегодняшняго концлагеря.
Лагерь, въ который мы попали — Бѣломорско-Балтійскій Комбинатъ — сокращенно ББК, — это цѣлое королевство съ территоріей отъ Петрозаводска до Мурманска, съ собственными лѣсоразработками, каменоломнями, фабриками, заводами, желѣзнодорожными вѣтками и даже съ собственными верфями и пароходствомъ. Въ немъ девять "отдѣленій": мурманское, туломское, кемское, сорокское, сегежское, сосновецкое, водораздѣльное, повѣнецкое и медгорское. Въ каждомъ такомъ отдѣленіи — отъ пяти до двадцати семи лагерныхъ пунктовъ ("лагпункты") съ населеніемъ отъ пятисотъ человѣкъ до двадцати пяти тысячъ. Большинство лагпунктовъ имѣютъ еще свои "командировки" — всякаго рода мелкія предпріятія, разбросанныя на территоріи лагпункта.
На ст. Медвѣжья Гора ("Медгора") находится управленіе лагеремъ — оно же и фактическое правительство такъ называемой "Карельской республики" — лагерь поглотилъ республику, захватилъ ея территорію и — по извѣстному приказу Сталина объ организаціи Балтійско-Бѣломорскаго Комбината — узурпировалъ всѣ хозяйственныя и административныя функціи правительства. Этому правительству осталось только "представительство", побѣгушки по приказамъ изъ Медгоры, да роль декораціи національной автономіи Кареліи.
Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1934 года "лагерное населеніе" ББК исчислялось въ 286.000 человѣкъ, хотя лагерь находился уже въ состояніи нѣкотораго упадка — работы по сооруженію Бѣломорско-Балтійскаго канала были уже закончены, и огромное число заключенныхъ — я не знаю точно, какое именно — было отправлено на БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Въ началѣ марта того же года мнѣ пришлось работать въ плановомъ отдѣлѣ Свирьскаго лагеря — это одинъ изъ сравнительно мелкихъ лагерей; въ немъ было 78000 "населенія".
Нѣкоторое время я работалъ и въ учетно-распредѣлительной части (УРЧ) ББК и въ этой работѣ сталкивался со всякаго рода перебросками изъ лагеря въ лагерь. Это дало мнѣ возможность съ очень грубой приблизительностью опредѣлить число заключенныхъ всѣхъ лагерей СССР. Я при этомъ подсчетѣ исходилъ, съ одной стороны — изъ точно мнѣ извѣстныхъ цифръ "лагернаго населенія" Свирьлага и ББК, а съ другой — изъ, такъ сказать, "относительныхъ величинъ" остальныхъ болѣе или менѣе извѣстныхъ мнѣ лагерей. Некоторые изъ нихъ — больше ББК (БАМ, Сиблагъ, Дмитлагъ); большинство — меньше. Есть совсѣмъ ужъ неопредѣленное количество мелкихъ и мельчайшихъ лагерей — въ отдѣльныхъ совхозахъ, даже въ городахъ. Такъ, напримѣръ, въ Москвѣ и Петербургѣ стройки домовъ ГПУ и стадіоновъ "Динамо" производились силами мѣстныхъ лагерниковъ. Есть десятка два лагерей средней величины — такъ, между ББК и Свирьлагомъ... Я не думаю, чтобы общее число всѣхъ заключенныхъ въ этихъ лагеряхъ было меньше пяти милліоновъ человѣкъ. Вѣроятно, — нѣсколько больше. Но, конечно, ни о какой точности подсчета не можетъ быть и рѣчи. Больше того, я знаю системы низового подсчета въ самомъ лагерѣ и поэтому сильно сомнѣваюсь, чтобы само ГПУ знало о числѣ лагерниковъ съ точностью хотя бы до сотенъ тысячъ.
Здѣсь идетъ рѣчь о лагерникахъ въ строгомъ смыслѣ этого слова. Помимо нихъ, существуютъ всякіе другіе — болѣе или менѣе заключенные слои населенія. Такъ, напримѣръ, въ ББК въ періодъ моего пребыванія тамъ находилось 28.000 семействъ такъ называемыхъ "спецпереселенцевъ" — это крестьяне Воронежской губерніи, высланные въ Карелію цѣлыми селами на поселеніе и подъ надзоръ ББК. Они находились въ гораздо худшемъ положеніи, чѣмъ лагерники, ибо они были съ семьями, и пайка имъ не давали. Далѣе слѣдуетъ категорія административно ссыльныхъ, высылаемыхъ въ индивидуальномъ порядкѣ: это варіантъ довоенной ссылки, только безъ всякаго обезпеченія со стороны государства — живи, чѣмъ хочешь. Дальше — "вольно-ссыльные" крестьяне, высылаемые обычно цѣлыми селами на всякаго рода "неудобоусвояемыя земли", но не находящіяся подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ ГПУ.
О количествѣ всѣхъ этихъ категорій, не говоря уже о количествѣ заключенныхъ въ тюрьмахъ, я не имѣю никакого, даже и приблизительнаго, представленія. Надо имѣть въ виду, что всѣ эти заключенные и полузаключенные люди — все это цвѣтъ націи, въ особенности, крестьяне. Думаю, что не меньше одной десятой части взрослаго мужского населенія страны находится или въ лагеряхъ, или гдѣ-то около нихъ...
Это, конечно, не европейскіе масштабы... Системы совѣтскихъ ссылокъ какъ-то напоминаютъ новгородскій "выводъ" при Грозномъ, а еще больше — ассирійскіе методы и масштабы.
"Ассирійцы, — пишетъ Каутскій[1], — додумались до системы, которая обѣщала ихъ завоеваніямъ большую прочность: тамъ, гдѣ они наталкивались на упорное сопротивленіе или повторныя возстанія, они парализовали силы побѣжденнаго народа такимъ путемъ, что отнимали у него голову, т.е. отнимали у него господствующіе классы... самые знатные, образованные и боеспособные элементы... и отсылали ихъ въ отдаленную мѣстность, гдѣ они, оторванные отъ своей подпочвы, были совершенно безсильны. Оставшіеся на родинѣ крестьяне и мелкіе ремесленники представляли плохо связанную массу, неспособную оказать какое-нибудь сопротивленіе завоевателямъ"...
Совѣтская власть повсюду "наталкивалась на упорное сопротивленіе и повторныя возстанія" и имѣетъ всѣ основанія опасаться, въ случаѣ внѣшнихъ осложненій, такого подъема "сопротивленія и возстаній", какого еще не видала даже и многострадальная русская земля. Отсюда — и ассирійскіе методы, и ассирійскіе масштабы. Все болѣе или менѣе хозяйственно устойчивое, способное мало-мальски самостоятельно мыслить и дѣйствовать, — короче, все то, что оказываетъ хоть малѣйшее сопротивленіе всеобщему нивеллированію, — подвергается "выводу", искорененію, изгнанію.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Какъ видите — эти цифры очень далеки и отъ "мирной эволюціи", и отъ "ликвидаціи террора"... Боюсь, что во всякаго рода эволюціонныхъ теоріяхъ русская эмиграція слишкомъ увлеклась тенденціей "видѣть чаемое какъ бы сущимъ". Въ Россіи объ этихъ теоріяхъ не слышно абсолютно ничего, и для насъ — всѣхъ троихъ — эти теоріи эмиграціи явились полнѣйшей неожиданностью: какъ снѣгъ на голову... Конечно, нынѣшній маневръ власти — "защита родины" — обсуждается и въ Россіи, но за всю мою весьма многостороннюю совѣтскую практику я не слыхалъ ни одного случая, чтобы этотъ маневръ обсуждался, такъ сказать, всерьезъ — какъ его обсуждаютъ здѣсь, заграницей...
При НЭП'ѣ власть использовала инстинктъ собственности и, использовавъ, послала въ Соловки и на разстрѣлъ десятки и сотни тысячъ своихъ временныхъ нэповскихъ "помощниковъ". Первая пятилѣтка использовала инстинктъ строительства и привела страну къ голоду, еще небывалому даже въ исторіи соціалистическаго рая. Сейчасъ власть пытается использовать національный инстинктъ для того, чтобы въ моментъ военныхъ испытаній обезпечить, по крайней мѣрѣ, свой тылъ... Исторія всякихъ помощниковъ, попутчиковъ, смѣновѣховцевъ и прочихъ — использованныхъ до послѣдняго волоса и потомъ выкинутыхъ на разстрѣлъ — могла бы заполнить цѣлые томы. Въ эмиграціи и заграницей объ этой исторіи позволительно время отъ времени забывать: не эмиграція и не заграница платила своими шкурами за тенденцію "видѣть чаемое какъ бы сущимъ". Профессору Устрялову, сильно промахнувшемуся на своихъ НЭП'овскихъ пророчествахъ, рѣшительно ничего не стоитъ въ тиши харбинскаго кабинета смѣнить свои вѣхи еще одинъ разъ (или далеко не одинъ разъ!) и состряпать новое пророчество. Въ Россіи люди, ошибавшіеся въ своей оцѣнкѣ и повѣрившіе власти, платили за свои ошибки жизнью. И поэтому человѣкъ, который въ Россіи сталъ бы всерьезъ говорить объ эволюціи власти, былъ бы просто поднять на смѣхъ.
Но какъ бы ни оцѣнивать шансы "мирной эволюціи", мирнаго врастанія соціализма въ кулака (можно утверждать, что издали — виднѣе), одинъ фактъ остается для меня абсолютно внѣ всякаго сомнѣнія. Объ этомъ мелькомъ говорилъ краскомъ Тренинъ въ "Послѣднихъ Новостяхъ": страна ждетъ войны для возстанія. Ни о какой защитѣ "соціалистическаго отечества" со стороны народныхъ массъ — не можетъ быть и рѣчи. Наоборотъ: съ кѣмъ бы ни велась война и какими бы послѣдствіями ни грозилъ военный разгромъ — всѣ штыки и всѣ вилы, которые только могутъ быть воткнуты въ спину красной арміи, будутъ воткнуты обязательно. Каждый мужикъ знаетъ это точно такъ же, какъ это знаетъ и каждый коммунистъ!.. Каждый мужикъ знаетъ, что при первыхъ же выстрѣлахъ войны онъ въ первую голову будетъ рѣзать своего ближайшаго предсѣдателя сельсовѣта, предсѣдателя колхоза и т.п., и эти послѣдніе совершенно ясно знаютъ, что въ первые же дни войны они будутъ зарѣзаны, какъ бараны...
Я не могу сказать, чтобы вопросы отношенія массъ къ религіи, монархіи, республикѣ и пр. были для меня совершенно ясны... Но вопросъ объ отношеніи къ войнѣ выпираетъ съ такой очевидностью, что тутъ не можетъ быть никакихъ ошибокъ... Я не считаю это особенно розовой перспективой, но особенно розовыхъ перспективъ вообще не видать... Достаточно хорошо зная русскую дѣйствительность, я довольно ясно представляю себѣ, что будетъ дѣлаться въ Россіи на второй день послѣ объявленія войны: военный коммунизмъ покажется дѣтскимъ спектаклемъ... Нѣкоторыя репетиціи вотъ такого спектакля я видалъ уже въ Киргизіи, на Сѣверномъ Кавказѣ и въ Чечнѣ... Коммунизмъ это знаетъ совершенно точно — и вотъ почему онъ пытается ухватиться за ту соломинку довѣрія, которая, какъ ему кажется, въ массахъ еще осталась... Конечно, оселъ съ охапкой сѣна передъ носомъ принадлежитъ къ числу геніальнѣйшихъ изобрѣтеній міровой исторіи — такъ по крайней мѣрѣ утверждаетъ Вудвортъ, — но даже и это изобрѣтеніе изнашивается. Можно еще одинъ — совсѣмъ лишній — разъ обмануть людей, сидящихъ въ Парижѣ или въ Харбинѣ, но нельзя еще одинъ разъ (который, о Господи!) обмануть людей, сидящихъ въ концлагерѣ или въ колхозѣ... Для нихъ сейчасъ ubi bene — ibi patria, а хуже, чѣмъ на совѣтской родинѣ, имъ все равно не будетъ нигдѣ... Это, какъ видите, очень прозаично, не очень весело, но это всетаки —фактъ...
Учитывая этотъ фактъ, большевизмъ строитъ свои военные планы съ большимъ расчетомъ на возстанія — и у себя, и у противника. Или, какъ говорилъ мнѣ одинъ изъ военныхъ главковъ, вопросъ стоитъ такъ: "гдѣ раньше вспыхнутъ массовыя возстанія — у насъ или у противника. Они раньше всего вспыхнутъ въ тылу отступающей стороны. Поэтому мы должны наступать и поэтому мы будемъ наступать".
Къ чему можетъ привести это наступленіе — я не знаю. Но возможно, что въ результатѣ его міровая революція можетъ стать, такъ сказать, актуальнымъ вопросомъ... И тогда г. г. Устрялову, Блюму, Бернарду Шоу и многимъ другимъ — покровительственно поглаживающимъ большевицкаго пса или пытающимся въ порядкѣ торговыхъ договоровъ урвать изъ его шерсти клочокъ долларовъ — придется пересматривать свои вѣхи уже не въ кабинетахъ, а въ Соловкахъ и ББК'ахъ, — какъ ихъ пересматриваютъ много, очень много, людей, увѣровавшихъ въ эволюцію, сидя не въ Харбинѣ, а въ Россіи...
Въ этомъ — все же не вполнѣ исключенномъ случаѣ — неудобоусвояемые просторы россійскихъ отдаленныхъ мѣстъ будутъ несомненно любезно предоставлены въ распоряженіе соотвѣтствующихъ братскихъ ревкомовъ для поселенія тамъ многихъ, нынѣ благополучно вѣрующихъ, людей — откуда же взять этихъ просторовъ, какъ не на россійскомъ сѣверѣ?
И для этого случая мои очерки могутъ сослужить службу путеводителя и самоучителя.
БѢЛОМОРСКОБАЛТІЙСКІЙ КОМБИНАТЪ (ББК)
ОДИНОЧНЫЯ РАЗМЫШЛЕНІЯ
Въ камерѣ мокро и темно. Каждое утро я тряпкой стираю струйки воды со стѣнъ и лужицы — съ полу. Къ полудню — полъ снова въ лужахъ...
Около семи утра мнѣ въ окошечко двери просовываютъ фунтъ чернаго малосъѣдобнаго хлѣба — это мой дневной паекъ — и кружку кипятку. Въ полдень — блюдечко ячкаши, вечеромъ — тарелку жидкости, долженствующей изображать щи, и то же блюдечко ячкаши.
По камерѣ можно гулять изъ угла въ уголъ — выходитъ четыре шага туда и четыре обратно. На прогулку меня не выпускаютъ, книгъ и газетъ не даютъ, всякое сообщеніе съ внѣшнимъ міромъ отрѣзано. Насъ арестовали весьма конспиративно — и никто не знаетъ и не можетъ знать, гдѣ мы, собственно, находимся. Мы — т.е. я, мой братъ Борисъ и сынъ Юра. Но они — гдѣ-то по другимъ одиночкамъ.
Я по недѣлямъ не вижу даже тюремнаго надзирателя. Только чья-то рука просовывается съ ѣдой и чей-то глазъ каждыя 10-15 минутъ заглядываетъ въ волчекъ. Обладатель глаза ходитъ неслышно, какъ привидѣніе, и мертвая тишина покрытыхъ войлокомъ тюремныхъ корридоровъ нарушается только рѣдкимъ лязгомъ дверей, звономъ ключей и изрѣдка какимъ-нибудь дикимъ и скоро заглушаемымъ крикомъ. Только одинъ разъ я явственно разобралъ содержаніе этого крика:
— Товарищи, братишки, на убой ведутъ...
Ну, что же... Въ какую-то не очень прекрасную ночь вотъ точно такъ же поведутъ и меня. Всѣ объективныя основанія для этого "убоя" есть. Мой расчетъ заключается, въ частности, въ томъ, чтобы не дать довести себя до этого "убоя". Когда-то, еще до голодовокъ соціалистическаго рая, у меня была огромная физическая сила. Кое-что осталось и теперь. Каждый день, несмотря на голодовку, я все-таки занимаюсь гимнастикой, неизмѣнно вспоминая при этомъ андреевскаго студента изъ "Разсказа о семи повѣшенныхъ". Я надѣюсь, что у меня еще хватитъ силы, чтобы кое-кому изъ людей, которые вотъ такъ, ночью, войдутъ ко мнѣ съ револьверами въ рукахъ, переломать кости и быть пристрѣленнымъ безъ обычныхъ убойныхъ обрядностей... Все-таки — это проще...
Но, можетъ, захватятъ соннаго и врасплохъ — какъ захватили насъ въ вагонѣ? И тогда придется пройти весь этотъ скорбный путь, исхоженный уже столькими тысячами ногъ, со скрученными на спинѣ руками, все ниже и ниже, въ таинственный подвалъ ГПУ... И съ падающимъ сердцемъ ждать послѣдняго — уже неслышнаго — толчка въ затылокъ.
Ну, что-жъ... Неуютно — но я не первый и не послѣдній. Еще неуютнѣе мысль, что по этому пути придется пройти и Борису. Въ его біографіи — Соловки, и у него совсѣмъ ужъ мало шансовъ на жизнь. Но онъ чудовищно силенъ физически и едва-ли дастъ довести себя до убоя...
А какъ съ Юрой? Ему еще нѣтъ 18-ти лѣтъ. Можетъ быть, пощадятъ, а можетъ быть, и нѣтъ. И когда въ воображеніи всплываетъ его высокая и стройная юношеская фигура, его кудрявая голова... Въ Кіевѣ, на Садовой 5, послѣ ухода большевиковъ я видѣлъ человѣческія головы, прострѣленныя изъ нагана на близкомъ разстояніи:
Когда я представляю себѣ Юру, плетущагося по этому скорбному пути, и его голову... Нѣтъ, объ этомъ нельзя думать. Отъ этого становится тѣсно и холодно въ груди и мутится въ головѣ. Тогда хочется сдѣлать что-нибудь рѣшительно ни съ чѣмъ несообразное.
Но не думать — тоже нельзя. Безконечно тянутся безсонныя тюремныя ночи, неслышно заглядываетъ въ волчекъ чей-то почти невидимый глазъ. Тускло свѣтитъ съ середины потолка электрическая лампочка. Со стѣнъ несетъ сыростью. О чемъ думать въ такія ночи?
О будущемъ думать нечего. Гдѣ-то тамъ, въ таинственныхъ глубинахъ Шпалерки, уже, можетъ быть, лежитъ клочекъ бумажки, на которомъ чернымъ по бѣлому написана моя судьба, судьба брата и сына, и объ этой судьбѣ думать нечего, потому что она — неизвѣстна, потому что въ ней измѣнить я уже ничего не могу.
Говорятъ, что въ памяти умирающаго проходитъ вся его жизнь. Такъ и у меня — мысль все настойчивѣе возвращается къ прошлому, къ тому, что за всѣ эти революціонные годы было перечувствовано, передумано, сдѣлано, — точно на какой-то суровой, аскетической исповѣди передъ самимъ собой. Исповѣди тѣмъ болѣе суровой, что именно я, какъ "старшій въ родѣ", какъ организаторъ, а въ нѣкоторой степени и иниціаторъ побѣга, былъ отвѣтственъ не только за свою собственную жизнь. И вотъ — я допустилъ техническую ошибку.
БЫЛО-ЛИ ЭТО ОШИБКОЙ?
Да, техническая ошибка, конечно, была — именно въ результатѣ ея мы очутились здѣсь. Но не было ли чего-то болѣе глубокаго — не было ли принципіальной ошибки въ нашемъ рѣшеніи бѣжать изъ Россіи. Неужели же нельзя было остаться, жить такъ, какъ живутъ милліоны, пройти вмѣстѣ со своей страной весь ея трагическій путь въ неизвѣстность? Дѣйствительно ли не было никакого житья? Никакого просвѣта?
Внѣшняго толчка въ сущности не было вовсе. Внѣшне наша семья жила въ послѣдніе годы спокойной и обезпеченной жизнью, болѣе спокойной и болѣе обезпеченной, чѣмъ жизнь подавляющаго большинства квалифицированной интеллигенціи. Правда, Борисъ прошелъ многое, въ томъ числѣ и Соловки, но и онъ, даже будучи ссыльнымъ, устраивался какъ-то лучше, чѣмъ устраивались другіе...
Я вспоминаю страшныя московскія зимы 1928 — 1930 г. г., когда Москва — конечно, рядовая, неоффиціальная Москва — вымерзала отъ холода и вымирала отъ голода. Я жилъ подъ Москвой, въ 20 верстахъ, въ Салтыковкѣ, гдѣ живутъ многострадальные "зимогоры", для которыхъ въ Москвѣ не нашлось жилплощади. Мнѣ не нужно было ѣздить въ Москву на службу, ибо моей профессіей была литературная работа въ области спорта и туризма. Москва внушала мнѣ острое отвращеніе своей переполненностью, сутолокой, клопами, грязью. А въ Салтыковкѣ у меня была своя робинзоновская мансарда, достаточно просторная и почти полностью изолированная отъ жилищныхъ дрязгъ, подслушиванія, грудныхъ ребятъ за стѣной и вѣчныхъ примусовъ въ корридорѣ, безъ вѣчной борьбы за ухваченный кусочекъ жилплощади, безъ управдомовской слѣжки и безъ прочихъ московскихъ ароматовъ. Въ Салтыковкѣ, кромѣ того, можно было, хотя бы частично, отгораживаться отъ холода и голода.
Лѣтомъ мы собирали грибы и ловили рыбу. Осенью и зимой корчевали пни (хворостъ былъ давно подобранъ подъ метелку). Конечно, всего этого было мало, тѣмъ болѣе, что время отъ времени въ Москвѣ наступали моменты, когда ничего мало-мальски съѣдобнаго, иначе какъ по карточкамъ, нельзя было достать ни за какія деньги. По крайней мѣрѣ — легальнымъ путемъ.
Поэтому приходилось прибѣгать иногда къ весьма сложнымъ и почти всегда не весьма легальнымъ комбинаціямъ. Такъ, одну изъ самыхъ голодныхъ зимъ мы пропитались картошкой и икрой. Не какой-нибудь грибной икрой, которая по цѣнѣ около трешки за кило предлагается "кооперированнымъ трудящимся" и которой даже эти трудящіеся ѣсть не могутъ, а настоящей, живительной черной икрой, зернистой и паюсной. Хлѣба, впрочемъ, не было...
Фактъ пропитанія икрой въ теченіе цѣлой зимы цѣлаго совѣтскаго семейства могъ бы, конечно, служить иллюстраціей "безпримѣрнаго въ исторіи подъема благосостоянія массъ", но по существу дѣло обстояло прозаичнѣе.
Въ старомъ елисѣевскомъ магазинѣ на Тверской обосновался "Инснабъ", изъ котораго безхлѣбное совѣтское правительство снабжало своихъ иностранцевъ — приглашенныхъ по договорамъ иностранныхъ спеціалистовъ и разную коминтерновскую и профинтерновскую шпану помельче. Шпана покрупнѣе — снабжалась изъ кремлевскаго распредѣлителя.
Впрочемъ, это былъ періодъ, когда и для иностранцевъ уже немного оставалось. Каждый изъ нихъ получалъ персональную заборную книжку, въ которой было проставлено, сколько продуктовъ онъ можетъ получить въ мѣсяцъ. Количество это колебалось въ зависимости отъ производственной и политической цѣнности даннаго иностранца, но въ среднемъ было очень невелико. Особенно ограничена была выдача продуктовъ первой необходимости — картофеля, хлѣба, сахару и пр. И наоборотъ — икра, семга, балыки, вина и пр. — отпускались безъ ограниченій. Цѣны же на всѣ эти продукты первой и не первой необходимости были разъ въ 10-20 ниже рыночныхъ.
Русскихъ въ магазинъ не пускали вовсе. У меня же было сногсшибательное англійское пальто и "неопалимая" сигара, спеціально для особыхъ случаевъ сохранявшаяся.
И вотъ, я въ этомъ густо иностранномъ пальто и съ сигарой въ зубахъ важно шествую мимо чекиста изъ паршивенькихъ, охраняющаго этотъ съѣстной рай отъ голодныхъ совѣтскихъ глазъ. Въ первые визиты чекистъ еще пытался спросить у меня пропускъ, я величественно запускалъ руку въ карманъ и, ничего оттуда видимого не вынимая, проплывалъ мимо. Въ магазинѣ все уже было просто. Конечно, хорошо бы купить и просто хлѣба; картошка, даже и при икрѣ, все же надоѣдаетъ, но хлѣбъ строго нормированъ и безъ книжки нельзя купить ни фунта. Ну, что-жъ. Если нѣтъ хлѣба, будемъ жрать честную пролетарскую икру.
Икра здѣсь стоила 22 рубля кило. Я не думаю, чтобы Рокфеллеръ поглощалъ ее въ такихъ количествахъ... въ какихъ ее поглощала совѣтская Салтыковка. Но къ икрѣ нуженъ былъ еще и картофель.
Съ картофелемъ дѣлалось такъ. Мое образцово-показательное пальто оставлялось дома, я надѣвалъ свою видавшую самые живописные виды совѣтскую хламиду и устремлялся въ подворотни гдѣ-нибудь у Земляного Вала. Тамъ мирно и съ подозрительно честнымъ взглядомъ прохаживались подмосковныя крестьянки. Я посмотрю на нее, она посмотритъ на меня. Потомъ я пройдусь еще разъ и спрошу ее таинственнымъ шепоткомъ:
— Картошка есть?
— Какая тутъ картошка... — но глаза "спекулянтки" уже ощупываютъ меня. Ощупавъ меня взглядомъ и убѣдившись въ моей добропорядочности, "спекулянтка" задаетъ какой-нибудь довольно безсмысленный вопросъ:
— А вамъ картошки надо?..
Потомъ мы идемъ куда-нибудь въ подворотню, на задворки, гдѣ на какой-нибудь кучкѣ тряпья сидитъ мальчуганъ или дѣвченка, а подъ тряпьемъ — завѣтный, со столькими трудностями и рискомъ провезенный въ Москву мѣшочекъ съ картошкой. За картошку я плачу по 5-6 рублей кило...
Хлѣба же не было потому, что мои неоднократныя попытки использовать всѣ блага пресловутой карточной системы кончались позорнымъ проваломъ: я бѣгалъ, хлопоталъ, доставалъ изъ разныхъ мѣстъ разныя удостовѣренія, торчалъ въ потной и вшивой очереди и карточномъ бюро, получалъ карточки и потомъ ругался съ женой, по экономически-хозяйственной иниціативѣ которой затѣвалась вся эта волынка.
Я вспоминаю газетныя замѣтки о томъ, съ какимъ "энтузіазмомъ" привѣтствовалъ пролетаріатъ эту самую карточную систему въ Россіи; "энтузіазмъ" извлекается изъ самыхъ, казалось бы, безнадежныхъ источниковъ... Но карточная система сорганизована была дѣйствительно остроумно.
Мы всѣ трое — на совѣтской работѣ и всѣ трое имѣемъ карточки. Но моя карточка прикрѣплена къ распредѣлителю у Земляного Вала, карточка жены — къ распредѣлителю на Тверской и карточка сына — гдѣ-то у Разгуляя. Это — разъ. Второе: по карточкѣ, кромѣ хлѣба, получаю еще и сахаръ по 800 гр. въ мѣсяцъ. Талоны на остальные продукты имѣютъ чисто отвлеченное значеніе и никого ни къ чему не обязываютъ.
Такъ вотъ, попробуйте на московскихъ трамваяхъ объѣхать всѣ эти три кооператива, постоять въ очереди у каждаго изъ нихъ и по меньшей мѣрѣ въ одномъ изъ трехъ получить отвѣтъ, что хлѣбъ уже весь вышелъ, будетъ къ вечеру или завтра. Говорятъ, что сахару нѣтъ. На дняхъ будетъ. Эта операція повторяется раза три-четыре, пока въ одинъ прекрасный день вамъ говорятъ:
— Ну, что-жъ вы вчера не брали? Вчера сахаръ у насъ былъ.
— А когда будетъ въ слѣдующій разъ?
— Да, все равно, эти карточки уже аннулированы. Надо было вчера брать.
И все — въ порядкѣ. Карточки у васъ есть? — Есть.
Право на два фунта сахару вы имѣете? — Имѣете.
А что вы этого сахару не получили — ваше дѣло. Не надо было зѣвать...
Я не помню случая, чтобы моихъ нервовъ и моего характера хватало больше, чѣмъ на недѣлю такой волокиты. Я доказывалъ, что за время, ухлопанное на всю эту идіотскую возню, можно заработать въ два раза больше денегъ, чѣмъ всѣ эти паршивые нищіе, совѣтскіе объѣдки стоятъ на вольномъ рынкѣ. Что для человѣка вообще и для мужчины, въ частности, ей Богу, менѣе позорно схватить кого-нибудь за горло, чѣмъ три часа стоять бараномъ въ очереди и подъ конецъ получить издѣвательскій шишъ.
Послѣ вотъ этакихъ поѣздокъ пріѣзжаешь домой въ состояніи ярости и бѣшенства. Хочется по дорогѣ набить морду какому-нибудь милиціонеру, который приблизительно въ такой же степени, какъ и я, виноватъ въ этомъ раздувшемся на одну шестую часть земного шара кабакѣ, или устроить вооруженное возстаніе. Но такъ какъ бить морду милиціонеру — явная безсмыслица, а для вооруженнаго возстанія нужно имѣть, по меньшей мѣрѣ, оружіе, то оставалось прибѣгать къ излюбленному оружію рабовъ — къ жульничеству.
Я съ трескомъ рвалъ карточки и шелъ въ какой-нибудь "Инснабъ".
О МОРАЛИ
Я не питаю никакихъ иллюзій насчетъ того, что комбинація съ "Инснабомъ" и другія въ этомъ же родѣ — имя имъ — легіонъ — не были жульничествомъ. Не хочу вскармливать на этихъ иллюзіяхъ и читателя.
Нѣкоторымъ оправданіемъ для меня можетъ служить то обстоятельство, что въ Совѣтской Россіи такъ дѣлали и дѣлаютъ всѣ — начиная съ государства. Государство за мою болѣе или менѣе полноцѣнную работу даетъ мнѣ бумажку, на которой написано, что цѣна ей — рубль, и даже что этотъ рубль обмѣнивается на золото. Реальная же цѣна этой бумажки — немногимъ больше копѣйки, несмотря на ежедневный курсовой отчетъ "Извѣстій", въ которомъ эта бумажка упорно фигурируетъ въ качествѣ самаго всамдѣлишняго полноцѣннаго рубля. Въ теченіе 17-ти лѣтъ государство, если и не всегда грабитъ меня, то ужъ обжуливаетъ систематически, изо дня въ день. Рабочаго оно обжуливаетъ больше, чѣмъ меня, а мужика — больше, чѣмъ рабочаго. Я пропитываюсь "Инснабомъ" и не голодаю, рабочій воруетъ на заводѣ и — все же голодаетъ, мужикъ таскается по ночамъ по своему собственному полю съ ножикомъ или ножницами въ рукахъ, стрижетъ колосья — и совсѣмъ уже мретъ съ голоду. Мужикъ, ежели онъ попадется, рискуетъ или разстрѣломъ, или минимумъ, "при смягчающихъ вину обстоятельствахъ", десятью годами концлагеря (законъ отъ 7 августа 32 г.). Рабочій рискуетъ тремя-пятью годами концлагеря или минимумъ — исключеніемъ изъ профсоюза. Я рискую минимумъ — однимъ непріятнымъ разговоромъ и максимумъ — нѣсколькими непріятными разговорами. Ибо никакой "широкой общественно-политической кампаніей" мои хожденія въ "Инснабъ" непредусмотрѣны.
Легкомысленный иностранецъ можетъ упрекнуть и меня, и рабочаго, и мужика въ томъ, что, "обжуливая государство", мы сами создаемъ свой собственный голодъ. Но и я, и рабочій, и мужикъ отдаемъ себѣ совершенно ясный отчетъ въ томъ, что государство — это отнюдь не мы, а государство — это міровая революція. И что каждый украденный у насъ рубль, день работы, снопъ хлѣба пойдутъ въ эту самую бездонную прорву міровой революціи: на китайскую красную армію, на англійскую забастовку, на германскихъ коммунистовъ, на откормъ коминтерновской шпаны. Пойдутъ на военные заводы пятилѣтки, которая строится все же въ расчетѣ на войну за міровую революцію. Пойдутъ на укрѣпленіе того же дикаго партійно-бюрократическаго кабака, отъ котораго стономъ стонемъ всѣ мы.
Нѣтъ, государство — это не я. И не мужикъ, и не рабочій. Государство для насъ — это совершенно внѣшняя сила, насильственно поставившая насъ на службу совершенно чуждымъ намъ цѣлямъ. И мы отъ этой службы изворачиваемся, какъ можемъ.
ТЕОРІЯ ВСЕОБЩАГО НАДУВАТЕЛЬСТВА
Служба же эта заключается въ томъ, чтобы мы возможно меньше ѣли и возможно больше работали во имя тѣхъ же бездонныхъ универсально революціонныхъ аппетитовъ. Во-первыхъ, не ѣвши, мы вообще толкомъ работать не можемъ: одни — потому, что нѣтъ силъ, другіе — потому, что голова занята поисками пропитанія. Во вторыхъ, партійно-бюрократическій кабакъ, нацѣленный на міровую революцію, создаетъ условія, при которыхъ толкомъ работать совсѣмъ ужъ нельзя. Рабочій выпускаетъ бракъ, ибо вся система построена такъ, что бракъ является его почти единственнымъ продуктомъ; о томъ, какъ работаетъ мужикъ — видно по неизбывному совѣтскому голоду. Но тема о совѣтскихъ заводахъ и совѣтскихъ поляхъ далеко выходитъ за рамки этихъ очерковъ. Что же касается лично меня, то и я поставленъ въ такія условія, что не жульничать я никакъ не могу.
Я работаю въ области спорта — и меня заставляютъ разрабатывать и восхвалять проектъ гигантскаго стадіона въ Москвѣ. Я знаю, что для рабочей и прочей молодежи нѣтъ элементарнѣйшихъ спортивныхъ площадокъ, что люди у лыжныхъ станцій стоятъ въ очереди часами, что стадіонъ этотъ имѣетъ единственное назначеніе — пустить пыль въ глаза иностранцевъ, обжулить иностранную публику размахомъ совѣтской физической культуры. Это дѣлается для міровой революціи. Я — противъ стадіона, но я не могу ни протестовать, ни уклониться отъ него.
Я пишу очерки о Дагестанѣ — изъ этихъ очерковъ цензура выбрасываетъ самые отдаленные намеки на тотъ весьма существенный фактъ, что весь плоскостной Дагестанъ вымираетъ отъ маляріи, что вербовочныя организаціи вербуютъ туда людей (кубанцевъ и украинцевъ) приблизительно на вѣрную смерть... Конечно, я не пишу о томъ, что золота, которое тоннами идетъ на революцію во всемъ мірѣ и на соціалистическій кабакъ въ одной странѣ, не хватило на покупку нѣсколькихъ килограммовъ хинина для Дагестана... И по моимъ очеркамъ выходитъ, что на Шипкѣ все замѣчательно спокойно и живописно. Люди ѣдутъ, пріѣзжаютъ съ маляріей и говорятъ мнѣ вещи, отъ которыхъ надо бы краснѣть...
Я ѣду въ Киргизію и вижу тамъ неслыханное разореніе киргизскаго скотоводства, неописуемый даже для совѣтской Россіи, кабакъ животноводческихъ совхозовъ, концентраціонные лагери на рѣкѣ Чу, цыганскіе таборы оборванныхъ и голодныхъ кулацкихъ семействъ, выселенныхъ сюда изъ Украины. Я чудомъ уношу свои ноги отъ киргизскаго возстанія, а киргизы зарѣзали бы меня, какъ барана, и имѣли бы весьма вѣскія основанія для этой операціи — я русскій и изъ Москвы. Для меня это было бы очень невеселое похмѣлье на совсѣмъ ужъ чужомъ пиру, но какое дѣло киргизамъ до моихъ политическихъ взглядовъ?
И обо всемъ этомъ я не могу написать ни слова. А не писать — тоже нельзя. Это значитъ — поставить крестъ надъ всякими попытками литературной работы и, слѣдовательно, — надо всякими возможностями заглянуть вглубь страны и собственными глазами увидѣть, что тамъ дѣлается. И я вру.
Я вру, когда работаю переводчикомъ съ иностранцами. Я вру, когда выступаю съ докладами о пользѣ физической культуры, ибо въ мои тезисы обязательно вставляются разговоры о томъ, какъ буржуазія запрещаетъ рабочимъ заниматься спортомъ и т.п. Я вру, когда составляю статистику совѣтскихъ физкультурниковъ — цѣликомъ и полностью высосанную мною и моими сотоварищами по работѣ изъ всѣхъ нашихъ пальцевъ, — ибо "верхи" требуютъ крупныхъ цифръ, такъ сказать, для экспорта заграницу...
Это все вещи похуже пяти килограммъ икры изъ иностраннаго распредѣлителя. Были вещи и еще похуже... Когда сынъ болѣлъ тифомъ и мнѣ нуженъ былъ керосинъ, а керосина въ городѣ не было, — я воровалъ этотъ керосинъ въ военномъ кооперативѣ, въ которомъ служилъ въ качествѣ инструктора. Изъ за двухъ литровъ керосина, спрятанныхъ подъ пальто, я рисковалъ разстрѣломъ (военный кооперативъ). Я рисковалъ своей головой, но въ такой же степени я готовъ былъ свернуть каждую голову, ставшую на дорогѣ къ этому керосину. И вотъ, крадучись съ этими двумя литрами, торчавшими у меня изъ подъ пальто, я наталкиваюсь носъ къ носу съ часовымъ. Онъ понялъ, что у меня керосинъ и что этого керосина трогать не слѣдуетъ. А что было бы, если бы онъ этого не понялъ?..
У меня передъ революціей не было ни фабрикъ, ни заводовъ, ни имѣній, ни капиталовъ. Я не потерялъ ничего такого, что можно было бы вернуть, какъ, допустимъ, въ случаѣ переворота, можно было бы вернуть домъ. Но я потерялъ 17 лѣтъ жизни, которые безвозвратно и безсмысленно были ухлопаны въ этотъ сумасшедшій домъ совѣтскихъ принудительныхъ работъ во имя міровой революціи, въ жульничество, которое диктовалось то голодомъ, то чрезвычайкой, то профсоюзомъ — а профсоюзъ иногда не многимъ лучше чрезвычайки. И, конечно, даже этими семнадцатью годами я еще дешево отдѣлался. Десятки милліоновъ заплатили всѣми годами своей жизни, всей своей жизнью...
Временами появлялась надежда на то, что на россійскихъ просторахъ, удобренныхъ милліонами труповъ, обогащенныхъ годами нечеловѣческаго труда и нечеловѣческой плюшкинской экономіи, взойдутъ, наконецъ, ростки какой-то человѣческой жизни. Эти надежды появлялись до тѣхъ поръ, пока я не понялъ съ предѣльной ясностью — все это для міровой революціи, но не для страны.
Семнадцать лѣтъ накапливалось великое отвращенье. И оно росло по мѣрѣ того, какъ росъ и совершенствовался аппаратъ давленія. Онъ уже не работалъ, какъ паровой молотъ, дробящими и слышными на весь міръ ударами. Онъ работалъ, какъ гидравлическій прессъ, сжимая неслышно и сжимая на каждомъ шагу, постепенно охватывая этимъ давленіемъ абсолютно всѣ стороны жизни...
Когда у васъ подъ угрозой револьвера требуютъ штаны — это еще терпимо. Но когда отъ васъ подъ угрозой того же револьвера требуютъ, кромѣ штановъ, еще и энтузіазма, — жить становится вовсе невмоготу, захлестываетъ отвращеніе.
Вотъ это отвращеніе толкнуло насъ къ финской границѣ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Долгое время надъ нашими попытками побѣга висѣло нѣчто вродѣ фатума, рока, невезенья — называйте, какъ хотите. Первая попытка была сдѣлана осенью 1932 года. Все было подготовлено очень неплохо, включая и развѣдку мѣстности. Я предварительно поѣхалъ въ Карелію, вооруженный, само собою разумѣется, соотвѣтствующими документами, и выяснилъ тамъ приблизительно все, что мнѣ нужно было. Но благодаря нѣкоторымъ чисто семейнымъ обстоятельствамъ, мы не смогли выѣхать раньше конца сентября — время для Кареліи совсѣмъ не подходящее, и передъ нами всталъ вопросъ: не лучше ли отложить все это предпріятіе до слѣдующаго года.
Я справился въ московскомъ бюро погоды — изъ его сводокъ явствовало, что весь августъ и сентябрь въ Кареліи стояла исключительно сухая погода, не было ни одного дождя. Слѣдовательно, угроза со стороны карельскихъ болотъ отпадала, и мы двинулись.
Московское бюро погоды оказалось, какъ въ сущности слѣдовало предполагать заранѣе, совѣтскимъ бюро погоды. Въ августѣ и сентябрѣ въ Кареліи шли непрерывные дожди. Болота оказались совершенно непроходимыми. Мы четверо сутокъ вязли и тонули въ нихъ и съ великимъ трудомъ и рискомъ выбирались обратно. Побѣгъ былъ отложенъ на іюнь 1933 г.
8 іюня 1933 года, рано утромъ, моя belle-soeur Ирина поѣхала въ Москву получать уже заказанные билеты. Но Юра, проснувшись, заявилъ, что у него какія-то боли въ животѣ. Борисъ ощупалъ Юру, и оказалось что-то похожее на аппендицитъ. Борисъ поѣхалъ въ Москву "отмѣнять билеты", я вызвалъ еще двухъ врачей, и къ полудню всѣ сомнѣнія разсѣялись: аппендицитъ. Везти сына въ Москву, въ больницу, на операцію по жуткимъ подмосковнымъ ухабамъ я не рискнулъ. Предстояло выждать конца припадка и потомъ дѣлать операцію. Но во всякомъ случаѣ побѣгъ былъ сорванъ второй разъ. Вся подготовка, такая сложная и такая опасная — продовольствіе, документы, оружіе и пр. — все было сорвано. Психологически это былъ жестокій ударъ, совершенно непредвидѣнный и неожиданный ударъ, свалившійся, такъ сказать, совсѣмъ непосредственно отъ судьбы. Точно кирпичъ на голову...
Побѣгъ былъ отложенъ на начало сентября — ближайшій срокъ поправки Юры послѣ операціи.
Настроеніе было подавленное. Трудно было идти на такой огромный рискъ, имѣя позади двѣ такъ хорошо подготовленныя и все же сорвавшіяся попытки. Трудно было потому, что откуда-то изъ подсознанія безформенной, но давящей тѣнью выползало смутное предчувствіе, суевѣрный страхъ передъ новымъ ударомъ, ударомъ неизвѣстно съ какой стороны.
Наша основная группа — я, сынъ, братъ и жена брата — были тѣсно спаянной семьей, въ которой каждый другъ въ другѣ былъ увѣренъ. Всѣ были крѣпкими, хорошо тренированными людьми, и каждый могъ положиться на каждаго. Пятый участникъ группы былъ болѣе или менѣе случаенъ: старый бухгалтеръ Степановъ (фамилія вымышлена), у котораго заграницей, въ одномъ изъ лимитрофовъ, осталась вся его семья и всѣ его родные, а здѣсь, въ СССР, потерявъ жену, онъ остался одинъ, какъ перстъ. Во всей организаціи побѣга онъ игралъ чисто пассивную роль, такъ сказать, роль багажа. Въ его честности мы были увѣрены точно такъ же, какъ и въ его робости.
Но кромѣ этихъ пяти непосредственныхъ участниковъ побѣга, о проектѣ зналъ еще одинъ человѣкъ — и вотъ именно съ этой стороны и пришелъ ударъ.
Въ Петроградѣ жилъ мой очень старый пріятель, Іосифъ Антоновичъ. И у него была жена г-жа Е., женщина изъ очень извѣстной и очень богатой польской семьи, чрезвычайно энергичная, самовлюбленная и неумная. Такими бываетъ большинство женщинъ, считающихъ себя великими дипломатками.
За три недѣли до нашего отъѣзда въ моей салтыковской голубятнѣ, какъ снѣгъ на голову, появляется г-жа Е., въ сопровожденіи мистера Бабенко. Мистера Бабенко я зналъ по Питеру — въ квартирѣ Іосифа Антоновича онъ безвылазно пьянствовалъ года три подрядъ.
Я былъ удивленъ этимъ неожиданнымъ визитомъ, и я былъ еще болѣе удивленъ, когда г-жа Е. стала просить меня захватить съ собой и ее. И не только ее, но и мистера Бабенко, который, дескать, является ея женихомъ или мужемъ, или почти мужемъ — кто тамъ разберетъ при совѣтской простотѣ нравовъ.
Это еще не былъ ударъ, но это уже была опасность. При нашемъ нервномъ состояніи, взвинченномъ двумя годами подготовки, двумя годами неудачъ, эта опасность сразу приняла форму реальной угрозы. Какое право имѣла г-жа Е. посвящать м-ра Бабенко въ нашъ проектъ безъ всякой санкціи съ нашей стороны? А что Бабенко былъ посвященъ — стало ясно, несмотря на всѣ отпирательства г-жи Е.
Въ субъективной лойяльности г-жи Е. мы не сомнѣвались. Но кто такой Бабенко? Если онъ сексотъ, — мы все равно никуда не уѣдемъ и никуда не уйдемъ. Если онъ не сексотъ, — онъ будетъ намъ очень полезенъ — бывшій артиллерійскій офицеръ, человѣкъ съ прекраснымъ зрѣніемъ и прекрасной оріентировкой въ лѣсу. А въ Кареліи, съ ея магнитными аномаліями и ненадежностью работы компаса, оріентировка въ странахъ свѣта могла имѣть огромное значеніе. Его охотничьи и лѣсные навыки мы провѣрили, но въ его артиллерійскомъ прошломъ оказалась нѣкоторая неясность.
Зашелъ разговоръ объ оружіи, и Бабенко сказалъ, что онъ, въ свое время много тренировался на фронтѣ въ стрѣльбѣ изъ нагана и что на пятьсотъ шаговъ онъ довольно увѣренно попадалъ въ цѣль величиной съ человѣка.
Этотъ "наганъ" подѣйствовалъ на меня, какъ ударъ обухомъ. На пятьсотъ шаговъ наганъ вообще не можетъ дать прицѣльнаго боя, и этого обстоятельства бывшій артиллерійскій офицеръ не могъ не знать.
Въ стройной біографіи Николая Артемьевича Бабенки образовалась дыра, и въ эту дыру хлынули всѣ наши подозрѣнія...
Но что намъ было дѣлать? Если Бабенко — сексотъ, то все равно мы уже "подъ стеклышкомъ", все равно гдѣ-то здѣсь же въ Салтыковкѣ, по какимъ-то окнамъ и угламъ, торчатъ ненавистные намъ агенты ГПУ, все равно каждый нашъ шагъ — уже подъ контролемъ...
Съ другой стороны, какой смыслъ Бабенкѣ выдавать насъ? У г-жи Е. въ Польшѣ — весьма солидное имѣніе, Бабенко — женихъ г-жи Е., и это имѣніе, во всякомъ случаѣ, привлекательнѣе тѣхъ тридцати совѣтскихъ сребренниковъ, которые Бабенко, можетъ быть, получитъ — а можетъ быть, и не получитъ — за предательство...
Это было очень тяжелое время неоформленныхъ подозрѣній и давящихъ предчувствій. Въ сущности, съ очень большимъ рискомъ и съ огромными усиліями, но мы еще имѣли возможность обойти ГПУ: ночью уйти изъ дому въ лѣсъ и пробираться къ границѣ, но уже персидской, а не финской, и уже безъ документовъ и почти безъ денегъ.
Но... мы поѣхали. У меня было ощущенье, точно я ѣду въ какой-то похоронной процессіи, а покойники — это всѣ мы.
Въ Питерѣ насъ долженъ былъ встрѣтить Бабенко и присоединиться къ намъ. Поѣздка г-жи Е. отпала, такъ какъ у нея появилась возможность легальнаго выѣзда черезъ Интуристъ[2]. Бабенко встрѣтилъ насъ и очень быстро и ловко устроилъ намъ плацъ-пересадочные билеты до ст. Шуйская Мурманской ж. д.
Я не думаю, чтобы кто бы то ни было изъ насъ находился во вполнѣ здравомъ умѣ и твердой памяти. Я какъ-то вяло отмѣтилъ въ умѣ и "оставилъ безъ послѣдствій" тотъ фактъ, что вагонъ, на который Бабенко досталъ плацкарты, былъ послѣднимъ, въ хвостѣ поѣзда, что какими-то странными были номера плацкартъ — въ разбивку: 3-ій, 6-ой, 8-ой и т.д., что главный кондукторъ безъ всякой къ этому необходимости заставилъ насъ разсѣсться "согласно взятымъ плацкартамъ", хотя мы договорились съ пассажирами о перемѣнѣ мѣстъ. Да и пассажиры были странноваты...
Вечеромъ мы всѣ собрались въ одномъ купе. Бабенко разливалъ чай, и послѣ чаю я, уже давно страдавшій безсоницей, заснулъ какъ-то странно быстро, точно въ омутъ провалился...
Я сейчасъ не помню, какъ именно я это почувствовалъ... Помню только, что я рѣзко рванулся, отбросилъ какого-то человѣка къ противоположной стѣнкѣ купе, человѣкъ глухо стукнулся головой объ стѣнку, что кто-то повисъ на моей рукѣ, кто-то цѣпко обхватилъ мои колѣна, какія-то руки сзади судорожно вцѣпились мнѣ въ горло — а прямо въ лицо уставились три или четыре револьверныхъ дула.
Я понялъ, что все кончено. Точно какая-то черная молнія вспыхнула невидимымъ свѣтомъ и освѣтила все — и Бабенко съ его странной теоріей баллистики, и странные номера плацкартъ, и тѣхъ 36 пассажировъ, которые въ личинахъ инженеровъ, рыбниковъ, бухгалтеровъ, желѣзнодорожниковъ, ѣдущихъ въ Мурманскъ, въ Кемь, въ Петрозаводскъ, составляли, кромѣ насъ, все населеніе вагона.
Вагонъ былъ наполненъ шумомъ борьбы, тревожными криками чекистовъ, истерическимъ визгомъ Степушки, чьимъ-то раздирающимъ уши стономъ... Вотъ почтенный "инженеръ" тычетъ мнѣ въ лицо кольтомъ, кольтъ дрожитъ въ его рукахъ, инженеръ приглушенно, но тоже истерически кричитъ: "руки вверхъ, руки вверхъ, говорю я вамъ!"
Приказаніе — явно безсмысленное, ибо въ мои руки вцѣпилось человѣка по три на каждую и на мои запястья уже надѣта "восьмерка" — наручники, тѣсно сковывающіе одну руку съ другой... Какой-то вчерашній "бухгалтеръ" держитъ меня за ноги и вцѣпился зубами въ мою штанину. Человѣкъ, котораго я отбросилъ къ стѣнѣ, судорожно вытаскиваетъ изъ кармана что-то блестящее... Словно все купе ощетинилось стволами наганомъ, кольтовъ, браунинговъ...
___
Мы ѣдемъ въ Питеръ въ томъ же вагонѣ, что и выѣхали. Насъ просто отцѣпили отъ поѣзда и прицѣпили къ другому. Вѣроятно, внѣ вагона никто ничего и не замѣтилъ.
Я сижу у окна. Руки распухли отъ наручниковъ, кольца которыхъ оказались слишкомъ узкими для моихъ запястій. Въ купе, ни на секунду не спуская съ меня глазъ, посмѣнно дежурятъ чекисты — по три человѣка на дежурство. Они изысканно вѣжливы со мной. Нѣкоторые знаютъ меня лично. Для охоты на столь "крупнаго звѣря", какъ мы съ братомъ, ГПУ, повидимому, мобилизовало половину тяжело-атлетической секціи ленинградскаго "Динамо". Хотѣли взять насъ живьемъ и по возможности неслышно.
Сдѣлано, что и говорить, чисто, хотя и не безъ излишнихъ затрать. Но что для ГПУ значатъ затраты? Не только отдѣльный "салонъ вагонъ", и цѣлый поѣздъ могли для насъ подставить.
На полкѣ лежитъ уже ненужное оружіе. У насъ были двѣ двухстволки, берданка, малокалиберная винтовка и у Ирины — маленькій браунингъ, который Юра контрабандой привезъ изъ заграницы... Въ лѣсу, съ его радіусомъ видимости въ 40 — 50 метровъ, это было бы очень серьезнымъ оружіемъ въ рукахъ людей, которые бьются за свою жизнь. Но здѣсь, въ вагонѣ, мы не успѣли за него даже и хватиться.
Грустно — но уже все равно. Жребій былъ брошенъ, и игра проиграна въ чистую...
Въ вагонѣ распоряжается тотъ самый толстый "инженеръ", который тыкалъ мнѣ кольтомъ въ физіономію. Зовутъ его Добротинъ. Онъ разрѣшаетъ мнѣ подъ очень усиленнымъ конвоемъ пойти въ уборную, и, проходя черезъ вагонъ, я обмѣниваюсь дѣланной улыбкой съ Борисомъ, съ Юрой... Всѣ они, кромѣ Ирины, тоже въ наручникахъ. Жалобно смотритъ на меня Степушка. Онъ считалъ, что на предательство со стороны Бабенки — одинъ шансъ на сто. Вотъ этотъ одинъ шансъ и выпалъ...
Здѣсь же и тоже въ наручникахъ сидитъ Бабенко съ угнетенной невинностью въ бѣгающихъ глазахъ... Господи, кому при такой роскошной мизансценѣ нуженъ такой дешевый маскарадъ!..
Поздно вечеромъ во внутреннемъ дворѣ ленинградскаго ГПУ Добротинъ долго ковыряется ключемъ въ моихъ наручникахъ и никакъ не можетъ открыть ихъ. Руки мои превратились въ подушки. Борисъ, уже раскованный, разминаетъ кисти рукъ и иронизируетъ: "какъ это вы, товарищъ Добротинъ, при всей вашей практикѣ, до сихъ поръ не научились съ восьмерками справляться?"
Потомъ мы прощаемся съ очень плохо дѣланнымъ спокойствіемъ. Жму руку Бобу. Ирочка цѣлуетъ меня въ лобъ. Юра старается не смотрѣть на меня, жметъ мнѣ руку и говоритъ:
— Ну, что-жъ, Ватикъ... До свиданія... Въ четвертомъ измѣреніи...
Это его любимая и весьма утѣшительная теорія о метампсихозѣ въ четвертомъ измѣреніи; но голосъ не выдаетъ увѣренности въ этой теоріи.
Ничего, Юрчинька. Богъ дастъ — и въ третьемъ встрѣтимся...
___
Стоитъ совсѣмъ пришибленный Степушка — онъ едва-ли что-нибудь соображаетъ сейчасъ. Вокругъ насъ плотнымъ кольцомъ выстроились всѣ 36 захватившихъ насъ чекистовъ, хотя между нами и волей — циклопическія желѣзо-бетонныя стѣны тюрьмы ОГПУ — тюрьмы новой стройки. Это, кажется, единственное, что совѣтская власть строитъ прочно и въ расчетѣ на долгое, очень долгое время.
Я подымаюсь по какимъ-то узкимъ бетоннымъ лѣстницамъ. Потомъ цѣлый лабиринтъ корридоровъ. Двухчасовый обыскъ. Одиночка. Четыре шага впередъ, четыре шага назадъ. Безсонныя ночи. Лязгъ тюремныхъ дверей...
И ожиданіе.
ДОПРОСЫ
Въ корридорахъ тюрьмы — собачій холодъ и образцовая чистота. Надзиратель идетъ сзади меня и командуетъ: налѣво... внизъ... направо... Полы устланы половиками. Въ циклопическихъ стѣнахъ — глубокія ниши, ведущія въ камеры. Это — корпусъ одиночекъ...
Издали, изъ-за угла корридора, появляется фигура какого-то заключеннаго. Ведущій его надзиратель что-то командуетъ, и заключенный исчезаетъ въ нишѣ. Я только мелькомъ вижу безмѣрно исхудавшее обросшее лицо. Мой надзиратель командуетъ:
— Проходите и не оглядывайтесь въ сторону.
Я все-таки искоса оглядываюсь. Человѣкъ стоитъ лицомъ къ двери, и надзиратель заслоняетъ его отъ моихъ взоровъ. Но это — незнакомая фигура...
Меня вводятъ въ кабинетъ слѣдователя, и я, къ своему изумленію, вижу Добротина, возсѣдающаго за огромнымъ министерскимъ письменнымъ столомъ.
Теперь его руки не дрожатъ; на кругломъ, хорошо откормленномъ лицѣ — спокойная и даже благожелательная улыбка.
Я понимаю, что у Добротина есть всѣ основанія быть довольнымъ. Это онъ провелъ всю операцію, пусть нѣсколько театрально, но втихомолку и съ успѣхомъ. Это онъ поймалъ вооруженную группу, это у него на рукахъ какое ни на есть, а все же настоящее дѣло, а вѣдь не каждый день, да, пожалуй, и не каждый мѣсяцъ ГПУ, даже ленинградскому, удается изъ чудовищныхъ кучъ всяческой провокаціи, липы, халтуры, инсценировокъ, доносовъ, "романовъ" и прочей трагической чепухи извлечь хотя бы одно "жемчужное зерно" настоящей контръ-революціи, да еще и вооруженной.
Лицо Добротина лоснится, когда онъ приподымается, протягиваетъ мнѣ руку и говоритъ:
— Садитесь, пожалуйста, Иванъ Лукьяновичъ...
Я сажусь и всматриваюсь въ это лицо, какъ хотите, а все-таки побѣдителя. Добротинъ протягиваетъ мнѣ папиросу, и я закуриваю. Я не курилъ уже двѣ недѣли, и отъ папиросы чуть-чуть кружится голова.
— Чаю хотите?
Я, конечно, хочу и чаю... Черезъ нѣсколько минутъ приносятъ чай, настоящій чай, какого "на волѣ" нѣтъ, съ лимономъ и съ сахаромъ.
— Ну-съ, Иванъ Лукьяновичъ, — начинаетъ Добротинъ, — вы, конечно, прекрасно понимаете, что намъ все, рѣшительно все извѣстно. Единственная правильная для васъ политика — это карты на столъ.
Я понимаю, что какія тутъ карты на столъ, когда всѣ карты и безъ того уже въ рукахъ Добротина. Если онъ не окончательный дуракъ — а предполагать это у меня нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній, — то, помимо Бабенковскихъ показали, у него есть показанія г-жи Е. и, что еще хуже, показанія Степушки. А что именно Степушка съ переполоху могъ наворотить — этого напередъ и хитрый человѣкъ не придумаетъ.
Чай и папиросы уже почти совсѣмъ успокоили мою нервную систему. Я почти спокоенъ. Я могу спокойно наблюдать за Добротинымъ, расшифровывать его интонаціи и строить какіе-то планы самозащиты — весьма эфемерные планы, впрочемъ...
— Я долженъ васъ предупредить, Иванъ Лукьяновичъ, что вашему существованію непосредственной опасности не угрожаетъ. Въ особенности, если вы послѣдуете моему совѣту. Мы — не мясники. Мы не разстрѣливаемъ преступниковъ, гораздо болѣе опасныхъ, чѣмъ вы. Вотъ, — тутъ Добротинъ сдѣлалъ широкій жестъ по направленію къ окну. Тамъ, за окномъ, во внутреннемъ дворѣ ГПУ, еще достраивались новые корпуса тюрьмы. — Вотъ, тутъ работаютъ люди, которые были приговорены даже къ разстрѣлу, и тутъ они своимъ трудомъ очищаютъ себя отъ прежнихъ преступленій передъ совѣтской властью. Наша задача — не карать, а исправлять...
Я сижу въ мягкомъ креслѣ, курю папиросу и думаю о томъ, что это дипломатическое вступленіе рѣшительно ничего хорошаго не предвѣщаетъ. Добротинъ меня обхаживаетъ. А это можетъ означать только одно: на базѣ безспорной и извѣстной ГПУ и безъ меня фактической стороны нашего дѣла Добротинъ хочетъ создать какую-то "надстройку", раздуть дѣло, запутать въ него кого-то еще. Какъ и кого именно — я еще не знаю.
— Вы, какъ разумный человѣкъ, понимаете, что ходъ вашего дѣла зависитъ прежде всего отъ васъ самихъ. Слѣдовательно, отъ васъ зависятъ и судьбы вашихъ родныхъ — вашего сына, брата... Повѣрьте мнѣ, что я не только слѣдователь, но и человѣкъ. Это, конечно, не значитъ, что вообще слѣдователи — не люди... Но вашъ сынъ еще такъ молодъ...
Ну-ну, думаю я, не ГПУ, а какая-то воскресная проповѣдь.
— Скажите, пожалуйста, товарищъ Добротинъ, вотъ вы говорите, что не считаете насъ опасными преступниками... Къ чему же тогда такой, скажемъ, расточительный способъ ареста? Отдѣльный вагонъ, почти четыре десятка вооруженныхъ людей...
— Ну, знаете, вы — не опасны съ точки зрѣнія совѣтской власти. Но вы могли быть очень опасны съ точки зрѣнія безопасности нашего оперативнаго персонала... Повѣрьте, о вашихъ атлетическихъ достиженіяхъ мы знаемъ очень хорошо. И такъ вашъ братъ сломалъ руку одному изъ нашихъ работниковъ.
— Что это — отягчающій моментъ?
— Э, нѣтъ, пустяки. Но если бы нашихъ работниковъ было бы меньше, онъ переломалъ бы кости имъ всѣмъ... Пришлось бы стрѣлять... Отчаянный парень вашъ братъ.
— Неудивительно. Вы его лѣтъ восемь по тюрьмамъ таскаете за здорово живешь...
— Во-первыхъ, не за здорово живешь... А во-вторыхъ, конечно, съ нашей точки зрѣнія, вашъ братъ едва-ли поддается исправленію... О его судьбѣ вы должны подумать особенно серьезно. Мнѣ будетъ очень трудно добиться для него... болѣе мягкой мѣры наказанія. Особенно, если вы мнѣ не поможете.
Добротинъ кидаетъ на меня взглядъ въ упоръ, какъ бы ставя этимъ взглядомъ точку надъ какимъ-то невысказаннымъ "і". Я понимаю — въ переводѣ на общепонятный языкъ это все значитъ: или вы подпишите все, что вамъ будетъ приказано, или...
Я еще не знаю, что именно мнѣ будетъ приказано. По всей вѣроятности, я этого не подпишу... И тогда?
— Мнѣ кажется, товарищъ Добротинъ, что все дѣло — совершенно ясно, и мнѣ только остается письменно подтвердить то, что вы и такъ знаете.
— А откуда вамъ извѣстно, что именно мы знаемъ?
— Помилуйте, у васъ есть Степановъ, г-жа Е., "вещественныя доказательства" и, наконецъ, у васъ есть товарищъ Бабенко.
При имени Бабенко Добротинъ слегка улыбается.
— Ну, у Бабенки есть еще и своя исторія — по линіи вредительства въ Рыбпромѣ.
— Ага, такъ это онъ такъ заглаживаетъ вредительство?
— Послушайте, — дипломатически намекаетъ Добротинъ, — слѣдствіе вѣдь веду я, а не вы...
— Я понимаю. Впрочемъ, для меня дѣло такъ же ясно, какъ и для васъ.
— Мнѣ не все ясно. Какъ, напримѣръ, вы достали оружіе и документы?
Я объясняю: я, Юра и Степановъ — члены союза охотниковъ, слѣдовательно, имѣли право держать охотничьи, гладкоствольныя ружья. Свою малокалиберную винтовку Борисъ сперъ въ осоавіахимовскомъ тирѣ. Браунингъ Юра привезъ изъ заграницы. Документы — всѣ совершенно легальны, оффиціальны и получены такимъ же легальнымъ и оффиціальнымъ путемъ — тамъ-то и тамъ-то.
Добротинъ явственно разочарованъ. Онъ ждалъ чего-то болѣе сложнаго, чего-то, откуда можно было бы вытянуть какихъ-нибудь соучастниковъ, разыскать какія-нибудь "нити" и вообще развести всякую пинкертоновщину. Онъ знаетъ, что получить даже самую прозаическую гладкоствольную берданку — въ СССР очень трудная вещь и далеко не всякому удается. Я разсказываю, какъ мы съ сыномъ участвовали въ разныхъ экспедиціяхъ: въ Среднюю Азію, въ Дагестанъ, Чечню и т.д., и что подъ этимъ соусомъ я вполнѣ легальнымъ путемъ получилъ оружіе. Добротинъ пытается выудить хоть какія-нибудь противорѣчія изъ моего разсказа, я пытаюсь выудить изъ Добротина хотя бы приблизительный остовъ тѣхъ "показаній", какія мнѣ будутъ предложены. Мы оба терпимъ полное фіаско.
— Вотъ что я вамъ предложу, — говоритъ, наконецъ, Добротинъ. — Я отдамъ распоряженіе доставить въ вашу камеру бумагу и прочее, и вы сами изложите всѣ показанія, не скрывая рѣшительно ничего. Еще разъ напоминаю вамъ, что отъ вашей откровенности зависитъ все.
Добротинъ опять принимаетъ видъ рубахи-парня, и я рѣшаюсь воспользоваться моментомъ:
— Не можете ли вы, вмѣстѣ съ бумагой, приказать доставить мнѣ хоть часть того продовольствія, которое у насъ было отобрано?
Голодая въ одиночкѣ, я не безъ вожделѣнія въ сердцѣ своемъ вспоминалъ о тѣхъ запасахъ сала, сахару, сухарей, которые мы везли съ собой и которые сейчасъ жрали какіе-то чекисты...
— Знаете, Иванъ Лукьяновичъ, это будетъ трудно. Администрація тюрьмы не подчинена слѣдственнымъ властямъ. Кромѣ того, ваши запасы, вѣроятно, уже съѣдены... Знаете-ли, скоропортящіеся продукты...
— Ну, скоропортящіеся мы и сами могли бы съѣсть...
— Да... Вашему сыну я передалъ кое-что, — вралъ Добротинъ (ничего онъ не передалъ). — Постараюсь и вамъ. Вообще я готовъ идти вамъ навстрѣчу и въ смыслѣ режима, и въ смыслѣ питанія... Надѣюсь, что и вы...
— Ну, конечно. И въ вашихъ, и въ моихъ интересахъ покончить со всей этой канителью возможно скорѣе, чѣмъ бы она ни кончилась...
Добротинъ понимаетъ мой намекъ.
— Увѣряю васъ, Иванъ Лукьяновичъ, что ничѣмъ особенно страшнымъ она кончиться не можетъ... Ну, пока, до свиданья.
Я подымаюсь со своего кресла и вижу: рядомъ съ кресломъ Добротина изъ письменнаго стола выдвинута доска и на доскѣ крупнокалиберный кольтъ со взведеннымъ куркомъ.
Добротинъ былъ готовъ къ менѣе великосвѣтскому финалу нашей бесѣды...
СТЕПУШКИНЪ РОМАНЪ
Вѣжливость — качество пріятное даже въ палачѣ. Конечно, очень утѣшительно, что мнѣ не тыкали въ носъ наганомъ, не инсценировали разстрѣла. Но, во-первыхъ, это до поры до времени и, во-вторыхъ, допросъ не далъ рѣшительно ничего новаго. Весь разговоръ — совсѣмъ впустую. Никакимъ обѣщаніямъ Добротина я, конечно, не вѣрю, какъ не вѣрю его крокодиловымъ воздыханіямъ по поводу Юриной молодости. Юру, впрочемъ, вѣроятно, посадятъ въ концлагерь. Но, что изъ того? За смерть отца и дяди онъ вѣдь будетъ мстить — онъ не изъ тихихъ мальчиковъ. Значитъ, тотъ-же разстрѣлъ — только немного попозже. Степушка, вѣроятно, отдѣлается дешевле всѣхъ. У него одного не было никакого оружія, онъ не принималъ никакого участія въ подготовкѣ побѣга. Это — старый, затрушенный и вполнѣ аполитичный гроссбухъ. Кому онъ нуженъ — абсолютно одинокій, отъ всего оторванный человѣкъ, единственная вина котораго заключалась въ томъ, что онъ, рискуя жизнью, пытался пробраться къ себѣ домой, на родину, чтобы тамъ доживать свои дни...
Я наскоро пишу свои показанія и жду очередного вызова, чтобы узнать, гдѣ кончится слѣдствіе, какъ таковое, и гдѣ начнутся попытки выжать изъ меня "романъ".
Мои показанія забираетъ корридорный надзиратель и относить къ Добротину. Дня черезъ три меня вызываютъ на допросъ.
Добротинъ встрѣчаетъ меня такъ же вѣжливо, какъ и въ первый разъ, но лицо его выражаетъ разочарованіе.
— Долженъ вамъ сказать, Иванъ Лукьяновичъ, что ваша писанина никуда не годится. Это все мы и безъ васъ знаемъ. Ваша попытка побѣга насъ очень мало интересуетъ. Насъ интересуетъ вашъ шпіонажъ.
Добротинъ бросаетъ это слово, какъ какой-то тяжелый метательный снарядъ, который долженъ сбить меня съ ногъ и выбить изъ моего, очень относительнаго, конечно, равновѣсія. Но я остаюсь равнодушнымъ. Вопросительно и молча смотрю на Добротина.
Добротинъ "пронизываетъ меня взглядомъ". Техническая часть этой процедуры ему явственно не удается. Я курю добротинскую папироску и жду...
— Основы вашей "работы" намъ достаточно полно извѣстны, и съ вашей стороны, Иванъ Лукьяновичъ, было бы даже, такъ сказать... неумно эту работу отрицать. Но цѣлый рядъ отдѣльныхъ нитей намъ неясенъ. Вы должны намъ ихъ выяснить...
— Къ сожалѣнію, ни насчетъ основъ, ни насчетъ нитей ничѣмъ вамъ помочь не могу.
— Вы, значитъ, собираетесь отрицать вашу "работу".
— Самымъ категорическимъ образомъ. И преимущественно потому, что такой работы и въ природѣ не существовало.
— Позвольте, Иванъ Лукьяновичъ. У насъ есть наши агентурныя данныя, у насъ есть копіи съ вашей переписки. У насъ есть показанія Степанова, который во всемъ сознался...
Я уже потомъ, по дорогѣ въ лагерь, узналъ, что со Степушкой обращались далеко не такъ великосвѣтски, какъ со всѣми нами. Тотъ же самый Добротинъ, который вотъ сейчасъ прямо лоснится отъ корректности, стучалъ кулакомъ по столу, крылъ его матомъ, тыкалъ ему въ носъ кольтомъ и грозилъ "пристрѣлить, какъ дохлую собаку". Не знаю, почему именно какъ дохлую...
Степушка наворотилъ. Наворотилъ совершенно жуткой чепухи, запутавъ въ ней и людей, которыхъ онъ зналъ, и людей, которыхъ онъ не зналъ. Онъ перепугался такъ, что стремительность его "показаній" прорвала всѣ преграды элементарной логики, подхватила за собой Добротина и Добротинъ въ этой чепухѣ утопъ.
Что онъ утопъ, мнѣ стало ясно послѣ первыхъ же минутъ допроса. Его "агентурныя данныя" не стоили двухъ копѣекъ; слѣжка за мной, какъ оказалось, была, но ничего путнаго и выслѣживать не было; переписка моя, какъ оказалось, перлюстрировалась вся, но и изъ нея Добротинъ ухитрился выкопать только факты, разбивающія его собственную или, вѣрнѣе, Степушкину теорію. Оставалась одна эта "теоріи" или, точнѣе, остовъ "романа", который я долженъ былъ облечь плотью и кровью, закрѣпить всю эту чепуху своей подписью, и тогда на рукахъ у Добротина оказалось бы настоящее дѣло, на которомъ, можетъ быть, можно было бы сдѣлать карьеру и въ которомъ увязло бы около десятка рѣшительно ни въ чемъ ниповинныхъ людей.
Если бы вся эта чепуха была сгруппирована хоть сколько-нибудь соотвѣтственно съ человѣческимъ мышленіемъ, выбраться изъ нея было бы нелегко. Какъ-никакъ знакомства съ иностранцами у меня были. Связь съ заграницей была. Все это само по себѣ уже достаточно предосудительно съ совѣтской точки зрѣнія, ибо не только заграницу, но и каждаго отдѣльнаго иностранца совѣтская власть отгораживаетъ китайской стѣной отъ зрѣлища совѣтской нищеты, а совѣтскаго жителя — отъ буржуазныхъ соблазновъ.
Я до сихъ поръ не знаю, какъ именно конструировался остовъ этого романа. Мнѣ кажется, что Степушкинъ переполохъ вступилъ въ соціалистическое соревнованіе съ Добротинскимъ рвеніемъ, и изъ обоихъ и въ отдѣльности не слишкомъ хитрыхъ источниковъ получился совсѣмъ ужъ противоестественный ублюдокъ. Въ одну нелѣпую кучу были свалены и Юрины товарищи по футболу, и та англійская семья, которая пріѣзжала ко мнѣ въ Салтыковку на Week End, и нѣсколько знакомыхъ журналистовъ, и мои поѣздки по Россіи, и все, что хотите. Здѣсь не было никакой ни логической, ни хронологической увязки. Каждая "улика" вопіюще противорѣчила другой, и ничего не стоило доказать всю полную логическую безсмыслицу всего этого "романа".
Но что было бы, если бы я ее доказалъ?
Въ данномъ видѣ — это было варево, несъѣдобное даже для неприхотливаго желудка ГПУ. Но если бы я указалъ Добротину на самыя зіяющія несообразности, — онъ устранилъ бы ихъ, и въ коллегію ОГПУ пошелъ бы обвинительный актъ, не лишенный хоть нѣкоторой, самой отдаленной, доли правдоподобія. Этого правдоподобія было бы достаточно для созданія новаго "дѣла" и для ареста новыхъ "шпіоновъ".
И я очень просто говорю Добротину, что я — по его же словамъ — человѣкъ разумный и что именно поэтому я не вѣрю ни въ его обѣщанія, ни въ его угрозы, что вся эта пинкертоновщина со шпіонами — несусвѣтимый вздоръ и что вообще никакихъ показаній на эту тему я подписывать не буду. Что можно было перепугать Степанова и поймать его на какую-нибудь очень дешевую удочку, но что меня на такую удочку никакъ не поймать.
Добротинъ какъ-то сразу осѣкается, его лицо на одинъ мигъ перекашивается яростью, и изъ подъ лоснящейся поверхности хорошо откормленнаго и благодушно-корректнаго, если хотите, даже слегка европеизированнаго "слѣдователя" мелькаетъ оскалъ чекистскихъ челюстей.
— Ахъ, такъ вы — такъ...
— Да, я — такъ...
Мы нѣсколько секундъ смотримъ другъ на друга въ упоръ.
— Ну, мы васъ заставимъ сознаться...
— Очень мало вѣроятно...
По лицу Добротина видна, такъ сказать, борьба стилей. Онъ сбился со своего европейскаго стиля и почему-то не рискуетъ перейти къ обычному чекистскому: то-ли ему не приказано, то-ли онъ побаивается: за три недѣли тюремной голодовки я не очень уже ослабь физически и терять мнѣ нечего. Разговоръ заканчивается совсѣмъ ужъ глупо:
— Вотъ видите, — раздраженно говоритъ Добротинъ. — А я для васъ даже выхлопоталъ сухарей изъ вашего запаса.
— Что-же, вы думали купить сухарями мои показанія?
— Ничего я не думалъ покупать. Забирайте ваши сухари. Можете идти въ камеру.
СИНЕДРІОНЪ
На другой же день меня снова вызываютъ на допросъ. На этотъ разъ Добротинъ — не одинъ. Вмѣстѣ съ нимъ — еще какихъ-то три слѣдователя, видимо, чиномъ значительно повыше. Одинъ — въ чекистской формѣ и съ двумя ромбами въ петлицѣ. Дѣло идетъ всерьезъ.
Добротинъ держится пассивно и въ тѣни. Допрашиваютъ тѣ трое. Около пяти часовъ идутъ безконечные вопросы о всѣхъ моихъ знакомыхъ, снова выплываетъ уродливый, нелѣпый остовъ Степушкинаго детективнаго романа, но на этотъ разъ уже въ новомъ варіантѣ. Меня въ шпіонажѣ уже не обвиняютъ. Но граждане X, Y, Z и прочіе занимались шпіонажемъ, и я объ этомъ не могу не знать. О Степушкиномъ шпіонажѣ тоже почти не заикаются, весь упоръ дѣлается на нѣсколькихъ моихъ иностранныхъ и не-иностранныхъ знакомыхъ. Требуется, чтобы я подписалъ показанія, ихъ изобличающія, и тогда... опять разговоровъ о молодости моего сына, о моей собственной судьбѣ, о судьбѣ брата. Намеки на то, что мои показаніи весьма существенны "съ международной точки зрѣнія", что, въ виду дипломатическаго характера всего этого дѣла, имя мое нигдѣ не будетъ названо. Потомъ намеки — и весьма прозрачные — на разстрѣлъ для всѣхъ насъ трехъ, въ случаѣ моего отказа и т.д. и т.д.
Часы проходятъ, я чувствую, что допросъ превращается въ конвейеръ. Слѣдователи то выходятъ, то приходятъ. Мнѣ трудно разобрать ихъ лица. Я сижу на ярко освѣщенномъ мѣстѣ, въ креслѣ, у письменнаго стола. За столомъ — Добротинъ, остальные — въ тѣни, у стѣны огромнаго кабинета, на какомъ-то диванѣ.
Провраться я не могу — хотя бы просто потому, что я рѣшительно ничего не выдумываю. Но этотъ многочасовый допросъ, это огромное нервное напряженіе временами уже заволакиваетъ сознаніе какой-то апатіей, какимъ-то безразличіемъ. Я чувствую, что этотъ конвейеръ надо остановить.
— Я васъ не понимаю, — говоритъ человѣкъ съ двумя ромбами. — Васъ въ активномъ шпіонажѣ мы не обвиняемъ. Но какой вамъ смыслъ топить себя, выгораживая другихъ. Васъ они такъ не выгораживаютъ...
Что значитъ глаголъ "не выгораживаютъ" — и еще въ настоящемъ времени. Что — эти люди или часть изъ нихъ уже арестованы? И, дѣйствительно, "не выгораживаютъ" меня? Или просто — это новый трюкъ?
Во всякомъ случаѣ — конвейеръ надо остановить.
Со всѣмъ доступнымъ мнѣ спокойствіемъ и со всей доступной мнѣ твердостью я говорю приблизительно слѣдующее:
— Я — журналистъ и, слѣдовательно, достаточно опытный въ совѣтскихъ дѣлахъ человѣкъ. Я не мальчикъ и не трусъ. Я не питаю никакихъ иллюзій относительно своей собственной судьбы и судьбы моихъ близкихъ. Я ни на одну минуту и ни на одну копѣйку не вѣрю ни обѣщаніямъ, ни увѣщеваніямъ ГПУ — весь этотъ романъ я считаю форменнымъ вздоромъ и убѣжденъ въ томъ, что такимъ же вздоромъ считаютъ его и мои слѣдователи: ни одинъ мало-мальски здравомыслящій человѣкъ ничѣмъ инымъ и считать его не можетъ. И что, въ виду всего этого, я никакихъ показаній не только подписывать, но и вообще давать не буду.
— То-есть, какъ это вы не будете? — вскакиваетъ съ мѣста одинъ изъ слѣдователей — и замолкаетъ... Человѣкъ съ двумя ромбами медленно подходитъ къ столу, зажигаетъ папиросу и говоритъ:
— Ну, что-жъ, Иванъ Лукьяновичъ, — вы сами подписали вашъ приговоръ!.. И не только вашъ. Мы хотѣли дать вамъ возможность спасти себя. Вы этой возможностью не воспользовались. Ваше дѣло. Можете идти...
Я встаю и направляюсь къ двери, у которой стоитъ часовой.
— Если надумаетесь, — говоритъ мнѣ въ догонку человѣкъ съ двумя ромбами, — сообщите вашему слѣдователю... Если не будетъ поздно...
— Не надумаюсь...
Но когда я вернулся въ камеру, я былъ совсѣмъ безъ силъ. Точно вынули что-то самое цѣнное въ жизни и голову наполнили безконечной тьмой и отчаяніемъ. Спасъ ли я кого-нибудь въ реальности? Не отдалъ ли я брата и сына на расправу этому человѣку съ двумя ромбами? Развѣ я знаю, какіе аресты произведены въ Москвѣ и какіе методы допросовъ были примѣнены и какіе романы плетутся или сплетены тамъ. Я знаю, я твердо знаю, знаетъ моя логика, мой разсудокъ, знаетъ весь мой опытъ, что я правильно поставилъ вопросъ. Но откуда-то со дна сознанія подымается что-то темное, что-то почти паническое — и за всѣмъ этимъ кудрявая голова сына, развороченная выстрѣломъ изъ револьвера на близкомъ разстояніи...
Я забрался съ головой подъ одѣяло, чтобы ничего не видѣть, чтобы меня не видѣли въ этотъ глазокъ, чтобы не подстерегли минуты упадка.
Но дверь лязгнула, въ камеру вбѣжали два надзирателя и стали стаскивать одѣяло. Чего они хотѣли, я не догадался, хотя я зналъ, что существуетъ система медленнаго, но довольно вѣрнаго самоубійства: перетянуть шею веревочкой или полоской простыни и лечь. Сонная артерія передавлена, наступаетъ сонъ, потомъ смерть. Но я уже оправился.
— Мнѣ мѣшаетъ свѣтъ.
— Все равно, голову закрывать не полагается...
Надзиратели ушли — но волчокъ поскрипывалъ всю ночь...
ПРИГОВОРЪ
Наступили дни безмолвнаго ожиданія. Гдѣ-то тамъ, въ гигантскихъ и безпощадныхъ зубцахъ ГПУ-ской машины, вертится стопка бумаги съ помѣткой: "дѣло № 2248". Стопка бѣжитъ по какимъ-то роликамъ, подхватывается какими-то шестеренками... Потомъ подхватитъ ее какая-то одна, особенная шестеренка, и вотъ придутъ ко мнѣ и скажутъ: "собирайте вещи"...
Я узнаю, въ чемъ дѣло, потому что они придутъ не вдвоемъ и даже не втроемъ. Они придутъ ночью. У нихъ будутъ револьверы въ рукахъ, и эти револьверы будутъ дрожать больше, чѣмъ дрожалъ кольтъ въ рукахъ Добротина въ вагонѣ № 13.
Снова — безконечныя безсонныя ночи. Тускло съ середины потолка подмигиваетъ электрическая лампочка. Мертвая тишина корпуса одиночекъ, лишь изрѣдка прерываемая чьими-то предсмертными ночными криками. Полная отрѣзанность отъ всего міра. Ощущенье человѣка похороненнаго заживо.
Такъ проходятъ три мѣсяца.
___
Рано утромъ, часовъ въ шесть, въ камеру входитъ надзиратель. Въ рукѣ у него какая-то бумажка.
— Фамилія?
— Солоневичъ, Иванъ Лукьяновичъ...
— Выписка изъ постановленія чрезвычайной судебной тройки ПП ОГПУ ЛВО отъ 28 ноября 1933 года.
У меня чуть-чуть замираетъ сердце, но въ мозгу — уже ясно: это не разстрѣлъ. Надзиратель одинъ и безъ оружія.
...Слушали: дѣло № 2248 гражданина Солоневича, Ивана Лукьяновича, по обвиненію его въ преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ ст. ст. 58 пунктъ 6; 58 пунктъ 10; 58 пунктъ 11 и 59 пунктъ 10...
Постановили: признать гражданина Солоневича, Ивана Лукьяновича, виновнымъ въ преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ указанными статьями, и заключить его въ исправительно-трудовой лагерь срокомъ на 8 лѣтъ. Распишитесь...
Надзиратель кладетъ бумажку на столъ, текстомъ книзу. Я хочу лично прочесть приговоръ и записать номеръ дѣла, дату и пр. Надзиратель не позволяетъ. Я отказываюсь расписаться. Въ концѣ концовъ, онъ уступаетъ.
Уже потомъ, въ концлагерѣ, я узналъ, что это — обычная манера объявленія приговора (впрочемъ, крестьянамъ очень часто приговора не объявляютъ вовсе). И человѣкъ попадаетъ въ лагерь, не зная или не помня номера дѣла, даты приговора, безъ чего всякія заявленія и обжалованія почти невозможны и что въ высокой степени затрудняетъ всякую юридическую помощь заключеннымъ...
Итакъ — восемь лѣтъ концентраціоннаго лагеря. Путевка на восемь лѣтъ каторги, но все-таки не путевка на смерть...
Охватываетъ чувство огромнаго облегченія. И въ тотъ же моментъ въ мозгу вспыхиваетъ цѣлый рядъ вопросовъ: отчего такой милостивый приговоръ, даже не 10, а только 8 лѣтъ? Что съ Юрой, Борисомъ, Ириной, Степушкой? И въ концѣ этого списка вопросовъ — послѣдній, какъ удастся очередная — которая по счету? — попытка побѣга. Ибо если мнѣ и совѣтская воля была невтерпежъ, то что же говорить о совѣтской каторгѣ?
На вопросъ объ относительной мягкости приговора у меня отвѣта нѣтъ и до сихъ поръ. Наиболѣе вѣроятное объясненіе заключается въ томъ, что мы не подписали никакихъ доносовъ и не написали никакихъ романовъ. Фигура "романиста", какъ бы его не улещали во время допроса, всегда остается нежелательной фигурой, конечно, уже послѣ окончательной редакціи романа. Онъ уже написалъ все, что отъ него требовалось, а потомъ, изъ концлагеря, начнетъ писать заявленія, опроверженія, покаянія. Мало ли какія группировки существуютъ въ ГПУ? Мало ли кто можетъ другъ друга подсиживать? Отъ романиста проще отдѣлаться совсѣмъ: мавръ сдѣлалъ свое дѣло и мавръ можетъ отправляться ко всѣмъ чертямъ. Документъ остается, и опровергать его уже некому. Можетъ быть, меня оставили жить оттого, что ГПУ не удалось создать крупное дѣло? Можетъ быть, — благодаря признанію совѣтской Россіи Америкой? Кто его знаетъ — отчего.
Борисъ, значитъ, тоже получилъ что-то вродѣ 8-10 лѣтъ концлагеря. Исходя изъ нѣкоторой пропорціональности вины и прочаго, можно было бы предполагать, что Юра отдѣлается какой-нибудь высылкой въ болѣе или менѣе отдаленныя мѣста. Но у Юры были очень плохи дѣла со слѣдователемъ. Онъ вообще отъ всякихъ показаній отказался, и Добротинъ мнѣ о немъ говорилъ: "вотъ тоже вашъ сынъ, самый молодой и самый жуковатый"... Степушка своимъ романомъ могъ себѣ очень сильно напортить...
Въ тотъ же день меня переводятъ въ пересыльную тюрьму на Нижегородской улицѣ...
ВЪ ПЕРЕСЫЛКѢ
Огромные каменные корридоры пересылки переполнены всяческимъ народомъ. Сегодня — "большой пріемъ". Изъ провинціальныхъ тюремъ прибыли сотни крестьянъ, изъ Шпалерки — рабочіе, урки (профессіональный уголовный элементъ) и — къ моему удивленію — всего нѣсколько человѣкъ интеллигенціи. Я издали замѣчаю всклокоченный чубъ Юры, и Юра устремляется ко мнѣ, уже издали показывая пальцами "три года". Юра исхудалъ почти до неузнаваемости — онъ, оказывается, объявилъ голодовку въ видѣ протеста противъ недостаточнаго питанія... Мотивъ, не лишенный оригинальности... Здѣсь же и Борисъ — тоже исхудавшій, обросшій бородищей и уже поглощенный мыслью о томъ, какъ бы намъ всѣмъ попасть въ одну камеру. У него, какъ и у меня, — восемь лѣтъ, но въ данный моментъ всѣ эти сроки насъ совершенно не интересуютъ. Всѣ живы — и то слава Богу...
Борисъ предпринимаетъ рядъ таинственныхъ манипуляцій, а часа черезъ два — мы всѣ въ одной камерѣ, правда, одиночкѣ, но сухой и свѣтлой и, главное, безъ всякой посторонней компаніи. Здѣсь мы можемъ крѣпко обняться, обмѣняться всѣмъ пережитымъ и ... обмозговать новые планы побѣга.
Въ этой камерѣ мы какъ-то быстро и хорошо обжились. Всѣ мы были вмѣстѣ и пока что — внѣ опасности. У всѣхъ насъ было ощущеніе выздоровленія послѣ тяжелой болѣзни, когда силы прибываютъ и когда весь міръ кажется ярче и чище, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ. При тюрьмѣ оказалась старенькая библіотека. Насъ ежедневно водили на прогулку... Сначала трудно было ходить: ноги ослабѣли и подгибались. Потомъ, послѣ того, какъ первыя передачи влили новыя силы въ наши ослабѣвшія мышцы, Борисъ какъ-то предложилъ:
— Ну, теперь давайте тренироваться въ бѣгѣ. Дистанція — иксъ километровъ: Совдепія — заграница...
На прогулку выводили сразу камеръ десять. Ходили по кругу, довольно большому, діаметромъ метровъ въ сорокъ, причемъ каждая камера должна была держаться на разстояніи десяти шаговъ одна отъ другой. Не нарушая этой дистанціи, намъ приходилось бѣгать почти "на мѣстѣ", но мы все же бѣгали... "Прогульщикъ" — тотъ чинъ тюремной администраціи, который надзираетъ за прогулкой, смотрѣлъ на нашу тренировку скептически, но не вмѣшивался... Рабочіе подсмѣивались. Мужики смотрѣли недоумѣнно... Изъ оконъ тюремной канцеляріи на насъ взирали изумленныя лица... А мы все бѣгали...
"Прогульщикъ" сталъ смотрѣть на насъ уже не скептически, а даже нѣсколько сочувственно.
— Что, спортсмэны? — спросилъ онъ какъ-то меня.
— Чемпіонъ Россіи, — кивнулъ я въ сторону Бориса.
— Вишь ты, — сказалъ "прогульщикъ"...
На слѣдующій день, когда прогулка уже кончилась и вереница арестантовъ потянулась въ тюремныя двери, онъ намъ подмигнулъ:
— А ну, валяйте по пустому двору...
Такъ мы пріобрѣли возможность тренироваться болѣе или менѣе всерьезъ... И попали въ лагерь въ такомъ состояніи физической fitness, которое дало намъ возможность обойти много острыхъ и трагическихъ угловъ лагерной жизни.
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ТЮРЬМА
Это была "рабоче-крестьянская" тюрьма въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Сидя въ одиночкѣ на Шпалеркѣ, я не могъ составить себѣ никакого представленіи о соціальномъ составѣ населенія совѣтскихъ тюремъ. Въ пересылкѣ мои возможности нѣсколько расширились. На прогулку выводили человѣкъ отъ 50 до 100 одновременно. Составъ этой партіи мѣнялся постоянно — однихъ куда-то усылали, другихъ присылали, — но за весь мѣсяцъ нашего пребыванія въ пересылкѣ мы оставались единственными интеллигентами въ этой партіи — обстоятельство, которое для меня было нѣсколько неожиданнымъ.
Больше всего было крестьянъ — до жути изголодавшихся и какихъ-то по особенному пришибленныхъ... Иногда, встрѣчаясь съ ними гдѣ-нибудь въ темномъ углу лѣстницы, слышишь придушенный шепотъ:
— Братецъ, а, братецъ... хлѣбца бы... корочку... а?..
Много было рабочихъ — тѣ имѣли чуть-чуть менѣе голодный видъ и были лучше одѣты. И, наконецъ, мрачными фигурами, полными окончательнаго отчаянія и окончательной безысходности, шагали по кругу "знатные иностранцы"...
Это были почти исключительно финскіе рабочіе, тѣми или иными, но большею частью нелегальными, способами перебравшіеся въ страну строящагося соціализма, на "родину всѣхъ трудящихся"... Сурово ихъ встрѣтила эта родина. Во-первыхъ, ей и своихъ трудящихся дѣть было некуда, во-вторыхъ, и чужимъ трудящимся неохота показывать своей нищеты, своего голода и своихъ разстрѣловъ... А какъ выпустить обратно этихъ чужихъ трудящихся, хотя бы однимъ уголкомъ глаза уже увидѣвшихъ совѣтскую жизнь не изъ окна спальнаго вагона.
И вотъ мѣсяцами они маячатъ здѣсь по заколдованному кругу пересылки (сюда сажали и слѣдственныхъ, но не срочныхъ заключенныхъ) безъ языка, безъ друзей, безъ знакомыхъ, покинувъ волю своей не пролетарской родины и попавъ въ тюрьму — пролетарской.
Эти пролетарскіе иммигранты въ СССР — легальные, полулегальные и вовсе нелегальные — представляютъ собою очень жалкое зрѣлище... Ихъ привлекла сюда та безудержная коммунистическая агитація о прелестяхъ соціалистическаго рая, которая была особенно характерна для первыхъ лѣтъ пятилѣтки и для первыхъ надеждъ, возлагавшихся на эту пятилѣтку. Предполагался бурный ростъ промышленности и большая потребность въ квалифицированной рабочей силѣ, предполагался "небывалый ростъ благосостоянія широкихъ трудящихся массъ" — многое предполагалось. Пятилѣтка пришла и прошла. Оказалось, что и своихъ собственныхъ рабочихъ дѣвать некуда, что предъ страной — въ добавленіе къ прочимъ прелестямъ — стала угроза массовой безработицы, что отъ "благосостоянія" массы ушли еще дальше, чѣмъ до пятилѣтки. Правительство стало выжимать изъ СССР и тѣхъ иностранныхъ рабочихъ, которые пріѣхали сюда по договорамъ и которымъ нечѣмъ было платить и которыхъ нечѣмъ было кормить. Но агитація продолжала дѣйствовать. Тысячи неудачниковъ-идеалистовъ, если хотите, идеалистическихъ карасей, поперли въ СССР всякими не очень легальными путями и попали въ щучьи зубы ОГПУ...
Можно симпатизировать и можно не симпатизировать политическимъ убѣжденіямъ, толкнувшимъ этихъ людей сюда. Но не жалѣть этихъ людей нельзя. Это — не та коминтерновская шпана, которая ѣдетъ сюда по всяческимъ, иногда тоже не очень легальнымъ, визамъ совѣтской власти, которая отдыхаетъ въ Крыму, на Минеральныхъ Водахъ, которая объѣдаетъ русскій народъ Инснабами, субсидіями и просто подачками... Они, эти идеалисты, бѣжали отъ "буржуазныхъ акулъ" къ своимъ соціалистическимъ братьямъ... И эти братья первымъ дѣломъ скрутили имъ руки и бросили ихъ въ подвалы ГПУ...
Эту категорію людей я встрѣчалъ въ самыхъ разнообразныхъ мѣстахъ совѣтской Россіи, въ томъ числѣ и у финляндской границы въ Кареліи, откуда ихъ на грузовикахъ и подъ конвоемъ ГПУ волокли въ Петрозаводскъ, въ тюрьму... Это было въ селѣ Койкоры, куда я пробрался для развѣдки насчетъ бѣгства отъ соціалистическаго рая, а они бѣжали въ этотъ рай... Они были очень голодны, но еще больше придавлены и растеряны... Они видѣли еще очень немного, но и того, что они видѣли, было достаточно для самыхъ мрачныхъ предчувствій насчетъ будущаго... Никто изъ нихъ не зналъ русскаго языка и никто изъ конвоировъ не зналъ ни одного иностраннаго. Поэтому мнѣ удалось на нѣсколько минутъ втиснуться въ ихъ среду въ качествѣ переводчика. Одинъ изъ нихъ говорилъ по нѣмецки. Я переводилъ, подъ проницательными взглядами полудюжины чекистовъ, буквально смотрѣвшихъ мнѣ въ ротъ. Финнъ плохо понималъ по нѣмецки, и приходилось говорить очень внятно и раздѣльно... Среди конвоировъ былъ одинъ еврей, онъ могъ кое-что понимать по нѣмецки, и лишнее слово могло бы означать для меня концлагерь...
Мы стояли кучкой у грузовика... Изъ-за избъ на насъ выглядывали перепуганные карельскіе крестьяне, которые шарахались отъ грузовика и отъ финновъ, какъ отъ чумы — перекинешься двумя-тремя словами, а потомъ — Богъ его знаетъ, что могутъ "пришить". Финны знали, что мѣстное населеніе понимаетъ по фински, и мой собесѣдникъ спросилъ, почему къ нимъ никого изъ мѣстныхъ жителей не пускаютъ. Я перевелъ вопросъ начальнику конвоя и получилъ отвѣтъ:
— Это не ихнее дѣло.
Финнъ спросилъ, нельзя ли достать хлѣба и сала... Наивность этого вопроса вызвала хохотъ у конвоировъ. Финнъ спросилъ, куда ихъ везутъ. Начальникъ конвоя отвѣтилъ: "самъ увидитъ" и предупредилъ меня: "только вы лишняго ничего не переводите"... Финнъ растерялся и не зналъ, что и спрашивать больше.
Арестованныхъ стали сажать въ грузовикъ. Мой собесѣдникъ бросилъ мнѣ послѣдній вопросъ:
— Неужели буржуазныя газеты говорили правду?
И я ему отвѣтилъ словами начальника конвоя — увидите сами. И онъ понялъ, что увидѣть ему предстоитъ еще очень много.
Въ концентраціонномъ лагерѣ ББК я не видѣлъ ни одного изъ этихъ дружественныхъ иммигрантовъ. Впослѣдствіи я узналъ, что всѣхъ ихъ отправляютъ подальше: за Уралъ, на Караганду, въ Кузбассъ — подальше отъ соблазна новаго бѣгства — бѣгства возвращенія на свою старую и несоціалистическую родину.
УМЫВАЮЩІЕ РУКИ
Однако, самое пріятное въ пересылкѣ было то, что мы, наконецъ, могли завязать связь съ волей, дать знать о себѣ людямъ, для которыхъ мы четыре мѣсяца тому назадъ какъ въ воду канули, слать и получать письма, получать передачи и свиданія.
Но съ этой связью дѣло обстояло довольно сложно: мы не питерцы, и по моей линіи въ Питерѣ было только два моихъ старыхъ товарища. Одинъ изъ нихъ, Іосифъ Антоновичъ, мужъ г-жи Е., явственно сидѣлъ гдѣ-то рядомъ съ нами, но другой былъ на волѣ, внѣ всякихъ подозрѣній ГПУ и внѣ всякаго риска, что передачей или свиданіемъ онъ навлечетъ какое бы то ни было подозрѣніе: такая масса людей сидитъ по тюрьмамъ, что если поарестовывать ихъ родственниковъ и друзей, нужно было бы окончательно опустошить всю Россію. Nominae sunt odiosa — назовемъ его "профессоромъ Костей". Когда-то очень давно, наша семья вырастила и выкормила его, почти безпризорнаго мальчика, онъ кончилъ гимназію и университетъ. Сейчасъ онъ мирно профессорствовалъ въ Петербургѣ, жилъ тихой кабинетной мышью. Онъ нѣсколько разъ проводилъ свои московскія командировки у меня, въ Салтыковкѣ, и у меня съ нимъ была почти постоянная связь.
И еще была у насъ въ Питерѣ двоюродная сестра. Я и въ жизни ее не видалъ, Борисъ встрѣчался съ нею давно и мелькомъ; мы только знали, что она, какъ и всякая служащая дѣвушка въ Россіи, живетъ нищенски, работаетъ каторжно и, почти какъ и всѣ онѣ, каторжно работающія и нищенски живущія, болѣетъ туберкулезомъ. Я говорилъ о томъ, что эту дѣвушку не стоитъ и загружать хожденіемъ на передачи и свиданіе, а что вотъ Костя — такъ отъ кого же и ждать-то помощи, какъ не отъ него.
Юра къ Костѣ вообще относился весьма скептически, онъ не любилъ людей, окончательно выхолощенныхъ отъ всякаго протеста... Мы послали по открыткѣ — Костѣ и ей.
Какъ мы ждали перваго дня свиданья! Какъ мы ждали этой первой за четыре мѣсяца лазейки въ міръ, въ которомъ близкіе наши то молились уже за упокой душъ нашихъ, то мечтали о почти невѣроятномъ — о томъ, что мы все-таки какъ-то еще живы! Какъ мы мечтали о первой вѣсточкѣ туда и о первомъ кускѣ хлѣба оттуда!..
Когда голодаешь этакъ по ленински — долго и всерьезъ, вопросъ о кускѣ хлѣба пріобрѣтаетъ странное значеніе. Сидя на тюремномъ пайкѣ, я какъ-то не могъ себѣ представить съ достаточной ясностью и убедительностью, что вотъ лежитъ передо мной кусокъ хлѣба, а я ѣсть не хочу, и я его не съѣмъ. Хлѣбъ занималъ командныя высоты въ психикѣ — унизительныя высоты.
Въ первый же день свиданій въ камеру вошелъ дежурный.
— Который тутъ Солоневичъ?
— Всѣ трое...
Дежурный изумленно воззрился на насъ.
— Эка васъ расплодилось. А который Борисъ? На свиданіе...
Борисъ вернулся съ мѣшкомъ всяческихъ продовольственныхъ сокровищъ: здѣсь было фунта три хлѣбныхъ огрызковъ, фунтовъ пять варенаго картофеля въ мундирахъ, двѣ брюквы, двѣ луковицы и нѣсколько кусочковъ селедки. Это было все, что Катя успѣла наскребать. Денегъ у нея, какъ мы ожидали, не было ни копѣйки, а достать денегъ по нашимъ указаніямъ она еще не сумѣла.
Но картошка... Какое это было пиршество! И какъ весело было при мысли о томъ, что наша оторванность отъ міра кончилась, что панихидъ по насъ служить уже не будутъ. Все-таки, по сравненію съ могилой, и концлагерь — радость.
Но Кости не было.
Къ слѣдующему свиданію опять пришла Катя...
Богъ ее знаетъ, какими путями и подъ какимъ предлогомъ она удрала со службы, наскребала хлѣба, картошки и брюквы, стояла полубольная въ тюремной очереди. Костя не только не пришелъ: на телефонный звонокъ Костя отвѣтилъ Катѣ, что онъ, конечно, очень сожалѣетъ, но что онъ ничего сдѣлать на можетъ, такъ какъ сегодня же уѣзжаетъ на дачу.
Дача была выдумана плохо: на дворѣ стоялъ декабрь...
Потомъ, лежа на тюремной койкѣ и перебирая въ памяти всѣ эти страшные годы, я думалъ о томъ, какъ "тяжкій млатъ" голода и террора однихъ закалилъ, другихъ раздробилъ, третьи оказались пришибленными — но пришибленными прочно. Какъ это я раньше не могъ понять, что Костя — изъ пришибленныхъ.
Сейчасъ, въ тюрьмѣ, видя, какъ я придавленъ этимъ разочарованіемъ, Юра сталъ утѣшать меня — такъ неуклюже, какъ это только можетъ сдѣлать юноша 18 лѣтъ отъ роду и 180 сантиметровъ ростомъ.
— Слушай, Ватикъ, неужели же тебѣ и раньше не было ясно, что Костя не придетъ и ничего не сдѣлаетъ?.. Вѣдь это же просто — Акакій Акакіевичъ по ученой части... Вѣдь онъ же, Ватикъ, трусъ... У него отъ одного Катинаго звонка душа въ пятки ушла... А чтобы придти на свиданіе — что ты, въ самомъ дѣлѣ? Онъ дрожитъ надъ каждымъ своимъ рублемъ и надъ каждымъ своимъ шагомъ... Я, конечно, понимаю, Ватикъ, — смягчилъ Юра свою филиппику, — ну, конечно, раньше онъ, можетъ быть, и былъ другимъ, но сейчасъ...
Да, другимъ... Многіе были иными. Да, сейчасъ, конечно, — Акакій Акакіевичъ... Роль знаменитой шубы выполняетъ дочь, хлибкая истеричка двѣнадцати лѣтъ. Да, конечно, революціонный ребенокъ; ни жировъ, ни елки, ни витаминовъ, ни сказокъ... Пайковый хлѣбъ и политграмота. Оную же политграмоту, надрываясь отъ тошноты, читаетъ Костя по всякимъ рабфакамъ — кому нужна теперь славянская литература... Тощій и шаткій уютъ на Васильевскомъ Островѣ... Вѣчная дрожь: справа — уклонъ, слѣва — загибъ, снизу — голодъ, а сверху — просто ГПУ... Оппозиціонный шепотъ за закрытой дверью. И вѣчная дрожь...
Да, можно понять — какъ я этого раньше не понялъ... Можно простить... Но руку — трудно подать. Хотя, развѣ онъ одинъ — духовно убіенный революціей? Если нѣтъ статистики убитыхъ физически, то кто можетъ подсчитать количество убитыхъ духовно, пришибленныхъ, забитыхъ?
Ихъ много... Но, какъ ни много ихъ, какъ ни чудовищно давленіе, есть все-таки люди, которыхъ пришибить не удалось.
ЯВЛЕНІЕ ІОСИФА
Дверь въ нашу камеру распахнулась, и въ нее ввалилось нѣчто перегруженное всяческими мѣшками, весьма небритое и очень знакомое... Но я не сразу повѣрилъ глазамъ своимъ...
Небритая личность свалила на полъ свои мѣшки и звѣрски огрызнулась на дежурнаго:
— Куда же вы къ чортовой матери меня пихаете? Вѣдь здѣсь ни стать, ни сѣсть...
Но дверь уже захлопнулась.
— Вотъ сук-к-кины дѣти, — сказала личность по направленію къ двери.
Мои сомнѣнія разсѣялись. Невѣроятно, но фактъ: это былъ Іосифъ Антоновичъ.
И я говорю этакимъ для вящаго изумленія равнодушнымъ тономъ:
— Ничего, І. А., какъ-нибудь помѣстимся.
І. А. нацѣлился было молотить каблукомъ въ дверь. Но при моихъ словахъ его приподнятая было нога мирно стала на полъ.
— Иванъ Лукьяновичъ!.. вотъ это значитъ — чортъ меня раздери. Неужели ты? И Борисъ? А это, какъ я имѣю основанія полагать, — Юра. (Юру І. А. не видалъ 15 лѣтъ, немудрено было не узнать).
— Ну, пока тамъ что, давай поцѣлуемся.
Мы по доброму старому россійскому обычаю колемъ другъ друга небритыми щетинами...
— Какъ ты попалъ сюда? — спрашиваю я.
— Вотъ тоже дурацкій вопросъ, — огрызается І. А. и на меня. — Какъ попалъ? Обыкновенно, какъ всѣ попадаютъ... Во всякомъ случаѣ, попалъ изъ-за тебя, чортъ тебя дери... Ну, это ты потомъ мнѣ разскажешь. Главное — вы живы. Остальное — хрѣнъ съ нимъ. Тутъ у меня полный мѣшокъ всякой жратвы. И папиросы есть...
— Знаешь, І. А., мы пока будемъ ѣсть, а ужъ ты разсказывай. Я — за тобой.
Мы присаживаемся за ѣду. І. А. закуриваетъ папиросу и, мотаясь по камерѣ, разсказываетъ:
— Ты знаешь, я уже мѣсяцевъ восемь — въ Мурманскѣ. Въ Питерѣ съ начальствомъ разругался вдрызгъ: они, сукины дѣти, разворовали больничное бѣлье, а я эту хрѣновину долженъ былъ въ бухгалтеріи замазывать. Ну, я плюнулъ имъ въ рожу и ушелъ. Перебрался въ Мурманскъ. Мѣсто замѣчательно паршивое, но отвѣтственнымъ работникамъ даютъ полярный паекъ, такъ что, въ общемъ, жить можно... Да еще въ заливѣ морскіе окуни водятся — замѣчательная рыба!.. Я даже о конькахъ сталъ подумывать (І. А. въ свое время былъ первокласснымъ фигуристомъ). Словомъ, живу, работы чортова уйма, и вдругъ — ба-бахъ. Сижу вечеромъ дома, ужинаю, пью водку... Являются: разрѣшите, говорятъ, обыскъ у васъ сдѣлать?.. Ахъ, вы, сукины дѣти, — еще въ вѣжливость играютъ. Мы, дескать, не какіе-нибудь, мы, дескать, европейцы. "Разрѣшите"... Ну, мнѣ плевать — что у меня можно найти, кромѣ пустыхъ бутылокъ? Вы мнѣ, говорю, водку разрѣшите допить, пока вы тамъ подъ кроватями ползать будете... Словомъ, обшарили все, водку я допилъ, поволокли меня въ ГПУ, а оттуда со спецконвоемъ — двухъ идіотовъ приставили — повезли въ Питеръ. Ну, деньги у меня были, всю дорогу пьянствовали... Я этихъ идіотовъ такъ накачалъ, что когда пріѣхали на Николаевскій вокзалъ, прямо дѣваться некуда, такой духъ, что даже прохожіе внюхиваются. Ну, ясно, въ ГПУ съ такимъ духомъ идти нельзя было, мы заскочили на базарникъ, пожевали чесноку, я позвонилъ домой сестрѣ...
— Отчего же вы не сбѣжали? — снаивничалъ Юра.
— А какого мнѣ, спрашивается, чорта бѣжать? Куда бѣжать? И что я такое сдѣлалъ, чтобы мнѣ бѣжать? Единственное, что водку пилъ... Такъ за это у насъ сажать еще не придумали. Наоборотъ: казнѣ доходъ и о политикѣ меньше думаютъ. Словомъ, притащили на Шпалерку и посадили въ одиночку. Сижу и ничего не понимаю. Потомъ вызываютъ на допросъ — сидитъ какая-то толстая сволочь...
— Добротинъ?
— А чортъ его знаетъ, можетъ, и Добротинъ... Начинается, какъ обыкновенно: мы все о васъ знаемъ. Очень, говорю, пріятно, что знаете, только, если знаете, такъ на какого же чорта вы меня посадили? Вы, говоритъ, обвиняетесь въ организаціи контръ-революціоннаго сообщества. У васъ бывали такіе-то и такіе-то, вели такіе-то и такіе-то разговоры; знаемъ рѣшительно все — и кто былъ, и что говорили... Я ужъ совсѣмъ ничего не понимаю... Водку пьютъ вездѣ и разговоры такіе вездѣ разговариваютъ. Если бы за такіе разговоры сажали, въ Питерѣ давно бы ни одной живой души не осталось... Потомъ выясняется: и, кромѣ того, вы обвиняетесь въ пособничествѣ попыткѣ побѣга вашего товарища Солоневича.
Тутъ я понялъ, что вы влипли. Но откуда такая информація о моемъ собственномъ домѣ. Эта толстая сволочь требуетъ, чтобы я подписалъ показанія и насчетъ тебя, и насчетъ всякихъ другихъ моихъ знакомыхъ. Я ему и говорю, что ни черта подобнаго я не подпишу, что никакой контръ-революціи у меня въ домѣ не было, что тебя я за хвостъ держать не обязанъ. Тутъ этотъ слѣдователь начинаетъ крыть матомъ, грозить разстрѣломъ и тыкать мнѣ въ лицо револьверомъ. Ахъ, ты, думаю, сукинъ сынъ! Я восемнадцать лѣтъ въ совѣтской Россіи живу, а онъ еще думаетъ разстрѣломъ, видите ли, меня испугать. Я, знаешь, съ нимъ очень вѣжливо говорилъ. Я ему говорю, пусть онъ тыкаетъ револьверомъ въ свою жену, а не въ меня, потому что я ему вмѣсто револьвера и кулакомъ могу тыкнуть... Хорошо, что онъ убралъ револьверъ, а то набилъ бы я ему морду...
Ну, на этомъ нашъ разговоръ кончился. А черезъ мѣсяца два вызываютъ — и пожалуйте: три года ссылки въ Сибирь. Ну, въ Сибирь, такъ въ Сибирь, чортъ съ ними. Въ Сибири тоже водка есть. Но скажи ты мнѣ, ради Бога, И. Л., вотъ вѣдь не дуракъ же ты — какъ же тебя угораздило попасться этимъ идіотамъ?
— Почему же идіотамъ?
І. А. былъ самаго скептическаго мнѣнія о талантахъ ГПУ.
— Съ такими деньгами и возможностями, какія имѣетъ ГПУ, — зачѣмъ имъ мозги? Берутъ тѣмъ, что четверть Ленинграда у нихъ въ шпикахъ служить... И если вы эту истину зазубрите у себя на носу, — никакое ГПУ вамъ не страшно. Сажаютъ такъ, для цифры, для запугиванія. А толковому человѣку ихъ провести — ни шиша не стоитъ... Ну, такъ въ чемъ же, собственно, дѣло?
Я разсказываю, и по мѣрѣ моего разсказа въ лицѣ І. А. появляется выраженіе чрезвычайнаго негодованія.
— Бабенко! Этотъ сукинъ сынъ, который три года пьянствовалъ за моимъ столомъ и которому я бы ни на копѣйку не повѣрилъ! Охъ, какая дура Е. Вѣдь сколько разъ ей говорилъ, что она — дура: не вѣритъ... Воображаетъ себя Меттернихомъ въ юбкѣ. Ей тоже три года Сибири дали. Думаешь, поумнѣетъ? Ни черта подобнаго! Говорилъ я тебѣ, И. Л., не связывайся ты въ такомъ дѣлѣ съ бабами. Ну, чортъ съ нимъ, со всѣмъ этимъ. Главное, что живы, и потомъ — не падать духомъ. Вѣдь вы же все равно сбѣжите?
— Разумѣется, сбѣжимъ.
— И опять заграницу?
— Разумѣется, заграницу. А то, куда же?
— Но за что же меня, въ концѣ концовъ, выперли? Вѣдь не за "контръ-революціонные" разговоры за бутылкой водки?
— Я думаю, за разговоръ со слѣдователемъ.
— Можетъ быть... Не могъ же я позволить, чтобы всякая сволочь мнѣ въ лицо револьверомъ тыкала.
— А что, І. А., — спрашиваетъ Юра, — вы въ самомъ дѣлѣ дали бы ему въ морду?
І. А. ощетинивается на Юру:
— А что мнѣ, по вашему, оставалось бы дѣлать?
Несмотря на годы неистоваго пьянства, І. А. остался жилистымъ, какъ старая рабочая лошадь, и въ морду могъ бы дать. Я увѣренъ, что далъ бы. А пьянствуютъ на Руси поистинѣ неистово, особенно въ Питерѣ, гдѣ, кромѣ водки, почти ничего нельзя купить и гдѣ населеніе пьетъ безъ просыпу. Такъ, положимъ, дѣлается во всемъ мірѣ: чѣмъ глубже нищета и безысходность, тѣмъ страшнѣе пьянство.
— Чортъ съ нимъ, — еще разъ резюмируетъ нашу бесѣду І. А., — въ Сибирь, такъ въ Сибирь. Хуже не будетъ. Думаю, что вездѣ приблизительно одинаково паршиво...
— Во всякомъ случаѣ, — сказалъ Борисъ, — хоть пьянствовать перестанете.
— Ну, это ужъ извините. Что здѣсь больше дѣлать порядочному человѣку? Воровать? Лизать Сталинскія пятки? Выслуживаться передъ всякой сволочью? Нѣтъ, ужъ я лучше просто буду честно пьянствовать. Лѣтъ на пять меня хватитъ, а тамъ — крышка. Все равно, вы вѣдь должны понимать, Б. Л., жизни нѣтъ... Будь мнѣ тридцать лѣтъ, ну, туда-сюда. А мнѣ — пятьдесятъ. Что-жъ, семьей обзаводиться? Плодить мясо для Сталинскихъ экспериментовъ? Вѣдь только пріѣдешь домой, сядешь за бутылку, такъ по крайней мѣрѣ всего этого кабака не видишь и не вспоминаешь... Бѣжать съ вами? Что я тамъ буду дѣлать?.. Нѣтъ, Б. Л., самый простой выходъ — это просто пить.
Въ числѣ остальныхъ видовъ внутренней эмиграціи, есть и такой, пожалуй, наиболѣе популярный: уходъ въ пьянство. Хлѣба нѣтъ, но водка есть вездѣ. Въ нашей, напримѣръ, Салтыковкѣ, гдѣ жителей тысячъ 10, хлѣбъ можно купить только въ одной лавченкѣ, а водка продается въ шестнадцати, въ томъ числѣ и въ кіоскахъ того типа, въ которыхъ при "проклятомъ царскомъ режимѣ" торговали газированной водой. Водка дешева, бутылка водки стоитъ столько же, сколько стоитъ два кило хлѣба, да и въ очереди стоять не нужно. Пьютъ вездѣ. Пьетъ молоднякъ, пьютъ дѣвушки, не пьетъ только мужикъ, у котораго денегъ ужъ совсѣмъ нѣтъ.
Конечно, никакой статистики алкоголизма въ совѣтской Россіи не существуетъ. По моимъ наблюденіямъ больше всего пьютъ въ Петроградѣ и больше всего пьетъ средняя интеллигенція и рабочій молоднякъ. Уходятъ въ пьянство отъ принудительной общественности, отъ казеннаго энтузіазма, отъ каторжной работы, отъ безперспективности, отъ всяческаго гнета, отъ великой тоски по человѣческой жизни и отъ реальностей жизни совѣтской.
Не всѣ. Конечно, не всѣ. Но по какому-то таинственному и уже традиціонному русскому заскоку въ пьяную эмиграцію уходитъ очень цѣнная часть людей... Тѣ, кто какъ Есенинъ, не смогъ "задравъ штаны, бѣжать за комсомоломъ". Впрочемъ, комсомолъ указываетъ путь и здѣсь.
Черезъ нѣсколько дней пришли забрать І. А. на этапъ.
— Никуда я не пойду, — заявилъ І. А., — у меня сегодня свиданіе.
— Какія тутъ свиданія, — заоралъ дежурный, — сказано — на этапъ. Собирайте вещи.
— Собирайте сами. А мнѣ вещи должны передать на свиданіи. Не могу я въ такихъ ботинкахъ зимой въ Сибирь ѣхать.
— Ничего не знаю. Говорю, собирайте вещи, а то васъ силой выведутъ.
— Идите вы къ чортовой матери, — вразумительно сказалъ І. А.
Дежурный исчезъ и черезъ нѣкоторое время явился съ другимъ какимъ-то чиномъ повыше.
— Вы что позволяете себѣ нарушать тюремныя правила? — сталъ орать чинъ.
— А вы не орите, — сказалъ І. А. и жестомъ опытнаго фигуриста поднесъ къ лицу чина свою ногу въ старомъ продранномъ полуботинкѣ. — Ну? Видите? Куда я къ чорту безъ подошвъ въ Сибирь поѣду?..
— Плевать мнѣ на ваши подошвы. Приказываю вамъ немедленно собирать вещи и идти.
Небритая щетина на верхней губѣ І. А. грозно стала дыбомъ.
— Идите вы къ чортовой матери, — сказалъ І. А., усаживаясь на койку. — И позовите кого-нибудь поумнѣе.
Чинъ постоялъ въ нѣкоторой нерѣшительности и ушелъ, сказавъ угрожающе:
— Ну, сейчасъ мы вами займемся...
— Знаешь, І. А., — сказалъ я, — какъ бы тебѣ въ самомъ дѣлѣ не влетѣло за твою ругань...
— Хрѣнъ съ ними. Эта сволочь тащитъ меня за здорово живешь куда-то къ чортовой матери, таскаетъ по тюрьмамъ, а я еще передъ ними расшаркиваться буду?.. Пусть попробуютъ: не всѣмъ, а кому-то морду ужъ набью.
Черезъ полчаса пришелъ какой-то новый надзиратель.
— Гражданинъ П., на свиданье...
І. А. уѣхалъ въ Сибирь въ полномъ походномъ обмундированіи...
ЭТАПЪ
Каждую недѣлю ленинградскія тюрьмы отправляютъ по два этапныхъ поѣзда въ концентраціонные лагери. Но такъ какъ тюрьмы переполнены свыше всякой мѣры, — ждать очередного этапа приходится довольно долго. Мы ждали больше мѣсяца.
Наконецъ, отправляютъ и насъ. Въ полутемныхъ корридорахъ тюрьмы снова выстраиваются длинныя шеренги будущихъ лагерниковъ, идетъ скрупулезный, безконечный и, въ сущности, никому не нужный обыскъ. Раздѣваютъ до нитки. Мы долго мерзнемъ на каменныхъ плитахъ корридора. Потомъ насъ усаживаютъ на грузовики. На ихъ бортахъ — конвойные красноармейцы съ наганами въ рукахъ. Предупрежденіе: при малѣйшей попыткѣ къ бѣгству — пуля въ спину безъ всякихъ разговоровъ...
Раскрываются тюремныя ворота, и за ними — цѣлая толпа, почти исключительно женская, человѣкъ въ пятьсотъ.
Толпа раздается передъ грузовикомъ, и изъ нея сразу, взрывомъ, несутся сотни криковъ, привѣтствій, прощаній, именъ... Все это превращается въ какой-то сплошной нечленораздѣльный вопль человѣческаго горя, въ которомъ тонутъ отдѣльныя слова и отдѣльные голоса. Все это — русскія женщины, изможденныя и истощенныя, пришедшія и встрѣчать, и провожать своихъ мужей, братьевъ, сыновей...
Вотъ гдѣ, поистинѣ, "долюшка русская, долюшка женская"... Сколько женскаго горя, безсонныхъ ночей, невидимыхъ міру лишеній стоитъ за спиной каждой мужской судьбы, попавшей въ зубцы ГПУ-ской машины. Вотъ и эти женщины. Я знаю — онѣ недѣлями бѣгали къ воротамъ тюрьмы, чтобы узнать день отправки ихъ близкихъ. И сегодня онѣ стоятъ здѣсь, на январьскомъ морозѣ, съ самаго разсвѣта — на этапъ идетъ около сорока грузовиковъ, погрузка началась съ разсвѣта и кончится поздно вечеромъ. И онѣ будутъ стоять здѣсь цѣлый день только для того, чтобы бросить мимолетный прощальный взглядъ на родное лицо... Да и лица-то этого, пожалуй, и не увидятъ: мы сидимъ, точнѣе, валяемся на днѣ кузова и заслонены спинами чекистовъ, сидящихъ на бортахъ...
Сколько десятковъ и сотенъ тысячъ сестеръ, женъ, матерей вотъ такъ бьются о тюремныя ворота, стоятъ въ безконечныхъ очередяхъ съ "передачами", съэкономленными за счетъ самаго жестокаго недоѣданія! Потомъ, отрывая отъ себя послѣдній кусокъ хлѣба, онѣ будутъ слать эти передачи куда-нибудь за Уралъ, въ карельскіе лѣса, въ приполярную тундру. Сколько загублено женскихъ жизней, вотъ этакъ, мимоходомъ, прихваченныхъ чекистской машиной...
Грузовикъ — еще на медленномъ ходу. Толпа, отхлынувшая было отъ него, опять смыкается почти у самыхъ колесъ. Грузовикъ набираетъ ходъ. Женщины бѣгутъ рядомъ съ нимъ, выкрикивая разныя имена... Какая-то дѣвушка, растрепанная и заплаканная, долго бѣжитъ рядомъ съ машиной, шатаясь, точно пьяная, и каждую секунду рискуя попасть подъ колеса...
— Миша, Миша, родной мой, Миша!..
Конвоиры орутъ, потрясая своими наганами:
— Сиди на мѣстѣ!.. Сиди, стрѣлять буду!..
Сколько грузовиковъ уже прошло мимо этой дѣвушки и сколько еще пройдетъ... Она нелѣпо пытается схватиться за бортъ грузовика, одинъ изъ конвоировъ перебрасываетъ ногу черезъ бортъ и отталкиваетъ дѣвушку. Она падаетъ и исчезаетъ за бѣгущей толпой...
Какъ хорошо, что насъ никто здѣсь не встрѣчаетъ... И какъ хорошо, что этого Миши съ нами нѣтъ. Каково было бы ему видѣть свою любимую, сбитую на мостовую ударомъ чекистскаго сапога... И остаться безсильнымъ...
Машины ревутъ. Люди шарахаются въ стороны. Все движеніе на улицахъ останавливается передъ этой почти похоронной процессіей грузовиковъ. Мы проносимся по улицамъ "красной столицы" какимъ-то многоликимъ олицетвореніемъ memento mori, какимъ-то жуткимъ напоминаніемъ каждому, кто еще ходитъ по тротуарамъ: сегодня — я, а завтра — ты.
Мы въѣзжаемъ на задворки Николаевскаго вокзала. Эти задворки, повидимому, спеціально приспособлены для чекистскихъ погрузочныхъ операцій. Большая площадь обнесена колючей проволокой. На углахъ — бревенчатыя вышки съ пулеметами. У платформы — безконечный товарный составъ: это нашъ эшелонъ, въ которомъ намъ придется ѣхать Богъ знаетъ куда и Богъ знаетъ сколько времени.
Эти погрузочныя операцій какъ будто должны бы стать привычными и налаженными. Но вмѣсто налаженности — крикъ, ругань, сутолока, безтолочь. Насъ долго перегоняютъ отъ вагона къ вагону. Все уже заполнено до отказа — даже по нормамъ чекистскихъ этаповъ; конвоиры орутъ, урки ругаются, мужики стонутъ... Такъ тыкаясь отъ вагона къ вагону, мы, наконецъ, попадаемъ въ какую-то совсѣмъ пустую теплушку и врываемся въ нее оголтѣлой и озлобленной толпой.
Теплушка оффиціально расчитана на 40 человѣкъ, но въ нее напихиваютъ и 60, и 70. Въ нашу, какъ потомъ выяснилось, было напихано 58; мы не знаемъ, куда насъ везутъ и сколько времени придется ѣхать. Если за Уралъ — нужно расчитывать на мѣсяцъ, а то и на два. Понятно, что при такихъ условіяхъ мѣста на нарахъ — а ихъ на всѣхъ, конечно, не хватитъ — сразу становятся объектомъ жестокой борьбы...
Дверь вагона съ трескомъ захлопывается, и мы остаемся въ полутьмѣ. Съ правой, по ходу поѣзда, стороны оба люка забиты наглухо. Оба лѣвыхъ — за толстыми желѣзными рѣшетками... Кажется, что вся эта полутьма отъ пола до потолка биткомъ набита людьми, мѣшками, сумками, тряпьемъ, дикой руганью и дракой. Люди атакуютъ нары, отталкивая ногами менѣе удачливыхъ претендентовъ, въ воздухѣ мелькаютъ тѣла, слышится матъ, звонъ жестяныхъ чайниковъ, грохотъ падающихъ вещей.
Всѣ атакуютъ верхнія нары, гдѣ теплѣе, свѣтлѣе и чище. Намъ какъ-то удается протиснуться сквозь живой водопадъ тѣлъ на среднія нары. Тамъ — хуже, чѣмъ наверху, но все же безмѣрно лучше, чѣмъ остаться на полу посерединѣ вагона...
Черезъ часъ это столпотвореніе какъ-то утихаетъ. Сквозь многочисленныя дыры въ стѣнахъ и въ потолкѣ видно, какъ пробивается въ теплушку свѣтъ, какъ январьскій вѣтеръ наметаетъ на полу узенькія полоски снѣга. Становится зябко при одной мысли о томъ, какъ въ эти дыры будетъ дуть вѣтеръ на ходу поѣзда... Посерединѣ теплушки стоитъ чугунная печурка, изъѣденная всѣми язвами гражданской войны, военнаго коммунизма, мѣшочничества и Богъ знаетъ чего еще.
Мы стоимъ на путяхъ Николаевскаго вокзала почти цѣлыя сутки. Ни дровъ, ни воды, ни ѣды намъ не даютъ. Отъ голода, холода и усталости вагонъ постепенно затихаетъ...
Ночь... Лязгъ буферовъ!.. Поѣхали...
Мы лежимъ на нарахъ, плотно прижавшись другъ къ другу. Повернуться нельзя, ибо люди на нарахъ уложены такъ же плотно, какъ дощечки на паркетѣ. Заснуть тоже нельзя. Я чувствую, какъ холодъ постепенно пробирается куда-то внутрь организма, какъ коченѣютъ ноги и застываетъ мозгъ. Юра дрожитъ мелкой, частой дрожью, старается удержать ее и опять начинаетъ дрожать...
— Юрчикъ, замерзаешь?
— Нѣтъ, Ватикъ, ничего...
Такъ проходитъ ночь.
Къ полудню на какой-то станціи намъ дали дровъ — немного и сырыхъ. Теплушка наполнилась ѣдкимъ дымомъ, тепла прибавилось мало, но стало какъ-то веселѣе. Я начинаю разглядывать своихъ сотоварищей по этапу...
Большинство — это крестьяне. Они одѣты во что попало — какъ ихъ захватилъ арестъ. Съ мужикомъ вообще стѣсняются очень мало. Его арестовываютъ на полевыхъ работахъ, сейчасъ же переводятъ въ какую-нибудь уѣздную тюрьму — страшную уѣздную тюрьму, по сравненію съ которой Шпалерка — это дворецъ... Тамъ, въ этихъ уѣздныхъ тюрьмахъ, въ одиночныхъ камерахъ сидятъ по 10-15 человѣкъ, тамъ дѣйствительно негдѣ ни стать, ни сѣсть, и люди сидятъ и спятъ по очереди. Тамъ въ день даютъ 200 граммъ хлѣба, и мужики, не имѣющіе возможности получать передачи (деревня — далеко, да и тамъ нечего ѣсть), если и выходятъ оттуда живыми, то выходятъ совсѣмъ уже привидѣніями.
Наши этапные мужички тоже больше похожи на привидѣнія. Въ звѣриной борьбѣ за мѣста на нарахъ у нихъ не хватило силъ, и они заползли на полъ, подъ нижнія нары, расположились у дверныхъ щелей... Зеленые, оборванные, они робко, взглядами загнанныхъ лошадей, посматриваютъ на болѣе сильныхъ или болѣе оборотистыхъ горожанъ...
..."Въ столицахъ — шумъ, гремятъ витіи"... Столичный шумъ и столичные разстрѣлы даютъ міровой резонансъ. О травлѣ интеллигенціи пишетъ вся міровая печать... Но какая, въ сущности, это ерунда, какая мелочь — эта травля интеллигенціи... Не помѣщики, не фабриканты, не профессора оплачиваютъ въ основномъ эти страшныя "издержки революціи" — ихъ оплачиваетъ мужикъ. Это онъ, мужикъ, дохнетъ милліонами и десятками милліоновъ отъ голода, тифа, концлагерей, коллективизаціи и закона о "священной соціалистической собственности", отъ всякихъ великихъ и малыхъ строекъ Совѣтскаго Союза, отъ всѣхъ этихъ сталинскихъ хеопсовыхъ пирамидъ, построенныхъ на его мужицкихъ костяхъ... Да, конечно, интеллигенціи очень туго. Да, конечно, очень туго было и въ тюрьмѣ, и въ лагерѣ, напримѣръ, мнѣ... Значительно хуже — большинству интеллигенціи. Но въ какое сравненіе могутъ идти наши страданія и наши лишенія со страданіями и лишеніями русскаго крестьянства, и не только русскаго, а и грузинскаго, татарскаго, киргизскаго и всякаго другого. Вѣдь вотъ — какъ ни отвратительно мнѣ, какъ ни голодно, ни холодно, какимъ бы опасностямъ я ни подвергался и буду подвергаться еще — со мною считались въ тюрьмѣ и будутъ считаться въ лагерѣ. Я имѣю тысячи возможностей выкручиваться — возможностей, совершенно недоступныхъ крестьянину. Съ крестьяниномъ не считаются вовсе, и никакихъ возможностей выкручиваться у него нѣтъ. Меня — плохо ли, хорошо ли, — но все же судятъ. Крестьянина и разстрѣливаютъ, и ссылаютъ или вовсе безъ суда, или по такому суду, о которомъ и говорить трудно: я видалъ такіе "суды" — тройка безграмотныхъ и пьяныхъ комсомольцевъ засуживаетъ семью, въ теченіе двухъ-трехъ часовъ ее разоряетъ въ конецъ и ликвидируетъ подъ корень... Я, наконецъ, сижу не зря. Да, я врагъ совѣтской власти, я всегда былъ ея врагомъ, и никакихъ иллюзій на этотъ счетъ ГПУ не питало. Но я былъ нуженъ, въ нѣкоторомъ родѣ, "незамѣнимъ", и меня кормили и со мной разговаривали. Интеллигенцію кормятъ и съ интеллигенціей разговариваютъ. И если интеллигенція садится въ лагерь, то только въ исключительныхъ случаяхъ въ "массовыхъ кампаній" она садится за здорово живешь...
Я знаю, что эта точка зрѣнія идетъ совсѣмъ въ разрѣзъ съ установившимися мнѣніями о судьбахъ интеллигенціи въ СССР. Объ этихъ судьбахъ я когда-нибудь буду говорить подробнѣе. Но все то, что я видѣлъ въ СССР — а видѣлъ я много вещей — создало у меня твердое убѣжденіе: лишь въ рѣдкихъ случаяхъ интеллигенцію сажаютъ за зря, конечно, съ совѣтской точки зрѣнія. Она все-таки нужна. Ее все-таки судятъ. Мужика — много, имъ хоть прудъ пруди, и онъ совершенно реально находится въ положеніи во много разъ худшемъ, чѣмъ онъ былъ въ самыя худшія, въ самыя мрачныя времена крѣпостного права. Онъ абсолютно безправенъ, такъ же безправенъ, какъ любой рабъ какого-нибудь африканскаго царька, такъ же онъ нищъ, какъ этотъ рабъ, ибо у него нѣтъ рѣшительно ничего, чего любой деревенскій помпадуръ не могъ бы отобрать въ любую секунду, у него нѣтъ рѣшительно никакихъ перспективъ и рѣшительно никакой возможности выкарабкаться изъ этого рабства и этой нищеты...
Положеніе интеллигенціи? Ерунда — положеніе интеллигенціи по сравненію съ этимъ океаномъ буквально неизмѣримыхъ страданій многомилліоннаго и дѣйствительно многострадальнаго русскаго мужика. И передъ лицомъ этого океана какъ-то неловко, какъ-то языкъ не поворачивается говорить о себѣ, о своихъ лишеніяхъ: все это — булавочные уколы. А мужика бьютъ по черепу дубьемъ.
И вотъ, сидитъ "сѣятель и хранитель" великой русской земли у щели вагонной двери. Январьская вьюга уже намела сквозь эту щель сугробикъ снѣга на его обутую въ рваный лапоть ногу. Руки зябко запрятаны въ рукава какой-то лоскутной шинелишки временъ міровой войны. Мертвецки посинѣвшее лицо тупо уставилось на прыгающій огонь печурки. Онъ весь скомкался, съежился, какъ бы стараясь стать меньше, незамѣтнѣе, вовсе исчезнуть такъ, чтобы его никто не увидѣлъ, не ограбилъ, не убилъ...
И вотъ, ѣдетъ онъ на какую-то очередную "великую" сталинскую стройку. Ничего строить онъ не можетъ, ибо силъ у него нѣтъ... Въ 1930-31 году такого этапнаго мужика на Бѣломорско-Балтійскомъ каналѣ прямо ставили на работы, и онъ погибалъ десятками тысячъ, такъ что на "строительномъ фронтѣ" вмѣсто "пополненій" оказывались сплошныя дыры. Санчасть (санитарная часть) ББК догадалась: прибывающихъ съ этапами крестьянъ раньше, чѣмъ посылать на обычныя работы, ставили на болѣе или менѣе "усиленное" питаніе — и тогда люди гибли отъ того, что отощавшіе желудки не въ состояніи были переваривать нормальной пищи. Сейчасъ ихъ оставляютъ на двѣ недѣли въ "карантинѣ", постепенно втягиваютъ и въ работу, и въ то голодное лагерное питаніе, которое мужику и на волѣ не было доступно и которое является лукулловымъ пиршествомъ съ точки зрѣнія провинціальнаго тюремнаго пайка. Лагерь — все-таки хозяйственная организація, и въ своемъ рабочемъ скотѣ онъ все-таки заинтересованъ... Но въ чемъ заинтересованъ рѣдко грамотный и еще рѣже трезвый деревенскій комсомолецъ, которому на потопъ и разграбленіе отдано все крестьянство и который и самъ-то окончательно очумѣлъ отъ всѣхъ вихляній "генеральной линіи", отъ дикаго, кабацкаго административнаго восторга безчисленныхъ провинціальныхъ властей?
ВЕЛИКОЕ ПЛЕМЯ "УРОКЪ"
Насъ, интеллигенціи, на весь вагонъ всего пять человѣкъ: насъ трое, нашъ горе-романистъ Степушка, попавшій въ одинъ съ нами грузовикъ, и еще какой-то ленинградскій техникъ. Мы всѣ приспособились вмѣстѣ на средней нарѣ. Надъ нами — группа питерскихъ рабочихъ; ихъ мнѣ не видно. Другую половину вагона занимаетъ еще десятка два рабочихъ; они сытѣе и лучше одѣты, чѣмъ крестьяне, или говоря, точнѣе, менѣе голодны и менѣе оборваны. Всѣ они спятъ.
Плотно сбитой стаей сидятъ у печурки уголовники. Они не то чтобы оборваны — они просто полураздѣты, но ихъ выручаетъ невѣроятная, волчья выносливость бывшихъ безпризорниковъ. Всѣ они — результатъ жесточайшаго естественнаго отбора. Всѣ, кто не могъ выдержать поѣздокъ подъ вагонными осями, ночевокъ въ кучахъ каменнаго угля, пропитанія изъ мусорныхъ ямъ (совѣтскихъ мусорныхъ ямъ!) — всѣ они погибли. Остались только самые крѣпкіе, по волчьи выносливые, по волчьи ненавидящіе весь міръ — міръ, выгнавшій ихъ дѣтьми на большія дороги голода, на волчью борьбу за жизнь...
Тепло отъ печки добирается, наконецъ, и до меня, и я начинаю дремать. Просыпаюсь отъ дикаго крика и вижу:
Прислонившись спиной къ стѣнкѣ вагона блѣдный, стоитъ нашъ техникъ и тянетъ къ себѣ какой-то мѣшокъ. За другой конецъ мѣшка уцѣпился одинъ изъ урокъ — плюгавый парнишка, съ глазами попавшаго въ капканъ хорька. Борисъ тоже держится за мѣшокъ. Схема ясна: урка сперъ мѣшокъ, техникъ отнимаетъ, урка не отдаетъ, въ расчетѣ на помощь "своихъ". Борисъ пытается что-то урегулировать. Онъ что-то говоритъ, но въ общемъ гвалтѣ и ругани ни одного слова нельзя разобрать. Мелькаютъ кулаки, полѣнья и даже ножи. Мы съ Юрой пулей выкидываемся на помощь Борису.
Мы втроемъ представляемъ собою "боевую силу", съ которою приходится считаться и уркамъ — даже и всей ихъ стаѣ, взятой вмѣстѣ. Однако, плюгавый парнишка цѣпко и съ какимъ-то отчаяніемъ въ глазахъ держится за мѣшокъ, пока откуда-то не раздается спокойный и властный голосъ:
— Пусти мѣшокъ...
Парнишка отпускаетъ мѣшокъ и уходитъ въ сторону, утирая носъ, но все же съ видомъ исполненнаго долга...
Спокойный голосъ продолжаетъ:
— Ничего, другой разъ возьмемъ такъ, что и слыхать не будете.
Оглядываюсь. Высокій, изсиня блѣдный, испитой и, видимо, много и сильно на своемъ вѣку битый урка — очевидно, "паханъ" — коноводъ и вождь уголовной стаи. Онъ продолжаетъ, обращаясь къ Борису:
— А вы чего лѣзете? Не вашъ мѣшокъ — не ваше дѣло. А то такъ и ножъ ночью можемъ всунуть... У насъ, братъ, ни на какихъ обыскахъ ножей не отберутъ...
Въ самомъ дѣлѣ — какой-то ножъ фигурировалъ надъ свалкой. Какимъ путемъ урки ухитряются фабриковать и проносить свои ножи сквозь всѣ тюрьмы и сквозь всѣ обыски — Аллахъ ихъ знаетъ, но фабрикуютъ и проносятъ. И я понимаю — вотъ въ такой людской толчеѣ, откуда-то изъ-за спинъ и мѣшковъ ткнуть ножомъ въ бокъ — и пойди доискивайся...
Рабочіе сверху сохраняютъ полный нейтралитетъ: они-то по своему городскому опыту знаютъ, что значитъ становиться урочьей стаѣ поперекъ дороги. Крестьяне что-то робко и приглушенно ворчатъ по своимъ угламъ... Остаемся мы четверо (Степушка — не въ счетъ) — противъ 15 урокъ, готовыхъ на все и ничѣмъ не рискующихъ. Въ этомъ каторжномъ вагонѣ мы, какъ на необитаемомъ островѣ. Законъ остался гдѣ-то за дверями теплушки, законъ въ лицѣ какого-то конвойнаго начальника, заинтересованнаго лишь въ томъ, чтобы мы не сбѣжали и не передохли въ количествахъ, превышающихъ нѣкій, мнѣ неизвѣстный, "нормальный" процентъ. А что тутъ кто-то кого-то зарѣжетъ — кому какое дѣло.
Борисъ поворачивается къ пахану:
— Вотъ тутъ насъ трое: я, братъ и его сынъ. Если кого-нибудь изъ насъ ткнутъ ножомъ, — отвѣчать будете вы...
Урка дѣлаетъ наглое лицо человѣка, передъ которымъ ляпнули вопіющій вздоръ. И потомъ разражается хохотомъ.
— Ого-го... Отвѣчать... Передъ самимъ Сталинымъ... Вотъ это здорово... Отвѣчать... Мы тебѣ, братъ, кишки и безъ отвѣту выпустимъ...
Стая урокъ подхватываетъ хохотъ своего пахана. И я понимаю, что разговоръ объ отвѣтственности, о законной отвѣтственности на этомъ каторжномъ робинзоновскомъ островѣ — пустой разговоръ. Урки понимаютъ это еще лучше, чѣмъ я. Паханъ продолжаетъ ржать и тычетъ Борису въ носъ сложенные въ традиціонную эмблему три своихъ грязныхъ посинѣвшихъ пальца. Рука пахана сразу попадаетъ въ Бобины тиски. Ржанье переходитъ въ вой. Паханъ пытается вырвать руку, но это — дѣло совсѣмъ безнадежное. Кое-кто изъ урокъ срывается на помощь своему вождю, но Бобинъ тылъ прикрываемъ мы съ Юрой — и всѣ остаются на своихъ мѣстахъ.
— Пусти, — тихо и сдающимся тономъ говоритъ паханъ. Борисъ выпускаетъ его руку. Паханъ корчится отъ боли, держится за руку и смотритъ на Бориса глазами, преисполненными боли, злобы и... почтенія...
Да, конечно, мы не въ девятнадцатомъ вѣкѣ. Faustrecht. Ну, что-жъ! На нашей полдюжинѣ кулаковъ — кулаковъ основательныхъ — тоже можно какое-то право основать.
— Видите ли, товарищъ... какъ ваша фамилія, — возможно спокойнѣе начинаю я...
— Иди ты къ чорту съ фамиліей, — отвѣчаетъ паханъ.
— Михайловъ... — раздается откуда-то со стороны...
— Такъ видите ли, товарищъ Михайловъ, — говорю я чрезвычайно академическимъ тономъ, — когда мой братъ говорилъ объ отвѣтственности, то это, понятно, вовсе не въ томъ смыслѣ, что кто-то тамъ куда-то пойдетъ жаловаться... Ничего подобнаго... Но если кого-нибудь изъ насъ троихъ подколютъ, то оставшіеся просто... переломаютъ вамъ кости. И переломаютъ всерьезъ... И именно — вамъ... Такъ что и для васъ, и для насъ будетъ спокойнѣе такими дѣлами не заниматься...
Урка молчитъ. Онъ, по уже испытанному ощущенію Бобиной длани, понялъ, что кости будутъ переломаны совсѣмъ всерьезъ (они, конечно, и были бы переломаны).
Если бы не семейная спаянность нашей "стаи" и не наши кулаки, то спаянная своей солидарностью стая урокъ раздѣла бы и ограбила бы насъ до нитки. Такъ дѣлается всегда — въ общихъ камерахъ, на этапахъ, отчасти и въ лагеряхъ, гдѣ всякой случайной и разрозненной публикѣ, попавшей въ пещеры ГПУ, противостоитъ спаянная и "классово-солидарная" стая урокъ. У нихъ есть своя организація, и эта организація давитъ и грабить.
Впрочемъ, такая же организація существуетъ и на волѣ. Только она давитъ и грабить всю страну...
ДИСКУССІЯ
Часа черезъ полтора я сижу у печки. Паханъ подходитъ ко мнѣ.
— Ну, и здоровый же бугай вашъ братъ. Чуть руки не сломалъ. И сейчасъ еще еле шевелится... Оставьте мнѣ, товарищъ Солоневичъ, бычка (окурокъ) — страсть курить хочется.
Я принимаю оливковую вѣтвь мира и достаю свой кисетъ. Урка крутить собачью ножку и сладострастно затягивается...
— Тоже надо понимать, товарищъ Солоневичъ, собачье наше житье...
— Такъ что же вы его не бросите?
— А какъ его бросить? Мы всѣ — безпризорная шатія. Отъ мамкиной цицки — да прямо въ безпризорники. Я, прямо говоря, съ самаго малолѣтства воръ, такъ воромъ и помру. А этого супчика, техника-то, мы все равно обработаемъ. Не здѣсь, такъ въ лагерѣ... Сволочь. У него одного хлѣба съ пудъ будетъ. Просили по хорошему — дай хоть кусокъ. Такъ онъ какъ собака лается...
— Вотъ еще, васъ, сволочей, кормить, — раздается съ рабочей полки чей-то внушительный басъ.
Урка подымаетъ голову.
— Да вотъ, хоть и неохотой, да кормите же. Что ты думаешь, я хуже тебя ѣмъ?
— Я ни у кого не прошу.
— И я не прошу. Я самъ беру.
— Ну вотъ и сидишь здѣсь.
— А ты гдѣ сидишь? У себя на квартирѣ?
Рабочій замолкаетъ. Другой голосъ съ той же полки подхватываетъ тему:
— Воруютъ съ трудящаго человѣка послѣднее, а потомъ еще и корми ихъ. Мало васъ, сволочей, сажаютъ.
— Насъ, дѣйствительно, мало сажаютъ, — спокойно парируетъ урка, — вотъ васъ — много сажаютъ. Ты, небось, лѣтъ на десять ѣдешь, а я — на три года. Ты на совѣтскую власть на волѣ спину гнулъ за два фунта хлѣба и въ лагерѣ за тѣ же два фунта гнуть будешь. И подохнешь тамъ къ чертовой матери.
— Ну, это еще кто скорѣе подохнетъ...
— Ты подохнешь, — увѣренно сказалъ урка. — Я — какъ весна — такъ ищи вѣтра въ полѣ. А тебѣ куда податься? Подохнешь.
На рабочей нарѣ замолчали, подавленные аргументацій урки.
— Такимъ, прямо головы проламывать, — изрекъ нашъ техникъ.
У урки отъ злости и презрѣнія перекосилось лицо.
— Эхъ, ты, въ ротъ плеванный. Это ты-то, чортъ моржевый, проламывать будешь? Ты, братъ, смотри, ты, сукинъ сынъ, на носъ себѣ накрути. Это здѣсь мы просимъ, а ты куражишься, а въ лагерѣ ты у меня будешь на брюхѣ ползать, сукинъ ты сынъ. Тамъ тебѣ въ два счета кишки вывернутъ. Ты тамъ, братъ, за чужимъ кулакомъ не спрячешься. Вотъ этотъ — урка кивнулъ въ мою сторону — этотъ можетъ проломать... А ты, эхъ ты, дерьмо вшивое...
— Нѣтъ, такихъ... да... такихъ совѣтская власть прямо разстрѣливать должна. Прямо разстрѣливать. Вездѣ воруютъ, вездѣ грабятъ...
Это, оказывается, вынырнулъ изъ подъ наръ нашъ Степушка. Его основательно ограбили урки въ пересылкѣ, и онъ предвидѣлъ еще массу огорченій въ томъ же стилѣ. У него дрожали руки, и онъ брызгалъ слюной.
— Нѣтъ, я не понимаю. Какъ же это такъ? Везутъ въ одномъ вагонѣ. Полная безнаказанность. Что хотятъ, то и дѣлаютъ.
Урка смотритъ на него съ пренебрежительнымъ удивленіемъ.
— А вы, тихій господинчикъ, лежали бы на своемъ мѣстечкѣ и писали бы свои покаянія. Не трогаютъ васъ — такъ и лежите. А вотъ часишки вы въ пересылкѣ обратно получили, такъ вы будьте спокойны — мы ихъ возьмемъ.
Степушка судорожно схватился за карманъ съ часами. Урки захохотали.
— Это изъ нашей ко, — сказалъ я. — Такъ что насчетъ часиковъ — вы ужъ не троньте.
— Все равно. Не мы — такъ другіе. Не здѣсь — такъ въ лагерѣ. Господинчикъ-то вашъ больно ужъ хрѣновый. Покаянія все писалъ. Знаю — наши съ нимъ сидѣли.
— Не ваше дѣло, что я писалъ. Я на васъ заявленіе подамъ.
Степушка нервничалъ и трусилъ, и глупилъ. Я ему подмигивалъ, но онъ ничего не замѣчалъ...
— Вы, господинчикъ хрѣновый, слушайте, что я вамъ скажу... Я у васъ пока ничего не укралъ, а украду — поможетъ вамъ заявленіе, какъ мертвому кадило...
— Ничего, въ лагерѣ васъ прикрутятъ, — сказалъ техникъ.
— Съ дураками, видно, твоя мамаша спала, что ты такимъ умнымъ уродился... Въ лагерѣ... эхъ ты, моржевая голова! А что ты о лагерѣ знаешь? Бывалъ ты въ лагерѣ? Я вотъ уже пятый разъ ѣду — а ты мнѣ о лагерѣ разсказываешь...
— А что въ лагерѣ? — спросилъ я.
— Что въ лагерѣ? Первое дѣло — вотъ, скажемъ, вы или этотъ господинчикъ, вы, ясное дѣло, контръ-революціонеры. Вотъ та дубина, что наверху, — урка кивнулъ въ сторону рабочей нары, — тотъ или вредитель, или контръ-революціонеръ... Ну, мужикъ — онъ всегда кулакъ. Это такъ надо понимать, что всѣ вы классовые враги, ну и обращеніе съ вами подходящее. А мы, урки, — соціально близкій элементъ. Вотъ какъ. Потому, мы, елки-палки, противъ собственности...
— И противъ соціалистической? — спросилъ я.
— Э, нѣтъ. Казенной не трогаемъ. На грошъ возьмешь — на рубль отвѣту. Да еще въ милиціи бьютъ. Зачѣмъ? Вотъ тутъ наши одно время на торгсинъ было насѣли... Нестоющее дѣло... А такъ просто, фраера, вотъ вродѣ этого господинчика — во первыхъ, разъ плюнуть, а второе — куда онъ пойдетъ? Заявленія писать будетъ? Такъ ужъ будьте покойнички — ужъ съ милиціей я лучше сговорюсь, чѣмъ этотъ вашъ шибздикъ... А въ лагерѣ — и подавно. Ужъ тамъ скажутъ тебѣ: сними пинжакъ — такъ и снимай безъ разговоровъ, а то еще ножа получишь...
Урка явно хвастался, но урка вралъ не совсѣмъ... Степушка, изсякнувъ, растерянно посмотрѣлъ на меня. Да, Степушкѣ придется плохо: ни выдержки, ни изворотливости, ни кулаковъ... Пропадетъ.
ЛИКВИДИРОВАННАЯ БЕЗПРИЗОРНОСТЬ
Въ книгѣ совѣтскаго бытія, трудно читаемой вообще, есть страницы, недоступныя даже очень близко стоящему и очень внимательному наблюдателю. Поэтому всякія попытки "познанія Россіи" всегда имѣютъ этакую... прелесть неожиданности. Правда, "прелесть" эта нѣсколько вывернута наизнанку, но неожиданности обычно ошарашиваютъ своей парадоксальностью. Ну, развѣ не парадоксъ, что украинскому мужику въ лагерѣ живется лучше, чѣмъ на волѣ, и что онъ изъ лагеря на волю шлетъ хлѣбные сухари? И какъ это совмѣстить съ тѣмъ фактомъ, что этотъ мужикъ въ лагерѣ вымираетъ десятками и сотнями тысячъ (въ масштабѣ ББК)? А вотъ въ россійской сумятицѣ это совмѣщается: на Украинѣ крестьяне вымираютъ въ большей пропорціи, чѣмъ въ лагерѣ, и я реально видалъ крестьянъ, собирающихъ всякіе объѣдки для посылки ихъ на Украину. Значитъ ли это, что эти крестьяне въ лагерѣ не голодали? Нѣтъ, не значитъ. Но за счетъ еще большаго голоданія они спасали свои семьи отъ голодной смерти... Этотъ парадоксъ цѣпляется еще за одинъ: за необычайное укрѣпленіе семьи — такое, какое не снилось даже и покойному В. В. Розанову. А отъ укрѣпленія семьи возникаетъ еще одна неожиданность — принудительное безбрачіе комсомолокъ: никто замужъ не беретъ — ни партійцы, ни безпартійцы... такъ и торчи всю свою жизнь какой-нибудь мѣсткомовской дѣвой...
Много есть такихъ неожиданностей. Я однажды видалъ даже образцовый колхозъ — его предсѣдателемъ былъ старый трактирщикъ... Но есть вещи, о которыхъ вообще ничего нельзя узнать. Что мы, напримѣръ, знаемъ о такихъ явленіяхъ соціальной гигіены въ Совѣтской Россіи, какъ проституція, алкоголизмъ, самоубійства. Что зналъ я до лагеря о "ликвидаціи дѣтской безпризорности", я — человѣкъ, исколесившій всю Россію?...
Я видалъ, что Москва, Петроградъ, крупнѣйшія магистрали "подчищены" отъ безпризорниковъ, но я зналъ и то, что эпоха коллективизаціи и голодъ послѣднихъ лѣтъ дали новый рѣзкій толчекъ безпризорности... Но только здѣсь, въ лагерѣ, я узналъ куда дѣвается и какъ "ликвидируется" безпризорность всѣхъ призывовъ — и эпохи военнаго коммунизма, тифовъ, и гражданской войны, и эпохи ликвидаціи кулачества, какъ класса, и эпохи коллективизаціи, и... просто голода, стоящаго внѣ "эпохъ" и образующаго общій болѣе пли менѣе постоянный фонъ россійской жизни...
Такъ, почти ничего я не зналъ о великомъ племени урокъ, населяющемъ широкія подполья соціалистической страны. Раза два меня обворовывали, но не очень сильно. Обворовывали моихъ знакомыхъ — иногда очень сильно, а два раза даже съ убійствомъ. Потомъ, еще Утесовъ пѣлъ свои "блатныя" пѣсенки:
Вотъ, примѣрно, и все... Такъ, иногда говорилось, что милліонная армія безпризорниковъ подросла и орудуетъ гдѣ-то по тыламъ соціалистическаго строительства. Но такъ какъ, во-первыхъ, объ убійствахъ и грабежахъ совѣтская пресса не пишетъ ничего, то данное "соціальное явленіе" для васъ существуетъ лишь постольку, поскольку вы съ нимъ сталкиваетесь лично. Внѣ вашего личнаго горизонта вы не видите ни кражъ, ни самоубійствъ, ни убійствъ, ни алкоголизма, ни даже концлагерей, поскольку туда не сѣли вы или ваши родные... И, наконецъ, такъ много и такъ долго грабили и убивали, что и кошелекъ, и жизнь давно перестали волновать...
И вотъ, передо мною, покуривая мою махорку и густо сплевывая на раскаленную печку, сидитъ представитель вновь открываемаго мною міра — міра профессіональныхъ бандитовъ, выросшаго и вырастающаго изъ великой дѣтской безпризорности...
На немъ, этомъ "представителѣ", только рваный пиджачишко (рубашка была пропита въ тюрьмѣ, какъ онъ мнѣ объяснилъ), причемъ, пиджачишко этотъ еще недавно былъ, видимо, достаточно шикарнымъ. Отъ печки пышетъ жаромъ, въ спину сквозь щели вагона дуетъ ледяной январьскій вѣтеръ, но уркѣ и на жару, и на холодъ наплевать... Вспоминается анекдотъ о безпризорникѣ, котораго по ошибкѣ всунули въ печь крематорія, а дверцы забыли закрыть. Изъ огненнаго пекла раздался пропитый голосъ:
— Закрой, стерьва, дуетъ...
Еще съ десятокъ урокъ, такихъ же не то чтобы оборванныхъ, а просто полуодѣтыхъ, валяются на дырявомъ промерзломъ полу около печки, лѣниво подбрасываютъ въ нее дрова, курятъ мою махорку и снабжаютъ меня информаціей о лагерѣ, пересыпанной совершенно несусвѣтимымъ сквернословіемъ... Что боцмана добраго стараго времени! Грудные ребята эти боцмана съ ихъ "морскими терминами", по сравненію съ самымъ желторотымъ уркой...
Нужно сказать честно, что никогда я не затрачивалъ свой капиталъ съ такой сумасшедшей прибылью, съ какой я затратилъ червонецъ, прокуренный урками въ эту ночь... Мужики гдѣ-то подъ нарами сбились въ кучу, зарывшись въ свои лохмотья. Рабочій классъ храпитъ наверху... Я выспался днемъ. Урки не спятъ вторыя сутки, и не видно, чтобы ихъ тянуло ко сну. И передо мною разворачивается "учебный фильмъ" изъ лагернаго быта, со всей безпощадностью лагернаго житья, со всѣмъ лагернымъ "блатомъ", административной структурой, разстрѣлами, "зачетами", "довѣсками", пайками, жульничествомъ, грабежами, охраной, тюрьмами и прочимъ, и прочимъ. Борисъ, отмахиваясь отъ клубовъ махорки, проводитъ параллели между Соловками, въ которыхъ онъ просидѣлъ три года, и современнымъ лагеремъ, гдѣ ему предстоитъ просидѣть... вѣроятно, очень немного... На полупонятномъ мнѣ блатномъ жаргонѣ разсказываются безконечныя воровскія исторіи, пересыпаемыя необычайно вонючими непристойностями...
— А вотъ въ Кіевѣ, подъ самый новый годъ — вотъ была исторія, — начинаетъ какой-то урка лѣтъ семнадцати. — Сунулся я въ квартирку одну — замокъ пустяковый былъ. Гляжу — комнатенка, въ комнатенкѣ — канапа, а на канапѣ — узелокъ съ пальтомъ — хорошее пальто, буржуйское. Ну, дѣло было днемъ — много не заберешь. Я за узелокъ — и ходу. Иду, иду. А въ узелкѣ что-то шевелится. Какъ я погляжу — а тамъ ребеночекъ. Спитъ, сукинъ сынъ. Смотрю кругомъ — никого нѣтъ. Я это пальто на себя, а ребеночка подъ заборъ, въ кусты, подъ снѣгъ.
— Ну, а какъ же ребенокъ-то? — спрашиваетъ Борисъ...
Столь наивный вопросъ уркѣ, видимо, и въ голову ни разу не приходилъ.
— А чортъ его знаетъ, — сказалъ онъ равнодушно. — Не я его дѣлалъ. — Урка загнулъ особенно изысканную непристойность, и вся орава заржала.
Финки, фомки, "всадилъ", "кишки выпустилъ", малины, "шалманы", рѣдкая по жестокости и изобрѣтательности месть, поджоги, проститутки, пьянство, кокаинизмъ, морфинизмъ... Вотъ она эта "ликвидированная безпризорность", вотъ она эта армія, оперирующая въ тылахъ соціалистическаго фронта — "отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды."
Изъ всѣхъ человѣческихъ чувствъ у нихъ, видимо, осталось только одно — солидарность волчьей стаи, съ дѣтства выкинутой изъ всякаго человѣческаго общества. Едва ли какая-либо другая страна и другая эпоха можетъ похвастаться наличіемъ милліонной арміи людей, оторванныхъ отъ всякой соціальной базы, лишенныхъ всякаго соціальнаго чувства, всякой морали.
Значительно позже, въ лагерѣ, я пытался подсчитать — какова же, хоть приблизительно, численность этой арміи или, по крайней мѣрѣ, той ея части, которая находится въ лагеряхъ. Въ ББК ихъ было около 15%. Если взять такое же процентное отношеніе для всего "лагернаго населенія" Совѣтской Россіи, — получится что-то отъ 750.000 до 1 500.000, — конечно, цифра, какъ говорятъ въ СССР, "сугубо оріентировочная"... А сколько этихъ людей оперируетъ на волѣ?
Не знаю.
И что станетъ съ этой арміей дѣлать будущая Россія?
Тоже — не знаю...
ЭТАПЪ КАКЪ ТАКОВОЙ
Помимо жестокостей планомѣрныхъ, такъ сказать, "классово-цѣлеустремленныхъ", совѣтская страна захлебывается еще отъ дикаго потока жестокостей совершенно безцѣльныхъ, никому не нужныхъ, никуда не "устремленныхъ". Растутъ они, эти жестокости, изъ того несусвѣтимаго совѣтскаго кабака, зигзаги котораго предусмотрѣть вообще невозможно, который, на ряду съ самой суровой отвѣтственностью по закону, создаетъ полнѣйшую безотвѣтственность на практикѣ (и, конечно и наоборотъ), наряду съ оффиціальной плановостью организуетъ полнѣйшій хаосъ, наряду со статистикой — абсолютную неразбериху. Я совершенно увѣренъ въ томъ, что реальной величины, напримѣръ, посѣвной площади въ Россіи не знаетъ никто — не знаетъ этого ни Сталинъ, ни политбюро и ни ЦСУ, вообще никто не знаетъ — ибо уже и низовая колхозная цифра рождается въ колхозномъ кабакѣ, проходитъ кабаки уѣзднаго, областного и республиканскаго масштаба и теряетъ всякое соотвѣтствіе съ реальностью... Что ужъ тамъ съ ней сдѣлаютъ въ московскомъ кабакѣ — это дѣло шестнадцатое. Въ Москвѣ въ большинствѣ случаевъ цифры не суммируютъ, а высасываютъ... Съ цифровымъ кабакомъ, который оплачивается человѣческими жизнями, мнѣ потомъ пришлось встрѣтиться въ лагерѣ. По дорогѣ же въ лагерь свирѣпствовалъ кабакъ просто — безъ статистики и безъ всякаго смысла...
Само собой разумѣется, что для ГПУ не было рѣшительно никакого расчета, отправляя рабочую силу въ лагеря, обставлять перевозку эту такъ, чтобы эта рабочая сила прибывала на мѣсто работы въ состояніи крайняго истощенія. Практически же дѣло обстояло именно такъ.
По положенію этапники должны были получать въ дорогѣ по 600 гр. хлѣба въ день, сколько то тамъ граммъ селедки, по куску сахару и кипятокъ. Горячей пищи не полагалось вовсе, и зимой, при длительныхъ — недѣлями и мѣсяцами — переѣздахъ въ слишкомъ плохо отапливаемыхъ и слишкомъ хорошо "вентилируемыхъ" теплушкахъ, — этапы несли огромныя потери и больными, и умершими, и просто страшнымъ ослабленіемъ тѣхъ, кому удалось и не заболѣть, и не помереть... Допустимъ, что общія для всей страны "продовольственныя затрудненія" лимитровали количество и качество пищи, помимо, такъ сказать, доброй воли ГПУ. Но почему насъ морили жаждой?
Намъ выдали хлѣбъ и селедку сразу на 4 — 5 дней. Сахару не давали — но Богъ ужъ съ нимъ... Но вотъ, когда послѣ двухъ сутокъ селедочнаго питанія намъ въ теченіе двухъ сутокъ не дали ни капли воды — это было совсѣмъ плохо. И совсѣмъ глупо...
Первыя сутки было плохо, но все же не очень мучительно. На вторыя сутки мы стали уже собирать снѣгъ съ крыши вагона: сквозь рѣшетки люка можно было протянуть руку и пошарить ею по крышѣ... Потомъ стали собирать снѣгъ, который вѣтеръ наметалъ на полу сквозь щели вагона, но, понятно, для 58 человѣкъ этого немножко не хватало.
Муки жажды обычно описываются въ комбинаціи съ жарой, песками пустыни или солнцемъ Тихаго Океана. Но я думаю, что комбинація холода и жажды была на много хуже...
На третьи сутки, на разсвѣтѣ, кто-то въ вагонѣ крикнулъ:
— Воду раздаютъ!..
Люди бросились къ дверямъ — кто съ кружкой, кто съ чайникомъ... Стали прислушиваться къ звукамъ отодвигаемыхъ дверей сосѣднихъ вагоновъ, ловили приближающуюся ругань и плескъ разливаемой воды... Какимъ музыкальнымъ звукомъ показался мнѣ этотъ плескъ!..
Но вотъ отодвинулась и наша дверь. Патруль принесъ бакъ съ водой — ведеръ этакъ на пять. Отъ воды шелъ легкій паръ — когда-то она была кипяткомъ, — но теперь намъ было не до такихъ тонкостей. Если бы не штыки конвоя, — этапники нашего вагона, казалось, готовы были бы броситься въ этотъ бакъ внизъ головой...
— Отойди отъ двери, такъ-то, такъ-то и такъ-то, — оралъ кто-то изъ конвойныхъ. — А то унесемъ воду къ чортовой матери!..
Но вагонъ былъ близокъ къ безумію...
Характерно, что даже и здѣсь, въ водяномъ вопросѣ, сказалось своеобразное "классовое разслоеніе"... Рабочіе имѣли свою посуду, слѣдовательно, у нихъ вчера еще оставался нѣкоторый запасъ воды, они меньше страдали отъ жажды, да и вообще держались какъ-то организованнѣе. Урки ругались очень сильно и изысканно, но въ бутылку не лѣзли. Мы, интеллигенція, держались этакимъ "комсоставомъ", который, не считаясь съ личными ощущеніями, старается что-то сорганизовать и какъ-то взять команду въ свои руки.
Крестьяне, у которыхъ не было посуды, какъ у рабочихъ, не было собачьей выносливости, какъ у урокъ, не было сознательной выдержки, какъ у интеллигенціи, превратились въ окончательно обезумѣвшую толпу. Со стонами, криками и воплями они лѣзли къ узкой щели дверей, забивали ее своими тѣлами такъ, что ни къ двери подойти, ни воду въ теплушку поднять. Задніе оттаскивали переднихъ или взбирались по ихъ спинамъ вверхъ, къ самой притолокѣ двери, и двери оказались плотно, снизу доверху, забитыми живымъ клубкомъ орущихъ и брыкающихся человѣческихъ тѣлъ.
Съ великими мускульными и голосовыми усиліями намъ, интеллигенціи и конвою, удалось очистить проходъ и втащить бакъ на полъ теплушки. Только что втянули бакъ, какъ какой-то крупный бородатый мужикъ ринулся къ нему сквозь всѣ наши загражденія и всей своей волосатой физіономіей нырнулъ въ воду; хорошо еще, что она не была кипяткомъ.
Борисъ схватилъ его за плечи, стараясь оттащить, но мужикъ такъ крѣпко вцѣпился въ края бака руками, что эти попытки грозили перевернуть весь бакъ и оставить насъ всѣхъ вовсе безъ воды.
Глядя на то, какъ бородатый мужикъ, захлебываясь, лакаетъ воду, толпа мужиковъ снова бросилась къ баку. Какой-то рабочій колотилъ своимъ чайникомъ по полупогруженной въ воду головѣ, какія-то еще двѣ головы пытались втиснуться между первой и краями бака, но мужикъ ничего не слышалъ и ничего не чувствовалъ: онъ лакалъ, лакалъ, лакалъ...
Конвойный, очевидно, много насмотрѣвшійся на такого рода происшествіи, крикнулъ Борису:
— Пихай бакъ сюда!
Мы съ Борисомъ поднажали, и по скользкому обледенѣлому полу теплушки бакъ скользнулъ къ дверямъ. Тамъ его подхватили конвойные, а бородатый мужикъ тяжело грохнулся о землю.
— Ну, сукины дѣти, — оралъ конвойный начальникъ, — теперь совсѣмъ заберемъ бакъ, и подыхайте вы тутъ къ чортовой матери...
— Послушайте, — запротестовалъ Борисъ, — во-первыхъ, не всѣ же устраивали безпорядокъ, а во-вторыхъ, надо было воду давать во время.
— Мы и безъ васъ знаемъ, когда время, когда нѣтъ. Ну, забирайте воду въ свою посуду, намъ нужно бакъ забирать.
Возникла новая проблема: у интеллигенціи было довольно много посуды, посуда была и у рабочихъ; у мужиковъ и у урокъ ея не было вовсе. Одна часть рабочихъ отъ дѣлежки своей посудой отказалась наотрѣзъ. Въ результатѣ длительной и матерной дискуссіи установили порядокъ: каждому по кружкѣ воды. Оставшуюся воду распредѣлять не по принципу собственности на посуду, а, такъ сказать, въ общій котелъ. Тѣ, кто не даютъ посуды для общаго котла, больше воды не получатъ. Такимъ образомъ тѣ рабочіе, которые отказались дать посуду, рисковали остаться безъ воды. Они пытались было протестовать, но на нашей сторонѣ было и моральное право, и большинство голосовъ, и, наконецъ, аргументъ, безъ котораго всѣ остальные не стоили копѣйки, — это кулаки. Частно-собственническіе инстинкты были побѣждены.
ЛАГЕРНОЕ КРЕЩЕНІЕ
ПРІѢХАЛИ
Такъ ѣхали мы 250 километровъ пять сутокъ. Уже въ нашей теплушкѣ появились больные — около десятка человѣкъ. Борисъ щупалъ имъ пульсъ и говорилъ имъ хорошія слова — единственное медицинское средство, находившееся въ его распоряженіи. Впрочемъ, въ обстановкѣ этого человѣческаго звѣринца и хорошее слово было медицинскимъ средствомъ.
Наконецъ, утромъ, на шестыя сутки въ раскрывшейся двери теплушки появились люди, не похожіе на нашихъ конвоировъ. Въ рукахъ одного изъ нихъ былъ списокъ. На носу, какъ-то свѣсившись на бокъ, плясало пенснэ. Одѣтъ человѣкъ былъ во что-то рваное и весьма штатское. При видѣ этого человѣка я понялъ, что мы куда-то пріѣхали. Неизвѣстно куда, но во всякомъ случаѣ далеко мы уѣхать не успѣли.
— Эй, кто тутъ староста?
Борисъ вышелъ впередъ.
— Сколько у васъ человѣкъ по списку? Повѣрьте всѣхъ.
Я просунулъ свою голову въ дверь теплушки и конфиденціальнымъ шепотомъ спросилъ человѣка въ пенснэ:
— Скажите, пожалуйста, куда мы пріѣхали?
Человѣкъ въ пенснэ воровато оглянулся кругомъ и шепнулъ:
— Свирьстрой.
Несмотря на морозный январьскій вѣтеръ, широкой струей врывавшійся въ двери теплушки, въ душахъ нашихъ расцвѣли незабудки.
Свирьстрой! Это значитъ, во всякомъ случаѣ, не больше двухсотъ километровъ отъ границы. Двѣсти километровъ — пустяки. Это не какой-нибудь "Сиблагъ", откуда до границы хоть три года скачи — не доскачешь... Неужели судьба послѣ всѣхъ подвоховъ съ ея стороны повернулась, наконецъ, "лицомъ къ деревнѣ?"
НОВЫЙ ХОЗЯИНЪ
Такое же морозное январьское утро, какъ и въ день нашей отправки изъ Питера. Та же цѣпь стрѣлковъ охраны и пулеметы на треножникахъ. Кругомъ — поросшая мелкимъ ельникомъ равнина, какіе-то захолустные, заметенные снѣгомъ подъѣздные пути.
Насъ выгружаютъ, строятъ и считаютъ. Потомъ снова перестраиваютъ и пересчитываютъ. Начальникъ конвоя мечется, какъ угорѣлый, отъ колонны къ колоннѣ: двое арестантовъ пропало. Впрочемъ, при такихъ порядкахъ могло статься, что ихъ и вовсе не было.
Мечутся и конвойные. Дикая ругань. Ошалѣвшіе въ конецъ мужички тыкаются отъ шеренги къ шеренгѣ, окончательно разстраивая и безъ того весьма приблизительный порядокъ построенія. Опять перестраиваютъ. Опять пересчитываютъ...
Такъ мы стоимъ часовъ пять и промерзаемъ до костей. Полураздѣтые урки, несмотря на свою красноиндѣйскую выносливость, совсѣмъ еле живы. Конвойные, которые почти такъ же замерзли, какъ и мы, съ каждымъ часомъ свирѣпѣютъ все больше. То тамъ, то здѣсь люди валятся на снѣгъ. Десятокъ нашихъ больныхъ уже свалились. Мы укладываемъ ихъ на рюкзаки, мѣшки и всякое борохло, но ясно, что они скоро замерзнутъ. Наши мѣропріятія, конечно, снова нарушаютъ порядокъ въ колоннахъ, слѣдовательно, снова портятъ весь подсчетъ. Между нами и конвоемъ возникаетъ ожесточенная дискуссія. Крыть матомъ и приводить въ порядокъ прикладами людей въ очкахъ конвой все-таки не рѣшается. Намъ угрожаютъ арестомъ и обратной отправкой въ Ленинградъ. Это, конечно, вздоръ, и ничего съ нами конвой сдѣлать не можетъ. Борисъ заявляетъ, что люди заболѣли еще въ дорогѣ, что стоять они не могутъ. Конвоиры подымаютъ упавшихъ на ноги, тѣ снова валятся на земь. Подходятъ какіе-то люди въ лагерномъ одѣяніи, — какъ потомъ оказалось, пріемочная коммиссія лагеря. Насквозь промерзшій старичекъ съ колючими усами оказывается начальникомъ санитарной части лагеря. Подходитъ начальникъ конвоя и сразу набрасывается на Бориса:
— А вамъ какое дѣло? Немедленно станьте въ строй!
Борисъ заявляетъ, что онъ — врачъ и, какъ врачъ, не можетъ допустить, чтобы люди замерзали единственно вслѣдствіе полной нераспорядительности конвоя. Намекъ на "нераспорядительность" и на посылку жалобы въ Ленинградъ нѣсколько тормозитъ начальственный разбѣгъ чекиста. Въ результатѣ длительной перепалки появляются лагерныя сани, на нихъ нагружаютъ упавшихъ, и обозъ разломанныхъ саней и дохлыхъ клячъ съ погребальной медленностью исчезаетъ въ лѣсу. Я потомъ узналъ, что до лагеря живыми доѣхали все-таки не всѣ.
Какая-то команда. Конвой забираетъ свои пулеметы и залѣзаетъ въ вагоны. Поѣздъ, гремя буферами, трогается и уходитъ на западъ. Мы остаемся въ пустомъ полѣ. Ни конвоя, ни пулеметовъ. Въ сторонкѣ отъ дороги, у костра, грѣется полудюжина какой-то публики съ винтовками — это, какъ оказалось, лагерный ВОХР (вооруженная охрана) — въ просторѣчіи называемая "попками" и "свѣчками"... Но онъ насъ не охраняетъ. Да и не отъ чего охранять. Люди мечтаютъ не о бѣгствѣ — куда бѣжать въ эти заваленныя снѣгомъ поля, — а о тепломъ углѣ и о горячей пищѣ...
Передъ колоннами возникаетъ какой-то расторопный юнецъ съ побѣлѣвшими ушами и въ лагерномъ бушлатѣ (родъ полупальто на ватѣ). Юнецъ обращается къ намъ съ рѣчью о предстоящемъ намъ честномъ трудѣ, которымъ мы будемъ зарабатывать себѣ право на возвращеніе въ семью трудящихся, о соціалистическомъ строительствѣ, о безклассовомъ обществѣ и о прочихъ вещахъ, столь же умѣстныхъ на 20 градусахъ мороза и передъ замерзшей толпой... какъ и во всякомъ другомъ мѣстѣ. Это обязательные акафисты изъ обязательныхъ совѣтскихъ молебновъ, которыхъ никто и нигдѣ не слушаетъ всерьезъ, но отъ которыхъ никто и нигдѣ не можетъ отвертѣться. Этотъ молебенъ заставляетъ людей еще полчаса дрожать на морозѣ... Правда, изъ него я окончательно и твердо узнаю, что мы попали на Свирьстрой, въ Подпорожское отдѣленіе Бѣломорско-Балтійскаго Комбината (сокращенно ББК).
До лагеря — верстъ шесть. Мы полземъ убійственно медленно и кладбищенски уныло. Въ хвостѣ колонны плетутся полдюжина вохровцевъ и дюжина саней, подбирающихъ упавшихъ: лагерь все-таки заботится о своемъ живомъ товарѣ. Наконецъ, съ горки мы видимъ:
Вырубленная въ лѣсу поляна. Изъ подъ снѣга торчатъ пни. Десятка четыре длинныхъ досчатыхъ барака... Одни съ крышами; другіе безъ крышъ. Поляна окружена колючей проволокой, мѣстами уже заваленной... Вотъ онъ, "концентраціонный" или, по оффиціальной терминологіи, "исправительно-трудовой" лагерь — мѣсто, о которомъ столько трагическихъ шепотовъ ходитъ по всей Руси...
ЛИЧНАЯ ТОЧКА ЗРѢНІЯ
Я увѣренъ въ томъ, что среди двухъ тысячъ людей, уныло шествовавшихъ вмѣстѣ съ нами на Бѣломорско-Балтійскую каторгу, ни у кого не было столь оптимистически бодраго настроенія, какое было у насъ трехъ. Правда, мы промерзли, устали, насъ тоже не очень ужъ лихо волокли наши ослабѣвшія ноги, но...
Мы ожидали разстрѣла и попали въ концлагерь. Мы ожидали Урала или Сибири, и попади въ районъ полутораста-двухсотъ верстъ до границы. Мы были увѣрены, что намъ не удастся удержаться всѣмъ вмѣстѣ — и вотъ мы пока что идемъ рядышкомъ. Все, что насъ ждетъ дальше, будетъ легче того, что осталось позади. Здѣсь — мы выкрутимся. И такъ, въ сущности, недолго осталось выкручиваться: январь, февраль... въ іюлѣ мы уже будемъ гдѣ-то въ лѣсу, по дорогѣ къ границѣ... Какъ это все устроится — еще неизвѣстно, но мы это устроимъ... Мы люди тренированные, люди большой физической силы и выносливости, люди, не придавленные неожиданностью ГПУ-скаго приговора и перспективами долгихъ лѣтъ сидѣнья, заботами объ оставшихся на волѣ семьяхъ... Въ общемъ — все наше концлагерное будущее представлялось намъ приключеніемъ суровымъ и опаснымъ, но не лишеннымъ даже и нѣкоторой доли интереса. Нѣсколько болѣе мрачно былъ настроенъ Борисъ, который видалъ и Соловки и въ Соловкахъ видалъ вещи, которыхъ человѣку лучше бы и не видѣть... Но вѣдь тотъ же Борисъ даже и изъ Соловковъ выкрутился, правда потерявъ болѣе половины своего зрѣнія.
Это настроеніе бодрости и, такъ сказать, боеспособности въ значительной степени опредѣлило и наши лагерныя впечатлѣнія, и нашу лагерную судьбу. Это, конечно, ни въ какой степени не значитъ, чтобы эти впечатлѣнія и эта судьба были обычными для лагеря. Въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ, вѣроятно, въ 99 изъ ста, лагерь для человѣка является катастрофой. Онъ его ломаетъ и психически, и физически — ломаетъ непосильной работой, голодомъ, жестокой системой, такъ сказать, психологической эксплоатаціи, когда человѣкъ самъ выбивается изъ послѣднихъ силъ, чтобы сократить срокъ своего пребыванія въ лагерѣ, — но все же, главнымъ образомъ, ломаетъ не прямо, а косвенно: заботой о семьѣ. Ибо семья человѣка, попавшаго въ лагерь, обычно лишается всѣхъ гражданскихъ правъ и въ первую очередь — права на продовольственную карточку. Во многихъ случаяхъ это означаетъ голодную смерть. Отсюда — вотъ эти неправдоподобныя продовольственныя посылки изъ лагеря на волю, о которыхъ я буду говорить позже.
И еще одно обстоятельство: обычный совѣтскій гражданинъ очень плотно привинченъ къ своему мѣсту и внѣ этого мѣста видитъ очень мало. Я не былъ привинченъ ни къ какому мѣсту и видѣлъ въ Россіи очень много. И если лагерь меня и поразилъ, такъ только тѣмъ обстоятельствомъ, что въ немъ не было рѣшительно ничего особеннаго. Да, конечно, каторга. Но гдѣ же въ Россіи, кромѣ Невскаго и Кузнецкаго, нѣтъ каторги? На постройкѣ Магнитостроя такъ называемый "энтузіазмъ" обошелся приблизительно въ двадцать двѣ тысячи жизней. На Бѣломорско-Балтійскомъ каналѣ онъ обошелся около ста тысячъ. Разница, конечно, есть, но не такая ужъ, по совѣтскимъ масштабамъ, существенная. Въ лагерѣ людей разстрѣливали въ большихъ количествахъ, но тѣ, кто считаетъ, что о всѣхъ разстрѣлахъ публикуетъ совѣтская печать, совершаютъ нѣкоторую ошибку. Лагерные бараки — отвратительны, но на волѣ я видалъ похуже и значительно похуже. Очень возможно, что въ процентномъ отношеніи ко всему лагерному населенно количество людей, погибшихъ отъ голода, здѣсь выше, чѣмъ, скажемъ, на Украинѣ, — но съ голода мрутъ и тутъ, и тамъ. Объемъ "правъ" и безграничность безправія, — примѣрно, такіе же, какъ и на волѣ. И здѣсь, и тамъ есть масса всяческаго начальства, которое имѣетъ полное право или прямо разстрѣливать, или косвенно сжить со свѣту, но никто не имѣетъ права ударить, обругать или обратиться на ты. Это, конечно, не значитъ, что въ лагерѣ не бьютъ...
Есть люди, для которыхъ лагеря на много хуже воли, есть люди, для которыхъ разница между лагеремъ и волей почти незамѣтна, есть люди — крестьяне, преимущественно южные, украинскіе, — для которыхъ лагерь лучше воли. Или, если хотите, — воля хуже лагеря.
Эти очерки — нѣсколько оптимистически окрашенная фотографія лагерной жизни. Оптимизмъ исходитъ изъ моихъ личныхъ переживаній и міроощущенія, а фотографія — оттого, что для антисовѣтски настроеннаго читателя агитація не нужна, а совѣтски настроенный — все равно ничему не повѣритъ. "И погромче насъ были витіи"... Энтузіастовъ не убавишь, а умнымъ — нужна не агитація, а фотографія. Вотъ, въ мѣру силъ моихъ, я ее и даю.
ВЪ БАРАКѢ
Представьте себѣ грубо сколоченный досчатый гробообразный ящикъ, длиной метровъ въ 50 и шириной метровъ въ 8. По серединѣ одной изъ длинныхъ сторонъ прорублена дверь. По серединѣ каждой изъ короткихъ — по окну. Больше оконъ нѣтъ. Стекла выбиты, и дыры позатыканы всякаго рода тряпьемъ. Таковъ баракъ съ внѣшней стороны.
Внутри, вдоль длинныхъ сторонъ барака, тянутся ряды сплошныхъ наръ — по два этажа съ каждой стороны. Въ концахъ барака — по желѣзной печуркѣ, изъ тѣхъ, что зовутся времянками, румынками, буржуйками — нехитрое и, кажется, единственное изобрѣтеніе эпохи военнаго коммунизма. Днемъ это изобрѣтеніе не топится вовсе, ибо предполагается, что все населеніе барака должно пребывать на работѣ. Ночью надъ этимъ изобрѣтеніемъ сушится и тлѣетъ безконечное и безымянное вшивое тряпье — все, чѣмъ только можно обмотать человѣческое тѣло, лишенное обычной человѣческой одежды.
Печурка топится всю ночь. Въ радіусѣ трехъ метровъ отъ нея нельзя стоять, въ разстояніи десяти метровъ замерзаетъ вода. Бараки сколочены наспѣхъ изъ сырыхъ сосновыхъ досокъ. Доски разсохлись, въ стѣнахъ — щели, въ одну изъ ближайшихъ къ моему ложу я свободно просовывалъ кулакъ. Щели забиваются всякаго рода тряпьемъ, но его мало, да и во время періодическихъ обысковъ ВОХР тряпье это выковыриваетъ вонъ, и вѣтеръ снова разгуливаетъ по бараку. Баракъ освѣщенъ двумя керосиновыми коптилками, долженствующими освѣщать хотя бы окрестности печурокъ. Но такъ какъ стеколъ нѣтъ, то лампочки мигаютъ этакими одинокими свѣтлячками. По вечерамъ, когда баракъ начинаетъ наполняться пришедшей съ работы мокрой толпой (баракъ въ среднемъ расчитанъ на 300 человѣкъ), эти коптилки играютъ только роль маяковъ, указующихъ иззябшему лагернику путь къ печуркѣ сквозь клубы морознаго пара и махорочнаго дыма.
Изъ мебели — на баракъ полагается два длинныхъ, метровъ по десять, стола и четыре такихъ же скамейки. Вотъ и все.
И вотъ мы, послѣ ряда приключеній и передрягъ, угнѣздились, наконецъ, на нарахъ, разложили свои рюкзаки, отнюдь не распаковывая ихъ, ибо по всему бараку шныряли урки, и смотримъ на человѣческое мѣсиво, съ криками, руганью и драками, расползающееся по темнымъ закоулкамъ барака.
Повторяю, на волѣ я видалъ бараки и похуже. Но этотъ оставилъ особо отвратительное впечатлѣніе. Бараки на подмосковныхъ торфяникахъ были на много хуже уже по одному тому, что они были семейные. Или землянки рабочихъ въ Донбассѣ. Но тамъ походишь, посмотришь, выйдешь на воздухъ, вдохнешь полной грудью и скажешь: ну-ну, вотъ тебѣ и отечество трудящихся... А здѣсь придется не смотрѣть, а жить. "Двѣ разницы"... Одно — когда зубъ болитъ у ближняго вашего, другое — когда вамъ не даетъ житья ваше дупло...
Мнѣ почему-то вспомнились пренія и комиссіи по проектированію новыхъ городовъ. Проектировался новый соціалистическій Магнитогорскъ — тоже не многимъ замѣчательнѣе ББК. Баракъ для мужчинъ, баракъ для женщинъ. Кабинки для выполненія функцій по воспроизводству соціалистической рабочей силы... Дѣти забираются и родителей знать не должны. Ну, и такъ далѣе. Я обозвалъ эти "функцій" соціалистическимъ стойломъ. Авторъ проекта небезызвѣстный Сабсовичъ, обидѣлся сильно, и я уже подготовлялся было къ значительнымъ непріятностямъ, когда въ защиту соціалистическихъ производителей выступила Крупская, и проектъ былъ объявленъ "лѣвымъ загибомъ". Или, говоря точнѣе, "лѣвацкимъ загибомъ." Коммунисты не могутъ допустить, чтобы въ этомъ мірѣ было что-нибудь, стоящее лѣвѣе ихъ. Для спасенія дѣвственности коммунистической лѣвизны пущенъ въ обращеніе терминъ "лѣвацкій". Ежели уклонъ вправо — такъ это будетъ "правый уклонъ". А ежели влѣво — такъ это будетъ уже "лѣвацкій". И причемъ, не уклонъ, а "загибъ"...
Не знаю, куда загнули въ лагерѣ: вправо или въ "лѣвацкую" сторону. Но прожить въ этакой грязи, вони, тѣснотѣ, вшахъ, холодѣ и голодѣ цѣлыхъ полгода? О, Господи!..
Мои не очень оптимистическія размышленія прервалъ чей-то пронзительный крикъ:
— Братишки... обокрали... Братишечки, помогите...
По тону слышно, что украли послѣднее. Но какъ тутъ поможешь?.. Тьма, толпа, и въ толпѣ змѣйками шныряютъ урки. Крикъ тонетъ въ общемъ шумѣ и въ заботахъ о своей собственной шкурѣ и о своемъ собственномъ мѣшкѣ... Сквозь дыры потолка на насъ мирно капаетъ тающій снѣгъ...
Юра вдругъ почему-то засмѣялся.
— Ты это чего?
— Вспомнилъ Фредди. Вотъ его бы сюда...
Фредъ — нашъ московскій знакомый — весьма дипломатическій иностранецъ. Плохо поджаренныя утреннія гренки портятъ ему настроеніе на весь день... Его бы сюда? Повѣсился бы.
— Конечно, повѣсился бы, — убѣжденно говоритъ Юра.
А мы вотъ не вѣшаемся. Вспоминаю свои ночлеги на крышѣ вагона, на Лаптарскомъ перевалѣ и даже въ Туркестанской "красной Чай-Ханэ"... Ничего – живъ...
БАНЯ И БУШЛАТЪ
Около часу ночи насъ разбудили крики:
— А ну, вставай въ баню!..
Въ баракѣ стояло человѣкъ тридцать вохровцевъ: никакъ не отвертѣться... Спать хотѣлось смертельно. Только что какъ-то обогрѣлись, плотно прижавшись другъ къ другу и накрывшись всѣмъ, чѣмъ можно. Только что начали дремать — и вотъ... Точно не могли другого времени найти для бани.
Мы топаемъ куда-то версты за три, къ какому-то полустанку, около котораго имѣется баня. Въ лагерѣ съ баней строго. Лагерь боится эпидемій, и "санитарная обработка" лагерниковъ производится съ безпощадной неуклонностью. Принципіально бани устроены неплохо: вы входите, раздѣваетесь, сдаете платье на храненіе, а бѣлье — на обмѣнъ на чистое. Послѣ мытья выходите въ другое помѣщеніе, получаете платье и чистое бѣлье. Платье, кромѣ того, пропускается и черезъ дезинфекціонную камеру. Бани фактически поддерживаютъ нѣкоторую физическую чистоту. Мыло, во всякомъ случаѣ, даютъ, а на коломенскомъ заводѣ даже повара мѣсяцами обходились безъ мыла: не было...
Но скученность и тряпье дѣлаютъ борьбу "со вшой" дѣломъ безнадежнымъ... Она плодится и множится, обгоняя всякія плановыя цифры.
Мы ждемъ около часу въ очереди, на дворѣ, разумѣется. Потомъ, въ предбанникѣ двое юнцовъ съ тупыми машинками лишаютъ насъ всякихъ волосяныхъ покрововъ, въ томъ числѣ и тѣхъ, съ которыми обычные "мірскіе" парикмахеры дѣла никакого не имѣютъ. Потомъ, послѣ проблематическаго мытья — не хватило горячей воды — насъ выпихиваютъ въ какую-то примостившуюся около бани палатку, гдѣ такъ же холодно, какъ и на дворѣ...
Бѣлье мы получаемъ только черезъ полчаса, а платье изъ дезинфекціи — черезъ часъ. Мы мерзнемъ такъ, какъ и въ теплушкѣ не мерзли... Мой сосѣдъ по нарамъ поплатился воспаленіемъ легкихъ. Мы втроемъ цѣлый часъ усиленно занимались боксерской тренировкой — то, что называется "бой съ тѣнью", и выскочили благополучно.
Послѣ бани, дрожа отъ холода и не попадая зубомъ на зубъ, мы направляемся въ лагерную каптерку, гдѣ намъ будутъ выдавать лагерное обмундированіе. ББК — лагерь привиллегированный. Его подпорожское отдѣленіе объявлено сверхударной стройкой — постройка гидростанціи на рѣкѣ Свири. Слѣдовательно, на какое-то обмундированіе, дѣйствительно, расчитывать можно.
Снова очередь у какого-то огромнаго сарая, изнутри освѣщеннаго электричествомъ. У дверей — "попка" съ винтовкой. Мы отбиваемся отъ толпы, подходимъ къ попкѣ, и я говорю авторитетнымъ тономъ:
— Товарищъ — вотъ этихъ двухъ пропустите...
И самъ ухожу.
Попка пропускаетъ Юру и Бориса.
Черезъ пять минутъ я снова подхожу къ дверямъ:
— Вызовите мнѣ Синельникова...
Попка чувствуетъ: начальство.
— Я, товарищъ, не могу... Мнѣ здѣсь приказано стоять, зайдите сами...
И я захожу. Въ сараѣ все-таки теплѣе, чѣмъ на дворѣ...
Сарай набитъ плотной толпой. Гдѣ-то въ глубинѣ его — прилавокъ, надъ прилавкомъ мелькаютъ какія-то одѣянія и слышенъ неистовый гвалтъ. По закону каждый новый лагерникъ долженъ получить новое казенное обмундированіе, все съ ногъ до головы. Но обмундированія вообще на хватаетъ, а новаго — тѣмъ болѣе. Въ исключительныхъ случаяхъ выдается "первый срокъ", т.е. совсѣмъ новыя вещи, чаще — "второй срокъ" старое, но не рваное. И въ большинствѣ случаевъ — "третій срокъ": старое и рваное. Приблизительно половина новыхъ лагерниковъ не получаетъ вовсе ничего — работаетъ въ своемъ собственномъ...
За прилавкомъ мечутся человѣкъ пять какихъ-то каптеровъ, за отдѣльнымъ столикомъ сидитъ нѣкто вродѣ завѣдующаго. Онъ-то и устанавливаетъ, что кому дать и какого срока. Получатели торгуются и съ нимъ, и съ каптерами, демонстрируютъ "собственную" рвань, умоляютъ дать что-нибудь поцѣлѣе и потеплѣе. Глазъ завсклада пронзителенъ и неумолимъ, и приговоры его, повидимому, обжалованію не подлежатъ.
— Ну, тебя по рожѣ видно, что промотчикъ[3], — говоритъ онъ какому-то уркѣ. — Катись катышкомъ.
— Товарищъ начальникъ!.. Ей-Богу...
— Катись, катись, говорятъ тебѣ. Слѣдующій.
"Слѣдующій" нажимаетъ на урку плечомъ. Урка кроетъ матомъ. Но онъ уже отжатъ отъ прилавка, и ему только и остается, что на почтительной дистанціи потрясать кулаками и позорить завскладовскихъ родителей. Передъ завскладомъ стоитъ огромный и совершенно оборванный мужикъ.
— Ну, тебя, сразу видно, мать безъ рубашки родила. Такъ съ тѣхъ поръ безъ рубашки и ходишь? Совсѣмъ голый... Когда это васъ, сукиныхъ дѣтей, научатъ — какъ берутъ въ ГПУ, такъ сразу бери изъ дому все, что есть.
— Гражданинъ начальникъ, — взываетъ крестьянинъ, — и дома, почитай, голые ходимъ. Дѣтишкамъ, стыдно сказать, срамоту прикрыть нечѣмъ...
— Ничего, не плачь, и дѣтишекъ скоро сюда заберутъ.
Крестьянинъ получаетъ второго и третьяго срока бушлатъ, штаны, валенки, шапку и рукавицы. Дома, дѣйствительно, онъ такъ одѣтъ не былъ. У стола появляется еще одинъ урка.
— А, мое вамъ почтеніе, — иронически привѣтствуетъ его завъ.
— Здравствуйте вамъ, — съ неубѣдительной развязностью отвѣчаетъ урка.
— Не дали погулять?
— Что, развѣ помните меня? — съ заискивающей удивленностью спрашиваетъ урка. — Глазъ у васъ, можно сказать...
— Да, такой глазъ, что ничего ты не получишь. А ну, проваливай дальше...
— Товарищъ завѣдующій, — вопитъ урка въ страхѣ, — такъ посмотрите же — я совсѣмъ голый... Да поглядите...
Театральнымъ жестомъ — если только бываютъ такіе театральные жесты — урка подымаетъ подолъ своего френча и изъ подъ подола глядитъ на зава голое и грязное пузо.
— Товарищъ завѣдующій, — продолжаетъ вопить урка, — я же такъ безъ одежи совсѣмъ къ чертямъ подохну.
— Ну, и дохни ко всѣмъ чертямъ.
Урку съ его голымъ пузомъ оттираютъ отъ прилавка. Подходитъ группа рабочихъ. Всѣ они въ сильно поношенныхъ городскихъ пальто, никакъ не приноровленныхъ ни къ здѣшнимъ мѣстамъ, ни къ здѣшней работѣ. Они получаютъ — кто валенки, кто тѣлогрѣйку (ватный пиджачокъ), кто рваный бушлатъ. Наконецъ, передъ завскладомъ выстраиваемся всѣ мы трое. Завъ скорбно оглядываетъ и насъ, и наши очки.
— Вамъ лучше бы подождать. На ваши фигурки трудно подобрать.
Въ глазахъ зава я вижу какой-то сочувственный совѣтъ и соглашаюсь. Юра — онъ еле на ногахъ стоитъ отъ усталости — предлагаетъ заву другой варіантъ:
— Вы бы насъ къ какой-нибудь работѣ пристроили. И вамъ лучше, и намъ не такъ тошно.
— Это — идея...
Черезъ нѣсколько минутъ мы уже сидимъ за прилавкомъ и приставлены къ какимъ-то вѣдомостямъ: бушлатъ Пер. — 1, штаны III ср. — 1 и т.д.
Наше участіе ускорило операцію выдачи почти вдвое. Часа черезъ полтора эта операція была закончена, и завъ подошелъ къ намъ. Отъ его давешняго балагурства не осталось и слѣда. Передо мной былъ безконечно, смертельно усталый человѣкъ. На мой вопросительный взглядъ онъ отвѣтилъ:
— Вотъ ужъ третьи сутки на ногахъ. Все одѣваемъ. Завтра кончимъ — все равно ничего уже не осталось. Да, — спохватился онъ, — васъ вѣдь надо одѣть. Сейчасъ вамъ подберутъ. Вчера прибыли?
— Да, вчера.
— И на долго?
— Говорятъ, лѣтъ на восемь.
— И статьи, вѣроятно, звѣрскія?
— Да, статьи подходящія.
— Ну, ничего, не унывайте. Знаете, какъ говорятъ нѣмцы: Mut verloren — alles verloren. Устроитесь. Тутъ, если интеллигентный человѣкъ и не совсѣмъ шляпа — не пропадетъ. Но, конечно, веселаго мало.
— А много веселаго на волѣ?
— Да, и на волѣ — тоже. Но тамъ — семья. Какъ она живетъ — Богъ ее знаетъ... А я здѣсь уже пятый годъ... Да.
— На міру и смерть красна, — кисло утѣшаю я.
— Очень ужъ много этихъ смертей... Вы, видно, родственники.
Я объясняю.
— Вотъ это удачно. Вдвоемъ — на много легче. А ужъ втроемъ... А на волѣ у васъ тоже семья?
— Никого нѣтъ.
— Ну, тогда вамъ пустяки. Самое горькое — это судьба семьи.
Намъ приносятъ по бушлату, парѣ штановъ и прочее — полный комплектъ перваго срока. Только валенокъ на мою ногу найти не могутъ.
— Зайдите завтра вечеромъ съ задняго хода. Подыщемъ.
Прощаясь, мы благодаримъ зава.
— И совершенно не за что, — отвѣчаетъ онъ. — Черезъ мѣсяцъ вы будете дѣлать то же самое. Это, батенька, называется классовая солидарность интеллигенціи. Чему-чему, а ужъ этому большевики насъ научили.
— Простите, можно узнать вашу фамилію?
Завъ называетъ ее. Въ литературномъ мірѣ Москвы это весьма небезызвѣстная фамилія.
— И вашу фамилію я знаю, — говоритъ завъ. Мы смотримъ другъ на друга съ ироническимъ сочувствіемъ...
— Вотъ еще что: васъ завтра попытаются погнать въ лѣсъ, дрова рубить. Такъ вы не ходите.
— А какъ не пойти? Погонятъ.
— Плюньте и не ходите.
— Какъ тутъ плюнешь?
— Ну, вамъ тамъ будетъ виднѣе. Какъ-то нужно изловчиться. На лѣсныхъ работахъ можно застрять надолго. А если отвертитесь — черезъ день-два будете устроены на какой-то приличной работѣ. Конечно, если считать этотъ кабакъ приличной работой.
— А подъ арестъ не посадятъ?
— Кто васъ будетъ сажать? Такой же дядя въ очкахъ, какъ и вы? Очень мало вѣроятно. Старайтесь только не попадаться на глаза всякой такой полупочтенной и полупартійной публикѣ. Если у васъ развито совѣтское зрѣніе — вы разглядите сразу...
Совѣтское зрѣніе было у меня развито до изощренности. Это — тотъ сортъ зрѣнія, который, въ частности, позволяетъ вамъ отличить безпартійную публику отъ партійной или "полупартійной". Кто его знаетъ, какія внѣшнія отличія существуютъ у этихъ, столь неравныхъ и количественно, и юридически категорій. Можетъ быть, тутъ играетъ роль то обстоятельство, что коммунисты и иже съ ними — единственная соціальная прослойка, которая чувствуетъ себя въ Россіи, какъ у себя дома. Можетъ быть, та подозрительная, вѣчно настороженная напряженность человѣка, у котораго дѣла въ этомъ домѣ обстоятъ какъ-то очень неважно, и подозрительный нюхъ подсказываетъ въ каждомъ углу притаившагося врага... Трудно это объяснить, но это чувствуется...
На прощанье завъ даетъ намъ нѣсколько адресовъ: въ такомъ-то баракѣ живетъ группа украинскихъ профессоровъ, которые уже успѣли здѣсь окопаться и обзавестись кое-какими связями. Кромѣ того, въ Подпорожьи, въ штабѣ отдѣленія, имѣются хорошіе люди X, Y, и Z, съ которыми онъ, завъ, постарается завтра о насъ поговорить. Мы сердечно прощаемся съ завомъ и бредемъ къ себѣ въ баракъ, увязая въ снѣгу, путаясь въ обезкураживающемъ однообразіи бараковъ.
Послѣ этого сердечнаго разговора наша берлога кажется особенно гнусной...
ОБСТАНОВКА ВЪ ОБЩЕМЪ И ЦѢЛОМЪ
Изъ разговора въ складѣ мы узнали очень много весьма существенныхъ вещей. Мы находились въ Подпорожскомъ отдѣленіи ББК, но не въ самомъ Подпорожьи, а на лагерномъ пунктѣ "Погра". Сюда предполагалось свезти около 27.000 заключенныхъ. За послѣднія двѣ недѣли сюда прибыло шесть эшелоновъ, слѣдовательно, 10-12.000 народу, слѣдовательно, по всему лагпункту свирѣпствовалъ невѣроятный кабакъ и, слѣдовательно, всѣ лагерныя заведенія испытывали острую нужду во всякаго рода культурныхъ силахъ. Между тѣмъ, по лагернымъ порядкамъ всякая такая культурная сила — совершенно независимо отъ ея квалификаціи — немедленно направлялась на "общія работы", т.е. на лѣсозаготовки. Туда отправлялись, и врачи, и инженеры, и профессора. Интеллигенція всѣхъ этихъ шести эшелоновъ рубила гдѣ-то въ лѣсу дрова.
Самъ по себѣ процессъ этой рубки насъ ни въ какой степени не смущалъ. Даже больше — при нашихъ физическихъ данныхъ, лѣсныя работы для насъ были бы легче и спокойнѣе, чѣмъ трепка нервовъ въ какой-нибудь канцеляріи. Но для насъ дѣло заключалось вовсе не въ легкости или трудности работы. Дѣло заключалось въ томъ, что, попадая на общія работы, мы превращались въ безличныя единицы той "массы", съ которой совѣтская власть и совѣтскій аппаратъ никакъ не церемонится. Находясь въ "массахъ", человѣкъ попадаетъ въ тотъ конвейеръ механической и механизированной, безсмысленной и безпощадной жестокости, который дѣйствуетъ много хуже любого ГПУ. Здѣсь, въ "массѣ", человѣкъ теряетъ всякую возможность распоряжаться своей судьбой, какъ-то лавировать между зубцами этого конвейера. Попавъ на общія работы, мы находились бы подъ вѣчной угрозой переброски куда-нибудь въ совсѣмъ неподходящее для бѣгства мѣсто, разсылки насъ троихъ по разнымъ лагернымъ пунктамъ. Вообще "общія работы" таили много угрожающихъ возможностей. А разъ попавъ на нихъ, можно было бы застрять на мѣсяцы. Отъ общихъ работъ нужно было удирать — даже и путемъ весьма серьезнаго риска.
BOBA ПРИСПОСАБЛИВАЕТСЯ
Мы вернулись "домой" въ половинѣ пятаго утра. Только что успѣли улечься и обогрѣться — насъ подняли крики:
— А ну, вставай...
Было шесть часовъ утра. На дворѣ — еще ночь. Въ щели барака воетъ вѣтеръ. Лампочки еле коптятъ. Въ барачной тьмѣ начинаютъ копошиться невыспавшіеся, промершіе, голодные люди. Дежурные бѣгутъ за завтракомъ — по стакану ячменной каши на человѣка, разумѣется, безъ всякаго признака жира. Каша "сервируется" въ одномъ бачкѣ на 15 человѣкъ. Казенныхъ ложекъ нѣтъ. Надъ каждымъ бачкомъ наклоняется по десятку человѣкъ, поспѣшно запихивающихъ въ ротъ мало съѣдобную замазку и ревниво наблюдающихъ за тѣмъ, чтобы никто не съѣлъ лишней ложки. Порціи раздѣлены на глазъ, по дну бачка. За спинами этого десятка стоятъ остальные участники пиршества, взирающіе на обнажающееся дно бачка еще съ большей ревностью и еще съ большей жадностью. Это — тѣ, у кого своихъ ложекъ нѣтъ. Они ждутъ "смѣны". По бараку мечутся люди, какъ-то не попавшіе ни въ одну "артель". Они взываютъ о справедливости и объ ѣдѣ. Но взывать въ сущности не къ кому. Они остаются голодными.
— Въ лагерѣ такой порядокъ, — говоритъ какой-то рабочій одной изъ такихъ неприкаянныхъ голодныхъ душъ, — такой порядокъ, что не зѣвай. А прозѣвалъ — вотъ и будешь сидѣть не ѣвши: и тебѣ наука, и совѣтской власти больше каши останется.
Наша продовольственная "артель" возглавляется Борисомъ и поэтому организована образцово. Борисъ самъ смотался за кашей, какъ-то ухитрился выторговать нѣсколько больше, чѣмъ полагалось, или во всякомъ случаѣ, чѣмъ получили другіе, изъ щепокъ настругали лопаточекъ, которыя замѣнили недостающія ложки... Впрочемъ, самъ Борисъ этой каши такъ и не ѣлъ: нужно было выкручиваться отъ этихъ самыхъ дровъ. Техникъ Лепешкинъ, котораго мы въ вагонѣ спасли отъ урокъ, былъ назначенъ бригадиромъ одной изъ бригадъ. Первой частью нашего стратегическаго плана было попасть въ его бригаду. Это было совсѣмъ просто. Дальше, Борисъ объяснилъ ему, что идти рубить дрова мы не собираемся ни въ какомъ случаѣ и что дня на три нужно устроить какую-нибудь липу. Помимо всего прочаго, одинъ изъ насъ троихъ все время будетъ дежурить у вещей — кстати, будетъ караулить и вещи его, Лепешкина.
Лепешкинъ былъ человѣкъ опытный. Онъ уже два года просидѣлъ въ ленинградскомъ концлагерѣ, на стройкѣ дома ОГПУ. Онъ внесъ насъ въ списокъ своей бригады, но при перекличкѣ фамилій нашихъ выкликать не будетъ. Намъ оставалось: а) не попасть въ строй при перекличкѣ и отправкѣ бригады и б) урегулировать вопросъ съ дневальнымъ, на обязанности котораго лежала провѣрка всѣхъ оставшихся въ баракѣ съ послѣдующимъ заявленіемъ выше стоящему начальству. Была еще опасность нарваться на начальника колонны, но его я уже видѣлъ, правда, мелькомъ, видъ у него былъ толковый, слѣдовательно, какъ-то съ нимъ можно было сговориться.
Отъ строя мы отдѣлались сравнительно просто: на дворѣ было еще темно, мы, выйдя изъ двери барака, завернули къ уборной, оттуда — дальше, минутъ сорокъ околачивались по лагерю съ чрезвычайно торопливымъ и дѣловымъ видомъ. Когда послѣдніе хвосты колонны исчезли, мы вернулись въ баракъ, усыпили совѣсть дневальнаго хорошими разговорами, торгсиновской папиросой и обѣщаніемъ написать ему заявленіе о пересмотрѣ дѣла. Напились кипятку безъ сахару, но съ хлѣбомъ, и легли спать.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВСТРѢЧА
Проснувшись, мы устроили военный совѣтъ. Было рѣшено: я и Юра идемъ на развѣдку. Борисъ остается на дежурствѣ. Во-первыхъ — Борисъ не хотѣлъ быть мобилизованнымъ въ качествѣ врача, ибо эта работа на много хуже лѣсоразработокъ — преимущественно по ея моральной обстановкѣ, и во-вторыхъ, можно было ожидать всякаго рода уголовныхъ налетовъ. Въ рукопашномъ же смыслѣ Борисъ стоилъ хорошаго десятка урокъ, я и Юра на такое количество претендовать не могли.
И вотъ мы съ Юрой солидно и медлительно шествуемъ по лагерной улицѣ. Не Богъ вѣсть какая свобода, но все-таки можно пойти направо и можно пойти налѣво. Послѣ корридоровъ ГПУ, надзирателей, конвоировъ и прочаго — и это удовольствіе... Вотъ шествуемъ мы такъ — и прямо навстрѣчу намъ чортъ несетъ начальника колонны.
Я вынимаю изъ кармана коробку папиросъ. Юра начинаетъ говоритъ по англійски. Степенно и неторопливо мы шествуемъ мимо начальника колонны и вѣжливо — одначе, такъ сказать, съ чувствомъ собственнаго достоинства, какъ если бы это было на Невскомъ проспектѣ — приподымаемъ свои кепки. Начальникъ колонны смотритъ на насъ удивленно, но корректно беретъ подъ козырекъ. Я увѣренъ, что онъ насъ не остановитъ. Но шагахъ въ десяти за нами скрипъ его валенокъ по снѣгу замолкаетъ. Я чувствую, что начальникъ колонны остановился и недоумѣваетъ, почему мы не на работѣ и стоитъ ли ему насъ остановить и задать намъ сей нескромный вопросъ. Неужели я ошибся? Но, нѣтъ, скрипъ валенокъ возобновляется и затихаетъ вдали. Психологія — великая вещь.
А психологія была такая: начальникъ колонны, конечно, — начальникъ, но, какъ и всякій совѣтскій начальникъ — хлибокъ и неустойчивъ. Ибо и здѣсь, и на волѣ закона въ сущности нѣтъ. Есть административное соизволеніе. Онъ можетъ на законномъ и еще болѣе на незаконномъ основаніи сдѣлать людямъ, стоящимъ на низахъ, цѣлую массу непріятностей. Но такую же массу непріятностей могутъ надѣлать ему люди, стоящіе на верхахъ.
По собачьей своей должности начальникъ колонны непріятности дѣлать обязанъ. Но собачья должность вырабатываетъ — хотя и не всегда — и собачій нюхъ; непріятности, даже самыя законныя можно дѣлать только тѣмъ, отъ кого отвѣтной непріятности произойти не можетъ.
Теперь представьте себѣ возможно конкретнѣе психологію вотъ этого хлибкаго начальника колонны. Идутъ по лагерю двое этакихъ дядей, только что прибывшихъ съ этапомъ. Ясно, что они должны быть на работахъ въ лѣсу, и ясно, что они отъ этихъ работъ удрали. Однако, дяди одѣты хорошо. Одинъ изъ нихъ куритъ папиросу, какія и на волѣ куритъ самая верхушка. Видъ — интеллигентный и, можно сказать, спецовскій. Походка увѣренная, и при встрѣчѣ съ начальствомъ — смущенія никакого. Скорѣе этакая покровительственная вѣжливость. Словомъ, люди, у которыхъ, очевидно, есть какія-то основанія держаться этакъ независимо. Какія именно — чортъ ихъ знаетъ, но, очевидно, есть.
Теперь — дальше. Остановить этихъ дядей и послать ихъ въ лѣсъ, а то и подъ арестъ — рѣшительно ничего не стоитъ. Но какой толкъ? Административнаго капитала на этомъ никакого не заработаешь. А рискъ? Вотъ этотъ дядя съ папиросой во рту черезъ мѣсяцъ, а можетъ быть, и черезъ день будетъ работать инженеромъ, плановикомъ, экономистомъ. И тогда всякая непріятность, хотя бы самая законнѣйшая, воздается начальнику колонны сторицей. Но даже возданная, хотя бы и въ ординарномъ размѣрѣ, она ему ни къ чему не нужна. И какого чорта ему рисковать?
Я этого начальника видалъ и раньше. Лицо у него было толковое. И я былъ увѣренъ, что онъ пройдетъ мимо. Кстати мѣсяцъ спустя я уже дѣйствительно имѣлъ возможность этого начальника вздрючить такъ, что ему небо въ овчинку бы показалось. И на весьма законномъ основаніи. Такъ что онъ умно сдѣлалъ, что прошелъ мимо.
Съ людьми безтолковыми хуже.
ТЕОРІЯ ПОДВОДИТЪ
Въ тотъ же день совѣтская психологическая теорія чуть меня не подвела.
Я шелъ одинъ и услышалъ рѣзкій окликъ:
— Эй, послушайте что вы по лагерю разгуливаете?
Я обернулся и увидѣлъ того самого старичка съ колючими усами, начальника санитарной части лагеря, который вчера встрѣчалъ нашъ эшелонъ. Около него — еще три какихъ-то полуначальственнаго вида дяди. Видно, что старичекъ иззябъ до костей и что печень у него не въ порядкѣ. Я спокойно, неторопливо, но отнюдь не почтительно, а такъ, съ видомъ нѣкотораго незаинтересованнаго любопытства подхожу къ нему. Подхожу и думаю: а что же мнѣ, въ сущности, дѣлать дальше?
Потомъ я узналъ, что это былъ крикливый и милѣйшій старичекъ, докторъ Шуквецъ, отбарабанившій уже четыре года изъ десяти, никого въ лагерѣ не обидѣвшій, но, вѣроятно, отъ плохой печени и еще худшей жизни иногда любивши поорать. Но ничего этого я еще не зналъ. И старичекъ тоже не могъ знать, что я незаконно болтаюсь по лагерю не просто такъ, а съ совершенно конкретными цѣлями побѣга заграницу. И что успѣхъ моихъ мѣропріятій въ значительной степени зависитъ отъ того, въ какой степени на меня можно будетъ или нельзя будетъ орать.
И я рѣшаю идти на арапа.
— Что это вамъ здѣсь курортъ или концлагерь? — продолжаетъ орать старичекъ. — Извольте подчиняться лагерной дисциплинѣ! Что это за безобразіе! Шатаются по лагерю, нарушаютъ карантинъ.
Я смотрю на старичка съ прежнимъ любопытствомъ, внимательно, но отнюдь не испуганно, даже съ нѣкоторой улыбкой. Но на душѣ у меня было далеко не такъ спокойно, какъ на лицѣ. Ужъ отсюда-то, со стороны доктора, такого пассажа я никакъ не ожидалъ. Но что же мнѣ дѣлать теперь? Достаю изъ кармана свою образцово-показательную коробку папиросъ.
— Видите-ли, товарищъ докторъ. Если васъ интересуютъ причины моихъ прогулокъ по лагерю, думаю, — что начальникъ отдѣленія дастъ вамъ исчерпывающую информацію. Я былъ вызванъ къ нему.
Начальникъ отдѣленія — это звучитъ гордо. Провѣрять меня старичекъ, конечно, не можетъ, да и не станетъ. Должно же у него мелькнуть подозрѣніе, что, если меня на другой день послѣ прибытія съ этапа вызываетъ начальникъ отдѣленія, — значитъ, я не совсѣмъ рядовой лагерникъ. А мало ли какія шишки попадаютъ въ лагерь?
— Нарушать карантина никто не имѣетъ права. И начальникъ отдѣленія — тоже, — продолжаетъ орать старичекъ, но все-таки, тономъ пониже. Полуначальственнаго вида дяди, стоящіе за его спиной, улыбаются мнѣ сочувственно.
— Согласитесь сами, товарищъ докторъ: я не имѣю рѣшительно никакой возможности указывать начальнику отдѣленія на то, что онъ имѣетъ право дѣлать и чего не имѣетъ права. И потомъ, вы сами знаете, въ сущности карантина нѣтъ никакого...
— Вотъ потому и нѣтъ, что всякіе милостивые государи, вродѣ васъ, шатаются по лагерю... А потомъ, санчасть отвѣчать должна. Извольте немедленно отправляться въ баракъ.
— А мнѣ приказано вечеромъ быть въ штабѣ. Чье же приказаніе я долженъ нарушить?
Старичекъ явственно смущенъ. Но и отступать ему неохота.
— Видите ли докторъ, — продолжаю я въ конфиденціально-сочувственномъ тонѣ... — Положеніе, конечно, идіотское. Какая тутъ изоляція, когда нѣсколько сотъ дежурныхъ все равно лазятъ по всему лагерю — на кухни, въ хлѣборѣзку, въ коптерку... Неорганизованность. Безсмыслица. Съ этимъ, конечно, придется бороться. Вы курите? Можно вамъ предложить?
— Спасибо, не курю.
Дяди полуначальственнаго вида берутъ по папиросѣ.
— Вы инженеръ?
— Нѣтъ, плановикъ.
— Вотъ тоже всѣ эти плановики и ихъ дурацкіе планы. У меня по плану должно быть двѣнадцать врачей, а нѣтъ ни одного.
— Ну, это, значитъ, ГПУ недопланировало. Въ Москвѣ кое-какіе врачи еще и по улицамъ ходятъ...
— А вы давно изъ Москвы?
Черезъ минутъ десять мы разстаемся со старичкомъ, пожимая другъ другу руки. Я обѣщаю ему въ своихъ "планахъ" предусмотрѣть необходимость жестокаго проведенія карантинныхъ правилъ. Знакомились съ полуначальственными дядями: одинъ — санитарный инспекторъ Погры, и два — какихъ-то инженера. Одинъ изъ нихъ задерживается около меня, прикуривая потухшую папиросу.
— Вывернулись вы ловко... Дѣло только въ томъ, что начальника отдѣленія сейчасъ на Погрѣ нѣтъ.
— Теоретически можно допустить, что я говорилъ съ нимъ по телефону... А впрочемъ, что подѣлаешь. Приходится рисковать...
— А старичка вы не бойтесь. Милѣйшей души старичекъ. Въ преферансъ играете? Заходите въ кабинку, сымпровизируемъ пульку. Кстати, и о Москвѣ подробнѣе разскажете.
ЧТО ЗНАЧИТЪ РАЗГОВОРЪ ВСЕРЬЕЗЪ
Большое двухъэтажное деревянное зданіе. Внутри — закоулки, комнатки, перегородки, фанерныя, досчатыя, гонтовыя. Все заполнено людьми, истощенными недоѣданіемъ, безсонными ночами, непосильной работой, вѣчнымъ дерганіемъ изъ стороны въ сторону "ударниками", "субботниками", "кампаніями"... Холодъ, махорочный дымъ, чадъ и угаръ отъ многочисленныхъ жестяныхъ печурокъ. Двери съ надписями ПЭО, ОАО, УРЧ, КВЧ... Пойди, разберись, что это значитъ: планово-экономическій отдѣлъ, общеадминистративный отдѣлъ, учетно-распредѣлительная часть, культурно-воспитательная часть... Я обхожу эти вывѣски. ПЭО — годится, но тамъ никого изъ главковъ нѣтъ. ОАО — не годится. УРЧ — къ чертямъ. КВЧ — подходяще. Заворачиваю въ КВЧ.
Въ начальникѣ КВЧ узнаю того самаго расторопнаго юношу съ побѣлѣвшими ушами, который распинался на митингѣ во время выгрузки эшелона. При ближайшемъ разсмотрѣніи онъ оказывается не такимъ ужъ юношей. Толковое лицо, смышленные, чуть насмѣшливые глаза.
— Ну, съ этимъ можно говорить всерьезъ, — думаю я.
Терминъ же "разговоръ всерьезъ" нуждается въ очень пространномъ объясненіи, иначе ничего не будетъ понятно.
Дѣло заключается — говоря очень суммарно — въ томъ, что изъ ста процентовъ усилій, затрачиваемыхъ совѣтской интеллигенціей, — девяносто идутъ совершенно впустую. Всякій совѣтскій интеллигентъ обвѣшанъ неисчислимымъ количествомъ всякаго принудительнаго энтузіазма, всякой халтуры, невыполнимыхъ заданій, безчеловѣчныхъ требованій.
Представьте себѣ, что вы врачъ какой-нибудь больницы, не московской "показательной" и прочее, а рядовой, провинціальной. Отъ васъ требуется, чтобы вы хорошо кормили вашихъ больныхъ, чтобы вы хорошо ихъ лѣчили, чтобы вы вели общественно-воспитательную работу среди санитарокъ, сторожей и сестеръ, поднимали трудовую дисциплину; организовывали соціалистическое соревнованіе и ударничество, источали свой энтузіазмъ и учитывали энтузіазмъ, истекающій изъ вашихъ подчиненныхъ, чтобы вы были полностью подкованы по части діалектическаго матеріализма и исторіи партіи, чтобы вы участвовали въ профсоюзной работѣ и стѣнгазетѣ, вели санитарную пропаганду среди окрестнаго населенія и т.д. и т.д.
Ничего этого вы въ сущности сдѣлать не можете. Не можете вы улучшить пищи, ибо ея нѣтъ, а и то, что есть, потихоньку подъѣдается санитарками, которыя получаютъ по 37 рублей въ мѣсяцъ и, не воруя, жить не могутъ. Вы не можете лѣчить, какъ слѣдуетъ, ибо медикаментовъ у васъ нѣтъ: вмѣсто іода идутъ препараты брома, вмѣсто хлороформа — хлоръ-этилъ (даже для крупныхъ операцій), вмѣсто каломели — глауберовая соль. Нѣтъ перевязочныхъ матеріаловъ, нѣтъ инструментарія. Но сказать оффиціально: что всего этого у васъ нѣтъ — вы не имѣете права, это называется "дискредитаціей власти". Вы не можете организовать соціалистическаго соревнованія не только потому, что оно — вообще вздоръ, но и потому, что, если бы за него взялись мало-мальски всерьезъ, — у васъ ни для чего другого времени не хватило бы. По этой же послѣдней причинѣ вы не можете ни учитывать чужого энтузіазма, ни "прорабатывать рѣшенія тысячу перваго съѣзда МОПР-а"...
Но вся эта чушь требуется не то, чтобы совсѣмъ всерьезъ, но чрезвычайно настойчиво. Совсѣмъ не нужно, чтобы вы всерьезъ проводили какое-то тамъ соціалистическое соревнованіе — приблизительно всякій дуракъ понимаетъ, что это ни къ чему. Однако, необходимо, чтобы вы дѣлали видъ, что это соревнованіе проводится на всѣ сто процентовъ. Это понимаетъ приблизительно всякій дуракъ, но этого не понимаетъ такъ называемый совѣтскій активъ, который на всѣхъ этихъ мопрахъ, энтузіазмахъ и ударничествахъ воспитанъ, ничего больше не знаетъ и прицѣпиться ему въ жизни больше не за что.
Теперь представьте себѣ, что откуда-то вамъ на голову сваливается сотрудникъ, который всю эту чепуховину принимаетъ всерьезъ. Ему покажется недостаточнымъ, что договоръ о соцсоревнованіи мирно виситъ на стѣнкахъ и колупаевской, и разуваевской больницы. Онъ потребуетъ "черезъ общественность" или — еще хуже — черезъ партійную ячейку, чтобы вы реально провѣряли пункты этого договора. По совѣтскимъ "директивамъ" вы это обязаны дѣлать. Но въ этомъ договорѣ, напримѣръ, написано: обѣ соревнующіяся стороны обязуются довести до минимума количество паразитовъ. А ну-ка, попробуйте провѣрить, въ какой больницѣ вшей больше и въ какой меньше. А такихъ пунктовъ шестьдесятъ... Этотъ же безпокойный дядя возьметъ и ляпнетъ въ комячейкѣ: надо заставить нашего врача сдѣлать докладъ о діалектическомъ матеріализмѣ при желудочныхъ заболѣваніяхъ... Попробуйте, сдѣлайте!.. Безпокойный дядя замѣтитъ, что какая-то изсохшая отъ голода санитарка гдѣ-нибудь въ уголкѣ потихоньку вылизываетъ больничную кашу: и вотъ замѣтка въ какой-нибудь районной газетѣ: "Хищенія народной каши въ колупаевской больницѣ". А то и просто доносъ куда слѣдуетъ. И влетитъ вамъ по первое число, и отправятъ вашу санитарку въ концлагерь, а другую вы найдете очень не сразу... Или подыметъ безпокойный дядя скандалъ — почему у васъ санитарки съ грязными физіономіями ходятъ: антисанитарія. И не можете вы ему отвѣтить: сукинъ ты сынъ, ты же и самъ хорошо знаешь, что въ концѣ второй пятилѣтки — и то на душу населенія придется лишь по полкуска мыла въ годъ, откуда же я-то его возьму? Ну, и такъ далѣе. И вамъ никакого житья и никакой возможности работать, и персоналъ вашъ разбѣжится, и больные ваши будутъ дохнуть — и попадете вы въ концлагерь "за развалъ колупаевской больницы".
Поэтому-то при всякихъ дѣловыхъ разговорахъ установился между толковыми совѣтскими людьми принципъ этакаго хорошаго тона, заранѣе отметающаго какую бы то ни было серьезность какого бы то ни было энтузіазма и устанавливающаго такую приблизительно формулировку: лишь бы люди по мѣрѣ возможности не дохли, а тамъ чортъ съ нимъ со всѣмъ — и съ энтузіазмами, и со строительствами, и съ пятилѣтками.
Съ коммунистической точки зрѣнія — это вредительскій принципъ. Люди, которые сидятъ за вредительство, сидятъ по преимуществу за проведеніе въ жизнь именно этого принципа.
Бываетъ и сложнѣе. Этотъ же энтузіазмъ, принимающій формы такъ называемыхъ "соціалистическихъ формъ организаціи труда" рѣжетъ подъ корень самую возможность труда. Вотъ вамъ, хотя и мелкій, но вполнѣ, такъ сказать, историческій примѣръ:
1929-й годъ. Совѣтскіе спортивные кружки дышутъ на ладанъ. Ѣсть нечего, и людямъ не до спорта. Мы, группа людей, возглавлявшихъ этотъ спортъ, прилагаемъ огромныя усилія, чтобы хоть какъ-нибудь задержать процессъ этого развала, чтобы дать молодежи, если не тренировку всерьезъ, то хотя бы какую-нибудь возню на чистомъ воздухѣ, чтобы какъ-нибудь, хотя бы въ самой грошовой степени, задержать процессъ физическаго вырожденія... Въ странѣ одновременно съ ростомъ голода идетъ процессъ всяческаго полѣвѣнія. На этомъ процессѣ дѣлается много карьеръ...
Область физической культуры — не особо ударная область, и насъ пока не трогаютъ. Но вотъ группа какихъ-то активистовъ вылѣзаетъ на поверхность: позвольте, какъ это такъ? А почему физкультура у насъ остается аполитичной? Почему тамъ не ведется пропаганда за пятилѣтку, за коммунизмъ, за міровую революцію? И вотъ — проектъ: во всѣхъ занятіяхъ и тренировкахъ ввести обязательную десятиминутную бесѣду инструктора на политическія темы.
Всѣ эти "политическія темы" надоѣли публикѣ хуже всякой горчайшей рѣдьки — и такъ ими пичкаютъ и въ школѣ, и въ печати, и гдѣ угодно. Ввести эти бесѣды въ кружкахъ (вполнѣ добровольныхъ кружкахъ) значитъ — ликвидировать ихъ окончательно: никто не пойдетъ.
Словомъ, вопросъ объ этихъ десятиминуткахъ ставится на засѣданіи президіума ВЦСПС. "Активистъ" докладываетъ. Публика въ президіумѣ ВЦСПС — не глупая публика. Передъ засѣданіемъ я сказалъ Догадову (секретарь ВЦСПС);
— Вѣдь этотъ проектъ насъ безъ ножа зарѣжетъ.
— Замѣчательно идіотскій проектъ. Но...
Активистъ докладываетъ — публика молчитъ... Только Углановъ, тогда народный комиссаръ труда, какъ-то удивленно повелъ плечами:
— Да зачѣмъ же это?.. Рабочій приходитъ на водную станцію, скажемъ — онъ хочетъ плавать, купаться, на солнышкѣ полежать, отдохнуть, энергіи набраться... А вы ему и тутъ политбесѣду. По моему — не нужно это.
Такъ вотъ, годъ спустя это выступленіе припомнили даже Угланову... А всѣ остальные — въ томъ числѣ и Догадовъ — промолчали, помычали, и проектъ былъ принятъ. Сотни инструкторовъ за "саботажъ политической работы въ физкультурѣ" поѣхали въ Сибирь. Работа кружковъ была развалена.
Активисту на эту работу плевать: онъ дѣлаетъ карьеру и, на этомъ поприщѣ онъ ухватилъ этакое "ведущее звено", которое спортъ-то провалитъ, но его ужъ навѣрняка вытащитъ на поверхность. Что ему до спорта? Сегодня онъ провалить спортъ и подымется на одну ступеньку партійной лѣсенки. Завтра онъ разоритъ какой-нибудь колхозъ — подымется еще на одну... Но мнѣ-то не наплевать. Я-то въ области спорта работаю двадцать пять лѣтъ...
Правда, я кое какъ выкрутился. Я двое сутокъ подрядъ просидѣлъ надъ этой "директивой" и послалъ ее по всѣмъ подчиненнымъ мнѣ кружкамъ — по линіи союза служащихъ. Здѣсь было все — и энтузіазмъ, и классовая бдительность, и программы этакихъ десятиминутокъ. А программы были такія:
Эллинскія олимпіады, физкультура въ рабовладѣльческихъ формированіяхъ, средневѣковые турниры и военная подготовка феодальнаго класса. Англосаксонская система спорта — игры, легкая атлетика, — какъ система эпохи загнивающаго имперіализма... Ну, и такъ далѣе. Комаръ носу не подточить. Отъ имперіализма въ этихъ бесѣдахъ практически ничего не осталось, но о легкой атлетикѣ можно поговорить... Впрочемъ, черезъ полгода эти десятиминутки были автоматически ликвидированы: ихъ не передъ кѣмъ было читать...
Всероссійская халтура, около которой кормится и дѣлаетъ каррьеру очень много всяческаго и просто темнаго, и просто безмозглаго элемента, время отъ времени выдвигаетъ вотъ этакіе "новые организаціонные методы"... Попробуйте вы съ ними бороться или ихъ игнорировать. Группа инженера Палчинскаго была разстрѣляна, и въ оффиціальномъ обвиненіи стоялъ пунктъ о томъ, что Палчинскій боролся противъ "сквозной ѣзды". Вѣрно, онъ боролся, и онъ былъ разстрѣлянъ. Пять лѣтъ спустя эта ѣзда привела къ почти полному параличу тяговаго состава и была объявлена "обезличкой". Около трехъ сотенъ профессоровъ, которые протестовали противъ сокращеній сроковъ и программъ вузовъ, поѣхали на Соловки. Три года спустя эти программы и сроки пришлось удлинять до прежняго размѣра, а инженеровъ возвращать для дообученія. Ввели "непрерывку", которая была ужъ совершенно очевиднымъ идіотизмомъ и изъ-за которой тоже много народу поѣхало и на тотъ свѣтъ, и на Соловки. Если бы я въ свое время открыто выступилъ противъ этой самой десятиминутки, — я поѣхалъ бы въ концлагерь на пять лѣтъ раньше срока, уготованнаго мнѣ для это цѣли судьбой...
Соцсоревнованіе и ударничество, строительный энтузіазмъ и выдвиженчество, соціалистическое совмѣстительство и профсоюзный контроль, "легкая кавалерія" и чистка учрежденій — все это завѣдомо идіотскіе способы "соціалистической организаціи", которые обходятся въ милліарды рублей и въ милліоны жизней, которые неукоснительно рано или поздно кончаются крахомъ, но противъ которыхъ вы ничего не можете подѣлать. Совѣтская Россія живетъ въ правовыхъ условіяхъ абсолютизма, который хочетъ казаться просвѣщеннымъ, но который все же стоитъ на уровнѣ восточной деспотіи съ ея янычарами, райей и пашами.
Мнѣ могутъ возразить, что все это — слишкомъ глупо для того, чтобы быть правдоподобнымъ. Скажите, а развѣ не глупо и развѣ правдоподобно то, что сто шестьдесятъ милліоновъ людей, живущихъ на землѣ хорошей и просторной, семнадцать лѣтъ подрядъ мрутъ съ голоду? Развѣ не глупо то, что сотни милліоновъ рублей будутъ ухлопаны на "Дворецъ Совѣтовъ", на эту вавилонскую башню міровой революціи — когда въ Москвѣ три семьи живутъ въ одной комнатѣ? Развѣ не глупо то, что днемъ и ночью, лѣтомъ и зимой съ огромными жертвами гнали стройку днѣпровской плотины, а теперь она загружена только на 12 процентовъ своей мощности? Развѣ не глупо разорить кубанскій черноземъ и строить оранжереи у Мурманска? Развѣ не глупо уморить отъ безкормицы лошадей, коровъ и свиней, ухлопать десятки милліоновъ на кролика, сорваться на этомъ несчастномъ звѣрькѣ и заняться, въ концѣ концовъ, одомашненіемъ карельскаго лося и камчатскаго медвѣдя? Развѣ не глупо бросить въ тундру на стройку Бѣломорско-Балтійскаго канала 60.000 узбековъ и киргизовъ, которые тамъ въ полгода вымерли всѣ?
Все это вопіюще глупо. Но эта глупость вооружена до зубовъ. За ея спиной — пулеметы ГПУ. Ничего не пропишешь.
РОССІЙСКАЯ КЛЯЧА
Но я хочу подчеркнуть одну вещь, къ которой въ этихъ же очеркахъ — очеркахъ о лагерной жизни, почти не буду имѣть возможности вернуться. Вся эта халтура никакъ не значитъ, что этотъ злополучный совѣтскій врачъ не лѣчитъ. Онъ лѣчитъ и онъ лѣчитъ хорошо, конечно, въ мѣру своихъ матеріальныхъ возможностей. Поскольку я могу судить, онъ лѣчитъ лучше европейскаго врача или, во всякомъ случаѣ, добросовѣстнѣе его. Но это вовсе не оттого, что онъ совѣтскій врачъ. Такъ же, какъ Молоковъ — хорошій летчикъ вовсе не оттого, что онъ совѣтскій летчикъ.
Тотъ же самый Ильинъ, о которомъ я сейчасъ буду разсказывать, при всей своей халтурѣ и прочемъ, организовалъ все-таки какіе-то курсы десятниковъ, трактористовъ и прочее. Я самъ, при всѣхъ прочихъ своихъ достоинствахъ и недостаткахъ, вытянулъ все-таки милліоновъ пятнадцать профсоюзныхъ денежекъ, предназначенныхъ на всякаго рода діалектическое околпачиваніе профсоюзныхъ массъ, и построилъ на эти деньги около полусотни спортивныхъ площадокъ, спортивныхъ парковъ, водныхъ станцій и прочаго. Все это построено довольно паршиво, но все это все же лучше, чѣмъ діаматъ.
Такъ что великая всероссійская халтура вовсе не не значитъ, что я, врачъ, инженеръ и прочее, — что мы только халтуримъ. Помню, Горькій въ своихъ воспоминаніяхъ о Ленинѣ приводитъ свои собственныя слова о томъ, что русская интеллигенція остается и еще долгое время будетъ оставаться единственной клячей, влекущей телѣгу россійской культуры. Сейчасъ Горькій сидитъ на правительственномъ облучкѣ и вкупѣ съ остальными, возсѣдающими на ономъ, хлещетъ эту клячу и въ хвостъ и въ гриву. Кляча по уши вязнетъ въ халтурномъ болотѣ и все-таки тащитъ. Больше тянуть, собственно, некому... Такъ можете себѣ представить ея отношеніе къ людямъ, подкидывающимъ на эту и такъ непроѣзжую колею еще лишніе халтурные комья.
Въ концентраціонномъ лагерѣ основными видами халтуры являются "энтузіазмъ" и "перековка". Энтузіазмъ въ лагерѣ приблизительно такой же и такого же происхожденія, какъ и на волѣ, а "перековки" нѣтъ ни на полъ-копѣйки. Развѣ что лагерь превращаетъ случайнаго воришку въ окончательнаго бандита, обалдѣлаго отъ коллективизаціи мужика — въ закаленнаго и, ежели говорить откровенно, остервенѣлаго контръ-революціонера. Такого, что когда онъ дорвется до коммунистическаго горла — онъ сіе удовольствіе постарается продлить.
Но горе будетъ вамъ, если вы гдѣ-нибудь, такъ сказать, оффиціально позволите себѣ усумниться въ энтузіазмѣ и въ перековкѣ. Приблизительно такъ же неуютно будетъ вамъ, если рядомъ съ вами будетъ работать человѣкъ, который не то принимаетъ всерьезъ эти лозунги, не то хочетъ сколотить на нихъ нѣкій совѣтскій капиталецъ.
РАЗГОВОРЪ ВСЕРЬЕЗЪ
Такъ вотъ, вы приходите къ человѣку по дѣлу. Если онъ безпартійный и толковый, — вы съ нимъ сговоритесь сразу. Если безпартійный и безтолковый — лучше обойдите сторонкой, подведетъ. Если партійный и безтолковый — упаси васъ Господи — попадете въ концлагерь или, если вы уже въ концлагерѣ, — попадете на Лѣсную Рѣчку.
Съ такими приблизительно соображеніями я вхожу въ помѣщеніе КВЧ. Полдюжины какихъ-то оборванныхъ личностей малюютъ какіе-то "лозунги", другая полдюжина что-то пишетъ, третья — просто суетится. Словомъ, "кипитъ веселая соціалистическая стройка". Вижу того юнца, который произносилъ привѣтственную рѣчь передъ нашимъ эшелономъ на подъѣздныхъ путяхъ къ Свирьстрою. При ближайшемъ разсмотрѣніи онъ оказывается не такимъ ужъ юнцомъ. А глаза у него толковые.
— Скажите, пожалуйста, гдѣ могу я видѣть начальника КВЧ, тов. Ильина?
— Это я.
Я этакъ мелькомъ оглядываю эту веселую стройку и моего собесѣдника. И стараюсь выразить взоромъ своимъ приблизительно такую мысль:
— Подхалтуриваете?
Начальникъ КВЧ отвѣчаетъ мнѣ взглядомъ, который оріентировочно можно было бы перевести такъ:
— Еще бы! Видите, какъ насобачились...
Послѣ этого между нами устанавчивается, такъ сказать, полная гармонія.
— Пойдемте ко мнѣ въ кабинетъ...
Я иду за нимъ. Кабинетъ — это убогая закута съ однимъ досчатымъ столомъ и двумя стульями, изъ коихъ одинъ — на трехъ ногахъ.
— Садитесь. Вы, я вижу, удрали съ работы?
— А я и вообще не ходилъ.
— Угу... Вчера тамъ, въ колоннѣ — это вашъ братъ, что-ли?
— И братъ, и сынъ... Такъ сказать, восторгались вашимъ краснорѣчіемъ...
— Ну, бросьте. Я все-таки старался въ скорострѣльномъ порядкѣ.
— Скорострѣльномъ? Двадцать минутъ людей на морозѣ мозолили.
— Меньше нельзя. Себѣ дороже обойдется. Регламентъ.
— Ну, если регламентъ — такъ можно и ушами пожертвовать. Какъ они у васъ?
— Чортъ его знаетъ — седьмая шкура слѣзаетъ. Ну, я вижу, во-первыхъ, что вы хотите работать въ КВЧ, во-вторыхъ, что статьи у васъ для этого предпріятія совсѣмъ неподходящія и что, въ третьихъ, мы съ вами какъ-то сойдемся.
И Ильинъ смотритъ на меня торжествующе.
— Я не вижу, на чемъ, собственно, обосновано второе утвержденіе.
— Ну, плюньте. Глазъ у меня наметанный. За что вы можете сидѣть: превышеніе власти, вредительство, воровство, контръ-революція. Если бы превышеніе власти, — вы пошли бы въ административный отдѣлъ. Вредительство — въ производственный. Воровство всегда дѣйствуетъ по хозяйственной части. Но куда же приткнуться истинному контръ-революціонеру, какъ не въ культурно-воспитательную часть? Логично?
— Дальше некуда.
— Да. Но дѣло-то въ томъ, что контръ-революціи мы вообще, такъ сказать, по закону принимать права не имѣемъ. А вы въ широкихъ областяхъ контръ-революціи занимаете, я подозрѣваю, какую-то особо непохвальную позицію...
— А это изъ чего слѣдуетъ?
— Такъ... Непохоже, чтобы вы за ерунду сидѣли. Вы меня извините, но физіономія у васъ съ совѣтской точки зрѣнія — весьма неблагонадежная. Вы въ первый разъ сидите?
— Приблизительно, въ первый.
— Удивительно.
— Ну что-жъ, давайте играть въ Шерлока Хольмса и доктора Ватсона. Такъ, что же вы нашли въ моей физіономіи?
Ильинъ уставился въ меня и неопредѣленно пошевелилъ пальцами.
— Ну, какъ бы это вамъ сказать... Продерзостность. Нахальство смѣть свое сужденіе имѣть. Этакое ли, знаете, амбрэ "критически мыслящей личности" — а не любятъ у насъ этого..
— Не любятъ, — согласился я.
— Ну, не въ томъ дѣло. Если вы при всемъ этомъ столько лѣтъ на волѣ проканителились — я лѣтъ на пять раньше васъ угодилъ — значитъ, и въ лагерѣ какъ-то съоріентируетесь. А кромѣ того, что вы можете предложить мнѣ конкретно?
Я конкретно предлагаю.
— Ну, вы, я вижу, не человѣкъ, а универсальный магазинъ. Считайте себя за КВЧ. Статей своихъ особенно не рекламируйте. Да, а какія же у васъ статьи?
Я рапортую.
— Ого! Ну, значитъ, вы о нихъ помалкивайте. Пока хватятся — вы уже обживетесь и васъ не тронутъ. Ну, приходите завтра. Мнѣ сейчасъ нужно бѣжать еще одинъ эшелонъ встрѣчать.
— Дайте мнѣ какую-нибудь записочку, чтобы меня въ лѣсъ не тянули.
— А вы просто плюньте. Или сами напишите.
— Какъ это — самъ?
— Очень просто: такой-то требуется на работу въ КВЧ. Печать? Подпись? Печати у васъ нѣтъ. У меня — тоже. А подпись — ваша или моя — кто разберетъ.
— Гмъ, — сказалъ я.
— Скажите, неужели же вы на волѣ все время жили, ѣздили и ѣли только по настоящимъ документамъ?
— А вы развѣ такихъ людей видали?
— Ну, вотъ. Пріучайтесь къ тяжелой мысли о томъ, что по соотвѣтствующимъ документамъ вы будете жить, ѣздить и ѣсть и въ лагерѣ. Кстати, напишите ужъ записку на всѣхъ васъ троихъ — завтра здѣсь разберемся. Ну — пока. О документахъ прочтите у Эренбурга. Тамъ все написано.
— Читалъ. Такъ до завтра.
Пророчество Ильина не сбылось. Въ лагерѣ я жилъ, ѣздилъ и ѣлъ исключительно по настоящимъ документамъ — невѣроятно, но фактъ. Въ КВЧ я не попалъ. Ильина я больше такъ и не видѣлъ.
СКАЧКА СЪ ПРЕПЯТСТВІЯМИ
Событія этого дня потекли стремительно и несообразно. Выйдя отъ Ильина, на лагерной улицѣ я увидалъ Юру подъ конвоемъ какого-то вохровца. Но моя тревога оказалась сильно преувеличенной: Юру тащили въ третій отдѣлъ — лагерное ГПУ — въ качествѣ машиниста — не паровознаго, а на пишущей машинкѣ. Онъ съ этими своими талантами заявился въ плановую часть, и какой-то мимохожій чинъ изъ третьяго отдѣла забралъ его себѣ. Сожалѣнія были бы безплодны, да и безцѣльны. Пребываніе Юры въ третьемъ отдѣлѣ дало бы намъ расположеніе вохровскихъ секретовъ вокругъ лагеря, знаніе системы ловли бѣглецовъ, карту и другія весьма существенныя предпосылки для бѣгства.
Я вернулся въ баракъ и смѣнилъ Бориса. Борисъ исчезъ на развѣдку къ украинскимъ профессорамъ — такъ, на всякій случай, ибо я полагалъ, что мы всѣ устроимся у Ильина.
Въ баракѣ было холодно, темно и противно. Шатались какіе-то урки и умильно поглядывали на наши рюкзаки. Но я сидѣлъ на нарахъ въ этакой богатырской позѣ, а рядомъ со мною лежало здоровенное полѣно. Урки облизывались и скрывались во тьмѣ барака. Оттуда, изъ этой тьмы, время отъ времени доносились крики и ругань, чьи-то вопли о спасеніи и все, что въ такихъ случаяхъ полагается. Одна изъ этакихъ стаекъ, осмотрѣвши рюкзаки, меня и полѣно, отошла въ сторонку, куда не достигалъ свѣтъ отъ коптилки и смачно пообѣщала:
— Подожди ты — въ мать, Бога, печенку и прочее — поймаемъ мы тебя и безъ полѣна.
Вернулся отъ украинскихъ профессоровъ Борисъ. Появилась новая перспектива: они уже работали въ УРЧ (учетно-распредѣлительная часть) въ Подпорожьи, въ отдѣленіи. Тамъ была острая нужда въ работникахъ, работа тамъ была отвратительная, но тамъ не было лагеря, какъ такового — не было бараковъ, проволоки, урокъ и прочаго. Можно было жить не то въ палаткѣ, не то крестьянской избѣ... Было электричество... И вообще съ точки зрѣнія Погры — Подпорожье казалось этакой міровой столицей. Перспектива была соблазнительная...
Еще черезъ часъ пришелъ Юра. Видъ у него былъ растерянный и сконфуженный. На мой вопросъ: въ чемъ дѣло? — Юра отвѣтилъ какъ-то туманно — потомъ-де разскажу. Но въ стремительности лагерныхъ событій и перспективъ — ничего нельзя было откладывать. Мы забрались въ глубину наръ, и тамъ Юра шепотомъ и по англійски разсказалъ слѣдующее:
Его уже забронировали было за административнымъ отдѣломъ, въ качествѣ машиниста, но какой-то помощникъ начальника третьей части заявилъ, что машинистъ нуженъ имъ. А такъ какъ никто въ лагерѣ не можетъ конкурировать съ третьей частью, точно такъ-же, какъ на волѣ никто не можетъ конкурировать съ ГПУ, то административный отдѣлъ отступилъ безъ боя. Отъ третьей части Юра остался въ восторгѣ — во-первыхъ, на стѣнѣ висѣла карта, и даже не одна, а нѣсколько, во-вторыхъ, было ясно, что въ нужный моментъ отсюда можно будетъ спереть кое-какое оружіе. Но дальше произошла такая вещь.
Послѣ надлежащаго испытанія на пишущей машинкѣ Юру привели къ какому-то дядѣ и сказали:
— Вотъ этотъ паренекъ будетъ у тебя на машинкѣ работать.
Дядя посмотрѣлъ на Юру весьма пристально и заявилъ — Что-то мнѣ ваша личность знакомая. И гдѣ это я васъ видалъ?
Юра всмотрѣлся въ дядю и узналъ въ немъ того чекиста, который въ роковомъ вагонѣ № 13 игралъ роль контролера. Чекистъ, казалось, былъ доволенъ этой встрѣчей.
— Вотъ это здорово. И какъ же это васъ сюда послали? Вотъ тоже чудаки-ребята — три года собирались и на бабѣ сорвались. — И онъ сталъ разсказывать прочимъ чинамъ третьей части, сидѣвшимъ въ комнатѣ, приблизительно всю исторію нашего бѣгства и нашего ареста.
— А остальные ваши-то гдѣ? Здоровые бугаи подобрались. Дядюшка евонный нашему одному (онъ назвалъ какую-то фамилію) такъ руку ломанулъ, что тотъ до сихъ поръ въ лубкахъ ходитъ... Ну-ну, не думалъ, что встрѣтимся.
Чекистъ оказался изъ болтливыхъ. Въ такой степени, что даже проболтался про роль Бабенки во всей этой операціи. Но это было очень плохо. Это означало, что черезъ нѣсколько дней вся администрація лагеря будетъ знать, за что именно мы попались и, конечно, приметъ кое-какія мѣры, чтобы мы этой попытки не повторяли.
А мѣры могли быть самыя разнообразныя. Во всякомъ случаѣ всѣ наши розовые планы на побѣгъ повисли надъ пропастью. Нужно было уходить съ Погры, хотя бы и въ Подпорожье, хотя бы только для того, чтобы не болтаться на глазахъ этого чекиста и не давать ему повода для его болтовни. Конечно, и Подпорожье не гарантировало отъ того, что этотъ чекистъ не доведетъ до свѣдѣнія администраціи нашу исторію, но онъ могъ этого и не сдѣлать. Повидимому, онъ этого такъ и не сдѣлалъ.
Борисъ сейчасъ же пошелъ къ украинскимъ профессорамъ — форсировать подпорожскія перспективы. Когда онъ вернулся, въ наши планы ворвалась новая неожиданность.
Лѣсорубы уже вернулись изъ лѣсу, и баракъ былъ наполненъ мокрой и галдѣвшей толпой. Сквозь толпу къ намъ протиснулись два какихъ-то растрепанныхъ и слегка обалдѣлыхъ отъ работы и хаоса интеллигента.
— Кто тутъ Солоневичъ Борисъ?
— Я, — сказалъ братъ.
— Что такое oleum ricini?
Борисъ даже слегка отодвинулся отъ столь неожиданнаго вопроса.
— Касторка. А вамъ это для чего?
— А что такое acidum arsenicorum? Въ какомъ растворѣ употребляется acidum carbolicum?
Я ничего не понималъ. И Борисъ тоже. Получивъ удовлетворительные отвѣты на эти таинственные вопросы, интеллигенты переглянулись.
— Годенъ? — спросилъ одинъ изъ нихъ у другого.
— Годенъ, — подтвердилъ тотъ.
— Вы назначены врачемъ амбулаторіи, — сказалъ Борису интеллигентъ. — Забирайте ваши вещи и идемте со мною — тамъ уже стоитъ очередь на пріемъ. Будете жить въ кабинкѣ около амбулаторіи.
Итакъ, таинственные вопросы оказались экзаменомъ на званіе врача. Нужно сказать откровенно, что передъ неожиданностью этого экзаменаціоннаго натиска, мы оказались нѣсколько растерянными. Но дискуссировать не приходилась. Борисъ забралъ всѣ наши рюкзаки и въ сопровожденіи Юры и обоихъ интеллигентовъ ушелъ "въ кабинку". А кабинка — это отдѣльная комнатушка при амбулаторномъ баракѣ, которая имѣла то несомнѣнное преимущество, что въ ней можно было оставить вещи въ нѣкоторой безопасности отъ уголовныхъ налетовъ.
Ночь прошла скверно. На дворѣ стояла оттепель, и сквозь щели потолка насъ поливалъ тающій снѣгъ. За ночь мы промокли до костей. Промокли и наши одѣяла... Утромъ мы, мокрые и невыспавшіеся, пошли къ Борису, прихвативъ туда всѣ свои вещи, слегка обогрѣлись въ пресловутой "кабинкѣ" и пошли нажимать на всѣ пружины для Подпорожья. Въ лѣсъ мы, конечно, не пошли. Къ полудню я и Юра уже имѣли — правда, пока только принципіальное — назначены въ Подпорожье, въ УРЧ.
УРКИ ВЪ ЛАГЕРѢ
Пока мы всѣ судорожно мотались по нашимъ дѣламъ — лагпунктъ продолжалъ жить своей суматошной каторжной жизнью. Прибылъ еще одинъ эшелонъ — еще тысячи двѣ заключенныхъ, для которыхъ одежды уже не было, да и помѣщенія тоже. Людей перебрасывали изъ барака въ баракъ, пытаясь "уплотнить" эти гробообразные ящики и безъ того набитые до отказу. Плотничьи бригады наспѣхъ строили новые бараки. По раскисшимъ отъ оттепели "улицамъ" подвозились сырыя промокшія бревна. Дохлыя лагерныя клячи застревали на ухабахъ. Сверху моросила какая-то дрянь — помѣсь снѣга и дождя. Увязая по колѣни въ разбухшемъ снѣгу, проходили колонны "новичковъ" — та же сѣрая рабоче-крестьянская скотинка, какая была и въ нашемъ эшелонѣ. Имъ будетъ на много хуже, ибо они останутся въ томъ, въ чемъ пріѣхали сюда. Казенное обмундированіе уже исчерпано, а ждутъ еще три-четыре эшелона...
Среди этихъ людей, растерянныхъ, дезоріентированныхъ, оглушенныхъ перспективами долгихъ лѣтъ каторжной жизни, урки то вились незамѣтными змѣйками, то собирались въ волчьи стаи. Шныряли по баракамъ, норовя стянуть все, что плохо лежитъ, организовывали и, такъ сказать, массовыя вооруженныя нападенія.
Вечеромъ напали на трехъ дежурныхъ, получившихъ хлѣбъ для цѣлой бригады. Одного убили, другого ранили, хлѣбъ исчезъ. Конечно, дополнительной порціи бригада не получила и осталась на сутки голодной. Въ нашъ баракъ — къ счастью, когда въ немъ не было ни насъ, ни нашихъ вещей — ворвалась вооруженная финками банда человѣкъ въ пятнадцать. Дѣло было утромъ, народу въ баракѣ было мало. Баракъ былъ обобранъ почти до нитки.
Администрація сохраняла какой-то странный нейтралитетъ. И за урокъ взялись сами лагерники.
Выйдя утромъ изъ барака, я былъ пораженъ очень неуютнымъ зрѣлищемъ. Привязанный къ соснѣ, стоялъ или, точнѣе, висѣлъ какой-то человѣкъ. Его волосы были покрыты запекшейся кровью. Одинъ глазъ висѣлъ на какой-то кровавой ниточкѣ. Единственнымъ признакомъ жизни, а можетъ быть, только признакомъ агоніи, было судорожное подергиваніе лѣвой ступни. Въ сторонѣ, шагахъ въ двадцати, на кучѣ снѣга лежалъ другой человѣкъ. Съ этимъ было все кончено. Сквозь кровавое мѣсиво снѣга, крови, волосъ и обломковъ черепа были видны размозженные мозги.
Кучка крестьянъ и рабочихъ не безъ нѣкотораго удовлетворенія созерцала это зрѣлище.
— Ну вотъ, теперь по крайности съ воровствомъ будетъ спокойнѣе, — сказалъ кто-то изъ нихъ.
Это былъ мужицкій самосудъ, жестокій и бѣшенный, появившійся въ отвѣтъ на терроръ урокъ и на нейтралитетъ администраціи. Впрочемъ, и по отношенію къ самосуду администрація соблюдала тотъ же нейтралитетъ. Мнѣ казалось, что вотъ въ этомъ нейтралитетѣ было что-то суевѣрное. Какъ будто въ этихъ изуродованныхъ тѣлахъ лагерныхъ воровъ всякая публика изъ третьей части видѣла что-то и изъ своей собственной судьбы. Эти вспышки — я не хочу сказать народнаго гнѣва — для гнѣва онѣ достаточно безсмысленны, — а скорѣе народной ярости, жестокой и неорганизованной, пробѣгаютъ этакими симпатическими огоньками по всей странѣ. Сколько всякаго колхознаго актива, сельской милиціи, деревенскихъ чекистовъ платятъ изломанными костями и проломленными черепами за великое соціалистическое ограбленіе мужика. Вѣдь тамъ — "во глубинѣ Россіи" — тишины нѣтъ никакой. Тамъ идетъ почти ни на минуту непрекращающаяся звѣриная рѣзня за хлѣбъ и за жизнь. И жизнь — въ крови, и хлѣбъ — въ крови... И мнѣ кажется, что когда публика изъ третьей части глядитъ на вотъ этакаго изорваннаго въ клочки урку — передъ нею встаютъ перспективы, о которыхъ ей лучше и не думать...
Въ эти дни лагерной контръ-атаки на урокъ я какъ-то встрѣтилъ моего бывшаго спутника по теплушкѣ — Михайлова. Видъ у него былъ отнюдь не побѣдоносный. Физіономія его носила слѣды недавняго и весьма вдумчиваго избіенія. Онъ подошелъ ко мнѣ, пытаясь привѣтливо улыбнуться своими разбитыми губами и распухшей до синевы физіономіей.
— А я къ вамъ по старой памяти, товарищъ Солоневичъ, махорочкой угостите.
— Вамъ не жалко, за науку.
— За какую науку?
— А вотъ все, что вы мнѣ въ вагонѣ разсказывали.
— Пригодилось?
— Пригодилось.
— Да мы тутъ всякую запятую знаемъ.
— Однако, запятыхъ-то оказалось для васъ больше, чѣмъ вы думали.
— Ну, это дѣло плевое. Ну, что? Ну, вотъ меня избили. Нашихъ человѣкъ пять на тотъ свѣтъ отправили. Ну, а дальше что? Побуйствуютъ, — но наша все равно возьметъ: организація.
И старый паханъ ухмыльнулся съ прежней самоувѣренностью.
— А тѣ, кто билъ — тѣ ужъ живыми отсюда не уйдутъ... Нѣтъ-съ. Это ужъ извините. Потому все это — стадо барановъ, а мы — организація.
Я посмотрѣлъ на урку не безъ нѣкотораго уваженія. Въ немъ было нѣчто сталинское.
ПОДПОРОЖЬЕ
Тихій морозный вечеръ. Все небо — въ звѣздахъ. Мы съ Юрой идемъ въ Подпорожье по тропинкѣ, проложенной по льду Свири. Вдали, верстахъ въ трехъ, сверкаютъ электрическіе огоньки Подпорожья. Берега рѣки покрыты густымъ хвойнымъ лѣсомъ, завалены мягкими снѣговыми сугробами. Кое-гдѣ сдержанно рокочутъ незамерзшія быстрины. Входимъ въ Подпорожье.
Видно, что это было когда-то богатое село. Просторный двухъэтажныя избы, рубленныя изъ аршинныхъ бревенъ, рѣзные коньки, облѣзлая окраска ставень. Крѣпко жилъ свирьскій мужикъ. Теперь его ребятишки бѣгаютъ по лагерю, выпрашивая у каторжниковъ хлѣбные объѣдки, селедочныя головки, несъѣдобныя и несъѣденныя лагерныя щи.
У насъ обоихъ — вызовъ въ УРЧ. Пока еще не назначеніе, а только вызовъ. УРЧ — учетно распредѣлительная часть лагеря, онъ учитываетъ всѣхъ заключенныхъ, распредѣляетъ ихъ на работы, перебрасываетъ изъ пункта на пунктъ, изъ отдѣленія въ отдѣленіе, слѣдитъ за сроками заключенія, за льготами и прибавками сроковъ, принимаетъ жалобы и прочее въ этомъ родѣ.
Внѣшне — это такое же отвратное заведеніе, какъ и всѣ совѣтскія заведенія, не столичныя, конечно, а такъ, чиномъ пониже — какія-нибудь сызранскія или царевококшайскія. Полдюжины комнатушекъ набиты такъ же, какъ была набита наша теплушка. Столы изъ некрашенныхъ, иногда даже и не обструганныхъ досокъ. Такія же табуретки и, взамѣнъ недостающихъ табуретокъ, — березовыя полѣнья. Промежутки забиты ящиками съ дѣлами, связками карточекъ, кучами всякой бумаги.
Конвоиръ сдаетъ насъ какому-то дѣлопроизводителю или, какъ здѣсь говорятъ, "дѣлопуту". "Дѣлопутъ" подмахиваетъ сопроводиловку.
— Садитесь, подождите.
Сѣсть не на чемъ. Снимаемъ рюкзаки и усаживаемся на нихъ. Въ комнатахъ лондонскимъ туманомъ плаваетъ густой, махорочный дымъ. Доносится крѣпкая начальственная ругань, угроза арестами и прочее. Не то, что въ ГПУ, и на Погрѣ начальство не посмѣло бы такъ ругаться. По комнатушкамъ мечутся люди: кто ищетъ полѣно, на которое можно было-бы присѣсть, кто умоляетъ "дѣлопута" дать ручку: срочная работа, не выполнишь — посадятъ. Но ручекъ нѣтъ и у дѣлопута. Дѣлопутъ же увлеченъ такимъ занятіемъ: выковыриваетъ сердцевину химическаго карандаша и дѣлаетъ изъ нея чернила, ибо никакихъ другихъ въ УРЧ не имѣется. Землисто-зеленыя, изможденныя лица людей, сутками сидящихъ въ этомъ махорочномъ дыму, тѣснотѣ, ругани, безтолковщинѣ. Жуть.
Я начинаю чувствовать, что на лѣсоразработкахъ было бы куда легче и уютнѣе. Впрочемъ, впослѣдствіи такъ и оказалось. Но лѣсоразработки — это "конвейеръ". Только попади, и тебя потащитъ чортъ его знаетъ куда. Здѣсь все-таки какъ-то можно будетъ изворачиваться.
Откуда-то изъ дыма канцелярскихъ глубинъ показывается нѣкій старичекъ. Впослѣдствіи онъ оказался однимъ изъ урчевскихъ воротилъ, товарищемъ Насѣдкинымъ. На его сизомъ носу — перевязанныя канцелярской дратвой желѣзныя очки. Лицо въ геммороидальныхъ морщинахъ. Въ слезящихся глазкахъ — добродушное лукавство старой, видавшей всякіе виды канцелярской крысы.
— Здравствуйте. Это вы — юристъ съ Погры? А это — вашъ сынъ? У насъ, знаете, двѣ пишущихъ машинки; только писать не умѣетъ никто. Работы вообще масса. А работники. Ну, сами увидите. То-есть, такой неграмотный народъ, просто дальше некуда. Ну, идемъ, идемъ. Только вещи-то съ собой возьмите. Сопрутъ, обязательно сопрутъ. Тутъ такой народъ, только отвернись — сперли. А юридическая часть у насъ запущена — страхъ. Вамъ надъ ней крѣпко придется посидѣть.
Слѣдуя за разговорчивымъ старичкомъ, мы входимъ въ урчевскія дебри. Изъ махорочнаго тумана на насъ смотрятъ жуткія кувшинныя рыла, какія-то низколобыя, истасканныя, обалдѣлыя и озвѣрѣлыя. Вся эта губернія неистово пишетъ, штемпелюетъ, подшиваетъ, регистрируетъ и ругается.
Старичекъ начинаетъ рыться по полкамъ, ящикамъ и просто наваленнымъ на полу кучамъ какихъ-то "дѣлъ", призываетъ себѣ въ помощь еще двухъ канцелярскихъ крысъ, и, наконецъ, изъ какого-то полуразбитаго ящика извлекаются наши "личныя дѣла" — двѣ папки съ нашими документами, анкетами, приговоромъ и прочее. Старичекъ передвигаетъ очки съ носа на переносицу.
— Солоневичъ, Иванъ... такъ... образованіе... такъ, приговоръ, гмъ, статьи...
На словѣ "статьи" старичекъ запинается, спускаетъ очки съ переносицы на носъ и смотритъ на меня взглядомъ, въ которомъ я читаю:
— Какъ же это васъ, милостивый государь, такъ угораздило? И что мнѣ съ вами дѣлать?
Я тоже только взглядомъ отвѣчаю:
— Дѣло ваше, хозяйское.
Я понимаю: положеніе и у старичка, и у УРЧа — пиковое. Съ контръ-революціей брать нельзя, а безъ контръ-революціи — откуда же грамотныхъ-то взять? Старичекъ повертится — повертится, и что-то устроитъ.
Очки опять лѣзутъ на переносицу, и старичекъ начинаетъ читать Юрино дѣло, но на этотъ разъ уже не вслухъ. Прочтя, онъ складываетъ папки и говоритъ:
— Ну, такъ значитъ, въ порядкѣ. Сейчасъ я вамъ покажу ваши мѣста и вашу работу.
И, наклоняясь ко мнѣ, — шепотомъ:
— Только о статейкахъ вашихъ вы не разглагольствуйте. Потомъ какъ-нибудь урегулируемъ.
НА СТРАЖѢ ЗАКОННОСТИ
Итакъ, я сталъ старшимъ юрисконсультомъ и экономистомъ УРЧа. Въ мое вѣдѣніе попало пудовъ тридцать разбросанныхъ я растрепанныхъ дѣлъ и два младшихъ юрисконсульта, одинъ изъ коихъ, до моего появленія на горизонтѣ, именовался старшимъ. Онъ былъ безграмотенъ и по старой, и по новой орфографіи, а на мой вопросъ объ образованіи отвѣтилъ мрачно, но мало вразумительно:
— Выдвиженецъ.
Онъ — бывшій комсомолецъ. Сидитъ за участіе въ коллективномъ изнасилованіи. О томъ, что въ Совѣтской Россіи существуетъ такая вещь, какъ уголовный кодексъ, онъ отъ меня услышалъ въ первый разъ въ своей жизни. Въ ящикахъ этого "выдвиженца" скопилось около 4.000 (четырехъ тысячъ!) жалобъ заключенныхъ. И за каждой жалобой — чья-то живая судьба...
Мое "вступленіе въ исполненіе обязанностей" совершилось такимъ образомъ:
Насѣдкинъ ткнулъ пальцемъ въ эти самые тридцать пудовъ бумаги, отчасти разложенной на полкахъ, отчасти сваленной въ ящики, отчасти валяющейся на полу, и сказалъ:
— Ну вотъ, это, значитъ ваши дѣла. Ну, тутъ ужъ вы сами разберетесь — что куда.
И исчезъ.
Я сразу заподозрилъ, что и самъ-то онъ никакого понятія не имѣетъ "что — куда", и что съ подобными вопросами мнѣ лучше всего ни къ кому не обращаться. Мои "младшіе юрисконсульты" какъ-то незамѣтно растаяли и исчезли, такъ что только спустя дней пять я пытался было вернуть одного изъ нихъ цъ лоно "экономически-юридическаго отдѣла", но отъ этого мѣропріятія вынужденъ былъ отказаться: мой "помъ" оказался откровенно полуграмотнымъ и нескрываемо безтолковымъ парнемъ. Къ тому же его притягивалъ "блатъ" — работа въ такихъ закоулкахъ УРЧ, гдѣ онъ могъ явственно распорядиться судьбой — ну, хотя бы кухоннаго персонала — и поэтому получать двойную порцію каши.
Я очутился наединѣ съ тридцатью пудами своихъ "дѣлъ" и лицомъ къ лицу съ тридцатью кувшинными рылами изъ такъ называемаго совѣтскаго актива.
А совѣтскій активъ — это вещь посерьезнѣе ГПУ.
ОПОРА ВЛАСТИ
"ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ КЪ МАССАМЪ"
Картина нынѣшней россійской дѣйствительности опредѣляется не только директивами верховъ, но и качествомъ повседневной практики тѣхъ милліонныхъ "кадровъ совѣтскаго актива", которые для этихъ верховъ и директивъ служатъ "приводнымъ ремнемъ къ массамъ". Это — крѣпкій ремень. Въ административной практикѣ послѣднихъ лѣтъ двѣнадцати этотъ активъ былъ подобранъ путемъ своеобразнаго естественнаго отбора, спаялся въ чрезвычайно однотипную прослойку, въ высокой степени вытренировалъ въ себѣ тѣ — вѣроятно, врожденныя — качества, которыя опредѣлили его катастрофическую роль въ совѣтскомъ хозяйствѣ и въ совѣтской жизни.
Совѣтскій активъ — это и есть тотъ загадочный для внѣшняго наблюдателя слой, который поддерживаетъ власть крѣпче и надежнѣе, чѣмъ ее поддерживаетъ ГПУ, единственный слой русскаго населенія, который безраздѣльно и до послѣдней капли крови преданъ существующему строю. Онъ охватываетъ низы партіи, нѣкоторую часть комсомола и очень значительное число людей, жаждущихъ партійнаго билета и чекистскаго поста.
Если взять для примѣра — очень, конечно, неточнаго — аутентичныя времена Угрюмъ-Бурчеевщины, скажемъ, времена Аракчеева, то и въ тѣ времена страной, т.е. въ основномъ — крестьянствомъ, правило не третье отдѣленіе и не жандармы и даже не пресловутые 10.000 столоначальниковъ. Функціи непосредственнаго обузданія мужика и непосредственнаго выколачиванія изъ него "прибавочной стоимости" выполняли всякіе "незамѣтные герои" вродѣ бурмистровъ, приказчиковъ и прочихъ, дѣйствовавшихъ кнутомъ на исторической "конюшнѣ" и "кулачищемъ" — во всякихъ иныхъ мѣстахъ. Административная дѣятельность Угрюмъ-Бурчеева прибавила къ этимъ кадрамъ еще по шпіону въ каждомъ домѣ.
Конечно, бурмистру крѣпостныхъ временъ до активиста эпохи "загниванія капитализма" и "пролетарской революціи" — какъ отъ земли до неба. У бурмистра былъ кнутъ, у активиста — пулеметы, а, въ случаѣ необходимости, — и бомбовозы. Бурмистръ изымалъ отъ мужицкаго труда сравнительно ерунду, активистъ — отбираетъ послѣднее. "Финансовый планъ" бурмистра обнималъ въ среднемъ нехитрыя затраты на помѣщичій пропой души, финансовый планъ активиста устремленъ на построеніе мірового соціалистическаго города Непреклонска и, въ этихъ цѣляхъ, на вывозъ заграницу всего, что только можно вывезти. А такъ какъ, по тому же Щедрину, городъ Глуповъ (будущій Непреклонскъ) "изобилуетъ всѣмъ и ничего, кромѣ розогъ и административныхъ мѣропріятій, не потребляетъ", отчего "торговый балансъ всегда склоняется въ его пользу", то и взиманіе на экспортъ идетъ въ размѣрахъ, для голодной страны поистинѣ опустошительныхъ.
Совѣтскій активъ былъ вызванъ къ жизни въ трехъ цѣляхъ: "соглядатайство, ущемленіе и ограбленіе". Съ точки зрѣнія Угрюмъ-Бурчеева, засѣдающаго въ Кремлѣ, совѣтскій обыватель неблагонадеженъ всегда — начиная со вчерашняго предсѣдателя мірового коммунистическаго интернаціонала и кончая послѣднимъ мужикомъ — колхознымъ или не колхознымъ — безразлично. Слѣдовательно, соглядатайство должно проникнуть въ мельчайшія поры народнаго организма. Оно и проникаетъ. Соглядатайство безъ послѣдующаго ущемленія — безсмысленно и безцѣльно, поэтому вслѣдъ за системой шпіонажа строится система "безпощаднаго подавленія"... Ежедневную мало замѣтную извнѣ рутину грабежа, шпіонажа и репрессій выполняютъ кадры актива. ГПУ только возглавляетъ эту систему, но въ народную толщу оно не подпускается: не хватило бы никакихъ "штатовъ". Тамъ дѣйствуетъ исключительно активъ, и онъ дѣйствуетъ практически безконтрольно и безаппеляціонно.
Для того, чтобы заниматься этими дѣлами изъ года въ годъ, нужна соотвѣтствующая структура психики. Нужны, по терминологіи опять же Щедрина, "твердой души прохвосты".
РОЖДЕНІЕ АКТИВА
Родоначальницей этихъ твердыхъ душъ, — конечно, не хронологически, а такъ сказать, только психологически — является та пресловутая и уже ставшая нарицательной піонерка, которая побѣжала въ ГПУ доносить на свою мать. Практически не важно, изъ какихъ соображеній она это сдѣлала: то-ли изъ идейныхъ, то-ли мать просто въ очень ужъ недобрый часъ ей косу надрала. Если послѣ этого доноса семья оной многообѣщающей дѣвочки даже и уцѣлѣла, то ясно, что все же въ домъ этой піонерки ходу больше не было. Не было ей ходу и ни въ какую иную семью. Даже коммунистическая семья, въ принципѣ поддерживая всякое соглядатайство, все же предпочтетъ у себя дома чекистскаго шпіона не имѣть. Первый шагъ совѣтской активности ознаменовывается предательствомъ и изоляціей отъ среды. Точно такой же процессъ происходитъ и съ активомъ вообще.
Нужно имѣть въ виду, что въ средѣ "совѣтской трудящейся массы" жить дѣйствительно очень неуютно. Де-юре эта масса правитъ "первой въ мірѣ республикой трудящихся", де-факто она является лишь объектомъ самыхъ невѣроятныхъ административныхъ мѣропріятій, отъ которыхъ она въ теченіе 17 лѣтъ не можетъ ни очухаться, ни поѣсть досыта. Поэтому тенденція вырваться изъ массы, попасть въ какіе-нибудь, хотя бы относительные, верхи выражена въ СССР съ исключительной рѣзкостью. Этой тенденціей отчасти объясняется и такъ называемая "тяга по учебѣ".
Вырваться изъ массы можно, говоря схематически, тремя путями: можно пойти по пути "повышенія квалификаціи", стать на заводѣ мастеромъ, въ колхозѣ, скажемъ, трактористомъ. Это — не очень многообѣщающій путь, но все же и мастеръ, и трактористъ питаются чуть-чуть сытнѣе массы и чувствуютъ себя чуть-чуть въ большей безопасности. Второй путь — путь въ учебу, въ интеллигенцію — обставленъ всяческими рогатками и, въ числѣ прочихъ перспективъ, требуетъ четырехъ-пяти лѣтъ жуткой голодовки въ студенческихъ общежитіяхъ, съ очень небольшими шансами вырваться оттуда безъ туберкулеза. И, наконецъ, третій путь — это путь общественно-административной активности. Туда тянется часть молодняка, жаждущая власти и сытости немедленно, на бочку.
Карьерная схема здѣсь очень несложна. Совѣтская власть преизбыточествуетъ безконечнымъ числомъ всяческихъ общественныхъ организаціи, изъ которыхъ всѣ безъ исключенія должны "содѣйствовать". Какъ и чѣмъ можетъ общественно содѣйствовать нашъ кандидатъ въ активисты?
Въ сельсовѣтѣ или въ профсоюзѣ, на колхозномъ или заводскомъ собраніи онъ по всякому поводу, а также и безо всякаго повода, начнетъ выскакивать этакимъ Петрушкой и распинаться въ преданности и непреклонности. Ораторскихъ талантовъ для этого не нужно. Собственныхъ мыслей — тѣмъ болѣе, ибо мысль, да еще и собственная, всегда носить отпечатокъ чего-то недозволеннаго и даже неблагонадежнаго. Такой же оттѣнокъ носитъ даже и казенная мысль, но выраженная своими словами. Поэтому-то совѣтская практика выработала рядъ строго стандартизированныхъ фразъ, которыя давно уже потеряли рѣшительно всякій смыслъ: безпощадно борясь съ классовымъ врагомъ (а кто есть нынче классовый врагъ?), цѣликомъ и полностью поддерживая генеральную линію нашей родной пролетарской партіи (а что есть генеральная линія?), стоя на стражѣ рѣшающаго или завершающаго года пятилѣтки (а почему рѣшающій и почему завершающій?), ну и такъ далѣе. Порядокъ фразъ не обязателенъ, главное предложеніе можетъ отсутствовать вовсе. Смыслъ отсутствуетъ почти всегда. Но все это вмѣстѣ взятое создаетъ такое впечатлѣніе:
— Смотри-ка, а Петька-то нашъ въ активисты лѣзетъ...
Но это только приготовительный классъ активности. Для дальнѣйшаго продвиженія активность должна быть конкретизирована, и вотъ на этой-то ступени получается первый отсѣвъ званыхъ и избранныхъ. Мало сказать, что мы-де, стоя пнями на стражѣ, и т.д., а нужно сказать, что и кто мѣшаетъ намъ этими пнями стоять. Сказать что мѣшаетъ — дѣло довольно сложное. Что мѣшаетъ безотлагательному и незамедлительному торжеству соціализма? Что мѣшаетъ "непрерывному и бурному росту благосостоянія широкихъ трудящихся массъ" и снабженію этихъ массъ картошкой — не гнилой и въ достаточныхъ количествахъ? Что мѣшаетъ "выполненію или перевыполненію промфинплана" нашего завода? Во-первыхъ, — кто его разберетъ, а во-вторыхъ, при всякихъ попыткахъ разобраться всегда есть рискъ впасть не то въ "уклонъ", не то въ "загибъ", не то даже въ "антисовѣтскую агитацію". Менѣе обременительно для мозговъ, болѣе рентабильно для карьеры и совсѣмъ безопасно для собственнаго благополучія — вылѣзти на трибуну и ляпнуть:
— А по моему пролетарскому, рабочему мнѣнію, планъ нашего цеха срываетъ инженеръ Ивановъ. Потому какъ онъ, товарищи, не нашего пролетарскаго классу: евонный батька — попъ, а онъ самъ — кусокъ буржуазнаго интеллигента.
Для инженера Иванова это не будетъ имѣть рѣшительно никакихъ послѣдствій: его ГПУ знаетъ и безъ рекомендаціи нашего активиста. Но нѣкоторый "политически капиталецъ" нашъ активистъ уже пріобрѣлъ: болѣетъ, дескать, нуждами нашего пролетарскаго цеха и передъ доносомъ не остановился.
Въ деревнѣ активистъ ляпнетъ о томъ, что "подкулачникъ" Ивановъ ведетъ антиколхозную агитацію. При такомъ оборотѣ подкулачникъ Ивановъ имѣетъ очень много шансовъ поѣхать въ концентраціонный лагерь. На заводѣ активистъ инженера, пожалуй, укусить всерьезъ не сможетъ — потому и доносъ его ни въ ту, ни въ другую сторону особыхъ послѣдствій имѣть не будетъ — но своего сосѣда по цеху онъ можетъ цапнуть весьма чувствительно. Активистъ скажетъ, что Петровъ сознательно и злонамѣренно выпускаетъ бракованную продукцію, что Сидоровъ — лжеударникъ и потому не имѣетъ права на ударный обѣдъ въ заводской столовкѣ, а Ивановъ седьмой сознательно не ходитъ на пролетарскія демонстраціи.
Такой мелкой сошкой, какъ заводской рабочій, ГПУ не интересуется. Поэтому, что бы тутъ ни ляпнулъ активистъ, — это, какъ говорятъ въ СССР, будетъ "взято на карандашъ". Петрова переведутъ на низкій окладъ, а не то и уволятъ съ завода. У Сидорова отнимутъ обѣденную карточку. Ивановъ седьмой рискуетъ весьма непріятными разговорами, ибо — какъ это своевременно было предусмотрѣно Угрюмъ-Бурчеевымъ — "праздники отличаются отъ будней усиленнымъ упражненіемъ въ маршировкѣ" и участіе въ оныхъ маршировкахъ для обывателя обязательно.
Вотъ такой "конкретный доносъ" является настоящимъ доказательствомъ политической благонадежности и открываетъ активисту дальнѣйшіе пути. На этомъ этапѣ спотыкаются почти всѣ, у кого для доноса душа недостаточно тверда.
Дальше активистъ получаетъ конкретныя, хотя пока еще и безплатныя заданія, выполняетъ развѣдывательныя порученія комячейки, участвуетъ въ какой-нибудь легкой кавалеріи, которая съ мандатами и полномочіями этакимъ табункомъ налетаетъ на какое-нибудь заведеніе и тамъ, гдѣ раньше былъ просто честный совѣтскій кабакъ, устраиваетъ форменное свѣтопреставленіе, изображаетъ "рабочую массу" на какой-нибудь "чисткѣ" (рабочая масса на чистки не ходитъ) и тамъ вгрызается въ заранѣе указанныя комячейкой икры, выуживаетъ "прогульщиковъ", "лодырей", вредителей-рабочихъ, выколачиваетъ мопровскія или осоавіахимовскія недоимки... Въ деревнѣ, помимо всего этого, активистъ будетъ ходить по избамъ, вынюхивать запиханные въ какой-нибудь рваный валенокъ пять-десять фунтовъ несданнаго государству мужицкаго хлѣба, выслѣживать всякія "антигосударственныя тенденціи" и вообще доносительствовать во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ...
Пройдя этакій искусъ и доказавъ, что душа у него дѣйствительно твердая, означенный прохвостъ получаетъ, наконецъ, портфель и постъ.
НА АДМИНИСТРАТИВНОМЪ ПОПРИЩѢ
Постъ этотъ обыкновенно изъ паршивенькихъ. Но чѣмъ больше будетъ проявлено твердости души и непреклонности характера передъ всякимъ человѣческимъ горемъ, передъ всякимъ человѣческимъ страданіемъ, передъ всякой человѣческой жизнью — тѣмъ шире и тучнѣе пути дальнѣйшаго поприща. И вдали, гдѣ-то на горизонтѣ, маячитъ путеводной звѣздой партійный билетъ и теплое мѣсто въ ГПУ.
Однако, и въ партію, и въ особенности въ ГПУ принимаютъ не такъ, что-бы ужъ очень съ распростертыми объятіями — туда попадаютъ только избранные изъ избранныхъ. Большинство актива задерживается на среднихъ ступенькахъ: предсѣдатели колхозовъ и сельсовѣтовъ, члены заводскихъ комитетовъ профсоюзовъ, милиція, хлѣбозаготовительныя организаціи, кооперація, низовой аппаратъ ГПУ, всякія соглядатайскія амплуа въ домкомахъ и жилкоопахъ и прочее. Въ порядкѣ пресловутой текучести кадровъ нашъ активистъ, точно футбольный мячъ, перебрасывается изъ конца въ конецъ страны — по всякимъ ударнымъ и сверхударнымъ кампаніямъ, хлѣбозаготовкамъ, мясозаготовкамъ, хлопкозаготовкамъ, бригадамъ, комиссіямъ, ревизіямъ... Сегодня онъ грабитъ какой-нибудь украинскій колхозъ, завтра вылавливаетъ кулаковъ на Уралѣ, черезъ три дня руководитъ налетомъ какой-нибудь легкой гиппопотаміи на стекольный заводъ, ревизуетъ рыбные промыслы на Каспіи, разслѣдуетъ "антигосударственныя тенденціи" въ какомъ-нибудь совхозѣ или школѣ и всегда, вездѣ, во всякихъ обстоятельствахъ своей бурной жизни вынюхиваетъ скрытаго классоваго врага...
Приказы, "директивы", "установки", "заданія", инструкціи мелькаютъ, какъ ассоціаціи въ головѣ сумасшедшаго. Они сыплются на активиста со всѣхъ сторонъ, по всѣмъ "линіямъ": партійной, административной, совѣтской, профсоюзной, хозяйственной. Они создаютъ атмосферу обалдѣнія, окончательно преграждающаго доступъ какихъ бы то ни было мыслей и чувствъ въ и безъ того нехитрую голову твердой души прохвостовъ...
Понятно, что люди мало-мальски толковые по активистской стезѣ не пойдутъ: предпріятіе, какъ объ этомъ будетъ сказано ниже, — не очень ужъ выгодное и достаточно рискованное. Понятно также, что въ атмосферѣ грабежа, текучести и обалдѣнія, никакой умственности активъ пріобрѣсти не въ состояніи. Для того, чтобы раскулачить мужика даже и до самой послѣдней нитки, никакой умственности по существу и не требуется. Требуются стальныя челюсти и волчья хватка, каковыя свойства и вытренировываются до предѣла. Учиться этотъ активъ времени не имѣетъ. Кое-гдѣ существуютъ такъ называемыя "совѣтско-партійныя школы", но тамъ преподаютъ ту науку, которая въ терминологіи щедринскихъ знатныхъ иностранцевъ обозначена какъ: grom pobieda razdavaissa — разумѣется, въ марксистской интерпретаціи этого грома. Предполагается, что "классовый инстинктъ" замѣняетъ активисту всякую работу сообразительнаго аппарата.
Отобранный по признаку моральной и интеллектуальной тупости, прошедшій многолѣтнюю школу грабежа, угнетенія и убійства, спаянный безпредѣльной преданностью власти и безпредѣльной ненавистью населенія, активъ образуетъ собою чрезвычайно мощную прослойку нынѣшней Россіи. Его качествами, врожденными и благопріобрѣтенными, опредѣляются безграничныя возможности разрушительныхъ мѣропріятій власти и ея роковое безсиліе въ мѣропріятіяхъ созидательныхъ. Тамъ, гдѣ нужно раскулачить, ограбить и зарѣзать, — активъ дѣйствуетъ съ опустошительной стремительностью. Тамъ, гдѣ нужно что-то построить, — активъ въ кратчайшій срокъ создаетъ совершенно безвылазную неразбериху.
На всякое мановеніе со стороны власти активъ отвѣчаетъ взрывами энтузіазма и вихрями административнаго восторга. Каждый очередной лозунгъ создаетъ своеобразную совѣтскую моду, въ которой каждый активистъ выворачивается наизнанку, чтобы переплюнуть своего сосѣда и проползти наверхъ. Непрерывка и сверхранній посѣвъ, бытовыя коммуны и соціалистическое соревнованіе, борьба съ религіей и кролиководство — все сразу охватывается пламенемъ энтузіазма, въ этомъ пламени гибнутъ всякіе зародыши здраваго смысла, буде таковые и прозябали въ головѣ законодателя.
___
Когда въ подмогу къ остальнымъ двуногимъ и четвероногимъ, впряженнымъ въ колесницу соціализма, былъ впряженъ этакимъ коренникомъ еще и кроликъ — это было глупо, такъ сказать, въ принципѣ. Кроликъ — звѣрь въ нашемъ климатѣ капризный, кормить его все равно было нечѣмъ, проще было вернуться къ знакомымъ населенію и притерпѣвшимся к всѣмъ невзгодамъ русской жизни свиньѣ и курицѣ. Но все-таки кое чего можно было добиться и отъ кролика... если бы не энтузіазмъ.
Десятки тысячъ энтузіастовъ вцепились въ куцый кроличій хвостъ, надѣясь, что этотъ хвостъ вытянетъ ихъ куда-то повыше. Заграницей были закуплены милліоны кроликовъ — за деньги, полученныя за счетъ вымиранія отъ безкормицы свиней и куръ. Въ Москвѣ, гдѣ не то что кроликовъ, и людей кормить было нечѣмъ, "кролиководство" навязывали больницамъ и машинисткамъ, трестамъ и домашнимъ хозяйкамъ, бухгалтерамъ и даже horrible dictu церковнымъ приходамъ. Отказаться, конечно, было нельзя: "невѣріе", "подрывъ", "саботажъ совѣтскихъ мѣропріятій". Кроликовъ пораспихали по московскимъ квартирнымъ дырамъ, и кролики передохли всѣ. То же было и въ провинціи. Уже на закатѣ дней кроличьяго энтузіазма я какъ-то "обслѣдовалъ" крупный подмосковный кролиководческій совхозъ, совхозъ показательный и весьма привиллегированный по части кормовъ. Съ совхозомъ было неблагополучно, несмотря на всѣ его привиллегіи: кролики пребывали въ аскетизмѣ и размножаться не хотѣли. Потомъ выяснилось: на семь тысячъ импортныхъ бельгійскихъ кроликовъ самокъ было только около двадцати... Какъ былъ организованъ этотъ кроличій монастырь — то-ли въ порядкѣ вредительства, то-ли въ порядкѣ головотяпства, то-ли заграницей закупали кроликовъ вотъ этакіе энтузіасты — все это осталось покрытымъ мракомъ соціалистической неизвѣстности...
Теперь о кроликахъ уже не говорятъ... Отъ всей этой эпопеи остался десятокъ анекдотовъ — да и тѣ непечатны...
КАМНИ ПРЕТКНОВЕНІЯ
Пути административнаго энтузіазма усѣяны, увы, не одними революціонными розами. Во-первыхъ, обыватель — преимущественно крестьянинъ — всегда и при первомъ же удобномъ случаѣ готовъ проломить активисту черепъ. И во-вторыхъ, надъ каждымъ активистомъ сидитъ активистъ чиномъ повыше — и отъ этого послѣдняго проистекаетъ рядъ весьма крупныхъ непріятностей.
Позвольте для ясности привести и расшифровать одинъ конкретный примѣръ:
Въ "Послѣднихъ Новостяхъ" отъ 5 февраля 1934 г. была помѣщена такая замѣтка о Совѣтской Россіи, кажется, изъ "Правды". Грамофонная фабрика выпускала пластинки съ пѣсенкой: "Въ Тулѣ жилъ да былъ король". Администрація фабрики, по зрѣломъ, вѣроятно, обсужденіи, пришла къ тому выводу, что "король" въ пролетарской странѣ — фигура неподходящая. "Король" былъ замѣненъ "старикомъ". За этакій "перегибъ" наркомъ просвѣщенія Бубновъ оную администрацію выгналъ съ завода вонъ.
Эмигрантскій читатель можетъ доставить себѣ удовольствіѣ и весело посмѣяться надъ незадачливой администраціей: заставь-де дурака Богу молиться и т.д. Могу увѣрить этого читателя, что, будучи въ шкурѣ означенной администраціи, онъ бы смѣяться не сталъ: за "старика" выгналъ Бубновъ, а за "короля" пришлось бы, пожалуй, разговаривать съ Ягодой. Вѣдь сажали же пѣвцовъ за
Ибо требовалось пѣть:
Во всякомъ случаѣ лучше рискнуть изгнаніемъ съ двадцати службъ, чѣмъ однимъ приглашеніемъ въ ГПУ. Не такой ужъ дуракъ этотъ администраторъ, какъ издали можетъ казаться.
Такъ вотъ: въ этой краткой, но поучительной исторіи фигурируютъ: директоръ завода, который, вѣроятно, не совсѣмъ ужъ обормотъ, грамофонная пластинка, которая для "генеральной линіи" не такъ ужъ актуальна, и Бубновъ, который не совсѣмъ ужъ держиморда. И кромѣ того, дѣйствіе сіе происходитъ въ Москвѣ.
А если не Москва, а Краснококшайскъ, и если не граммофонная пластинка, а скажемъ, "антипартійный уклонъ", и если не Бубновъ, а просто держиморда. Такъ тогда какъ?
Недостараешься — влетитъ и перестараешься — влетитъ. Тутъ нужно потрафить въ самый разъ. А какъ именно выглядитъ этотъ "самый разъ", неизвѣстно приблизительно никому.
Неизвѣстно потому, что и самъ активъ безграмотенъ и безтолковъ, и потому, что получаемыя имъ "директивы" такъ же безграмотны и безтолковы. Тѣ декреты и прочее, которые исходятъ изъ Москвы по оффиціальной линіи, практически никакого значенія не имѣютъ, какъ не имѣютъ, скажемъ, рѣшительно никакого значенія проектируемые тайные выборы. Ибо кто осмѣлится выставить свою кандидатуру, которая вѣдь будетъ не тайной, а открытой. Имѣютъ значеніе только тѣ — и отнюдь не публикуемыя — директивы, которыя идутъ по партійной линіи. Скажемъ, по поводу означеннаго тайнаго голосованія активъ, несомнѣнно, получитъ директиву о томъ, какъ тайно ликвидировать явныхъ и неугодныхъ кандидатовъ или явныя и "антипартійныя предложенія". Въ партійности и антипартійности этихъ предложеній судьей окажется тотъ же активъ. И тутъ ему придется сильно ломать голову: почему ни съ того, ни съ сего "король" оказался партійно пріемлемымъ и почему за "старика" вздули?
Партійная директива исходитъ отъ московскаго держиморды и, "спускаясь въ низовку", подвергается обработкѣ со стороны держимордъ областныхъ, районныхъ и прочихъ, "прорабатывающихъ оную директиву" примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ. Такъ что одна и та же директива, родившись въ Москвѣ изъ одного источника, по дорогѣ на село или на заводъ разрастется цѣлой этакою многоголовой гидрой. По совѣтской линіи (черезъ исполкомъ), по заводской линіи (черезъ трестъ), по партійной линіи (черезъ партійный комитетъ), по партійно-соглядатайской — черезъ отдѣлъ ГПУ и т.д. и т.д. Всѣ эти гидры одновременно и съ разныхъ сторонъ вцѣпятся нашему активисту во всѣ подходящія и неподходящія мѣста, каковой фактъ способствовать проясненію чьихъ бы то ни было мозговъ — никакъ не можетъ.
Конечно, промежуточные держиморды объ этихъ директивахъ другъ съ другомъ не сговариваются. Когда очередная директива кончается очереднымъ крахомъ, возникаетъ ожесточенный междувѣдомственный мордобой. Держиморды большіе сваливаютъ всѣ грѣхи на держимордъ мелкихъ, и ѣдетъ нашъ активъ и за Уралъ, и на "низовую работу", и просто въ концлагерь.
Въ самомъ чистомъ видѣ эта исторія произошла со знаменитымъ головокруженіемъ — исторія, которую я случайно знаю весьма близко. По прямой директивѣ Сталина югъ Россіи былъ разоренъ вдребезги — требовалось сломить кулачество въ тѣхъ районахъ, гдѣ оно составляло подавляющее большинство населенія. Андреевъ, нынѣшній секретарь ЦК партіи, а тогда секретарь Сѣверо-Кавказскаго крайкома партіи, получилъ на эту тему спеціальную и личную директиву отъ Сталина. Директива, примѣненная къ мѣстнымъ условіямъ, была передана секретарямъ районныхъ комитетовъ партіи въ письменномъ видѣ, но съ приказаніемъ, по прочтеніи и усвоеніи, сжечь. Этотъ послѣдній варіантъ я самолично видалъ у одного изъ, увы, уже только бывшихъ секретарей, который догадался ее не сжечь.
На донского и кубанскаго мужика активъ ринулся со всѣмъ своимъ погромнымъ энтузіазмомъ. О томъ, что дѣлалось на Дону и на Кубани — лучше и не говорить. Но когда начались волненія и возстанія въ арміи, когда волей-неволей пришлось дать отбой — Сталинъ выкинулъ свое знаменитое "головокруженіе отъ успѣховъ" — отъ актива ему нужно было отгородиться во имя собственной шкуры.
Маккіавели не подгадилъ. Мужики изъ актива вытягивали кишки по вершку. ГПУ разстрѣливало и разсылало особенно одіозныя фигуры, и самъ я слыхалъ въ вагонѣ старушонку, которая говорила:
— Вотъ Сталину, ужъ дѣйствительно, дай Богъ здоровья. Прямо изъ петли вытащилъ...
Только здѣсь, заграницей, я понялъ, что старушонка эта, несмотря на весь свой преклонный возрастъ, принадлежала къ партіи младороссовъ...
___
Тотъ дядя, который догадался оную директиву не жечь — былъ очень стрѣлянымъ совѣтскимъ держимордой. Онъ не только не сжегъ ее, онъ ее передалъ въ третьи руки. И, взятый за жабры по обвиненію въ головокруженіи, сказалъ, что, ежели съ нимъ что-нибудь особенно сдѣлаютъ, такъ эта директивка, за подписью самого Андреева, пойдетъ гулять по партійнымъ и по военнымъ верхамъ... Дядя сторговался съ ГПУ на томъ, что его выслали въ Среднюю Азію. Директивка у него осталась и была запрятана въ особо секретномъ мѣстѣ... Но столь догадливые активисты попадаются не часто.
Такъ вотъ и живетъ этотъ активъ — между обухомъ рабоче-крестьянской ярости и плетью рабоче-крестьянской власти...
Власть съ активомъ не церемонится — впрочемъ, съ кѣмъ, въ сущности, церемонится сталинская власть? Развѣ только съ Ленинымъ, да и то потому, что все равно уже померъ... Съ активомъ она не церемонится въ особенности, исходя изъ того весьма реалистическаго соображенія, что этому активу все равно дѣваться некуда: лишь только онъ уйдетъ изъ-подъ крылышка власти, лишь только онъ будетъ лишенъ традиціоннаго нагана, его зарѣжутъ въ самомъ непродолжительномъ времени.
ЧОРТОВЫ ЧЕРЕПКИ
Оторванный отъ всякой соціальной базы, предавшій свою мать ГПУ и свою душу — чорту, активъ "дѣлаетъ карьеру". Но чортъ, какъ это извѣстно было уже Гоголю, имѣетъ чисто большевицкую привычку платить черепками. Этими черепками оплачивается и активъ.
Люди, которые представляютъ себѣ этотъ активъ въ качествѣ "сливокъ націи" и побѣдителей въ жизненной борьбѣ, совершаютъ грубую ошибку. Никакія сливки и никакіе побѣдители. Это — измотанные, истрепанные, обалдѣлые люди и не только палачи, но и жертвы. Та небольшая сравнительно прослойка актива, которая пошла на всѣ эти доносы и раскулачиванія во имя какой-то вѣры, — пусть очень туманной, но все же вѣры, вѣры хотя бы только въ вождей — состоитъ, кромѣ всего прочаго, изъ людей глубоко и безнадежно несчастныхъ. Слишкомъ широкіе потоки крови отрѣзываютъ дорогу назадъ, а впереди... Впереди ничего, кромѣ чортовыхъ черепковъ, не видно.
Совѣтская власть платить вообще не любитъ. Индивидуально цѣнный и во многихъ случаяхъ практически трудно замѣнимый спецъ — кое-какъ пропитывается и не голодаетъ, не воруя. Активъ можетъ не голодать только за счетъ воровства.
Онъ и подворовываетъ, конечно, въ нищенскихъ совѣтскихъ масштабахъ — такъ, на фунтъ мяса и на бутылку водки. По такой примѣрно схемѣ:
Ванька сидитъ предсѣдателемъ колхоза, Степка въ милиціи, Петька, скажемъ, въ Госспиртѣ. Ванька раскулачитъ мужицкую свинью и передастъ ее милиціи. Выходитъ какъ будто и легально — не себѣ же ее взялъ. Милицейскій Степка эту свинью зарѣжетъ, часть отдастъ на какія-нибудь мясозаготовки, чтобы потомъ, въ случаѣ какого-нибудь подсиживанія, легче было отписаться, часть въ воздаяніе услуги дастъ тому же Ванькѣ, часть въ чаяніи дальнѣйшихъ услугъ препроводитъ Петькѣ. Петька снабдитъ всю компанію водкой. Водка же будетъ извлечена изъ акта, въ которомъ будетъ сказано, что на подводѣ Марксо-Ленинско-Сталинскаго колхоза означенная водка была перевозима со склада въ магазинъ, причемъ въ силу низкаго качества оси, изготовленной Россельмашемъ, подвода перекинулась, и водка — поминай, какъ звали. Актъ будетъ подписанъ: предсѣдателемъ колхоза, старшимъ милицейскимъ и завѣдующимъ Марксо-Ленинско-Сталинскимъ отдѣленіемъ Госспирта. Подойди потомъ, разберись.
Да и разбираться-то никто не будетъ. Мѣстное населеніе будетъ молчать, воды въ ротъ набравши. Ибо, ежели кто-нибудь донесетъ на Петьку въ ГПУ, то въ этомъ ГПУ у Петьки можетъ быть свой товарищъ, или, какъ въ этомъ случаѣ говорятъ "корешокъ"[4]. Петьку-то, можетъ, и вышлютъ въ концлагерь, но зато и оставшіеся "корешки", и тѣ, кто прибудетъ на Петькино мѣсто, постараются съ возможнымъ авторомъ разоблаченія расправиться такъ, чтобы ужъ окончательно никому повадно не было портить очередную активистскую выпивку.
Этакое воровство, въ той части, какая идетъ на активистскій пропой души, большого народно-хозяйственнаго значенія не имѣетъ, даже и въ масштабахъ совѣтской нищеты. Бываетъ значительно хуже, когда для сокрытія воровства или для полученія возможности своровать уничтожаются цѣнности, далеко превосходящія потребительскіе аппетиты актива. Въ моей кооперативной дѣятельности (была и такая) мнѣ разъ пришлось обслѣдовать складъ въ 8.000 пудовъ копченаго мяса, которое сгноили въ цѣляхъ сокрытія концовъ въ воду. Концы дѣйствительно были сокрыты: къ складу за полверсты подойти было нельзя. И на все были акты, подписанные соотвѣтствующими Ваньками, Петьками и Степками.
"Ревизіонная комиссія" вынесла соломоновское рѣшеніе: согнать мужиковъ, выкопавъ ямы, зарыть въ эти ямы оное гнилье.
Для полноты картины слѣдуетъ добавить, что сгнившія колбасы были изготовлены изъ раскулаченныхъ у тѣхъ же мужиковъ свиней. Въ теченіе мѣсяца послѣ этого благовоннаго происшествія половина мѣстнаго актива была вырѣзана мужиками "на корню". Остальные разбѣжались.
АКТИВЪ И ИНТЕЛЛИГЕНЦІЯ
Такъ что — куда ни кинь, все выходятъ чортовы черепки.
Особенно обидный варіантъ этихъ черепковъ получается въ отношеніи актива и интеллигенціи.
Нынѣшній россійскій политическій строй — это абсолютизмъ, который хочетъ быть просвѣщеннымъ. Хозяйственный строй — это крѣпостничество, которое хочетъ быть культурнымъ. Поэтому совѣтскій баринъ любитъ щеголять культурой и бѣлыми перчатками. Обращаясь къ аналогіи крѣпостныхъ временъ, слѣдуетъ вспомнить, что тотъ самый Мирабо, который
— относился весьма сочувственно къ Вольтеру и украшалъ жизнь свою крѣпостнымъ балетомъ. Онъ, конечно, былъ покровителемъ и наукъ, и искусствъ. Онъ, скажемъ, послѣ хорошей псовой охоты по мужичьимъ полямъ или послѣ соотвѣтствующихъ операцій на конюшнѣ, былъ очень не прочь отдохнуть душой и тѣломъ за созерцаніемъ какихъ-нибудь этакихъ черныхъ тюльпановъ. По этой самой причинѣ онъ милостиво пригласить въ свой барскій кабинетъ ученаго, хотя и тоже крѣпостного, садовода и будетъ вести съ нимъ проникновенные разговоры о цвѣтоводствѣ или о томъ, какъ бы этакъ распланировать барскій паркъ, чтобы сосѣднее буржуазное помѣстье издохло бы отъ зависти.
Какъ видите — тема эта довольно тонкая. Бурмистръ же столь тонкихъ разговоровъ вести не можетъ. Онъ выполняетъ функцію грубую: бьетъ плебсъ по мордѣ. Садовода пороть невыгодно, на обученіе его какія-то деньги ухлопали. А на мѣсто бурмистра можно поставить приблизительно любого обормота съ достаточно административными дланями и челюстями.
Вотъ приблизительная схема взаимоотношеній треугольника — партія — активъ — интеллигенцій — такъ, какъ эта схема складывается въ послѣдніе годы. Ибо именно въ послѣдніе годы стало ясно, что съ интеллигенціей власть одновременно и перепланировала, и недопланировала.
Истребленіе "буржуазной интеллигенціи" было поставлено въ такихъ масштабахъ, что, когда "планъ" при содѣйствіи доблестныхъ активистскихъ челюстей былъ выполненъ, то оказалось, что почти никого и не осталось. А новая — совѣтская, пролетарская и т.д. — интеллигенція оказалась, во-первыхъ, еще болѣе контръ-революціонной, чѣмъ была старая интеллигенція, и, во-вторыхъ, менѣе грамотной и технически, и орфографически, чѣмъ была старая даже полуинтеллигенція. Образовалась дыра или, по совѣтской терминологіи, прорывъ. Острая "нехватка кадровъ" врачебныхъ, техническихъ, педагогическихъ и прочихъ. Интеллигентъ оказался "въ цѣнѣ". А недорѣзанный, старый, въ еще большей. Это — не "поворотъ политики" и не "эволюція власти", а просто законъ спроса и предложенія или, по Марксу, "голый чистоганъ". При измѣнившемся соотношеніи спроса — активистскимъ челюстямъ снова найдется работа.
Теперь представьте себѣ психологію актива. Онъ считаетъ, что онъ — соль земли и надежда міровой революціи. Онъ проливалъ кровь. Ему не единажды и не дважды проламывали черепа и выпускали кишки. Онъ безусловно вѣрный песъ совѣтскаго абдулъгамидизма. Ни въ какихъ уклонахъ, сознательныхъ, по крайней мѣрѣ, онъ не повиненъ и повиненъ быть не можетъ. Для "уклона" нужны все-таки хоть какіе-нибудь мозги, хоть какая-нибудь да совѣсть. Ни тѣмъ, ни другимъ активъ не переобремененъ. Можете вы представить себѣ уѣзднаго держиморду, замѣшаннаго въ "безсмысленныхъ мечтаніяхъ" и болѣющаго болями и скорбями страны?
По всему этому активъ считаетъ, что кто — кто, а ужъ онъ-то во всякомъ случаѣ имѣетъ право на начальственныя благодѣянія и на тотъ жизненный пирогъ, который, увы, проплываетъ мимо его стальныхъ челюстей и разинутой пасти и попадаетъ въ руки интеллигенціи — руки завѣдомо ироническія и неблагонадежныя.
А пирогъ попадаетъ все-таки къ интеллигенціи. Цѣпныхъ псовъ никогда особенно не кормятъ: говорятъ, что они отъ этого теряютъ злость. Не кормятъ особенно и активъ — прежде всего потому, что кормить до сыта вообще нечѣмъ, а то, что есть, перепадаетъ преимущественно "людямъ въ цѣнѣ", т.е. партійной верхушкѣ и интеллигенціи.
Все это — очень обидно и очень какъ-то двусмысленно. Скажемъ: активъ обязанъ соглядатайствовать и въ первую голову соглядатайствовать за интеллигенціей и въ особенности за совѣтской и пролетарской, ибо ея больше и она болѣе активна... Какъ бы осторожно человѣка ни учили, онъ отъ этого пріобрѣтаетъ скверную привычку думать. А ничего въ мірѣ совѣтская власть у трудящихся массъ такъ не боится, какъ оружія въ рукѣ и мыслей въ головѣ. Оружіе можно отобрать. Но какимъ, хотя бы самымъ пронзительнымъ обыскомъ, можно обнаружить, напримѣръ, складъ опасныхъ мыслей?
Слѣжка за мыслями — вещь тонкая и активу явно не подъ силу. Но слѣдить онъ обязанъ. Откопаютъ, помимо какого-нибудь приставленнаго къ этому дѣлу Петьки, какой-нибудь троцкистско-бухаринскій право-лѣвый уклоно-загибъ — и сейчасъ же Петьку за жабры: а ты чего не вцѣпился? И поѣдетъ Петька или на Аму-Дарью, или въ ББК.
А, съ другой стороны, какъ его сигнализируешь? Интеллигентъ — онъ "все превзошелъ, депеши выдумывать можетъ", а ужъ Петьку ему этакимъ уклоно-загибомъ обойти — дѣло совсѣмъ плевое. Возьметъ въ руки книжку и ткнетъ туда Петьку носомъ.
— Видишь? Кѣмъ написано? — Бухаринымъ-Каменевымъ-Радекомъ написано. Смотри: партиздатъ есть? — Есть. Виза Главлита есть? — Есть. "Подъ редакціей коммунистической академіи" написано? — Написано. Ну, и пошелъ ты ко всѣмъ чертямъ.
Активисту ничего не останется, какъ пойти ко всѣмъ чертямъ. Но и въ этомъ мѣстопребываніи активисту будетъ неуютно. Ибо откуда его бѣдная чугунная голова можетъ знать, была ли инкриминируемая Бухаринско- и прочее фраза или цитата написана до разоблаченія? Или послѣ покаянія? Или успѣла проскочить передъ обалдѣлымъ взоромъ коммунистической академіи въ промежутокъ между разоблаченіемъ и покаяніемъ? И не придется ли означенному Бухарину за означенную фразу снова разоблачаться, пороться и каяться, и не влетитъ ли при этомъ и оному активисту — заднимъ числомъ и по тому же мѣсту?
Не досмотришь — и:
Притупленіе классовой бдительности.
Хожденіе на поводу у классоваго врага.
Гнилой оппортунизмъ.
Смычка съ враждебными партіи элементами.
Перестараешься — и опять палка:
"Головокруженіе", "перегибъ", "спецеѣдство", "развалъ работы" и даже "травля интеллигенціи"... И какъ тутъ отличить "линію" отъ "загиба", "недооцѣнку" отъ "переоцѣнки", "пролетарскую общественность" отъ "голаго администрированія" и халтуру отъ просто кабака?
На всей этой терминологіи кружатся и гибнутъ головы, наполненныя и не однимъ только "энтузіазмомъ".
СТАВКА НА СВОЛОЧЬ
Совѣтскую власть, въ зависимости отъ темперамента или отъ политическихъ убѣжденій, оцѣниваютъ, какъ извѣстно, съ самыхъ различныхъ точекъ зрѣнія. Но, повидимому, за скобки всѣхъ этихъ точекъ зрѣнія можно вынести одинъ общій множитель, какъ будто безспорный: совѣтская система, какъ система власти во что бы то ни стало, показала міру недосягаемый образецъ "техники власти"...
Какъ бы мы ни оцѣнивали совѣтскую систему, безспорнымъ кажется еще одно: ни одна власть въ исторіи человѣчества не ставила себѣ такихъ грандіозныхъ цѣлей и ни одна въ исторіи власть по дорогѣ къ своимъ цѣлямъ не нагромоздила такого количества труповъ. И при этомъ — осталась непоколебленной.
Этотъ треугольникъ: цѣлей, труповъ и непоколебленности — создаетъ цѣлый рядъ оптическихъ иллюзій... За голой техникой властвованія людямъ мерещатся: и "энтузіазмъ", и "мистика", и "героизмъ", и славянская душа — и много вещей въ стилѣ Откровенія св. Іоанна. Или, во всякомъ случаѣ, столь же понятныхъ...
...Въ 1918 году въ германскомъ Кіевѣ мнѣ какъ-то пришлось этакъ "по душамъ" разговаривать съ Мануильскимъ — нынѣшнимъ генеральнымъ секретаремъ Коминтерна, а тогда представителемъ красной Москвы въ весьма неопредѣленнаго цвѣта Кіевѣ. Я доказывалъ Мануильскому, что большевизмъ обреченъ — ибо сочувствіе массъ не на его сторонѣ.
Я помню, какъ сейчасъ, съ какимъ искреннимъ пренебреженіемъ посмотрѣлъ на меня Мануильскій... Точно хотѣлъ сказать: — вотъ поди-жъ ты, даже міровая война — и та не всѣхъ еще дураковъ вывела...
— Послушайте, дорогой мой, — усмѣхнулся онъ весьма презрительно, — да на какого же намъ чорта сочувствіе массъ? Намъ нуженъ аппаратъ власти. И онъ у насъ будетъ. А сочувствіе массъ? Въ конечномъ счетѣ — наплевать намъ на сочувствіе массъ...
Очень много лѣтъ спустя, пройдя всю суровую, снимающую всякія иллюзіи, школу совѣтской власти, я, такъ сказать, своей шкурой прощупалъ этотъ, уже реализованный, аппаратъ власти въ городахъ и въ деревняхъ, на заводахъ и въ аулахъ, въ ВЦСПС и въ лагерѣ, и въ тюрьмахъ. Только послѣ всего этого мнѣ сталъ ясенъ отвѣтъ на мой давнишній вопросъ: изъ кого же можно сколотить аппаратъ власти при условіи отсутствія сочувствія массъ?
Отвѣтъ заключался въ томъ, что аппаратъ можно сколотить изъ сволочи, и, сколоченный изъ сволочи, онъ оказался непреоборимымъ; ибо для сволочи нѣтъ ни сомнѣнія, ни мысли, ни сожалѣнія, ни состраданія. Твердой души прохвосты.
Конечно, эти твердой души активисты — отнюдь не специфически русское явленіе. Въ Африкѣ они занимаются стрѣльбой по живымъ чернокожимъ цѣлямъ, въ Америкѣ линчуютъ негровъ, покупаютъ акціи компаніи Ноева Ковчега. Это міровой типъ. Это типъ человѣка съ мозгами барана, челюстями волка и моральнымъ чувствомъ протоплазмы. Это типъ человѣка, ищущаго рѣшенія плюгавыхъ своихъ проблемъ въ распоротомъ животѣ ближняго своего. Но такъ какъ никакихъ рѣшеній въ этихъ животахъ не обнаруживается, то проблемы остаются нерѣшенными, а животы вспарываются дальше. Это типъ человѣка, участвующаго шестнадцатымъ въ очереди въ коллективномъ изнасилованіи.
Реалистичность большевизма выразилась, въ частности, въ томъ, что ставка на сволочь была поставлена прямо и безтрепетно.
Я никакъ не хочу утверждать, что Мануильскій былъ сволочью, какъ не сволочью былъ и Торквемада. Но когда христіанство тянуло людей въ небесный рай кострами и пытками, а большевизмъ — въ земной чекой и пулеметами, то въ практической дѣятельности — ничего не подѣлаешь — приходилось базироваться на сволочи. Технику организаціи и использованія этой послѣдней большевизмъ отъ средневѣковой и капиталистической кустарщины поднялъ до уровня эпохи самолетовъ и радіо. Онъ этотъ "активъ" собралъ со всей земли, отдѣлилъ отъ всего остального населенія химической пробой на доносъ и кровь, отгородилъ стѣной изъ ненависти, вооружилъ пулеметами и танками, и... сочувствіе массъ? — Наплевать намъ на сочувствіе массъ...
ЛАГЕРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ АКТИВА
Когда я нѣсколько осмотрѣлся кругомъ и ознакомился съ людскимъ содержаніемъ УРЧ, мнѣ стало какъ-то очень не по себѣ... Правда, на волѣ активу никогда не удавалось вцѣпиться мнѣ въ икры всерьезъ... Но какъ будетъ здѣсь, въ лагерѣ?..
Здѣсь, въ лагерѣ, — самый неудачный, самый озлобленный, обиженный и Богомъ, и Сталинымъ активъ — всѣ тѣ, кто глядѣлъ и недоглядѣлъ, служилъ и переслужился, воровалъ и проворовался... У кого — вмѣсто почти облюбованнаго партбилета — года каторги, вмѣсто автомобиля — березовое полѣно и вмѣсто власти — нищенскій лагерный блатъ изъ-за лишней ложки ячменной каши. А пирогъ? Пирогъ такъ мимо и ушелъ...
— За что, же боролись, братишечки?...
...Я сижу на полѣнѣ, кругомъ на полу валяются кипы "личныхъ дѣлъ", и я пытаюсь какъ-нибудь разобраться или, по Насѣдкинской терминологіи, опредѣлить "что — куда". Высокій жилистый человѣкъ, съ костистымъ изжеваннымъ лицомъ, въ буденовкѣ, но безъ звѣзды и въ военной шинели, но безъ петлицъ — значитъ, заключенный, но изъ привиллегированныхъ — проходитъ мимо меня и осматриваетъ меня, мое полѣно и мои дѣла. Осматриваетъ внимательно и какъ-то презрительно-озлобленно. Проходитъ въ слѣдующую закуту, и оттуда я слышу его голосъ:
— Что эти сукины дѣти съ Погры опять намъ какого-то профессора пригнали?
— Не, юресъ-кон-сулъ какой-то, — отвѣчаетъ подобострастный голосъ.
— Ну, все равно. Мы ему здѣсь покажемъ университетъ. Мы ему очки въ задъ вгонимъ. Твердунъ, вызови мнѣ Фрейденберга.
— Слушаю, товарищъ Стародубцевъ.
Фрейденбергъ — это одинъ изъ украинскихъ профессоровъ, профессоръ математики. Въ этомъ качествѣ онъ почему-то попалъ на должность "статистика" — должность, ничего общаго со статистикой не имѣющая. Статистикъ — это низовой погонщикъ УРЧ долженствующій "въ масштабѣ колонны", т.е. двухъ-трехъ бараковъ, учитывать использованіе рабочей силы и гнать на работу всѣхъ, кто еще не померъ. Неподходящая для профессора Фрейденберга должность...
— Товарищъ Стародубцевъ, Фрейденбергъ у телефона.
— Фрейденбергъ? Говоритъ Стародубцевъ... Сколько разъ я вамъ, сукиному сыну, говорилъ, чтобы вы мнѣ сюда этихъ очкастыхъ идіотовъ не присылали... Что? Чей приказъ? Плевать мнѣ на приказъ! Я вамъ приказываю. Какъ начальникъ строевого отдѣла... А то я васъ со всѣмъ очкастымъ г... на девятнадцатый кварталъ вышибу. Тутъ вамъ не университетъ. Тутъ вы у меня не поразговариваете. Что? Молчать, чортъ васъ раздери... Я вотъ васъ самихъ въ ШИЗО посажу. Опять у васъ вчера семь человѣкъ на работу не вышло. Плевать я хочу на ихнія болѣзни... Вамъ приказано всѣхъ гнать... Что? Вы раньше матомъ крыть научитесь, а потомъ будете разговаривать. Что, ВОХРа у васъ нѣтъ?.. Если у васъ завтра хоть одинъ человѣкъ не выйдетъ...
Я слушаю эту тираду, пересыпанную весьма лапидарными, но отнюдь непечатными выраженіями, и "личныя дѣла" въ голову мнѣ не лѣзутъ... Кто такой этотъ Стародубцевъ, какія у него права и функціи? Что означаетъ этотъ столь много обѣщающій пріемъ? И въ какой степени моя теорія совѣтскихъ взаимоотношеній на волѣ — можетъ быть приложена здѣсь? Здѣсь у меня знакомыхъ — ни души. Профессора? Съ однимъ — вотъ какъ разговариваютъ. Двое служатъ въ УРЧ... уборщиками — совершенно ясно, изъ чистаго издѣвательства надъ "очкастыми". Одинъ, профессоръ "рефлексологіи", штемпелюетъ личныя карточки: 10-15 часовъ однообразнаго движенія рукой.
..."Профессоръ рефлексологіи"... Психологія въ Совѣтской Россіи аннулирована: разъ нѣтъ души, то какая же психологія? А профессоръ былъ такой: какъ-то, нѣсколько позже, не помню, по какому именно поводу, я сказалъ что-то о фрейдизмѣ.
— Фрейдизмъ, — переспросилъ меня профессоръ — это что? Новый уклонъ?
Профессоръ былъ совѣтскаго скорострѣльнаго призыва. А ужъ новую совѣтскую интеллигенцію "активъ" ненавидитъ всѣми фибрами своихъ твердыхъ душъ. Старая — еще туда-сюда. Училась при царскомъ строѣ — кто теперь разберетъ. А вотъ новая, та, которая обошла и обставила активистовъ на самыхъ глазахъ, подъ самымъ носомъ... Тутъ есть отъ чего скрипѣть зубами...
Нѣтъ, въ качествѣ поддержки профессора никуда не годятся.
Пытаюсь разсмотрѣть свою ситуацію теоретически. Къ чему "теоретически" сводится эта ситуація? Надо полагать, что я попалъ сюда потому, что былъ нуженъ болѣе высокому начальству — вѣроятно, начальству изъ чекистовъ. Если это такъ — на Стародубцева, если не сейчасъ, такъ позже можно будетъ плюнуть, Стародубцева можно будетъ обойти такъ, что ему останется только зубами лязгать. А если не такъ? Чѣмъ я рискую? Въ концѣ концовъ, едва-ли большимъ, чѣмъ просто лѣсныя работы. Во всякомъ случаѣ, при любомъ положеніи, попытки актива вцѣпиться въ икры — нужно пресѣкать въ самомъ корнѣ. Такъ говоритъ моя совѣтская теорія. Ибо, если не осадить сразу, — заѣдятъ. Эта публика значительно хуже урокъ. Хотя бы потому, что урки — гораздо толковѣе. Они, если и будутъ пырять ножомъ, то во имя какихъ-то конкретныхъ интересовъ. Активъ можетъ вцѣпиться въ горло просто изъ одной собачьей злости — безъ всякой выгоды для себя и безо всякаго, въ сущности, расчета... Изъ одной, такъ сказать, классовой ненависти...
Въ тотъ же вечеръ прохожу я мимо стола Стародубцева.
— Эй, вы, какъ ваша фамилія? Тоже — профессоръ?
Я останавливаюсь.
— Моя фамилія — Солоневичъ. Я — не профессоръ.
— То-то... Тутъ идіотамъ плохо приходится.
У меня становится нехорошо на душѣ. Значитъ — началось. Значитъ, нужно "осаживать" сейчасъ же... А я здѣсь, въ УРЧ, — какъ въ лѣсу... Но ничего не подѣлаешь. Стародубцевъ смотритъ на меня въ упоръ наглыми, выпученными, синими съ прожилками глазами.
— Ну, не всѣ же идіоты... Вотъ вы, насколько я понимаю, не такъ ужъ плохо устроились.
Кто-то сзади хихикнулъ и заткнулся. Стародубцевъ вскочилъ съ перекошеннымъ лицомъ. Я постарался всѣмъ своимъ лицомъ и фигурой выразить полную и немедленную, психическую и физическую, готовность дать въ морду... И для меня это, вѣроятно, грозило бы нѣсколькими недѣлями изолятора. Для Стародубцева — нѣсколькими недѣлями больницы. Но послѣдняго обстоятельства Стародубцевъ могъ еще и не учитывать. Поэтому я, предупреждая готовый вырваться изъ устъ Стародубцева матъ, говорю ему этакимъ академическимъ тономъ:
— Я, видите ли, не знаю вашего служебнаго положенія. Но долженъ васъ предупредить, что, если вы хоть на одну секунду попробуете разговаривать со мною такимъ тономъ, какъ разговаривали съ профессоромъ Фрейденбергомъ, то получится очень нехорошо...
Стародубцевъ стоитъ молча. Только лицо его передергивается. Я поворачиваюсь и иду дальше. Вслѣдъ мнѣ несется:
— Ну, подожди же...
И уже пониженнымъ голосомъ присовокупляется матъ. Но этого мата я "оффиціально" могу и не слышать — я уже въ другой комнатѣ...
Въ тотъ же вечеръ, сидя на своемъ полѣнѣ, я слышу въ сосѣдней комнатѣ такой діалогъ.
Чей-то голосъ:
— Тов. Стародубцевъ, что такое их-ті-о-логъ?
— Ихтіологъ? Это рыба такая. Допотопная. Сейчасъ ихъ нѣту.
— Какъ нѣту? А вотъ Медгора требуетъ сообщить, сколько у насъ на учетѣ ихтіологовъ.
— Вотъ тоже, сразу видно — идіоты съ университетскимъ образованіемъ... — Голосъ Стародубцева повышается въ расчетѣ на то, чтобы я смогъ слышать его афоризмъ. — Вотъ тоже удивительно: какъ съ высокимъ образованіемъ — такъ непремѣнно идіотъ. Ну, и напиши имъ: никакихъ допотопныхъ рыбъ въ распоряженіи УРЧ не имѣется. Утри имъ .... носъ.
Парень замолкъ, видимо, приступивъ къ "утиранію носа". И вотъ, къ моему ужасу, слышу я голосъ Юры:
— Это не рыба, товарищъ Стародубцевъ, а ученый... который рыбъ изучаетъ.
— А вамъ какое дѣло? Не разговаривать, когда васъ не спрашиваютъ, чортъ васъ возьми!.. Я васъ тутъ научу разговаривать... Всякій сукинъ сынъ будетъ лѣзть не въ свое дѣло...
Мнѣ становится опять нехорошо. Вступиться съ кулаками на защиту Юры — будетъ какъ-то глупо, въ особенности, пока дѣло до кулаковъ еще не доходитъ... Смолчать? Дать этому активу прорвать нашъ фронтъ, такъ сказать, на Юриномъ участкѣ?.. И на какого чорта нужно было Юрѣ лѣзть съ его поправкой... Слышу срывающійся голосъ Юры:
— Слушаюсь... Но только я доложу объ этомъ начальнику УРЧ. Если бы ваши допотопныя рыбы пошли въ Медгору, — была бы непріятность и ему.
У меня отходитъ отъ сердца. Молодцомъ Юрчикъ, выкрутился... Но какъ долго и съ какимъ успѣхомъ придется еще выкручиваться дальше?
___
Насъ помѣстили на жительство въ палаткѣ. Было электрическое освѣщеніе и съ потолка вода не лилась. Но температура на нарахъ была градусовъ 8-10 ниже нуля.
Ночью пробираемся "домой". Юра подавленъ...
— Нужно куда-нибудь смываться, Ватикъ... Заѣдятъ. Сегодня я видалъ: Стародубцевъ выронилъ папиросу, позвалъ изъ другой комнаты профессора М. и заставилъ ее поднять... Къ чортовой матери: лучше къ уркамъ или въ лѣсъ...
Я тоже думалъ, что лучше къ уркамъ или въ лѣсъ. Но я еще не зналъ всего, что намъ готовилъ УРЧ, и мѣсяцы, которые намъ предстояло провести въ немъ. Я также недооцѣнивалъ волчью хватку Стародубцева: онъ чуть было не отправилъ меня подъ разстрѣлъ. И никто еще не зналъ, что впереди будутъ кошмарныя недѣли отправки подпорожскихъ эшелоновъ на БАМ, что эти недѣли будутъ безмѣрно тяжелѣе Шпалерки, одиночки и ожиданія разстрѣла...
И что все-таки, если бы не попали въ УРЧ, то едва-ли бы мы выбрались изъ всего этого живьемъ.
РАЗГОВОРЪ СЪ НАЧАЛЬСТВОМЪ
На другой день ко мнѣ подходитъ одинъ изъ профессоровъ-уборщиковъ.
— Васъ вызываетъ начальникъ УРЧ, тов. Богоявленскій...
Нервы, конечно, уже начинаютъ тупѣть. Но все-таки на душѣ опять тревожно и нехорошо. Въ чемъ дѣло? Не вчерашній ли разговоръ со Стародубцевымъ?
— Скажите мнѣ, кто, собственно, этотъ Богоявленскій? Изъ заключенныхъ?
— Нѣтъ, старый чекистъ.
Становится легче. Опять — одинъ изъ парадоксовъ совѣтской путаницы... Чекистъ — это хозяинъ. Активъ — это свора. Свора норовитъ вцѣпиться въ любыя икры, даже и тѣ, которыя хозяинъ предпочелъ бы видѣть неизгрызанными. Хозяинъ можетъ быть любою сволочью, но накинувшуюся на васъ свору онъ въ большинствѣ случаевъ отгонитъ плетью. Съ мужикомъ и рабочимъ активъ расправляется болѣе или менѣе безпрепятственно. Интеллигенцію сажаетъ само ГПУ... Въ столицахъ, гдѣ активъ торчитъ совсѣмъ на задворкахъ, это мало замѣтно, но въ провинціи ГПУ защищаетъ интеллигенцію отъ актива... Или, во всякомъ случаѣ, отъ самостоятельныхъ поползновеній актива.
Такая же закута, какъ и остальные "отдѣлы" УРЧ. Задрипанный письменный столъ. За столомъ — человѣкъ въ чекистской формѣ. На столѣ передъ нимъ лежитъ мое "личное дѣло".
Богоявленскій окидываетъ меня суровымъ чекистскимъ взоромъ и начинаетъ начальственное внушеніе, совершенно безпредметное и безсмысленное: здѣсь, дескать, лагерь, а не курортъ, здѣсь, дескать, не миндальничаютъ, а съ контръ-революціонерами въ особенности, за малѣйшее упущеніе или нарушеніе трудовой лагерной дисциплины — немедленно подъ арестъ, въ ШИЗО, на девятнадцатый кварталъ, на Лѣсную рѣчку... Нужно "взять большевицкіе темпы работы", нужна ударная работа. Ну, и такъ далѣе.
Это свирѣпое внушеніе дѣйствуетъ, какъ бальзамъ на мои раны: эффектъ, какового Богоявленскій никакъ не ожидалъ. Изъ этого внушенія я умозаключаю слѣдующее: что Богоявленскій о моихъ статьяхъ знаетъ, что оныя статьи въ его глазахъ никакимъ препятствіемъ не служатъ, что о разговорѣ со Стародубцевымъ онъ или ничего не знаетъ, или, зная, никакого значенія ему не придаетъ и что, наконецъ, о моихъ будущихъ функціяхъ онъ имѣлъ то самое представленіе, которое столь блестяще было сформулировано Насѣдкинымъ: "что — куда"...
— Гражданинъ начальникъ, позвольте вамъ доложить, что ваше предупрежденіе совершенно безцѣльно.
— То-есть — какъ такъ безцѣльно, — свирѣпѣетъ Богоявленскій.
— Очень просто: разъ я попалъ въ лагерь — въ моихъ собственныхъ интересахъ работать, какъ вы говорите, ударно и стать цѣннымъ работникомъ, въ частности, для васъ. Дѣло тутъ не во мнѣ.
— А въ комъ же, по вашему, дѣло?
— Гражданинъ начальникъ, вѣдь черезъ недѣлю-двѣ въ одной только Погрѣ будетъ 25-30 тысячъ заключенныхъ. А по всему отдѣленію ихъ будетъ тысячъ сорокъ-пятьдесятъ. Вѣдь вы понимаете: какъ при такомъ аппаратѣ... Вѣдь и мнѣ въ конечномъ счетѣ придется отвѣчать, всему УРЧ и мнѣ — тоже.
— Да, ужъ насчетъ — отвѣчать, это будьте спокойны. Не поцеремонимся.
— Ну, конечно. На волѣ тоже не церемонятся. Но вопросъ въ томъ, какъ при данномъ аппаратѣ организовать разсортировку этихъ сорока тысячъ? Запутаемся вѣдь къ чертовой матери.
— Н-да. Аппаратъ у насъ — не очень. А на волѣ вы гдѣ работали?
Я изобрѣтаю соотвѣтствующій моменту стажъ.
— Такъ. Что-жъ вы стоите? Садитесь.
— Если вы разрѣшите, гражданинъ начальникъ. Мнѣ кажется, что вопросъ идетъ о квалификаціи существующаго аппарата. Особенно — въ низовкѣ, въ баракахъ и колоннахъ. Нужно бы небольшіе курсы организовать. На основѣ ударничества.
И я запинаюсь... Усталость... Мозги не работаютъ... Вотъ дернула нелегкая ляпнуть объ ударничествѣ. Не хватало еще ляпнуть что-нибудь о соціалистическомъ соревнованіи: совсѣмъ подмочилъ бы свою нарождающуюся дѣловую репутацію.
— Да, курсы — это бы не плохо. Да кто будетъ читать?
— Я могу взяться. Медгора должна помочь. Отдѣленіе, какъ никакъ — ударное.
— Да это надо обдумать. Берите папиросу.
— Спасибо. Я старовѣръ.
Моя образцово-показательная коробка опять появляется на свѣтъ Божій. Богоявленскій смотритъ на нее не безъ удивленія. Я протягиваю:
— Пожалуйста.
Богоявленскій беретъ папиросу.
— Откуда это люди въ лагерѣ такія папиросы достаютъ?
— Изъ Москвы пріятели прислали. Сами не курятъ, а записаны въ распредѣлителѣ номеръ первый.
Распредѣлитель номеръ первый — это правительственный распредѣлитель такъ, для наркомовъ и иже съ ними. Богоявленскій это, конечно, знаетъ...
Минутъ черезъ двадцать мы разстаемся съ Богоявленскимъ, нѣсколько не въ томъ тонѣ, въ какомъ встрѣтились.
ТЕХНИКА ГИБЕЛИ МАССЪ
Мои обязанности "юрисконсульта" и "экономиста-плановика" имѣли то замѣчательное свойство, что никто рѣшительно не зналъ, въ чемъ именно онѣ заключаются. Въ томъ числѣ и я. Я знакомился съ новой для меня отраслью совѣтскаго бытія и по мѣрѣ своихъ силъ пытался завести въ УРЧ хоть какой-нибудь порядокъ. Богоявленскій, надо отдать ему справедливость, оказывалъ мнѣ въ этихъ попыткахъ весьма существенную поддержку. "Активъ" изводилъ насъ съ Юрой десятками мелкихъ безсмысленныхъ подвоховъ, но ничего путнаго сдѣлать не могъ и, какъ оказалось впослѣдствіи, концентрировалъ силы для генеральной атаки. Чего этому активу было нужно, я такъ и не узналъ до конца. Возможно, что одно время онъ боялся, какъ бы я не сталъ на скользкіе пути разоблаченія его многообразнаго воровства, вымогательства и грабежа, но для такой попытки я былъ все-таки слишкомъ стрѣляннымъ воробьемъ. Благопріобрѣтенные за счетъ мужицкихъ жизней бутылки совѣтской сивухи распивались, хотя и келейно, но вкупѣ съ "головкой" административнаго отдѣла, третьей части и прочихъ лагерныхъ заведеній... Словомъ — та же схема: Ванька — въ колхозѣ, Степка — въ милиціи, Петька — въ Госспиртѣ. Попробуйте пробить эту цѣпь круговой, пріятельской, пролетарской поруки.Это и на волѣ жизнеопасно, а въ лагерѣ — ужъ проще сразу повѣситься. Я не собирался ни вѣшаться, ни лѣзть съ буржуазнымъ уставомъ въ пролетарскій монастырь. Но активъ продолжалъ насъ травить безсмысленно и, въ сущности, безцѣльно. Потомъ въ эту, сначала безсмысленную, травлю вклинились мотивы дѣловые и весьма вѣсомые. Разыгралась одна изъ безчисленныхъ въ Россіи сценъ "классовой борьбы" между интеллигенціей и активомъ — борьбы за человѣческіе жизни...
"БЕЗПОЩАДНОСТЬ" ВЪ КАЧЕСТВѢ СИСТЕМЫ
Техника истребленія массъ имѣетъ два лица. Съ одной стороны простирается "кровавая рука ГПУ", то-есть система обдуманная, безпощадно-жестокая, но все же не безсмысленная. Съ другой стороны дѣйствуетъ активъ, который эту безпощадность доводитъ до полной безсмыслицы, уже никому, въ томъ числѣ и ГПУ, рѣшительно ни для чего не нужной. Такъ дѣлается и на волѣ, и въ лагерѣ.
Лагерный порядокъ поставленъ такъ: заключенный Иванъ долженъ срубить и напилить 7,5 кубометровъ лѣса въ день или выполнить соотвѣтствующее количество другой работы. Все эти работы строго нормированы, и нормы отпечатаны въ обоихъ справочникахъ. Этотъ Иванъ получаетъ свое дневное пропитаніе исключительно въ зависимости отъ количества выполненной работы. Если онъ выполняетъ норму цѣликомъ — онъ получаетъ 800 граммъ хлѣба. Если не выполняетъ — получаетъ 500, 400 и даже 200 граммъ. На энномъ лагпунктѣ имѣется тысяча такихъ Ивановъ, слѣдовательно, энный лагпунктъ долженъ выполнить 7500 кубометровъ. Если эта норма выполнена не будетъ, то не только отдѣльные Иваны, но и весь лагпунктъ въ цѣломъ получитъ урѣзанную порцію хлѣба. При этомъ нужно имѣть въ виду, что хлѣбъ является почти единственнымъ продуктомъ питанія и что при суровомъ приполярномъ климатѣ 800 граммъ обозначаетъ болѣе или менѣе стабильное недоѣданіе, 400 — вымираніе, 200 — голодную смерть. Количество использованныхъ рабочихъ рукъ подсчитываетъ УРЧ, количество и качество выполненной работы — производственный отрядъ, на основаніи данныхъ котораго отдѣлъ снабженія выписываетъ то или иное количество хлѣба.
Нормы эти практически не выполняются никогда. И отъ того, что "рабочая сила" находится въ состояніи постояннаго истощенія, и оттого, что совѣтскій инструментъ, какъ правило, никуда не годится, и оттого, что на каждомъ лагерномъ пунктѣ имѣется извѣстное количество "отказчиковъ" — преимущественно урокъ, и по многимъ другимъ причинамъ. Техники, вродѣ Лепешкина, экономисты, вродѣ меня, инженеры и прочіе интеллигенты непрестанно изощряются во всякихъ комбинаціяхъ, жульничествахъ и подлогахъ, чтобы половину выполненной нормы изобразить въ качествѣ 70 процентовъ и чтобы отстоять лагпункты отъ голоданія. Въ нѣкоторой степени это удается почти всегда. При этой "поправкѣ" и при, такъ сказать, нормальномъ ходѣ событій лагпункты голодаютъ, но не вымираютъ. Однако, "нормальный порядокъ" — вещь весьма неустойчивая.
Карьеръ № 3 на лагпунктѣ Погра занятъ земляными работами. Эти работы опять-таки нормированы. Пока карьеръ копается въ нормальномъ грунтѣ, дѣло кое-какъ идетъ. Затѣмъ землекопы наталкиваются на такъ называемый "плывунъ" — водоносный слой песка. Полужидкая песчаная кашица расплывается съ лопатъ и съ тачекъ. Нормы выполнить невозможно физически. Кривая выработки катастрофически идетъ внизъ Такъ же катастрофически падаетъ кривая снабженія. Бригады карьера — тысячи двѣ землекоповъ — начинаютъ пухнуть отъ голода. Кривая выработки падаетъ еще ниже, кривая снабженія идетъ вслѣдъ за ней. Бригады начинаютъ вымирать.
Съ точки зрѣнія обычной человѣческой логики — нормы эти нужно пересмотрѣть. Но такой пересмотръ можетъ быть сдѣланъ только управленіемъ лагеря и только съ санкціи ГУЛАГа въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Это дѣлается для того, чтобы никакое мѣстное начальство, на глазахъ котораго дохнутъ люди, не имѣло бы никакой возможности прикрывать "объективными причинами" какіе бы то ни было производственные прорывы. Это дѣлается, дальше, потому, что система, построенная на подстегиваніи "рабочей силы" угрозой голодной смерти, должна показать людямъ эту смерть въ, такъ сказать, натуральномъ видѣ, чтобы публика не думала, что кто-то съ нею собирается шутки шутить.
Въ данномъ случаѣ — случаѣ съ карьеромъ № 3 — санкція на пересмотръ нормъ получилась только тогда, когда всѣ бригады полностью перешли въ такъ называемую слабосилку — мѣсто, куда отправляютъ людей, которые уже совсѣмъ валятся съ ногъ отъ голода или отъ перенесенной болѣзни, гдѣ имъ даютъ 600 граммъ хлѣба и используютъ на легкихъ и ненормированныхъ работахъ. Обычный лагерникъ проходитъ такую слабосилку раза три за свою лагерную жизнь. Съ каждымъ разомъ поправка идетъ все труднѣе. Считается, что послѣ третьей слабосилки выживаютъ только исключительно крѣпкіе люди.
Конечно, лагерная интеллигенція — иногда при прямомъ попустительствѣ мѣстнаго лагернаго начальства, ежели это начальство толковое, — изобрѣтаетъ самыя фантастическія комбинаціи для того, чтобы спасти людей отъ голода. Такъ, въ данномъ случаѣ была сдѣлана попытка работы въ карьерѣ прекратить совсѣмъ, а землекоповъ перебросить на лѣсныя работы. Но объ этой попыткѣ узнало управленіе лагеремъ, и рядъ инженеровъ поплатился добавочными сроками, арестомъ и даже ссылкой на Соловки. Въ бригадахъ изъ 2.000 человѣкъ до слабосилки и въ самой слабосилкѣ умерло, по подсчетамъ Бориса, около 1.600 человѣкъ.
Это — "безпощадность" обдуманная и осмысленная. Бороться съ нею почти невозможно. Это — система. Въ систему входятъ, конечно, и разстрѣлы, но я не думаю, чтобы по Бѣломорско-Балтійскому лагерю разстрѣливали больше двухъ-трехъ десятковъ человѣкъ въ день.
АКТИВИСТСКАЯ ПОПРАВКА ВЪ СИСТЕМѢ БЕЗПОЩАДНОСТИ
Параллельно этой системѣ, возглавляемой и поддерживаемой ГПУ, развивается "многополезная" дѣятельность актива, причиняющая "лагерному населенію" неизмѣримо большія потери, чѣмъ ГПУ, слабосилка и разстрѣлы. Эта дѣятельность актива направляется говоря схематично, тремя факторами: рвеніемъ, безграмотностью и безтолковостью.
А. Рвеніе.
Прибывающіе въ лагерь эшелоны этапниковъ попадаютъ въ "карантинъ" и "распредѣлительные пункты", гдѣ людямъ даютъ 600 граммовъ хлѣба и гдѣ нормированныхъ работъ нѣтъ. Лагерная система съ необычайной жестокостью относится къ использованію рабочей силы. Переброски изъ отдѣленія въ отдѣленіе дѣлаются только въ выходные дни. Пребываніе лагерника въ карантинѣ и на распредѣлительномъ пунктѣ считается "утечкой рабочей силы". Эта "утечка" организаціонно неизбѣжна, но УРЧ долженъ слѣдить за тѣмъ, чтобы ни одного лишняго часа лагерникъ не проторчалъ внѣ производственной бригады. УРЧ изъ кожи лѣзетъ вонъ, чтобы въ самомъ стремительномъ порядкѣ разгрузить карантинъ и распредѣлительные пункты. Этимъ дѣломъ завѣдуетъ Стародубцевъ. Десятки тысячъ лагерниковъ, еще не оправившихся отъ тюремной голодовки, еще еле таскающихъ свои истощенныя ноги, перебрасываются на лѣсныя работы, въ карьеры и прочее. Но дѣлать имъ тамъ нечего. Инвентаря еще нѣтъ. Нѣтъ пилъ, топоровъ, лопатъ, тачекъ, саней. Нѣтъ и одежды — но одежды не будетъ совсѣмъ: въ лѣсу, на двадцатиградусныхъ морозахъ, по поясъ въ снѣгу придется работать въ томъ, въ чемъ человѣка засталъ арестъ.
Если нѣтъ топоровъ, нормы выполнены не будутъ. Люди хлѣба не получатъ — такъ же и изъ тѣхъ же соображеній, по которымъ не получили хлѣба землекопы карьера № 3. Но тамъ давали хоть по 400 граммъ — все-таки хоть что-то да копали, а здѣсь будутъ давать только 200, ибо выработка равна приблизительно нулю.
Слѣдовательно, УРЧ, въ лицѣ Стародубцева, выполняетъ свое заданіе, такъ сказать, "въ боевомъ порядкѣ". Онъ рабочую силу далъ. Что съ этой рабочей силой будетъ дальше — его не касается: пусть расхлебываетъ производственный отдѣлъ. Производственный отдѣлъ, въ лицѣ своихъ инженеровъ, мечется, какъ угорѣлый, собираетъ топоры и пилы, молитъ о пріостановкѣ этого потока людей, не могущихъ быть использованными. А потокъ все льется.
Пришлось говорить Богоявленскому не о томъ, что люди гибнутъ — на это ему было наплевать, — а о томъ, что, если черезъ недѣлю-двѣ придется поставить на положеніе слабосилки половину лагеря, — за это и ГУЛАГ по головкѣ не погладитъ. Потокъ былъ пріостановленъ, и это было моимъ первымъ дѣловымъ столкновеніемъ со Стародубцевымъ.
Б. Безграмотность.
Строительство гидростанціи на рѣкѣ Нивѣ ("Нивастрой") требуетъ отъ нашего отдѣленія 860 плотниковъ. По такимъ требованіямъ высылаютъ крестьянъ, исходя изъ того соображеніи, что всякій крестьянинъ болѣе или менѣе плотникъ. Въ партію, назначенную на отправку, попадаетъ 140 человѣкъ узбековъ, которые въ "личныхъ карточкахъ" въ графѣ "профессіи" помѣчены крестьянами. Урчевскій активъ и понятія не имѣетъ о томъ, что эти узбеки, выросшіе въ безводныхъ и безлѣсныхъ пустыняхъ Средней Азіи, съ плотничьимъ ремесломъ не имѣютъ ничего общаго, что слѣдовательно, какъ рабочая сила — они будутъ безполезны, какъ ѣдоки — они, не вырабатывая плотницкой нормы, будутъ получать по 200-400 гр. хлѣба, что они, какъ жители знойной и сухой страны, попавъ за полярный кругъ, въ тундру, въ болото, въ полярную ночь вымрутъ, какъ мухи, и отъ голода, и отъ цынги.
В. Безтолковщина.
Нѣсколько дней подрядъ Стародубцевъ изрыгалъ въ телефонную трубку неописуемую хулу на начальство третьяго лагпункта. Но эта хула была, такъ сказать, обычнымъ методомъ административнаго воздѣйствія. Каждое совѣтское начальство, вмѣсто того, чтобы привести въ дѣйствіе свои мыслительныя способности, при всякомъ "прорывѣ" хватается прежде всего за привычное оружіе разноса и разгрома. Нехитро, кажется, было бы догадаться, что, если прорывъ на лицо, то все, что можно было сдѣлать въ порядкѣ матерной эрудиціи — было сдѣлано уже и безъ Стародубцева. Что "подтягивали", "завинчивали гайки", крыли матомъ и сажали подъ арестъ и бригадиры, и статистики, и начальники колоннъ, и ужъ, разумѣется, и начальникъ лагпункта. Никакой Америки Стародубцевъ тутъ изобрѣсти не могъ. Нехитро было бы догадаться и о томъ, что, если низовой матъ не помогъ, то и Стародубцевскій не поможетъ... Во всякомъ случаѣ, эти фіоритуры продолжались дней пять, и я какъ-то слыхалъ, что на третьемъ лагпунктѣ дѣла обстоятъ совсѣмъ дрянь. Наконецъ, вызываетъ меня Богоявленскій, съ которымъ къ этому времени у меня успѣли установиться кое-какія "дѣловыя отношенія".
— Послушайте, разберитесь-ка вы въ этой чертовщинѣ. По нашимъ даннымъ третій лагпунктъ выполняетъ свою норму почти цѣликомъ. А эти идіоты изъ ПРО (производственный отдѣлъ) показываютъ только 25 процентовъ. Въ чемъ здѣсь дѣло?
Я засѣлъ за кипу "сводокъ", сотней которыхъ можно было бы покрыть доброе нѣмецкое княжество. Графы сводокъ, говорящія объ использованіи конскаго состава, навели меня на нѣкоторыя размышленія. Звоню въ ветеринарную часть лагпункта.
— Что у васъ такое съ лошадьми дѣлается?
— У насъ, говоря конкретно, съ лошадьми фактически дѣло совсѣмъ дрянь.
— Да вы говорите толкомъ — въ чемъ же дѣло?
— Такъ что лошади фактически не работаютъ.
— Почему не работаютъ?
— Такъ что, можно сказать, почти всѣ подохли.
— Отъ чего подохли?
— Это, такъ сказать, по причинѣ вѣточнаго корма. Какъ его, значитъ, осенью силосовали, такъ вотъ, значитъ, какъ есть всѣ кони передохли.
— А на чемъ же вы лѣсъ возите?
— Говоря фактически — на спинахъ возимъ. Ручною тягой.
Все сразу стало понятнымъ...
Кампанія — конечно, "ударная" — на внѣдреніе вѣточнаго корма провалилась по Руси, когда я еще былъ на волѣ. Когда отъ раскулачиванія и коллективизаціи не то что овесъ, а и трава расти перестала — власть стала внѣдрять вѣточный кормъ. Оффиціально доказывалось, что кормъ изъ сосновыхъ и еловыхъ вѣтокъ — замѣчательно калорійный, богатый витаминами и прочее. Это было нѣчто вродѣ пресловутаго кролика. Кто дерзалъ сомнѣваться или, упаси Боже, возражать — ѣхалъ въ концлагерь. Колхозные мужики и бабы уныло бродили по лѣсамъ, рѣзали еловыя и сосновыя вѣтки, потомъ эти вѣтки запихивались въ силосныя ямы... Та же исторія была продѣлана и здѣсь. Пока было сѣно — лошади кое-какъ держались. Когда перешли на стопроцентный дровяной способъ кормленія — лошади передохли всѣ.
Начальство лагпункта совершенно правильно разсудило, что особенно торопиться съ констатированіемъ результатовъ этого елово-сосноваго кормленія — ему совершенно незачѣмъ, ибо, хотя это начальство въ данномъ нововведеніи ужъ никакъ повинно не было, но вздуютъ въ первую очередь его по той именно схемѣ, о которой я говорилъ въ главѣ объ активѣ: отвѣчаетъ преимущественно самый младшій держиморда. Дрова таскали изъ лѣсу на людяхъ на разстояніи отъ 6 до 11 километровъ. Такъ какъ "подвозка ручной тягой" въ нормировочныхъ вѣдомостяхъ предусмотрѣна, то лагерники выполнили приблизительно 70-80 процентовъ, но нормы не по рубкѣ, а по перевозкѣ. Путемъ нѣкоторыхъ статистическихъ ухищреній лагпунктовская интеллигенція подняла этотъ процентъ до ста. Но отъ всѣхъ этихъ мѣропріятій дровъ отнюдь не прибавлялось. И единственное, что могла сдѣлать интеллигенція производственнаго отдѣла — это: путемъ примѣрно такихъ же ухищреній поднять процентъ фактической заготовки лѣса съ 5-10% до, скажемъ, 40-50%. Отдѣлъ снабженія изъ этого расчета и выдавалъ продовольствіе лагпункту.
Населеніе лагпункта стало помаленьку переѣзжать въ слабосилку. А это — тоже не такъ просто: для того, чтобы попасть въ слабосилку, раньше нужно добиться врачебнаго осмотра, нужно, чтобы были "объективные признаки голоднаго истощенія", а въ этихъ признакахъ разбирался не столько врачъ, сколько члены комиссіи изъ того же актива... И, наконецъ, въ слабосилку, всегда переполненную, принимаютъ далеко не всѣхъ. Лагпунктъ вымиралъ уже къ моменту моего открытія этой силосованной чепухи...
Когда я съ этими результатами пошелъ на докладъ къ Богоявленскому, Стародубцевъ кинулся сейчасъ же вслѣдъ за мной. Я доложилъ. Богоявленскій посмотрѣлъ на Стародубцева:
— Двѣ недѣли... двѣ недѣли ни черта толкомъ узнать даже не могли... Работнички, мать вашу... Вотъ посажу я васъ на мѣсяцъ въ ШИЗО...
Но не посадилъ. Стародубцевъ считался незамѣнимымъ спеціалистомъ по урчевскимъ дѣламъ... Въ Медгору полетѣла средактированная въ трагическихъ тонахъ телеграмма съ просьбой разрѣшить "внѣплановое снабженіе" третьяго лагпункта, ввиду открывшейся конской эпидеміи. Черезъ три дня изъ Медгоры пришелъ отвѣтъ: "Выяснить и подвергнуть суровому наказанію виновныхъ"...
Теперь "въ дѣло" былъ брошенъ активъ третьей части. Арестовывали ветеринаровъ, конюховъ, возчиковъ. Арестовали начальника лагпункта — чекиста. Но никому въ голову не пришло подумать о томъ, что будетъ съ лошадьми и съ силосованнымъ дубьемъ на другихъ лагпунктахъ...
А на третьемъ лагпунктѣ работало около пяти тысячъ человѣкъ...
___
Конечно, помимо, такъ сказать, "массовыхъ мѣропріятій", активъ широко практикуетъ и индивидуальный грабежъ тѣхъ лагерниковъ, у которыхъ что-нибудь есть, а также и тѣхъ, у которыхъ нѣтъ рѣшительно ничего. Такъ, напримѣръ, отъ посылки на какой-нибудь Нивастрой можно откупиться литромъ водки. Литръ водки равенъ заработку лѣсоруба за четыре — пять мѣсяцевъ каторжной работы. Лѣсорубъ получаетъ 3 р. 80 коп. въ мѣсяцъ, и на эти деньги онъ имѣетъ право купить въ "ларькѣ" (лагерный кооперативъ) 600 гр. сахару и 20 граммъ махорки въ мѣсяцъ. Конечно, лучше обойтись и безъ сахару, и безъ махорки, и даже безъ марокъ для писемъ домой, чѣмъ поѣхать на Нивастрой. Способовъ въ этомъ родѣ — иногда значительно болѣе жестокихъ — въ распоряженіи актива имѣется весьма обширный выборъ... Я полагаю, что, въ случаѣ паденія совѣтской власти, этотъ активъ будетъ вырѣзанъ приблизительно сплошь — такъ, въ масштабѣ семизначныхъ чиселъ. Отнюдь не будучи человѣкомъ кровожаднымъ, я полагаю, что – стоитъ.
ЗА ЧТО ЛЮДИ СИДЯТЪ?
Всѣ эти прорывы, кампаніи и прочая кровавая чепуха касались меня, какъ "экономиста-плановика", хотя я за все свое пребываніе на этомъ отвѣтственномъ посту ничего и ни на одну копѣйку не напланировалъ. Въ качествѣ же юрисконсульта, я, несмотря на оптимистическое мнѣніе Насѣдкина: "ну, вы сами разберетесь — что къ чему", — все-таки никакъ не могъ сообразить, что мнѣ дѣлать съ этими десятками пудовъ "личныхъ дѣлъ". Наконецъ, я сообразилъ, что, если я опредѣлю мои никому неизвѣстныя функціи, какъ "оказаніе юридической помощи лагерному населенію", то это будетъ нѣчто, соотвѣтствующее, по крайней мѣрѣ, моимъ собственнымъ устремленіямъ. На "юридическую помощь" начальство посмотрѣло весьма косо:
— Что, кулаковъ собираетесь изъ лагеря выцарапывать?..
Но я заявилъ, что по инструкціи ГУЛАГа такая функція существуетъ. Противъ инструкціи ГУЛАГа Богоявленскій, разумѣется, возражать не посмѣлъ. Правда, онъ этой инструкціи и въ глаза не видалъ, я — тоже, но инструкція ГУЛАГа, даже и несуществующая, звучала какъ-то внушительно.
Отъ тридцати пудовъ этихъ "дѣлъ" несло тяжкимъ запахомъ того же безправія и той же безграмотности. Здѣсь дѣйствовала та же схема: осмысленная безпощадность ГПУ и безсмысленное и безграмотное рвеніе актива. Съ папками, прибывшими изъ ГПУ, мнѣ не оставалось дѣлать рѣшительно ничего; тамъ стояло: "Ивановъ, по статьѣ такой-то, срокъ десять лѣтъ". И точка. Никакой "юридической помощи" тутъ не выжмешь. Городское населеніе сидѣло почти исключительно по приговорамъ ГПУ. Если и попадались приговоры судовъ, то они въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ были мотивированы съ достаточной, по совѣтскимъ масштабамъ, убѣдительностью. Крестьяне сидѣли и по приговорамъ ГПУ, и по постановленіямъ безконечныхъ "троекъ" и "пятерокъ" — по раскулачиванію, по коллективизаціи, по хлѣбозаготовкамъ, и я даже наткнулся на приговоры троекъ по внѣдренію вѣточнаго корма — того самаго... Здѣсь тоже ничего нельзя было высосать. Приговоры обычно были формулированы такъ: Ивановъ Иванъ, середнякъ, 47-ми лѣтъ, 7/8, №, 10 лѣтъ. Это значило, что человѣкъ сидитъ за нарушеніе закона о "священной соціалистической собственности" (законъ отъ 7 августа 1932 года) и приговоренъ къ десяти годамъ. Были приговоры народныхъ судовъ, были и мотивированные приговоры разныхъ "троекъ". Одинъ мнѣ попался такой: человѣка засадили на 10 лѣтъ за кражу трехъ картошекъ на колхозномъ полѣ, "каковыя картофелины были обнаружены при означенномъ обвиняемомъ Ивановѣ обыскомъ".
"Мотивированные приговоры" были мукой мученической. Если и былъ какой-то "составъ преступленія", то въ литературныхъ упражненіяхъ какого-нибудь выдвиженца, секретарствующаго въ Краснококшайскомъ народномъ судѣ, этотъ "составъ" былъ запутанъ такъ, что — ни начала, ни конца. Часто, здѣсь же рядомъ, въ дѣлѣ лежитъ и заявленіе осужденнаго, написанное уже въ лагерѣ. И изъ заявленія ничего не понять. Соціальное происхожденіе, конечно, бѣдняцкое, клятвы въ вѣрности соціалистическому строительству и "нашему великому вождю", призывы къ пролетарскому милосердію. Одновременно и "полное и чистосердечное раскаяніе" и просьба о пересмотрѣ дѣла, "потому какъ трудящій съ самыхъ малыхъ лѣтъ, а что написано у приговорѣ, такъ въ томъ виноватымъ не былъ".
Изъ такихъ приговоровъ мнѣ особенно ясно помнится одинъ: крестьянинъ Бузулукскаго района Фаддѣй Лычковъ осужденъ на 10 лѣтъ за участіе въ бандитскомъ нападеніи на колхозный обозъ. Здѣсь же къ дѣлу пришита справка бузулукской больницы: изъ этой справки ясно, что за мѣсяцъ до нападенія и полтора мѣсяца послѣ него Лычковъ лежалъ въ больницѣ въ сыпномъ тифу. Такое алиби, что дальше некуда. Судъ въ своей "мотивировкѣ" признаетъ и справку больницы, и алиби — а десять лѣтъ все-таки далъ. Здѣсь же въ дѣлѣ покаянное заявленіе Лычкова, изъ котораго понять окончательно ничего невозможно. Я рѣшилъ вызвать Лычкова въ УРЧ для личныхъ объясненій. Активъ сразу полѣзъ на стѣнку: я разваливаю трудовую дисциплину, я отрываю рабочую силу и прочее и прочее. Но за моей спиной уже стояла пресловутая "инструкція ГУЛАГа", въ которую я, въ мѣру элементарнѣйшаго правдоподобія, могъ втиснуть рѣшительно все, что мнѣ вздумается. На этотъ разъ Богоявленскій посмотрѣлъ на меня не безъ нѣкотораго недовѣрія: "что-то врешь ты, братъ, насчетъ этой инструкціи". Но вслухъ сказалъ только:
— Ну, что-жъ. Разъ въ инструкціи есть... Только вы не очень ужъ этимъ пользуйтесь.
Вызванный въ УРЧ, Лычковъ объяснилъ, что ни о какомъ нападеніи онъ, собственно говоря, рѣшительно ничего не знаетъ. Дѣло же заключается въ томъ, что онъ, Лычковъ, находился въ конкурирующихъ отношеніяхъ съ секретаремъ сельсовѣта по вопросу о какой-то юной колхозницѣ. Въ этомъ соціалистическомъ соревнованіи секретарь перваго мѣста не занялъ, и Лычковъ былъ "пришитъ" къ бандитскому дѣлу и поѣхалъ на 10 лѣтъ въ ББК: не соревнуйся съ начальствомъ.
Въ особенно подходящій моментъ мнѣ какъ-то особенно ловко удалось подъѣхать къ Богоявленскому, и онъ разрѣшилъ мнѣ переслать въ Медгору десятка полтора такихъ дѣлъ для дальнѣйшаго направленія на ихъ пересмотръ. Это былъ мой послѣдній успѣхъ въ качествѣ юрисконсульта.
АКТИВЪ СХВАТИЛЪ ЗА ГОРЛО
Сѣлъ я въ калошу изъ-за "дѣлъ по выясненію". Дѣла же эти заключались въ слѣдующемъ:
Территорія ББК, какъ я уже объ этомъ говорилъ, тянется въ меридіональномъ направленіи приблизительно на 1200 километровъ.
По всей этой территоріи идутъ непрерывные обыски, облавы, провѣрки документовъ и прочее: въ поѣздахъ, на пароходахъ, на дорогахъ, на мостахъ, на базарахъ, на улицахъ. Всякое лицо, при которомъ не будетъ обнаружено достаточно убѣдительныхъ документовъ, считается бѣжавшимъ лагерникомъ и попадаетъ въ лагерь "до выясненія". Onus probandi возлагается, по традиціи ГПУ, на обвиняемаго: докажи, что ты не верблюдъ. Человѣкъ, уже попавшій въ лагерь, ничего толкомъ доказать, разумѣется, не въ состояніи. Тогда мѣстное УРЧ черезъ управленіе ББК начинаетъ наводить справки по указаннымъ арестованнымъ адресамъ его квартиры, его службы, профсоюза и прочее.
Разумѣется, что при темпахъ мрачныхъ выдвиженцевъ такія справки могутъ тянуться не только мѣсяцами, но и годами. Тѣмъ временемъ незадачливаго путешественника перебросятъ куда-нибудь на Ухту, въ Вишеру, въ Дальлагъ и тогда получается вотъ что: человѣкъ сидитъ безъ приговора, безъ срока, а гдѣ-то тамъ, на волѣ семья попадаетъ подъ подозрѣніе, особенно въ связи съ паспортизаціей. Мечется по всякимъ совѣтскимъ кабакамъ, всякій кабакъ норовитъ отписаться и отдѣлаться — и получается чортъ знаетъ что... Изъ той кучи дѣлъ, которую я успѣлъ разобрать, такихъ "выясняющихся" набралось около полусотни. Были и забавныя: какой-то питерскій коммунистъ — фамиліи не помню — участвовалъ въ рабочей экскурсіи на Бѣломорско-Балтійскій каналъ. Экскурсантовъ возятъ по каналу такъ: документы отбираются, вмѣсто документовъ выдается какая-то временная бумажонка и дѣлается свирѣпое предупрежденіе: отъ экскурсіи не отбиваться... Мой коммунистъ, видимо, полагая, что ему, какъ партійному, законы не писаны — отъ экскурсіи отбился, какъ онъ писалъ: "по причинѣ индивидуальнаго пристрастія къ рыбной ловлѣ удочкой". При этомъ небольшевицкомъ занятіи онъ свалился въ воду, а когда вылѣзъ и высохъ, то оказалось — экскурсія ушла, а бумажка въ водѣ расплылась и разлѣзлась до неузнаваемости. Сидѣлъ онъ изъ-за своего "индивидуальнаго пристрастія" уже восемь мѣсяцевъ. Около полугода въ его дѣлѣ лежали уже всѣ справки, необходимыя для его освобожденія — въ томъ числѣ справка отъ соотвѣтствующей партійной организаціи и справка отъ медгорскаго управленія ББК съ приложеніемъ партійнаго билета незадачливаго рыболова, а въ билетѣ — и его фотографія...
Человѣкъ грѣшный — въ скорострѣльномъ освобожденіи этого рыболова я отнюдь заинтересованъ не былъ: пусть посидитъ и посмотритъ. Любишь кататься, люби и дрова возить.
Но остальныя дѣла какъ-то не давали покоя моей интеллигентской совѣсти.
Загвоздка заключалась въ томъ, что, во-первыхъ, лагерная администрація ко всякаго рода освободительнымъ мѣропріятіямъ относилась крайне недружелюбно, а во вторыхъ, въ томъ, что среди этихъ дѣлъ были и такія, которыя лежали въ УРЧ въ окончательно "выясненномъ видѣ" больше полугода, и они давно должны были быть отправлены въ управленіе лагеремъ, въ Медвѣжью Гору. Это долженъ былъ сдѣлать Стародубцевъ. Съ точки зрѣнія лагерно-бюрократической техники здѣсь получалась довольно сложная комбинація. И я бы ее провелъ, если бы не сдѣлалъ довольно грубой технической ошибки: когда Богоявленскій слегка заѣлъ по поводу этихъ дѣлъ, я сказалъ ему, что о нихъ я уже говорилъ съ инспекторомъ Мининымъ, который въ эти дни "инструктировалъ" нашъ УРЧ. Мининъ былъ изъ Медвѣжьей Горы, слѣдовательно, — начальство и, слѣдовательно, отъ Медвѣжьей Горы скрывать уже было нечего. Но съ Мининымъ я не говорилъ, а только собирался поговорить. Богоявленскій же собрался раньше меня. Вышло очень неудобно. И, во-вторыхъ, я не догадался какъ-нибудь заранѣе реабилитировать Стародубцева и выдумать какія-нибудь "объективныя обстоятельства", задержавшія дѣла въ нашемъ УРЧ. Впрочемъ, ничѣмъ эта задержка Стародубцеву не грозила — развѣ только лишнимъ крѣпкимъ словомъ изъ устъ Богоявленскаго. Но всей этой ситуаціи оказалось вполнѣ достаточно для того, чтобы подвинуть Стародубцева на рѣшительную атаку.
Въ одинъ прекрасный день — очень невеселый день моей жизни — мнѣ сообщили, что Стародубцевъ подалъ въ третью часть (лагерное ГПУ или, такъ сказать, ГПУ въ ГПУ) заявленіе о томъ, что въ цѣляхъ контръ-революціоннаго саботажа работы УРЧ и мести ему, Стародубцеву, я укралъ изъ стола Стародубцева 72 папки личныхъ дѣлъ освобождающихся лагерниковъ и сжегъ ихъ въ печкѣ. И что это заявленіе подтверждено свидѣтельскими показаніями полдюжины другихъ УРЧ-евскихъ активистовъ. Я почувствовалъ, что, пожалуй, немного разъ въ своей жизни я стоялъ такъ близко къ "стѣнкѣ", какъ сейчасъ.
"Теоретическая схема" мнѣ была уныло ясна, безнадежно ясна: заявленія Стародубцева и показаній активистовъ для третьей части будетъ вполнѣ достаточно, тѣмъ болѣе, что и Стародубцевъ, и активисты, и третья часть — все это были "свои парни", "своя шпана". Богоявленскаго же я подвелъ своимъ мифическимъ разговоромъ съ Мининымъ. Богоявленскому я все же не всегда и не очень былъ удобенъ своей активностью, направленной преимущественно въ сторону "гнилого либерализма"... И, наконецъ, когда разговоръ дойдетъ до Медгоры, то Богоявленскаго спросятъ: "а на кой же чортъ вы, вопреки инструкціи, брали на работу контръ-революціонера, да еще съ такими статьями?" А такъ какъ дѣло по столь контръ-революціонному преступленію, да еще и караемому "высшей мѣрой наказанія", должно было пойти въ Медгору, то Богоявленскій, конечно, сброситъ меня со счетовъ и отдастъ на растерзаніе... Въ лагерѣ — да и на волѣ тоже — можно расчитывать на служебные и личные интересы всякаго партійнаго и полупартійнаго начальства, но на человѣчность и даже на простую порядочность расчитывать нельзя.
Деталей Стародубцевскаго доноса я не зналъ, да такъ и не узналъ никогда. Не думаю, чтобы шесть свидѣтельскихъ показали были средактированы безъ вопіющихъ противорѣчій (для того, чтобы въ такомъ дѣлѣ можно было обойтись безъ противорѣчій — нужны все-таки мозги), но вѣдь мнѣ и передъ разстрѣломъ этихъ показаній не покажутъ... Можно было, конечно, аргументировать и тѣмъ соображеніемъ, что, ежели я собирался "съ диверсіонными цѣлями" срывать работу лагеря, то я могъ бы придумать для лагеря что-нибудь менѣе выгодное, чѣмъ попытку оставить въ немъ на годъ-два лишнихъ больше семидесяти паръ рабочихъ рукъ. Можно было бы указать на психологическую несообразность предположенія, что я, который лѣзъ въ бутылку изъ-за освобожденія всѣхъ, кто, такъ сказать, попадался подъ руку, не смогъ выдумать другого способа отмщенія за мои поруганныя Стародубцевымъ высокія чувства, какъ задержать въ лагерѣ 72 человѣка, уже предназначенныхъ къ освобожденію. Конечно, всѣмъ этимъ можно было бы аргументировать... Но если и ленинградское ГПУ, въ лицѣ товарища Добротина, ни логикѣ, ни психологіи обучено не было, то что же говорить о шпанѣ изъ подпорожской третьей части?
Конечно, полсотни дѣлъ "по выясненію", изъ-за которыхъ я, въ сущности, и сѣлъ, были уже спасены — Мининъ забралъ ихъ въ Медвѣжью Гору. Конечно, "нѣсть больше любви, аще кто душу свою положитъ за други своя" — но я съ прискорбіемъ долженъ сознаться, что это соображеніе рѣшительно никакого утѣшенія мнѣ не доставляло. Роль мученика, при всей ея сценичности, написана не для меня...
Я въ сотый, вѣроятно, разъ нехорошими словами вспоминалъ своего интеллигентскаго червяка, который заставляетъ меня лѣзть въ предпріятія, въ которыхъ такъ легко потерять все, но въ которыхъ ни въ какомъ случаѣ ничего нельзя выиграть. Это было очень похоже на пьяницу, который клянется: "ни одной больше рюмки" — клянется съ утренняго похмѣлья до вечерней выпивки.
Нѣкоторый просвѣтъ былъ съ одной стороны: доносъ былъ сданъ въ третью часть пять дней тому назадъ. И я до сихъ поръ не былъ арестованъ.
Въ объясненіе этой необычной отсрочки можно было выдумать достаточное количество достаточно правдоподобныхъ гипотезъ, но гипотезы рѣшительно ничего не устраивали. Борисъ въ это время лѣчилъ отъ романтической болѣзни начальника третьей части. Борисъ попытался кое-что у него выпытать, но начальникъ третьей части ухмылялся съ нѣсколько циничной загадочностью и ничего путнаго не говорилъ. Борисъ былъ такого мнѣнія, что на всѣ гипотезы и на всѣ превентивныя мѣропріятія нужно плюнуть и нужно бѣжать, не теряя ни часу. Но какъ бѣжать? И куда бѣжать?
У Юры была странная смѣсь оптимизма съ пессимизмомъ. Онъ считалъ, что и изъ лагеря — въ частности, и изъ Совѣтской Россіи — вообще (для него совѣтскій лагерь и Совѣтская Россія были приблизительно однимъ и тѣмъ же) — у насъ все равно нѣтъ никакихъ шансовъ вырваться живьемъ. Но вырваться все-таки необходимо. Это — вообще. А въ каждомъ частномъ случаѣ Юра возлагалъ несокрушимыя надежды на такъ называемаго Шпигеля.
Шпигель былъ юнымъ евреемъ, котораго я никогда въ глаза не видалъ и которому я въ свое время оказалъ небольшую, въ сущности, пустяковую и вполнѣ, такъ сказать, "заочную" услугу. Потомъ мы сѣли въ одесскую чрезвычайку — я, жена и Юра. Юрѣ было тогда лѣтъ семь. Сѣли безъ всякихъ шансовъ уйти отъ разстрѣла, ибо при арестѣ были захвачены документы, о которыхъ принято говорить, что они "не оставляютъ никакихъ сомнѣній". Указанный Шпигель околачивался въ то время въ одесской чрезвычайкѣ. Я не знаю, по какимъ собственно мотивамъ онъ дѣйствовалъ — по разнымъ мотивамъ дѣйствовали тогда люди — не знаю, какимъ способомъ это ему удалось — разные тогда были способы, — но всѣ наши документы онъ изъ чрезвычайки утащилъ, утащилъ вмѣстѣ съ ними и оба нашихъ дѣла — и мое, и жены. Такъ что, когда мы посидѣли достаточное количество времени, насъ выпустили въ чистую, къ нашему обоюдному и несказанному удивленію. Всего этого вмѣстѣ взятаго и съ нѣкоторыми деталями, выяснившимися значительно позже, было бы вполнѣ достаточно для холливудскаго сценарія, которому не повѣрилъ бы ни одинъ разумный человѣкъ
Во всякомъ случаѣ терминъ: "Шпигель" вошелъ въ нашъ семейный словарь... И Юра не совсѣмъ былъ неправъ. Когда приходилось очень плохо, совсѣмъ безвылазно, когда ни по какой человѣческой логикѣ никакого спасенія ждать было неоткуда — Шпигель подвертывался...
Подвернулся онъ и на этотъ разъ.
ТОВАРИЩЪ ЯКИМЕНКО И ПЕРВЫЯ ХАЛТУРЫ
Между этими двумя моментами — ощущенія полной безвыходности и ощущенія полной безопасности — прошло около сутокъ. За эти сутки я передумалъ многое. Думалъ и о томъ, какъ неумно, въ сущности, я дѣйствовалъ. Совсѣмъ не по той теоріи, которая сложилась за годы совѣтскаго житья и которая категорически предписываетъ изъ всѣхъ имѣющихся на горизонтѣ перспективъ выбирать прежде всего халтуру. Подъ щитомъ халтуры можно и что-нибудь путное сдѣлать. Но безъ халтуры человѣкъ беззащитенъ, какъ средневѣковый рыцарь безъ латъ. А я вотъ, вопреки всѣмъ теоріямъ, взялся за дѣло... И какъ это у меня изъ головы вывѣтрилась безусловная и повелительная необходимость взяться прежде всего за халтуру?...
Очередной Шпигель и очередная халтура подвернулись неожиданно...
Въ Подпорожье свозили все новые и новые эшелоны лагерниковъ, и первоначальный "промфинпланъ" былъ уже давно перевыполненъ. Къ серединѣ февраля въ Подпорожскомъ отдѣленіи было уже около 45.000 заключенныхъ. Кабакъ въ УРЧ свирѣпствовалъ совершенно невообразимый. Десятки тысячъ людей оказывались безъ инструментовъ, слѣдовательно, безъ работы, слѣдовательно, безъ хлѣба. Никто не зналъ толкомъ, на какомъ лагпунктѣ и сколько находится народу. Одни "командировки" снабжались удвоенной порціей пропитанія, другія не получали ничего. Всѣ списки перепутались. Сорокъ пять тысячъ личныхъ дѣлъ, сорокъ пять тысячъ личныхъ карточекъ, сорокъ пять тысячъ формуляровъ и прочихъ бумажекъ, символизирующихъ гдѣ-то погибающихъ живыхъ людей, засыпали УРЧ лавиной бумаги: и писчей, и обойной, и отъ старыхъ этикетокъ кузнецовскаго чая, и изъ листовъ старыхъ дореволюціонныхъ акцизныхъ бандеролей, и Богъ знаетъ откуда еще: все это называется бумажнымъ голодомъ.
Такіе же формуляры, личныя карточки, учетныя карточки — и тоже, каждая разновидность — въ сорока пяти тысячахъ экземпляровъ — перетаскивались окончательно обалдѣвшими статистиками и старостами изъ колонны въ колонну, изъ барака въ баракъ. Тысячи безымянныхъ Ивановъ, "оторвавшихся отъ своихъ документовъ" и не знающихъ, куда имъ приткнуться, бродили голодными толпами по карантину и пересылкѣ. Сотни начальниковъ колоннъ метались по баракамъ, пытаясь собрать воедино свои разбрѣдшіяся стада. Была оттепель. Половина бараковъ — съ дырявыми потолками, но безъ крышъ — протекала насквозь. Другая половина, съ крышами, протекала не насквозь. Люди изъ первой половины, вопреки всякимъ вохрамъ, перекочевывали во вторую половину, и въ этомъ процессѣ всякое подобіе колоннъ и бригадъ таяло, какъ снѣгъ на потолкахъ протекавшихъ бараковъ. Къ началу февраля въ лагерѣ установился окончательный хаосъ. Для ликвидаціи его изъ Медвѣжьей Горы пріѣхалъ начальникъ УРО (учетно-распредѣлительнаго отдѣла) управленія лагеремъ. О немъ, какъ и о всякомъ лагерномъ пашѣ, имѣющемъ право на жизнь и на смерть, ходили по лагерю легенды, расцвѣченныя активистской угодливостью, фантазіей урокъ и страхомъ за свою жизнь всѣхъ вообще обитателей лагеря.
___
Часа въ два ночи, окончивъ нашъ трудовой "день", мы были собраны въ кабинетѣ Богоявленскаго. За его столомъ сидѣлъ человѣкъ высокаго роста, въ щегольской чекистской шинели, съ твердымъ, властнымъ, чисто выбритымъ лицомъ. Что-то было въ этомъ лицѣ патриціанское. Съ нескрываемой брезгливостью въ поджатыхъ губахъ онъ взиралъ на рваную, голодную, вороватую ораву актива, которая, толкаясь и запинаясь, вливалась въ кабинетъ. Его, казалось, мучила необходимость дышать однимъ воздухомъ со всей этой рванью — опорой и необходимымъ условіемъ его начальственнаго бытія. Его хорошо и вкусно откормленныя щеки подергивались гримасой холоднаго отвращенія. Это былъ начальникъ УРО, тов. Якименко.
Орава въ нерѣшимости толклась у дверей. Кое-кто подобострастно кланялся Якименкѣ, видимо, зная его по какой-то предыдущей работѣ, но Якименко смотрѣлъ прямо на всю ораву и на поклоны не отвѣчалъ. Мы съ Юрой пробрались впередъ и усѣлись на подоконникѣ.
— Ну, что-жъ вы? Собирайтесь скорѣй и разсаживайтесь.
Разсаживаться было не на чемъ. Орава вытекла обратно и вернулась съ табуретками, полѣньями и досками. Черезъ нѣсколько минутъ всѣ разсѣлись. Якименко началъ рѣчь.
Я много слыхалъ совѣтскихъ рѣчей. Такой хамской и по смыслу, и по тону я еще не слыхалъ. Якименко не сказалъ "товарищи", не сказалъ даже "граждане". Рѣчь была почти безсодержательна. Аппаратъ расхлябанъ, такъ работать нельзя. Нужны ударные темпы. Пусть никто не думаетъ, что кому-то и куда-то удастся изъ УРЧ уйти (это былъ намекъ на профессоровъ и на насъ съ Юрой). Изъ УРЧ уйдутъ либо на волю, либо въ гробъ...
Я подумалъ о томъ, что я, собственно, такъ и собираюсь сдѣлать — или въ гробъ, или на волю. Хотя въ данный моментъ дѣло, кажется, стоитъ гораздо ближе къ гробу.
Рѣчь была кончена. Кто желаетъ высказаться?
Орава молчала. Началъ говорить Богоявленскій. Онъ сказалъ все то, что говорилъ Якименко, — ни больше и ни меньше. Только тонъ былъ менѣе властенъ, рѣчь была менѣе литературна и выраженій нелитературныхъ въ ней было меньше. Снова молчаніе.
Якименко обводитъ презрительно-испытующимъ взоромъ землисто-зеленыя лица оравы, безразлично скользить мимо интеллигенціи — меня, Юры и профессоровъ — и говоритъ тономъ угрозы:
— Ну?
Откашлялся Стародубцевъ. "Мы, конечно, сознавая нашъ пролетарскій долгъ, чтобы, такъ сказать, загладить наши преступленія передъ нашимъ пролетарскимъ отечествомъ, должны, такъ сказать, ударными темпами. Потому, какъ нѣкоторая часть сотрудниковъ, дѣйствительно, работаетъ въ порядкѣ расхлябанности, и опять же нѣту революціоннаго сознанія, что какъ наше отдѣленіе ударное и, значитъ, партія довѣрила намъ отвѣтственный участокъ великаго соціалистическаго строительства, такъ мы должны, не щадя своихъ силъ, на пользу міровому пролетаріату, ударными темпами въ порядкѣ боевого заданія."
Безсмысленной чередой мелькаютъ безсмысленныя фразы — штампованныя фразы любого совѣтскаго "общественника": и въ Колонномъ Залѣ Москвы, и въ прокуренной закутѣ колхознаго сельсовѣта, и среди станковъ цеховаго собранія. Что это? За семнадцать лѣтъ не научились говорить такъ, чтобы было, если не смысловое, то хотя бы этимологическое подлежащее? Или просто — защитная окраска? Не выступить нельзя — антіобщественникъ. А выступить?.. Вотъ такъ и выступаютъ — четверть часа изъ пустого въ порожнее. И такое порожнее, что и зацѣпиться не за что. Не то что смысла — и уклона не отыскать.
Стародубцевъ заткнулся.
— Кончили?
— Кончилъ.
Якименко снова обводитъ ораву гипнотизирующимъ взоромъ.
— Ну?.. Кто еще?.. Что, и сказать нечего?
Откашливается Насѣдкинъ.
— У меня, разрѣшите, есть конкретное предложеніе. По части, чтобы заключить соціалистическое соревнованіе съ УРЧ краснознаменнаго Водораздѣльскаго отдѣленія. Если позволите, я зачитаю...
— Зачитывайте, — брезгливо разрѣшаетъ Якименко.
Насѣдкинъ зачитываетъ. О, Господи, какая халтура!.. Какая убогая провинціальная, отставшая на двѣ пятилѣтки халтура! Эхъ, мнѣ бы...
Насѣдкинъ кончилъ. Снова начальственное "ну?" и снова молчаніе. Я рѣшаюсь:
— Разрѣшите, гражданинъ начальникъ?
Разрѣшающее "ну"...
Я говорю, сидя на подоконникѣ, не мѣняя позы и почти не подымая головы. Къ совѣтскому начальству можно относиться корректно, но относиться почтительно нельзя никогда. И даже за внѣшней корректностью всегда нужно показать, что мнѣ на тебя, въ сущности, наплевать — обойдусь и безъ тебя. Тогда начальство думаетъ, что я дѣйствительно могу обойтись и что, слѣдовательно, гдѣ-то и какую-то зацѣпку я и безъ него имѣю... А зацѣпки могутъ быть разныя. Въ томъ числѣ и весьма высокопоставленныя... Всякій же совѣтскій начальникъ боится всякой зацѣпки...
— ... Я, какъ человѣкъ въ лагерѣ новый — всего двѣ недѣли — не рискую, конечно, выступать съ рѣшающими предложеніями... Но, съ другой стороны, я недавно съ воли, и я хорошо знаю тѣ новыя формы соціалистической организаціи труда (о, Господи!), которыя провѣрены опытомъ милліоновъ ударниковъ и результаты которыхъ мы видимъ и на Днѣпростроѣ, и на Магнитостроѣ, и на тысячахъ нашихъ пролетарскихъ новостроекъ (а опытъ сотенъ тысячъ погибшихъ!..) Поэтому я, принимая, такъ сказать, за основу интересное (еще бы!) предложеніе тов. Насѣдкина, считалъ бы нужнымъ его уточнить.
Я поднялъ голову и встрѣтился глазами со Стародубцевымъ. Въ глазахъ Стародубцева стояло:
— Мели, мели... Не долго тебѣ молоть-то осталось...
Я посмотрѣлъ на Якименко. Якименко отвѣтилъ подгоняющимъ "ну"...
И вотъ изъ моихъ устъ полились: Уточненіе пунктовъ договора. Календарные сроки. Коэффиціентъ выполненія. Контрольныя тройки. Буксиръ отстающихъ. Соціалистическое совмѣстительство лагерной общественности. Выдвиженчество лучшихъ ударниковъ...
Боюсь, что во всей этой абракадабрѣ читатель не пойметъ ничего. Имѣю также основаны полагать, что въ ней вообще никто ничего не понимаетъ. На извилистыхъ путяхъ генеральной линіи и пятилѣтокъ все это обрѣло смыслъ и характеръ формулъ знахарскаго заговора или завываній якутскаго шамана. Должно дѣйствовать на эмоціи. Думаю, что дѣйствуетъ. Послѣ получаса такихъ заклинаній мнѣ лично хочется кому-нибудь набить морду...
Подымаю голову, мелькомъ смотрю на Якименко... На его лицѣ — насмѣшка. Довольно демонстративная, но не лишенная нѣкоторой заинтересованности...
— Но, помимо аппарата самаго УРЧ, — продолжаю я, — есть и низовой аппаратъ — колоннъ, лагпунктовъ, бараковъ. Онъ, извините за выраженіе, не годится ни къ... (если Якименко выражался не вполнѣ литературными формулировками, то въ данномъ случаѣ и мнѣ не слѣдуетъ блюсти излишнюю pruderie). Люди новые, не всегда грамотные и совершенно не въ курсѣ элементарнѣйшихъ техническихъ требованій учетно-распредѣлительной работы... Поэтому въ первую голову мы, аппаратъ УРЧ, должны взяться за нихъ... Къ каждой группѣ работниковъ долженъ быть прикрѣпленъ извѣстный лагпунктъ... Каждый работникъ долженъ ознакомить соотвѣтственныхъ низовыхъ работниковъ съ техникой работы... Тов. Стародубцевъ, какъ наиболѣе старый и опытный изъ работниковъ УРЧ, не откажется, конечно (въ глазахъ Стародубцева вспыхиваетъ матъ)... Каждый изъ насъ долженъ дать нѣсколько часовъ своей работы (Господи, какая чушь! — и такъ работаютъ часовъ по 18). Нужно отпечатать на пишущей машинкѣ или на гектографѣ элементарнѣйшія инструкціи...
Я чувствую, что — еще нѣсколько "утонченій" и "конкретизацій", и я начну молоть окончательный вздоръ. Я умолкаю...
— Вы кончили, товарищъ...?
— Солоневичъ — подсказываетъ Богоявленскій.
— Вы кончили, товарищъ Солоневичъ?
— Да, кончилъ, гражданинъ начальникъ...
— Ну, что-жъ... Это болѣе или менѣе конкретно... Предлагаю избрать комиссію для проработки... Въ составѣ: Солоневичъ, Насѣдкинъ. Ну, кто еще? Ну, вотъ вы, Стародубцевъ. Срокъ — два дня. Кончаемъ. Уже четыре часа.
Выборы a` la soviet кончены. Мы выходимъ на дворъ, въ тощіе сугробы. Голова кружится и ноги подкашиваются. Хочется ѣсть, но ѣсть рѣшительно нечего. И за всѣмъ этимъ — сознаніе, что какъ-то — еще не вполнѣ ясно, какъ — но все же въ борьбѣ за жизнь, въ борьбѣ противъ актива, третьей части и стѣнки какая-то позиція захвачена.
БАРИНЪ НАДѢВАЕТЪ БѢЛЫЯ ПЕРЧАТКИ...
На другой день Стародубцевъ глядѣлъ окончательнымъ волкомъ. Даже сознаніе того, что гдѣ-то въ джунгляхъ третьей части "прорабатывается" его доносъ, не было достаточно для его полнаго моральнаго удовлетворенія.
Мой "рабочій кабинетъ" имѣлъ такой видъ:
Въ углу комнаты — табуретка. Я сижу на полу, на полѣнѣ. Надо мною на полкахъ, вокругъ меня на полу и передо мною на табуреткѣ — всѣ мои дѣла: ихъ уже пудовъ пятьдесятъ — пятьдесятъ пудовъ пестрой бумаги, символизирующей сорокъ пять тысячъ человѣческихъ жизней.
Проходя мимо моего "стола", Стародубцевъ съ демонстративной небрежностью задѣваетъ табуретку ногой, и мои дѣла разлетаются по полу. Я встаю съ окончательно сформировавшимся намѣреніемъ сокрушить Стародубцеву челюсть. Въ этомъ христіанскомъ порывѣ меня останавливаетъ голосъ Якименки:
— Такъ вотъ онъ гдѣ...
Я оборачиваюсь.
— Послушайте, куда вы къ чертямъ запропастились? Ищу его по всѣмъ закоулкамъ УРЧ... Не такая ужъ миніатюрная фигура... А вы вотъ гдѣ приткнулись. Что это — вы здѣсь и работаете?
— Да, — уныло иронизирую я, — юрисконсультскій и планово-экономическій отдѣлъ.
— Ну, это безобразіе! Не могли себѣ стола найти?
— Да все ужъ разобрано.
— Tarde venientibus — полѣнья, — щеголевато иронизируетъ Якименко. — Бываетъ и такъ, что tarde venientibus — полѣньями...
Якименко понимающимъ взоромъ окидываетъ сцену: перевернутую табуретку, разлетѣвшіяся бумаги, меня, Стародубцева и наши обоюдныя позы и выраженія лицъ.
— Безобразіе все-таки. Передайте Богоявленскому, что я приказалъ найти вамъ и мѣсто, и стулъ, и столъ. А пока пойдемте ко мнѣ домой. Мнѣ съ вами кое о чемъ поговорить нужно.
— Сейчасъ, я только бумаги съ пола подберу.
— Бросьте, Стародубцевъ подберетъ. Стародубцевъ, подберите.
Съ искаженнымъ лицомъ Стародубцевъ начинаетъ подбирать.... Мы съ Якименко выходимъ изъ УРЧ...
— Вотъ идіотская погода, — говоритъ Якименко тономъ, предполагающимъ мою сочувственную реплику. Я подаю сочувственную реплику. Разговоръ начинается въ, такъ сказать, свѣтскихъ тонахъ: погода, еще о художественномъ театрѣ начнетъ говорить...
— Я гдѣ-то слыхалъ вашу фамилію. Это не ваши книжки — по туризму?..
— Мои...
— Ну, вотъ, очень пріятно. Такъ что мы съ вами, такъ сказать, товарищи по призванію... Въ этомъ году собираюсь по Сванетіи...
— Подходящія мѣста...
— Вы какъ шли? Съ сѣвера? Черезъ Донгузъ-Орунъ?
...Ну, чѣмъ не черные тюльпаны?..
И такъ шествуемъ мы, обсуждая прелести маршрутовъ Вольной Сванетіи. Навстрѣчу идетъ начальникъ третьей части. Онъ почтительно беретъ подъ козырекъ. Якименко останавливаетъ его.
— Будьте добры мнѣ на шесть вечера — машину... Кстати — вы не знакомы?
Начальникъ третьей части мнется...
— Ну, такъ позвольте васъ познакомить... Это нашъ извѣстный туристскій дѣятель, тов. Солоневичъ... Будетъ намъ читать лекціи по туризму. Это...
— Да я уже имѣю удовольствіе знать товарища Непомнящаго...
Товарищъ Непомнящій беретъ подъ козырекъ, щелкаетъ шпорами и протягиваетъ мнѣ руку. Въ этой рукѣ — доносъ Стародубцева, эта рука собирается черезъ иксъ времени поставить меня къ стѣнкѣ. Я тѣмъ не менѣе пожимаю ее...
— Нужно будетъ устроить собраніе нашихъ работниковъ... Вольнонаемныхъ, конечно... Тов. Солоневичъ прочтетъ намъ докладъ объ экскурсіяхъ по Кавказу...
Начальникъ третьей части опять щелкаетъ шпорами.
— Очень будетъ пріятно послушать...
На всю эту комедію я смотрю съ нѣсколько запутаннымъ чувствомъ...
___
Приходимъ къ Якименкѣ. Большая чистая комната. Якименко снимаетъ шинель.
— Разрѣшите, пожалуйста, товарищъ Солоневичъ, я сниму сапоги и прилягу.
— Пожалуйста, — запинаюсь я...
— Уже двѣ ночи не спалъ вовсе. Каторжная жизнь...
Потомъ, какъ бы спохватившись, что ужъ ему-то и въ моемъ-то присутствіи о каторжной жизни говорить вовсе ужъ неудобно, поправляется:
— Каторжная жизнь выпала на долю нашему поколѣнію...
Я отвѣчаю весьма неопредѣленнымъ междометіемъ...
— Ну, что-жъ, товарищъ Солоневичъ, туризмъ — туризмомъ, но нужно и къ дѣламъ перейти...
Я настораживаюсь...
— Скажите мнѣ откровенно — за что вы, собственно, сидите?
Я схематически объясняю — работалъ переводчикомъ, связь съ иностранцами, оппозиціонные разговоры...
— А сынъ вашъ?
— По формѣ — за то же самое. По существу — для компаніи...
— Н-да. Иностранцевъ лучше обходить сторонкой. Ну, ничего, особенно унывать ничего. Въ лагерѣ культурному человѣку, особенно если съ головой — не такъ ужъ и плохо... — Якименко улыбнулся не безъ нѣкотораго цинизма. — По существу не такая ужъ жизнь и на волѣ... Конечно, первое время тяжело... Но люди ко всему привыкаютъ... И, конечно, восьми лѣтъ вамъ сидѣть не придется.
Я благодарю Якименко и за это утѣшеніе.
— Теперь дѣло вотъ въ чемъ. Скажите мнѣ откровенно — какого вы мнѣнія объ аппаратѣ УРЧ.
— Мнѣ нѣтъ никакого смысла скрывать это мнѣніе.
— Да, конечно, но что подѣлаешь... Другого аппарата нѣтъ. Я надѣюсь, что вы поможете мнѣ его наладить... Вотъ вы вчера говорили объ инструкціяхъ для низовыхъ работниковъ. Я васъ для этого, собственно говоря, и побезпокоилъ... Сдѣлаемъ вотъ что: я вамъ разскажу, въ чемъ заключается работа всѣхъ звеньевъ аппарата, а вы на основаніи этого напишите этакія инструкціи. Такъ, чтобы было коротко и ясно самымъ дубовымъ мозгамъ. Пишите вы, помнится, недурно.
Я скромно наклоняю голову.
— Ну, видите ли, тов. Якименко, я боюсь, что на мою помощь трудно расчитывать. Здѣсь пустили сплетню, что я укралъ и сжегъ нѣсколько десятковъ дѣлъ, и я ожидаю...
Я смотрю на Якименку и чувствую, какъ внутри что-то начинаетъ вздрагивать.
На лицѣ Якименки появляется вчерашняя презрительная гримаса.
— Ахъ, это? Плюньте!...
Мысли и ощущенія летятъ стремительной путаницей. Еще вчера была почти полная безвыходность. Сегодня — "плюньте"... Якименко не вретъ, хотя бы потому, что врать у него нѣтъ никакого основанія. Неужели это въ самомъ дѣлѣ Шпигель? Папироса въ рукахъ дрожитъ мелкой дрожью. Я опускаю ее подъ столъ...
— Въ данныхъ условіяхъ не такъ просто плюнуть. Я здѣсь человѣкъ новый...
— Чепуха все это! Я этотъ доносъ... Это дѣло видалъ. Сапоги въ смятку. Просто Стародубцевъ пропустилъ всѣ сроки, запутался и кинулъ все въ печку. Я его знаю... Вздоръ... Я это дѣло прикажу ликвидировать...
Въ головѣ становится какъ-то покойно и пусто. Даже нѣтъ особаго облегченія. Что-то вродѣ растерянности...
— Разрѣшите васъ спросить, товарищъ Якименко, почему вы повѣрили, что это вздоръ?..
— Ну, знаете ли... Видалъ же я людей... Чтобы человѣкъ вашего типа, кстати и вашихъ статей, — улыбнулся Якименко, — сталъ покупать месть какому-то несчастному Стародубцеву цѣной примѣрно... сколько это будетъ? Тамъ, кажется, семьдесятъ дѣлъ? Да? Ну такъ, значитъ, въ суммѣ лѣтъ сто лишняго заключенія... Согласитесь сами — непохоже...
— Мнѣ очень жаль, что вы не вели моего дѣла въ ГПУ...
— Въ ГПУ — другое. Чаю хотите?
Приносятъ чай, съ лимономъ, сахаромъ и печеньемъ. Въ срывахъ и взлетахъ совѣтской жизни — гдѣ срывъ — это смерть, а взлетъ — немного тепла, кусокъ хлѣба и нѣсколько минутъ сознанія безопасности — я сейчасъ чувствую себя на какомъ-то взлетѣ, нѣсколько фантастическомъ.
Возвращаюсь въ УРЧ въ какомъ-то туманѣ. На улицѣ уже темновато. Меня окликаетъ рѣзкій, почти истерически, вопросительный возгласъ Юры:
— Ватикъ? Ты?
Я оборачиваюсь. Ко мнѣ бѣгутъ Юра и Борисъ. По лицамъ ихъ я вижу, что что-то случилось. Что-то очень тревожное.
— Что, Ва, выпустили?
— Откуда выпустили?
— Ты не былъ арестованъ?
— И не собирался, — неудачно иронизирую я.
— Вотъ сволочи, — съ сосредоточенной яростью и вмѣстѣ съ тѣмъ съ какимъ-то мнѣ еще непонятнымъ облегченіемъ говоритъ Юра. — Вотъ сволочи!
— Подожди, Юрчикъ, — говоритъ Борисъ. — Живъ и не въ третьей части — и слава Тебѣ, Господи. Мнѣ въ УРЧ Стародубцевъ и прочіе сказали, что ты арестованъ самимъ Якименкой, начальникомъ третьей части и патрульными.
— Стародубцевъ сказалъ?
— Да.
У меня къ горлу подкатываетъ острое желаніе обнять Стародубцева и прижать его такъ, чтобы и руки, и грудь чувствовали, какъ медленно хруститъ и ломается его позвоночникъ... Что должны были пережить и Юра, и Борисъ за тѣ часы, что я сидѣлъ у Якименки, пилъ чай и велъ хорошіе разговоры?
Но Юра уже дружественно тычетъ меня кулакомъ въ животъ, а Борисъ столь же дружественно обнимаетъ меня своей пудовой лапой. У Юры въ голосѣ слышны слезы. Мы торжественно въ полутьмѣ вечера цѣлуемся, и меня охватываетъ огромное чувство и нѣжности, и увѣренности. Вотъ здѣсь — два самыхъ моихъ близкихъ и родныхъ человѣка на этомъ весьма неуютно оборудованномъ земномъ шарѣ. И неужели же мы, при нашей спайкѣ, при абсолютномъ "всѣ за одного, одинъ за всѣхъ", пропадемъ? Нѣтъ, не можетъ быть. Нѣтъ, не пропадемъ.
Мы тискаемъ другъ друга и говоримъ разныя слова, милыя, ласковыя и совершенно безсмысленныя для всякаго посторонняго уха, наши семейныя слова... И какъ будто тотъ фактъ, что я еще не арестованъ, что-нибудь предрѣшаетъ для завтрашняго дня: вѣдь ни Борисъ, ни Юра о Якименскомъ "плюньте" не знаютъ еще ничего. Впрочемъ, здѣсь, дѣйствительно, carpe diem: сегодня живы — и то глава Богу.
Я торжественно высвобождаюсь изъ братскихъ и сыновнихъ тисковъ и столь же торжественно провозглашаю:
— А теперь, милостивые государи, послѣдняя сводка съ фронта побѣды — Шпигель.
— Ватикъ, всерьезъ? Честное слово?
— Ты, Ва, въ самомъ дѣлѣ, не трепли зря нервовъ, — говоритъ Борисъ.
— Я совершенно всерьезъ. — И я разсказываю весь разговоръ съ Якименкой.
Новые тиски, и потомъ Юра тономъ полной непогрѣшимости говоритъ:
— Ну вотъ, я вѣдь тебя предупреждалъ. Если совсѣмъ плохо, то Шпигель какой-то долженъ же появиться, иначе какъ же...
Увы! со многими бываетъ и иначе...
___
Разговоръ съ Якименкой, точно списанный со страницъ Шехерезады, сразу ликвидировалъ все: и доносъ, и третью часть, и перспективы: или стѣнки, или побѣга на вѣрную гибель, и активистскія поползновенія, и большую часть работы въ урчевскомъ бедламѣ.
Вечерами, вмѣсто того, чтобы коптиться въ махорочныхъ туманахъ УРЧ, я сидѣлъ въ комнатѣ Якименки, пилъ чай съ печеньемъ и выслушивалъ Якименковскія лекціи о лагерѣ. Ихъ теоретическая часть, въ сущности, ничѣмъ не отличалась отъ того, что мнѣ въ теплушкѣ разсказывалъ уголовный коноводъ Михайловъ. На основаніи этихъ сообщеній я писалъ инструкціи. Якименко предполагалъ издать ихъ для всего ББК и даже предложить ГУЛАГу. Какъ я узналъ впослѣдствіи, онъ такъ и поступилъ. Авторская подпись была, конечно, его. Скромный капиталъ своей корректности и своего печенья Якименко затратилъ не зря.
БАМ (Байкало-Амурская Магистраль)
МАРКОВИЧЪ ПЕРЕКОВЫВАЕТЪ
Шагахъ въ двухстахъ отъ УРЧ стояла старая, склонившаяся на бокъ, бревенчатая избушка. Въ ней помѣщалась редакція лагерной газеты "Перековка", съ ея редакторомъ Марковичемъ, поэтомъ и единственнымъ штатнымъ сотрудникомъ Трошинымъ, наборщикомъ Мишей и старой разболтанной бостонкой. Когда мнѣ удавалось вырываться изъ УРЧевскаго бедлама, я нырялъ въ низенькую дверь избушки и отводилъ тамъ свою наболѣвшую душу.
Тамъ можно было посидѣть полчаса-часъ вдали отъ УРЧевскаго мата, прочесть московскія газеты и почерпнуть кое-что изъ житейской мудрости Марковича.
О лагерѣ Марковичъ зналъ все. Это былъ благодушный американизированный еврей изъ довоенной еврейской эмиграціи въ Америку.
— Если вы въ вашей жизни не видали настоящаго идіота — такъ посмотрите, пожалуйста, на меня...
Я смотрѣлъ. Но ни въ плюгавой фигуркѣ Марковича, ни въ его устало-насмѣшливыхъ глазахъ не было видно ничего особенно идіотскаго.
— А вы такой анекдотъ о евреѣ гермафродитѣ знаете? Нѣтъ? Такъ я вамъ разскажу...
Анекдотъ для печати непригоденъ. Марковичъ же лѣтъ семь тому назадъ перебрался сюда изъ Америки: "мнѣ, видите-ли, кусочекъ соціалистическаго рая пощупать захотѣлось... А? Какъ вамъ это нравится? Ну, не идіотъ?"
Было у него 27.000 долларовъ, собранныхъ на нивѣ какой-то комиссіонерской дѣятельности. Само собою разумѣется, что на совѣтской границѣ ему эти доллары обмѣняли на совѣтскіе рубли — неизвѣстно уже, какіе именно, но, конечно, по паритету — рубль за 50 центовъ.
— Ну, вы понимаете, тогда я совсѣмъ какъ баранъ былъ. Словомъ — обмѣняли, потомъ обложили, потомъ снова обложили такъ, что я пришелъ въ финотдѣлъ и спрашиваю: такъ сколько же вы мнѣ самому оставить собираетесь — я уже не говорю въ долларахъ, а хотя бы въ рубляхъ... Или мнѣ, можетъ быть, къ своимъ деньгамъ еще и приплачивать придется... Ну — они меня выгнали вонъ. Короче говоря, у меня уже черезъ полгода ни копѣйки не осталось. Чистая работа. Хе, ничего себѣ шуточки — 27.000 долларовъ.
Сейчасъ Марковичъ редактировалъ "Перековку". Перековка — это лагерный терминъ, обозначающій перевоспитаніе, "перековку" всякаго рода правонарушителей въ честныхъ совѣтскихъ гражданъ. Предполагается, что совѣтская карательная система построена не на наказаніи, а на перевоспитаніи человѣческой психологіи и что вотъ этакій каторжный лагерный трудъ въ голодѣ и холодѣ возбуждаетъ у преступниковъ творческій энтузіазмъ, пафосъ построенія безклассоваго соціалистическаго общества и что, поработавъ вотъ этакимъ способомъ лѣтъ шесть-восемь, человѣкъ, ежели не подохнетъ, вернется на волю, исполненный трудовымъ рвеніемъ и коммунистическими инстинктами. "Перековка" въ кавычкахъ была призвана славословить перековку безъ кавычекъ.
Нужно отдать справедливость — "Перековка", даже и по совѣтскимъ масштабамъ, была потрясающе паршивымъ листкомъ. Ея содержаніе сводилось къ двумъ моментамъ: энтузіазмъ и доносы. Энтузіазмъ испущалъ самъ Марковичъ, для доносовъ существовала сѣть "лагкоровъ" — лагерныхъ корреспондентовъ, которая вынюхивала всякіе позорящіе факты насчетъ недовыработки нормъ, полового сожительства, контръ-революціонныхъ разговоровъ, выпивокъ, соблюденія религіозныхъ обрядовъ, отказовъ отъ работы и прочихъ грѣховъ лагерной жизни.
— Вы знаете, Иванъ Лукьяновичъ, — говоритъ Марковичъ, задумчиво взирая на свое твореніе, — вы меня извините за выраженіе, но такой газеты въ приличной странѣ и въ уборную не повѣсятъ.
— Такъ бросьте ее къ чорту!
— Хе, а что я безъ нея буду дѣлать? Надо же мнѣ свой срокъ отрабатывать. Разъ уже я попалъ въ соціалистическій рай, такъ нужно быть соціалистическимъ святымъ. Здѣсь же вамъ не Америка. Это я уже знаю — за эту науку я заплатилъ тысячъ тридцать долларовъ и пять лѣтъ каторги... И еще пять лѣтъ осталось сидѣть... Почему я долженъ быть лучше Горькаго?.. Скажите, кстати — вотъ вы недавно съ воли — ну что такое Горькій? Вѣдь это же писатель?
— Писатель, — подтверждаю я.
— Это же все-таки не какая-нибудь совсѣмъ сволочь... Ну, я понимаю, — я. Такъ я вѣдь на каторгѣ. Что я сдѣлаю? И, вы знаете, возьмите медгорскую "Перековку" (центральное изданіе — въ Медгорѣ) — такъ она, ей Богу, еще хуже моей. Ну, конечно, и я уже не краснѣю, но все-таки я стараюсь, чтобы моя "Перековка", ну... не очень ужъ сильно воняла... Какіе-нибудь тамъ доносы — если очень вредные — такъ я ихъ не пускаю, ну, и все такое... Такъ я — каторжникъ. А Горькій? Въ чемъ дѣло съ Горькимъ? Что — у него денегъ нѣтъ? Или онъ на каторгѣ сидитъ? Онъ же — старый человѣкъ, зачѣмъ ему въ проститутки идти?
— Можно допустить, что онъ вѣритъ во все, что пишетъ... Вотъ вы вѣдь вѣрили, когда сюда ѣхали.
— Ну, это вы оставьте. Я вѣрилъ ровно два дня.
— Да... Вы вѣрили, пока у васъ не отняли денегъ. Горькій не вѣрилъ, пока ему не дали денегъ... Деньги опредѣляютъ бытіе, а бытіе опредѣляетъ сознаніе... — иронизирую я.
— Гмъ, такъ вы думаете — деньги? Слава? Реклама? Не знаю. Только, вы знаете, когда я началъ редактировать эту "Перековку", такъ мнѣ сначала было стыдно по лагерю ходить. Потомъ — ничего, привыкъ. А за Горькаго, такъ мнѣ до сихъ поръ стыдно.
— Не вамъ одному...
Въ комнатушку Марковича, въ которой стояла даже кровать — неслыханная роскошь въ лагерѣ, — удиралъ изъ УРЧ Юра, забѣгалъ съ Погры Борисъ. Затапливали печку. Мы съ Марковичемъ сворачивали по грандіозной собачьей ножкѣ, гасили свѣтъ, чтобы со двора даже черезъ заклеенныя бумагой окна ничего не было видно, усаживались "у камина" и "отводили душу".
— А вы говорите — лагерь, — начиналъ Марковичъ, пуская въ печку клубъ махорочнаго дыма. — А кто въ Москвѣ имѣетъ такую жилплощадь, какъ я въ лагерѣ? Я васъ спрашиваю — кто? Ну, Сталинъ, ну, еще тысяча человѣкъ. Я имѣю отдѣльную комнату, я имѣю хорошій обѣдъ — ну, конечно, по блату, но имѣю. А что вы думаете — если мнѣ завтра нужны новые штаны, такъ я штановъ не получу? Я ихъ получу: не можетъ же совѣтское печатное слово ходить безъ штановъ... И потомъ — вы меня слушайте, товарищи, я ей-Богу, сталъ умный — знаете, что въ лагерѣ совсѣмъ-таки хорошо? Знаете? Нѣтъ? Такъ я вамъ скажу: это ГПУ.
Марковичъ обвелъ насъ побѣдоноснымъ взглядомъ.
— Вы не смѣйтесь.... Вотъ вы сидите въ Москвѣ и у васъ: начальство — разъ, профсоюзъ — два, комячейка — три, домкомъ — четыре, жилкоопъ — пять, ГПУ — и шесть, и семь, и восемь. Скажите, пожалуйста, что вы — живой человѣкъ или вы протоплазма? А если вы живой человѣкъ — такъ какъ вы можете разорваться на десять частей? Начальство требуетъ одно, профсоюзъ требуетъ другое, домкомъ же вамъ вообще жить не даетъ. ГПУ ничего не требуетъ и ничего не говоритъ, и ничего вы о немъ не знаете. Потомъ разъ — и летитъ Иванъ Лукьяновичъ... вы сами знаете — куда. Теперь возьмите въ лагерѣ. Ильиныхъ — начальникъ отдѣленія. Онъ — мое начальство, онъ мой профсоюзъ, онъ — мое ГПУ, онъ мой царь, онъ мой Богъ. Онъ можетъ со мною сдѣлать все, что захочетъ. Ну, конечно, хорошенькой женщины и онъ изъ меня сдѣлать не можетъ. Но, скажемъ, онъ изъ меня можетъ сдѣлать не мужчину: вотъ посидите вы съ годикъ на Лѣсной Рѣчкѣ, такъ я посмотрю, что и съ такого бугая, какъ вы, останутся... Но, спрашивается, зачѣмъ Ильиныхъ гноить меня на Лѣсной Рѣчкѣ или меня разстрѣливать? Я знаю, что ему отъ меня нужно. Ему нуженъ энтузіазмъ — на тебѣ энтузіазмъ. Вотъ постойте, я вамъ прочту...
Марковичъ поворачивается и извлекаетъ откуда-то изъ-за спины, со стола, клочекъ бумаги съ отпечатаннымъ на немъ заголовкомъ:
— Вотъ, слушайте: "огненнымъ энтузіазмомъ ударники Бѣлморстроя поджигаютъ большевистскіе темпы Подпорожья". Что? Плохо?
— Н-да... Заворочено здорово, — съ сомнѣніемъ откликается Борисъ. — Только вотъ насчетъ "поджигаютъ" — какъ-то не тово...
— Не тово? Ильиныхъ нравится? — Нравится. Ну, и чертъ съ нимъ, съ вашимъ "не тово". Что, вы думаете, я въ нобелевскую премію лѣзу? Мнѣ дай Богъ изъ лагеря вылѣзти. Такъ вотъ я вамъ и говорю... Если вамъ въ Москвѣ нужны штаны, такъ вы идете въ профкомъ и клянчите тамъ ордеръ. Такъ вы этого ордера не получаете. А если получаете ордеръ, такъ не получаете штановъ. А если вы такой счастливый, что получаете штаны, такъ или не тотъ размѣръ, или на зиму — лѣтніе, а на лѣто — зимніе. Словомъ, это вамъ не штаны, а болѣзнь. А я приду къ Ильиныхъ — онъ мнѣ записку — и кончено: Марковичъ ходитъ въ штанахъ и не конфузится. И никакого ГПУ я не боюсь. Во-первыхъ, я все равно уже въ лагерѣ — такъ мнѣ вообще болѣе или менѣе наплевать. А во вторыхъ, лагерное ГПУ — это самъ Ильиныхъ. А я его вижу, какъ облупленнаго. Вы знаете — если ужъ непремѣнно нужно, чтобы было ГПУ, такъ ужъ пусть оно будетъ у меня дома. Я, по крайней, мѣрѣ, буду знать, съ какой стороны оно кусается; такъ я его съ той самой стороны за пять верстъ обойду...
Борисъ въ это время переживалъ тяжкіе дни. Если мнѣ было тошно въ УРЧ, гдѣ загубленныя человѣческія жизни смотрѣли на меня только этакими растрепанными символами изъ ящиковъ съ "личными дѣлами", то Борису приходилось присутствовать при ликвидаціи этихъ жизней совсѣмъ въ реальности, безъ всякихъ символовъ. Лѣчить было почти нечѣмъ. И, кромѣ того, ежедневно въ "санитарную вѣдомость" лагеря приходилось вписывать цифру — обычно однозначную — сообщаемую изъ третьей части и означающую число разстрѣлянныхъ. Гдѣ и какъ ихъ разстрѣливали — "оффиціально" оставалось неизвѣстнымъ. Цифра эта проставлялась въ графу: "умершіе внѣ лагерной черты", и Борисъ на соотвѣтственныхъ личныхъ карточкахъ долженъ былъ изобрѣтать діагнозы и писать exitus laetalis. Это были разстрѣлы втихомолку — самый распространенный видъ разстрѣловъ въ СССР.
Борисъ — не изъ унывающихъ людей. Но и ему, видимо, становилось невмоготу. Онъ пытался вырваться изъ санчасти, но врачей было мало — и его не пускали. Онъ писалъ въ "Перековку" призывы насчетъ лагерной санитаріи, ибо близилась весна, и что будетъ въ лагерѣ, когда растаютъ всѣ эти уборныя, — страшно было подумать. Марковичъ очень хотѣлъ перетащить его къ себѣ, чтобы имѣть въ редакціи хоть одного грамотнаго человѣка — самъ-то онъ въ россійской грамотѣ былъ не очень силенъ, — но этотъ проектъ имѣлъ мало шансовъ на осуществленіе. И самъ Борисъ не очень хотѣлъ окунаться въ "Перековку", и статьи его приговора представляли весьма существенное препятствіе.
— Эхъ, Б. Л., и зачѣмъ же вы занимались контръ-революціей? Ну, что вамъ стоило просто зарѣзать человѣка? Тогда вы были бы здѣсь соціально близкимъ элементомъ — и все было бы хорошо. Но — статьи, — это ужъ я устрою. Вы только изъ санчасти выкрутитесь. Ну, я знаю, какъ? Ну, дайте кому-нибудь вмѣсто касторки стрихнина. Нѣтъ ни касторки, ни стрихнина? Ну, такъ что-нибудь въ этомъ родѣ — вы же врачъ, вы же должны знать. Ну, отрѣжьте вмѣсто отмороженной ноги здоровую. Ничего вамъ не влетитъ — только съ работы снимутъ, а я васъ сейчасъ же устрою... Нѣтъ, шутки — шутками, а надо же какъ-то другъ другу помогать... Но только куда я дѣну Трошина? Вѣдь онъ же у меня въ самыхъ глубокихъ печенкахъ сидитъ.
Трошинъ — былъ поэтъ, колоссальнаго роста и оглушительнаго баса. Свои неизвѣстные мнѣ грѣхи онъ замаливалъ въ стихахъ, исполненныхъ нестерпимаго энтузіазма. И, кромѣ того, "пригвождалъ къ позорному столбу" или, какъ говорилъ Марковичъ, къ позорнымъ столбамъ "Перековки" всякаго рода прогульщиковъ, стяжателей, баптистовъ, отказчиковъ, людей, которые молятся, и людей, которые "сожительствуютъ въ половомъ отношеніи" — ну, и прочихъ грѣшныхъ міра сего. Онъ былъ густо глупъ и приводилъ Марковича въ отчаяніе.
— Ну, вы подумайте, ну, что я съ нимъ буду дѣлать? Вчера было узкое засѣданіе: Якименко, Ильиныхъ, Богоявленскій — самая, знаете, верхушка. И мы съ нимъ отъ редакціи были. Ну, такъ что вы думаете? Такъ онъ сталъ опять про пламенный энтузіазмъ орать... Какъ быкъ, оретъ. Я ужъ ему на ногу наступалъ: мнѣ же неудобно, это же мой сотрудникъ.
— Почему же неудобно? — спрашиваетъ Юра.
— Охъ, какъ же вы не понимаете! Объ энтузіазмѣ можно орать, ну, тамъ, въ газетѣ, ну, на митингѣ. А тутъ же люди свои. Что, они не знаютъ? Это же вродѣ старорежимнаго молебна — никто не вѣритъ, а всѣ ходятъ. Такой порядокъ.
— Почему же это — никто не вѣритъ?
— Ой, Господи... Что, губернаторъ вѣрилъ? Или вы вѣрили? Хотя вы уже послѣ молебновъ родились. Ну, все равно... Словомъ, нужно же понять, что если я, скажемъ, передъ Якименкой буду орать про энтузіазмъ, а въ комнатѣ никого больше нѣтъ, такъ Якименко подумаетъ, что или я дуракъ, или я его за дурака считаю. Я потомъ Трошина спросилъ: такъ кто же, по его, больше дуракъ — Якименко или онъ самъ? Ну, такъ онъ меня матомъ обложилъ. А Якименко меня сегодня спрашиваетъ: что это у васъ за... какъ это... орясина завелась?.. Скажите, кстати, что такое орясина?
Я по мѣрѣ возможности объяснилъ.
— Ну, вотъ — конечно, орясина. Мало того, что онъ меня дискредитируетъ, такъ онъ меня еще закопаетъ. Ну, вотъ смотрите, вотъ его замѣтка — ее, конечно, не помѣщу. Онъ, видите ли, открылъ, что завхозъ сахаръ крадетъ. А? Какъ вамъ нравится это открытіе? Подумаешь, Христофоръ Колумбъ нашелся. Подумаешь, безъ него, видите ли, никто не зналъ, что завхозъ не только сахаръ, а что угодно воруетъ... Но чортъ съ ней, съ замѣткой. Я ее не помѣщу — и точка. Такъ, этотъ... Какъ вы говорите? Орясина? Такъ эта орясина ходитъ по лагерю и, какъ быкъ, оретъ: какой я умный, какой я активный: я разоблачилъ завхоза, я открылъ конкретнаго носителя зла. Я ему говорю: вы сами, товарищъ Трошинъ, конкретный носитель идіотизма...
— Но почему же идіотизма?
— Охъ, вы меня, Юрочка, извините, только вы еще совсѣмъ молодой. Ужъ разъ онъ завхозъ, такъ какъ же онъ можетъ не красть?
— Но почему же не можетъ?
— Вамъ все почему, да почему. Знаете, какъ у О'Генри: "папа, а почему въ дырѣ ничего нѣтъ?" Потому и нѣтъ, что она — дыра. Потому онъ и крадетъ, что онъ — завхозъ. Вы думаете, что, если къ нему придетъ начальникъ лагпункта и скажетъ: дай мнѣ два кила — такъ завхозъ можетъ ему не дать? Или вы думаете, что начальникъ лагпункта пьетъ чай только со своимъ пайковымъ сахаромъ?
— Ну, если не дастъ, снимутъ его съ работы.
— Охъ, я же вамъ говорю, что вы совсѣмъ молодой.
— Спасибо.
— Ничего, не плачьте. Вотъ еще поработаете въ УРЧ, такъ вы еще на полъ аршина вырастете. Что вы думаете, что начальникъ лагпункта это такой же дуракъ, какъ Трошинъ? Вы думаете, что начальникъ лагпункта можетъ устроить такъ, чтобы уволенный завхозъ ходилъ по лагерю и говорилъ: вотъ я не далъ сахару, такъ меня сняли съ работы. Вы эти самыя карточки въ УРЧ видали? Такъ вотъ, карточка завхоза попадетъ на первый же этапъ на Морсплавъ или какую-нибудь тамъ Лѣсную Рѣчку. Ну, вы, вѣроятно, знаете уже, какъ это дѣлается. Такъ — ночью завхоза разбудятъ, скажутъ: "собирай вещи", а утромъ поѣдетъ себѣ завхозъ къ чертовой матери. Теперь понятно?
— Понятно.
— А если завхозъ воруетъ для начальника лагпункта, то почему онъ не будетъ воровать для начальника УРЧ? Или почему онъ не будетъ воровать для самого себя? Это же нужно понимать. Если Трошинъ разоряется, что какой-то тамъ урка филонитъ, а другой урка перековался, такъ отъ этого же никому ни холодно, ни жарко. И одному уркѣ плевать — онъ всю свою жизнь филонитъ, и другому уркѣ плевать — онъ всю свою жизнь воровалъ и завтра опять проворуется. Ну, а завхозъ. Я самъ изъ-за этого десять лѣтъ получилъ.
— То-есть, какъ такъ изъ-за этого?
— Ну, не изъ-за этого. Ну, въ общемъ, былъ завѣдующимъ мануфактурнымъ кооперативомъ. Тамъ же тоже есть вродѣ нашего начальника лагпункта. Какъ ему не дашь? Одному дашь, другому дашь, а всѣмъ вѣдь дать нельзя. Ну, я еще тоже молодой былъ. Хе, даромъ, что въ Америкѣ жилъ. Ну, вотъ и десять лѣтъ.
— И, такъ сказать, не безъ грѣха?
— Знаете что, Иванъ Лукьяновичъ, чтобы доказать вамъ, что безъ грѣха — давайте чай пить съ сахаромъ. Мишка сейчасъ чайникъ поставитъ. Такъ вы увидите, что я передъ вами не хочу скрывать даже лагернаго сахара. Такъ зачѣмъ бы я сталъ скрывать не лагерную мануфактуру, за которую я все равно уже пять лѣтъ отсидѣлъ. Что, не видалъ я этой мануфактуры? Я же изъ Америки привезъ костюмовъ — на цѣлую Сухаревку хватило бы. Теперь я живу безъ американскихъ костюмовъ и безъ американскихъ правилъ. Какъ это говоритъ русская пословица: въ чужой монастырь со своей женой не суйся? Такъ? Кстати, о женѣ: мало того, что я, дуракъ, сюда пріѣхалъ, такъ я, идіотъ, пріѣхалъ сюда съ женой.
— А теперь ваша жена гдѣ?
Марковичъ посмотрѣлъ въ потолокъ.
— Вы знаете, И. Л., зачѣмъ спрашивать о женѣ человѣка, который уже шестой годъ сидитъ въ концлагерѣ? Вотъ я черезъ пять лѣтъ о вашей женѣ спрошу...
МИШКИНА КАРЬЕРА
Миша принесъ чайникъ, наполненный снѣгомъ, и поставилъ его на печку.
— Вотъ вы этого парня спросите, что онъ о нашемъ поэтѣ думаетъ, — сказалъ Марковичъ по англійски.
Приладивъ чайникъ на печку, Миша сталъ запихивать въ нее бревно, спертое давеча изъ разоренной карельской избушки.
— Ну, какъ вы, Миша, съ Трошинымъ уживаетесь? — спросилъ я.
Миша поднялъ на меня свое вихрастое, чахоточное лицо.
— А что мнѣ съ нимъ уживаться? Бревно и бревно. Вотъ только въ третью часть бѣгаетъ.
Миша былъ парнемъ великаго спокойствія. Послѣ того, что онъ видалъ въ лагерѣ, — мало осталось въ мірѣ вещей, которыя могли бы его удивить.
— Вотъ тоже, — прибавилъ онъ, помолчавши, — приходитъ давеча сюда, никого не было, только я. Ты, говоритъ, Миша, посмотри, что съ тебя совѣтская власть сдѣлала. Былъ ты, говоритъ, Миша, безпризорникомъ, былъ ты, говоритъ, преступнымъ элементомъ, а вотъ тебя совѣтская власть въ люди вывела, наборщикомъ сдѣлала.
Миша замолчалъ, продолжая ковыряться въ печкѣ.
— Ну, такъ что?
— Что? Сукинъ онъ сынъ — вотъ что.
— Почему же сукинъ сынъ?
Миша снова помолчалъ...
— А безпризорникомъ-то меня кто сдѣлалъ? Папа и мама? А отъ кого у меня чахотка третьей степени? Тоже награда, подумаешь, черезъ полгода выпускаютъ, а мнѣ всего годъ жить осталось. Что-жъ онъ, сукинъ сынъ, меня агитируетъ? Что онъ съ меня дурака разыгрываетъ?
Миша былъ парнемъ лѣтъ двадцати, тощимъ, блѣднымъ, вихрастымъ. Отецъ его былъ мастеромъ на Николаевскомъ судостроительномъ заводѣ. Былъ свой домикъ, огородикъ, мать, сестры. Мать померла, отецъ повѣсился, сестры смылись неизвѣстно куда. Самъ Миша пошелъ "по всѣмъ дорогамъ", попалъ въ лагерь, а въ лагерѣ попалъ на лѣсозаготовки.
— Какъ поставили меня на норму, тутъ, вижу я: здоровые мужики, привычные, и то не вытягиваютъ. А куда же мнѣ? На меня дунь — свалюсь. Бился я бился, да такъ и попалъ за филонство въ изоляторъ, на 200 граммъ хлѣба въ день и ничего больше. Ну, тамъ бы я и загибъ, да, спасибо, одинъ старый соловчанинъ подвернулся — такъ онъ меня научилъ, чтобы воды не пить. Потому — отъ голода опухлость по всему тѣлу идетъ. Отъ голода пить хочется, а отъ воды опухлость еще больше. Вотъ, какъ она до сердца дойдетъ, тутъ, значитъ, и крышка. Ну, я пилъ совсѣмъ по малу — такъ, по полстакана въ день. Однако, нога въ штанину уже не влѣзала. Посидѣлъ я такъ мѣсяцъ-другой; ну, вижу, пропадать приходится: никуда не дѣнешься. Да, спасибо, начальникъ добрый попался. Вызываетъ меня: ты, говоритъ, филонъ, ты, говоритъ, работать не хочешь, я тебя на корню сгною. Я ему говорю: вы, гражданинъ начальникъ, только на мои руки посмотрите: куда же мнѣ съ такими руками семь съ половиною кубовъ напилить и нарубить. Мнѣ, говорю, все одно погибать — чи такъ, чи такъ... Ну, пожалѣлъ, перевелъ въ слабосилку.
Изъ слабосилки Мишу вытянулъ Марковичъ, обучилъ его наборному ремеслу, и съ тѣхъ поръ Миша пребываетъ при немъ неотлучно
Но легкихъ у Миши практически уже почти нѣтъ. Борисъ его общупывалъ и обстукивалъ, снабжалъ его рыбьимъ жиромъ. Миша улыбался своей тихой улыбкой и говорилъ:
— Спасибо, Б. Л., вы ужъ кому-нибудь другому лучше дайте. Мнѣ это все одно, что мертвому кадило...
Потомъ, какъ-то я подсмотрѣлъ такую сценку:
Сидитъ Миша на крылечкѣ своей "типографіи" въ своемъ рваномъ бушлатикѣ, весь зеленый отъ холода. Между его колѣнями стоитъ мѣстная деревенская "вольная" дѣвчушка, лѣтъ, этакъ, десяти, рваная, голодная и босая. Миша осторожненько наливаетъ драгоцѣнный рыбій жиръ на ломтики хлѣба и кормитъ этими бутербродами дѣвчушку. Дѣвчушка глотаетъ жадно, почти не пережевывая и въ промежуткахъ между глотками скулитъ:
— Дяденька, а ты мнѣ съ собой хлѣбца дай.
— Не дамъ. Я знаю, ты маткѣ все отдашь. А матка у тебя старая. Ей, что мнѣ, все равно помирать. А ты вотъ кормиться будешь — большая вырастешь. На, ѣшь...
Борисъ говорилъ Мишѣ всякія хорошія вещи о пользѣ глубокаго дыханія, о солнечномъ свѣтѣ, о силахъ молодого организма — лѣченіе, такъ сказать, симпатическое, внушеніемъ. Миша благодарно улыбался, но какъ-то наединѣ, застѣнчиво и запинаясь, сказалъ мнѣ:
— Вотъ хорошіе люди — и вашъ братъ, и Марковичъ. Душевные люди. Только зря они со мною возжаются.
— Почему же, Миша, зря?
— Да я же черезъ годъ все равно помру. Мнѣ тутъ старый докторъ одинъ говорилъ. Развѣ-жъ съ моей грудью можно выжить здѣсь? На волѣ, вы говорите? А что на волѣ? Можетъ, еще голоднѣе будетъ, чѣмъ здѣсь. Знаю я волю. Да и куда я тамъ пойду... И вотъ Марковичъ... Душевный человѣкъ. Только вотъ, если бы онъ тогда меня изъ слабосилки не вытянулъ, я бы уже давно померъ. А такъ вотъ — еще мучаюсь. И еще съ годъ придется помучиться.
Въ тонѣ Миши былъ упрекъ Марковичу. Почти такой же упрекъ только въ еще болѣе трагическихъ обстоятельствахъ пришлось мнѣ услышать, на этотъ разъ по моему адресу, отъ профессора Авдѣева. А Миша въ маѣ мѣсяцѣ померъ. Года промучиться еще не пришлось.
НАБАТЪ
Такъ мы проводили наши рѣдкіе вечера у печки товарища Марковича, то опускаясь въ философскія глубины бытія, то возвращаясь къ прозаическимъ вопросамъ о лагерѣ, о ѣдѣ, о рыбьемъ жирѣ. Въ эти времена рыбій жиръ спасалъ насъ отъ окончательнаго истощенія. Если для средняго человѣка "концлагерная кухня" означала стабильное недоѣданіе, то, скажемъ, для Юры съ его растущимъ организмомъ и пятью съ половиною пудами вѣсу — лагерное меню грозило полнымъ истощеніемъ. Всякими правдами и неправдами (преимущественно, конечно, неправдами) мы добывали рыбій жиръ и дѣлали такъ: въ миску крошилось съ полфунта хлѣба и наливалось съ полстакана рыбьяго жиру. Это казалось необыкновенно вкуснымъ. Въ такой степени, что Юра проектировалъ: когда проберемся заграницу, обязательно будемъ устраивать себѣ такой пиръ каждый день. Когда перебрались, попробовали: ничего не вышло...
Къ этому времени горизонты наши прояснились, будущее стало казаться полнымъ надеждъ, и мы, изрѣдка выходя на берегъ Свири, оглядывали прилегающіе лѣса и вырабатывали планы переправы черезъ рѣку на сѣверъ, въ обходъ Ладожскаго озера — тотъ приблизительно маршрутъ, по которому впослѣдствіи пришлось идти Борису. Все казалось прочнымъ и урегулированнымъ.
Однажды мы сидѣли у печки Марковича. Самъ онъ гдѣ-то мотался по редакціонно-агитаціоннымъ дѣламъ... Поздно вечеромъ онъ вернулся, погрѣлъ у огня иззябшія руки, выглянулъ въ сосѣднюю дверь, въ наборную, и таинственно сообщилъ:
— Совершенно секретно: ѣдемъ на БАМ.
Мы, разумѣется, ничего не понимали.
— На БАМ... На Байкало-Амурскую магистраль. На Дальній Востокъ. Стратегическая стройка... Свирьстрой — къ чорту... Подпорожье — къ чорту. Всѣ отдѣленія сворачиваются. Всѣ до послѣдняго человѣка — на БАМ.
По душѣ пробѣжалъ какой-то, еще неопредѣленный, холодокъ... Вотъ и поворотъ судьбы "лицомъ къ деревнѣ"... Вотъ и мечты, планы, маршруты и "почти обезпеченное бѣгство"... Все это летѣло въ таинственную и жуткую неизвѣстность этого набатнаго звука "БАМ"... Что же дальше?
Дальнѣйшая информація Марковича была нѣсколько сбивчива. Начальникомъ отдѣленія полученъ телеграфный приказъ о немедленной, въ теченіе двухъ недѣль, переброскѣ не менѣе 35.000 заключенныхъ со Свирьстроя на БАМ. Будутъ брать, видимо, не всѣхъ, но кого именно — неизвѣстно. Не очень извѣстно, что такое БАМ — не то стройка второй колеи Амурской желѣзной дороги, не то новый путь отъ сѣверной оконечности Байкала по параллели къ Охотскому морю... И то, и другое — приблизительно одинаково скверно. Но хуже всего — дорога: не меньше двухъ мѣсяцевъ ѣзды...
Я вспомнилъ наши кошмарныя пять сутокъ этапа отъ Ленинграда до Свири, помножилъ эти пять сутокъ на 12 и получилъ результатъ, отъ котораго по спинѣ поползли мурашки... Два мѣсяца? Да кто же это выдержитъ? Марковичъ казался пришибленнымъ, да и всѣ мы чувствовали себя придавленными этой новостью... Какимъ-то еще неснившимся кошмаромъ вставали эти шестьдесятъ сутокъ заметенныхъ пургой полей, ледяного вѣтра, прорывающагося въ дыры теплушекъ, холода, голода, жажды. И потомъ БАМ? Какія-то якутскія становища въ страшной Забайкальской тайгѣ? Новостройка на трупахъ? Какъ было на каналѣ, о которомъ одинъ старый "бѣлморстроевецъ" говорилъ мнѣ: "тутъ, братишка, на этихъ самыхъ плотинахъ больше людей въ землю вогнано, чѣмъ бревенъ"...
Оставался, впрочемъ, маленькій просвѣтъ: эвакуаціоннымъ диктаторомъ Подпорожья назначался Якименко... Можетъ бытъ, тутъ удастся что-нибудь скомбинировать... Можетъ быть, опять какой-нибудь Шпигель подвернется? Но всѣ эти просвѣты были неясны и нереальны. БАМ же вставалъ передъ нами зловѣщей и реальной массой, навалившейся на насъ почти такъ же внезапно, какъ чекисты въ вагонѣ № 13...
Надъ тысячами метровъ развѣшенныхъ въ баракахъ и на баракахъ, протянутыхъ надъ лагерными улицами полотнищъ съ лозунгами о перековкѣ и переплавкѣ, о строительствѣ соціализма и безклассоваго общества, о міровой революціи трудящихся и о прочемъ — надъ всѣми ними, надъ всѣмъ лагеремъ точно повисъ багровой спиралью одинъ единственный невидимый, но самый дѣйственный: "все равно пропадать".
ЗАРЕВО
"Совершенно секретная" информація о БАМѣ на другой день стала извѣстна всему лагерю. Почти пятидесятитысячная "трудовая" армія стала, какъ вкопанная. Былъ какой-то моментъ нерѣшительности, колебанія — и потомъ все сразу полетѣло ко всѣмъ чертямъ...
Въ тотъ же день, когда Марковичъ ошарашилъ насъ этимъ БАМомъ, изъ Ленинграда, Петрозаводска и Медвѣжьей Горы въ Подпорожье прибыли и новыя части войскъ ГПУ. Лагерные пункты были окружены плотнымъ кольцомъ ГПУ-скихъ заставъ и патрулей. Костры этихъ заставъ окружали Подпорожье заревомъ небывалыхъ пожаровъ. Движеніе между лагерными пунктами было прекращено. По всякой человѣческой фигурѣ, показывающейся внѣ дорогъ, заставы и патрули стрѣляли безъ предупрежденія. Такимъ образомъ, въ частности, было убито десятка полтора мѣстныхъ крестьянъ, но въ общихъ издержкахъ революціи эти трупы, разумѣется, ни въ какой счетъ не шли...
Работы въ лагерѣ были брошены всѣ. На мѣстахъ работъ были брошены топоры, пилы, ломы, лопаты, сани. Въ ужасающемъ количествѣ появились саморубы: старые лагерники, зная, что значитъ двухмѣсячный этапъ, рубили себѣ кисти рукъ, ступни, колѣни, лишь бы только попасть въ амбулаторію и отвертѣться отъ этапа. Начались совершенно безсмысленные кражи и налеты на склады и магазины. Люди пытались попасть въ штрафной изоляторъ и подъ судъ — лишь бы уйти отъ этапа. Но саморубовъ приказано было въ амбулаторіи не принимать, налетчиковъ стали разстрѣливать на мѣстѣ.
"Перековка" вышла съ аншлагомъ о томъ энтузіазмѣ, съ которымъ "ударники Свирьстроя будутъ поджигать большевицкіе темпы БАМа", о великой чести, выпавшей на долю БАМовскихъ строителей, и — что было хуже всего — о льготахъ... Приказъ ГУЛАГа обѣщалъ ударникамъ БАМа неслыханныя льготы: сокращеніе срока заключенія на одну треть и даже на половину, переводъ на колонизацію, снятіе судимости... Льготы пронеслись по лагерю, какъ похоронный звонъ надъ заживо погребенными; совѣтская власть даромъ ничего не обѣщаетъ. Если даютъ такія обѣщанія — значитъ, что условія работъ будутъ неслыханными, и никакъ не значитъ, что обѣщанія эти будутъ выполнены: когда же совѣтская власть выполняетъ свои обѣщанія? Лагпунктами овладѣло безуміе.
Бригада плотниковъ на второмъ лагпунктѣ изрубила топорами чекистскую заставу и, потерявъ при этомъ 11 человѣкъ убитыми, прорвалась въ лѣсъ Лѣсъ былъ заваленъ метровымъ слоемъ снѣга. Лыжныя команды ГПУ въ тотъ же день настигли прорвавшуюся бригаду и ликвидировали ее на корню. На томъ же лагпунктѣ ночью спустили подъ откосъ экскаваторъ, онъ проломилъ своей страшной тяжестью полуметровый ледъ и разбился о камни рѣки. На третьемъ лагпунктѣ взорвали два локомобиля. Три трактора-тягача, неизвѣстно кѣмъ пущенные, но безъ водителей, прошли желѣзными привидѣніями по Погрѣ, одинъ навалился на баракъ столовой и раздавилъ его, два другіе свалились въ Свирь и разбились... Низовая администрація какими-то таинственными путями — видимо, черезъ урокъ и окрестныхъ крестьянъ — распродавала на олонецкій базаръ запасы лагерныхъ базъ и пила водку. У погрузочной платформы желѣзнодорожнаго тупичка подожгли колоссальные склады лѣсоматеріаловъ. Въ двухъ-трехъ верстахъ можно было читать книгу.
Чудовищныя зарева сполохами ходили по низкому зимнему небу, трещала винтовочная стрѣльба, ухалъ разворованный рабочими аммоналъ... Казалось, для этого затеряннаго въ лѣсахъ участка Божьей земли настаютъ послѣдніе дни...
О КАЗАНСКОЙ СИРОТѢ И О КАЧЕСТВѢ ПРОДУКЦІИ
Само собою разумѣется, что въ отблескахъ этихъ заревъ коротенькому промежутку относительно мирнаго житія нашего пришелъ конецъ... Если на лагерныхъ пунктахъ творилось нѣчто апокалипсическое, то въ УРЧ воцарился окончательный сумасшедшій домъ. Десятки пудовъ документовъ только что прибывшихъ лагерниковъ валялись еще неразобранными кучами, а всю работу УРЧ надо было перестраивать на ходу: вмѣсто "организаціи" браться за "эвакуацію". Картотеки, формуляры, колонные списки — все это смѣшалось въ гигантскій бумажный комъ, изъ котораго ошалѣлые урчевцы извлекали наугадъ первые попавшіеся подъ руку бумажные символы живыхъ людей и наспѣхъ составляли списки первыхъ эшелоновъ. Эти списки посылались начальникамъ колоннъ, а начальники колоннъ поименованныхъ въ спискѣ людей и слыхомъ не слыхали. Желѣзная дорога подавала составы, но грузить ихъ было некѣмъ. Потомъ, когда было кѣмъ грузить — не было составовъ. Низовая администрація, ошалѣлая, запуганная "боевыми приказами", движимая тѣмъ же лозунгомъ, что и остальные лагерники: все равно пропадать, — пьянствовала и отсыпалась во всякаго рода потаенныхъ мѣстахъ. На тупичкахъ Погры торчало уже шесть составовъ. Якименко рвалъ и металъ. ВОХР сгонялъ къ составамъ толпы захваченныхъ въ порядкѣ облавъ заключенныхъ. Бамовская комиссія отказывалась принимать ихъ безъ документовъ. Какіе-то сообразительные ребята изъ подрывниковъ взорвали уворованнымъ аммоналомъ желѣзнодорожный мостикъ, ведущій отъ Погры къ магистральнымъ путямъ. Надъ лѣсами выла вьюга. Въ лѣса, топорами прорубая пути сквозь чекистскія заставы, прорывались цѣлыя бригады, въ расчетѣ гдѣ-то отсидѣться эти недѣли эвакуаціи, потомъ явиться съ повинной, получить лишніе пять лѣтъ отсидки — но все же увернуться отъ БАМа.
Когда плановый срокъ эвакуаціи уже истекалъ — изъ Медгоры прибыло подкрѣпленіе: десятковъ пять работниковъ УРО — "спеціалистовъ учетно-распредѣлительной работы", еще батальонъ войскъ ГПУ и сотня собакъ-ищеекъ.
На лагпунктахъ и около лагпунктовъ стали разстрѣливать безъ всякаго зазрѣнія совѣсти.
Урчевскій активъ переживалъ дни каторги и изобилія. Спали только урывками, обычно здѣсь же, на столахъ или подъ столами. Около УРЧ околачивались таинственныя личности изъ наиболѣе оборотистыхъ и "соціально близкихъ" урокъ. Личности эти приносили активу подношенія отъ тѣхъ людей, которые надѣялись бутылкой водки откупиться отъ отправки или, по крайней мѣрѣ, отъ отправки съ первыми эшелонами. Якименко внюхивался въ махорочно-сивушные ароматы УРЧ, сажалъ подъ арестъ, но сейчасъ же выпускалъ: никто, кромѣ Стародубцева и иже съ нимъ, никакими усиліями не могъ опредѣлить: въ какомъ, хотя бы приблизительно, углу валяются документы, скажемъ, третьяго смоленскаго или шестого ленинградскаго эшелона, прибывшаго въ Подпорожье мѣсяцъ или два тому назадъ.
Мои экономическія, юридическія и прочія изысканія были ликвидированы въ первый же день бамовской эпопеи. Я былъ пересаженъ за пишущую машинку — профессія, которая оказалась здѣсь дефицитной. Бывало и такъ, что я сутками не отходилъ отъ этой машинки — но, Боже ты мой, что это была за машинка!
Это было совѣтское издѣліе совѣтскаго казанскаго завода, почему Юра и прозвалъ ее "казанской сиротой". Все въ ней звенѣло, гнулось и разбалтывалось. Но хуже всего былъ ея норовъ. Вотъ, сидишь за этой сиротой, уже полуживой отъ усталости. Якименко стоитъ надъ душой. На какой-то таинственной буквѣ каретка срывается съ зубчатки и летитъ влѣво. Отъ всѣхъ 12 экземпляровъ этапныхъ списковъ остаются одни клочки. Якименко испускаетъ сдержанный матъ въ пространство, многочисленная администрація, ожидающая этихъ списковъ для вылавливанія эвакуируемыхъ, вздыхаетъ съ облегченіемъ (значитъ, можно поспать), а я сижу всю ночь, перестукивая изорванный списокъ и пытаясь предугадать очередную судорогу этого эпилептическаго совѣтскаго недоноска.
О горестной совѣтской продукціи писали много. И меня всегда повергали въ изумленіе тѣ экономисты, которые пытаются объять необъятное и выразить въ цифровомъ эквивалентѣ то, для чего вообще въ мірѣ никакого эквивалента нѣтъ.
Люди просиживаютъ ночи надъ всякаго рода "казанскими сиротами", летятъ подъ откосы десятки тысячъ вагоновъ (по Лазарю Кагановичу — 62 тысячи крушеній за 1935 годъ — результаты качества сормовской и коломенской продукціи), ржавѣютъ на своихъ желѣзныхъ кладбищахъ сотни тысячъ тракторовъ, сотня милліоновъ людей надрывается отъ отупляющей и непосильной работы во всякихъ совѣтскихъ УРЧахъ, стройкахъ, совхозахъ, каналахъ, лагеряхъ — и все это тонетъ въ великомъ марксистско-ленинско-сталинскомъ болотѣ.
И, въ сущности, все это сводится къ "проблемѣ качества": качество коммунистической идеи неразрывно связано съ качествомъ политики, управленія, руководства — и результатовъ.
И на поверхности этого болота яркими и призрачными цвѣтами маячатъ: разрушающійся и уже почти забытый Турксибъ, безработный Днѣпрострой, никому и ни для чего ненужный Бѣломорско-Балтійскій каналъ, гигантскія заводы — поставщики тракторныхъ и иныхъ кладбищъ... И щеголяютъ въ своихъ кавалерійскихъ шинеляхъ всякіе товарищи Якименки — поставщики кладбищъ не тракторныхъ.
Долженъ, впрочемъ, сознаться, что тогда всѣ эти мысли о качествѣ продукціи — и идейной, и не идейной — мнѣ въ голову не приходили. На всѣхъ насъ надвигалась катастрофа.
ПРОМФИНПЛАНЪ ТОВАРИЩА ЯКИМЕНКО
На всѣхъ насъ надвигалось что-то столь же жестокое и безсмысленное, какъ и этотъ Бѣл-Балт-Каналъ... Зарева и стрѣльба на лагпунктахъ у насъ, въ управленіи, отражались безпросвѣтной работой, чудовищнымъ нервнымъ напряженіемъ, дикой, суматошной спѣшкой... Все это было — какъ катастрофа. Конечно, наши личныя судьбы въ этой катастрофѣ были для насъ самыми болѣзненными точками, но и безсмысленность этой катастрофы, взятой, такъ сказать, "въ соціальномъ разрѣзѣ", давила на сознаніе, какъ кошмаръ.
Приказъ гласилъ: отправить въ распоряженіе БАМа не менѣе 35.000 заключенныхъ Подпорожскаго отдѣленія и не болѣе, какъ въ двухнедѣльный срокъ. Запрещается отправлять: всѣхъ бывшихъ военныхъ, всѣхъ уроженцевъ Дальняго Востока, всѣхъ лицъ, кончающихъ срокъ наказанія до 1 іюня 34 г., всѣхъ лицъ, осужденныхъ по такимъ-то статьямъ, и, наконецъ, всѣхъ больныхъ — по особому списку...
По поводу этого приказа можно было поставить цѣлый рядъ вопросовъ: неужели этихъ 35 тысячъ рабочихъ рукъ нельзя было найти гдѣ-то поближе къ Дальнему Востоку, а не перебрасывать ихъ черезъ половину земного шара? Неужели нельзя было подождать тепла, чтобы не везти эти 35 тысячъ людей въ завѣдомо истребительныхъ условіяхъ нашего этапа? Неужели ГПУ не подумало, что въ двухнедѣльный срокъ такой эвакуаціи ни физически, ни тактически выполнить невозможно? И, наконецъ, неужели ГПУ не понимало, что изъ наличныхъ 45 тысячъ или около того заключенныхъ Подпорожскаго отдѣленія нельзя набрать 35 тысячъ людей, удовлетворяющихъ требованіямъ приказа, и, въ частности, людей хотя бы относительно здоровыхъ?
По существу, всѣ эти вопросы были безсмысленны. Здѣсь дѣйствовала система, рождающая казанскихъ сиротъ, декоративныхъ гигантовъ, тракторныя кладбища. Не могло быть особыхъ сомнѣній и насчетъ того, какъ эта система взятая "въ общемъ и цѣломъ" отразятся на частномъ случаѣ подпорожской эвакуаціи. Конечно, Якименко будетъ проводить свой промфинпланъ съ "желѣзной безпощадностью": на посты, вродѣ Якименскаго, могутъ пробраться только люди, этой безпощадностью обладающіе, — другіе отметаются, такъ сказать, въ порядкѣ естественнаго отбора. Якименко будетъ сажать людей въ дырявые вагоны, въ необорудованныя теплушки, Якименко постарается впихнуть въ эти эшелоны всѣхъ, кого только можно — и здоровыхъ, и больныхъ. Больные, конечно, не доѣдутъ живыми. Но развѣ хотя бы одинъ разъ въ исторіи совѣтской власти человѣческія жизни останавливали побѣдно-халтурное шествіе хотя бы одного промфинплана?
КРИВАЯ ИДЕТЪ ВНИЗЪ
Самымъ жестокимъ испытаніемъ для насъ въ эти недѣли была угроза отправки Юры на БАМ. Какъ достаточно скоро выяснилось, ни я, ни Борисъ отправкѣ на БАМ не подлежали: въ нашихъ формулярахъ значилась статья 58/6 (шпіонажъ), и насъ Якименко не смогъ бы отправить, если бы и хотѣлъ: нашихъ документовъ не приняла бы пріемочная комиссія БАМа. Но Юра этой статьи не имѣлъ. Слѣдовательно, по ходу событій дѣло обстояло такъ: мы съ Борисомъ остаемся, Юра будетъ отправленъ одинъ — послѣ его лѣтней болѣзни и операціи, послѣ тюремной и лагерной голодовки, послѣ каторжной работы въ УРЧ-евскомъ махорочномъ туманѣ по 16-20 часовъ въ сутки...
При самомъ зарожденіи всѣхъ этихъ БАМовскихъ перспективъ я какъ-то просилъ Якименко объ оставленіи Юры. Якименко отвѣчалъ мнѣ довольно коротко, но весьма неясно. Это было похоже на полуобѣщаніе, подлежащее исполненію только въ томъ случаѣ, если норма отправки будетъ болѣе или менѣе выполнена. Но съ каждымъ днемъ становилось все яснѣе, что норма эта выполнена быть не можетъ и не будетъ.
По минованіи надобности въ моихъ литературныхъ талантахъ, Якименко все опредѣленнѣе смотрѣлъ на меня, какъ на пустое мѣсто, какъ на человѣка, который уже не нуженъ и съ которымъ поэтому ни считаться, ни разговаривать нечего. Нужно отдать справедливость и Якименкѣ: во первыхъ, онъ работалъ такъ же каторжно, какъ и всѣ мы, и, во-вторыхъ, онъ обязанъ былъ отправить и всю администрацію отдѣленія, въ томъ числѣ и УРЧ. Не совсѣмъ ужъ просто было — послать старыхъ работниковъ УРЧ и оставить Юру... Во всякомъ случаѣ — надежды на Якименку съ каждымъ днемъ падали все больше и больше... Въ связи съ исчезновеніемъ могущественной Якименковской поддержки — снова въ наши икры начала цѣпляться урчевская шпана, цѣплялась скверно и — въ нашихъ условіяхъ — очень болѣзненно.
Мы съ Юрой только что закончили списки третьяго эшелона. Списки были провѣрены, разложены по столамъ, и я долженъ былъ занести ихъ на Погру. Было около трехъ часовъ ночи. Пропускъ, который мнѣ должны были заготовить, оказался незаготовленнымъ. Не идти было нельзя, а идти было опасно. Я все-таки пошелъ и прошелъ. Придя на Погру и передавая списки администраціи, я обнаружилъ, что изъ каждаго экземпляра списковъ украдено по четыре страницы. Отправка эшелона была сорвана. Многомудрый активъ съ Погры сообщилъ Якименкѣ, что я потерялъ эти страницы. Нетрудно было доказать полную невозможность нечаянной потери четырехъ страницъ изъ каждыхъ 12 экземпляровъ. И Якименкѣ такъ же не трудно было понять, что ужъ никакъ не въ моихъ интересахъ было съ заранѣе обдуманной цѣлью выкидывать эти страницы, а потомъ снова ихъ переписывать. Все это — такъ... Но разговоръ съ Якименкой, у котораго изъ-за моихъ списковъ проваливался его"промфинпланъ", — былъ не изъ пріятныхъ... — особенно, принимая во вниманіе Юрины перспективы... И инциденты такого типа, повторяющіеся приблизительно черезъ день, спокойствію души не способствовали.
Между тѣмъ, эшелоны шли и шли... Черезъ Бориса и желѣзнодорожниковъ, которыхъ онъ лѣчилъ, до насъ стали доходить сводки съ крестнаго пути этихъ эшелоновъ... Конечно, уже и отъ Погры (погрузочная станція) они отправлялись съ весьма скуднымъ запасомъ хлѣба и дровъ — а иногда и вовсе безъ запасовъ. Предполагалось, что аппаратъ ГПУ-скихъ базъ по дорогѣ снабдитъ эти эшелоны всѣмъ необходимымъ... Но никто не снабдилъ... Первые эшелоны еще кое-что подбирали по дорогѣ, а остальные ѣхали — Богъ ужъ ихъ знаетъ какъ. Желѣзнодорожники разсказывали объ остановкахъ поѣздовъ на маленькихъ заброшенныхъ станціяхъ и о томъ, какъ изъ этихъ поѣздовъ выносили сотни замерзшихъ труповъ и складывали ихъ въ штабели въ сторонкѣ отъ желѣзной дороги...
Разсказывали о крушеніяхъ, при которыхъ обезумѣвшіе люди выли въ опрокинутыхъ деревянныхъ западняхъ теплушекъ — слишкомъ хрупкихъ для силы поѣздного толчка, но слишкомъ прочныхъ для безоружныхъ человѣческихъ рукъ...
Мнѣ мерещилось, что вотъ, на какой-то заброшенной зауральской станціи вынесутъ обледенѣлый трупъ Юры, что въ какомъ-то товарномъ вагонѣ, опрокинутомъ подъ откосъ полотна, въ кашѣ изуродованныхъ человѣческихъ тѣлъ... Я гналъ эти мысли — онѣ опять лѣзли въ голову, я съ мучительнымъ напряженіемъ искалъ выхода — хоть какого-нибудь выхода — и его видно не было...
ПЛАНЫ ОТЧАЯНІЯ...
Нужно, впрочемъ, оговориться: о томъ, чтобы Юра дѣйствительно былъ отправленъ на БАМ, ни у кого изъ насъ ни на секунду не возникало и мысли. Это въ вагонѣ № 13 насъ чѣмъ-то опоили и захватили спящими. Второй разъ такой номеръ не имѣлъ шансовъ пройти. Вопросъ стоялъ такъ: или Юрѣ удастся отвертѣться отъ БАМа, или мы всѣ трое устроимъ какую-то рѣзню, и если и пропадемъ, то по крайней мѣрѣ съ трескомъ. Только Юра иногда говорилъ о томъ, что зачѣмъ же пропадать всѣмъ троимъ, что ужъ, если ничего не выйдетъ и ѣхать придется, онъ сбѣжитъ по дорогѣ. Но этотъ планъ былъ весьма утопиченъ. Сбѣжать изъ арестантскаго эшелона не было почти никакой возможности.
Борисъ былъ настроенъ очень пессимистически. Онъ приходилъ изъ Погры въ совсѣмъ истрепанномъ видѣ. Физически его работа была легче нашей; онъ цѣлыми днями мотался по лагпунктамъ, по больницамъ и амбулаторіямъ и хотя бы часть дня проводилъ на чистомъ воздухѣ и въ движеніи. Онъ имѣлъ право санитарнаго контроля надъ кухнями и питался исключительно "пробами пищи", а свой паекъ — хлѣбъ и по комку замерзлой ячменной каши — приносилъ намъ. Но его моральное положеніе — положеніе врача въ этой атмосферѣ саморубовъ, разстрѣловъ, отправки въ этапы завѣдомо больныхъ людей — было отчаяннымъ. Борисъ былъ увѣренъ, что своего полуобѣщанія насчетъ Юры Якименко не сдержитъ и что, пока какія-то силы остались, нужно бѣжать.
Теоретическій планъ побѣга былъ разработанъ въ такомъ видѣ: по дорогѣ изъ Подпорожья на Погру стояла чекистская застава изъ трехъ человѣкъ. На этой заставѣ меня и Бориса уже знали въ лицо — Бориса въ особенности, ибо онъ ходилъ мимо нея каждый день, а иногда и по два-три раза въ день. Поздно вечеромъ мы должны были всѣ втроемъ выйти изъ Подпорожья, захвативъ съ собою и вещи. Я и Борисъ подойдемъ къ костру 1 заставы и вступимъ съ патрульными въ какіе-либо разговоры. Потомъ, въ подходящій моментъ Борисъ долженъ былъ ликвидировать ближайшаго къ нему чекиста ударомъ кулака и броситься на другого. Пока Борисъ будетъ ликвидировать патрульнаго номеръ второй, я долженъ былъ, если не ликвидировать, то по крайней мѣрѣ временно нейтрализовать патрульнаго номеръ третій.
Никакого оружія, вродѣ ножа или топора, пускать въ ходъ было нельзя: планъ былъ выполнимъ только при условіи молніеносной стремительности и полной неожиданности. Плохо было то, что патрульные были въ кожухахъ: нѣкоторые и при томъ наиболѣе дѣйствительные пріемы атаки отпадали. Въ достаточности своихъ силъ я не былъ увѣренъ. Но съ другой стороны, было чрезвычайно мало вѣроятно, чтобы тотъ чекистъ, съ которымъ мнѣ придется схватиться, былъ сильнѣе меня. Планъ былъ очень рискованнымъ, но все же планъ былъ выполнимъ.
Ликвидировавъ заставу, мы получимъ три винтовки, штукъ полтораста патроновъ и кое-какое продовольствіе и двинемся въ обходъ Подпорожья, черезъ Свирь, на сѣверъ. До этого пункта все было болѣе или менѣе гладко... А дальше — что?
Лѣсъ заваленъ сугробищами снѣга. Лыжи достать было можно, но не охотничьи, а бѣговыя. По лѣснымъ заваламъ, корягамъ и ямамъ онѣ большой пользы не принесутъ. Изъ насъ троихъ только Юра хорошій "классный" лыжникъ. Мы съ Борисомъ ходимъ такъ себѣ, по любительски. Убитыхъ патрульныхъ обнаружатъ или въ ту же ночь, или къ утру. Днемъ за нами уже пойдутъ въ погоню команды оперативнаго отдѣла, прекрасно откормленныя, съ такими собаками-ищейками, какія не снились майнридовскимъ охотникамъ за чернымъ деревомъ. Куда-то впередъ пойдутъ телефонограммы, какія-то команды будутъ высланы намъ наперерѣзъ.
Правда, будутъ винтовки... Борисъ — прекрасный стрѣлокъ — въ той степени, въ какой онъ что-нибудь видитъ, а его близорукость выражается фантастической цифрой діоптъ діоптри — 23 (слѣдствіе Соловковъ). Я — стрѣлокъ болѣе, чѣмъ посредственный. Юра — тоже... Продовольствія у насъ почти нѣтъ, карты нѣтъ, компаса нѣтъ. Каковы шансы на успѣхъ?
Въ недолгіе часы, предназначенные для сна, я ворочался на голыхъ доскахъ своихъ наръ и чувствовалъ ясно: шансовъ никакихъ. Но если ничего другого сдѣлать будетъ нельзя — мы сдѣлаемъ это...
МАРКОВИЧА ПЕРЕКОВАЛИ
Мы попробовали прибѣгнуть и къ житейской мудрости Марковича. Кое-какіе проекты — безкровные, но очень зыбкіе, выдвигалъ и онъ. Впрочемъ, ему было не до проектовъ. БАМ нависалъ надъ нимъ и при томъ — въ ближайшіе же дни. Онъ напрягалъ всю свою изобрѣтательность и всѣ свои связи. Но не выходило ровно ничего. Миша не ѣхалъ, такъ какъ почему-то числился здѣсь только въ командировкѣ, а прикрѣпленъ былъ къ центральной типографіи въ Медвѣжьей Горѣ. Трошинъ мотался по лагерю, и изъ него, какъ изъ брандсбойта, во всѣ стороны хлесталъ энтузіазмъ...
Какъ-то въ той типографской банькѣ, о которой я уже разсказывалъ, сидѣли все мы въ полномъ составѣ: насъ трое, Марковичъ, Миша и Трошинъ. Настроеніе, конечно, было висѣльное, а тутъ еще Трошинъ несъ несусвѣтимую гнусность о БАМовскихъ льготахъ, о трудовомъ перевоспитаніи, о строительствѣ соціализма. Было невыразимо противно. Я предложилъ ему заткнуться и убираться ко всѣмъ чертямъ. Онъ сталъ спорить со мной.
Миша стоялъ у кассы и набиралъ что-то объ очередномъ энтузіазмѣ. Потомъ онъ, какъ-то бочкомъ, бочкомъ, какъ бы по совсѣмъ другому дѣлу, подобрался къ Трошину и изо всѣхъ своихъ невеликихъ силъ хватилъ его верстаткой по головѣ. Трошинъ присѣлъ отъ неожиданности, потомъ кинулся на Мишу, сбилъ его съ ногъ и схватилъ за горло. Борисъ весьма флегматически сгребъ Трошина за подходящія мѣста и швырнулъ его въ уголъ комнаты. Миша всталъ блѣдный и весь дрожащій отъ ярости...
— Я тебя, проститутка, все-равно зарѣжу. Я тебѣ, чекистскій ...лизъ, кишки все равно выпущу... Мнѣ терять нечего, я уже все равно, что въ гробу...
Въ тонѣ Миши было какое-то удушье отъ злобы и непреклонная рѣшимость. Трошинъ всталъ, пошатываясь. По его виску бѣжала тоненькая струйка крови.
— Я же вамъ говорилъ, Трошинъ, что вы конкретный идіотъ, — заявилъ Марковичъ. — Вотъ я посмотрю, какой изъ васъ въ этапѣ энтузіазмъ потечетъ...
Дверка въ тайны Трошинскаго энтузіазма на секунду пріоткрылась.
— Мы въ пассажирскомъ поѣдемъ, — мрачно ляпнулъ онъ.
— Хе, въ пассажирскомъ... А можетъ, вы, товарищъ Трошинъ, въ международномъ хотите? Съ постельнымъ бѣльемъ и вагономъ-рестораномъ?... Молите Бога, чтобы хоть теплушка цѣлая попалась. И съ печкой... Вчера подали эшелонъ, такъ тамъ — печки есть, а трубъ нѣту... Хе, пассажирскій? Вамъ просто нужно лѣчиться отъ идіотизма, Трошинъ.
Трошинъ пристально посмотрѣлъ на блѣдное лицо Миши, потомъ — на фигуру Бориса, о чемъ-то подумалъ, забралъ подъ мышку всѣ свои пожитки и исчезъ. Ни его, ни Марковича я больше не видалъ. На другой день утромъ ихъ отправили на этапъ. Борисъ присутствовалъ при погрузкѣ: ихъ погрузили въ теплушку, при томъ дырявую и безъ трубы.
Недаромъ въ этотъ день, прощаясь, Марковичъ мнѣ говорилъ:
— А вы знаете, И. Л., сюда, въ СССР, я ѣхалъ первымъ классомъ. Помилуйте, какимъ же еще классомъ нужно ѣхать въ рай?.. А теперь я тоже поѣду въ рай... Только не въ первомъ классѣ и не въ соціалистическій... Интересно все-таки есть-ли рай?.. Ну, скоро узнаю. Если хотите, И. Л., такъ у васъ будетъ собственный корреспондентъ изъ рая. А? Вы думаете, доѣду? Съ моимъ здоровьемъ? Ну что вы, И. Л., я же знаю, что по дорогѣ дѣлается. И вы знаете. Какой-нибудь крестьянинъ, который съ дѣтства привыкъ... А я — я же комнатный человѣкъ. Нѣтъ, знаете, И. Л., если вы какъ-нибудь увидите мою жену — все на свѣтѣ можетъ быть — скажите ей, что за довѣрчивыхъ людей замужъ выходить нельзя. Хе, — соціалистическій рай... Вотъ мы съ вами и получаемъ свой маленькій кусочекъ соціалистическаго рая...
НА СКОЛЬЗКИХЪ ПУТЯХЪ
Промфинпланъ товарища Якименко трещалъ по всѣмъ швамъ. Уже не было и рѣчи ни о двухъ недѣляхъ, ни о тридцати пяти тысячахъ. Желѣзная дорога то вовсе не подавала составовъ, то подавала такіе, отъ которыхъ бамовская комиссіи отказывалась наотрѣзъ — съ дырами, куда не только человѣкъ, а и лошадь пролѣзла бы. Провѣрка трудоспособности и здоровья дала совсѣмъ унылыя цифры: не больше восьми тысячъ людей могли быть признаны годными къ отправкѣ, да и тѣ — "постольку-поскольку". Между тѣмъ ББК, исходя изъ весьма прозаическаго "хозяйственнаго расчета" — зачѣмъ кормить уже чужія рабочія руки, — урѣзалъ нормы снабженія до уровня клиническаго голоданія. Люди стали валиться съ ногъ сотнями и тысячами. Снова стали работать медицинскія комиссіи. Черезъ такую комиссію прошелъ и я. Старичекъ докторъ съ безпомощнымъ видомъ смотритъ на какого-нибудь оборваннаго лагерника, демонстрирующаго свою отекшую и опухшую, какъ подушка, ногу, выстукиваетъ, выслушиваетъ. За столомъ сидитъ оперативникъ — чинъ третьей части — онъ-то и есть комиссія.
— Ну? — спрашиваетъ чинъ.
— Отеки — видите... ТВС[5] второй степени... Сердце...
И чинъ размашистымъ почеркомъ пишетъ на формулярѣ:
"Годенъ".
Потомъ стали дѣлать еще проще: полдюжины урчевской шпаны вооружили резинками. На оборотныхъ сторонахъ формуляровъ, гдѣ стояли нормы трудоспособности и медицинскій діагнозъ, — все это стиралось и ставилось просто 1 категорія — т.е. полная трудоспособность.
Эти люди не имѣли никакихъ шансовъ доѣхать до БАМа живыми. И они знали это, и мы знали это — и ужъ, конечно, это зналъ и Якименко. Но Якименкѣ нужно было дѣлать свою карьеру. И свой промфинпланъ онъ выполнялъ за счетъ тысячъ человѣческихъ жизней. Всѣхъ этихъ чудесно поддѣланныхъ при помощи резинки людей слали приблизительно на такую же вѣрную смерть, какъ если бы ихъ просто бросили въ прорубь Свири.
А мы съ Юрой все переписывали наши безконечные списки. Обычно къ ночи УРЧ пустѣлъ, и мы съ Юрой оставались тамъ одни за своими машинками... Вся картотека УРЧ была фактически въ нашемъ распоряженіи. Изъ 12 экземпляровъ списковъ Якименко подписывалъ три, а провѣрялъ одинъ. Эти три — шли въ управленіе БАМа и въ ГУЛАГ. Остальные экземпляры использовались на мѣстѣ для подбора этапа, для хозяйственной части и т.д. У насъ съ Юрой почти одновременно возникъ планъ, который напрашивался самъ собою. Въ первыхъ трехъ экземплярахъ мы оставимъ все, какъ слѣдуетъ, а въ остальныхъ девяти — фамиліи завѣдомо больныхъ людей (мы ихъ разыщемъ по картотекѣ) замѣнимъ несуществующими фамиліями или просто перепутаемъ такъ, чтобы ничего разобрать было нельзя. При томъ хаосѣ, который царилъ на лагерныхъ пунктахъ, при полной путаницѣ въ колоннахъ и колонныхъ спискахъ, при обалдѣлости и безпробудномъ пьянствѣ низовой администраціи — никто не разберетъ: сознательный ли это подлогъ, случайная ошибка или обычная урчевская путаница. Да въ данный моментъ и разбирать никто не станетъ.
Въ этомъ планѣ былъ великій соблазнъ. Но было и другое. Одно дѣло рисковать своимъ собственнымъ черепомъ, другое дѣло втягивать въ рискъ своего собственнаго сына, да еще мальчика. И такъ на моей совѣсти тяжелымъ грузомъ лежало все то, что съ нами произошло: моя "техническая ошибка" съ г-жой К. и съ мистеромъ Бабенкой, тающее съ каждымъ днемъ лицо Юрчика, судьба Бориса и многое другое... И было еще: великая усталость и сознаніе того, что все это въ сущности такъ безсильно и безцѣльно. Ну, вотъ, выцарапаемъ изъ нѣсколькихъ тысячъ нѣсколько десятковъ человѣкъ (больше — не удастся). И они, вмѣсто того, чтобы помереть черезъ мѣсяцъ въ эшелонѣ, помрутъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ гдѣ-нибудь въ ББК-овской слабосилкѣ. Только и всего. Стоитъ ли игра свѣчъ?
Какъ-то подъ утро мы возвращались изъ УРЧ въ свою палатку. На дворѣ было морозно и тихо. Пустынныя улицы Подпорожья лежали подъ толстымъ снѣговымъ саваномъ.
— А по моему, Ватикъ, — ни съ того ни съ сего сказалъ Юра, — надо все-таки это сдѣлать... Неудобно какъ-то...
— Размѣняютъ, Юрчикъ, — сказалъ я.
— Ну, и хрѣнъ съ нами... А ты думаешь, много у насъ шансовъ отсюда живыми выбраться?
— Я думаю — много...
— А по моему — никакихъ. Еще черезъ мѣсяцъ отъ насъ одни мощи останутся... Все равно... Ну, да дѣло не въ томъ.
— А въ чемъ же дѣло?
— А въ томъ, что неудобно какъ-то. Можемъ мы людей спасти? Можемъ. А тамъ пусть разстрѣливаютъ — хрѣнъ съ ними. Подумаешь — тоже удовольствіе околачиваться въ этомъ раю.
Юра вообще — и до лагеря — развивалъ такую теорію, что если бы, напримѣръ, у него была твердая увѣренность, что изъ Совѣтской Россіи ему не выбраться никогда, — онъ застрѣлился бы сразу. Если жизнь состоитъ исключительно изъ непріятностей — жить нѣтъ "никакого коммерческаго расчета"... Но мало ли какіе "коммерческіе расчеты" могутъ быть у юноши 18-ти лѣтъ, и много ли онъ о жизни знаетъ?
Юра остановился и сѣлъ въ снѣгъ.
— Давай посидимъ... Хоть урчевскую махорку изъ легкихъ вывѣтримъ...
Сѣлъ и я.
— Я вѣдь знаю, Ватикъ, ты больше за меня дрейфишь.
— Угу, — сказалъ я.
— А ты плюнь и не дрейфь.
— Замѣчательно простой рецептъ!
— Ну, а если придется — придется же — противъ большевиковъ съ винтовкой идти, такъ тогда ты насчетъ риска вѣдь ничего не будешь говорить?..
— Если придется... — пожалъ я плечами.
— Дастъ Богъ, придется... Конечно, если отсюда выскочимъ...
— Выскочимъ, — сказалъ я.
— Охъ, — вздохнулъ Юра. — Съ воли не выскочили... Съ деньгами, съ оружіемъ... Со всѣмъ. А здѣсь?..
Мы помолчали. Эта тема обсуждалась столько ужъ разъ.
— Видишь ли, Ватикъ, если мы за это дѣло не возьмемся — будемъ потомъ чувствовать себя сволочью. Могли — и сдрейфили.
Мы опять помолчали. Юра, потягиваясь, поднялся со своего мягкаго кресла.
— Такъ что, Ватикъ, давай? А? На Миколу Угодника.
— Давай! — сказалъ я.
Мы крѣпко пожали другъ другу руки. Чувства отцовской гордости я не совсѣмъ все-таки лишенъ.
Особенно великихъ результатовъ изъ всего этого, впрочемъ, не вышло, въ силу той прозаической причины, что безъ сна человѣкъ все-таки жить не можетъ. А для нашихъ манипуляцій съ карточками и списками у насъ оставались только тѣ четыре-пять часовъ въ сутки, которые мы могли отдать сну. И я, и Юра, взятые въ отдѣльности, вѣроятно, оставили бы эти манипуляцій послѣ первыхъ же безсонныхъ ночей, но поскольку мы дѣйствовали вдвоемъ, никто изъ насъ не хотѣлъ первымъ подавать сигналъ объ отступленіи. Все-таки изъ каждаго списка мы успѣвали изымать десятка полтора, иногда и два. Это былъ слишкомъ большой процентъ — каждый списокъ заключалъ въ себѣ пятьсотъ именъ — и на Погрѣ стали уже говорить о томъ, что въ УРЧ что-то здорово путаютъ.
Отношенія съ Якименкой шли, все ухудшаясь. Во-первыхъ, потому, что я и Юра, совсѣмъ уже валясь съ ногъ отъ усталости и безсонницы, врали въ этихъ спискахъ уже безъ всякаго "заранѣе обдуманнаго намѣренія", и на погрузочномъ пунктѣ получалась неразбериха и, во-вторыхъ, между Якименкой и Борисомъ стали возникать какія-то тренія, которыя въ данной обстановкѣ ничего хорошаго предвѣщать не могли и о которыхъ Борисъ разсказывалъ со сдержанной яростью, но весьма неопредѣленно. Старшій врачъ отдѣленія заболѣлъ, Борисъ былъ назначенъ на его мѣсто, и, поскольку я могъ понять, Борису приходилось своей подписью скрѣплять вытертые резинкой діагнозы и новыя стандартизованныя помѣтки "годенъ". Что-то назрѣвало и на этомъ участкѣ нашего фронта, но у насъ назрѣвали всѣ участки сразу.
Какъ-то утромъ приходитъ въ УРЧ Борисъ. Видъ у него немытый и небритый, воспаленно-взъерошенный и обалдѣлый — какъ, впрочемъ, и у всѣхъ насъ. Онъ сунулъ мнѣ свое ежедневное приношеніе — замерзшій комъ ячменной каши, и я замѣтилъ, что, кромѣ взъерошенности и обалдѣлости, въ Борисѣ есть и еще кое-что: какая-то гайка выскочила, и теперь Борисъ будетъ идти напроломъ; по части же хожденія напроломъ Борисъ съ полнымъ основаніемъ можетъ считать себя міровымъ спеціалистомъ. На душѣ стало безпокойно. Я хотѣлъ было спросить Бориса, въ чемъ дѣло, но въ этотъ моментъ въ комнату вошелъ Якименко. Въ рукахъ у него были какія-то бумаги для переписки. Видъ у него былъ ошалѣлый и раздраженный: онъ работалъ, какъ всѣ мы, а промфинпланъ таялъ съ каждымъ днемъ.
Увидавъ Бориса, Якименко рѣзко повернулся къ нему:
— Что это означаетъ, докторъ Солоневичъ? Представители третьей части въ отборочной комиссіи заявили мнѣ, что вы что-то тамъ бузить начали. Предупреждаю васъ, чтобы этихъ жалобъ я больше не слышалъ.
— У меня, гражданинъ начальникъ, есть жалоба и на нихъ...
— Плевать мнѣ на ваши жалобы! — холодное и обычно сдержанное лицо Якименки вдругъ перекосилось. — Плевать мнѣ на ваши жалобы. Здѣсь лагерь, а не университетская клиника. Вы обязаны исполнять то, что вамъ приказываетъ третья часть.
— Третья часть имѣетъ право приказывать мнѣ, какъ заключенному, но она не имѣетъ права приказывать мнѣ, какъ врачу. Третья часть можетъ считаться или не считаться съ моими діагнозами, но подписывать ихъ діагнозовъ я не буду.
По закону Борисъ былъ правъ. Я вижу, что здѣсь столкнулись два чемпіона по части хожденія напроломъ — со всѣми шансами на сторонѣ Якименки. У Якименки на лбу вздуваются жилы.
— Гражданинъ начальникъ, позвольте вамъ доложить, что отъ дачи своей подписи подъ постановленіями отборочной комиссіи я, въ данныхъ условіяхъ, отказываюсь категорически.
Якименко смотритъ въ упоръ на Бориса и зачѣмъ-то лѣзетъ въ карманъ. Въ моемъ воспаленномъ мозгу мелькаетъ мысль о томъ, что Якименко лѣзетъ за револьверомъ — совершенно нелѣпая мысль: я чувствую, что если Якименко попробуетъ оперировать револьверомъ или матомъ, Борисъ двинетъ его по челюсти, и это будетъ послѣдній промфинпланъ на административномъ и жизненномъ поприщѣ Якименки. Свою непринятую Якименкой жалобу Борисъ перекладываетъ изъ правой руки въ лѣвую, а правая свободнымъ разслабленнымъ жестомъ опускается внизъ. Я знаю этотъ жестъ по рингу — эта рука отводится для удара снизу по челюсти... Мысли летятъ съ сумасшедшей стремительностью. Борисъ ударитъ, активъ и чекисты кинутся всей сворой, я и Юра пустимъ въ ходъ и свои кулаки, и черезъ секундъ пятнадцать всѣ наши проблемы будутъ рѣшены окончательно.
Нѣмая сцена. УРЧ пересталъ дышать. И вотъ, съ лежанки, на которой подъ шинелью дремлетъ помощникъ Якименки, добродушно-жестокій и изысканно-виртуозный сквернословъ Хорунжикъ, вырываются трели неописуемаго мата. Весь словарь Хорунжика ограничивается непристойностями. Даже когда онъ сообщаетъ мнѣ содержаніе "отношенія", которое я долженъ написать для Медгоры, — это содержаніе излагается такимъ стилемъ, что я могу использовать только союзы и предлоги.
Матъ Хорунжика ни кому не адресованъ. Просто ему изъ-за какихъ-то тамъ хрѣновыхъ комиссій не даютъ спать... Хорунжикъ поворачивается на другой бокъ и натягиваетъ шинель на голову.
Якименко вытягиваетъ изъ кармана коробку папиросъ и протягиваетъ Борису. Я глазамъ своимъ не вѣрю.
— Спасибо, гражданинъ начальникъ, я не курю.
Коробка протягивается ко мнѣ.
— Позвольте васъ спросить, докторъ Солоневичъ, — сухимъ и рѣзкимъ тономъ говоритъ Якименко, — такъ на какого же вы чорта взялись за комиссіонную работу? Вѣдь это же не ваша спеціальность. Вы вѣдь санитарный врачъ? Неудивительно, что третья часть не питаетъ довѣрія къ вашимъ діагнозамъ. Чортъ знаетъ, что такое... Берутся люди не за свое дѣло...
Вся эта мотивировка не стоитъ выѣденнаго яйца. Но Якименко отступаетъ, и это отступленіе нужно всемѣрно облегчить.
— Я ему это нѣсколько разъ говорилъ, товарищъ Якименко, — вмѣшиваюсь я. — По существу — это все докторъ Шуквецъ напуталъ...
— Вотъ еще: эта старая... шляпа, докторъ Шуквецъ... — Якименко хватается за якорь спасенія своего начальственнаго "лица"... — Вотъ что: я сегодня же отдамъ приказъ о снятіи васъ съ комиссіонной работы. Займитесь санитарнымъ оборудованіемъ эшелоновъ. И имѣйте въ виду: за каждую мелочь я буду взыскивать съ васъ лично... Никакихъ отговорокъ... Чтобы эшелоны были оборудованы на ять...
Эшелоновъ нельзя оборудовать не то, что на ять, но даже и на ижицу — по той простой причинѣ, что оборудовать ихъ нечѣмъ. Но Борисъ отвѣчаетъ:
— Слушаю, гражданинъ начальникъ...
Изъ угла на меня смотритъ изжеванное лицо Стародубцева, но на немъ я читаю ясно:
— Ну, тутъ ужъ я окончательно ни хрѣна не понимаю...
Въ сущности, не очень много понимаю и я. Вечеромъ мы всѣ идемъ вмѣстѣ за обѣдомъ. Борисъ говоритъ:
— Да, а что ни говори — а съ умнымъ человѣкомъ пріятно поговорить. Даже съ умной сволочью...
Уравненіе съ неизвѣстной причиной Якименковскаго отступленія мною уже рѣшено. Стоя въ очереди за обѣдомъ я затѣваю тренировочную игру: каждый изъ насъ долженъ про себя сформулировать эту причину, и потомъ эти отдѣльныя формулировки мы подвергнемъ совмѣстному обсужденію.
Юра прерываетъ Бориса, уже готоваго предъявить свое мнѣніе:
— Постойте, ребята, дайте я подумаю... А потомъ вы мнѣ скажете — вѣрно или невѣрно...
Послѣ обѣда Юра докладываетъ въ тонѣ объясненій Шерлока Хольмса доктору Ватсону.
— Что было бы, если бы Якименко арестовалъ Боба? Во-первыхъ, врачей у нихъ и такъ не хватаетъ. И, во-вторыхъ, что сдѣлалъ бы Ватикъ? Ватикъ могъ бы сдѣлать только одно — потому что ничего другого не оставалось бы: пойти въ пріемочную комиссію БАМа и заявить, что Якименко ихъ систематически надуваетъ, даетъ дохлую рабочую силу... Изъ БАМовской комиссіи кто-то поѣхалъ бы въ Медгору и устроилъ бы тамъ скандалъ... Вѣрно?
— Почти, — говоритъ Борисъ. — Только БАМовская комиссія заявилась бы не въ Медгору, а въ ГУЛАГ. По линіи ГУЛАГа Якименкѣ влетѣло бы за зряшные расходы по перевозкѣ труповъ, а по линіи ББК за то, что не хватило ловкости рукъ. А если бы не было тутъ тебя съ Ватикомъ, Якименко слопалъ бы меня и даже не поперхнулся бы...
Таково было и мое объясненіе. Но мнѣ все-таки кажется до сихъ поръ, что съ Якименкой дѣло обстояло не такъ просто.
И въ тотъ же вечеръ изъ сосѣдней комнаты раздается голосъ Якименки:
— Солоневичъ Юрій, подите-ка сюда.
Юра встаетъ изъ-за машинки. Мы съ нимъ обмѣниваемся безпокойными взглядами.
— Это вы писали этотъ списокъ?
— Я.
Мнѣ становится не по себѣ. Это наши подложные списки.
— А позвольте васъ спросить, откуда вы взяли эту фамилію — какъ тутъ ее... Абруррахмановъ... Такой фамиліи въ карточкахъ нѣтъ.
Моя душа медленно сползаетъ въ пятки.
— Не знаю, товарищъ Якименко... Путаница, вѣроятно, какая-нибудь...
— Путаница!.. Въ головѣ у васъ путаница.
— Ну, конечно, — съ полной готовностью соглашается Юра, — и въ головѣ — тоже.
Молчаніе. Я, затаивъ дыханіе, вслушиваюсь въ малѣйшій звукъ.
— Путаница?.. Вотъ посажу я васъ на недѣлю въ ШИЗО!
— Такъ я тамъ, по крайней мѣрѣ, отосплюсь, товарищъ Якименко.
— Немедленно переписать эти списки... Стародубцевъ! Всѣ списки провѣрять. Подъ каждымъ спискомъ ставить подпись провѣряющаго. Поняли?
Юра выходитъ изъ кабинета Якименки блѣдный. Его пальцы не попадаютъ на клавиши машинки. Я чувствую, что руки дрожатъ и у меня. Но — какъ будто, пронесло... Интересно, когда наступить тотъ моментъ, когда не пронесетъ?
Наши комбинаціи лопнули автоматически. Они, впрочемъ, лопнули бы и безъ вмѣшательства Якименки: не спать совсѣмъ — было все-таки невозможно. Но что зналъ или о чемъ догадывался Якименко?
ИЗМОРЪ
Я принесъ на Погру списки очередного эшелона и шатаюсь по лагпункту. Стоить лютый морозъ, но послѣ урчевской коптильни — такъ хорошо провѣтрить легкія.
Лагпунктъ неузнаваемъ... Уже давно никого не шлютъ и не выпускаютъ въ лѣсъ — изъ боязни, что люди разбѣгутся, хотя бѣжать некуда, — и на лагпунктѣ дровъ нѣтъ. Все то, что съ такими трудами, съ такими жертвами и такой спѣшкой строилось три мѣсяца тому назадъ, — все идетъ въ трубу, въ печку. Ломаютъ на топливо бараки, склады, кухни. Занесенной снѣгомъ кучей металла лежитъ кѣмъ-то взорванный мощный дизель, привезенный сюда для стройки плотины. Валяются изогнутыя буровыя трубы. Все это — импортное, валютное... У того барака, гдѣ нѣкогда процвѣтали подъ дождемъ мы трое, стоитъ плотная толпа заключенныхъ — человѣкъ четыреста. Она окружена цѣпью стрѣлковъ ГПУ. Стрѣлки стоятъ въ нѣкоторомъ отдаленіи, держа винтовки по уставу — подъ мышкой. Кромѣ винтовокъ — стоятъ на треножникахъ два легкихъ пулемета. Передъ толпой заключенныхъ — столикъ, за столикомъ — мѣстное начальство.
Кто-то изъ начальства равнодушно выкликаетъ:
— Ивановъ. Есть?
Толпа молчитъ.
— Петровъ?
Толпа молчитъ.
Эта операція носить техническое названіе измора. Люди на лагпунктѣ перепутались, люди растеряли или побросали свои "рабочія карточки" — единственный документъ, удостовѣряющій самоличность лагерника. И вотъ, когда въ колоннѣ вызываютъ на БАМ какого-нибудь Иванова двадцать пятаго, то этотъ Ивановъ предпочитаетъ не откликаться.
Всю колонну выгоняютъ изъ барака на морозъ, оцѣпляютъ стрѣлками и начинаютъ вызывать. Колонна отмалчивается. Мѣняется начальство, смѣняются стрѣлки, а колонну все держатъ на морозѣ. Понемногу, одинъ за другимъ, молчальники начинаютъ сдаваться — раньше всего рабочіе и интеллигенція, потомъ крестьяне и, наконецъ, урки. Но урки часто не сдаются до конца: валится на снѣгъ, и, замерзшаго, его относятъ въ амбулаторію или въ яму, исполняющую назначеніе общей могилы. Въ общемъ — совершенно безнадежная система сопротивленія... Вотъ въ толпѣ уже свалилось нѣсколько человѣкъ. Ихъ подберутъ не сразу, чтобы не "симулировали"... Говорятъ, что одна изъ землекопныхъ бригадъ поставила рекордъ: выдержала двое сутокъ такого измора, и изъ нея откликнулось не больше половины... Но другая половина — немного отъ нея осталось...
ВСТРѢЧА
Въ лагерномъ тупичкѣ стоитъ почти готовый къ отправкѣ эшелонъ. Территоріи этого тупичка оплетена колючей проволокой и охраняется патрулями. Но у меня пропускъ, и я прохожу къ вагонамъ. Нѣкоторые вагоны уже заняты, изъ другихъ будущіе пассажиры выметаютъ снѣгъ, опилки, куски каменнаго угля, заколачиваютъ щели, настилаютъ нары — словомъ, идетъ строительство соціализма...
Вдругъ гдѣ-то сзади меня раздается зычный голосъ:
— Иванъ Лукьяновичъ, алло! Товарищъ Солоневичъ, алло!
Я оборачиваюсь. Спрыгнувъ съ изумительной ловкостью изъ вагона, ко мнѣ бѣжитъ нѣкто въ не очень рваномъ бушлатѣ, весь заросшій рыжей бородищей и призывно размахивающій шапкой. Останавливаюсь.
Человѣкъ съ рыжей бородой подбѣгаетъ ко мнѣ и съ энтузіазмомъ трясетъ мнѣ руку. Пальцы у него желѣзные.
— Здравствуйте, И. Л., знаете, очень радъ васъ видѣть. Конечно, это я понимаю, свинство съ моей стороны высказывать радость, увидѣвъ стараго пріятеля въ такомъ мѣстѣ. Но человѣкъ слабъ. Почему я долженъ нарушать гармонію общаго равенства и лѣзть въ сверхчеловѣки?
Я всматриваюсь. Ничего не понять! Рыжая борода, веселые забубенные глаза, общій видъ человѣка, ни въ коемъ случаѣ не унывающаго.
— Послушайте, — говоритъ человѣкъ съ негодованіемъ, — неужели не узнаете? Неужели вы возвысились до такихъ административныхъ высотъ, что для васъ простые лагерники, вродѣ Гендельмана, не существуютъ?
Точно кто-то провелъ мокрой губкой по лицу рыжаго человѣка, и сразу смылъ бородищу, усищи, снялъ бушлатъ, и подо всѣмъ этимъ очутился Зиновій Яковлевичъ Гендельманъ[6] такимъ, какимъ я его зналъ по Москвѣ: весь сотканный изъ мускуловъ, бодрости и зубоскальства. Конечно, это тоже свинство, но встрѣтить З. Я. мнѣ было очень радостно. Такъ стоимъ мы и тискаемъ другъ другу руки.
— Значитъ, сѣли, наконецъ, — неунывающимъ тономъ умозаключаетъ Гендельманъ. — Я вѣдь вамъ предсказывалъ. Правда, и вы мнѣ предсказывали. Какіе мы съ вами проницательные! И какъ это у насъ обоихъ не хватило проницательности, чтобы не сѣсть? Не правда-ли, удивительно? Но нужно имѣть силы подняться надъ нашими личными, мелкими, мѣщанскими переживаніями. Если наши вожди, лучшіе изъ лучшихъ, желѣзная гвардія ленинизма, величайшая надежда будущаго человѣчества, — если эти вожди садятся въ ГПУ, какъ мухи на медъ, такъ что же мы должны сказать? А? Мы должны сказать: добро пожаловать, товарищи!
— Слушайте, — перебиваю я, — публика кругомъ.
— Это ничего. Свои ребята. Наша бригада — все уральскіе мужички: ребята, какъ гвозди. Замѣчательныя ребята. Итакъ: по какимъ статьямъ существующаго и несуществующаго закона попали вы сюда?
Я разсказываю. Забубенный блескъ исчезаетъ изъ глазъ Гендельмана.
— Да, вотъ это плохо. Это ужъ не повезло. — Гендельманъ оглядывается кругомъ и переходитъ на нѣмецкій языкъ: — Вы вѣдь все равно сбѣжите?
— До сихъ поръ мы считали это само собою разумѣющимся. Но вотъ теперь эта исторія съ отправкой сына. А ну-ка, З. Я., мобилизуйте вашу "юдише копфъ" и что-нибудь изобрѣтите.
Гендельманъ запускаетъ пальцы въ бороду и осматриваетъ вагоны, проволоку, ельникъ, снѣгъ, какъ будто отыскивая тамъ какое-то рѣшеніе.
— А попробовали бы вы подъѣхать къ БАМовской комиссіи.
— Думалъ и объ этомъ. Безнадежно.
— Можетъ быть, не совсѣмъ. Видите ли, предсѣдателемъ этой комиссіи торчитъ нѣкто Чекалинъ, я его по Вишерскому лагерю знаю. Во-первыхъ, онъ коммунистъ съ дореволюціоннымъ стажемъ и, во-вторыхъ, человѣкъ онъ очень неглупый. Неглупый коммунистъ и съ такимъ стажемъ, если онъ до сихъ поръ не сдѣлалъ карьеры — а развѣ это карьера? — это значитъ, что онъ человѣкъ лично порядочный и что, въ качествѣ порядочнаго человѣка, онъ рано или поздно сядетъ. Онъ, конечно, понимаетъ это и самъ. Словомъ, тутъ есть кое-какія психологическія возможности.
Идея — довольно неожиданная. Но какія тутъ могутъ быть психологическія возможности, въ этомъ сумасшедшемъ домѣ? Чекалинъ, колючій, нервный, судорожный, замотанный, полусумасшедшій отъ вѣчной грызни съ Якименкой?
— А то попробуйте увязаться съ нами. Нашъ эшелонъ пойдетъ, вѣроятно, завтра. Или, на крайній случай, пристройте вашего сына сюда. Тутъ онъ у насъ не пропадетъ! Я посылки получалъ, ѣда у меня на дорогу болѣе или менѣе есть. А? Подумайте.
Я крѣпко пожалъ Гендельману руку, но его предложеніе меня не устраивало.
— Ну, а теперь — "докладывайте" вы!
Гендельманъ былъ по образованію инженеромъ, а по профессіи — инструкторомъ спорта. Это — довольно обычное въ совѣтской Россіи явленіе: у инженера нѣсколько больше денегъ, огромная отвѣтственность (конечно, передъ ГПУ) по линіи вредительства, безхозяйственности, невыполненіи директивъ и плановъ, и по многимъ другимъ линіямъ и, конечно, — никакого житья. У инструктора физкультуры — денегъ иногда меньше, а иногда больше, столкновеній съ ГПУ — почти никакихъ, и въ результатѣ всего этого — возможность вести приблизительно человѣческій образъ жизни. Кромѣ того, можно потихоньку и сдѣльно подхалтуривать и по своей основной спеціальности. Гендельманъ былъ блестящимъ спортсменомъ и рѣдкимъ организаторомъ. Однако, и физкультурный иммунитетъ противъ ГПУ вещь весьма относительная. Въ связи съ той "политизаціей" физкультуры, о которой я разсказывалъ выше, около пятисотъ инструкторовъ спорта было арестовано и разослано по всякимъ нехорошимъ и весьма неудобоусвояемымъ мѣстамъ. Былъ арестованъ и Гендельманъ.
— Да и докладывать въ сущности нечего. Сцапали. Привезли на Лубянку. Посадили. Сижу. Черезъ три мѣсяца вызываютъ на допросъ. Ну, конечно, они уже все, рѣшительно все знаютъ: что я старый сокольскій деятель, что у себя на работѣ я устраивалъ старыхъ соколовъ, что я находился въ перепискѣ съ международнымъ сокольскимъ центромъ, что я даже посылалъ привѣтственную телеграмму всесокольскому слету. А я все сижу и слушаю. Потомъ я говорю: "Ну, вотъ вы, товарищи, все знаете?" — "Конечно, знаемъ". "И уставъ "Сокола" тоже знаете?". — "Тоже знаемъ". "Позвольте мнѣ спросить, почему же вы не знаете, что евреи въ "Соколъ" не принимаются?".
— Знаете, что мнѣ слѣдователь отвѣтилъ? "Ахъ, говоритъ, не все ли вамъ равно, гражданинъ Гендельманъ, за что вамъ сидѣть — за "Соколъ" или не за "Соколъ"?". Какое геніальное прозрѣніе въ глубины человѣческаго сердца! Представьте себѣ — мнѣ, оказывается, рѣшительно все равно за что сидѣть — разъ я уже все равно сижу.
— Почему я работаю плотникомъ? А зачѣмъ мнѣ работать не плотникомъ? Во-первыхъ, я зарабатываю себѣ настоящая, мозолистыя, пролетарскія руки. Знаете, какъ въ пѣсенкѣ поется:
Во-вторыхъ, я здоровъ (посылки мнѣ присылаютъ), а ужъ лучше тесать бревна, чѣмъ зарабатывать себѣ геморрой. Въ третьихъ, я имѣю дѣло не съ совѣтскимъ активомъ, а съ порядочными людьми — съ крестьянами. Я раньше побаивался, думалъ — антисемитизмъ. У нихъ столько же антисемитизма, какъ у васъ — коммунистической идеологіи. Это — честные люди и хорошіе товарищи, а не какая-нибудь совѣтская сволочь. Три года я уже отсидѣлъ — еще два осталось. Заявленіе о смягченіи участи?
Тутъ голосъ Гендельмана сталъ суровъ и серьезенъ:
— Ну, отъ васъ я такого совѣта, И. Л., не ожидалъ. Эти бандиты меня безъ всякой вины, абсолютно безъ всякой вины, посадили на каторгу, оторвали меня отъ жены и ребенка — ему было только двѣ недѣли — и чтобы я передъ ними унижался, чтобы я у нихъ что-то вымаливалъ?..
Забубенные глаза Гендельмана смотрѣли на меня негодующе.
— Нѣтъ, И. Л., этотъ номеръ не пройдетъ: Я, дастъ Богъ, отсижу и выйду. А тамъ — тамъ мы посмотримъ... Дастъ Богъ — тамъ мы посмотримъ... Вы только на этихъ мужичковъ посмотрите — какая это сила!..
Вечерѣло. Патрули проходили мимо эшелоновъ, загоняя лагерниковъ въ вагоны. Пришлось попрощаться съ Гендельманомъ.
— Ну, передайте Борису и вашему сыну — я его такъ и не видалъ — мой, такъ сказать, спортивный привѣтъ. Не унывайте. А насчетъ Чекалина все-таки подумайте.
СРЫВЪ
Я пытался прорваться на Погру на слѣдующій день, еще разъ отвести душу съ Гендельманомъ, но не удалось. Вечеромъ Юра мнѣ сообщилъ, что Якименко съ утра уѣхалъ на два-три дня на Медвѣжью Гору и что въ какой-то дополнительный списокъ на ближайшій этапъ урчевскій активъ ухитрился включить и его, Юру; что списокъ уже подписанъ начальникомъ отдѣленія Ильиныхъ и что сегодня вечеромъ за Юрой придетъ вооруженный конвой, чего для отдѣльныхъ лагерниковъ не дѣлалось никогда. Вся эта информація была сообщена Юрѣ чекистомъ изъ третьяго отдѣла, которому Юра въ свое время писалъ стихами письма къ его возлюбленной: поэтическія настроенія бываютъ и у чекистовъ.
Мой пропускъ на Погру былъ дѣйствителенъ до 12 часовъ ночи. Я вручилъ его Юрѣ, и онъ, забравъ свои вещи, исчезъ на Погру съ наставленіемъ — "дѣйствовать по обстоятельствамъ", въ томъ же случаѣ, если скрыться совсѣмъ будетъ нельзя, разыскать вагонъ Гендельмана.
Но эшелонъ Гендельмана уже ушелъ. Борисъ запряталъ Юру въ покойницкую при больницѣ, гдѣ онъ и просидѣлъ двое сутокъ. Активъ искалъ его по всему лагерю. О переживаніяхъ этихъ двухъ дней разсказывать было бы слишкомъ тяжело.
Черезъ два дня пріѣхалъ Якименко. Я сказалъ ему, что, вопреки его прямой директивѣ, Стародубцевъ обходнымъ путемъ включилъ Юру въ списокъ, что, въ частности, въ виду этого, сорвалась подготовка очередного эшелона (одна машинка оставалась безработной), и что Юра пока что скрывается за предѣлами досягаемости актива.
Якименко посмотрѣлъ на меня мрачно и сказалъ:
— Позовите мнѣ Стародубцева.
Я позвалъ Стародубцева. Минутъ черезъ пять Стародубцевъ вышелъ отъ Якименки въ состояніи, близкомъ къ истеріи. Онъ что-то хотѣлъ сказать мнѣ, но величайшая ненависть сдавила ему горло. Онъ только ткнулъ пальцемъ въ дверь Якименскаго кабинета. Я вошелъ туда.
— Вашъ сынъ сейчасъ на БАМ не ѣдетъ. Пусть онъ возвращается на работу. Но съ послѣднимъ эшелономъ поѣхать ему, вѣроятно, придется.
Я сказалъ:
— Товарищъ Якименко, но вѣдь вы мнѣ обѣщали.
— Ну и что же, что обѣщалъ! Подумаешь, какое сокровище вашъ Юра.
— Для... Для меня — сокровище...
Я почувствовалъ спазмы въ горлѣ и вышелъ.
Стародубцевъ, который, видимо, подслушивалъ подъ дверью, отскочилъ отъ нея къ стѣнкѣ, и всѣ его добрыя чувства ко мнѣ выразились въ одномъ словѣ, въ которомъ было... многое въ немъ было...
— Сокровище, г-ы-ы...
Я схватилъ Стародубцева за горло. Изъ актива съ мѣста не двинулся никто. Стародубцевъ судорожно схватилъ мою руку и почти повисъ на ней. Когда я разжалъ руку, Стародубцевъ мѣшкомъ опустился на полъ. Активъ молчалъ.
Я понялъ, что еще одна такая недѣля — и я сойду съ ума.
Я ТОРГУЮ ЖИВЫМЪ ТОВАРОМЪ
Эшелоны все шли, а наше положеніе все ухудшалось. Силы таяли. Угроза Юрѣ росла. На обѣщанія Якименки, послѣ всѣхъ этихъ инцидентовъ, расчитывать совсѣмъ было нельзя. Борисъ настаивалъ на немедленномъ побѣгѣ. Я этого побѣга боялся, какъ огня. Это было бы самоубійствомъ, но помимо такого самоубійства, ничего другого видно не было.
Я уже не спалъ въ тѣ короткіе часы, которые у меня оставались отъ урчевской каторги. Одни за другими возникали и отбрасывались планы. Мнѣ все казалось, что гдѣ-то, вотъ совсѣмъ рядомъ, подъ рукой, есть какой-то выходъ, идіотски простой, явственно очевидный, а я вотъ не вижу его, хожу кругомъ да около, тыкаюсь во всякую майнридовщину, а того, что надо — не вижу. И вотъ, въ одну изъ такихъ безсонныхъ ночей меня, наконецъ, осѣнило. Я вспомнилъ о совѣтѣ Гендельмана, о предсѣдателѣ пріемочной комиссіи БАМа чекистѣ Чекалинѣ и понялъ, что этотъ чекистъ — единственный способъ спасенія и при томъ способъ совершенно реальный.
Всяческими пинкертоновскими ухищреніями я узналъ его адресъ. Чекалинъ жилъ на краю села, въ карельской избѣ. Поздно вечеромъ, воровато пробираясь по сугробамъ снѣга, я пришелъ къ этой избѣ. Хозяйка избы на мой стукъ подошла къ двери, но открывать не хотѣла. Черезъ минуту-двѣ къ двери подошелъ Чекалинъ.
— Кто это?
— Изъ УРЧ, къ товарищу Чекалину.
Дверь открылась на десять сантиметровъ. Изъ щели прямо мнѣ въ животъ смотрѣлъ стволъ парабеллюма. Электрическій фонарикъ освѣтилъ меня.
— Вы — заключенный?
— Да.
— Что вамъ нужно? — голосъ Чекалина былъ рѣзокъ и подозрителенъ.
— Гражданинъ начальникъ, у меня къ вамъ очень серьезный разговоръ и на очень серьезную тему.
— Ну, говорите.
— Гражданинъ начальникъ, этотъ разговоръ я черезъ щель двери вести не могу.
Лучъ фонарика уперся мнѣ въ лицо. Я стоялъ, щурясь отъ свѣта, и думалъ о томъ, что малѣйшая оплошность можетъ стоить мнѣ жизни.
— Оружіе есть?
— Нѣтъ.
— Выверните карманы.
Я вывернулъ карманы.
— Войдите.
— Я вошелъ.
Чекалинъ взялъ фонарикъ въ зубы и, не выпуская парабеллюма, свободной рукой ощупалъ меня всего. Видна была большая сноровка.
— Проходите впередъ.
Я сдѣлалъ два-три шага впередъ и остановился въ нерѣшимости.
— Направо... Наверхъ... Налѣво, — командовалъ Чекалинъ. Совсѣмъ какъ въ корридорахъ ГПУ. Да, сноровка видна.
Мы вошли въ убого обставленную комнату. Посерединѣ комнаты стоялъ некрашеный деревянный столъ. Чекалинъ обошелъ его кругомъ и, не опуская парабеллюма, тѣмъ же рѣзкимъ тономъ спросилъ:
— Ну-съ, такъ что же вамъ угодно?
Начало разговора было мало обѣщающимъ, а отъ него столько зависѣло... Я постарался собрать всѣ свои силы.
— Гражданинъ начальникъ, послѣдніе эшелоны составляются изъ людей, которые до БАМа завѣдомо не доѣдутъ.
У меня запнулось дыханіе.
— Ну?
— Вамъ, какъ пріемщику рабочей силы, нѣтъ никакого смысла нагружать вагоны полутрупами и выбрасывать въ дорогѣ трупы...
— Да?
— Я хочу предложить давать вамъ списки больныхъ, которыхъ ББК сажаетъ въ эшелоны подъ видомъ здоровыхъ... Въ вашей комиссіи есть одинъ врачъ. Онъ, конечно, не въ состояніи провѣрить всѣхъ этапниковъ, но онъ можетъ провѣрить людей по моимъ спискамъ...
— Вы по какимъ статьямъ сидите?
— Пятьдесятъ восемь: шесть, десять и одиннадцать; пятьдесятъ девять: десять.
— Срокъ?
— Восемь лѣтъ.
— Такъ... Вы по какимъ, собственно, мотивамъ дѣйствуете?
— По многимъ мотивамъ. Въ частности и потому, что на БАМ придется, можетъ быть, ѣхать и моему сыну.
— Это тотъ, что рядомъ съ вами работаетъ?
— Да.
Чекалинъ уставился на меня пронизывающимъ, но ничего не говорящимъ взглядомъ. Я чувствовалъ, что отъ нервнаго напряженія у меня начинаетъ пересыхать во рту.
— Такъ... — сказалъ онъ раздумчиво. Потомъ, отвернувшись немного въ сторону, опустилъ предохранитель своего парабеллюма и положилъ оружіе въ кабуру.
— Такъ, — повторилъ онъ, какъ бы что-то соображая. — А скажите, вотъ эту путаницу съ замѣной фамилій — это не вы устроили?
— Мы.
— А это — по какимъ мотивамъ?..
— Я думаю, что даже революціи лучше обойтись безъ тѣхъ издержекъ, который совсѣмъ ужъ безсмысленны.
Чекалина какъ-то передернуло.
— Такъ, — сказалъ онъ саркастически. — А когда милліоны трудящихся гибли на фронтахъ безсмысленной имперіалистической бойни, — вы дѣйствовали по столь же... просвѣщенной линіи?
Вопросъ былъ поставленъ въ лобъ.
— Такъ же, какъ и сейчасъ — я безсиленъ противъ человѣческаго сумасшествія.
— Революцію вы считаете сумасшествіемъ?
— Я не вижу никакихъ основаній скрывать передъ вами этой прискорбной точки зрѣнія.
Чекалинъ помолчалъ.
— Ваше предложеніе для меня пріемлемо. Но если вы воспользуетесь этимъ для какихъ-нибудь постороннихъ цѣлей, протекціи или чего — вамъ пощады не будетъ.
— Мое положеніе настолько безвыходно, что вопросъ о пощадѣ меня мало интересуетъ... Меня интересуетъ вопросъ о сынѣ.
— А онъ за что попалъ?
— По существу — за компанію... Связи съ иностранцами.
— Какъ вы предполагаете технически провести эту комбинацію?
— Къ отправкѣ каждаго эшелона я буду давать вамъ списки больныхъ, которыхъ ББК даетъ вамъ подъ видомъ здоровыхъ. Этихъ списковъ я вамъ приносить не могу. Я буду засовывать ихъ въ уборную УРЧ, въ щель между бревнами, надъ притолокой двери, прямо посрединѣ ея. Вы бываете въ УРЧ и можете эти списки забирать...
— Такъ. Подходяще. И, скажите, въ этихъ подлогахъ съ вѣдомостями — вашъ сынъ тоже принималъ участіе?
— Да. Въ сущности — это его идея.
— И изъ тѣхъ же соображеній?
— Да.
— И отдавая себѣ отчетъ...
— Отдавая себѣ совершенно ясный отчетъ...
Лицо и голосъ Чекалина стали немного меньше деревянными.
— Скажите, вы не считаете, что ГПУ васъ безвинно посадило?
— Съ точки зрѣнія ГПУ — нѣтъ.
— А съ какой точки зрѣнія — да?
— Кромѣ точки зрѣнія ГПУ, есть еще и нѣкоторыя другія точки зрѣнія. Я не думаю, чтобы былъ смыслъ входить въ ихъ обсужденіе.
— И напрасно вы думаете. Глупо думаете. Изъ-за Якименокъ, Стародубцевыхъ и прочей сволочи революція и платить эти, какъ вы говорите, безсмысленныя издержки. И это потому, что вы и иже съ вами съ революціей идти не захотѣли... Почему вы не пошли?
— Стародубцевъ имѣетъ передо мною то преимущество, что онъ выполнить всякое приказаніе. А я всякаго — не выполню.
— Бѣлыя перчатки?
— Можетъ быть.
— Ну, вотъ, и миритесь съ Якименками.
— Вы, кажется, о немъ не особенно высокаго мнѣнія.
— Якименко карьеристъ и прохвостъ, — коротко отрѣзалъ Чекалинъ. — Онъ думаетъ, что онъ сдѣлаетъ карьеру.
— По всей вѣроятности, сдѣлаетъ.
— Поскольку отъ меня зависитъ — сомнѣваюсь. А отъ меня зависитъ. Объ этихъ эшелонахъ будетъ знать и ГУЛАГ... Штабели труповъ по дорогѣ ГУЛАГу не нужны.
Я подумалъ о томъ, что штабели труповъ до сихъ поръ ГУЛАГу на мѣшали.
— Якименко карьеры не сдѣлаетъ, — продолжалъ Чекалинъ. — Сволочи у насъ и безъ того достаточно. Ну, это васъ не касается.
— Касается самымъ тѣснымъ образомъ. И именно — меня и "насъ"...
Чекалина опять передернуло.
— Ну, давайте ближе къ дѣлу. Эшелонъ идетъ черезъ три дня. Можете вы мнѣ на послѣзавтра дать первый списокъ?
— Могу.
— Такъ, значитъ, я найду его послѣзавтра, къ десяти часамъ вечера, въ уборной УРЧ, въ щели надъ дверью.
— Да.
— Хорошо. Если вы будете дѣйствовать честно, если вы этими списками не воспользуетесь для какихъ-нибудь комбинацій, — я ручаюсь вамъ, что вашъ сынъ на БАМ не поѣдетъ. Категорически гарантирую. А почему бы собственно не поѣхать на БАМ и вамъ?
— Статьи не пускаютъ.
— Это ерунда!
— И потомъ, вы знаете, на увеселительную прогулку это не очень похоже.
— Ерунда. Не въ теплушкѣ же бы вы поѣхали, разъ я васъ приглашаю.
Я въ изумленіи воззрился на Чекалина и не зналъ, что мнѣ и отвѣчать.
— Намъ нужны культурныя силы, — сказалъ Чекалинъ, дѣлая удареніе на "культурный". — И мы умѣемъ ихъ цѣнить. Не то, что ББК.
Въ пафосѣ Чекалина мнѣ послышались чисто вѣдомственныя нотки. Я хотѣлъ спросить, чѣмъ собственно я обязанъ чести такого приглашенія, но Чекалинъ прервалъ меня:
— Ну, мы съ вами еще поговоримъ. Такъ, значитъ, списки я послѣзавтра тамъ найду. Ну, пока. Подумайте о моемъ предложеніи.
Когда я вышелъ на улицу, мнѣ, говоря откровенно, хотѣлось слегка приплясывать. Но, умудренный опытами всякаго рода, я предпочелъ подвергнуть всю эту ситуацію, такъ сказать, "марксистскому анализу". Марксистскій анализъ далъ вполнѣ благопріятные результаты. Чекалину, конечно, я оказываю весьма существенную услугу: не потому, чтобы кто-то его сталъ бы потомъ попрекать штабелями труповъ по дорогѣ, а потому, что онъ былъ бы обвиненъ въ ротозѣйствѣ: всучили ему, дескать, гнилой товаръ, а онъ и не замѣтилъ. Съ точки зрѣнія совѣтскихъ работорговцевъ — да и не только совѣтскихъ — это промахъ весьма предосудительный.
СНОВА ПЕРЕДЫШКА
Общее собраніе фамиліи Солоневичей или "трехъ мушкетеровъ", какъ насъ называли въ лагерѣ, подтвердили мои соображенія о томъ, что Чекалинъ не подведетъ. Помимо всякихъ психологическихъ расчетовъ — былъ и еще одинъ. Связью со мной, съ заключеннымъ, использованіемъ заключеннаго для шпіонажа противъ лагерной администраціи — Чекалинъ ставитъ себя въ довольно сомнительное положеніе. Если Чекалинъ подведетъ, то передъ этакимъ "подводомъ" онъ, вѣроятно, подумаетъ о томъ, что я могу пойти на самыя отчаянныя комбинаціи — вѣдь вотъ пошелъ же я къ нему съ этими списками. А о томъ, чтобы имѣть на рукахъ доказательства этой преступной связи, я уже позабочусь — впослѣдствіи я объ этомъ и позаботился. Поставленный въ безвыходное положеніе, я эти доказательства предъявлю третьей части. Чекалинъ же находится на территоріи ББК... Словомъ, идя на все это, Чекалинъ ужъ долженъ былъ держаться до конца.
Все въ мірѣ — весьма относительно. Стоило развѣяться очередной угрозѣ, нависавшей надъ нашими головами, и жизнь снова начинала казаться легкой и преисполненной надеждъ, несмотря на каторжную работу въ УРЧ, несмотря на то, что, помимо этой работы, Чекалинскіе списки отнимали у насъ послѣдніе часы сна.
Впрочемъ, списки эти Юра сразу усовершенствовалъ: мы писали не фамиліи, а только указывали номеръ вѣдомости и порядковый номеръ, подъ которымъ въ данной вѣдомости стояла фамилія даннаго заключеннаго. Наши списки стали срывать эшелоны. Якименко рвалъ и металъ, но каждый сорванный эшелонъ давалъ намъ нѣкоторую передышку: пока подбирали очередные документы — мы могли отоспаться. Въ довершеніе ко всему этому Якименко преподнесъ мнѣ довольно неожиданный, хотя сейчасъ уже и ненужный, сюрпризъ. Я сидѣлъ за машинкой и барабанилъ. Якименко былъ въ сосѣдней комнатѣ.
Слышу негромкій голосъ Якименки:
— Товарищъ Твердунъ, переложите документы Солоневича Юрія на Медгору, онъ на БАМ не поѣдетъ.
Вечеромъ того дня я улучилъ минуту, какъ-то неловко и путанно поблагодарилъ Якименко. Онъ поднялъ голову отъ бумагъ, посмотрѣлъ на меня какимъ-то страннымъ, вопросительно ироническимъ взглядомъ и сказалъ:
— Не стоитъ, товарищъ Солоневичъ.
И опять уткнулся въ бумаги.
Такъ и не узналъ я, какую собственно линію велъ товарищъ Якименко.
ДѢВОЧКА СО ЛЬДОМЪ
Жизнь пошла какъ-то глаже. Одно время, когда начали срываться эшелоны, работы стало меньше, потомъ, когда Якименко сталъ подъ сурдинку включать въ списки людей, которыхъ Чекалинъ уже по разу, или больше, снималъ съ эшелоновъ — работа опять стала безпросыпной. Въ этотъ періодъ времени со мною случилось происшествіе, въ сущности, пустяковое, но какъ-то очень ужъ глубоко врѣзавшееся въ память.
На разсвѣтѣ, передъ уходомъ заключенныхъ на работы, и вечеромъ, во время обѣда, передъ нашими палатками маячили десятки оборванныхъ крестьянскихъ ребятишекъ, выпрашивавшихъ всякіе съѣдобные отбросы. Странно было смотрѣть на этихъ дѣтей "вольнаго населенія", болѣе нищаго, чѣмъ даже мы, каторжники, ибо свои полтора фунта хлѣба мы получали каждый день, а крестьяне и этихъ полутора фунтовъ не имѣли.
Нашимъ продовольствіемъ завѣдывалъ Юра. Онъ ходилъ за хлѣбомъ и за обѣдомъ. Онъ же игралъ роль распредѣлителя лагерныхъ объѣдковъ среди дѣтворы. У насъ была огромная, литровъ на десять, аллюминіевая кастрюля, которая была участницей уже двухъ нашихъ попытокъ побѣга, а впослѣдствіи участвовала и въ третьей. Въ эту кастрюлю Юра собиралъ то, что оставалось отъ лагерныхъ щей во всей нашей палаткѣ. Щи эти обычно варились изъ гнилой капусты и селедочныхъ головокъ — я такъ и не узналъ, куда дѣвались селедки отъ этихъ головокъ... Немногіе изъ лагерниковъ отваживались ѣсть эти щи, и они попадали дѣтямъ. Впрочемъ, многіе изъ лагерниковъ урывали кое-что и изъ своего хлѣбнаго пайка.
Я не помню, почему именно все это такъ вышло. Кажется, Юра дня два-три подрядъ вовсе не выходилъ изъ УРЧ, я — тоже, наши сосѣди по привычкѣ сливали свои объѣдки въ нашу кастрюлю. Когда однажды я вырвался изъ УРЧ, чтобы пройтись — хотя бы за обѣдомъ — я обнаружилъ, что моя кастрюля, стоявшая подъ нарами, была полна до краевъ, и содержимое ея превратилось въ глыбу сплошного льда. Я рѣшилъ занести кастрюлю на кухню, поставить ее на плиту и, когда ледъ слегка оттаетъ, выкинуть всю эту глыбу вонъ и въ пустую кастрюлю получить свою порцію каши.
Я взялъ кастрюлю и вышелъ изъ палатки. Была почти уже ночь. Пронзительный морозный вѣтеръ вылъ въ телеграфныхъ проводахъ и засыпалъ глаза снѣжной пылью. У палатокъ не было никого. Стайки дѣтей, который въ обѣденную пору шныряли здѣсь, уже разошлись. Вдругъ какая-то неясная фигурка метнулась ко мнѣ изъ-за сугроба, и хриплый, застуженный дѣтскій голосокъ пропищалъ:
— Дяденька, дяденька, можетъ, что осталось, дяденька, дай!..
Это была дѣвочка лѣтъ, вѣроятно, одиннадцати. Ея глаза подъ спутанными космами волосъ блестѣли голоднымъ блескомъ. А голосокъ автоматически, привычно, безъ всякаго выраженія, продолжалъ скулить:
— Дяденька, да-а-а-ай...
— А тутъ — только ледъ.
— Отъ щей, дяденька?
— Отъ щей.
— Ничего, дяденька, ты только дай... Я его сейчасъ, ей Богу, сейчасъ... Отогрѣю... Онъ сейчасъ вытряхнется... Ты только дай!
Въ голосѣ дѣвочки была суетливость, жадность и боязнь отказа. Я соображалъ какъ-то очень туго и стоялъ въ нерѣшимости. Дѣвочка почти вырвала кастрюлю изъ моихъ рукъ... Потомъ она распахнула рваный зипунишко, подъ которымъ не было ничего — только торчали голыя острыя ребра, прижала кастрюлю къ своему голому тѣльцу, словно своего ребенка, запахнула зипулишко и сѣла на снѣгъ.
Я находился въ состояніи такой отупѣлости, что даже не попытался найти объясненіе тому, что эта дѣвочка собиралась дѣлать. Только мелькнула ассоціаціи о ребенкѣ, о материнскомъ инстинктѣ, который какимъ-то чудомъ живетъ еще въ этомъ изсохшемъ тѣльцѣ... Я пошелъ въ палатку отыскивать другую посуду для каши своей насущной.
Въ жизни каждаго человѣка бываютъ минуты великаго униженія. Такую минуту пережилъ я, когда, ползая подъ нарами въ поискахъ какой-нибудь посуды, я сообразилъ, что эта дѣвочка собирается тепломъ изголодавшагося своего тѣла растопить эту полупудовую глыбу замерзшей, отвратительной, свиной — но все же пищи. И что во всемъ этомъ скелетикѣ — тепла не хватитъ и на четверть этой глыбы.
Я очень тяжело ударился головой о какую-то перекладину подъ нарами и, почти оглушенный отъ удара, отвращенія и ярости, выбѣжалъ изъ палатки. Дѣвочка все еще сидѣла на томъ же мѣстѣ, и ея нижняя челюсть дрожала мелкой частой дрожью.
— Дяденька, не отбирай! — завизжала она.
Я схватилъ ее вмѣстѣ съ кастрюлей и потащилъ въ палатку. Въ головѣ мелькали какія-то сумасшедшія мысли. Я что-то, помню, говорилъ, но, думаю, что и мои слова пахли сумасшедшимъ домомъ. Дѣвочка вырвалась въ истеріи у меня изъ рукъ и бросилась къ выходу изъ палатки. Я поймалъ ее и посадилъ на нары. Лихорадочно, дрожащими руками я сталъ шарить на полкахъ подъ нарами. Нашелъ чьи-то объѣдки, полъ пайка Юринаго хлѣба и что-то еще. Дѣвочка не ожидала, чтобы я протянулъ ей ихъ. Она судорожно схватила огрызокъ хлѣба и стала запихивать себѣ въ ротъ. По ея грязному личику катились слезы еще не остывшаго испуга. Я стоялъ передъ нею, пришибленный и растерянный, полный великаго отвращенія ко всему въ мірѣ, въ томъ числѣ и къ самому себѣ. Какъ это мы, взрослые люди Россіи, тридцать милліоновъ взрослыхъ мужчинъ, могли допустить до этого дѣтей нашей страны? Какъ это мы не додрались до конца? Мы, русскіе интеллигенты, зная вѣдь, чѣмъ была "великая французская революція", могли мы себѣ представить, чѣмъ будетъ столь же великая революція у насъ!.. Какъ это мы не додрались? Какъ это мы всѣ, всѣ поголовно, не взялись за винтовки? Въ какой-то очень короткій мигъ — вся проблема гражданской войны и революціи освѣтилась съ безпощадной яркостью. Что помѣщики? Что капиталисты? Что профессора? Помѣщики — въ Лондонѣ, капиталисты — въ Наркомторгѣ, профессора — въ академіи. Безъ виллъ и автомобилей — но живутъ... А вотъ всѣ эти безымянные мальчики и дѣвочки?.. О нихъ мы должны были помнить прежде всего — ибо они будущее нашей страны... — А вотъ — не вспомнили... И вотъ, на костяхъ этого маленькаго скелетика — милліоновъ такихъ скелетиковъ — будетъ строиться соціалистическій рай. Вспоминался карамазовскій вопросъ о билетѣ въ жизнь... Нѣтъ, ежели бы имъ и удалось построить этотъ рай — на этихъ скелетикахъ, — я такого рая не хочу. Вспомнилась и фотографія Ленина въ позѣ Христа, окруженнаго дѣтьми: "не мѣшайте дѣтямъ приходить ко мнѣ"... Какая подлость! Какая лицемѣрная подлость!..
И вотъ — много вещей видалъ я на совѣтскихъ просторахъ — вещей, на много хуже этой дѣвочки съ кастрюлей льда. И многое — какъ-то забывается. А дѣвочка не забудется никогда. Она для меня стала какимъ-то символомъ, символомъ того, что сдѣлалось съ Россіей.
НОЧЬ ВЪ УРЧ
Шли дни. Уходили эшелоны. Ухудшалось питаніе. Наши посылки активъ изъ почтово-посылочной экспедиціи лагеря разворовывалъ настойчиво и аккуратно — риска уже не было никакого: все равно на БАМ. Одинъ за другимъ отправлялись на БАМ и наши славные сотоварищи по УРЧу. Твердунъ, который принималъ хотя и второстепенное, но все же весьма дѣятельное участіе въ нашей травлѣ, пропилъ отъ обалдѣнія свой послѣдній бушлатъ и плакалъ въ мою жилетку о своей загубленной молодой жизни. Онъ былъ польскимъ комсомольцемъ (фамилія — настоящая), перебравшимся нелегально, кажется, изъ Вильны и, по подозрѣнію неизвѣстно въ чемъ, отправленнымъ на пять лѣтъ сюда... Даже Стародубцевъ махнулъ на насъ рукой и вынюхивалъ пути къ обходу БАМовскихъ перспективъ. Очень грустно констатировать этотъ фактъ, но отъ БАМа Стародубцевъ какъ-то отвертѣлся.
А силы все падали. Я хирѣлъ и тупѣлъ съ каждымъ днемъ.
Мы съ Юрой кончали наши очередные списки. Было часа два ночи. УРЧ былъ пустъ. Юра кончилъ свою простыню.
— Иди ка, Квакушка, въ палатку, ложись спать.
— Ничего, Ватикъ, посижу, пойдемъ вмѣстѣ.
У меня оставалось работы минутъ на пять. Когда я вынулъ изъ машинки послѣдніе листы, то оказалось, что Юра усѣлся на полъ, прислонился спиной къ стѣнѣ и спитъ. Будить его не хотѣлось. Нести въ палатку? Не донесу. Въ комнатѣ была лежанка, на которой подремывали всѣ, у кого были свободные полчаса, въ томъ числѣ и Якименко. Нужно взгромоздить Юру на эту лежанку, тамъ будетъ тепло, пусть спитъ. На полу оставлять нельзя. Сквозь щели пола дули зимніе сквозняки, наметая у карниза тоненькіе сугробики снѣга.
Я наклонился и поднялъ Юру. Первое, что меня поразило — это его страшная тяжесть. Откуда? Но потомъ я понялъ: это не тяжесть, а моя слабость. Юрины пудовъ шесть брутто казались тяжелѣе, чѣмъ раньше были пудовъ десять.
Лежанка была на уровнѣ глазъ. У меня хватило силы поднять Юру до уровня груди, но дальше не шло никакъ. Я положилъ Юру на полъ и попробовалъ разбудить. Не выходило ничего. Это былъ уже не сонъ. Это былъ, выражаясь спортивнымъ языкомъ, коллапсъ...
Я все-таки изловчился. Подтащилъ къ лежанкѣ ящикъ опять поднялъ Юру, взобрался съ нимъ на ящикъ, положилъ на край ладони и, приподнявшись, перекатилъ Юру на лежанку. Перекатываясь, Юра ударился вискомъ о край кирпичнаго изголовья... Тоненькая струйка крови побѣжала по лицу. Обрывкомъ папиросной бумаги я заклеилъ ранку. Юра не проснулся. Его лицо было похоже на лицо покойника, умершаго отъ долгой и изнурительной болѣзни. Алыя пятна крови рѣзкимъ контрастомъ подчеркивали мертвенную синеву лица. Провалившіяся впадины глазъ. Заострившійся носъ. Высохшія губы. Неужели это конецъ?.. Впечатлѣніе было такимъ страшнымъ, что я наклонился и сталъ слушать сердце... Нѣтъ, сердце билось... Плохо, съ аритміей, но билось... Этотъ короткій, на нѣсколько секундъ, ужасъ окончательно оглушилъ меня. Голова кружилась и ноги подгибались. Хорошо бы никуда не идти, свалиться прямо здѣсь и заснуть. Но я, пошатываясь, вышелъ изъ УРЧ и сталъ спускаться съ лѣстницы. По дорогѣ вспомнилъ о нашемъ спискѣ для Чекалина. Списокъ относился къ этапу, который долженъ былъ отправиться завтра или, точнѣе, сегодня. Ну, конечно, Чекалинъ этотъ списокъ взялъ, какъ и прежніе списки. А вдругъ не взялъ? Чепуха, почему бы онъ могъ не взять! Ну, а если не взялъ? Это былъ нашъ рекордный списокъ — на 147 человѣкъ... И оставлять его въ щели на завтра? Днемъ могутъ замѣтить... И тогда?..
Потоптавшись въ нерѣшительности на лѣстницѣ, я все-таки поползъ наверхъ. Открылъ дверь въ неописуемую урчевскую уборную, просунулъ руку. Списокъ былъ здѣсь.
Я чиркнулъ спичку. Да, это былъ нашъ списокъ (иногда бывали записки отъ Чекалина — драгоцѣнный документъ на всякій случай: Чекалинъ былъ очень неостороженъ). Почему Чекалинъ не взялъ его? Не могъ? Не было времени? Что-жъ теперь? Придется занести его Чекалину.
Но при мысли о томъ, что придется проваливаться по сугробамъ куда-то за двѣ версты до Чекалинской избы, меня даже ознобъ прошибъ. А не пойти? Завтра эти сто сорокъ семь человѣкъ поѣдутъ на БАМ...
Какіе-то обрывки мыслей и доводовъ путано бродили въ головѣ. Я вышелъ на крыльцо.
Окна УРЧ отбрасывали бѣлые прямоугольники свѣта, заносимые снѣгомъ и тьмой. Тамъ, за этими прямоугольниками, металась вьюжная приполярная ночь. Двѣ версты? Не дойду. Ну его къ чертямъ! И съ БАМомъ, и со спискомъ, и съ этими людьми. Имъ все равно погибать: не по дорогѣ на БАМ, такъ гдѣ-нибудь на Лѣсной Рѣчкѣ. Пойду въ палатку и завалюсь спать. Тамъ весело трещитъ печурка, можно будетъ завернуться въ два одѣяла — и въ Юрино тоже... Буду засыпать и думать о землѣ, гдѣ нѣтъ разстрѣловъ, БАМа, дѣвочки со льдомъ, мертвеннаго лица сына... Буду мечтать о какой-то странной жизни, можетъ быть, очень простой, можетъ быть, очень бѣдной, но о жизни на волѣ. О невѣроятной жизни на волѣ... Да, а списокъ-то какъ?
Я не безъ труда сообразилъ, что я сижу на снѣгу, упершись спиной въ крыльцо и вытянувъ ноги, которыя снѣгъ уже замелъ до кончиковъ носковъ.
Я вскочилъ, какъ будто мною выстрѣлили изъ пушки. Такъ по идіотски погибнуть? Замерзнуть на дорогѣ между УРЧ и палаткой? Распустить свои нервы до степени какого-то лунатизма? Къ чортовой матери! Пойду къ Чекалину. Спитъ — разбужу! Чортъ съ нимъ!
ПОСЛѢДНІЕ ИЗЪ МОГИКАНЪ
Пошелъ. Путался во тьмѣ и сугробахъ; наконецъ, набрелъ на плетень, отъ котораго можно было танцевать дальше. Мыслями о томъ, какъ бы дотанцевать, какъ бы не запутаться, какъ бы не свалиться — было занято все вниманіе. Такъ что возгласъ: "Стой, руки вверхъ!" — засталъ меня въ состояніи полнѣйшаго равнодушія. Я послалъ возглашающаго въ нехорошее мѣсто и побрелъ дальше.
Но голосъ крикнулъ: "это вы?"
Я резонно отвѣтилъ, что это, конечно, я.
Изъ вьюги вынырнула какая-то фигура съ револьверомъ въ рукахъ.
— Вы куда? Ко мнѣ?
Я узналъ голосъ Чекалина.
— Да, я къ вамъ.
— Списокъ несете? Хорошо, что я васъ встрѣтилъ. Только что пріѣхалъ, шелъ за этимъ самымъ спискомъ. Хорошо, что вы его несете. Только послушайте — вѣдь вы же интеллигентный человѣкъ! Нельзя же такъ писать. Вѣдь это чортъ знаетъ что такое, что фамиліи — а цифръ разобрать нельзя.
Я покорно согласился, что почеркъ у меня, дѣйствительно, — бываетъ и хуже, но не часто.
— Ну, идемъ ко мнѣ, тамъ разберемся.
Чекалинъ повернулся и нырнулъ во тьму. Я съ трудомъ поспѣвалъ за нимъ. Проваливались въ какіе-то сугробы, натыкались на какіе-то пни. Наконецъ, добрели... Мы поднялись по темной скрипучей лѣстницѣ. Чекалинъ зажегъ свѣтъ.
— Ну вотъ, смотрите, — сказалъ онъ своимъ скрипучимъ раздраженнымъ голосомъ. — Ну, на что это похоже? Что это у васъ: 4? 1? 7? 9? Ничего не разобрать. Вотъ вамъ карандашъ. Садитесь и поправьте такъ, чтобы было понятно.
Я взялъ карандашъ и усѣлся. Руки дрожали — отъ холода, отъ голода и отъ многихъ другихъ вещей. Карандашъ прыгалъ въ пальцахъ, цифры расплывались въ глазахъ.
— Ну, и распустили же вы себя, — сказалъ Чекалинъ укоризненно, но въ голосѣ его не было прежней скрипучести. Я что-то отвѣтилъ...
— Давайте, я буду поправлять. Вы только говорите мнѣ, что ваши закорючки означаютъ.
Закорюкъ было не такъ ужъ много, какъ этого можно было бы ожидать. Когда всѣ онѣ были расшифрованы, Чекалинъ спросилъ меня:
— Это всѣ больные завтрашняго эшелона?
Я махнулъ рукой.
— Какое всѣ. Я вообще не знаю, есть ли въ этомъ эшелонѣ здоровые.
— Такъ почему же вы не дали списка на всѣхъ больныхъ?
— Знаете, товарищъ Чекалинъ, даже самая красивая дѣвушка не можетъ дать ничего путнаго, если у нея нѣтъ времени для сна.
Чекалинъ посмотрѣлъ на мою руку.
— Н-да, — протянулъ онъ. — А больше въ УРЧ вамъ не на кого положиться?
Я посмотрѣлъ на Чекалина съ изумленіемъ.
— Ну, да, — поправился онъ, — извините за нелѣпость. А сколько, по вашему, еще остается здоровыхъ?
— По моему — вовсе не остается. Точнѣе — по мнѣнію брата.
— Существенный парень вашъ братъ, — сказалъ ни съ того, ни съ сего Чекалинъ. — Его даже работники третьей части — и тѣ побаиваются... Да... Такъ, говорите, всѣ резервы Якименки уже исчерпаны?
— Пожалуй, даже больше, чѣмъ исчерпаны. На дняхъ мой сынъ открылъ такую штуку: въ послѣдніе списки УРЧ включилъ людей, которыхъ вы уже по два раза снимали съ эшелоновъ.
Брови Чекалина поднялись.
— Ого! Даже — такъ? Вы въ этомъ увѣрены?
— У васъ, вѣроятно, есть старые списки. Давайте провѣримъ. Нѣкоторыя фамиліи я помню.
Провѣрили. Нѣсколько повторяющихся фамилій нашелъ и самъ Чекалинъ.
— Такъ, — сказалъ Чекалинъ раздумчиво. — Такъ, значитъ, — "Елизаветъ Воробей"?
— Въ этомъ родѣ. Или сказка про бѣлаго бычка.
— Такъ, значитъ, Якименко идетъ уже на настоящій подлогъ. Значитъ, — дѣйствительно, давать ему больше некого. Чортъ знаетъ что такое! Пріемку придется закончить. За такія потери — я отвѣчать не могу.
— А что — очень велики потери въ дорогѣ?
Я ожидалъ, что Чекалинъ мнѣ отвѣтитъ, какъ въ прошлый разъ: "Это не ваше дѣло", но, къ моему удивленію, онъ нервно повелъ плечами и сказалъ:
— Совершенно безобразныя потери... Да, кстати, — вдругъ прервалъ онъ самого себя, — какъ вы насчетъ моего предложенія? На БАМ?
— Если вы разрѣшите, я откажусь.
— Почему?
— Есть двѣ основныхъ причины: первая — здѣсь Ленинградъ подъ бокомъ, и ко мнѣ люди будутъ пріѣзжать на свиданія, вторая — увязавшись съ вами, я автоматически попадаю подъ вашу протекцію (Чекалинъ подтверждающе кивнулъ головой). Вы — человѣкъ партійный, слѣдовательно, подверженный всякимъ мобилизаціямъ и переброскамъ. Протекція исчезаетъ, и я остаюсь на растерзаніе тѣхъ людей, у кого эта протекціи и привиллегированность были бѣльмомъ въ глазу.
— Первое соображеніе вѣрно. Вотъ второе — не стоитъ ничего. Тамъ, въ БАМовскомъ ГПУ, я вѣдь разскажу всю эту исторію со списками, съ Якименкой, съ вашей ролью во всемъ этомъ.
— Спасибо. Это значитъ, что БАМовское ГПУ меня размѣняетъ при первомъ же удобномъ или неудобномъ случаѣ.
— То-есть, — почему это?
Я посмотрѣлъ на Чекалина не безъ удивленія и соболѣзнованія: такая простая вещь...
— Потому, что изо всего этого будетъ видно довольно явственно: парень зубастый и парень не свой. Вчера онъ подвелъ ББК, а сегодня онъ подведетъ БАМ...
Чекалинъ повернулся ко мнѣ всѣмъ своимъ корпусомъ.
— Вы никогда въ ГПУ не работали?
— Нѣтъ. ГПУ надо мной работало.
Чекалинъ закурилъ папиросу и сталъ смотрѣть, какъ струйка дыма разбивалась струями холоднаго воздуха отъ окна. Я рѣшилъ внести нѣкоторую ясность.
— Это не только система ГПУ. Объ этомъ и Маккіавели говорилъ.
— Кто такой Маккіавели?
— Итальянецъ эпохи Возрожденія. Издалъ, такъ сказать, учебникъ большевизма. Тамъ обо всемъ этомъ довольно подробно сказано. Пятьсотъ лѣтъ тому назадъ...
Чекалинъ поднялъ брови...
— Н-да, за пятьсотъ лѣтъ человѣческая жизнь по существу не на много усовершенствовалась, — сказалъ онъ, какъ бы что-то разъясняя. — И пока капитализма мы не ликвидируемъ — и не усовершенствуется... Да, но насчетъ БАМа вы, пожалуй, и правы... Хотя и не совсѣмъ. На БАМ посланы наши лучшія силы...
Я не сталъ выяснять, съ какой точки зрѣнія эти лучшія силы являются лучшими... Собственно, пора было уже уходить, пока мнѣ объ этомъ не сказали и безъ моей иниціативы. Но какъ-то трудно было подняться. Въ головѣ былъ туманъ, хотѣлось заснуть тутъ же, на табуреткѣ... Однако, я приподнялся.
— Посидите, отогрѣйтесь, — сказалъ Чекалинъ и протянулъ мнѣ папиросы. Я закурилъ. Чекалинъ, какъ-то слегка съежившись, сѣлъ на табуретку, и его поза странно напомнила мнѣ давешнюю дѣвочку со льдомъ. Въ этой позѣ, въ лицѣ, въ устало положенной на столъ рукѣ было что-то сурово-безнадежное, усталое, одинокое. Это было лицо человѣка, который привыкъ жить, какъ говорится, сжавши зубы. Сколько ихъ — такихъ твердокаменныхъ партійцевъ — энтузіастовъ и тюремщиковъ, жертвъ и палачей, созидателей и опустошителей... Но идутъ безпросвѣтные годы — энтузіазмъ вывѣтривается, провалы коммунистическихъ ауто-дафе давятъ на совѣсть все больнѣе, жертвы — и свои, и чужія, какъ-то больше опустошаютъ, чѣмъ создаютъ. Какая, въ сущности, безпросвѣтная жизнь у нихъ, у этихъ энтузіастовъ... Недаромъ одинъ за другимъ уходятъ они на тотъ свѣтъ (добровольно и не добровольно), на Соловки, въ басмаческіе районы Средней Азіи, въ политизоляторы ГПУ: больше имъ, кажется, некуда уходить...
Чекалинъ поднялъ голову и поймалъ мой пристальный взглядъ. Я не сдѣлалъ вида, что этотъ взглядъ былъ только случайностью. Чекалинъ какъ-то болѣзненно и криво усмѣхнулся.
— Изучаете? А сколько, по вашему, мнѣ лѣтъ?
Вопросъ былъ нѣсколько неожиданнымъ. Я сдѣлалъ поправку на то, что на языкѣ оффиціальной совѣтской медицины называется "совѣтской изношенностью", на необходимость какого-то процента подбадриванія и сказалъ "лѣтъ сорокъ пять". Чекалинъ повелъ плечами.
— Да? А мнѣ тридцать четыре. Вотъ вамъ — и чекистъ, — онъ совсѣмъ криво усмѣхнулся и добавилъ, — палачъ, какъ вы говорите.
— Я не говорилъ.
— Мнѣ — не говорили. Другимъ — говорили. Или, во всякомъ случаѣ — думали...
Было бы глупо отрицать, что такой ходъ мыслей дѣйствительно существовалъ.
— Разные палачи бываютъ. Тѣ, кто идетъ по любви къ этому дѣлу — выживаютъ. Тѣ, кто только по убѣжденію — гибнутъ. Я думаю, вотъ, что Якименко очень мало безпокоится о потеряхъ въ эшелонахъ.
— А откуда вы взяли, что я безпокоюсь?
— Таскаетесь по ночамъ за моими списками въ УРЧ... Якименко бы таскаться не сталъ. Да и вообще — видно... Если бы я этого не видѣлъ, я бы къ вамъ съ этими списками и не пошелъ бы.
— Да? Очень любопытно... Знаете что — откровенность за откровенность...
Я насторожился. Но несмотря на столь многообѣщающее вступленіе, Чекалинъ какъ-то замялся, потомъ подумалъ, потомъ, какъ бы рѣшившись окончательно, сказалъ:
— Вы не думаете, что Якименко что-то подозрѣваетъ о вашихъ комбинаціяхъ со списками?
Мнѣ стало безпокойно. Якименко могъ и подозрѣвать, но если объ его подозрѣніяхъ уже и Чекалинъ знаетъ, — дѣло могло принять совсѣмъ серьезный оборотъ.
— Якименко на дняхъ далъ распоряженіе отставить моего сына отъ отправки на БАМ.
— Вотъ какъ? Совсѣмъ занимательно...
Мы недоумѣнно посмотрѣли другъ на друга.
— А что вы, собственно говоря, знаете о подозрѣніяхъ Якименки?
— Такъ ничего, въ сущности, опредѣленнаго... Трудно сказать. Какіе-то намеки, что ли...
— Тогда почему Якименко насъ не ликвидировалъ?
— Это не такъ просто. Въ лагеряхъ есть законъ. Конечно, сами знаете, — онъ не всегда соблюдается, но онъ есть... И если человѣкъ зубастый... По отношенію къ зубастому человѣку... а васъ здѣсь цѣлыхъ трое зубастыхъ... Ликвидировать не такъ легко... Якименко человѣкъ осторожный. Мало ли какія у васъ могутъ быть связи... А у насъ, въ ГПУ, за нарушеніе закона...
— ... по отношенію къ тѣмъ, кто имѣетъ связи...
Чекалинъ посмотрѣлъ на меня недовольно:
— ... спуску не даютъ...
Заявленіе Чекалина вызвало необходимость обдумать цѣлый рядъ вещей и, въ частности, и такую: не лучше-ли при такомъ ходѣ событій принять предложеніе Чекалина насчетъ БАМа, чѣмъ оставаться здѣсь подъ эгидой Якименки. Но это былъ моментъ малодушія, попытка измѣны принципу: "все для побѣга". Нѣтъ, конечно, "все для побѣга". Какъ-нибудь справимся и съ Якименкой... Къ темѣ о БАМѣ не стоитъ даже и возвращаться.
— Знаете что, товарищъ Чекалинъ, насчетъ закона и спуска, пожалуй, нѣтъ смысла и говорить.
— Я вамъ отвѣчу прежнимъ вопросомъ: почему на отвѣтственныхъ мѣстахъ сидятъ Якименки, а не вы? Сами виноваты.
— Я вамъ отвѣчу прежнимъ отвѣтомъ: потому, что во имя приказа или, точнѣе, во имя карьеры онъ пойдетъ на что хотите. А я — не пойду.
— Якименко только одинъ изъ винтиковъ колоссальнаго аппарата. Если каждый винтикъ будетъ разсуждать...
— Боюсь, что вотъ вы все-таки разсуждаете. И я — тоже. Мы все-таки, такъ сказать, продукты индивидуальнаго творчества. Вотъ когда додумаются дѣлать людей на конвейерахъ, какъ винты и гайки, тогда будетъ другое дѣло.
Чекалинъ презрительно пожалъ плечами.
— Гнилой индивидуализмъ. Такимъ, какъ вы, хода нѣтъ.
Я нѣсколько обозлился: почему мнѣ нѣтъ хода? Въ любой странѣ для меня былъ бы свободенъ любой ходъ.
— Товарищъ Чекалинъ, — сказалъ я раздраженно, — для васъ тоже хода нѣтъ. Потому что съ каждымъ вершкомъ углубленія революціи власть все больше и больше нуждается въ людяхъ не разсуждающихъ и не поддающихся никакимъ угрызеніямъ совѣсти — въ Стародудцевыхъ и Якименкахъ. Вотъ именно поэтому и вамъ хода нѣтъ. Эти эшелоны и эту комнатушку едва-ли можно назвать ходомъ. Вамъ тоже нѣтъ хода, какъ нѣтъ его и всей старой ленинской гвардіи. Вы обречены, какъ обречена и она. То, что я попалъ въ лагерь нѣсколько раньше, а вы попадете нѣсколько позже — ничего не рѣшаетъ. Вотъ только мнѣ въ лагерѣ не изъ-за чего биться головой объ стѣнку. А вы будете биться головой объ стѣнку. И у васъ будетъ за что. Во всемъ этомъ моя трагедія и ваша трагедія, но въ этомъ и трагедія большевизма взятаго въ цѣломъ. Все равно вся эта штука полнымъ ходомъ идетъ въ болото. Кто утонетъ раньше, кто позже — этотъ вопросъ никакого принципіальнаго значенія не имѣетъ.
— Ого, — поднялъ брови Чекалинъ, — вы, кажется, цѣлую политическую программу развиваете.
Я понялъ, что я нѣсколько зарвался, если не въ словахъ, то въ тонѣ, но отступать было бы глупо.
— Этотъ разговоръ подняли вы, а не я. А здѣсь — не лагерный баракъ съ сексотами и горючимъ матеріаломъ "массъ". Съ чего бы я сталъ передъ вами разыгрывать угнетенную невинность? Съ моими-то восемью годами приговора?
Чекалинъ какъ будто нѣсколько сконфузился за чекисткую нотку, которая прозвучала въ его вопросѣ.
— Кстати, а почему вамъ дали такой странный срокъ — восемь лѣтъ, не пять и не десять...
— Очевидно, предполагается, что для моей перековки въ честнаго совѣтскаго энтузіаста требуется ровно восемь лѣтъ... Если я эти восемь лѣтъ проживу...
— Конечно, проживете. Думаю, что вы себѣ здѣсь и карьеру сдѣлаете.
— Меня московская карьера не интересовала, а ужъ на лагерную — вы меня, товарищъ Чекалинъ, извините — на лагерную — мнѣ ужъ совсѣмъ наплевать. Проканителюсь какъ-нибудь. Въ общемъ и цѣломъ дѣло все равно пропащее. Жизнь все равно испорчена вдрызгъ... Не лагеремъ, конечно. И ваша — тоже. Вы вѣдь, товарищъ Чекалинъ, — одинъ изъ послѣднихъ могиканъ идейнаго большевизма... Тутъ и дискуссировать нечего. Довольно на вашу физіономію посмотрѣть...
— А позвольте васъ спросить, что же вы вычитали на моей физіономіи?
— Многое. Напримѣръ, вашу небритую щетину. Якименко каждый день вызываетъ къ себѣ казеннаго парикмахера, бреется, опрыскивается одеколономъ. А вы уже не брились недѣли двѣ, и вамъ не до одеколона.
— "Быть можно дѣльнымъ человѣкомъ и думать о красѣ ногтей", — продекламировалъ Чекалинъ.
— Я не говорю, что Якименко не дѣльный. А только бываютъ моменты, когда порядочному человѣку — хотя бы и дѣльному — не до ногтей и не до бритья... Вотъ вы живете чортъ знаетъ въ какомъ сараѣ... У васъ даже не топлено... Якименко такъ жить не будетъ. И Стародубцевъ — тоже... При первой же возможности, конечно... У васъ есть возможность и вызвать заключеннаго парикмахера, и приказать натопить печку.
Чекалинъ ничего не отвѣтилъ. Я чувствовалъ, что моя безмѣрная усталость начинаетъ переходить въ какое-то раздраженіе. Лучше уйти. Я поднялся.
— Уходите?
— Да, нужно все-таки хоть немного вздремнуть... Завтра опять эти списки.
Чекалинъ тяжело поднялся со своей табуретки.
— Списковъ завтра не будетъ, — сказалъ онъ твердо. — Я завтра устрою массовую провѣрку здоровья этого эшелона и не приму его... И вообще на этомъ пріемку прекращу... — Онъ протянулъ мнѣ руку. Я пожалъ ее. Чекалинъ задержалъ рукопожатіе.
— Во всякомъ случаѣ, — сказалъ онъ какимъ-то начальственнымъ, но все же чуть-чуть взволнованнымъ тономъ, — во всякомъ случаѣ, товарищъ Солоневичъ, за эти списки я долженъ васъ поблагодарить... отъ имени той самой коммунистической партіи... къ которой вы такъ относитесь... Вы должны понять, что если партія не очень жалѣетъ людей, то она не жалѣетъ и себя...
— Вы бы лучше говорили отъ своего имени, тогда мнѣ было бы легче вамъ повѣрить. Отъ имени партіи говорятъ разные люди. Какъ отъ имени Христа говорили и апостолы, и инквизиторы.
— Н-да... — протянулъ Чекалинъ раздумчиво...
Мы стояли въ дурацкой позѣ у косяка дверей, не разжимая протянутыхъ для рукопожатія рукъ. Чекалинъ былъ, казалось, въ какой-то нерѣшимости. Я еще разъ потрясъ ему руку и повернулся.
— Знаете что, товарищъ Солоневичъ, — сказалъ Чекалинъ. — Вотъ — тоже... Спать времени нѣтъ... А когда урвешь часокъ, такъ все равно не спится. Торчишь вотъ тутъ...
Я оглядѣлъ большую, холодную, пустую, похожую на сарай комнату. Посмотрѣлъ на Чекалина. Въ его глазахъ было одиночество.
— Ваша семья — на Дальнемъ Востокѣ?
Чекалинъ пожалъ плечами.
— Какая тутъ можетъ быть семья? При нашей-то работѣ? Значитъ — уходите? Знаете, что? На завтра этихъ списковъ у васъ больше не будетъ. Эшелоновъ я больше не приму. Точка. Къ чертовой матери. Такъ, вотъ — давайте-ка посидимъ поболтаемъ, у меня есть коньякъ. И закуска. А?
ОБЩЕРОССІЙСКАЯ ПЛАТФОРМА
Коньякъ меня въ данный моментъ не интересовалъ. Закуска — интересовала. Правда, голодъ сталъ какимъ-то хроническимъ фономъ жизни и особо болѣзненныхъ ощущеній не вызывалъ. Но ѣсть всегда хотѣлось... На секунду мелькнуло смутное подозрѣніе о мотивахъ этого необычнаго приглашенія, я посмотрѣлъ въ глаза Чекалину и увидѣлъ, что мой отказъ будетъ чѣмъ-то глубоко оскорбительнымъ, какимъ-то страннымъ оскорбленіемъ его одиночеству. Я вздохнулъ:
— Коньякъ бы не плохо...
Лицо Чекалина какъ-то повеселѣло.
— Ну вотъ — и замѣчательно... Посидимъ, побалакаемъ... Я сейчасъ...
Чекалинъ засуетился. Полѣзъ подъ кровать, вытащилъ оттуда обдрипанный фанерный чемоданъ, извлекъ изъ него литровую бутылку коньяку и основательную, литровъ на пять, жестяную коробку, въ которой оказалась амурская кетовая икра.
— Наша икра, бамовская, — пояснилъ Чекалинъ. — Сюда ѣхать — нужно и свой продуктъ везти. Чужое вѣдомство... Да еще и конкурирующее... Для того, чтобы отстаивать свои вѣдомственные интересы — нужно и свой вѣдомственный паекъ имѣть... А то такъ: не примешь эшелона — ѣсть не дадутъ...
Изъ покосившагося, потрескавшагося пустого шкафа Чекалинъ досталъ мутнаго стекла стаканъ и какую-то глиняную плошку. Вытеръ ихъ клочкомъ газетной бумаги. Пошарилъ еще по пустымъ полкамъ шкафа. Обнаружилъ кусокъ зачерствѣвшаго хлѣба — вѣсомъ въ фунтъ. Положилъ этотъ кусокъ на столъ и посмотрѣлъ на него съ сомнѣніемъ:
— Насчетъ хлѣба — дѣло, кажется, дрянь... Сейчасъ посмотрю еще.
Съ хлѣбомъ дѣло, дѣйствительно, оказалось дрянью.
— Вотъ такъ загвоздка... Придется къ хозяйкѣ пойти... Будить не стоитъ... Пошарю, можетъ быть, что-нибудь выищется...
Чекалинъ ушелъ внизъ... Я остался сидѣть, пытаясь отуманенными мозгами собрать разбѣгающіяся мысли и подвести нынѣшнюю бесѣду подъ какую-то мало-мальски вразумительную классификацію...
Бесѣда эта, впрочемъ, въ классификацію входила: сколько есть на Святой Руси этакихъ загубленныхъ коммунистическихъ душъ, взявшихся не за свое дѣло, гибнущихъ молчкомъ, сжавши зубы, и гдѣ-то, въ самыхъ глубокихъ тайникахъ своей души, мечтающихъ о василькахъ... О тѣхъ василькахъ, которые когда-то — послѣ и въ результатѣ "всего этого" — будутъ доступны пролетаріату всего міра. Васильки эти остаются невысказанными. Васильки эти изнутри давятъ на душу. Со Стародубцевыми о нихъ нельзя говорить... Но на черноземѣ доброй русской души, политой доброй россійской водкой, эти васильки распускаются цѣлыми голубыми коврами самыхъ затаенныхъ мечтаній... Сколько на моемъ совѣтскомъ вѣку выпито было подъ эти васильки...
Мелькнуло и было отброшено мимолетное сомнѣніе въ возможномъ подводѣ со стороны Чекалина: и подводить, собственно было нечего, и чувствовалось, что предложеніе Чекалина шло, такъ сказать, отъ "щираго сердца", отъ пустоты и одиночества его жизни...
Потомъ мысли перепрыгнули на другое... Я — въ вагонѣ № 13. Руки скованы наручниками и распухли. На душѣ мучительная, свербящая злость на самого себя: такъ проворонить... такого идіота сыграть... И безконечная тоска за все то, что уже пропало, чего уже никакъ не поправишь...
На какой-то станціи одинъ изъ дежурныхъ чекистовъ приносить обѣдъ, вопреки ожиданіямъ — вполнѣ съѣдобный обѣдъ... Я вспоминаю, что у меня въ рюкзакѣ — фляга съ литромъ чистаго спирта. "Эхъ, — сейчасъ выпить бы"...
Говорю объ этомъ дежурному чекисту: дайте, дескать, выпить въ послѣдній разъ.
— Бросьте вы Лазаря разыгрывать... Выпьете еще на своемъ вѣку... Сейчасъ я спрошу.
Вышелъ въ сосѣднее купе.
— Товарищъ Добротинъ, арестованный просить разрѣшенія и т.д.
Изъ сосѣдняго купе высовывается круглая заспанная физіономія Добротина. Добротинъ смотритъ на меня испытующе.
— А вы въ пьяномъ видѣ скандалить не будете?
— Пьянаго вида у меня вообще не бываетъ. Выпью и постараюсь заснуть...
— Ну, ладно...
Дежурный чекистъ приволокъ мой рюкзакъ, досталъ флягу и кружку.
— Какъ вамъ развести? Напополамъ? А то хватили бы кружки двѣ — заснете.
Я выпилъ двѣ кружки. Одинъ изъ чекистовъ принесъ мнѣ сложенное одѣяло. Положилъ на скамью, подъ голову.
— Постарайтесь заснуть... Чего зря мучиться... Нѣтъ, наручниковъ снять не можемъ, не имѣемъ права... А вы вотъ такъ съ руками устройтесь, будетъ удобнѣе...
...Идиллія...
___
Вернулся Чекалинъ. Въ рукахъ у него три огромныхъ печеныхъ рѣпы и тарелка съ кислой капустой.
— Хлѣба нѣтъ, — сказалъ онъ, и опять какъ-то покарежился. — Но и рѣпа — не плохо.
— Совсѣмъ не плохо, — ляпнулъ я, — наши товарищи, пролетаріи всего міра, и рѣпы сейчасъ не имѣютъ, — и сейчасъ же почувствовалъ, какъ это вышло безвкусно и неумѣстно.
Чекалинъ даже остановился со своими рѣпами въ рукахъ.
— Простите, товарищъ Чекалинъ, — сказалъ я искренно. — Такъ ляпнулъ... Для краснаго словца и отъ хорошей нашей жизни...
Чекалинъ какъ-то вздохнулъ, положилъ на столъ рѣпы, налилъ коньяку — мнѣ въ стаканъ, себѣ — въ плошку.
— Ну что-жъ, товарищъ Солоневичъ, выпьемъ за грядущее, за безкровныя революціи... Каждому, такъ сказать, свое — я буду пить за революцію, а вы — за безкровную...
— А такія — бываютъ?
— Будемъ надѣяться, что міровая — она будетъ безкровной, — иронически усмѣхнулся Чекалинъ.
— А за грядущую русскую революцію — вы пить не хотите?
— Охъ, товарищъ Солоневичъ, — серьезно сказалъ Чекалинъ, — не накликайте... Охъ, не накликайте. Будете потомъ и по сталинскимъ временамъ плакать. Ну, я вижу, что вы ни за какую революцію пить не хотите — то-есть, за міровую... А я за грядущую русскую — тоже не хочу. А коньякъ, какъ говорится, стынетъ... Давайте такъ, "за вообще".
Чокнулись и выпили "за вообще". Коньякъ былъ великолѣпенъ — старыхъ подваловъ Арменіи. Зачерпнули деревянными ложками икры. Комокъ икры свалился съ ложки Чекалина на столъ... Чекалинъ сталъ машинально подбирать отдѣльныя крупинки...
— Третья революція, третья революція... Что тутъ скрывать... скрывать тутъ нечего. Мы, конечно, знаемъ, что три четверти населенія ждутъ этой революціи, ждутъ паденія совѣтской власти... Глупо это... Не только потому глупо, что у насъ хватитъ и силъ, и гибкости, чтобы этой революціи не допустить... А потому, что сейчасъ, при Сталинѣ, — есть будущее. Сейчасъ контръ-революція — это фашизмъ, диктатура иностраннаго капитала, превращеніе страны въ колонію — вотъ, вродѣ Индіи... И какъ этого люди не понимаютъ? Отъ нашего отсталаго крестьянства, конечно, требовать пониманія нельзя... Но интеллигенція? Будете потомъ бѣгать въ какой-нибудь подпольный профсоюзъ и просить тамъ помощи противъ какого-нибудь американскаго буржуя. Сейчасъ жить плохо. А тогда жить будетъ скучно. Тогда — ничего не будетъ впереди. А теперь еще два-три года... ну, пять лѣтъ — и вы увидите, какой у насъ будетъ расцвѣтъ...
— Не случалось ли вамъ читать "Правды" или "Извѣстіи" такъ въ году двадцать восьмомъ-двадцать седьмомъ?
Чекалинъ удивленно пожалъ плечами.
— Ну, конечно, читалъ... А что?
— Да такъ, особеннаго ничего... Одинъ мой пріятель — большой острякъ... Въ прошломъ году весной обсуждался, кажется, какой-то заемъ... второй пятилѣтки... Вылѣзъ на трибуну и прочелъ передовую статью изъ "Правды" начала первой пятилѣтки... О томъ, какъ будутъ жить въ концѣ первой пятилѣтки... Чекалинъ смотрѣлъ на меня непонимающимъ взоромъ.
— Ну, и что?
— Да такъ, особеннаго ничего. Посадили... Сейчасъ, кажется, въ Вишерскомъ концлагерѣ сидитъ: не напоминай.
Чекалинъ насупился.
— Это все — мѣщанскій подходъ... Обывательская точка зрѣнія... Боязнь усилій и жертвъ... Мы честно говоримъ, что жертвы — неизбѣжны... Но мы знаемъ, во имя чего мы требуемъ жертвъ и сами ихъ приносимъ...
Я вспомнилъ вудвортовскій афоризмъ о самомъ геніальномъ изобрѣтеніи въ міровой исторіи: объ ослѣ, передъ мордой котораго привязанъ клочекъ сѣна. И топаетъ бѣдный оселъ и приносить жертвы, а клочекъ сѣна какъ былъ — вотъ-вотъ достать — такъ и остается... Чекалинъ снова наполнилъ наши "бокалы", но лицо его снова стало суровымъ и замкнутымъ.
— Мы идемъ впередъ, мы ошибаемся, мы спотыкаемся, но мы идемъ во имя самой великой цѣли, которая только ставилась передъ человѣчествомъ. А вотъ вы, вмѣсто того, чтобы помочь, сидите себѣ тихонько и зубоскалите... саботируете, ставите палки въ колеса...
— Ну, знаете ли, все-таки трудно сказать, чтобы я очень ужъ комфортабельно сидѣлъ.
— Да я не о васъ говорю, не о васъ персонально. Я говорю объ интеллигенціи вообще. Конечно, безъ нея не обойтись, а — сволочь... На народныя, на трудовыя деньги росла и училась... Звала народъ къ лучшему будущему, къ борьбѣ со всякой мерзостью, со всякой эксплоатаціей, со всякимъ суевѣріемъ... Звала къ человѣческой жизни на землѣ... А когда дѣло дошло до строительства этой жизни? Струсила, хвостомъ накрылась, побѣжала ко всякимъ Колчакамъ и Детердингамъ... Мутила, гдѣ только могла... Оставила насъ со Стародубцевыми, съ неграмотнымъ мужикомъ... А теперь — вотъ: ахъ, что дѣлаютъ эти Стародубцевы!.. Стародубцевы губятъ тысячи и сотни тысячъ, а вотъ вы, интеллигентъ, подсовываете мнѣ ваши дурацкіе гомеопатическіе списки и думаете: ахъ, какая я, въ сущности, честная женщина... Меньше, чѣмъ за милліонъ, я не отдаюсь... Грязнаго бѣлья своей страны я стирать не буду. Вамъ нуженъ милліонъ, чтобы и бѣлья не стирать и чтобы ваши ручки остались нѣжными и чистыми. Вамъ нужна этакая, чортъ васъ дери, чистоплюйская гордость... не вы, дескать, чистили сортиры старыхъ гнойниковъ... Вы, конечно... вы говорили, что купецъ — это сволочь, что царь — дуракъ, что генералы — старое рванье... Зачѣмъ вы это говорили? Я васъ спрашиваю, — голосъ Чекалина сталъ снова скрипучъ и рѣзокъ, — я васъ спрашиваю — зачѣмъ вы это говорили?.. Что, вы думали, купецъ отдастъ вамъ свои капиталы, царь — свою власть, генералы — свои ордена, такъ, за здорово живешь, безъ драки, безъ боя, безъ выбитыхъ зубовъ съ обѣихъ сторонъ? Что по дорогѣ къ той человѣческой жизни, къ которой вы, вы звали массы, никакая сволочь вамъ въ горло не вцѣпится?
— Подымали массы, чортъ васъ раздери... А когда массы поднялись, вы ихъ предали и продали... Соціалисты, мать вашу... Вотъ вамъ соціалисты — ваши германскіе друзья и пріятели... Развѣ мы, марксисты, этого не предсказывали, что они готовятъ фашизмъ, что они будутъ лизать пятки любому Гитлеру, что они точно такъ же продадутъ и предадутъ германская массы, какъ вотъ вы продали русскія? А теперь — тоже вродѣ васъ — думаютъ: ахъ, какіе мы дѣвственные, ахъ, какіе мы чистые... Ахъ, мы никого не насиловали... А что этихъ соціалистовъ всякій, у кого есть деньги, .... и спереди, и сзади — такъ вѣдь это же за настоящія деньги, за валюту, не за какой-нибудь совѣтскій червонецъ... Не за трудовой кусокъ хлѣба!
Голосъ Чекалина сталъ визгливъ. Онъ жестикулировалъ своимъ буттербродомъ изъ рѣпы, икра разлеталась во всѣ стороны, но онъ этого не замѣчалъ... Потомъ онъ какъ-то спохватился...
— Простите, что я такъ крою... Это, понимаете, не васъ персонально... Давайте, что ли, выпьемъ...
Выпили.
— ... Не васъ персонально. Что — васъ разстрѣливать? Это всякій дуракъ можетъ. А вотъ вы мнѣ отвѣтьте...
Я подумалъ о той смертельной братской ненависти, которая и раздѣляетъ, и связываетъ эти двѣ подсекты соціализма — большевиковъ и меньшевиковъ. Ненависть эта тянется уже полвѣка, и говорить о ней — не стоило.
— Отвѣтить, конечно, можно было-бы, но это — не моя тема. Я, видите-ли, никогда въ своей жизни ни на секунду не былъ соціалистомъ.
Чекалинъ уставился на меня въ недоумѣніи и замѣшательствѣ. Вся его филлипика пролетѣла впустую, какъ зарядъ картечи сквозь привидѣніе.
— Ахъ, такъ... Тогда — извините... Не зналъ. А кѣмъ же вы были?
— Говоря оріентировочно — монархистомъ. О чемъ ваше уважаемое заведеніе имѣетъ исчерпывающія данныя. Такъ, что и скромничать не стоитъ.
Видно было: Чекалинъ чувствовалъ, что со всѣмъ своимъ негодованіемъ противъ соціалистовъ онъ попалъ въ какое-то глупое и потому безпомощное положеніе. Онъ воззрился на меня съ какимъ-то недоумѣніемъ.
— Послушайте. Документы я ваши видѣлъ... въ вашемъ личномъ дѣлѣ. Вѣдь вы же изъ крестьянъ. Или — документы липовые?
— Документы настоящіе... Предупреждаю васъ по хорошему — насчетъ классоваго анализа здѣсь ничего не выйдетъ. Маркса я знаю не хуже, чѣмъ Бухаринъ. А если и выйдетъ — такъ совсѣмъ не по Марксу... Насчетъ классоваго анализа — и не пробуйте...
Чекалинъ пожалъ плечами.
— Ну, въ этомъ разрѣзѣ монархія для меня — четвертое измѣреніе. Я понимаю представителей дворянскаго землевладѣнія. Тамъ были прямые классовые интересы... Что вамъ отъ монархіи?
— Много. Въ частности то, что монархія была единственнымъ стержнемъ государственной жизни. Правда, не густымъ, но все же единственнымъ.
Чекалинъ нѣсколько оправился отъ своего смущенія и смотрѣлъ на меня съ явнымъ любопытствомъ такъ, какъ нѣкій ученый смотрѣлъ бы на нѣкое очень любопытное ископаемое.
— Та-акъ... Вы говорите — единственнымъ стержнемъ... А теперь, дескать, съ этого стержня сорвались и летимъ, значитъ, къ чортовой матери.
— Давайте уговоримся — не митинговать. Массъ тутъ никакихъ нѣту. Мировая революція лопнула явственно. Куда же мы летимъ?
— Къ строительству соціализма въ одной странѣ, — сказалъ Чекалинъ, и въ голосѣ его особенной убѣдительности не было.
— Такъ... А вы не находите, что все это гораздо ближе стоитъ къ какой-нибудь весьма свирѣпой азіатской деспотіи, чѣмъ къ самому завалящему соціализму? И сколько народу придется еще истребить, чтобы построить этотъ соціализмъ такъ, какъ онъ строится теперь — то-есть пулеметами. И не останется ли, въ концѣ концовъ, на всей пустой русской землѣ два настоящихъ соціалиста, безо всякихъ уклоновъ — Сталинъ и Кагановичъ?
— Это, извините, жульническая постановка вопроса. Конечно, безъ жертвъ не обойтись. Вы говорите — пулеметами? Что-жъ, картофель тоже штыками выколачивали... Не нужно слишкомъ ужъ высоко цѣнить человѣческую жизнь. Когда правительство строитъ желѣзную дорогу — оно тоже приноситъ человѣческія жертвы. Статистика, кажется, даже подсчитала, что на столько-то километровъ пути приходится столько-то человѣческихъ жертвъ въ годъ. Такъ что-жъ, по вашему, и желѣзныхъ дорогъ не строить? Тутъ ничего не подѣлаешь... математика... Такъ и съ нашими эшелонами... Конечно, тяжело... Вотъ вы нѣсколько снизили процентъ этихъ несчастныхъ случаевъ, но въ общемъ — все это пустяки. Командиръ, который въ бою будетъ заботиться не о побѣдѣ, а о томъ, какъ бы избѣжать потерь — такой командиръ ни черта не стоитъ. Такого выкрасить и выбросить... Вы говорите — звѣрства революціи. Пустое слово. Звѣрства тогда остаются звѣрствами, когда ихъ недостаточно. Когда онѣ достигаютъ цѣли — онѣ становятся святой жертвой. Армія, которая пошла въ бой, потеряла десять процентовъ своего состава и не достигла цѣли — она эти десять процентовъ потеряла зря. Если она потеряла девяносто процентовъ и выиграла бой — ея потери исторически оправданы. То же и съ нами. Мы думаемъ не о потеряхъ, а о побѣдѣ. Намъ отступать нельзя... Ни передъ какими потерями... Если мы только на вершокъ не дотянемъ до соціализма, тогда все это будетъ звѣрствомъ и только. Тогда идея соціализма будетъ дискредитирована навсегда. Намъ остановки — не дано... Еще десять милліоновъ. Еще двадцать милліоновъ. Все равно. Назадъ дороги нѣтъ. Нужно идти дальше. Ну что-жъ, — добавилъ онъ, заглянувъ въ свою пустую плошку, — давайте, что-ли, дѣйствовать дальше?..
Я кивнулъ головой. Чекалинъ налилъ наши сосуды. Мы молча чокнулись...
— Да, — сказалъ я, — вы наполовину правы: назадъ, дѣйствительно, дороги нѣтъ. Но согласитесь сами, что и впереди ничего не видать... Господь Богъ вовсе не устроилъ человѣка соціалистомъ. Можетъ быть, это и не очень удобно, но это — фактъ. Человѣкъ живетъ тѣми же инстинктами, какими онъ жилъ и во время Римской имперіи... Римское право исходило изъ того предположенія, что человѣкъ дѣйствуетъ прежде всего, какъ "добрый отецъ семейства" — cum bonus pater familias, то-есть онъ прежде всего, напряженнѣе всего, дѣйствуетъ въ интересахъ себя и своей семьи.
— Философія мѣщанскаго эгоизма...
— Во-первыхъ — вовсе не философія, а біологія... Такъ устроенъ человѣкъ. У него крыльевъ нѣтъ. Это очень жалко. Но если вы перебьете ему ноги — то онъ летать все-таки не будетъ... Вотъ вы попробуйте вдуматься въ эти годы, годы революціи: тамъ, гдѣ коммунизмъ — тамъ голодъ. Стопроцентный коммунизмъ — стопроцентный голодъ. Жизнь начинаетъ расти только тамъ, гдѣ коммунизмъ отступаетъ: НЭП, пріусадебные участки, сдѣльщина. На территоріяхъ чистаго коммунизма — и трава не растетъ... Мнѣ кажется, что это принадлежитъ къ числу немногихъ совсѣмъ очевидныхъ вещей...
— Да, остатки капиталистическаго сознанія въ массахъ оказались болѣе глубоки, чѣмъ мы предполагали... Передѣлка человѣка — идетъ очень медленно.
— И вы его передѣлаете?
— Да, мы создадимъ новый типъ соціалистическаго человѣка, — сказалъ Чекалинъ какимъ-то партійнымъ тономъ — твердо, но безъ особаго внутренняго убѣжденія.
Я обозлился.
— Передѣлается? Или, какъ въ такихъ случаяхъ говоритъ церковь, совлечете съ него ветхаго Адама? Господи, какая чушь!.. За передѣлку человѣка брались организаціи на много покрупнѣе и поглубже, чѣмъ коммунистическая.
— Кто же это брался?
— Хотя бы религія. А она передъ вами имѣетъ совершенно неизмѣримыя преимущества.
— Религія — передъ коммунизмомъ?
— Ну, конечно... Религія имѣетъ передъ вами-то преимущество, что ея обѣщанія реализуются на томъ свѣтѣ. Пойдите, провѣрьте... А ваши уже много разъ провѣрены. Тѣмъ болѣе, что вы съ ними очень торопитесь... Соціалистическій рай у васъ уже долженъ былъ наступить разъ пять: послѣ сверженія буржуазнаго правительства, послѣ захвата фабрикъ и прочаго, послѣ разгрома бѣлой арміи, послѣ пятилѣтки... Теперь — послѣ второй пятилѣтки...
— Все это — вѣрно, исторія — тугая баба. Но мы обѣщаемъ не мифъ, а реальность.
— Скажите, пожалуйста, развѣ для средневѣковаго человѣка рай и адъ были мифомъ, а не реальностью? И рай-то этотъ былъ не какой-то куцый, соціалистическій, на одну человѣческую жизнь и на пять фунтовъ хлѣба, вмѣсто одного. Это былъ рай всамдѣлишный — безконечное блаженство на безконечный періодъ времени... Или — соотвѣтствующій адъ. Такъ вотъ — и это не помогло... Никого не передѣлали... Любой христіанинъ двадцатаго вѣка живетъ и дѣйствуетъ по точно такимъ же стимуламъ, какъ дѣйствовалъ римлянинъ двѣ тысячи лѣтъ тому на задъ — какъ добрый отецъ семейства.
— И отъ насъ ничего не останется?
— И отъ васъ ничего не останется. Развѣ только что-нибудь побочное и рѣшительно ничѣмъ не предусмотрѣнное...
Чекалинъ усмѣхнулся... устало и насмѣшливо.
— Ну что-жъ, выпьемъ что ли хоть за непредусмотрѣнное. Не останется, вы говорите... Можетъ быть, и не останется... Но если что-нибудь въ исторіи человѣчества и останется — такъ отъ насъ, а не отъ васъ. "А вы на землѣ проживете, какъ черви слѣпые живутъ, ни сказокъ про васъ не разскажутъ, ни пѣсенъ про васъ не споютъ"...
— Ежели говорить откровенно, такъ насчетъ пѣсенъ — мнѣ въ высокой степени плевать. Будутъ обо мнѣ пѣть пѣсни или не будутъ, будутъ строить мнѣ монументы или не будутъ — мнѣ рѣшительно все равно. Но я знаю, что монументъ — это людей соблазняетъ... Какимъ-то таинственнымъ образомъ, но соблазняетъ... И всякій норовитъ взгромоздить на свою шею какой-нибудь монументъ. Конечно, жить подъ нимъ не очень удобно — зато монументъ... Но строить его на своей шеѣ и своей кровью?.. Чтобы потомъ какая-нибудь скучающая и ужъ совсѣмъ безмозглая американка щелкала своимъ кодакомъ сталинскія пирамиды, построенныя на моихъ костяхъ — это извините. Въ эту игру я, по мѣрѣ моей возможности, играть не буду...
— Не вы будете играть — такъ вами будутъ играть...
— Въ этомъ вы правы. Тутъ — крыть нечѣмъ. Дѣйствительно играютъ. И не только мною... Вотъ поэтому-то милостивые государи, населяющіе культурный и христіанскій міръ въ двадцатомъ вѣкѣ послѣ Рождества Христова, и сѣли въ лужу міровой войны, кризиса, коммунизма и прочаго.
— Вотъ поэтому-то мы и строимъ коммунизмъ.
— Такъ сказать — клинъ клиномъ.
— Да, клинъ клиномъ...
— Не очень удачно... Когда одинъ клинъ вышибаютъ другимъ — то только для того, чтобы въ конечномъ счетѣ вышибить ихъ оба...
— Вотъ мы и вышибемъ всякую государственность... И построимъ свободное человѣческое общество.
Я вздохнулъ. Разговоръ начиналъ пріобрѣтать скучный характеръ... Свободное человѣческое общество...
— Я знаю, вы въ это не вѣрите...
— А вы вѣрите?
Чекалинъ какъ-то неопредѣленно пожалъ плечами.
— Вы, конечно, церковной литературы не читали, — спросилъ я.
— Откуда?
— Напрасно. Тамъ есть очень глубокая вещи. Вотъ, напримѣръ, — это относится и къ вамъ: "вѣрю, Господи, помоги невѣрію моему"...
— Какъ, какъ вы сказали?
Я повторилъ. Чекалинъ посмотрѣлъ на меня не безъ любопытства...
— Сказано крѣпко. Не зналъ, что попы такія вещи говорить умѣютъ...
— Вы принадлежите къ числу людей, которые не то что вѣрятъ, а скорѣе цѣпляются за вѣру... которая когда-то, вѣроятно, была... И васъ все меньше и меньше. На смѣну вамъ идутъ Якименки, которые ни въ какой рай не вѣрятъ, которымъ на все, кромѣ своей карьеры, наплевать и для которыхъ вы, Чекалинъ, — какъ бѣльмо на глазу... Будущаго не знаемъ — ни вы, ни я. Но пока что — процессъ революціи развивается въ пользу Якименки, а не въ вашу пользу... Люди съ убѣжденіями — какими бы то ни было убѣжденіями — сейчасъ не ко двору. И вы не ко двору. На всякія тамъ ваши революціи, заслуги, стажъ и прочее — Сталину въ высокой степени наплевать. Ему нужно одно — безпрекословные исполнители...
— Я вовсе и не скрываю, что я, конечно, одна изъ жертвъ на пути къ соціализму.
— Это ваше субъективное ощущеніе. А объективно вы пропадете потому, что станете на пути Якименки, на пути аппарата, на путяхъ Сталинскому абсолютизму.
— Позвольте, вѣдь вы сами говорили, что вы — монархистъ, слѣдовательно, вы за абсолютизмъ.
— Самодержавіе не было абсолютизмомъ. И кромѣ того, монархія — не непремѣнно самодержавіе. Русскій же царь, коронуясь, выходилъ къ народу и троекратно кланялся ему въ землю. Это, конечно, символъ, но это кое что значитъ. А вы попробуйте заставить вашего Сталина поклониться народу, въ какомъ угодно смыслѣ. Куда тамъ къ чорту. Вѣдь это — вождь... Геній... Полубогъ... Вы подумайте только, какой жуткій подхалимажъ онъ около себя развелъ. Вѣдь вчуже противно...
— Да. Но Сталинъ — это нашъ стержень. Выдернули царя, и весь старый строй пошелъ къ чорту. Выдерните теперь Сталина, и вся партія пойдетъ къ чорту. У насъ тоже свои Керенскіе есть. Другъ другу въ глотку вцѣпятся.
— Позвольте, а какъ же тогда съ массами? Которыя — какъ это — беззавѣтно преданныя...
— Послушайте, Солоневичъ, бросьте вы демагогію разводить. При чемъ здѣсь массы? Кто и когда съ массами считался? Если массы зашебаршатъ — мы имъ такія салазки загнемъ! Дѣло не въ массахъ, дѣло въ руководство. Вамъ съ Николаемъ Послѣднимъ не повезло — это ужъ, дѣйствительно, не повезло. И намъ со Сталинымъ не везетъ. Дубина, что и говорить... Претъ въ тупикъ полнымъ ходомъ..
— Ага, — сказалъ я, — признаете...
— Да, что ужъ тутъ. Германскую революцію проворонили, китайскую революцію проворонили. Мужика ограбили, рабочаго оттолкнули, партійный костякъ — разгромленъ. А теперь — не дай Богъ — война... Конечно, отъ насъ ни пуха ни пера не останется... Но немного останется и отъ Россіи вообще. Вотъ вы о третьей революціи говорили. А знаете ли вы, что конкретно означаетъ третья революція?
— Приблизительно знаю.
— Ой ли? Пойдетъ мужикъ колхозы дѣлить — дѣлить ихъ будетъ, конечно, съ оглоблями... Возстанутъ всякіе Петлюры и Махно. Разведутся всякія кислокапустянскія республики... Подумать страшно... А вы говорите — третья революція... Эхъ, взялись за гужъ — нужно тянуть, ничего не подѣлаешь. Конечно, вытянемъ ли — очень еще неизвѣстно. Можетъ быть, гужъ окажется и дѣйствительно не подъ силу...
Чекалинъ заглянулъ въ свою плошку, потомъ въ бутылку и, ничего тамъ не обнаруживъ, молча опять полѣзъ подъ кровать, въ чемоданъ.
— Не хватитъ ли? — сказалъ я съ сомнѣніемъ.
— Плюньте, — отвѣтилъ Чекалинъ тономъ, не допускающимъ возраженій. Я и не сталъ допускать возраженій. Чекалинъ пошарилъ по столу.
— Гдѣ это мой спутникъ коммуниста?
Я передалъ ему штопоръ. Чекалинъ откупорилъ бутылку, налилъ стаканъ и плошку, мы хлебнули по глотку и закурили. Такъ мы сидѣли и молчали. По одну сторону стола съ бутылками (общероссійская надпартійная платформа) — каторжникъ и контръ-революціонеръ, по другую — чекистъ и коммунистъ. За окномъ выла вьюга. Мнѣ лѣзли въ голову мысли о великомъ тупикѣ: то слова Маяковскаго о томъ, что "для веселія планета наша плохо оборудована", то фраза Ахматовой — "любитъ, любитъ кровушку русская земля". Чекалину, видимо, тоже что-то лѣзло въ голову. Онъ допилъ свою плошку, всталъ, поднялся, сталъ у окна и уставился въ черную, вьюжную ночь, какъ бы пытаясь увидѣть тамъ какой-то выходъ, какой-то просвѣтъ...
Потомъ онъ молча подошелъ къ столу, снова налилъ наши сосуды, медленно вытянулъ полъ плошки, поставилъ на столъ и спросилъ:
— Скажите, вотъ насчетъ того, что царь кланялся народу, это — въ самомъ дѣлѣ или только выдумано?
— Въ самомъ дѣлѣ. Древній обрядъ...
— Интересно... Пожалуй, наше, какъ вы это говорите, "уважаемое заведеніе" очень правильно оцѣниваетъ настоящую опасность... Можетъ быть, опасность — вовсе не со стороны эсэровъ и меньшевиковъ... Помню — это было, кажется, въ прошломъ году — я работалъ въ Сиблагѣ, около Омска... Прошелъ по деревнямъ слухъ, что какая-то великая княжна гдѣ-то въ батрачкахъ работаетъ... — Чекалинъ снова передернулъ плечами. — Такъ всѣ колхозы опустѣли — мужикъ поперъ на великую княжну смотрѣть... Да... А кто попретъ на соціалиста?.. Чепуха соціалисты — только подъ ногами путались — и у насъ, и у васъ... Да... Но напутали — много... Теперь — чортъ его знаетъ?.. Въ общемъ, что и говорить: очень паршиво все — это... Но вы дѣлаете одну капитальную ошибку... Вы думаете, что когда намъ свернутъ шею — станетъ лучше? Да, хлѣба будетъ больше... Эшелоновъ — не знаю... Вѣдь, во всякомъ случаѣ, милліоновъ пять будутъ драться за Сталина... Значитъ, разница будетъ только въ томъ, что вотъ сейчасъ я васъ угощаю коньякомъ, а тогда, можетъ быть, вы меня будете угощать... въ какомъ-нибудь бѣлогвардейскомъ концлагерѣ... Такъ что особенно весело — оно тоже не будетъ... Но только, вмѣстѣ съ нами, пойдутъ ко всѣмъ чертямъ и всѣ мечты о лучшемъ будущемъ человѣчества... Вылѣзетъ какой-нибудь Гитлеръ — не этотъ, этотъ ерунда, этотъ глубокій провинціалъ... А настоящій, міровой... Какая-нибудь окончательная свинья сядетъ на тронъ этой мечты и поворотитъ человѣчество назадъ, къ среднимъ вѣкамъ, къ папству, къ инквизиціи. Да, конечно, и мы — мы ходимъ по пупъ въ крови... И думаемъ, что есть какое-то небо... А, можетъ, и неба никакого нѣту... Только земля — и кровь до пупа. Но если человѣчество увидитъ, что неба нѣтъ и не было... Что эти милліоны погибли совсѣмъ зря...
Чекалинъ, не переставая говорить, протянулъ мнѣ свою плошку, чокнулся, опрокинулъ въ себя полный стаканъ и продолжалъ взволнованно и сбивчиво:
— Да, конечно, крови оказалось слишкомъ много... И удастся ли переступить черезъ нее — не знаю. Можетъ быть, и не удастся... Насъ — мало... Васъ — много... А подъ ногами — всякіе Стародубцевы... Конечно, насчетъ міровой революціи — это уже пишите письма: проворонили. Теперь бы хоть Россію вытянуть... Что-бъ хоть штабъ міровой революціи остался.
— А для васъ Россія — только штабъ міровой революціи и ничего больше?
— А если она не штабъ революціи, — такъ кому она нужна?
— Многимъ, въ частности, и мнѣ.
— Вамъ?
— Вы заграницей не живали? Попробуйте. И если вы въ этотъ самый штабъ вѣрите, — такъ только потому, что онъ — русскій штабъ. Будь онъ нѣмецкій или китайскій — такъ вы за него гроша ломанаго не дали бы, не то что своей жизни...
Чекалинъ нѣсколько запнулся...
— Да, тутъ, конечно, можетъ быть, вы и правы. Но что же дѣлать — только у насъ, въ нашей партіи, сохранилась идейность, сохранилась общечеловѣческая идея... Западный пролетаріатъ оказался сквалыгой... Наши братскія компартіи — просто набиваютъ себѣ карманы... Мы протянули имъ товарищескую руку, и онѣ протянули намъ товарищескую руку... Только мы имъ протянули — съ помощью, а они — нельзя ли трешку?..
— Давайте поставимъ вопросъ иначе. Никакой пролетаріатъ вамъ руки не протягивалъ. Протягивало всякое жулье — такъ его и въ русской компартіи хоть отбавляй. А насчетъ нынѣшней идейности вашей партіи — позвольте ужъ мнѣ вамъ не повѣрить... Сейчасъ въ ней идетъ голая рѣзня за власть — и больше ничего. Что, у вашего Якименки есть хоть на грошъ идеи? Хоть самой грошевой? Сталинъ нацѣливается на міровую диктатуру, только не на партійную — партійную онъ въ Россіи слопалъ — а на свою собственную. Вѣдь не будете же вы отрицать, что сейчасъ на партійные верхи подбирается въ общемъ — просто сволочь... и ничего больше... Гдѣ Раковскіе, Троцкіе, Рыковы, Томоши?.. Впрочемъ, съ моей точки зрѣнія, — они не многимъ лучше: но все-таки — это, если хотите, фанатики, но идея у нихъ была. А у Сулиманова, Акулова, Литвинова? А о тѣхъ ужъ, кто пониже, — не стоитъ и говорить...
Чекалинъ ничего не отвѣтилъ. Онъ снова налилъ наши сосуды, пошарилъ по столу, подъ газетами. Рѣпа уже была съѣдена, оставалась икра и кислая капуста.
— Да, а на закусочномъ фронтѣ — у насъ прорывъ... Придется подъ капусту... Ну, ничего — зато революція, — кисло усмѣхнулся онъ. — Н-да, революція... Вамъ, видите, ли хорошо стоять въ сторонѣ и зубоскалить... Вамъ что? А вотъ — мнѣ... Я съ шестнадцати лѣтъ въ революціи. Три раза раненъ. Одинъ братъ погибъ на колчаковскомъ фронтѣ — отъ бѣлыхъ... Другой — на деникинскомъ — отъ красныхъ. Отецъ желѣзнодорожникъ померъ, кажется, отъ голода... Вотъ, видите... Жена была... И вотъ — восемнадцать лѣтъ... За восемнадцать лѣтъ — развѣ былъ хоть день человѣчьей жизни? Ни хрѣна не было... Такъ, что вы думаете — развѣ я теперь могу сказать, что вотъ все это зря было сдѣлано, давай, братва, обратно? А такихъ, какъ я, — милліоны...
— Положимъ, далеко уже не милліоны...
— Милліоны... Нѣтъ, товарищъ Солоневичъ, не можемъ повернуть... Да, много сволочи... Что-жъ? Мы и сволочь используемъ. И есть еще у насъ союзникъ — вы его недооцѣниваете.
Я вопросительно посмотрѣлъ на Чекалина...
— Да, крѣпкій союзникъ — буржуазныя правительства... Они на насъ работаютъ. Хотятъ — не хотятъ, а работаютъ... Такъ что, можетъ быть, мы и вылѣземъ — не я, конечно, мое дѣло уже пропащее — вотъ только по эшелонамъ околачиваться.
— Вы думаете, что буржуазными правительствами вы играете, а не они вами?
— Ну, конечно, мы играемъ, — сказалъ Чекалинъ увѣренно. — У насъ въ однихъ рукахъ все: и армія, и политика, и заказы, и экспортъ, и импортъ. Тамъ нажмемъ, тамъ всунемъ въ зубы заказъ. И никакихъ тамъ парламентскихъ запросовъ. Чистая работа..
— Можетъ быть... Плохое и это утѣшеніе: отыграться на организаціи кабака въ міровомъ масштабѣ... Если въ Россіи дѣлается чортъ знаетъ что, то Европа такой марки и вообще не выдержитъ. То, что вы говорите, — возможно. Если Сталинъ досидитъ до еще одной европейской войны — онъ ее, конечно, используетъ. Можетъ быть, онъ ее и спровоцируетъ. Но это будетъ означать гибель всей европейской культуры.
Чекалинъ посмотрѣлъ на меня съ пьяной хитрецой.
— На европейскую культуру намъ, дорогой товарищъ, чхать... Много трудящіяся массы отъ этой культуры имѣли? Много мужикъ и рабочій имѣли отъ вашего царя?
— Не очень много, но, во всякомъ случаѣ, неизмѣримо больше, чѣмъ они имѣютъ отъ Сталина.
— Сталинъ — переходный періодъ. Мы съ вами — тоже переходный періодъ. По Ленину: наступаетъ эпоха войнъ и революцій...
— А вы довольны?
— Всякому человѣку, товарищъ Солоневичъ, хочется жить. И мнѣ — тоже. Хочется, чтобы была баба, что-бъ были ребята, ну и все такое. А разъ нѣтъ — такъ нѣтъ. Можетъ быть, на нашихъ костяхъ — хоть у внуковъ нашихъ это будетъ.
Чекалинъ вдругъ странно усмѣхнулся и посмотрѣлъ на меня, какъ будто сдѣлалъ во мнѣ какое-то открытіе.
— Интересно выходитъ... Дѣтей у меня нѣтъ — такъ что и внуковъ не будетъ. А у васъ сынъ есть. Такъ что выходитъ, въ концѣ концовъ, что я для вашихъ внуковъ стараюсь...
— Охъ, ей-Богу, было бы на много проще, если бы вы занялись своими собственными внуками, а моихъ — предоставили бы моимъ заботамъ. И вашимъ внукамъ было бы легче, и моимъ...
— Ну, объ моихъ нечего и говорить. Насчетъ внуковъ — я уже человѣкъ конченный. Такая жизнь даромъ не проходитъ.
Это признаніе застало меня врасплохъ. Такъ бываетъ, бываетъ очень часто — это я зналъ, но признаются въ этомъ очень немногіе... Вспомнились стихи Сельвинскаго:
Да, отомщеніе, конечно есть... Чекалинъ смотрѣлъ на меня съ такимъ видомъ, какъ будто хотѣлъ сказать: ну что, видалъ? Но во мнѣ, вмѣсто сочувствія, подымалась ненависть — чортъ ихъ возьми совсѣмъ всѣхъ этихъ идеалистовъ, энтузіастовъ, фанатиковъ. Съ желѣзнымъ и тупымъ упорствомъ, изъ вѣка въ вѣкъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе они только тѣмъ и занимаются что портятъ жизнь — и себѣ, и еще больше другимъ... Всѣ эти Торквемады и Саванароллы, Робеспьеры и Ленины... Съ таинственной силой ухватываются за все, что только ни есть самаго идіотскаго въ человѣкѣ, и вотъ — сидитъ передо мною одна изъ такихъ идеалистическихъ душъ — до пупа въ крови (въ томъ числѣ и въ своей собственной)... Онъ, конечно, будетъ переть. Онъ будетъ переть дальше, разрушая всякую жизнь вокругъ себя, принося и другихъ, и себя самого въ жертву религіи организованной ненависти. Есть ли подо всѣмъ этимъ реальная, а не выдуманная любовь — хотя бы къ этимъ пресловутымъ "трудящимся"? Было ли хоть что-нибудь отъ Евангелія въ кострахъ инквизиціи и альбигейскихъ походахъ? И что такое любовь къ человѣчеству? Реальность? Или "сонъ золотой", навѣянный безумцами, которые дѣйствительно любили человѣчество — но человѣчество выдуманное, въ реальномъ мірѣ не существующее... Конечно, Чекалинъ жалокъ — съ его запущенностью, съ его собачьей старостью, одиночествомъ, безперспективностью... Но Чекалинъ вмѣстѣ съ тѣмъ и страшенъ, страшенъ своимъ упорствомъ, страшенъ тѣмъ, что ему, дѣйствительно, ничего не остается, какъ переть дальше. И онъ — попретъ...
Чекалинъ, конечно, не могъ представить себѣ характера моихъ размышленій.
— Да, такъ вотъ видите... А вы говорите — палачи... Ну да, — заторопился онъ, — не говорите, такъ думаете... А что вы думаете — это легко такъ до пупа въ крови ходить?.. Вы думаете — большое удовольствіе работать по концлагерямъ? А вотъ — работаю. Партія послала... Выкорчевываемъ, такъ сказать, остатки капитализма...
Чекалинъ вылилъ въ стаканъ и въ плошку остатки второго литра. Онъ уже сильно опьянѣлъ. Рука его дрожала и голосъ срывался...
— А вотъ, когда выкорчуемъ окончательно — такъ вопросъ: что останется? Можетъ, и въ самомъ дѣлѣ — ничего не останется... Пустая земля. И Кагановича, можетъ, не останется: въ уклонъ попадетъ... А вотъ жизнь была — и пропала. Какъ псу подъ хвостъ. Крышка... Попали мы съ вами, товарищъ, въ передѣлку. Что называется — влипли... Если бы этакъ родиться лѣтъ черезъ сто, да посмотрѣть что изъ этого всего вышло? А если ничего не выйдетъ? Нѣтъ, ну его къ чертямъ — лучше не родиться. А то посмотришь, увидишь: ни черта не вышло. Тогда, что-жъ? Прямо въ петлю... А вотъ, можно было бы жить... могъ бы и сына имѣть — вотъ вродѣ вашего парнишки... Только мой былъ бы помоложе... Да, не повезло... Влипли... Ну что-жъ, давайте, дербалызнемъ... За вашихъ внуковъ. А? За моихъ? — За моихъ не стоитъ — пропащее дѣло...
Выпивъ свою плошку, Чекалинъ неровными шагами направился къ кровати и снова вытянулъ свой чемоданъ. Но на этотъ разъ я былъ твердъ.
— Нѣтъ, товарищъ Чекалинъ, больше не могу — категорически. Хватить — по литру на брата. А мнѣ завтра работать.
— Ни черта вамъ работы не будетъ. Я же сказалъ — эшелоновъ больше не приму.
— Нѣтъ, нужно идти.
— А вы у меня ночевать оставайтесь. Какъ-нибудь устроимся.
— Отпадаетъ. Увидитъ кто-нибудь днемъ, что я отъ васъ вышелъ — получится нехорошо.
— Да, это вѣрно... Вотъ сволочная жизнь пошла...
— Такъ вы же и постарались ее сволочной сдѣлать...
— Это не я. Это эпоха... Что я? Такую жизнь сдѣлали милліоны. Сволочная жизнь... — Ну — ужъ немного ее и осталось. Такъ все-таки уходите? Жаль.
Мы пожали другъ другу руки и подошли къ двери.
— Насчетъ соціалистовъ — вы извините, что я такъ крылъ.
— А мнѣ что? Я не соціалистъ.
— Ахъ, да, я и забылъ... Да все равно — теперь все къ чертовой матери. И соціалисты, и не соціалисты...
— Ахъ, да, постойте, — вдругъ что-то вспомнилъ Чекалинъ и вернулся въ комнату. Я остановился въ нѣкоторой нерѣшимости... Черезъ полминуты Чекалинъ вышелъ съ чѣмъ-то, завернутымъ въ газету, и сталъ запихивать это въ карманъ моего бушлата.
— Это икра, — объяснилъ онъ. — Для парнишки вашего. Нѣтъ, ужъ вы не отказывайтесь... Такъ сказать, для внуковъ, вашихъ внуковъ... Мои — уже къ чортовой матери. Стойте, я вамъ посвѣчу.
— Не надо — увидятъ...
— Правда, не надо... Вотъ... его мать, жизнь пошла...
На дворѣ выла все та же вьюга. Вѣтеръ рѣзко захлопнулъ дверь за мной. Я постоялъ на крыльцѣ, подставляя свое лицо освѣжающимъ порывамъ мятели. Къ галлереѣ жертвъ коммунистической мясорубки прибавился еще одинъ экспонатъ: товарищъ Чекалинъ — стершійся и проржавѣвшій отъ крови винтикъ этой безпримѣрной въ исторіи машины.
ПРОФЕССОРЪ БУТЬКО
Несмотря на вьюгу, ночь и коньякъ, я ни разу не запутался среди плетней и сугробовъ. Потомъ изъ-за пригорка показались освѣщенныя окна УРЧ. Наша импровизированная электростанція работала всю ночь, и въ послѣдніе ночи работала, въ сущности, на насъ двоихъ: Юру и меня. Крестьянскія избы тока не получали, а лагерный штабъ спалъ. Мелькнула мысль о томъ, что надо бы зайти на станцію и сказать, чтобы люди пошли спать. Но раньше нужно посмотрѣть, что съ Юрой.
Дверь въ УРЧ была заперта. Я постучалъ. Дверь открылъ профессоръ Бутько, тотъ самый профессоръ "рефлексологіи", о которомъ я уже говорилъ. Недѣли двѣ тому назадъ онъ добился нѣкотораго повышенія — былъ назначенъ уборщикомъ. Это была "профессія физическаго труда" и, въ числѣ прочихъ преимуществъ, давала ему лишнихъ сто граммъ хлѣба въ день.
Въ первой комнатѣ УРЧ свѣта не было, но ярко пылала печка. Профессоръ стоялъ передо мной въ одномъ рваномъ пиджакѣ и съ кочергой въ рукѣ. Видно было, что онъ только что сидѣлъ у печки и думалъ какія-то невеселыя думы. Его свисающія внизъ хохлацкіе усы придавали ему видъ какой-то унылой безнадежности.
— Пришли потрудиться? — спросилъ онъ съ нѣкоторой ироніей.
— Нѣтъ, хочу посмотрѣть, что тамъ съ сыномъ.
— Спитъ. Только дюже голову себѣ гдѣ-то расквасилъ.
Я съ безпокойствомъ прошелъ въ сосѣднюю комнату. Юра спалъ. Изголовье лежанки было вымазано кровью: очевидно моя папиросная бумага отклеилась. Голова Юры была обвязана чѣмъ-то вродѣ полотенца, а на ногахъ лежалъ бушлатъ: ясно — бушлатъ профессора Бутько. А профессоръ Бутько, вмѣсто того, чтобы лечь спать, сидитъ и топитъ печку, потому что безъ бушлата спать холодно, а никакого другого суррогата одѣяла у Бутько нѣтъ. Мнѣ стало стыдно.
До очень недавняго времени профессоръ Бутько былъ, по его словамъ, преподавателемъ провинціальной средней школы (девятилѣтки). Въ эпоху украинизаціи и "выдвиженія новыхъ научныхъ кадровъ" его произвели въ профессора, что на Совѣтской Руси дѣлается очень легко, беззаботно и никого ни къ чему не обязываетъ. Въ Каменецъ-Подольскомъ педагогическомъ институтѣ онъ преподавалъ ту, не очень ярко очерченную дисциплину, которая называется рефлексологіей. Въ нее, по мѣрѣ надобности, впихиваютъ и педагогику, и профессіональный отборъ, и остатки разгромленной и перекочевавшей въ подполье психологіи, и многое другое. И профессуру, и украинизацію Бутько принялъ какъ-то слишкомъ всерьезъ, не разглядѣвъ за всей этой волынкой самой прозаической и довольно банальной совѣтской халтуры.
Когда политическая надобность въ украинизаціи миновала и лозунгъ о "культурахъ національныхъ — по формѣ и пролетарскихъ — по существу" былъ выброшенъ въ очередную помойную яму — профессоръ Бутько, вкупѣ съ очень многими коллегами своими, поѣхалъ въ концлагерь — на пять лѣтъ и съ очень скверной статьей о шпіонажѣ (58, пунктъ 6). Семью его выслали куда-то въ Сибирь, не въ концлагерь, а просто такъ: дѣлай, что хочешь. Туда же послѣ отбытія срока предстояло поѣхать и самому Бутько, видимо, на вѣчныя времена: живи, дескать, и плодись, а на Украину и носа не показывай. Перспектива никогда больше не увидать своей родины угнетала Бутько больше, чѣмъ пять лѣтъ концлагеря.
Профессоръ Бутько, какъ и очень многое изъ самостійныхъ малыхъ сихъ, былъ твердо убѣжденъ въ томъ, что Украину разорили, а его выслали въ концлагерь не большевики, а "кацапы". На эту тему мы съ нимъ какъ-то спорили, и я сказалъ ему, что я прежде всего никакъ не кацапъ, а стопроцентный бѣлоруссъ, что я очень радъ, что меня учили русскому языку, а не бѣлорусской мовѣ, что Пушкина не замѣняли Янкой Купалой и просторовъ Имперіи — уѣзднымъ патріотизмомъ "съ сеймомъ у Вильни, або у Минску", и что, въ результатѣ всего этого, я не выросъ такимъ олухомъ Царя Небеснаго, какъ хотя бы тотъ же профессоръ Бутько.
Не люблю я, грѣшный человѣкъ, всѣхъ этихъ культуръ мѣстечковаго масштаба, всѣхъ этихъ попытокъ разодрать общерусскую культуру — какая она ни на есть — въ клочки всякихъ кисло-капустянскихъ сепаратизмовъ. Но фраза объ олухѣ Царя Небеснаго была сказана и глупо, и грубо. Глупо — потому что проф. Бутько, какъ онъ ни старался этого скрыть, былъ воспитанъ на томъ же Пушкинѣ, грубо потому, что олухомъ Царя Небеснаго Бутько, конечно, не былъ — онъ былъ просто провинціальнымъ романтикомъ. Но въ каторжной обстановкѣ УРЧ и прочаго не всегда хватало силъ удержать свои нервы въ уздѣ. Бутько обидѣлся — и онъ былъ правъ. Я не извинился — и я былъ неправъ. Дальше — пошло еще хуже. А вотъ — сидитъ человѣкъ и не спитъ — потому, что прикрылъ своимъ бушлатомъ кацапскаго юношу.
— Зачѣмъ же вы это, товарищъ Бутько? Возьмите свой бушлатъ. Я сбѣгаю въ палатку и принесу одѣяло...
— Да не стоитъ. Уже развидняться скоро будетъ. Вотъ сижу у печки и грѣюсь... Хотите въ компанію?
Спать мнѣ не хотѣлось. И отъ необычнаго возбужденія, вызваннаго коньякомъ и разговоромъ съ Чекалинымъ, и отъ дикой нервной взвинченности, и отъ предчувствія жестокой нервной реакціи послѣ этихъ недѣль безмѣрнаго нервнаго напряженія.
Мы усѣлись у печки. Бутько съ недоумѣніемъ повелъ носомъ. Я полѣзъ въ карманъ за махоркой. Махорки не оказалось: вотъ досада — вѣроятно, забылъ у Чекалина. А можетъ быть, затесалась подъ свертокъ съ икрой. Вытащилъ свертокъ. Газетная бумага разлѣзлась, и сквозь ея дыры виднѣлись комки икры. Подъ икрой оказался еще одинъ неожиданный подарокъ Чекалина — три коробки папиросъ "Тройка", которыя продаются только въ самыхъ привиллегированныхъ "распредѣлителяхъ" и по цѣнѣ двадцать штукъ — семь съ полтиной. Я протянулъ Бутько папиросы. Въ его глазахъ стояло подозрительное недоумѣніе. Онъ взялъ папиросу и нерѣшительно спросилъ:
— И гдѣ-жъ это вы, И. Л., такъ наклюкались?
— А что, замѣтно?
— Что-бъ очень — такъ нѣтъ. А духъ идетъ. Духъ, нужно сказать, добрый, вродѣ какъ коньякъ?
— Коньякъ.
Бутько вздохнулъ.
— А все потому, что вы — великодержавный шовинистъ. Свой своему — поневолѣ братъ. Всѣ вы москали — имперіалисты: и большевики, и меньшевики, и монархисты, и кто его знаетъ, кто еще. Это у васъ въ крови.
— Я вѣдь вамъ говорилъ, что великорусской крови у меня ни капли нѣтъ...
— Значитъ — заразились. Имперіализмъ — онъ прилипчивый.
— Лѣтописецъ писалъ о славянахъ, что они любятъ "жить розно". Вотъ это, пожалуй, — въ крови. Можете вы себѣ представить нѣмца, воюющаго изъ-за какой-нибудь баварской самостійности? А вѣдь языкъ баварскаго и прусскаго крестьянина отличаются больше, чѣмъ языкъ великорусскаго и украинскаго.
— Что хорошаго въ томъ, что Пруссія задавила всю Германію?
— Для насъ — ничего. Есть рискъ, что, скажемъ, Украину слопаютъ такъ же, какъ въ свое время слопали полабскихъ и другихъ прочихъ славянъ.
— Разъ ужъ такое дѣло — пусть лучше нѣмцы лопаютъ. Мы при нихъ, по крайней мѣрѣ, не будемъ голодать, да по лагерямъ сидѣть. Для насъ ваши кацапы — хуже татарскаго нашествія. И при Батыѣ такъ не было.
— Развѣ при царскомъ режимѣ кто-нибудь на Украинѣ голодалъ?
— Голодать — не голодалъ, а давили нашъ народъ, душили нашу культуру. Это у васъ въ крови, — съ хохлацкимъ упрямствомъ повторялъ Бутько. — Не васъ лично, вы ренегатъ, отщепенецъ отъ своего народа.
Я вспомнилъ о бушлатѣ и сдержался...
— Будетъ, Тарасъ Яковлевичъ, говорить такъ: вотъ у меня въ Бѣлоруссіи живутъ мои родичи — крестьяне. Если я считаю, что вотъ лично мнѣ русская культура — общерусская культура, включая сюда и Гоголя, — открыла дорогу въ широкій міръ — почему я не имѣю права желать той же дороги и для моихъ родичей... Я часто и подолгу живалъ въ бѣлорусской деревнѣ, и мнѣ никогда и въ голову не приходило, что мои родичи — не русскіе. И имъ — тоже. Я провелъ лѣтъ шесть на Украинѣ — и сколько разъ мнѣ случалось переводить украинскимъ крестьянамъ газеты и правительственныя распоряженія съ украинскаго языка на русскій — на русскомъ имъ было понятнѣе.
— Ну, ужъ это вы, И. Л., заливаете.
— Не заливаю. Самъ Скрыпникъ принужденъ былъ чистить оффиціальный украинскій языкъ отъ галлицизмомъ, которые на Украинѣ никому, кромѣ спеціалистовъ, непонятны. Вѣдь это не языкъ Шевченки.
— Конечно, развѣ подъ московской властью могъ развиваться украинскій языкъ?
— Могъ ли или не могъ — это дѣло шестнадцатое... А сейчасъ и бѣлорусская, и украинская самостійность имѣютъ въ сущности одинъ, правда невысказываемый, можетъ быть, даже и неосознанный доводъ: сколько министерскихъ постовъ будетъ организовано для людей, которые, по своему масштабу, на общерусскій министерскій постъ никакъ претендовать не могутъ... А мужику — бѣлорусскому и украинскому — эти лишніе министерскіе, посольскіе и генеральскіе посты ни на какого чорта не нужны. Онъ за вами не пойдетъ. Опытъ былъ. Кто пошелъ во имя самостійности за Петлюрой? Никто не пошелъ. Такъ и остались: "въ вагонѣ — директорія, а подъ вагономъ — территорія".
— Сейчасъ пойдутъ всѣ.
— Пойдутъ. Но не противъ кацаповъ, а противъ большевиковъ.
— Пойдутъ противъ Москвы.
— Противъ Москвы сейчасъ пойдутъ. Противъ русскаго языка — не пойдутъ. Вотъ и сейчасъ украинскій мужикъ учиться по-украински не хочетъ, говоритъ, что большевики нарочно не учатъ его "паньской мовѣ", чтобы онъ мужикомъ и остался.
— Народъ еще не сознателенъ.
— До чего это всѣ вы сознательные — и большевики, и украинцы, и меньшевики, и эсэры. Всѣ вы великолѣпно сознаете, что нужно мужику — вотъ только онъ самъ ничего не сознаетъ. Вотъ еще — тоже сознательный дядя... (Я хотѣлъ было сказать о Чекалинѣ, но во время спохватился)... Что ужъ "сознательнѣе" коммунистовъ. Они, правда, опустошатъ страну, но вѣдь это дѣлается не какъ-нибудь, а на базѣ самой современной, самой научной соціологической теоріи...
— А вы не кирпичитесь.
— Какъ это не кирпичиться... Сидимъ мы съ вами, слава тебѣ Господи, въ концлагерѣ — такъ намъ-то есть изъ-за чего кирпичиться... И если ужъ здѣсь мы не поумнѣемъ, не разучимся "жить розно", такъ насъ всякая сволочь будетъ по концлагерямъ таскать... Любители найдутся...
— Если вы доберетесь до власти — вы тоже будете въ числѣ этихъ любителей.
— Я — не буду. Говорите на какомъ хотите языкѣ и не мѣшайте никому говорить на какомъ онъ хочетъ. Вотъ и все.
— Это не подходитъ... Въ Москвѣ говорите — на какомъ хотите. А на Украинѣ — только по-украински.
— Значитъ, — нужно заставить?
— Да, на первое время нужно заставить.
— Большевики тоже — "на первое время заставляютъ".
— Мы боремся за свое, за свою хату. Въ вашей хатѣ дѣлайте, что вамъ угодно, а въ нашу — не лѣзьте...
— А въ чьей хатѣ жилъ Гоголь?
— Гоголь — тоже ренегатъ, — угрюмо сказалъ Бутько.
Дискуссія была и ненужной, и безнадежной... Бутько — тоже одинъ изъ "мучениковъ идеи", изъ тѣхъ, кто во имя идеи подставляютъ свою голову, а о чужихъ — уже и говорить не стоитъ. Но Бутько еще не дошелъ до чекалинскаго прозрѣнія. Ему еще не случалось быть побѣдителемъ, и для него грядущая самостійность — такой же рай земной, какимъ въ свое время была для Чекалина "побѣда трудящихся классовъ".
— Развѣ при какомъ угодно строѣ самостоятельной Украины возможно было бы то, что тамъ дѣлается сейчасъ? — сурово спросилъ Бутько. — Украина для всѣхъ васъ это только хинтерляндъ для вашей имперіи, бѣлой или красной — это все равно. Конечно, того, что у насъ дѣлаетъ красный имперіализмъ, царскому и въ голову не приходило... Нѣтъ, съ Москвой своей судьбы мы связывать не хотимъ. Слишкомъ дорого стоитъ... Нѣтъ, Россіи — съ насъ хватитъ. Мы получили отъ нея крѣпостное право, на нашемъ хлѣбѣ строилась царская имперія, а теперь строится сталинская. Хватитъ. Буде. У насъ, на Украинѣ, теперь уже и пѣсенъ не спѣваютъ... Такъ. А нашъ народъ — кто въ Сибири, кто тутъ, въ лагерѣ, кто на томъ свѣтѣ...
Въ голосѣ Бутько была великая любовь къ своей родинѣ и великая боль за ея нынѣшнія судьбы. Мнѣ было жаль Бутько — но чѣмъ его утѣшить?..
— И въ лагеряхъ, и на томъ свѣтѣ — не одни украинцы. Тамъ и ярославцы, и сибиряки, и бѣлоруссы...
Но Бутько какъ будто и не слыхалъ моихъ словъ...
— А у насъ сейчасъ степи цвѣтутъ... — сказалъ онъ, глядя на догорающій огонь печки...
Да, вѣдь, начало марта. Я вспомнилъ о степяхъ — онѣ дѣйствительно сейчасъ начинаютъ цвѣсти. А здѣсь мечется вьюга... Нужно все-таки пойти хоть на часъ уснуть...
— Да, такое дѣло, И. Л., — сказалъ Бутько. — Наши споры — недолгіе споры. Все равно — всѣ въ одинъ гробъ ляжемъ — и хохолъ, и москаль, и жидъ... И даже не въ гробъ, а такъ, просто въ общую яму.
ЛИКВИДАЦІЯ
ПРОБУЖДЕНІЕ
Я добрался до своей палатки и залѣзъ на нары. Хорошо бы скорѣе заснуть. Такъ неуютно было думать о томъ, что черезъ часъ-полтора дневальный потянетъ за ноги и скажетъ:
— Товарищъ Солоневичъ, въ УРЧ зовутъ...
Но не спалось. Въ мозгу бродили обрывки разговоровъ съ Чекалинымъ, волновало сдержанное предостереженіе Чекалина о томъ, что Якименко что-то знаетъ о нашихъ комбинаціяхъ. Всплывало помертвѣвшее лицо Юры и сдавленная ярость Бориса. Потомъ изъ хаоса образовъ показалась фигурка Юрочки — не такого, какимъ онъ сталъ сейчасъ, а маленькаго, кругленькаго и чрезвычайно съѣдобнаго. Своей мягенькой лапкой онъ тянетъ меня за носъ, а въ другой лапкѣ что-то блеститъ:
— Ватикъ, Ватикъ, надѣнь очки, а то тебѣ холодно...
Да... А что съ нимъ теперь стало? И что будетъ дальше?
Постепенно мысли стали путаться...
Когда я проснулся, полоска яркаго солнечнаго свѣта прорѣзала полутьму палатки отъ двери къ печуркѣ. У печурки, свернувшись калачикомъ и накрывшись какимъ-то тряпьемъ, дремалъ дневальный. Больше въ палаткѣ никого не было. Я почувствовалъ, что, наконецъ, выспался, и что, очевидно, спалъ долго. Посмотрѣлъ на часы, часы стояли. Съ чувствомъ пріятнаго освѣженія во всемъ тѣлѣ я растянулся и собирался было подремать еще: такъ рѣдко это удавалось. Но внезапно вспыхнула тревожная мысль: что-то случилось!.. Почему меня не будили? Почему въ палаткѣ никого нѣтъ? Что съ Юрой?
Я вскочилъ со своихъ наръ и пошелъ въ УРЧ. Стоялъ ослѣпительный день. Нанесенный вьюгой новый снѣгъ рѣзалъ глаза... Вѣтра не было. Въ воздухѣ была радостная морозная бодрость.
Дверь въ УРЧ была распахнута настежь: удивительно! Еще удивительнѣе было то, что я увидѣлъ внутри: пустыя комнаты, ни столовъ, ни пишущихъ машинокъ, ни "личныхъ дѣлъ"... Обломки досокъ, обрывки бумаги, въ окнахъ — повынуты стекла. Сквозняки разгуливали по урчевскимъ закоулкамъ, перекатывая изъ угла въ уголъ обрывки бумаги. Я поднялъ одну изъ нихъ. Это былъ "зачетный листокъ" какого-то вовсе неизвѣстнаго мнѣ Сидорова или Петрова: здѣсь, за подписями и печатями, было удостовѣрено, что за семь лѣтъ своего сидѣнья этотъ Сидоровъ или Петровъ заработалъ что-то около шестисотъ дней скидки. Такъ... Потеряли, значитъ, бумажку, а вмѣстѣ съ бумажкой потеряли почти два года человѣческой жизни... Я сунулъ бумажку въ карманъ. А все-таки — гдѣ же Юра?
Я побѣжалъ въ палатку и разбудилъ дневальнаго.
— Такъ воны съ вашимъ братомъ гулять пошли.
— А УРЧ?
— Такъ УРЧ же эвакуировались. Уси чисто уѣхавши.
— И Якименко?
— Такъ, я-жъ кажу — уси. Позабирали свою бумагу, тай уихали...
Болѣе толковой информаціи отъ дневальнаго добиться было, видимо, нельзя. Но и этой было пока вполнѣ достаточно. Значитъ, Чекалинъ сдержалъ свое слово, эшелоновъ больше не принялъ, а Якименко, собравъ свои "бумаги" и свой активъ, свернулъ удочки и уѣхалъ въ Медгору. Интересно, куда дѣлся Стародубцевъ? Впрочемъ, мнѣ теперь плевать на Стародубцева.
Я вышелъ во дворъ и почувствовалъ себя этакимъ калифомъ на часъ или, пожалуй, даже на нѣсколько часовъ.
Дошелъ до берега рѣки. Направо, въ верстѣ, надъ обрывомъ, спокойно и ясно сіяла голубая луковка деревенской церкви. Я пошелъ туда. Тамъ оказалось сельское кладбище, раскинутое надъ далями, надъ "вѣчнымъ покоемъ". Что-то левитановское было въ блѣдныхъ прозрачныхъ краскахъ сѣверной зимы, въ приземистыхъ соснахъ съ нахлобученными снѣжными шапками, въ пустой звонницѣ старенькой церковушки, откуда колокола давно уже были сняты для какой-то очередной индустріализаціи, въ запустѣлости, заброшенности, безлюдности. Въ разбитыя окна церковушки влетали и вылетали дѣловитые воробьи. Подъ обрывомъ журчали незамерзающія быстрины рѣки. Вдалекѣ густой, грозной синевой село обкладывали тяжелые, таежные карельскіе лѣса — тѣ самые, черезъ которые...
Я сѣлъ въ снѣгъ надъ обрывомъ, закурилъ папиросу, сталъ думать. Несмотря на то, что УРЧ, Якименко, БАМ, тревога и безвыходность уже кончились — думы были невеселыя.
Я въ сотый разъ задавалъ себѣ вопросъ — такъ какъ-же это случилось такъ, что вотъ намъ троимъ, и то только въ благопріятномъ случаѣ, придется волчьими тропами пробираться черезъ лѣса, уходить отъ преслѣдованія оперативниковъ съ ихъ ищейками, вырываться изъ облавъ, озираться на каждый кустъ — нѣтъ ли подъ нимъ секрета, прорываться черезъ пограничныя заставы, рисковать своей жизнью каждую секунду, и все это только для того, чтобы уйти со своей родины. Или — разсматривая вопросъ съ нѣсколько другой точки зрѣнія — реализовать свое, столько разъ уже прокламированное всякими соціалистическими партіями и уже такъ основательно забытое, право на свободу передвиженія... Какъ это все сложилось и какъ это все складывалось? Были ли мы трое ненужными для нашей страны, безталанными, безполезными? Были ли мы "антисоціальнымъ элементомъ", нетерпимымъ въ благоустроенномъ человѣческомъ обществѣ"?
Вспомнилось, какъ какъ-то ночью въ УРЧ, когда мы остались одни и Борисъ пришелъ помогать намъ перестукивать списки эшелоновъ и выискивать въ картотекѣ "мертвыя души", Юра, растирая свои изсохшіе пальцы, сталъ вслухъ мечтать о томъ — какъ бы хорошо было драпануть изъ лагеря — прямо куда-нибудь на Гавайскіе острова, гдѣ не будетъ ни войнъ, ни ГПУ, ни каталажекъ, ни этаповъ, ни классовой, ни надклассовой рѣзни. Борисъ оторвался отъ картотеки и сурово сказалъ:
— Рано ты собираешься отдыхать, Юрчикъ. Драться еще придется. И крѣпко драться...
Да, конечно, Борисъ былъ правъ: драться придется... Вотъ — не додрались въ свое время... И вотъ — разстрѣлы, эшелоны, дѣвочка со льдомъ. Но мнѣ не очень хочется драться...
Въ этомъ мірѣ, въ которомъ жили вѣдь и Ньютонъ и Достоевскій, живутъ вѣдь Эйнштейнъ и Эдиссонъ — еще не успѣли догнить милліоны героевъ міровой войны, еще гніютъ десятки милліоновъ героевъ и жертвъ соціалистической рѣзни, — а безчисленные sancta simplicitas уже сносятъ охапки дровъ, оттачиваютъ штыки и устанавливаютъ пулеметы для чужаковъ по партіи, подданству, формѣ носа... И каждый такой простецъ, вѣроятно, искренне считаетъ, что въ распоротомъ животѣ ближняго сидитъ отвѣтъ на всѣ нехитрые его, простеца, вопросы и нужды!..
Такъ было, такъ, вѣроятно, еще долго будетъ. Но въ Совѣтской Россіи все это приняло формы — уже совсѣмъ невыносимыя: какъ гоголевскіе кожаные канчуки въ большомъ количествѣ — вещь нестерпимая. Евангеліе ненависти, вколачиваемое ежедневно въ газетахъ и ежечасно — по радіо, евангеліе ненависти, вербующее своихъ адептовъ изъ совсѣмъ уже несусвѣтимой сволочи... нѣтъ, просто — какіе тамъ ужъ мы ни на есть — а жить стало невмоготу... Годъ тому назадъ побѣгъ былъ такою же необходимостью, какъ и сейчасъ. Нельзя было намъ жить. Или, какъ говаривала моя знакомая:
— Дядя Ваня, вѣдь здѣсь дышать нечѣмъ...
Кто-то рѣзко навалился на меня сзади, и чьи-то руки плотно обхватили меня поперекъ груди. Въ мозгу молніей вспыхнулъ ужасъ, и такою же молніей инстинктъ, условный рефлексъ, выработанный долгими годами спорта, бросилъ меня внизъ, въ обрывъ. Я не сталъ сопротивляться: мнѣ нужно только помочь нападающему, т.е. сдѣлать то, чего онъ никакъ не ожидаетъ. Мы покатились внизъ, свалились въ какой-то сугробъ. Снѣгъ сразу залѣпилъ лицо и, главное, очки. Я такъ же инстинктивно уже нащупалъ ногу напавшаго и подвернулъ подъ нее свое колѣно: получается страшный "ключъ", ломающій ногу, какъ щепку... Сверху раздался громкій хохотъ Бориса, а надъ своимъ ухомъ я разслышалъ натужное сопѣніе Юрочки... Черезъ нѣсколько секундъ Юра лежалъ на обѣихъ лопаткахъ.
Я былъ раздраженъ до ярости. Конечно, дружеская драка давно уже вошла въ традиціи нашего, какъ когда-то говорилъ Юра, "развеселаго семейства" этакимъ веселымъ, жизнерадостнымъ, малость жеребячьимъ обрядомъ. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ для Юрочки не было большаго удовольствіи, какъ подраться со своимъ собственнымъ отцомъ — и послѣ получаса возни взобраться на отцовскій животъ и пропищать: "сдаешься?" Но это было на волѣ. А здѣсь, въ лагерѣ? Въ состояніи такой дикой нервной напряженности? Что было бы, если бы Бобинъ смѣхъ я услыхалъ на полминуты позже?
Но у Юры былъ такой сіяющій видъ, онъ былъ такъ облѣпленъ снѣгомъ, ему было такъ весело послѣ всѣхъ этихъ урчевскихъ ночей, БАМа, списковъ, эшелоновъ и прочаго, жеребенкомъ поваляться въ снѣгу, что я только вздохнулъ. За столько мѣсяцевъ — первый проблескъ юности и жизнерадостности: зачѣмъ я буду портить его?
Прочистили очки, выковыряли снѣгъ изъ-за воротовъ и изъ рукавовъ и поползли наверхъ. Борисъ протянулъ свою лапу и съ мягкой укоризной сказалъ Юрѣ:
— А все-таки, Юрчикъ, такъ дѣлать не полагается. Жаль, что я не успѣлъ тебя перехватить.
— А что тутъ особеннаго? Что, у Ватика разрывъ сердца будетъ?
— Съ Ванинымъ сердцемъ ничего не будетъ, а вотъ съ твоей рукой или ребрами можетъ выйти что-нибудь вродѣ перелома — развѣ Ва могъ знать, кто на него нападаетъ? Мы вѣдь въ лагерѣ, а не въ Салтыковкѣ...
Юра былъ нѣсколько сконфуженъ, но солнце сіяло слишкомъ ярко, чтобы объ этомъ инцидентѣ стоило говорить...
Мы усѣлись въ снѣгъ, и я сообщилъ о своей ночной бесѣдѣ съ Чекалинымъ, которая, впрочемъ, актуальнаго интереса теперь уже не представляла. Борисъ и Юра сообщили мнѣ слѣдующее:
Я, оказывается, проспалъ больше сутокъ. Вчера утромъ Чекалинъ со своимъ докторомъ пришелъ на погрузочный пунктъ, провѣрилъ десятка три этапниковъ, составилъ актъ о томъ, что ББК подсовываетъ ему людей, уже дважды снятыхъ съ этаповъ по состоянію здоровья, сѣлъ въ поѣздъ и уѣхалъ, оставивъ Якименку, такъ сказать, съ разинутымъ ртомъ. Якименко забралъ своихъ медгорскихъ спеціалистовъ, урчевскій активъ, личныя дѣла, машинки и прочее — и изволилъ отбыть въ Медгору. О насъ съ Юрой никто почему-то и не заикался: то-ли потому, что мы еще не были оффиціально проведены въ штатъ УРЧ, то-ли потому что Якименко предпочелъ въ дальнѣйшемъ нашими просвѣщенными услугами не пользоваться. Остатки подпорожскаго отдѣленія какъ будто будутъ переданы сосѣднему съ нимъ Свирьскому лагерю (границы лагерей на окраинахъ проведены съ такой-же точностью, какъ раньше были проведены границы губерній; на картахъ этихъ лагерныхъ границъ, конечно, нѣтъ). Возникала проблема: слѣдуетъ ли намъ "съоріентироваться" такъ, чтобы остаться здѣсь, за Свирьлагомъ, или попытаться перебраться на сѣверъ, въ ББК, куда будетъ переправлена часть оставшагося административнаго персонала подпорожскаго отдѣленія?.. Но тамъ будетъ видно. "Довлѣетъ дневи злоба его". Пока что свѣтитъ солнышко, на душѣ легко и оптимистично, въ карманѣ лежитъ еще чекалинская икра — словомъ carpe diem. Чѣмъ мы и занялись.
ЛИКВИДКОМЪ
Нѣсколько дней мы съ Юрой болтались въ совсѣмъ неприкаянномъ видѣ. Комендатура пока что выдавала намъ талончики на обѣдъ и хлѣбъ, дрова для опустѣлой палатки мы воровали на электростанціи. Юра, пользуясь свободнымъ временемъ, приноровился ловить силками воронъ въ подкрѣпленіе нашему лагерному меню... Борисъ возился со своими амбулаторіями, больницами и слабосилками.
Черезъ нѣсколько дней выяснилось, что Подпорожье дѣйствительно передается Свирьлагу, и на мѣстѣ Подпорожскаго "штаба" возникъ ликвидаціонный комитетъ во главѣ съ бывшимъ начальникомъ отдѣленія тов. Видеманомъ, массивнымъ и мрачнымъ мужчиной съ объемистымъ животомъ и многоэтажнымъ затылкомъ, несмотря на свои 30-35 лѣтъ.
Я смотрѣлъ на него и думалъ, что этотъ-то до импотенціи не дойдетъ, какъ дошелъ Чекалинъ. Этому пальца въ ротъ не клади.
Управляющимъ дѣлами ликвидкома была милая женщина, Надежда Константиновна, жена заключеннаго агронома, бывшаго коммуниста и бывшаго замѣстителя наркома земледѣлія, я уже не помню какой республики. Сама она была вольно-наемной.
Мы съ Юрой приноровились въ этотъ ликвидкомъ на скромныя амплуа "завпишмашечекъ". Отъ планово-экономическихъ и литературно-юридическихъ перспективъ я ухитрился уклониться: хватитъ. Работа въ ликвидкомѣ была тихая. Работали ровно десять часовъ въ сутки, были даже выходные дни. Спѣшить было некому и некуда.
И вотъ я сижу за машинкой и подъ диктовку представителей ликвидаціонной комиссіи ББК и пріемочной комиссіи Свирьлага мирно выстукиваю безконечныя вѣдомости:
"Баракъ № 47, дощатый, въ вагонку... кубатура 50 Х 7,50 Х 3,2 м. Полы настланные, струганые... дверей плотничной работы — 1, оконъ плотничной работы, застекленныхъ — 2...
Никакого барака № 47 въ природѣ давно уже не существуетъ: онъ пошелъ въ трубу, въ печку со всей своей кубатурой, окнами и прочимъ въ тѣ дни, когда ББК всучивалъ БАМу мертвыя или, какъ дипломатично выражался Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, "какъ бы несуществующія" души... Теперь ББК всучиваетъ и Свирьлагу несуществующіе бараки. Представители Свирьлага съ полной серьезностью подписываютъ эти чичиковскія вѣдомости. Я молчу. Мнѣ какое дѣло...
Принявъ этакимъ манеромъ половину Подпорожскаго отдѣленія, свирьлаговцы, наконецъ, спохватились. Пріѣхала какая-то свирьлаговская бригада и проявила необычайную прозорливость: поѣхала на Погру и обнаружила, что бараковъ, принятыхъ Свирьлагомъ, уже давно и въ поминѣ нѣтъ. Затѣмъ произошелъ такой приблизительно діалогъ:
ББК: Знать ничего не знаемъ. Подписали пріемочный актъ — ну, и расхлебывайте.
Свирьлагъ: Мы принимали только по описи, а не въ натурѣ. Тѣхъ кто принималъ, посадимъ, а акты считаемъ аннулированными.
ББК: Ну, и считайте. Акты — у насъ, и конченъ балъ.
Свирьлагъ: Мы васъ на чистую воду выведемъ.
ББК: Знать ничего не знаемъ. У насъ бараки по описямъ числятся; мы ихъ по описямъ и сдать должны. А вы тоже кому-нибудь передайте. Такъ оно и пойдетъ.
Свирьлагъ: А кому мы будемъ передавать?
ББК: Ну, ужъ это дѣло ваше — выкручивайтесь, какъ знаете.
Ну, и такъ далѣе. Обѣ тяжущіяся стороны поѣхали жаловаться другъ на друга въ Москву, въ ГУЛАГ (опять же и командировочныя перепадаютъ)... Мы съ Юрой за это время наслаждались полнымъ бездѣльемъ, первыми проблесками весны и даже посылками. Послѣ ликвидаціи почтово-посылочной экспедиціи лагеря, посылки стали приходить по почтѣ. А почта, не имѣя еще достаточной квалификаціи, разворовывала ихъ робко и скромно: кое-что оставалось и намъ...
Потомъ изъ Москвы пришелъ приказъ: принимать по фактическому наличію. Стали принимать по фактическому наличію — и тутъ ужъ совсѣмъ ничего нельзя было разобрать. Десятки тысячъ топоровъ, пилъ, ломовъ, лопатъ, саней и прочаго лежали погребенными подъ сугробами снѣга гдѣ-то на лѣсосѣкахъ, на карьерахъ, гдѣ ихъ побросали охваченные бамовской паникой лагерники. Существуютъ ли эти пилы и прочее въ "фактическомъ наличіи" или не существуютъ? ББК говоритъ: существуютъ — вотъ, видите, по описи значится. Свирьлагъ говоритъ: знаемъ мы ваши описи. ББК: ну, такъ вѣдь это пилы — не могли же онѣ сгорѣть? Свирьлагъ: ну, знаете, у такихъ жуликовъ, какъ вы, и пилы горѣть могутъ...
Было пять локомобилей. Два взорванныхъ и одинъ цѣлый (на электростанціи) — на лицо. Недостающихъ двухъ никакъ не могутъ найти. Какъ будто бы не совсѣмъ иголки, а вотъ искали, искали, да такъ и не нашли. Свирьлагъ говоритъ: вотъ видите — ваши описи. ББК задумчиво скребетъ затылокъ: надо полагать, БАМовская комиссія сперла — ужъ такое жулье въ этой комиссіи. Свирьлагъ: чего ужъ скромничать, такого жулья, какъ въ ББК...
Экскаваторъ, сброшенный въ Свирь, приняли, какъ "груду желѣзнаго лома, вѣсомъ около трехсотъ тоннъ". Приняли и нашу электростанцію, генераторъ и локомобиль, и какъ только приняли, сейчасъ же погрузили Подпорожье въ полный мракъ: не зазнавайтесь, теперь мы хозяева. Керосину не было, свѣчей и тѣмъ болѣе. Вечерами работать было нечего. Мы, по причинѣ "ликвидаціи" нашей палатки, перебрались въ пустующую карельскую избу и тихо зажили тамъ. Дрова воровали не на электростанціи — ибо ея уже не было, — а въ самомъ ликвидкомѣ. Кто-то изъ ББК поѣхалъ въ Москву жаловаться на Свирьлагъ. Кто-то изъ Свирьлага поѣхалъ въ Москву жаловаться на ББК. Изъ Москвы телеграмма: "станцію пустить". А за это время Свирьлагъ ухитрился уволочь куда-то генераторъ. Опять телеграммы, опять командировки. Изъ Москвы приказъ: станцію пустить подъ чью-то личную отвѣтственность. Въ случаѣ невозможности — перейти на керосиновое освѣщеніе. Въ Москву телеграмма: "просимъ приказа о внѣплановой и внѣочередной отгрузкѣ керосина"...
Дѣло о выѣденномъ яйцѣ начинало пріобрѣтать подлинно большевицкій размахъ.
СУДЬБЫ ЖИВОГО ИНВЕНТАРЯ
Съ передачей живого инвентаря Подпорожья дѣло шло и труднѣе, и хуже: Свирьлагъ не безъ нѣкотораго основанія исходилъ изъ того предположенія, что если даже такое жулье, какъ ББК, не сумѣло всучить этотъ живой инвентарь БАМу, то, значитъ, этотъ инвентарь дѣйствительно никуда не годится: зачѣмъ же Свирьлагу взваливать его себѣ на шею и подрывать свой "хозяйственный расчетъ". ББК, съ вороватой спѣшкой и съ ясно выраженнымъ намѣреніемъ оставить Свирьлагу одну слабосилку, перебрасывалъ на сѣверъ тѣхъ людей, которые не попали на БАМ "по соціальнымъ признакамъ", т.е. относительно здоровыхъ. Свирьлагъ негодовалъ, слалъ въ Москву телеграммы и представителей, а пока что выставилъ свои посты въ уже принятой части Подпорожья. ББК же въ отместку поставило свои посты на остальной территоріи отдѣленія. Этотъ междувѣдомственный мордобой выражался, въ частности, въ томъ, что свирьлаговскіе посты перехватывали и арестовывали ББКовскихъ лагерниковъ, а ББКовскіе — свирьлаговскихъ. Въ виду того, что весь ВОХР былъ занять этимъ увлекательнымъ вѣдомственнымъ спортомъ, ямы, въ которыхъ зимою были закопаны павшія отъ вѣточнаго корма и отъ другихъ соціалистическихъ причинъ лошади, — остались безъ охраны — и это спасло много лагерниковъ отъ голодной смерти.
ББК считалъ, что онъ уже сдалъ "по описямъ" подпорожское отдѣленіе. Свирьлагъ считалъ, что онъ его "по фактической наличности" еще не принялъ. Поэтому лагерниковъ норовили не кормить ни Свирьлагъ, ни ББК. Оба, ругаясь и скандаля, выдавали "авансы" то за счетъ другъ друга, то за счетъ ГУЛАГа. Случалось такъ, что на какомъ-нибудь засѣданіи въ десять-одиннадцать часовъ вечера, послѣ того, какъ аргументы обѣихъ сторонъ были исчерпаны, выяснялось, что на завтра двадцать тысячъ лагерниковъ кормить рѣшительно нечѣмъ. Тогда летѣли радіо въ Медгору и въ Лодейное Поле (свирьлаговская столица), телеграммы-молніи — въ Москву, и черезъ день изъ Петрозаводска, изъ складовъ коопераціи доставлялся хлѣбъ. Но день или два лагерь ничего не ѣлъ, кромѣ дохлой конины, которую лагерники вырубали топорами и жарили на кострахъ. Для разбора всей этой канители изъ Москвы прибыла какая-то представительница ГУЛАГа, а изъ Медгоры, въ помощь нехитрой головѣ Видемана, пріѣхалъ Якименко.
Борисъ, который эти дни ходилъ, сжавши зубы и кулаки, пошелъ по старой памяти къ Якименкѣ — нельзя же такъ, что-бъ ужъ совсѣмъ людей не кормить. Якименко былъ очень любезенъ, сказалъ, что это маленькіе недостатки ликвидаціоннаго механизма и что наряды на отгрузку продовольствія ГУЛАГомъ уже даны. Наряды, дѣйствительно, были, но продовольствіи по нимъ не было. Начальники лагпунктовъ съ помощью своего ВОХРа грабили сельскіе кооперативы и склады какого-то "Сѣвзаплѣса".
ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІЙ
Лагерь неистово голодалъ, и ликвидкомъ съ большевицкой настойчивостью засѣдалъ, засѣдалъ. Протоколы этихъ засѣданій вела Надежда Константиновна. Она была хорошей стенографисткой и добросовѣстной, дотошной женщиной. Именно въ виду этого, рѣчи тов. Видемана въ расшифрованномъ видѣ были рѣшительно ни на что не похожи. Надежда Константиновна, сдерживая свое волненіе, несла ихъ на подпись Видеману, и изъ начальственнаго кабинета слышался густой басъ:
— Ну, что это вы тутъ намазали? Ни черта подобнаго я не говорилъ! Чортъ знаетъ что такое!.. А еще стенографистка! Немедленно переправьте, какъ я говорилъ.
Н. К. возвращалась, переправляла, я переписывалъ, — потомъ мнѣ все это надоѣло, да и на засѣданія эти интересно было посмотрѣть. Я предложилъ Надеждѣ Константиновнѣ:
— Знаете, что? Давайте протоколы буду вести я, а вы за меня на машинкѣ стукайте.
— Да вы вѣдь стенографіи не знаете.
— Не играетъ никакой роли. Полная гарантія успѣха. Не понравится — деньги обратно.
Для перваго случая Надежда Константиновна сказалась больной, и я скромно просунулся въ кабинетъ Видемана.
— Товарищъ Заневская больна, просила меня замѣнить ее... Если разрѣшите...
— А вы стенографію хорошо знаете?
— Да... У меня своя система.
— Ну, смотрите...
На другое утро "стенограмма" была готова. Нечленораздѣльный рыкъ товарища Видемана пріобрѣлъ въ ней литературныя формы и кое-какой логическій смыслъ. Кромѣ того, тамъ, гдѣ, по моему мнѣнію, въ рѣчи товарища Видемана должны были фигурировать "интересы индустріализаціи страны" — фигурировали "интересы индустріализаціи страны. Тамъ, гдѣ, по моему, долженъ былъ торчать "нашъ великій вождь" — торчалъ "нашъ великій вождь"... Мало ли я такой ахинеи рецензировалъ на своемъ вѣку...
Надежда Константиновна понесла на подпись протоколы моего производства, предварительно усумнившись въ томъ, что Видеманъ говорилъ дѣйствительно то, что у меня было написано. Я разсѣялъ сомнѣнія Надежды Константиновны. Видеманъ говорилъ что-то, только весьма отдаленно похожее на мою запись. Надежда Константиновна вздохнула и пошла. Слышу видемановскій басъ:
— Вотъ это я понимаю — это протоколъ... А то вы, товарищъ Заневская, понавыдумываете, что ни уха, ни рыла не разберешь.
Въ своихъ протоколахъ я, конечно, блюлъ и нѣкоторые вѣдомственные интересы, т.е. интересы ББК: на чьемъ возу ѣдешь... Поэтому передъ тѣмъ, какъ подписывать мои литературно-протокольныя измышленія, свирьлаговцы часто обнаруживали нѣкоторые признаки сомнѣнія, и тогда гудѣлъ Видемановскій басъ:
— Ну, ужъ это чортъ его знаетъ что... Вѣдь сами же вы говорили... Вѣдь всѣ же слыхали... Вѣдь это же стенографія — слово въ слово... Ну ужъ, если вы и такимъ способомъ будете нашу работу срывать...
Видеманъ былъ парень напористый. Свирьлаговцы, видимо, вздыхали — ихъ вздоховъ изъ сосѣдней комнаты я слышать не могъ; — но подписывали. Видеманъ сталъ замѣчать мое существованіе. Входя въ нашу комнату и передавая какія-нибудь бумаги Надеждѣ Константиновнѣ, онъ клалъ ей на плечо свою лапу, въ которой было чувство собственника, и смотрѣлъ на меня грознымъ взглядомъ: на чужой, дескать, каравай рта не разѣвай. Грозный взглядъ Видемана былъ направленъ не по адресу.
Тѣмъ не менѣе, я опять начиналъ жалѣть о томъ, что чортъ снова впуталъ насъ въ высокія сферы лагеря.
САНИТАРНЫЙ ГОРОДОКЪ
Однако, чортъ продолжалъ впутывать насъ и дальше. Какъ-то разъ въ нашу пустую избу пришелъ Борисъ. Онъ жилъ то съ съ нами, то на Погрѣ, какъ попадалось. Мы устроились по лагернымъ масштабамъ довольно уютно. Свѣта не было, но зато весь вечеръ ярко пылали въ печкѣ ворованный въ ликвидкомѣ дрова, и была почти полная иллюзія домашняго очага. Борисъ началъ сразу:
— У меня появилась идея такого сорта... Сейчасъ на Погрѣ дѣлается чортъ знаетъ что... Инвалидовъ и слабосилку совсѣмъ не кормятъ и, думаю, при нынѣшней постановкѣ вопроса, едва-ли и будутъ кормить. Нужно бы устроить такъ, чтобы превратить Погру въ санитарный городокъ, собрать туда всѣхъ инвалидовъ сѣверныхъ лагерей, слабосилокъ и прочее, наладить какое-нибудь несложное производство и привести все это подъ высокую руку ГУЛАГа. Если достаточно хорошо расписать все это — ГУЛАГ можетъ дать кое-какіе продовольственные фонды. Иначе и ББК, и Свирьлагъ будутъ крутить и засѣдать, пока всѣ мои настоящіе и будущіе паціенты не вымрутъ окончательно... Какъ твое мнѣніе?
Мое мнѣніе было отрицательнымъ...
— Только что вырвались живьемъ изъ Бамовской эпопеи — и слава тебѣ, Господи... Опять влѣзать въ какую-то халтуру?
— Это не халтура, — серьезно поправилъ Борисъ.
— Правда, что не халтура... И тѣмъ хуже. Намъ до побѣга осталось какихъ-нибудь четыре мѣсяца... Какого чорта намъ ввязываться?..
— Ты, Ва, говоришь такъ потому, что ты не работалъ въ этихъ слабосилкахъ и больницахъ. Если бы работалъ — ввязался бы. Вотъ ввязался же ты въ подлоги съ Бамовскими вѣдомостями...
Въ тонѣ Бориса былъ легкій намекъ на мою некорректность. Я-то счелъ возможнымъ ввязаться — почему же оспариваю его право ввязываться?...
— Ты понимаешь, Ва, вѣдь это на много серьезнѣе твоихъ списковъ...
Это было, дѣйствительно, на много серьезнѣе моихъ списковъ. Дѣло заключалось въ томъ, что, при всей системѣ эксплоатаціи лагерной рабочей силы, огромная масса людей навсегда теряла свое здоровье и работоспособность. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ такихъ лагерныхъ инвалидовъ "актировали": комиссія врачей и представителей лагерной администраціи составляла акты, которые устанавливали, что Ивановъ седьмой потерялъ свою работоспособность навсегда, и Иванова седьмого, послѣ нѣкоторой административной волокиты, изъ лагеря выпускали — обычно въ ссылку на собственное иждивеніе: хочешь — живи, хочешь — помирай. Нечего грѣха таить: по такимъ актамъ врачи норовили выручать изъ лагеря въ первую очередь интеллигенцію. По такому акту, въ частности, выкрутился изъ Соловковъ и Борисъ, когда его зрѣніе снизилось почти до границъ слѣпоты. Для ГПУ эта тенденція не осталась, разумѣется, въ тайнѣ, и "активація" была прекращена. Инвалидовъ стали оставлять въ лагеряхъ. На работу ихъ не посылали и давали имъ по 400 гр. хлѣба въ день — норма медленнаго умиранія. Болѣе удачливые устраивались дневальными, сторожами, курьерами, менѣе удачливые постепенно вымирали — даже и при "нормальномъ" ходѣ вещей. При всякомъ же нарушеніи снабженія — напримѣръ, такомъ, какой въ данный моментъ претерпѣвало Подпорожье, — инвалиды вымирали въ ускоренномъ порядкѣ, ибо при нехваткѣ продовольствія лагерь въ первую очередь кормилъ болѣе или менѣе полноцѣнную рабочую силу, а инвалиды предоставлялись ихъ собственной участи... По одному подпорожскому отдѣленію полныхъ инвалидовъ, т.е. людей, даже по критерію ГПУ неспособныхъ ни къ какому труду, насчитывалось 4500 человѣкъ, слабосилка — еще тысячъ семь... Да, все это было немного серьезные моихъ списковъ...
— А матеріальная база? — спросилъ я. — Такъ тебѣ ГУЛАГ и дастъ лишній хлѣбъ для твоихъ инвалидовъ...
— Сейчасъ они ничего не дѣлаютъ и получаютъ фунтъ. Если собрать ихъ со всѣхъ сѣверныхъ лагерей — наберется, вѣроятно, тысячъ сорокъ-пятьдесятъ, можно наладить какую-нибудь работенку, и они будутъ получать по полтора фунта... Но это дѣло отдаленное... Сейчасъ важно вотъ что: подсунуть ГУЛАГу такой проектъ и подъ этимъ соусомъ сейчасъ же получить продовольственные фонды. Если здѣсь запахнетъ дѣло производствомъ — хорошо бы выдумать какое-нибудь производство на экспортъ — ГУЛАГ дополнительный хлѣбъ можетъ дать...
— По моему, — вмѣшался Юра, — тутъ и спорить совершенно не о чемъ. Конечно, Боба правъ. А ты, Ватикъ, опять начинаешь дрейфить... Матеріальную базу можно подыскать... Вотъ, напримѣръ, березы здѣсь рубится до чорта, можно организовать какое-нибудь берестяное производство — коробочки, лукошки, всякое такое... И, кромѣ того, чѣмъ намъ можетъ угрожать такой проектъ?
— Охъ, дѣти мои, — вздохнулъ я, — согласитесь сами, что насчетъ познанія всякаго рода совѣтскихъ дѣлъ я имѣю достаточный опытъ. Во что-нибудь да влипнемъ... Я сейчасъ не могу сказать, во что именно, но обязательно влипнемъ... Просто потому, что иначе не бываетъ. Разъ какое-нибудь дѣло, такъ въ него обязательно втешутся и партійный карьеризмъ, и склока, и подсиживаніе, и прорывы, и чортъ его знаетъ что еще. И все это отзовется на ближайшей безпартійной шеѣ, т.е., въ данномъ случаѣ, на Бобиной. Да еще въ лагерѣ...
— Ну, и чортъ съ нимъ, — сказалъ Юра, — влипнемъ и отлипнемъ. Не въ первый разъ. Тоже, подумаешь, — удовольствіе жить въ этомъ раю. — Юра сталъ развивать свою обычную теорію.
— Дядя Ваня, — сурово сказалъ Борисъ, — помимо всякихъ другихъ соображеній, на насъ лежатъ вѣдь и нѣкоторыя моральныя обязанности...
Я почувствовалъ, что моя позиція, да еще при атакѣ на нее съ обоихъ фланговъ — совершенно безнадежна. Я попытался оттянуть рѣшеніе вопроса.
— Нужно бы предварительно пощупать, что это за представительница ГУЛАГа?
— Дядя Ваня, ни для чего этого времени нѣтъ. У меня только на Погрѣ умираетъ ежедневно отъ голода отъ пятнадцати до пятидесяти человѣкъ...
Такимъ образомъ, мы влипли въ исторію съ санитарнымъ городкомъ на Погрѣ. Мы всѣ оказались пророками, всѣ трое: я — потому, что мы, дѣйствительно, влипли въ нехорошую исторію, въ результатѣ которой Борисъ вынужденъ былъ бѣжать отдѣльно отъ насъ; Борисъ — потому, что, хотя изъ сангородка не получилось ровно ничего, — инвалиды "на данный отрѣзокъ времени" были спасены, и, наконецъ, Юра — потому, что, какъ бы тяжело это все ни было — мы въ конечномъ счетѣ все же выкрутились...
ПАНЫ ДЕРУТСЯ
Проектъ организаціи санитарнаго городка былъ обмозгованъ со всѣхъ точекъ зрѣнія. Производства для этого городка были придуманы. Чего они стоили въ реальности — это вопросъ второстепенный. Докладная записка была выдержана въ строго марксистскихъ тонахъ: избави Боже, что-нибудь ляпнуть о томъ, что люди гибнутъ зря, о человѣколюбіи, объ элементарнѣйшей человѣчности — это внушило бы подозрѣнія, что иниціаторъ проекта просто хочетъ вытянуть отъ совѣтской власти нѣсколько лишнихъ тоннъ хлѣба, а хлѣба совѣтская власть давать не любитъ, насчетъ хлѣба у совѣтской власти психологія плюшкинская... Было сказано о необходимости планомѣрнаго ремонта живой рабочей силы, объ использованіи неизбѣжныхъ во всякомъ производственномъ процессѣ отбросовъ человѣческаго материла, о роли неполноцѣнной рабочей силы въ дѣлѣ индустріализаціи нашего соціалистическаго отечества, было подсчитано количество возможныхъ трудодней при производствахъ: берестяномъ, подсочномъ, игрушечномъ и прочемъ, была подсчитана рентабильность производства, наконецъ, эта рентабильность была выражена въ соблазнительной цифрѣ экспортныхъ золотыхъ рублей... Было весьма мало вѣроятно, чтобы передъ золотыми рублями ГУЛАГ устоялъ... Въ концѣ доклада было скромно указано, что проектъ этотъ желательно разсмотрѣть въ спѣшномъ порядкѣ, такъ какъ въ лагерѣ "наблюдается процессъ исключительно быстраго распыленія неполноцѣнной рабочей силы" — вѣжливо и для понимающихъ — понятно...
По ночамъ Борисъ пробирался въ ликвидкомъ и перестукивалъ на машинкѣ свой докладъ. Днемъ этого сдѣлать было нельзя: Боже упаси, если бы Видеманъ увидалъ, что на его ББКовской машинкѣ печатается что-то для "этого паршиваго Свирьлага"... Повидимому, на почвѣ, свободной отъ всякихъ другихъ человѣческихъ чувствъ, вѣдомственный патріотизмъ разрастается особо пышными и колючими зарослями.
Проектъ былъ поданъ представительницѣ ГУЛАГа, какой-то товарищъ Шацъ, Видеману, какъ представителю ББК, кому-то, какъ представителю Свирьлага и Якименкѣ — просто по старой памяти. Тов. Шацъ поставила докладъ Бориса на повѣстку ближайшаго засѣданія ликвидкома.
Въ кабинетъ Видемана, гдѣ проходили всѣ эти ликвидаціонныя и прочія засѣданія, потихоньку собирается вся участвующая публика. Спокойной походкой человѣка, знающаго свою цѣну, входитъ Якименко. Молодцевато шагаетъ Непомнящій — начальникъ третьей части. Представители Свирьлага съ дѣловымъ видомъ раскладываютъ свои бумаги. Д-ръ Шуквецъ нервнымъ шепотомъ о чемъ-то переговаривается съ Борисомъ. Наконецъ, огромными размашистыми шагами является представительница ГУЛАГ-а, тов. Шацъ. За нею грузно вваливается Видеманъ. Видеманъ какъ-то бокомъ и сверху смотритъ на путаную копну сѣдоватыхъ волосъ тов. Шацъ, и видъ у него крайне недовольный.
Тов. Шацъ объявляетъ засѣданіе открытымъ, водружаетъ на столъ огромный чемоданнаго вида портфель и на портфель ни съ того ни съ сего кладетъ тяжелый крупнокалиберный кольтъ. Дѣлаетъ она это не безъ нѣкоторой демонстративности: то-ли желая этимъ подчеркнуть, что она здѣсь не женщина, а чекистъ — даже не чекистка, а именно чекистъ, то-ли пытаясь этимъ кольтомъ символизировать свою верховную власть въ этомъ собраніи — исключительно мужскомъ.
Я смотрю на товарища Шацъ, и по моей кожѣ начинаютъ бѣгать мурашки. Что-то неопредѣленное женскаго пола, въ возрастѣ отъ тридцати до пятидесяти лѣтъ, уродливое, какъ всѣ семь смертныхъ грѣховъ, вмѣстѣ взятыхъ, съ добавленіемъ восьмого, Священнымъ Писаніемъ не предусмотрѣннаго — чекистскаго стажа. Она мнѣ напоминаетъ изсохшій скелетъ какой-то злобной зубастой птицы, допотопной птицы, вотъ вродѣ археоптерикса... Ея маленькая птичья головка съ хищнымъ клювомъ все время вертится на худой жилистой шеѣ, ощупывая собравшихся колючимъ, недовѣрчивымъ взглядомъ. У нея во рту махорочная собачья ножка, которою она дымитъ неимовѣрно (почему не папиросы? Тоже демонстрація?), правой рукой все время вертитъ положенный на портфель кольтъ. Сидящій рядомъ съ ней Видеманъ поглядываетъ на этотъ вертящійся револьверъ искоса и съ видомъ крайняго неодобренія... Я начинаю мечтать о томъ, какъ было бы хорошо, если бы этотъ кольтъ бабахнулъ въ товарища Видемана или, еще лучше, въ самое тов. Шацъ. Но мои розовыя мечтанія прерываетъ скрипучій ржавый голосъ предсѣдательницы:
— Ну-съ, такъ на повѣсткѣ дня — докладъ доктора, какъ тамъ его... Ну... Только не тяните — здѣсь вамъ не университетъ. Что-бъ коротко и ясно.
Тонъ у тов. Шацъ — отвратительный. Якименко недоумѣнно подымаетъ брови — но онъ чѣмъ-то доволенъ. Я думаю, что раньше, чѣмъ пускать свой проектъ, Борису надо было бы пощупать, что за персона эта тов. Шацъ... И, пощупавъ, — воздержаться... Потому, что этакая изуродованная Господомъ Богомъ истеричка можетъ загнуть такое, что и не предусмотришь заранѣе, и не очухаешься потомъ... Она, конечно, изъ "старой гвардіи" большевизма... Она, конечно, полна глубочайшаго презрѣнія не только къ намъ, заключеннымъ, но и къ чекистской части собранія — къ тѣмъ революціоннымъ парвеню, которые на ея, товарища Шацъ, революціонная заслуги смотрятъ безъ особеннаго благоговѣнія, которые имѣютъ нахальство гнуть какую-то свою линію, опрыскиваться одеколономъ (и это въ моментъ, когда міровая революція еще не наступила!) и вообще въ первый попавшійся моментъ норовятъ подложить старой большевичкѣ первую попавшуюся свинью... Вотъ, вѣроятно, поэтому-то — и собачья ножка, и кольтъ, и манеры укротительницы звѣрей. Сколько такихъ истеричекъ прошло черезъ исторію русской революціи. Большихъ дѣлъ онѣ не сдѣлали, но озлобленность ихъ исковерканнаго секса придавала революціи особо отвратительныя черточки... Такому товарищу Щацъ попасться въ переплетъ — упаси Господи...
Борисъ докладываетъ. Я сижу, слушаю и чувствую: хорошо. Никакихъ "интеллигентскихъ соплей". Вполнѣ марксическій подходъ. Такой-то процентъ бракованнаго человѣческаго матеріала... Непроизводительные накладные расходы на обремененные бюджеты лагерей. Скрытые рессурсы неиспользованной рабочей силы... Примѣры изъ московской практики: использованіе глухонѣмыхъ на котельномъ производствѣ, безногихъ — на конвейерахъ треста точной механики. Совѣтская трудовая терапія — лѣченіе заболѣваній "трудовыми процессами". Интересы индустріализаціи страны. Историческія шесть условіи товарища Сталина... Мелькомъ и очень вскользь о томъ, что въ данный переходный періодъ жизни нашего отдѣленія... нѣкоторые перебои въ снабженіи... ставятъ подъ угрозу... возможность использованія указанныхъ скрытыхъ рессурсовъ и въ дальнѣйшемъ.
— Я полагаю, — кончаетъ Борисъ, — что, разсматривая данный проектъ исключительно съ точки зрѣнія интересовъ индустріализаціи нашей страны, только съ точки зрѣнія роста ея производительныхъ силъ и использованія для этого всѣхъ наличныхъ матеріальныхъ и человѣческихъ рессурсовъ, хотя бы и незначительныхъ и неполноцѣнныхъ, — данное собраніе найдетъ, конечно, чисто большевицкій подходъ къ обсужденію предложеннаго ему проекта...
Хорошо сдѣлано. Немного длинно и литературно... Къ концу фразы Видеманъ, вѣроятно, уже забылъ, что было въ началѣ ея — но здѣсь будетъ рѣшать не Видеманъ.
На губахъ тов. Шацъ появляется презрительная усмѣшка.
— И это — все?
— Все.
— Ну-ну...
Нервно приподымается д-ръ Шуквецъ.
— Разрѣшите мнѣ.
— А вамъ очень хочется? Валяйте.
Д-ръ Шуквецъ озадаченъ.
— Не въ томъ дѣло, хочется ли мнѣ или не хочется... Но поскольку обсуждается вопросъ, касающійся медицинской части...
— Не тяните кота за хвостъ. Ближе къ дѣлу.
Шуквецъ свирѣпо топорщитъ свои колючіе усики.
— Хорошо. Ближе къ дѣлу. Дѣло заключается въ томъ, что девяносто процентовъ нашихъ инвалидовъ потеряли свое здоровье и свою трудоспособность на работахъ для лагеря. Лагерь морально обязанъ...
— Довольно, садитесь. Это вы можете разсказывать при лунѣ вашимъ влюбленнымъ институткамъ...
Но д-ръ Шуквецъ не сдается...
— Мой уважаемый коллега...
— Никакихъ тутъ коллегъ нѣтъ, а тѣмъ болѣе уважаемыхъ. Я вамъ говорю — садитесь.
Шуквецъ растерянно садится. Тов. Шацъ обращаетъ свой колючій взоръ на Бориса.
— Та-акъ... Хорошенькое дѣло!.. А скажите, пожалуйста, — какое вамъ до всего этого дѣло? Ваше дѣло лѣчить, кого вамъ приказываютъ, а не заниматься какими-то тамъ рессурсами.
Якименко презрительно щуритъ глаза. Борисъ пожимаетъ плечами.
— Всякому совѣтскому гражданину есть дѣло до всего, что касается индустріализаціи страны. Это разъ. Второе: если вы находите, что это не мое дѣло, не надо было и ставить моего доклада.
— Я поручилъ доктору Солоневичу... — начинаетъ Видеманъ.
Шацъ рѣзко поворачивается къ Видеману.
— Никто васъ не спрашиваетъ, что вы поручали и чего вамъ не поручали.
Видеманъ умолкаетъ, но его лицо заливается густой кровью. Борисъ молчитъ и вертитъ въ рукахъ толстую дубовую дощечку отъ прессъ-папье. Дощечка съ трескомъ ломается въ его пальцахъ. Борисъ какъ бы автоматически, но не безъ нѣкоторой затаенной демонстративности, сжимаетъ эту дощечку въ кулакѣ, и она крошится въ щепки. Всѣ почему-то смотрятъ на Бобину руку и на дощечку. Тов. Шацъ даже перестаетъ вертѣть свой револьверъ. Видеманъ улавливаетъ моментъ и подсовываетъ револьверъ подъ портфель. Тов. Шацъ жестомъ разъяренной тигрицы выхватываетъ кольтъ обратно и снова кладетъ его сверху портфеля. Начальникъ третьей части, тов. Непомнящій, смотритъ на этотъ кольтъ такъ же неодобрительно, какъ и всѣ остальные.
— А у васъ, тов. Шацъ, предохранитель закрыть?
— Я умѣла обращаться съ оружіемъ, когда вы еще подъ столъ пѣшкомъ ходили.
— Съ тѣхъ поръ, тов. Шацъ, вы, видимо, забыли, какъ съ нимъ слѣдуетъ обращаться, — нѣсколько юмористически заявляетъ Якименко. — Съ тѣхъ поръ товарищъ Непомнящій уже подъ потолокъ выросъ.
— Я прошу васъ, товарищъ Якименко, на оффиціальномъ засѣданіи зубоскальствомъ не заниматься. А васъ, докторъ, — Шацъ поворачивается къ Борису, — я васъ спрашиваю "какое вамъ дѣло" вовсе не потому, что вы тамъ докторъ или не докторъ, а потому, что вы контръ-революціонеръ... Въ ваше сочувствіе соціалистическому строительству я ни капли не вѣрю... Если вы думаете, что вашими этими рессурсами вы кого-то тамъ проведете, такъ вы немножко ошибаетесь... Я — старая партійная работница, такихъ типиковъ, какъ вы, я видѣла. Въ вашемъ проектѣ есть какая-то антипартійная вылазка, можетъ быть, даже прямая контръ-революція.
Я чувствую нѣкоторое смущеніе. Неужели уже влипли? Такъ сказать, съ перваго же шага? Якименко все-таки былъ на много умнѣе.
— Ну, насчетъ антипартійной линіи — это дѣло ваше хозяйское, — говоритъ Борисъ. — Этотъ вопросъ меня совершенно не интересуетъ.
— То-есть, какъ это такъ это васъ можетъ не интересовать?
— Чрезвычайно просто — никакъ не интересуетъ...
Шацъ, видимо, не сразу соображаетъ, какъ ей реагировать на эту демонстрацію...
— Ого-го... Васъ, я вижу, ГПУ сюда не даромъ посадило...
— О чемъ вы можете и доложить въ ГУЛАГѣ, — съ прежнимъ равнодушіемъ говоритъ Борисъ.
— Я и безъ васъ знаю, что мнѣ докладывать. Хорошенькое дѣло, — обращается она къ Якименко, — вѣдь это же все бѣлыми нитками шито — этотъ вашъ докторъ, такъ онъ просто хочетъ получить для всѣхъ этихъ бандитовъ, лодырей, кулаковъ лишній совѣтскій хлѣбъ... Такъ мы этотъ хлѣбъ и дали... У насъ эти фунты хлѣба по улицамъ не валяются...
Вопросъ предстаетъ передо мною въ нѣсколько другомъ освѣщеніи. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, проектъ Бориса используютъ, производство какое-то поставятъ, но лишняго хлѣба не дадутъ... Изъ-за чего было огородъ городить?..
— А такихъ типиковъ, какъ вы, — обращается она къ Борису, — я этимъ самымъ кольтомъ...
Борисъ приподымается и молча собираетъ свои бумаги.
— Вы это что?
— Къ себѣ, на Погру.
— А кто вамъ разрѣшилъ? Что, вы забываете, что вы въ лагерѣ?
— Въ лагерѣ или не въ лагерѣ, но если человѣка вызываютъ на засѣданіе и ставятъ его докладъ, такъ для того, чтобы выслушивать, а не оскорблять.
— Я вамъ приказываю остаться! — визжитъ тов. Шацъ, хватаясь за кольтъ.
— Приказывать мнѣ можетъ тов. Видеманъ, мой начальникъ. Вы мнѣ приказывать ничего не можете.
— Послушайте, докторъ Солоневичъ... — начинаетъ Якименко успокоительнымъ тономъ.
Шацъ сразу набрасывается на него.
— А кто васъ уполномачиваетъ вмѣшиваться въ мои приказанія? Кто тутъ предсѣдательствуетъ: вы или я?
— Останьтесь пока, докторъ Солоневичъ, — говоритъ Якименко сухимъ, рѣзкимъ и властнымъ тономъ, но этотъ тонъ обращенъ не къ Борису. — Я считаю, товарищъ Шацъ, что такъ вести засѣданіе, какъ ведете его вы, — нельзя.
— Я сама знаю, что мнѣ можно и что нельзя... Я была связана съ нашими вождями, когда вы, товарищъ Якименко, о партійномъ билетѣ еще и мечтать не смѣли...
Начальникъ третьей части съ трескомъ отодвигаетъ свой стулъ и подымается.
— Съ кѣмъ вы тамъ, товарищъ Шацъ, были въ связи — это насъ не касается. Это дѣло ваше частное. А ежели люди пришли говорить о дѣлѣ, такъ нечего имъ глотку затыкать.
— Еще вы, вы, меня, старую большевичку будете учить? Что это здѣсь такое: б.... или военное учрежденіе?
Видеманъ грузно, всѣмъ своимъ сѣдалищемъ поворачивается къ Шацъ. Тугіе жернова его мышленія добрались, наконецъ, до того, что онъ-то ужъ военный въ гораздо большей степени, чѣмъ тов. Шацъ, что онъ здѣсь хозяинъ, что съ нимъ, хозяиномъ, обращаются, какъ съ мальчишкой, и что, наконецъ, старая большевичка ухитрилась сколотить противъ себя единый фронтъ всѣхъ присутствующихъ...
— Ну, это ни къ какимъ чертямъ не годится... Что это вы, товарищъ Шацъ, какъ съ цѣпи сорвались?
Шацъ отъ негодованія не можетъ произнести ни слова.
— Иванъ Лукьяновичъ, — съ подчеркнутой любезностью обращается ко мнѣ Якименко, — будьте добры внести въ протоколъ засѣданія мой протестъ противъ дѣйствій тов. Шацъ.
— Это вы можете говорить на партійномъ собраніи, а не здѣсь, — взъѣдается на него Шацъ.
Якименко отвѣчаетъ высоко и сурово:
— Я очень сожалѣю, что на этомъ открытомъ безпартійномъ собраніи вы сочли возможнымъ говорить о вашихъ интимныхъ связяхъ съ вождями партіи.
Вотъ это — ударъ! Шацъ вбираетъ въ себя свою птичью шею и окидываетъ собравшихся злобнымъ, но уже нѣсколько растеряннымъ взглядомъ. Противъ нея — единый фронтъ. И революціонныхъ парвеню, для которыхъ партійный "аристократизмъ" товарища Шацъ, какъ бѣльмо въ глазу, и заключенныхъ, и, наконецъ, просто единый мужской фронтъ противъ зарвавшейся бабы. Представитель Свирьлага смотритъ на Шацъ съ ядовитой усмѣшечкой.
— Я присоединяюсь въ протесту тов. Якименко.
— Объявляю засѣданіе закрытымъ, — рѣзко бросаетъ Шацъ и подымается.
— Ну, это ужъ позвольте, — говоритъ второй представитель Свирьлага. — Мы не можемъ срывать работу по передачѣ лагеря изъ-за вашихъ женскихъ нервовъ...
— Ахъ, такъ, — шипитъ тов. Шацъ. — Ну, хорошо. Мы съ вами еще поговоримъ объ этомъ... въ другомъ мѣстѣ.
— Поговоримъ, — равнодушно бросаетъ Якименко. — А пока что я предлагаю докладъ д-ра Солоневича принять, какъ основу, и переслать его въ ГУЛАГ съ заключеніями мѣстныхъ работниковъ. Я полагаю, что эти заключенія въ общемъ и цѣломъ будутъ положительными.
Видеманъ киваетъ головой.
— Правильно. Послать въ ГУЛАГ. Толковый проектъ. Я голосую за.
— Я вопроса о голосованіи не ставила, я вамъ приказываю замолчать, товарищъ Якименко... — Шацъ близка къ истерикѣ. Ея лѣвая рука размахиваетъ собачьей ножкой, а правая вертитъ револьверъ. Якименко протягиваетъ руку черезъ столъ, забираетъ револьверъ и передаетъ его Непомнящему.
— Товарищъ начальникъ третьей части, вы вернете это оружіе товарищу Шацъ, когда она научится съ нимъ обращаться...
Тов. Шацъ стоитъ нѣкоторое время, какъ бы задыхаясь отъ злобы, — и судорожными шагами выбѣгаетъ изъ комнаты.
— Такъ значитъ, — говоритъ Якименко такимъ тономъ, какъ будто ничего не случилось, — проектъ д-ра Солоневича въ принципѣ принятъ. Слѣдующій вопросъ...
Остатокъ засѣданія проходитъ, какъ по маслу. Даже взорванный желѣзнодорожный мостикъ на Погрѣ принимается, какъ цѣленькій: безъ сучка и задоринки...
ЯКИМЕНКО НАЧИНАЕТЪ ИНТРИГУ
Засѣданіе кончилось. Публика разошлась. Я правлю свою "стенограмму". Якименко сидитъ противъ и докуриваетъ свою папиросу.
— Ну, и номеръ, — говоритъ Якименко.
Отрываю глаза отъ бумаги. Въ глазахъ Якименки — насмѣшка и удовлетворенье побѣдителя.
— Вы когда-нибудь такую б... видали?
— Ну, не думаю, чтобы на этомъ поприщѣ товарищу Шацъ удалось бы сдѣлать большіе обороты...
Якименко смотритъ на меня и съ усмѣшкой, и съ любопытствомъ.
— А скажите мнѣ по совѣсти, тов. Солоневичъ, — что это за новый оборотъ вы придумали?
— Какой оборотъ?
— Да вотъ съ этимъ санитарнымъ городкомъ?
— Простите, — не понимаю вопроса.
— Понимаете! Что ужъ тамъ! Чего это вы все крутите? Не изъ-за человѣколюбія же?
— Позвольте, а почему бы и нѣтъ?
Якименко скептически пожимаетъ плечами. Соображенія такого рода — не по его департаменту.
— Ой-ли? А впрочемъ, ваше дѣло... Только, знаете ли, если этотъ сангородокъ попадетъ ГУЛАГу и товарищъ Шацъ будетъ пріѣзжать вашего брата наставлять и инспектировать...
Это соображеніе приходило въ голову и мнѣ.
— Ну что-жъ, придется Борису и товарища Шацъ расхлебывать...
— Пожалуй — придется... Впрочемъ, долженъ сказать честно... семейка-то у васъ... крѣпколобая.
Я изумленно воззрился на Якименко. Якименко смотритъ на меня подсмѣивающимся взглядомъ.
— На мѣстѣ ГПУ выперъ бы я васъ всѣхъ къ чортовой матери, на всѣ четыре стороны... А то накрутите вы здѣсь.
— То-есть, какъ это такъ — "накрутимъ"?
— Да вотъ такъ, накрутите и все... Впрочемъ, это пока моя личная точка зрѣнія.
— А вы ее сообщите ГПУ — пусть выпустятъ...
— Не повѣрятъ, товарищъ Иванъ Лукьяновичъ, — сказалъ, усмѣхаясь, Якименко, ткнулъ въ пепельницу свой окурокъ и вышелъ изъ комнаты прежде, чѣмъ я успѣлъ сообразить подходящую реплику...
___
Внизу, на крылечкѣ, меня ждали Борисъ и Юра.
— Ну, — сказалъ я не безъ нѣкотораго злорадства, — какъ мнѣ кажется, мы уже влипли... А?
— Для твоей паники нѣтъ никакого основанія, — сказалъ Борисъ.
— Никакой паники и нѣтъ. А только эта самая мадемуазель Шацъ работы наладитъ, хлѣба не дастъ, и будешь ты ея непосредственнымъ подчиненнымъ. Такъ сказать — неземное наслажденіе.
— Неправильно. За насъ теперь вся остальная публика.
— А что она вся стоитъ, если твой городокъ будетъ, по твоему же предложенію, подчиненъ непосредственно ГУЛАГу?
— Эта публика ее съѣстъ. Теперь у нихъ такое положеніе: или имъ ее съѣсть, или она ихъ съѣстъ.
На крыльцо вышелъ Якименко.
— А, всѣ три мушкетера по обыкновенію въ полномъ сборѣ?
— Да, такъ сказать, прорабатываемъ результаты сегодняшняго засѣданія...
— Я вѣдь вамъ говорилъ, что засѣданіе будетъ занимательное.
— Повидимому, тов. Шацъ находится въ состояніи нѣкоторой...
— Да, именно въ состояніи нѣкоторой... Вотъ въ этомъ нѣкоторомъ состояніи она находится, видимо, лѣтъ пятьдесятъ... Видеманъ уже три дня ходитъ, какъ очумѣлый... — Въ тонѣ Якименки — небывалыя до сихъ поръ нотки интимности, и я не могу сообразить, къ чему онъ клонитъ...
— Во всякомъ случаѣ, — говоритъ Борисъ, — я со своимъ проектомъ попался, кажется, какъ куръ во щи.
— Н-да... Ваши опасенія нѣкоторыхъ основаній не лишены... Съ такой стервой работать, конечно, невозможно... Кстати, Иванъ Лукьяновичъ, вотъ вы завтра вашу стенограмму редактировать будете. Весьма существенно, чтобы эта фраза товарища Шацъ насчетъ вождей — не была опущена... И вообще постарайтесь, чтобы вашъ протоколъ былъ сдѣланъ во всю мѣру вашихъ литературныхъ дарованій. И, такъ сказать, въ расчетѣ на культурный уровень читательскихъ массъ, ну, напримѣръ, ГУЛАГа. Протоколъ подпишутъ всѣ... кромѣ, разумѣется, товарища Шацъ.
Замѣтивъ въ моемъ лицѣ нѣкоторое размышленіе, Якименко добавляетъ:
— Можете не опасаться. Я васъ, кажется, до сихъ поръ не подводилъ.
Въ тонѣ Якименки — нѣкоторая таинственность, и я снова задаю себѣ вопросъ, знаетъ-ли онъ о бамовскихъ спискахъ или не знаетъ. А влѣзать въ партійную склоку мнѣ очень не хочется. Чтобы выиграть время для размышленія, я задаю вопросъ:
— А что, она дѣйствительно близко стоитъ къ вождямъ?..
— Стоитъ или лежитъ — не знаю... Развѣ въ дореволюціонное время. Знаете, во всякихъ тамъ "глубинахъ сибирскихъ рудъ", на полномъ безптичьи — и Шацъ соловушко... Впрочемъ — это вымирающая порода... Ну, такъ протоколъ будетъ, какъ полагается?
Протоколъ былъ сдѣланъ, какъ полагается. Его подписали всѣ, и его не подписала тов. Шацъ. На другой же день послѣ этого засѣданія тов. Шацъ сорвалась и уѣхала въ Москву. Вслѣдъ за ней выѣхалъ въ Москву и Якименко.
ТЕОРІЯ СКЛОКИ
Мы шли домой молча и въ весьма невеселомъ настроеніи. Становилось болѣе или менѣе очевиднымъ, что мы уже влипли въ нехорошую исторію. Съ проектомъ санитарнаго городка получается ерунда, мы оказались, помимо всего прочаго, запутанными въ какую-то внутрипартійную интригу. А въ интригахъ такого рода коммунисты могутъ и проигрывать, и выигрывать; безпартійная же публика проигрываетъ болѣе или менѣе навѣрняка. Каждая партійная ячейка, разсматриваемая, такъ сказать, съ очень близкой дистанціи, представляетъ собою этакое уютное общежитіе змѣй, василисковъ и ехиднъ, изъ которыхъ каждая норовитъ ужалить свою сосѣдку въ самое больное административно-партійное мѣсто... Я, въ сущности, не очень ясно знаю — для чего все это дѣлается, ибо выигрышъ — даже въ случаѣ побѣды — такъ грошевъ, такъ нищъ и такъ зыбокъ: просто партійный портфель чуть-чуть потолще. Но "большевицкая спаянность" дѣйствуетъ только по адресу остального населенія страны. Внутри ячеекъ — всѣ другъ подъ друга подкапываются, подсиживаютъ, выживаютъ... На совѣтскомъ языкѣ это называется "партійной склокой". На уровнѣ Сталина — Троцкаго это декорируется идейными разногласіями, на уровнѣ Якименко-Шацъ это ничѣмъ не декорируется, просто склока "какъ таковая", въ голомъ видѣ... Вотъ въ такую-то склоку попали и мы и при этомъ безо всякой возможности сохранить нейтралитетъ... Волей неволей приходилось ставить свою ставку на Якименку. А какіе, собственно, у Якименки шансы съѣсть товарища Шацъ?
Шацъ въ Москвѣ, въ "центрѣ" — у себя дома, она тамъ свой человѣкъ, у нея тамъ всякіе "свои ребята" — и Кацы, и Пацы, и Ваньки, и Петьки — по существу такіе же "корешки", какъ любая банда сельсовѣтскихъ активистовъ, коллективно пропивающихъ госспиртовскую водку, кулацкую свинью и колхозныя "заготовки". Для этого центра всѣ эти Якименки, Видеманы и прочіе — только уѣздные держиморды, выскочки, пытающіеся всякими правдами и неправдами оттѣснить ихъ, "старую гвардію", отъ призрака власти, отъ начальственныхъ командировокъ по всему лицу земли русской, и не брезгающіе при этомъ рѣшительно никакими средствами. Правда, насчетъ средствъ — и "старая гвардія" тоже не брезгуетъ. При данной комбинаціи обстоятельствъ средствами придется не побрезговать и мнѣ: что тамъ ни говорить, а литературная обработка фразы тов. Шацъ о близости къ вождямъ — къ числу особо джентльменскихъ пріемовъ борьбы не принадлежитъ. Оно, конечно, съ волками жить, по волчьи выть — но только въ Совѣтской Россіи можно понять настоящую тоску по настоящему человѣческому языку, вмѣсто волчьяго воя — то голоднаго, то разбойнаго...
Конечно, если у Якименки есть связи въ Москвѣ (а, видимо, — есть, иначе, зачѣмъ бы ему туда ѣхать), то онъ съ этимъ протоколомъ обратится не въ ГУЛАГ и даже не въ ГПУ, а въ какую-нибудь совершенно незамѣтную извнѣ партійную дыру. Въ составѣ этой партійной дыры будутъ сидѣть какіе-то Ваньки и Петьки, среди которыхъ у Якименко — свой человѣкъ. Кто-то изъ Ванекъ вхожъ въ московскій комитетъ партіи, кто-то — въ контрольную партійную комиссію (ЦКК), кто-то, допустимъ, имѣетъ какой-то блатъ, напримѣръ, у товарища Землячки. Тогда черезъ нѣсколько дней въ соотвѣтствующихъ инстанціяхъ пойдутъ слухи: товарищъ Шацъ вела себя такъто —дискредитировала вождей. Вѣроятно, будетъ сказано, что, занимаясь административными загибами, тов. Шацъ подкрѣпляла свои загибы ссылками на интимную близость съ самимъ Сталинымъ. Вообще — создается атмосфера, въ которой чуткій носъ уловитъ: кто-то вліятельный собирается товарища Шацъ съѣсть. Враги товарища Шацъ постараются эту атмосферу сгустить, нейтральные станутъ во враждебную позицію, друзья — если не очень близкіе — умоютъ лапки и отойдутъ въ стороночку: какъ бы и меня вмѣстѣ съ тов. Шацъ не съѣли.
Да, конечно, Якименко имѣетъ крупные шансы на побѣду. Помимо всего прочаго, онъ всегда спокоенъ, выдержанъ, и онъ, конечно, на много умнѣе тов. Шацъ. А сверхъ всего этого, товарищъ Шацъ — представительница той "старой гвардіи ленинизма", которую снизу подмываютъ волны молодой сволочи, а сверху организаціонно ликвидируетъ Сталинъ, подбирая себѣ кадры безтрепетныхъ "твердой души прохвостовъ". Тов. Шацъ — только жалкая, истрепанная въ клочки, тѣнь былой героики коммунизма. Якименко — представитель молодой сволочи, властной и жадной... Болѣе или менѣе толковая партійная дыра, конечно, должна понять, что при такихъ обстоятельствахъ умнѣе стать на сторону Якименки...
Я не зналъ, да такъ и не узналъ, какія дѣловыя столкновенія возникли между тов. Шацъ и Якименкой до нашего пресловутаго засѣданія, — въ сущности, это и не важно. Товарищъ Шацъ всѣмъ своимъ существомъ, всѣхъ своимъ видомъ говоритъ Якименкѣ: "я вотъ всю свою жизнь отдала міровой революціи, отдавай и ты". — Якименко отвѣчаетъ: "ну, и дура — я буду отдавать чужія, а не свою". Шацъ говоритъ: "я соратница самого Ленина". Якименко отвѣчаетъ: "твой Ленинъ давно подохъ, да и тебѣ пора". Ну, и такъ далѣе...
Изъ всей этой грызни между Шацами и Якименками можно, при извѣстной настроенности, сдѣлать такой выводъ, что вотъ, дескать, тов. Шацъ (кстати — и еврейка) это символъ міровой революціи, товарищъ же Якименко — это молодая, возрождающаяся и національная Россія (кстати — онъ русскій или, точнѣе, малороссъ), что Шацъ строила ГУЛАГ въ пользу міровой революціи, а Якименко истребляетъ мужика въ пользу національнаго возрожденія.
Съ теоріей національнаго перерожденія Стародубцева, Якименки, Ягоды, Кагановича и Сталина (русскаго, малоросса, латыша, еврея и грузина) я встрѣтился только здѣсь, въ эмиграціи. Въ Россіи такая идея и въ голову не приходила... Но, конечно, вопросъ о томъ, что будутъ дѣлать якименки, добравшись до власти, вставалъ передъ всѣми нами въ томъ аспектѣ, какого эмиграція не знаетъ. Отказъ отъ идеи міровой революціи, конечно, ни въ какой мѣрѣ не означаетъ отказа отъ коммунизма въ Россіи. Но если, добравшись до власти, якименки, въ интересахъ собственнаго благополучія и, если хотите, то и собственной безопасности, начнутъ сворачивать коммунистическія знамена и постепенно, "на тормозахъ", переходить къ строительству того, что въ эмиграціи называется національной Россіей (почему, собственно, коммунизмъ не можетъ быть "національнымъ явленіемъ", была же инквизиція національнымъ испанскимъ явленіемъ?), — то тогда какой смыслъ намъ троимъ рисковать своей жизнью? Зачѣмъ предпринимать побѣгъ? Не лучше ли еще подождать? Ждали вѣдь, вотъ, 18 лѣтъ. Ну, еще подождемъ пять. Тяжело, но легче, чѣмъ прорываться тайгой черезъ границу — въ неизвѣстность эмигрантскаго бытія.
Если для эмиграціи вопросъ о "національномъ перерожденіи" (этотъ терминъ я принимаю очень условно) — это очень, конечно, наболѣвшій, очень близкій, но все же болѣе или менѣе теоретическій вопросъ, то для насъ всѣхъ трехъ онъ ставился какъ вопросъ собственной жизни... Идти ли на смертельный рискъ побѣга или мудрѣе и патріотичнѣе будетъ переждать? Можно предположить, что вопросы, которые ставятся въ такой плоскости, рѣшаются съ нѣсколько меньшей оглядкой на партійныя традиціи и съ нѣсколько болѣе четкимъ раздѣленіемъ желаемаго отъ сущаго — чѣмъ когда тѣ же вопросы обсуждаются и рѣшаются подъ вліяніемъ очень хорошихъ импульсовъ, но все же безъ ощущенія непосредственнаго риска собственной головой.
У меня, какъ и у очень многихъ нынѣшнихъ россійскихъ людей, годы войны и революціи и, въ особенности, большевизма весьма прочно вколотили въ голову твердое убѣжденіе въ томъ, что ни одна историко-философская и соціалистическая теорія не стоитъ ни одной копѣйки. Конечно, гегелевскій міровой духъ почти такъ же занимателенъ, какъ и марксистская борьба классовъ. И философскія объясненія прошлаго можно перечитывать не безъ нѣкотораго интереса. Но какъ-то такъ выходитъ, что ни одна теорія рѣшительно ничего не можетъ предсказать на будущій день. Болѣе или менѣе удачными пророками оказались люди, которые или только прикрывались теорій, или вообще никакихъ дѣлъ съ ней не имѣли.
Такимъ образомъ, для насъ вопросъ шелъ не о перспективахъ революціи, разсматриваемыхъ съ какой бы то ни было философской точки зрѣнія, а только о живыхъ взаимоотношеніяхъ живыхъ людей, разсматриваемыхъ съ точки зрѣнія самаго элементарнаго здраваго смысла.
Да, совершенно ясно, что ленинская старая гвардія доживаетъ свои послѣдніе дни. И потому, что оказалась нѣкоторымъ конкуррентомъ сталинской геніальности, и потому, что въ ней все же были люди, дерзавшіе смѣть свое сужденіе имѣть (а этого никакая деспотія не любитъ), и потому, что вотъ такая товарищъ Шацъ, при всей ея несимпатичности, воровать все-таки не будетъ (вотъ куритъ же собачьи ножки вмѣсто папиросъ) и Якименкѣ воровать не позволитъ. Товарищъ Шацъ, конечно, фанатичка, истеричка, можетъ быть, и садистка, но какая-то идея у нея есть. У Якименки нѣтъ рѣшительно никакой идеи. О Видеманѣ и Стародубцевѣ и говорить нечего... Вся эта старая гвардіи — и Рязановъ, и Чекалинъ, и Шацъ — чувствуютъ: знамя "трудящихся всего міра" и власть, для поддержки этого знамени созданная, попадаютъ просто напросто въ руки сволочи, и сволочь стоитъ вокругъ каждаго изъ нихъ, лязгая молодыми, волчьими зубами.
Что будетъ дѣлать нарицательный Якименко, перегрызя глотку нарицательной Шацъ? Можетъ-ли Сталинъ обойтись безъ Ягоды, Ягода — безъ Якименки, Якименко — безъ Видемана, Видеманъ — безъ Стародубцева и такъ далѣе? Всѣ они, отъ Сталина до Стародубцева, акклиматизировались въ той специфической атмосферѣ большевицкаго строя, которая создана ими самими и внѣ которой имъ никакого житья нѣтъ. Все это — профессіоналы совѣтскаго управленія. Если вы ликвидируете это управленіе, всѣмъ имъ дѣлать въ мірѣ будетъ рѣшительно нечего. Что будутъ дѣлать всѣ эти чекисты, хлѣбозаготовители, сексоты, кооператоры, предсѣдатели завкомовъ, секретари партъ-ячеекъ, раскулачиватели, политруки, директора, выдвиженцы, активисты и прочіе — имя же имъ легіонъ? Вѣдь ихъ милліоны! Если даже и не говорить о томъ, что при переворотѣ большинство изъ нихъ будетъ зарѣзано сразу, а послѣ постепенной эволюціи будетъ зарѣзано постепенно, — то все-таки нужно дать себѣ ясный отчетъ въ томъ, что они — "спеціалисты" большевицкаго управленческаго аппарата, самаго громоздкаго и самаго кроваваго въ исторіи міра. Какая профессія будетъ доступна для всѣхъ нихъ въ условіяхъ небольшевицкаго строя? И можетъ-ли Сталинъ, эволюціоннымъ или революціоннымъ путемъ, сбросить со своихъ счетовъ милліона три-четыре людей, вооруженныхъ до зубовъ? На кого онъ тогда обопрется? И какой слой въ Россіи ему повѣритъ и ему не припомнить великихъ кладбищъ коллективизаціи, раскулачиванія и лагерей Бѣломорско-Балтійскаго канала?
Нѣтъ, всѣ эти люди, какъ бы они ни грызлись между собою, — въ отношеніи къ остальной странѣ спаяны крѣпко, до гроба, спаяны кровью, спаяны и на жизнь, и на смерть. Имъ повернуть некуда, если бы они даже этого хотѣли. "Національная" или "интернаціональная" Россія при Сталинскомъ аппаратѣ остается все-таки Россіей большевицкой.
Вотъ почему нашей послѣдней свободной (т.е. съ воли) попытки побѣга не остановило даже и то обстоятельство, что въ государственныхъ магазинахъ Москвы хлѣбъ и масло стали продаваться кому угодно и въ какихъ угодно количествахъ. Въ 1933 году въ Москвѣ можно было купить все — тѣмъ, у кого были деньги. У меня — деньги были.
___
Мы пришли въ нашу избу и, такъ какъ ѣсть все равно было нечего, то сразу улеглись спать. Но я спать не могъ. Лежалъ, ворочался, курилъ свою махорку и ставилъ передъ собою вопросы, на которые яснаго отвѣта не было. А что же дальше? Да, въ перспективѣ десятилѣтій — "кадры" вымрутъ, "активъ" — сопьется и какія-то таинственныя внутреннія силы страны возьмутъ верхъ. А какія это силы? Да, конечно, интеллектуальныя силы народа возросли безмѣрно — не потому, что народъ учила совѣтская жизнь. А физическія силы?
Передъ памятью пронеслись торфоразработки, шахты, колхозы, заводы, мѣсяцами немытыя лица поваровъ заводскихъ столовокъ, годами недоѣдающіе рабочіи Сормова, Коломны, Сталинграда, кочующіе по Средней Азіи таборы раскулаченныхъ донцевъ и кубанцевъ, дагестанская малярія, эшелоны на БАМ, дѣвочка со льдомъ, будущая — если выживетъ — мать русскихъ мужчинъ и женщинъ... Хватитъ ли физическихъ силъ?..
Вотъ, я — изъ крѣпчайшей мужицко-поповской семьи, гдѣ люди умирали "по Мечникову": ихъ клалъ въ гробъ "инстинктъ естественной смерти", я — въ свое время одинъ изъ сильнѣйшихъ физически людей Россіи — и вотъ въ 42 года я уже сѣдъ... Уже здѣсь, заграницей, мнѣ въ первые мѣсяцы послѣ бѣгства давали 55-60 лѣтъ — но съ тѣхъ поръ я лѣтъ на десять помолодѣлъ. Но тѣ, которые остались тамъ? Они не молодѣютъ!..
Не спалось. Я всталъ и вышелъ на крыльцо. Стояла тихая, морозная ночь. Плавными, пушистыми коврами спускались къ Свири заснѣженныя поля. Лѣвѣе — черными точками и пятнами разбросались избы огромнаго села. Ни звука, ни лая, ни огонька...
Вдругъ съ Погры донеслись два-три выстрѣла — обычная исторія... Потомъ съ юга, съ диковскаго оврага, четко и сухо въ морозномъ воздухѣ, раздѣленные равными — секундъ въ десять — промежутками, раздались восемь винтовочныхъ выстрѣловъ. Жуть и отвращеніе холодными струйками пробѣжали по спинѣ.
Около мѣсяца тому назадъ я сдѣлалъ глупость — пошелъ посмотрѣть на диковскій оврагъ. Онъ начинался въ лѣсахъ, верстахъ въ пяти отъ Погры, огибалъ ее полукольцомъ и спускался въ Свирь верстахъ въ трехъ ниже Подпорожья. Въ верховьяхъ — это была глубокая узкая щель, заваленная трупами разстрѣлянныхъ, верстахъ въ двухъ ниже — оврагъ былъ превращенъ въ братское кладбище лагеря, еще ниже — въ него сваливали конскую падаль, которую лагерники вырубали топорами для своихъ соціалистическихъ пиршествъ. Этого оврага я описывать не въ состояніи. Но эти выстрѣлы напомнили мнѣ о немъ во всей его ужасающей реалистичности. Я почувствовалъ, что у меня начинаютъ дрожать колѣни и холодѣть въ груди. Я вошелъ въ избу и старательно заложилъ дверь толстымъ деревяннымъ брускомъ. Меня охватывалъ какой-то непреоборимый мистическій страхъ. Пустыя комнаты огромной избы наполнялись какими-то тѣнями и шорохами. Я почти видѣлъ, какъ въ углу, подъ пустыми нарами, какая-то съежившаяся старушонка догрызаетъ изсохшую дѣтскую руку. Холодный потъ — не литературный, а настоящій — заливалъ очки, и сквозь его капли пятна луннаго свѣта на полу начинали принимать чудовищныя очертанія.
Я очнулся отъ встревоженнаго голоса Юры, который стоялъ рядомъ со мною и крѣпко держалъ меня за плечи. Въ комнату вбѣжалъ Борисъ. Я плохо понималъ, въ чемъ дѣло. Потъ заливалъ лицо, и сердце колотилось, какъ сумасшедшее. Шатаясь, я дошелъ до наръ и сѣлъ. На вопросъ Бориса я отвѣтилъ: "Такъ, что-то нездоровится". Борисъ пощупалъ пульсъ. Юра положилъ мнѣ руку на лобъ.
— Что съ тобой, Ватикъ? Ты весь мокрый...
Борисъ и Юра быстро сняли съ меня бѣлье, которое дѣйствительно все было мокро, я легъ на нары, и въ дрожащей памяти снова всплывали картины: Одесса и Николаевъ во время голода, людоѣды, торфоразработки, Магнитострой, ГПУ, лагерь, диковскій оврагъ...
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
Послѣ отъѣзда въ Москву Якименки и Шацъ, бурная дѣятельность ликвидкома нѣсколько утихла. Свирьлаговцы слегка пооколачивались — и уѣхали къ себѣ, оставивъ въ Подпорожьи одного своего представителя. Между нимъ и Видеманомъ шли споры только объ "административно-техническомъ персоналѣ". Если цинготный крестьянинъ никуда не былъ годенъ, и ни ББК, — ни Свирьлагъ не хотѣли взваливать его на свои пайковыя плечи, то интеллигентъ, даже и цынготный, еще кое-какъ могъ быть использованъ. Поэтому Свирьлагъ пытался получить сколько возможно интеллигенціи, и поэтому же ББК норовилъ не дать ни души. Въ этомъ торгѣ между двумя рабовладѣльцами мы имѣли все-таки нѣкоторую возможность изворачиваться. Всѣ списки лагерниковъ, передаваемыхъ въ Свирьлагъ или оставляемыхъ за ББК, составлялись въ ликвидкомѣ, подъ техническимъ руководствомъ Надежды Константиновны, а мы съ Юрой переписывали ихъ на пишущей машинкѣ. Тутъ можно было извернуться. Вопросъ заключался преимущественно въ томъ — въ какомъ именно направленіи намъ слѣдуетъ изворачиваться. ББК былъ вообще "аристократическимъ" лагеремъ — тамъ кормили лучше и лучше обращались съ заключенными. Какъ кормили и какъ обращались — я объ этомъ уже писалъ. Выводы о Свирьлагѣ читатель можетъ сдѣлать и самостоятельно. Но ББК — это гигантская территоріи. Въ какой степени вѣроятно, что намъ тремъ удастся остаться вмѣстѣ, что насъ не перебросятъ куда-нибудь на такія чортовы кулички, что изъ нихъ и не выберешься, — куда-нибудь въ окончательное болото, по которому люди и лѣтомъ ходятъ на лыжахъ — иначе засосетъ, и отъ котораго до границы будетъ верстъ 200-250 по мѣстамъ, почти абсолютно непроходимымъ? Мы рѣшили съоріентироваться на Свирьлагъ.
Уговорить Надежду Константиновну на нѣкоторую служебную некорректность — было не очень трудно. Она слегка поохала, слегка побранилась — и наши имена попали въ списки заключенныхъ, оставляемыхъ за Свирьлагомъ.
Это была ошибка и это была грубая ошибка: мы уже начали изворачиваться, еще не собравъ достаточно надежной информаціи. А потомъ стало выясняться. Въ Свирьлагѣ не только плохо кормятъ — это еще бы полбѣды, но въ Свирьлагѣ статья 58-6 находится подъ особенно неусыпнымъ контролемъ, отношеніе къ "контръ-революціонерамъ" особенно звѣрское, лагерные пункты всѣ оплетены колючей проволокой, и даже административныхъ служащихъ выпускаютъ по служебнымъ порученіямъ только на основаніи особыхъ пропусковъ и каждый разъ послѣ обыска. И, кромѣ того, Свирьлагъ собирается всѣхъ купленныхъ въ ББК интеллигентовъ перебросить на свои отдаленные лагпункты, гдѣ "адмтехперсонала" не хватало. Мы разыскали по картѣ (карта висѣла на стѣнѣ ликвидкома) эти пункты и пришли въ настроеніе весьма неутѣшительное. Свирьлагъ тоже занималъ огромную территорію, и были пункты, отстоящіе отъ границы на 400 верстъ — четыреста верстъ ходу по населенной и, слѣдовательно, хорошо охраняемой мѣстности... Это было совсѣмъ плохо. Но наши имена уже были въ Свирьлаговскихъ спискахъ.
Надежда Константиновна наговорила много всякихъ словъ о мужскомъ непостоянствѣ, Надежда Константиновна весьма убѣдительно доказывала мнѣ, что уже ничего нельзя сдѣлать; я отвѣчалъ, что для женщины нѣтъ ничего невозможнаго — ce que la femme veut — Dieu le veut, былъ пущенъ въ ходъ рядъ весьма запутанныхъ лагерно-бюрократическихъ трюковъ, и однажды Надежда Константиновна вошла въ комнатку нашего секретаріата съ видомъ Клеопатры, которая только что и какъ-то очень ловко обставила нѣкоего Антонія... Наши имена были оффиціально изъяты изъ Свирьлага и закрѣплены за ББК. Надежда Константиновна сіяла отъ торжества. Юра поцѣловалъ ей пальчики, я сказалъ, что вѣкъ буду за нее Бога молить, протоколы вести и на машинкѣ стукать.
Вообще — послѣ урчевскаго звѣринца, ликвидкомовскій секретаріатъ казался намъ раемъ земнымъ или, во всякомъ случаѣ, лагернымъ раемъ. Въ значительной степени это зависѣло отъ Надежды Константиновны, отъ ея милой женской суматошливости и покровительственности, отъ ея шутливыхъ препирательствъ съ Юрочкой, котораго она, выражаясь совѣтскимъ языкомъ, "взяла на буксиръ", заставила причесываться и даже ногти чистить... Въ свое время Юра счелъ возможнымъ плевать на Добротина, но Надеждѣ Константиновнѣ онъ повиновался безпрекословно, безо всякихъ разговоровъ.
Надежда Константиновна была, конечно, очень нервной и не всегда выдержанной женщиной, но всѣмъ, кому она могла помочь, она помогала. Бывало придетъ какой-нибудь инженеръ и слезно умоляетъ не отдавать его на растерзаніе Свирьлагу. Конечно, отъ Надежды Константиновны de jure ничего не зависитъ, но мало ли что можно сдѣлать въ порядкѣ низового бумажнаго производства... — въ обходъ всякихъ de jure. Однако, такихъ инженеровъ, экономистовъ, врачей и прочихъ — было слишкомъ много. Надежда Константиновна выслушивала просьбу и начинала кипятиться:
— Сколько разъ я говорила, что я ничего, совсѣмъ ничего не могу сдѣлать. Что вы ко мнѣ пристаете? Идите къ Видеману. Ничего, ничего не могу сдѣлать. Пожалуйста, не приставайте.
Замѣтивъ выраженіе умоляющей настойчивости на лицѣ онаго инженера, Надежда Константиновна затыкала уши пальчиками и начинала быстро твердить:
— Ничего не могу. Не приставайте. Уходите, пожалуйста, а то я разсержусь.
Инженеръ, потоптавшись, уходитъ. Надежда Константиновна, заткнувъ уши и зажмуривъ глаза, продолжала твердить:
— Не могу, не могу, пожалуйста, уходите.
Потомъ, съ разстроеннымъ видомъ, перебирая свои бумаги, она жаловалась мнѣ:
— Ну вотъ, видите, какъ они всѣ лѣзутъ. Имъ, конечно, не хочется въ Свирьлагъ... А они и не думаютъ о томъ, что у меня на рукахъ двое дѣтей... И что я за все это тоже могу въ Свирьлагъ попасть, только не вольнонаемной, а уже заключенной... Всѣ вы эгоисты, вы, мужчины.
Я скромно соглашался съ тѣмъ, что нашъ братъ, мужчина, конечно, могъ бы быть нѣсколько альтруистичнѣе. Тѣмъ болѣе, что въ дальнѣйшемъ ходѣ событій я уже былъ болѣе или менѣе увѣренъ... Черезъ нѣкоторое время Н. К. говорила мнѣ раздраженнымъ тономъ.
— Ну, что же вы сидите и смотрите? Ну, что же вы мнѣ ничего не посовѣтуете? Все должна я, да я. Какъ вы думаете, если мы этого инженера проведемъ по спискамъ, какъ десятника...
Обычно къ этому моменту техника превращенія инженера въ десятника, врача въ лѣкпома (лѣкарскій помощникъ) или какой-нибудь значительно болѣе сложной лагерно-бюрократической махинаціи была уже обдумана и мной, и Надеждой Константиновной. Надежда Константиновна охала и бранилась, но инженеръ все-таки оставался за ББК. Нѣкоторымъ устраивалась командировка въ Медгору, со свирѣпымъ наставленіемъ — оставаться тамъ, даже рискуя отсидкой въ ШИЗО (штрафной изоляторъ). Многіе на время вообще исчезали со списочнаго горизонта: во всякомъ случаѣ, немного интеллигенціи получилъ Свирьлагъ. Во всѣхъ этихъ операціяхъ — я, мелкая сошка, переписчикъ и къ тому же уже заключенный, рисковалъ немногимъ. Надежда Константиновна иногда шла на очень серьезный рискъ.
Это была еще молодая, лѣтъ 32-33 женщина, очень милая и привлекательная и съ большими запасами sex appeal. Не будемъ зря швырять въ нее булыжниками; какъ и очень многія женщины въ этомъ мірѣ, для женщинъ оборудованномъ особенно неуютно, она разсматривала свой sex appeal, какъ капиталъ, который долженъ быть вложенъ въ наиболѣе рентабильное предпріятіе этого рода. Какое предпріятіе въ Совѣтской Россіи могло быть болѣе рентабильнымъ, чѣмъ бракъ съ высокопоставленнымъ коммунистомъ?
Въ долгіе вечера, когда мы съ Надеждой Константиновной дежурили въ ликвидкомѣ при свѣтѣ керосиновой коптилки, она мнѣ урывками разсказала кое-что изъ своей путаной и жестокой жизни. Она была, во всякомъ случаѣ, изъ культурной семьи — она хорошо знала иностранные языки и при этомъ такъ, какъ ихъ знаютъ по гувернанткамъ, а не по самоучителямъ. Потомъ — одинокая дѣвушка не очень подходящаго происхожденія, въ жестокой борьбѣ за жизнь — за совѣтскую жизнь. Потомъ — бракъ съ высокопоставленнымъ коммунистомъ — директоромъ какого-то завода. Директоръ какого-то завода попалъ въ троцкистско-вредительскую исторію и былъ отправленъ на тотъ свѣтъ. Надежда Константиновна опять осталась одна — впрочемъ, не совсѣмъ одна: на рукахъ остался малышъ, размѣромъ года въ полтора. Конечно, старые сотоварищи бывшаго директора предпочли ее не узнавать: блаженъ мужъ иже не возжается съ "классовыми врагами" и даже съ ихъ вдовами. Снова пишущая машинка, снова голодъ — на этотъ разъ голодъ вдвоемъ, снова мѣсяцами наростающая жуть передъ каждой "чисткой": и происхожденіе, и покойный мужъ, и совершенно правильная презумпція, что вдова разстрѣляннаго человѣка не можетъ очень ужъ пылать коммунистическимъ энтузіазмомъ... Словомъ — очень плохо.
Надежда Константиновна рѣшила, что въ слѣдующій разъ она такого faux pas уже не сдѣлаетъ. Слѣдующій разъ sex appeal былъ вложенъ въ максимально солидное предпріятіе: въ стараго большевика, когда-то ученика самого Ленина, подпольщика, политкаторжанина, ученаго лѣсовода и члена коллегіи Наркомзема, Андрея Ивановича Запѣвскаго. Былъ какой-то промежутокъ отдыха, былъ второй ребенокъ, и потомъ Андрей Ивановичъ поѣхалъ въ концентраціонный лагерь, срокомъ на десять лѣтъ. На этотъ разъ уклонъ оказался правымъ.
А. И., попавши въ лагерь и будучи (рѣдкій случай) бывшимъ коммунистомъ, имѣющимъ еще кое-какую спеціальность, кромѣ обычныхъ "партійныхъ спеціальностей" (ГПУ, кооперація, военная служба, профсоюзъ), цѣной трехъ лѣтъ "самоотверженной", то-есть совсѣмъ уже каторжной, работы заработалъ себѣ право на "совмѣстное проживаніе съ семьей". Такое право давалось очень немногимъ и особо избраннымъ лагерникамъ и заключалось оно въ томъ, что этотъ лагерникъ могъ выписать къ себѣ семью и жить съ ней въ какой-нибудь частной избѣ, не въ баракѣ. Всѣ остальныя условія его лагерной жизни: паекъ, работа и — что хуже всего — переброски оставались прежними.
Итакъ, Надежда Константиновна въ третій разъ начала вить свое гнѣздышко, на этотъ разъ въ лагерѣ, такъ сказать, совсѣмъ ужъ непосредственно подъ пятой ОГПУ. Впрочемъ, Надежда Константиновна довольно быстро устроилась. На фонѣ кувшинныхъ рылъ совѣтскаго актива она, къ тому же вольнонаемная, была, какъ работница, конечно — сокровищемъ. Не говоря уже о ея культурности и ея конторскихъ познаніяхъ, она, при ея двойной зависимости — за себя и за мужа, не могла не стараться изъ всѣхъ своихъ силъ.
Мужъ ея, Андрей Ивановичъ, былъ невысокимъ, худощавымъ человѣкомъ лѣтъ пятидесяти, со спокойными, умными глазами, въ которыхъ, казалось, на весь остатокъ его жизни осѣла какая-то жестокая, ѣдкая, незабываемая горечь. У него — стараго подпольщика-каторжанина и пр. — поводовъ для этой горечи было болѣе чѣмъ достаточно, но одинъ изъ нихъ дѣйствовалъ на мое воображеніе какъ-то особенно гнетуще: это была волосатая лапа товарища Видемана, съ собственническимъ чувствомъ положенная на съеживающееся плечо Н. К.
На Андрея Ивановича у меня были нѣкоторые виды. Остатокъ нашихъ лагерныхъ дней мы хотѣли провести гдѣ-нибудь не въ канцеляріи. Андрей Ивановичъ завѣдывалъ въ Подпорожьи лѣснымъ отдѣломъ, и я просилъ его устроить насъ обоихъ — меня и Юру — на какихъ-нибудь лѣсныхъ работахъ, чѣмъ-нибудь вродѣ таксаторовъ, десятниковъ и т.д. Андрей Ивановичъ далъ намъ кое-какую литературу, и мы мечтали о томъ времени, когда мы сможемъ шататься по лѣсу вмѣсто того, чтобы сидѣть за пишущей машинкой.
___
Какъ-то днемъ, на обѣденный перерывъ иду я въ свою избу. Слышу — сзади чей-то голосъ. Оглядываюсь. Надежда Константиновна, тщетно стараясь меня догнать, что-то кричитъ и машетъ мнѣ рукой. Останавливаюсь.
— Господи, да вы совсѣмъ глухи стали! Кричу, кричу, а вы хоть бы что. Давайте пойдемъ вмѣстѣ, вѣдь намъ по дорогѣ.
Пошли вмѣстѣ. Обсуждали текущія дѣла лагеря. Потомъ Надежда Константиновна какъ-то забезпокоилась.
— Посмотрите, это, кажется, мой Любикъ.
Это было возможно, но, во-первыхъ, ея Любика я въ жизни въ глаза на видалъ, а во вторыхъ, то, что могло быть Любикомъ, представляло собою черную фигурку на фонѣ бѣлаго снѣга, шагахъ въ ста отъ насъ. На такую дистанцію мои очки не работали. Фигурка стояла у края дороги и свирѣпо молотила чѣмъ-то по снѣжному сугробу. Мы подошли ближе и выяснили, что это, дѣйствительно, былъ Любикъ, возвращающійся изъ школы.
— Господи, да у него все лицо въ крови!.. Любикъ! Любикъ!
Фигурка обернулась и, узрѣвъ свою единственную мамашу, сразу пустилась въ ревъ — полагаю, что такъ, на всякій случай. Послѣ этого, Любикъ прекратилъ избіеніе своей книжной сумкой снѣжнаго сугроба и, размазывая по своей рожицѣ кровь и слезы, заковылялъ къ намъ. При ближайшемъ разсмотрѣніи Любикъ оказался мальчишкой лѣтъ восьми, одѣтымъ въ какую-то чистую и заплатанную рвань, со слѣдами недавней потасовки во всемъ своемъ обликѣ, въ томъ числѣ и на рожицѣ. Надежда Константиновна опустилась передъ нимъ на колѣни и стала вытирать съ его рожицы слезы, кровь и грязь. Любикъ использовалъ всѣ свои наличный возможности, чтобы поорать всласть. Конечно, былъ какой-то трагически злодѣй, именуемый не то Митькой, не то Петькой, конечно, этотъ врожденный преступникъ изуродовалъ Любика ни за что, ни про что, конечно, материнское сердце Надежды Константиновны преисполнилось горечи, обиды и возмущенія. Во мнѣ же расквашенная рожица Любика не вызывала рѣшительно никакого соболѣзнованія — точно такъ же, какъ во время оно расквашенная рожица Юрочки, особенно если она бывала расквашена по всѣмъ правиламъ неписанной конституціи великой мальчуганской націи. Вопросы же этой конституціи, я полагалъ, всецѣло входили въ мою мужскую компетенцію. И я спросилъ дѣловымъ тономъ:
— А ты ему, Любикъ, тоже вѣдь далъ?
— Я ему какъ далъ... а онъ мнѣ... и я его еще... у-у-у...
Вопросъ еще болѣе дѣловой:
— А ты ему какъ — правой рукой или лѣвой?
Тема была перенесена въ область чистой техники, и для эмоцій мѣста не оставалось. Любикъ отстранилъ материнскій платокъ, вытиравшій его оскорбленную физіономію, и въ его глазенкахъ, сквозь еще не высохшія слезы, мелькнуло любопытство.
— А какъ это — лѣвой?
Я показалъ. Любикъ съ весьма дѣловымъ видомъ, выкарабкался изъ материнскихъ объятій: разговоръ зашелъ о дѣлѣ, и тутъ ужъ было не до слезъ и не до сантиментовъ.
— Дядя, а ты меня научишь?
— Обязательно научу.
Между мною и Любикомъ былъ, такимъ образомъ, заключенъ "пактъ технической помощи". Любикъ вцѣпился въ мою руку, и мы зашагали. Надежда Константиновна горько жаловалась на безпризорность Любика — сама она сутками не выходила изъ ликвидкома, и Любикъ болтался, Богъ его знаетъ — гдѣ, и ѣлъ, Богъ его знаетъ — что. Любикъ прерывалъ ее всякими дѣловыми вопросами, относящимися къ области потасовочной техники. Черезъ весьма короткое время Любикъ, сообразивъ, что столь исключительное стеченіе обстоятельствъ должно быть использовано на всѣ сто процентовъ, сталъ усиленно подхрамывать и, въ результатѣ этой дипломатической акціи, не безъ удовлетворенія умѣстился на моемъ плечѣ. Мы подымались въ гору. Стало жарко. Я снялъ шапку. Любикины пальчики стали тщательно изслѣдовать мой черепъ.
— Дядя, а почему у тебя волосовъ мало?
— Вылѣзли, Любикъ.
— А куда они вылѣзли?
— Такъ, совсѣмъ вылѣзли.
— Какъ совсѣмъ? Совсѣмъ изъ лагеря?
Лагерь для Любика былъ всѣмъ міромъ. Разваливающіяся избы, голодающіе карельскіе ребятишки, вшивая и голодная рвань заключенныхъ, бараки, вохръ, стрѣльба — это былъ весь міръ, извѣстный Любику. Можетъ быть, по вечерамъ въ своей кроваткѣ онъ слышалъ сказки, которыя ему разсказывала мать: сказки о мірѣ безъ заключенныхъ, безъ колючей проволоки, безъ оборванныхъ толпъ, ведомыхъ вохровскими конвоирами куда-нибудь на БАМ. Впрочемъ — было ли у Надежды Константиновны время для сказокъ?
Мы вошли въ огромную комнату карельской избы. Комната была такъ же нелѣпа и пуста, какъ и наша. Но какія-то открытки, тряпочки, бумажки, салфеточки — и кто его знаетъ, что еще, придавали ей тотъ жилой видъ, который мужскимъ рукамъ, видимо, совсѣмъ не подъ силу. Надежда Константиновна оставила Любика на моемъ попеченіи и побѣжала къ хозяйкѣ избы. Отъ хозяйки она вернулась съ еще однимъ потомкомъ — потомку было года три. Сердобольная старушка-хозяйка присматривала за нимъ во время служебной дѣятельности Надежды Константиновны.
— Не уходите, И. Л., я васъ супомъ угощу.
Надежда Константиновна, какъ вольнонаемная работница лагеря, находилась на службѣ ГПУ и получала чекистскій паекъ — не первой и не второй категоріи — но все-же чекистской. Это давало ей возможность кормить свою семью и жить, не голодая. Она начала хлопотать у огромной русской печи, я помогъ ей нарубить дровъ, на огонь былъ водруженъ какой-то горшокъ. Хлопоча и суетясь, Надежда Константиновна все время оживленно болтала, и я, не безъ нѣкоторой зависти, отмѣчалъ тотъ запасъ жизненной энергіи, цѣпкости и бодрости, который такъ много русскихъ женщинъ проносить сквозь весь кровавый кабакъ революціи... Какъ-никакъ, а прошлое у Надежды Константиновны было невеселое. Вотъ мнѣ сейчасъ все-таки уютно у этого, пусть временнаго, пусть очень хлибкаго, но все же человѣческаго очага, даже мнѣ, постороннему человѣку, становится какъ-то теплѣе на душѣ. Но вѣдь не можетъ же Надежда Константиновна не понимать, что этотъ очагъ — домъ на пескѣ. Подуютъ какіе-нибудь видемановскіе или бамовскіе вѣтры, устремятся на домъ сей — и не останется отъ этого гнѣзда ни одной пушинки.
Пришелъ Андрей Ивановичъ, — какъ всегда, горько равнодушный. Взялъ на руки своего потомка и сталъ разговаривать съ нимъ на томъ мало понятномъ постороннему человѣку діалектѣ, который существуетъ во всякой семьѣ. Потомъ мы завели разговоръ о предстоящихъ лѣсныхъ работахъ. Я честно сознался, что мы въ нихъ рѣшительно ничего не понимаемъ. Андрей Ивановичъ сказалъ, что это не играетъ никакой роли, что онъ насъ проинструктируетъ — если только онъ здѣсь останется.
— Ахъ, пожалуйста, не говори этого, Андрюша, — прервала его Надежда Константиновна, — ну, конечно, останемся здѣсь... Все-таки, хоть какъ-нибудь, да устроились. Нужно остаться.
Андрей Ивановичъ пожалъ плечами.
— Надюша, мы вѣдь въ совѣтской странѣ и въ совѣтскомъ лагерѣ. О какомъ устройствѣ можно говорить всерьезъ?
Я не удержался и кольнулъ Андрея Ивановича: ужъ ему-то, столько силъ положившему на созданіе совѣтской страны и совѣтскаго лагеря, и на страну и на лагерь плакаться не слѣдовало бы. Ужъ кому кому, а ему никакъ не мѣшаетъ попробовать, что такое коммунистическій концентраціонный лагерь.
— Вы почти правы, — съ прежнимъ горькимъ равнодушіемъ сказалъ Андрей Ивановичъ. — Почти. Потому что и въ лагерѣ нашего брата нужно каждый выходной день нещадно пороть. Пороть и приговаривать: не дѣлай, сукинъ сынъ, революціи, не дѣлай, сукинъ сынъ, революціи...
Финалъ этого семейнаго уюта наступилъ скорѣе, чѣмъ я ожидалъ. Какъ-то поздно вечеромъ въ комнату нашего секретаріата, гдѣ сидѣли только мы съ Юрой, вошла Надежда Константиновна. Въ рукахъ у нея была какая-то бумажка. Надежда Константиновна для чего-то уставилась въ телефонный аппаратъ, потомъ — въ расписаніе поѣздовъ, потомъ протянула мнѣ эту бумажку. Въ бумажкѣ стояло:
"Запѣвскаго, Андрея Ивановича, немедленно подъ конвоемъ доставить въ Повѣнецкое отдѣленіе ББК".
Что я могъ сказать?
Надежда Константиновна смотрѣла на меня въ упоръ, и въ лицѣ ея была судорожная мимика женщины, которая собираетъ свои послѣднія силы, чтобы остановиться на порогѣ истерики. Силъ не хватило. Надежда Константиновна рухнула на стулъ, уткнула голову въ колѣни и зарыдала глухими, тяжелыми рыданіями — такъ, чтобы въ сосѣдней комнатѣ не было слышно. Что я могъ ей сказать? Я вспомнилъ владѣтельную лапу Видемана... Зачѣмъ ему, Видеману, этотъ лѣсоводъ изъ старой гвардіи? Записочка кому-то въ Медгору — и товарищъ Запѣвскій вылетаетъ чортъ его знаетъ куда, даже и безъ его, Видемана, видимаго участія, — и онъ, Видеманъ, остается полнымъ хозяиномъ. Надежду Константиновну онъ никуда не пуститъ въ порядкѣ ГПУ-ской дисциплины, Андрей Ивановичъ будетъ гнить гдѣ-нибудь на Лѣсной Рѣчкѣ въ порядкѣ лагерной дисциплины. Товарищъ Видеманъ кому-то изъ своихъ корешковъ намекнетъ на то, что этого лѣсовода никуда выпускать не слѣдуетъ, и корешокъ, въ чаяніи отвѣтной услуги отъ Видемана, постарается Андрея Ивановича "сгноить на корню".
Я на мгновеніе попытался представить себѣ психологію и переживанія Андрея Ивановича. Ну, вотъ, мы съ Юрой — тоже въ лагерѣ. Но у насъ все это такъ просто: мы просто въ плѣну у обезьянъ. А Андрей Ивановичъ? Развѣ, сидя въ тюрьмахъ царскаго режима и плетя паутину будущей революціи, — развѣ о такой жизни мечталъ онъ для человѣчества и для себя? Развѣ для этого шелъ онъ въ ученики Ленину?
Юра подбѣжалъ къ Надеждѣ Константиновнѣ и сталъ ее утѣшать — неуклюже, нелѣпо, неумѣло, — но какимъ-то таинственнымъ образомъ это утѣшеніе подѣйствовало на Надежду Константиновну. Она схватила Юрину руку, какъ бы въ этой рукѣ, рукѣ юноши-каторжника, ища какой-то поддержки, и продолжала рыдать, но не такъ ужъ безнадежно, хотя — какая надежда оставалась ей?
Я сидѣлъ и молчалъ. Я ничего не могъ сказать и ничѣмъ не могъ утѣшить, ибо впереди ни ей, ни Андрею Ивановичу никакого утѣшенія не было. Здѣсь, въ этой комнатушкѣ, была бита послѣдняя ставка, послѣдняя карта революціонныхъ иллюзій Андрея Ивановича и семейныхъ — Надежды Константиновны...
Въ іюнѣ того же года, объѣзжая заброшенные лѣсные пункты Повѣнецкаго отдѣленія, я встрѣтился съ Андреемъ Ивановичемъ. Онъ постарался меня не узнать. Но я все же подошелъ къ нему и спросилъ о здоровьи Надежды Константиновны. Андрей Ивановичъ посмотрѣлъ на меня глазами, въ которыхъ уже ничего не было, кромѣ огромной пустоты и горечи, потомъ подумалъ, какъ бы соображая, стоитъ ли отвѣчать или не стоитъ, и потомъ сказалъ:
— Приказала, какъ говорится, долго жить.
Больше я ни о чемъ не спрашивалъ.
СВИРЬЛАГЪ
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ КВАРТАЛЪ
Изъ ББКовскаго ликвидкома я былъ временно переброшенъ въ штабъ Подпорожскаго отдѣленія Свирьлага. Штабъ этотъ находился рядомъ, въ томъ же селѣ, въ просторной и чистой квартирѣ бывшаго начальника подпорожскаго отдѣленія ББК.
Меня назначили экономистомъ-плановикомъ, съ совершенно невразумительными функціями и обязанностями. Каждое уважающее себя совѣтское заведеніе имѣетъ обязательно свой плановый отдѣлъ, никогда этотъ отдѣлъ толкомъ не знаетъ, что ему надо дѣлать, но такъ какъ совѣтское хозяйство есть плановое хозяйство, то всѣ эти отдѣлы весьма напряженно занимаются переливаніемъ изъ пустого въ порожнее.
Этой дѣятельностью предстояло заняться и мнѣ. Съ тѣмъ только осложненіемъ, что плановаго отдѣла еще не было и нужно было создавать его заново — чтобы, такъ сказать, лагерь не отставалъ отъ темповъ соціалистическаго строительства въ странѣ и чтобы все было, "какъ у людей". Планировать же совершенно было нечего, ибо лагерь, какъ опять же всякое совѣтское хозяйство, былъ построенъ на такомъ хозяйственномъ пескѣ, котораго заранѣе никакъ не учтешь. Сегодня изъ лагеря — помимо, конечно, всякихъ "планирующихъ организацій" — заберутъ пять или десять тысячъ мужиковъ. Завтра пришлютъ двѣ или три тысячи уголовниковъ. Сегодня доставятъ хлѣбъ — завтра хлѣба не доставятъ. Сегодня — небольшой морозецъ, слѣдовательно, даже полураздѣтые свирьлаговцы кое-какъ могутъ ковыряться въ лѣсу, а дохлыя лошади — кое-какъ вытаскивать баланы. Если завтра будетъ морозъ, то полураздѣтые или — если хотите — полуголые люди ничего нарубить не смогутъ. Если будетъ оттепель — то по размокшей дорогѣ наши дохлыя клячи не вывезутъ ни одного воза. Вчера я сидѣлъ въ ликвидкомѣ этакой немудрящей завпишмашечкой, сегодня я — начальникъ несуществующаго плановаго отдѣла, а завтра я, можетъ быть, буду въ лѣсу дрова рубить. Вотъ и планируй тутъ.
Свою "дѣятельность" я началъ съ ознакомленія со свирьлаговскими условіями — это всегда пригодится. Оказалось, что Свирьлагъ занять почти исключительно заготовкой дровъ, а отчасти и строевого лѣса для Ленинграда и, повидимому, и для экспорта. Чтобы отъ этого лѣса не шелъ слишкомъ дурной запахъ — лѣсъ передавался разнаго рода декоративнымъ организаціямъ, вродѣ Сѣвзаплѣса, Кооплѣса и прочихъ — и уже отъ ихъ имени шелъ въ Ленинградъ.
Въ Свирьлагѣ находилось около 70.000 заключенныхъ съ почти ежедневными колебаніями въ 5-10 тысячъ въ ту или иную сторону. Интеллигенціи въ немъ оказалось еще меньше, чѣмъ въ ББК — всего около 2,5%, рабочихъ гораздо больше — 22% (вѣроятно, сказывалась близость Ленинграда), урокъ — меньше — 12%. Остальные — все тѣ же мужики, преимущественно сибирскіе.
Свирьлагъ былъ нищимъ лагеремъ, даже по сравненію съ ББК. Нормы снабженія были урѣзаны до послѣдней степени возможности, до предѣловъ клиническаго голоданія всей лагерной массы. Запасы лагпунктовскихъ базъ были такъ ничтожны, что малѣйшіе перебои въ доставкѣ продовольствія оставляли лагерное населеніе безъ хлѣба и вызывали зіяющіе производственные прорывы.
Этому "лагерному населенію" даже каша перепадала рѣдко. Кормили хлѣбомъ, прокисшей капустой и протухшей рыбой. Норма хлѣбнаго снабженія была на 15 процентовъ ниже ББКовской. Дохлая рыба время отъ времени вызывала массовый желудочныя заболѣванія (какъ ихъ предусмотришь по плану?), продукція лагеря падала почти до нуля, начальникъ отдѣленія получалъ жестокій разносъ изъ Лодейнаго поля, но никогда не посмѣлъ отвѣтить на этотъ разносъ аргументомъ, какъ будто неотразимымъ — этой самой дохлой рыбой. Но дохлую рыбу слало то же самое начальство, которое сейчасъ устраивало разносъ. Куда пойдешь, кому скажешь?
ИНВЕНТАРИЗАЦІЯ
Отдѣленіе слало въ Лодейное поле огромныя ежедневныя простыни производственныхъ сводокъ. Въ одной изъ такихъ сводокъ стояла графа: "невыходы на работу по раздѣтости и разутости". Въ концѣ февраля — началѣ марта стукнули морозы, и цифра этой графы стала катастрофически повышаться. Одежды и обуви не хватало. Стали расти цифры заболѣвшихъ и замерзшихъ, въ угрожающемъ количествѣ появились "саморубы" — люди, которые отрубали себѣ пальцы на рукахъ, разрубали топорами ступни ногъ — лишь бы не идти на работу въ лѣсъ, гдѣ многихъ ждала вѣрная гибель.
Повидимому, точно такъ-же обстояло дѣло и въ другихъ лагеряхъ, ибо мы получили изъ ГУЛАГа приказъ объ инвентаризаціи. Нужно было составить списки всего имѣющагося на лагерникахъ обмундированіи, въ томъ числѣ и ихъ собственнаго, и перераспредѣлить его такъ, чтобы по мѣрѣ возможности одѣть и обуть работающія въ лѣсу бригады.
Но въ Свирьлагѣ всѣ были полуголые... Рѣшено было нѣкоторыя категоріи лагерниковъ — "слабосилку", "промотчиковъ", "урокъ" — раздѣть почти до гола. Даже съ обслуживающаго персонала рѣшено было снять сапоги и валенки... Для урокъ въ какомъ-то болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ проектировалась особая форма: балахоны, сшитые изъ яркихъ и разноцвѣтныхъ кусковъ всякаго тряпья, чтобы ужъ никакъ и никому загнать нельзя было...
РАЗБОЙ СРЕДИ ГОЛЫХЪ
Вся эта работа была возложена на лагерную администрацію всѣхъ ступеней. Мы, "техническая интеллигенція", были "мобилизованы" на это дѣло какъ-то непонятно и очень ужъ "безпланово". Мнѣ ткнули въ руки мандатъ на руководство инвентаризаціей обмундированія на 19-мъ кварталѣ, никакихъ мало-мальски толковыхъ инструкцій я добиться не могъ — и вотъ я съ этимъ мандатомъ топаю за 12 верстъ отъ Подпорожья.
Я иду безъ конвоя. Морозъ — крѣпкій, но на мнѣ — свой светеръ, своя кожанка, казенный, еще ББК-овскій, бушлатъ, полученный вполнѣ оффиціально, и на ногахъ добротные ББКовскіе валенки, полученные слегка по блату. Пріятно идти по морозцу, почти на свободѣ, чувствуя, что хотя часть прежнихъ силъ, но все-таки вернулась... Мы съѣли уже двѣ посылки съ воли. Двѣ были раскрадены на почтѣ и одна — изъ палатки; было очень обидно...
Передъ входомъ въ лагерь — покосившаяся будка, передъ ней — костеръ, и у костра — двое вохровцевъ. Они тщательно провѣряютъ мои документы. Лагерь крѣпко оплетенъ колючей проволокой и оцѣпленъ вооруженной охраной. Посты ВОХРа стоятъ и внутри лагеря. Всякое движеніе прекращено, и все населеніе лагпункта заперто по своимъ баракамъ. Для того, чтобы не терять драгоцѣннаго рабочаго времени, для инвентаризаціи былъ выбранъ день отдыха — всѣ эти дни лагерникамъ для "отдыха" преподносится: то "ударникъ", то инвентаризація, то что-нибудь въ этомъ родѣ...
Въ кабинетѣ УРЧ начальство заканчиваетъ послѣднія распоряженія, и я вижу, что рѣшительно ничѣмъ мнѣ "руководить" не придется. Тамъ, гдѣ дѣло касается мѣропріятій раздѣвательнаго и ограбительнаго характера, "активъ" дѣйствуетъ молніеносно и безъ промаха. Только на это онъ, собственно, и тренированъ. Только на это онъ и способенъ.
Я думалъ, что на пространствѣ "одной шестой части земного шара" ограблено уже все, что только можно ограбить. Оказалось, что я ошибался. Въ этотъ день мнѣ предстояло присутствовать при ограбленіи такой голи и такой нищеты, что дальше этого грабить, дѣйствительно, физически уже нечего. Развѣ что — сдирать съ людей кожу для экспорта ея заграницу...
ВШИВЫЙ АДЪ
Въ баракѣ — жара и духота. Обѣ стандартныхъ печурки раскалены почти до бѣла. По бараку мечутся, какъ угорѣлые, оперативники, вохровцы, лагерники и всякое начальство мѣстнаго масштаба. Безтолковый начальственно-командный крикъ, подзатыльники, гнетущій лагерный матъ. До жути оборванные люди, истощенныя землисто-зеленыя лица...
Въ одномъ концѣ барака — столъ для "комиссіи". "Комиссія" — это, собственно, я — и больше никого. Къ другому концу барака сгоняютъ всю толпу лагерниковъ — кого съ вещами, кого безъ вещей. Сгоняютъ съ ненужной грубостью, съ ударами, съ расшвыриваніемъ по бараку жалкаго борохла лагерниковъ... Да, это вамъ не Якименко, съ его патриціанскимъ профилемъ, съ его маникюромъ и съ его "будьте добры"... Или, можетъ быть, это — просто другое лицо Якименки?
Хаосъ и кабакъ. Распоряжается одновременно человѣкъ восемь — и каждый по своему. Поэтому никто не знаетъ, что отъ него требуется и о чемъ, въ сущности, идетъ рѣчь. Наконецъ, всѣ три сотни лагерниковъ согнаны въ одинъ конецъ барака и начинается "инвентаризація"...
Передо мной — списки заключенныхъ, съ отмѣтками о количествѣ отработанныхъ дней, и куча "арматурныхъ книжекъ". Это — маленькія книжки изъ желтой ноздреватой бумаги, куда записывается, обычно карандашомъ, все получаемое лагерникомъ "вещевое довольство".
Тетрадки порастрепаны, бумага разлѣзлась, записи — мѣстами стерты. Въ большинствѣ случаевъ ихъ и вовсе нельзя разобрать — а вѣдь дѣло идетъ о такихъ "матеріальныхъ цѣнностяхъ", за утрату которыхъ лагерникъ обязанъ оплатить ихъ стоимость въ десятикратномъ размѣрѣ. Конечно, заплатить этого онъ вообще не можетъ, но зато его лишаютъ и той жалкой трешницы "премвознагражденія", которая время отъ времени даетъ ему возможность побаловаться пайковой махоркой или сахаромъ...
Между записями этихъ книжекъ и наличіемъ на лагерникѣ записаннаго на него "вещдовольствія" нѣтъ никакого соотвѣтствія — хотя бы даже приблизительнаго. Вотъ стоитъ передо мной почти ничего не понимающій по русски и, видимо, помирающій отъ цынги дагестанскій горецъ. На немъ нѣтъ отмѣченнаго по книжкѣ бушлата. Пойдите, разберитесь — его ли подпись поставлена въ книжкѣ въ видѣ кособокаго крестика въ графѣ: "подпись заключеннаго"? Получилъ ли онъ этотъ бушлатъ въ реальности или сей послѣдній былъ пропитъ соотвѣтствующимъ каптеромъ въ компаніи соотвѣтствующаго начальства, съ помощью какого-нибудь бывалаго урки сплавленъ куда-нибудь на олонецкій базаръ и приписанъ ничего не подозрѣвающему горцу?
Сколько тоннъ совѣтской сивухи было опрокинуто въ бездонныя начальственныя глотки за счетъ никогда не выданныхъ бушлатовъ, сапогъ, шароваръ, приписанныхъ мертвецамъ, бѣглецамъ, этапникамъ на какой-нибудь БАМ, неграмотнымъ или полуграмотнымъ мужикамъ, не знающимъ русскаго языка нацменамъ. И вотъ, гдѣ-нибудь въ Читѣ, на Вишерѣ, на Ухтѣ будутъ забирать отъ этого Халилъ Оглы его послѣдніе гроши.
И попробуйте доказать, что инкриминируемые ему сапоги никогда и не болтались на его цынготныхъ ногахъ. Попробуйте доказать это здѣсь, на девятнадцатомъ кварталѣ. И платитъ Халилъ Оглы свои трешницы... Впрочемъ, съ даннаго Халила особенно много трешницъ взять уже не успѣютъ...
Самъ процессъ "инвентаризаціи" проходитъ такъ: изъ толпы лагерниковъ вызываютъ по списку одного. Онъ подходитъ къ мѣсту своего постояннаго жительства на нарахъ, забираетъ свой скарбъ и становится шагахъ въ пяти отъ стола. Къ мѣсту жительства на нарахъ ищейками бросаются двое оперативниковъ и устраиваютъ тамъ пронзительный обыскъ. Лазятъ надъ нарами и подъ нарами, вытаскиваютъ мятую бумагу и тряпье, затыкающее многочисленныя барачныя дыры изъ барака во дворъ, выколупываютъ глину, которою замазаны безчисленныя клопиныя гнѣзда.
Двое другихъ накидываются на лагерника, общупываютъ его, вывертываютъ наизнанку все его тряпье, вывернули бы наизнанку и его самого, если бы къ тому была хоть малѣйшая техническая возможность. Ничего этого не нужно — ни по инструкціи, ни по существу, но привычка — вторая натура...
Я на своемъ вѣку видалъ много грязи, голода, нищеты и всяческой рвани. Я видалъ одесскій и николаевскій голодъ, видалъ таборы раскулаченныхъ кулаковъ въ Средней Азіи, видалъ рабочія общежитія на торфозаготовкахъ — но такого еще не видывалъ никогда.
Въ баракѣ было такъ жарко именно потому, что половина людей были почти голы. Между оперативниками и "инвентаризируемыми" возникали, напримѣръ, такіе споры: считать ли двѣ рубахи за двѣ или только за одну въ томъ случаѣ, если онѣ были приспособлены такъ, что цѣлыя мѣста верхней прикрывали дыры нижней, а цѣлыя мѣста нижней болѣе или менѣе маскировали дыры верхней. Каждая изъ нихъ, взятая въ отдѣльности, конечно, уже не была рубахой — даже по масштабамъ совѣтскаго концлагеря, но двѣ онѣ, вмѣстѣ взятыя, давали человѣку возможность не ходить совсѣмъ ужъ въ голомъ видѣ. Или: на лагерникѣ явственно двѣ пары штановъ — но у одной нѣтъ лѣвой штанины, а у второй отсутствуетъ весь задъ. Обѣ пары, впрочемъ, одинаково усыпаны вшами...
Оперативники норовили отобрать все — опять-таки по своей привычкѣ, по своей тренировкѣ ко всякаго рода "раскулачиванію" чужихъ штановъ. Какъ я ни упирался — къ концу инвентаризаціи въ углу барака набралась цѣлая куча рвани, густо усыпанной вшами и немыслимой ни въ какой буржуазной помойкѣ...
— Вы ихъ водите въ баню? — спросилъ я начальника колонны.
— А въ чемъ ихъ поведешь? Да и сами не пойдутъ...
По крайней мѣрѣ половинѣ барака въ баню идти дѣйствительно не въ чемъ...
Есть, впрочемъ, и болѣе одѣтые. Вотъ на одномъ — одинъ валенокъ и одинъ лапоть! Валенокъ отбирается въ расчетѣ на то, что въ какомъ-нибудь другомъ баракѣ будетъ отобранъ еще одинъ непарный. На нѣсколькихъ горцахъ — ихъ традиціонныя бурки и — почти ничего подъ бурками. Оперативники нацѣливаются и на эти бурки, но бурки не входятъ въ списки лагернаго обмундированія, и горцевъ раскулачить не удается.
ИДУЩІЕ НА ДНО
Девятнадцатый кварталъ былъ своего рода штрафной командировкой — если и не оффиціально, то фактически. Конечно, не такой, какою бываютъ настоящіе, оффиціальные, "штрафныя командировки", гдѣ фактически каждый вохровецъ имѣетъ право, если не на жизнь и смерть любого лагерника, то, во всякомъ случаѣ, на убійство "при попыткѣ къ бѣгству". Сюда же сплавлялся всякаго рода отпѣтый народъ — прогульщики, промотчики, филоны, урки, но еще больше было случайнаго народу, почему-либо не угодившаго начальству. И, какъ вездѣ, урки были менѣе голодны и менѣе голы, чѣмъ мужики, рабочіе, нацмены. Урка всегда сумѣетъ и для себя уворовать, и переплавить куда-нибудь уворованное начальствомъ... Къ тому-же — это соціально близкій элементъ...
Я помню гиганта крестьянина — сибиряка. Какой нечеловѣческой мощи долженъ былъ когда-то быть этотъ мужикъ. Когда оперативники стащили съ него его рваный и грязный, но все еще старательно заплатанный бушлатъ, — то подъ вшивою рванью рубахи обнажились чудовищные суставы и сухожилія. Мускулы — голодъ уже съѣлъ. На мѣстѣ грудныхъ мышцъ оставались впадины, какъ лунные кратеры, на днѣ которыхъ проступали ребра. Своей огромной мозолистой лапой мужикъ стыдливо прикрывалъ дыры своего туалета — сколько десятинъ степи могла бы запахать такая рука! Сколько ртовъ накормить!.. Но степь остается незапаханной, рты — ненакормленными, а самъ обладатель этой лапы вотъ — догниваетъ здѣсь заживо...
Фантастически глупо все это...
— Какъ вы попали сюда? — спрашиваю я этого мужика.
— За кулачество...
— Нѣтъ, вотъ на этотъ лагпунктъ?..
— Да, вотъ, аммоналка покалѣчила...
Мужикъ протягиваетъ свою искалѣченную лѣвую руку. Теперь — все понятно...
На постройкѣ канала людей пропускали черезъ трехъ-пятидневные курсы подрывниковъ и бросали на работу. Этого требовали "большевицкіе темпы". Люди сотнями взрывали самихъ себя, тысячами взрывали другихъ, калѣчились, попадали въ госпиталь, потомъ въ "слабосилку" съ ея фунтомъ хлѣба въ день...
А могла ли вотъ такая чудовищная машина поддержать всю свою восьмипудовую массу однимъ фунтомъ хлѣба въ день! И вотъ — пошелъ мой Святогоръ шататься по всякаго рода чернымъ доскамъ и Лѣснымъ Рѣчкамъ, попалъ въ "филоны" и докатился до девятнадцатаго квартала...
Ему нужно было пудовъ пять хлѣба, чтобы нарастить хотя бы половину своихъ прежнихъ мышцъ на мѣстѣ теперешнихъ впадинъ, — но этихъ пяти пудовъ взять было неоткуда. Они были утопіей. Пожалуй, утопіей была и мысль спасти этого гиганта отъ гибели, которая уже проступала въ его заострившихся чертахъ лица, въ глубоко запавшихъ, спрятанныхъ подъ мохнатыми бровями глазахъ...
___
Вотъ группа дагестанскихъ горцевъ. Они еще не такъ раздѣты, какъ остальные, и мнѣ удается полностью отстоять ихъ одѣяніе. Но какая въ этомъ польза? Все равно ихъ въ полгода-годъ съѣдятъ, если не голодъ, то климатъ, туберкулезъ, цынга... Для этихъ людей, выросшихъ въ залитыхъ солнцемъ безводныхъ дагестанскихъ горахъ, ссылка сюда, въ тундру, въ болото, въ туманы, въ полярную ночь — это просто смертная казнь въ разсрочку. И эти — только на половину живы. Эти — уже обречены, и ничѣмъ, рѣшительно ничѣмъ, я имъ не могу помочь... Вотъ эта-то невозможность ничѣмъ, рѣшительно ничѣмъ, помочь — одна изъ очень жестокихъ сторонъ совѣтской жизни. Даже когда самъ находишься въ положеніи, не требующемъ посторонней помощи...
По мѣрѣ того, какъ растетъ куча отобраннаго тряпья въ моемъ углу — растетъ и куча уже обысканныхъ заключенныхъ. Они валяются вповалку на полу, на этомъ самомъ тряпьѣ, и вызываютъ тошную ассоціацію червей на навозной кучѣ. Какіе-то облѣзлые урки подползаютъ ко мнѣ и шепоткомъ — чтобы не слышали оперативники — выклянчиваютъ на собачью ножку махорки. Одинъ изъ урокъ, наряженный только въ кольсоны — очень рваныя, сгребаетъ съ себя вшей и методически кидаетъ ихъ поджариваться на раскаленную жесть печурки. Вообще — урки держатъ себя относительно независимо — они хорохорятся и будутъ хорохориться до послѣдняго своего часа. Крестьяне сидятъ, растерянные и пришибленные, вспоминая, вѣроятно, свои семьи, раскиданныя по всѣмъ отдаленнымъ мѣстамъ великаго отечества трудящихся, свои заброшенныя поля и навсегда покинутыя деревни... Да, мужичкамъ будетъ чѣмъ вспомнить "побѣду трудящихся классовъ"....
Уже передъ самымъ концомъ инвентаризаціи передъ моимъ столомъ предсталъ какой-то старичекъ, лѣтъ шестидесяти, совсѣмъ сѣдой и дряхлый. Трясущимися отъ слабости руками онъ началъ разстегивать свою рвань.
Въ спискѣ стояло:
Авдѣевъ, А. С. Преподаватель математики. 42 года...
Сорокъ два года... На годъ моложе меня... А передо мною стоялъ старикъ, совсѣмъ старикъ...
— Ваше фамилія Авдѣевъ?..
— Да, да. Авдѣевъ, Авдѣевъ, — заморгалъ онъ, какъ-то суетливо, продолжая разстегиваться... Стало невыразимо, до предѣла противно... Вотъ мы — два культурныхъ человѣка... И этотъ старикъ стоитъ передо мною, разстегиваетъ свои послѣднія кольсоны и боится, чтобы ихъ у него не отобрали, чтобы я ихъ не отобралъ... О, чортъ!..
Къ концу этой подлой инвентаризаціи я уже нѣсколько укротилъ оперативниковъ. Они еще слегка рычали, но не такъ рьяно кидались выворачивать людей наизнанку, а при достаточно выразительномъ взглядѣ — и не выворачивали вовсе: и собачья натаска имѣетъ свои преимущества. И поэтому я имѣлъ возможность сказать Авдѣеву:
— Не надо... Забирайте свои вещи и идите...
Онъ, дрожа и оглядываясь, собралъ свое тряпье и исчезъ на нарахъ...
Инвентаризація кончалась... Отъ этихъ страшныхъ лицъ, отъ жуткаго тряпья, отъ вшей, духоты и вони — у меня начала кружиться голова. Я, вѣроятно, былъ бы плохимъ врачемъ. Я не приспособленъ ни для лѣченія гнойниковъ... ни даже для описанія ихъ. Я ихъ стараюсь избѣгать, какъ только могу... даже въ очеркахъ...
Когда въ кабинкѣ УРЧ подводились итоги инвентаризаціи, начальникъ лагпункта попытался — и въ весьма грубой формѣ — сдѣлать мнѣ выговоръ за то, что по моему бараку было отобрано рекордно малое количество борохла. Начальнику лагпункта я отвѣтилъ не такъ, можетъ быть, грубо, но подчеркнуто, хлещуще рѣзко. На начальника лагпункта мнѣ было наплевать съ самаго высокаго дерева его лѣсосѣки. Это уже были не дни Погры, когда я былъ еще дезоріентированнымъ или, точнѣе, еще не съоріентировавшимся новичкомъ и когда каждая сволочь могла ступать мнѣ на мозоли, а то и на горло... Теперь я былъ членомъ фактически почти правящей верхушки технической интеллигенціи, частицей силы, которая этого начальника со всѣми его совѣтскими заслугами и со всѣмъ его совѣтскимъ активомъ могла слопать въ два счета — такъ, что не осталось бы ни пуха, ни пера... Достаточно было взяться за его арматурные списки... И онъ это понялъ. Онъ не то, чтобы извинился, а какъ-то поперхнулся, смякъ и даже далъ мнѣ до Подпорожья какую-то полудохлую кобылу, которая кое-какъ доволокла меня домой. Но вернуться назадъ кобыла уже была не въ состояніи...
ПРОФЕССОРЪ АВДѢЕВЪ
Въ "штабѣ" свирьлаговскаго отдѣленія подобралась группа интеллигенціи, которая отдавала себѣ совершенно ясный отчетъ въ схемѣ совѣтскаго житія вообще и лагернаго — въ частности. Для пониманія этой схемы лагерь служить великолѣпнымъ пособіемъ, излѣчивающимъ самыхъ закоренѣлыхъ совѣтскихъ энтузіастовъ.
Я вспоминаю одного изъ такихъ энтузіастовъ — небезызвѣстнаго фельетониста "Извѣстій", Гарри. Онъ по какой-то опечаткѣ ГПУ попалъ въ Соловки и проторчалъ тамъ годъ. Потомъ эта опечатка была какъ-то исправлена, и Гарри, судорожно шагая изъ угла въ уголъ московской комнатушки, разсказывалъ чудовищныя вещи о великомъ соловецкомъ истребленіи людей и истерически повторялъ:
— Нѣтъ, но зачѣмъ мнѣ показали все это?.. Зачѣмъ мнѣ дали возможность видѣть все это?.. Вѣдь я когда-то вѣрилъ...
Грѣшный человѣкъ — я не очень вѣрилъ Гарри. Я не очень вѣрилъ даже своему брату, который разсказывалъ о томъ же великомъ истребленіи, и о которомъ вѣдь я твердо зналъ, что онъ вообще не вретъ... Казалось естественнымъ извѣстное художественное преувеличеніе, нѣкоторая сгущенность красокъ, вызванная всѣмъ пережитымъ... И — больше всего — есть вещи, въ которыя не хочетъ вѣрить человѣческая біологія, не хочетъ вѣрить человѣческое нутро... Если повѣрить, — ужъ очень какъ-то невесело будетъ смотрѣть на Божій міръ, въ которомъ возможны такія вещи... Гарри, впрочемъ, снова пишетъ въ "Извѣстіяхъ" — что ему остается дѣлать?..
Группа интеллигенціи, засѣдавшая въ штабѣ Свирьлага, тоже "видѣла все это", видѣла всѣ способы истребительно-эксплоатаціонной системы лагерей, и у нея не оставалось ни иллюзій о совѣтскомъ раѣ, ни возможности изъ него выбраться. И у нея была очень простая "политическая платформа": въ этой гигантской мясорубкѣ сохранить, во-первыхъ, свою собственную жизнь и, во-вторыхъ, — жизнь своихъ ближнихъ. Для этого нужно было дѣйствовать спаянно, толково и осторожно.
Она жила хуже администраціи совѣтскаго актива, ибо, если и воровала, то только въ предѣлахъ самаго необходимаго, а не на пропой души. Жила она въ баракахъ, а не въ кабинкахъ. Въ лучшемъ случаѣ — въ случайныхъ общежитіяхъ. Въ производственномъ отношеніи у нея была весьма ясная установка: добиваться наилучшихъ цифровыхъ показателей и наибольшаго количества хлѣба. "Цифровые показатели" расхлебывалъ потомъ Сѣвзаплѣсъ и прочіе "лѣсы", а хлѣбъ — иногда удавалось урывать, а иногда — и не удавалось...
Вотъ въ этой группѣ я и разсказалъ о своей встрѣчѣ съ Авдѣевымъ...
Планъ былъ выработанъ быстро и съ полнымъ знаніемъ обстановки. Борисъ въ течете одного дня извлекъ Авдѣева изъ 19-го квартала въ свою "слабосилку", а "штабъ" въ тотъ же день извлекъ Авдѣева изъ "слабосилки" къ себѣ. Для Авдѣева это значило 700 гр. хлѣба вмѣсто 300, а въ условіяхъ лагерной жизни лишній фунтъ хлѣба никакъ не можетъ измѣряться его денежной цѣнностью. Лишній фунтъ хлѣба — это не разница въ двѣ копѣйки золотомъ, а разница между жизнью и умираніемъ.
ИСТОРІЯ АВДѢЕВА
Вечеромъ Авдѣевъ, уже прошедшій баню и вошебойку, сидѣлъ у печки въ нашей избѣ и разсказывалъ свою стандартно-жуткую исторію...
Былъ преподавателемъ математики въ Минскѣ. Брата арестовали и разстрѣляли "за шпіонажъ" — въ приграничныхъ мѣстахъ это дѣлается совсѣмъ легко и просто. Его съ дочерью сослали въ концентраціонный лагерь въ Кемь, жену — въ Вишерскій концлагерь. Жена умерла въ Вишерѣ неизвѣстно отчего. Дочь умерла въ Кеми отъ знаменитой кемской дезинтеріи...
Авдѣевъ съ трудомъ подбиралъ слова, точно онъ отвыкъ отъ человѣческой рѣчи:
— ... А она была, видите ли, музыкантшей... Можно сказать, даже композиторшей... Въ Кеми — прачкой работала. Знаете, въ лагерной прачешной. Пятьдесятъ восемь — шесть, никуда не устроиться... Маленькая прачешная. Она — и еще тринадцать женщинъ... Всѣ — ну, какъ это — ну, проститутки. Такія, знаете ли, онѣ, собственно, и въ лагерѣ больше этимъ самымъ и занимались... Ну, конечно, какъ тамъ было Оленькѣ — вѣдь восемнадцать лѣтъ ей было — ну... вы сами можете себѣ представить... Да...
Неровное пламя печки освѣщало лицо старика, покрытое багровыми пятнами отмороженныхъ мѣстъ, одного уха не было вовсе... Изсохшія губы шевелились медленно, съ трудомъ...
— ... Такъ что, можетъ быть, Господь Богъ во время взялъ Оленьку къ себѣ, чтобы сама на себя рукъ не наложила... Однако... вотъ, говорите, проститутки, а вотъ добрая душа нашлась же...
...Я работалъ счетоводомъ — на командировкѣ одной, верстахъ въ двадцати отъ Кеми. Это — тоже не легче прачешной или просто каторги... Только я былъ прикованъ не къ тачкѣ, а къ столу. На немъ спалъ, на немъ ѣлъ, за нимъ сидѣлъ по пятнадцать-двадцать часовъ въ сутки... Вѣрите ли, по цѣлымъ недѣлямъ вставалъ изъ-за стола только въ уборную. Такая была работа... Ну, и начальникъ — звѣрь. Звѣрь, а не человѣкъ... Такъ вотъ, значитъ, была все-таки добрая душа, одна — ну, изъ этихъ самыхъ проститутокъ... И вотъ звонить намъ по телефону, въ командировку нашу, значитъ. Вы, говоритъ, Авдѣевъ. Да, говорю, я, а у самого — предчувствіе, что ли: ноги сразу такъ, знаете, ослабѣли, стоять не могу... Да, говорю, я Авдѣевъ. Это, спрашиваетъ, ваша дочка у насъ на кемской прачешной работаетъ... Да, говорю, моя дочка... Такъ вотъ, говоритъ, ваша дочка отъ дезинтеріи при смерти, васъ хочетъ видѣть. Если къ вечеру, говоритъ, притопаете, то, можетъ, еще застанете, а можетъ, и нѣтъ...
А меня ноги уже совсѣмъ не держать... Пошарилъ рукой табуретку, да такъ и свалился, да еще телефонъ оборвалъ.
Ну, полили меня водой. Очнулся, прошу начальника: отпустите, ради Бога, на одну ночь — дочь умираетъ. Какое!.. Звѣрь, а не человѣкъ... Здѣсь, говоритъ, тысячи умираютъ, здѣсь вамъ не курортъ, здѣсь вамъ не институтъ благородныхъ дѣвицъ... Мы, говоритъ изъ-за всякой б... — да, такъ и сказалъ, ей Богу, такъ и сказалъ... не можемъ, говоритъ, нашу отчетность срывать...
Вышелъ я на улицу, совсѣмъ какъ помѣшанный. Ноги, знаете, какъ безъ костей. Ну, думаю, будь что будетъ. Ночь, снѣгъ таетъ... Темно... Пошелъ я въ Кемь... Шелъ, шелъ, запутался, подъ утро пришелъ.
Нѣтъ уже Оленьки. Утромъ меня тутъ же у покойницкой арестовали за побѣгъ и — на лѣсоразработки... Даже на Оленьку не дали посмотрѣть...
Старикъ уткнулся лицомъ въ колѣни, и плечи его затряслись отъ глухихъ рыданій... Я подалъ ему стаканъ капустнаго разсола. Онъ выпилъ, вѣроятно, не разбирая, что именно онъ пьетъ, разливая разсолъ на грудь и на колѣни. Зубы трещеткой стучали по краю стакана...
Борисъ положилъ ему на плечо свою дружественную и успокаивающую лапу.
— Ну, успокойтесь, голубчикъ, успокойтесь... Вѣдь всѣ мы въ такомъ положеніи. Вся Россія — въ такомъ положеніи. На міру, какъ говорится, и смерть красна...
— Нѣтъ, не всѣ, Борисъ Лукьяновичъ, нѣтъ, не всѣ... — голосъ Авдѣева дрожалъ, но въ немъ чувствовались какія-то твердый нотки — нотки убѣжденія и, пожалуй, чего-то близкаго къ враждебности. — Нѣтъ, не всѣ. Вотъ вы трое, Борисъ Лукьяновичъ, не пропадете... Одно дѣло въ лагерѣ мужчинѣ, и совсѣмъ другое — женщинѣ. Я вотъ вижу, что у васъ есть кулаки... Мы, Борисъ Лукьяновичъ, вернулись въ пятнадцатый вѣкъ. Здѣсь, въ лагерѣ, мы вернулись въ доисторическія времена... Здѣсь можно выжить, только будучи звѣремъ... Сильнымъ звѣремъ.
— Я не думаю, Афанасій Степановичъ, чтобы я, напримѣръ, былъ звѣремъ, — сказалъ я.
— Я не знаю, Иванъ Лукьяновичъ, я не знаю... У васъ есть кулаки... Я замѣтилъ — васъ и оперативники боялись. Я — интеллигентъ. Мозговой работникъ. Я не развивалъ своихъ кулаковъ. Я думалъ, что я живу въ двадцатомъ вѣкѣ... Я не думалъ, что можно вернуться въ палеолитическую эпоху. А — вотъ, я вернулся. И я долженъ погибнуть, потому что я къ этой эпохѣ не приспособленъ... И вы, Иванъ Лукьяновичъ, совершенно напрасно вытянули меня изъ девятнадцатаго квартала.
Я удивился и хотѣлъ спросить — почему именно напрасно, но Авдѣевъ торопливо прервалъ меня:
— Вы, ради Бога, не подумайте, что я что-нибудь такое. Я, конечно, вамъ очень, очень благодаренъ... Я понимаю, что у васъ были самыя возвышенныя намѣренія.
Слово "возвышенныя" прозвучало какъ-то странно. Не то какой-то не ко времени "возвышенный стиль", не то какая-то очень горькая иронія.
— Самыя обыкновенныя намѣренія, Афанасій Степановичъ.
— Да, да, я понимаю, — снова заторопился Авдѣевъ. — Ну, конечно, простое чувство человѣчности. Ну, конечно, нѣкоторая, такъ сказать, солидарность культурныхъ людей, — и опять въ голосѣ Авдѣева прозвучали нотки какой-то горькой ироніи — отдаленныя, но горькія нотки. — Но вы поймите: съ вашей стороны — это только жестокость. Совершенно ненужная жестокость...
Я, признаться, нѣсколько растерялся. И Авдѣевъ посмотрѣлъ на меня съ видомъ человѣка, который надо мной, надъ моими "кулаками", одержалъ какую-то противоестественную побѣду.
— Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Не считайте, что я просто неблагодарная сволочь или сумасшедшій старикъ. Хотя я, конечно, сумасшедшій старикъ... Хотя я и вовсе не старикъ, — сталъ путаться Авдѣевъ, — вы вѣдь сами знаете — я моложе васъ... Но, пожалуйста, поймите: ну, что я теперь? Ну, куда я гожусь? Я вѣдь совсѣмъ развалина. Вы вотъ видите, что пальцы у меня поотваливались.
Онъ протянулъ свою руку — и пальцевъ на ней дѣйствительно почти не было, но раньше я этого какъ-то не замѣтилъ. Отъ Авдѣева все время шелъ какой-то легкій трупный запахъ — я думалъ, что это запахъ его гніющихъ отмороженныхъ щекъ, носа, ушей. Оказалось, что гнила и рука.
— Вотъ, пальцы, вы видите. Но я вѣдь насквозь сгнилъ. У меня сердце — вотъ, какъ эта рука. Теперь — смотрите. Я потерялъ брата, потерялъ жену, потерялъ дочь, единственную дочь. Больше въ этомъ мірѣ у меня никого не осталось. Шпіонажъ? Какая дьявольская чепуха! Братъ былъ микробіологомъ и никуда изъ лабораторіи не вылазилъ. А въ Польшѣ остались родные. Вы знаете — всѣ эти границы черезъ уѣзды и села... Ну, переписка, прислали какой-то микроскопъ. Вотъ и пришили дѣло. Шпіонажъ? Это я-то съ моей Оленькой крѣпости снимали, что-ли? Вы понимаете, Иванъ Лукьяновичъ, что теперь-то мнѣ — ужъ совсѣмъ нечего было бы скрывать. Теперь — я былъ бы счастливъ, если бы этотъ шпіонажъ дѣйствительно былъ. Тогда было бы оправданіе не только имъ, было бы и мнѣ. Мы не даромъ отдали бы свои жизни. И, подыхая, я бы зналъ, что я хоть что-нибудь сдѣлалъ противъ этой власти діавола.
Онъ сказалъ не "дьявола", а именно "діавола", какъ-то подчеркнуто и малость по церковному...
— Я, знаете, не былъ религіознымъ... Ну, какъ вся русская интеллигенція. Ну, конечно, развѣ могъ я вѣрить въ такую чушь, какъ діаволъ?.. Да, а вотъ теперь я вѣрю. Я вѣрю потому, что я его видѣлъ, потому, что я его вижу... Я его вижу на каждомъ лагпунктѣ... И онъ — есть, Иванъ Лукьяновичъ, онъ есть... Это — не поповскія выдумки. Это реальность... Это научная реальность...
Мнѣ стало какъ-то жутко, несмотря на мои "кулаки". Юра какъ-то даже поблѣднѣлъ... Въ этомъ полуживомъ и полусгнившемъ математикѣ, видѣвшемъ дьявола на каждомъ лагпунктѣ и проповѣдующемъ намъ реальность его бытія, было что-то апокалиптическое, что-то, отъ чего по спинѣ пробѣгали мурашки... Я представилъ себѣ всѣ эти сотни "девятнадцатыхъ кварталовъ", раскинутыхъ по двумъ тысячамъ верстъ непроглядной карельской тайги, придавленной полярными ночами, всѣ эти тысячи бараковъ, гдѣ на кучахъ гнилого тряпья ползаютъ полусгнившіе, обсыпанные вошью люди, и мнѣ показалось, что это не вьюга бьется въ оконца избы, а ходитъ кругомъ и торжествующе гогочетъ дьяволъ — тотъ самый, котораго на каждомъ лагпунктѣ видѣлъ Авдѣевъ. Дьяволъ почему-то имѣлъ обликъ Якименки...
— Такъ, вотъ видите, — продолжалъ Авдѣевъ... — Передо мною еще восемь лѣтъ вотъ этихъ... лагпунктовъ Ну, скажите по совѣсти, Борисъ Лукьяновичъ — ну, вотъ вы, врачъ — скажите по совѣсти, какъ врачъ, — есть-ли у меня хоть малѣйшіе шансы, хоть малѣйшая доля вѣроятности, что я эти восемь лѣтъ переживу?..
Авдѣевъ остановился и посмотрѣлъ на брата въ упоръ, и въ его взглядѣ я снова уловилъ искорки какой-то странной побѣды... Вопросъ засталъ брата врасплохъ...
— Ну, Афанасій Степановичъ, вы успокоитесь, наладите какой-то болѣе или менѣе нормальный образъ жизни, — началъ братъ — и въ его голосѣ не было глубокаго убѣжденія...
— Ага, ну такъ значитъ, я успокоюсь! Потерявъ все, что у меня было въ этомъ мірѣ, все, что у меня было близкаго и дорогого, — я, значитъ, успокоюсь!.. Вотъ — попаду въ "штабъ", сяду за столъ и успокоюсь... Такъ, что ли? Да — и какъ это вы говорили? — да, "нормальный образъ жизни"?
— Нѣтъ, нѣтъ, я понимаю, не перебивайте, пожалуйста. — заторопился Авдѣевъ, — я понимаю, что пока я нахожусь подъ высокимъ покровительствомъ вашихъ кулаковъ, я, быть можетъ, буду имѣть возможность работать меньше шестнадцати часовъ въ сутки. Но я вѣдь и восьми часовъ не могу работать вотъ этими... этими...
Онъ протянулъ руку и пошевелилъ огрызками своихъ пальцевъ...
— Вѣдь я не смогу... И потомъ — не могу же я расчитывать на всѣ восемь лѣтъ вашего покровительства... Высокаго покровительства вашихъ кулаковъ... — Авдѣевъ говорилъ уже съ какимъ-то истерическимъ сарказмомъ...
— Нѣтъ, пожалуйста, не перебивайте, Иванъ Лукьяновичъ. (Я не собирался перебивать и сидѣлъ, оглушенный истерической похоронной логикой этого человѣка). Я вамъ очень, очень благодаренъ, Иванъ Лукьяновичъ, — за ваши благородныя чувства, во всякомъ случаѣ... Вы помните, Иванъ Лукьяновичъ, какъ это я стоялъ передъ вами и разстегивалъ свои кольсоны... И какъ вы, по благородству своего характера, соизволили съ меня этихъ кольсонъ — послѣднихъ кольсонъ — не стянуть... Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста, не перебивайте, дорогой Иванъ Лукьяновичъ, не перебивайте... Я понимаю, что, не стаскивая съ меня кольсонъ, — вы рисковали своими... можетъ быть, больше, чѣмъ кольсонами... Можетъ быть, больше, чѣмъ кольсонами — своими кулаками... Какъ это называется... бездѣйствіе власти... что ли... Власти снимать съ людей послѣднія кольсоны...
Авдѣевъ задыхался и судорожно хваталъ воздухъ открытымъ ртомъ.
— Ну, бросьте, Афанасій Степановичъ, — началъ было я.
— Нѣтъ, нѣтъ, дорогой Иванъ Лукьяновичъ, я не брошу... Вѣдь вы же меня не бросили тамъ, на помойной ямѣ девятнадцатаго квартала... Не бросили?
Онъ какъ-то странно, пожалуй, съ какой-то мстительностью посмотрѣлъ на меня, опять схватилъ воздухъ открытымъ ртомъ и сказалъ — глухо и тяжело:
— А вѣдь тамъ — я было уже успокоился... Я тамъ — уже совсѣмъ было отупѣлъ. Отупѣлъ, какъ полѣно.
Онъ всталъ и, нагибаясь ко мнѣ, дыша мнѣ въ лицо своимъ трупнымъ запахомъ, сказалъ раздѣльно и твердо:
— Здѣсь можно жить только отупѣвши... Только отупѣвши... Только не видя того, какъ надъ лагпунктами пляшетъ дьяволъ... И какъ корчатся люди подъ его пляской...
...Я тамъ умиралъ... — Вы сами понимаете — я тамъ умиралъ... Въ говорите — "правильный образъ жизни". Но развѣ дьяволъ насытится, скажемъ, ведромъ моей крови... Онъ ее потребуетъ всю... Дьяволъ соціалистическаго строительства требуетъ всей вашей крови, всей, до послѣдней капли. И онъ ее выпьетъ всю. Вы думаете — ваши кулаки?.. Впрочемъ — я знаю — вы сбѣжите. Да, да, конечно, вы сбѣжите. Но куда вы отъ него сбѣжите?.. "Камо бѣгу отъ лица твоего и отъ духа твоего камо уйду"...
Меня охватывала какая-то гипнотизирующая жуть — въ одно время и мистическая, и прозаическая. Вотъ пойдетъ этотъ математикъ съ дьяволомъ на каждомъ лагпунктѣ пророчествовать о нашемъ бѣгствѣ, гдѣ-нибудь не въ этой комнатѣ...
— Нѣтъ, вы не безпокойтесь, Иванъ Лукьяновичъ, — сказалъ Авдѣевъ, словно угадывая мои мысли... — Я не такой ужъ сумасшедшій... Я не совсѣмъ ужъ сумасшедшій... Это — ваше дѣло; удастся сбѣжать — дай Богъ.
— Дай Богъ... Но, куда? — продолжалъ онъ раздумчиво... — Но куда? Ага, конечно — заграницу, заграницу. Ну что-жъ, кулаки у васъ есть... Вы, можетъ быть, пройдете... Вы, можетъ быть, пройдете.
Мнѣ становилось совсѣмъ жутко отъ этихъ сумасшедшихъ пророчествъ.
— Вы, можетъ быть, пройдете — и предоставите мнѣ здѣсь проходить сызнова всѣ ступени отупѣнія и умиранія. Вы вытащили меня только для того, объективно, только для того, чтобы я опять началъ умирать сызнова, чтобы я опять прошелъ всю эту агонію... Вѣдь вы понимаете, что у меня только два пути — въ Свирь, въ прорубь, или — снова на девятнадцатый кварталъ... раньше или позже — на девятнадцатый кварталъ: онъ меня ждетъ, онъ меня не перестанетъ ждать — и онъ правъ, другого пути у меня нѣтъ — даже для пути въ прорубь нужны силы... И, значитъ — опять по всѣмъ ступенькамъ внизъ. Но, Иванъ Лукьяновичъ, пока я снова дойду до того отупѣнія, вѣдь я что-то буду чувствовать. Вѣдь все-таки — агонизировать — это не такъ легко. Ну, прощайте, Иванъ Лукьяновичъ, я побѣгу... Спасибо вамъ, спасибо, спасибо...
Я сидѣлъ, оглушенный. Авдѣевъ ткнулъ было мнѣ свою руку, но потомъ какъ-то отдернулъ ее и пошелъ къ дверямъ.
— Да погодите, Афанасій Степановичъ, — очнулся Борисъ.
— Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста, не провожайте... Я самъ найду дорогу... Здѣсь до барака близко... Я вѣдь до Кеми дошелъ. Тоже была ночь... Но меня велъ дьяволъ.
Авдѣевъ выскочилъ въ сѣни. За нимъ вышелъ братъ. Донеслись ихъ заглушенные голоса. Вьюга рѣзко хлопнула дверью, и стекла въ окнахъ задребезжали. Мнѣ показалось, что подъ окнами снова ходитъ этотъ самый авдѣевскій дьяволъ и выстукиваетъ желѣзными пальцами какой-то третій звонокъ.
Мы съ Юрой сидѣли и молчали. Черезъ немного минутъ вернулся братъ. Онъ постоялъ посрединѣ комнаты, засунувъ руки въ карманы, потомъ подошелъ и уставился въ занесенное снѣгомъ окно, сквозь которое ничего не было видно въ черную вьюжную ночь, поглотившую Авдѣева.
— Послушай, Ватикъ, — спросилъ онъ, — у тебя деньги есть?
— Есть, а что?..
— Сейчасъ хорошо бы водки. Литра по два на брата. Сейчасъ для этой водки я не пожалѣлъ бы загнать свои послѣднія... кольсоны...
ПОДЪ КРЫЛЬЯМИ АВДѢЕВСКАГО ДЬЯВОЛА
Борисъ собралъ деньги и исчезъ въ ночь, къ какой-то бабѣ, мужа которой онъ лѣчилъ отъ пулевой раны, полученной при какихъ-то таинственныхъ обстоятельствахъ. Лѣчилъ, конечно, нелегально. Сельскаго врача здѣсь не было, а лагерный, за "связь съ мѣстнымъ населеніемъ", рисковалъ получить три года прибавки къ своему сроку отсидки. Впрочемъ, при данныхъ условіяхъ — прибавка срока Бориса ни въ какой степени не смущала.
Борисъ пошелъ и пропалъ. Мы съ Юрой сидѣли молча, тупо глядя на прыгающее пламя печки. Говорить не хотѣлось. За окномъ метались снѣжныя привидѣнія вьюги, гдѣ-то среди нихъ еще, можетъ быть, брелъ къ своему бараку человѣкъ со сгнившими пальцами, съ логикой сумасшедшаго и съ проницательностью одержимаго... Но брелъ ли онъ къ баракамъ или къ проруби? Ему, въ самомъ дѣлѣ, проще было брести къ проруби. И ему было бы спокойнѣе, и, что грѣха таить, было бы спокойнѣе и мнѣ. Его сумасшедшее пророчество насчетъ нашего бѣгства, сказанное гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, могло бы имѣть для насъ катастрофическія послѣдствія. Мнѣ все казалось, что "на ворѣ и шапка горитъ", что всякій мало-мальски толковый чекистъ долженъ по однимъ физіономіямъ нашимъ установить наши преступныя наклонности къ побѣгу. Такъ я думалъ до самаго конца: чекистскую проницательность я нѣсколько преувеличилъ. Но этотъ страхъ разоблаченія и гибели — оставался всегда. Пророчество Авдѣева рѣзко подчеркнуло его. Если такую штуку смогъ сообразить Авдѣевъ, то почему ее не можетъ сообразить, скажемъ, Якименко?.. Не этимъ ли объясняется Якименская корректность и прочее? Дать намъ возможность подготовиться, выйти и потомъ насмѣшливо сказать: "ну, что-жъ, поиграли — и довольно, пожалуйте къ стѣнкѣ". Ощущеніе почти мистической безпомощности, никоего невидимаго, но весьма недреманнаго ока, которое, насмѣшливо прищурившись, не спускаетъ съ насъ своего взгляда, — было такъ реально, что я повернулся и оглядѣлъ темные углы нашей избы. Но изба была пуста... Да, нервы все-таки сдаютъ...
Борисъ вернулся и принесъ двѣ бутылки водки. Юра всталъ, зябко кутаясь въ бушлатъ, налилъ въ котелокъ воды и поставилъ въ печку... Разстелили на полу у печки газетный листъ. Борисъ выложилъ изъ кармана нѣсколько соленыхъ окуньковъ, полученныхъ имъ на предметъ санитарнаго изслѣдованія, изъ посылки мы достали кусокъ сала, который, собственно, былъ уже забронированъ для побѣга и трогать который не слѣдовало бы...
Юра снова усѣлся у печки, не обращая вниманія даже и на сало, — водка его вообще не интересовала. Его глаза подъ темной оправой очковъ казались провалившимися куда-то въ самую глубину черепа.
— Боба, — спросилъ онъ, не отрывая взгляда отъ печки, — не могъ бы ты устроить его въ лазаретъ надолго?
— Сегодня мы не приняли семнадцать человѣкъ съ совсѣмъ отмороженными ногами, — сказалъ, помолчавъ, Борисъ. — И еще — пять саморубовъ... Ну, тѣхъ вообще приказано не принимать и даже не перевязывать.
— Какъ, и перевязывать нельзя?
— Нельзя. Что-бъ не повадно было...
Мы помолчали. Борисъ налилъ двѣ кружки и изъ вѣжливости предложилъ Юрѣ. Юра брезгливо поморщился.
— Такъ что же ты съ этими саморубами сдѣлалъ? — сухо спросилъ онъ.
— Положилъ въ покойницкую, гдѣ ты отъ БАМа отсиживался...
— И перевязалъ? — продолжалъ допрашивать Юра.
— А ты какъ думаешь?
— Неужели, — съ нѣкоторымъ раздраженіемъ спросилъ Юра, — этому Авдѣеву совсѣмъ ужъ никакъ нельзя помочь?
— Нельзя, — категорически объявилъ Борисъ. Юра передернулъ плечами. — И нельзя по очень простой причинѣ. У каждаго изъ насъ есть возможность выручить нѣсколько человѣкъ. Не очень много, конечно. Эту ограниченную возможность мы должны использовать для тѣхъ людей, которые имѣютъ хоть какіе-нибудь шансы стать на ноги. Авдѣевъ не имѣетъ никакихъ шансовъ.
— Тогда выходитъ, что вы съ Ватикомъ глупо сдѣлали, что вытащили его съ девятнадцатаго квартала?
— Это сдѣлалъ не я, а Ватикъ. Я этого Авдѣева тогда въ глаза не видалъ.
— А если бы видалъ?
— Ничего не сдѣлалъ бы. Ватикъ просто поддался своему мягкосердечію.
— Интеллигентскія сопли? — иронически переспросилъ я.
— Именно, — отрѣзалъ Борисъ. Мы съ Юрой переглянулись.
Борисъ мрачно раздиралъ руками высохшую въ ремень колючую рыбешку.
— Такъ что наши бамовскіе списки — по твоему, тоже интеллигентскія сопли? — съ какимъ-то вызовомъ спросилъ Юра.
— Совершенно вѣрно.
— Ну, Боба, ты иногда такое загнешь, что и слушать противно.
— А ты не слушай.
Юра передернулъ плечами и снова уставился въ печку.
— Можно было бы не покупать этой водки и купить Авдѣеву четыре кило хлѣба.
— Можно было бы. Что же, спасутъ его эти четыре кило хлѣба?
— А спасетъ насъ эта водка?
— Мы пока нуждаемся не въ спасеніи, а въ нервахъ. Мои нервы хоть на одну ночь отдохнуть отъ лагеря... Ты вотъ работалъ со списками, а я работаю съ саморубами...
Юра не отвѣтилъ ничего. Онъ взялъ окунька и попробовалъ разорвать его. Но въ его пальцахъ изсохшихъ, какъ и этотъ окунекъ, силы не хватило. Борисъ молча взялъ у него рыбешку и разорвалъ ее на мелкіе клочки. Юра отвѣтилъ ироническимъ "спасибо", повернулся къ печкѣ и снова уставился въ огонь.
— Такъ все-таки, — нѣсколько погодя спросилъ онъ сухо и рѣзко, — такъ все-таки, почему же бамовскіе списки — это интеллигентскія сопли?
Борисъ помолчалъ.
— Вотъ видишь ли, Юрчикъ, поставимъ вопросъ такъ: у тебя, допустимъ, есть возможность выручить отъ БАМа иксъ человѣкъ. Вы выручали людей, которые все равно не жильцы на этомъ свѣтѣ, и, слѣдовательно, посылали людей, которые еще могли бы прожить какое-то тамъ время, если бы не поѣхали на БАМ. Или будемъ говорить такъ: у тебя есть выборъ — послать на БАМ Авдѣева или какого-нибудь болѣе или менѣе здороваго мужика. На этапѣ Авдѣевъ помретъ черезъ недѣлю, здѣсь онъ помретъ, скажемъ, черезъ полгода — больше и здѣсь не выдержитъ. Мужикъ, оставшись здѣсь, просидѣлъ бы свой срокъ, вышелъ бы на волю, ну, и такъ далѣе. Послѣ бамовскаго этапа онъ станетъ инвалидомъ. И срока своего, думаю, не переживетъ. Такъ вотъ, что лучше и что человѣчнѣе: сократить агонію Авдѣева или начать агонію мужика?
Вопросъ былъ поставленъ съ той точки зрѣнія, отъ которой сознаніе какъ-то отмахивалось. Въ этой точкѣ зрѣнія была какая-то очень жестокая — но все-таки правда. Мы замолчали. Юра снова уставился въ огонь.
— Вопросъ шелъ не о замѣнѣ однихъ людей другими, — сказалъ, наконецъ, онъ. — Всѣхъ здоровыхъ все равно послали бы, но вмѣстѣ съ ними послали бы и больныхъ.
— Не совсѣмъ такъ. Но, допустимъ. Такъ вотъ, эти больные у меня сейчасъ вымираютъ въ среднемъ человѣкъ по тридцать въ день.
— Если стоять на твоей точкѣ зрѣнія, — вмѣшался я, — то не стоитъ и твоего сангородка городить: все равно — только разсрочка агоніи.
— Сангородокъ — это другое дѣло. Онъ можетъ стать постояннымъ учрежденіемъ.
— Я вѣдь не возражаю противъ твоего городка.
— Я не возражалъ и противъ вашихъ списковъ. Но если смотрѣть въ корень вещей — то и списки, и городокъ, въ концѣ концовъ, — ерунда. Тутъ вообще ничѣмъ не поможешь... Все это — для очистки совѣсти и больше ничего. Единственно, что реально: нужно драпать, а Ватикъ все тянетъ...
Мнѣ не хотѣлось говорить ни о бѣгствѣ, ни о томъ трагическомъ для русскихъ людей лозунгѣ: "чѣмъ хуже — тѣмъ лучше". Теоретически, конечно, оправданъ всякій саботажъ: чѣмъ скорѣе все это кончится, тѣмъ лучше. Но на практикѣ — саботажъ оказывается психологически невозможнымъ. Ничего не выходитъ...
Теоретически Борисъ правъ: на Авдѣева нужно махнуть рукой. А практически?
— Я думаю, — сказалъ я, — что пока я торчу въ этомъ самомъ штабѣ, я смогу устроить Авдѣева такъ, чтобы онъ ничего не дѣлалъ.
— Дядя Ваня, — сурово сказалъ Борисъ. — На Медгору всѣ кнопки уже нажаты. Не сегодня-завтра насъ туда перебросятъ — и тутъ ужъ мы ничего не подѣлаемъ. Твоя публика изъ свирьлаговскаго штаба тоже черезъ мѣсяцъ смѣнится — и Авдѣева, послѣ нѣкоторой передышки, снова выкинуть догнивать на девятнадцатый кварталъ. Ты жалѣешь потому, что ты только два мѣсяца въ лагерѣ и что ты, въ сущности, ни черта еще не видалъ. Что ты видалъ? Былъ ты на сплавѣ, на лѣсосѣкахъ, на штрафныхъ лагпунктахъ? Нигдѣ ты еще, кромѣ своего УРЧ, не былъ... Когда я вамъ въ Салтыковкѣ разсказывалъ о Соловкахъ, такъ Юрчикъ чуть не въ глаза мнѣ говорилъ, что я не то преувеличиваю, не то просто вру. Вотъ еще посмотримъ, что насъ тамъ на сѣверѣ, въ ББК, будетъ ожидать... Ни черта мы по существу сдѣлать не можемъ: одно самоутѣшеніе. Мы не имѣемъ права тратить своихъ нервовъ на Авдѣева. Что мы можемъ сдѣлать? Одно мы можемъ сдѣлать — сохранить и собрать всѣ свои силы, бѣжать и тамъ, заграницей, тыкать въ носъ всѣмъ тѣмъ идіотамъ, которые вопятъ о совѣтскихъ достиженіяхъ, что когда эта желанная и великая революція придетъ къ нимъ, то они будутъ дохнуть точно такъ же, какъ дохнетъ сейчасъ Авдѣевъ. Что ихъ дочери пойдутъ стирать бѣлье въ Кеми и станутъ лагерными проститутками, что трупы ихъ сыновей будутъ выкидываться изъ эшелоновъ.
Бориса, видимо, прорвало. Онъ сжалъ въ кулакѣ окунька и нещадно мялъ его въ пальцахъ...
— ... Эти идіоты думаютъ, что за ихъ теперешнюю лѣвизну, за славословіе, за лизаніе Сталинскихъ пятокъ — имъ потомъ дадутъ персональную пенсію! Они-де будутъ первыми людьми своей страны!.. Первымъ человѣкъ изъ этой сволочи будетъ тотъ, кто сломаетъ всѣхъ остальныхъ. Какъ Сталинъ сломалъ и Троцкаго, и прочихъ. Сукины дѣти... Ужъ послѣ нашихъ эсэровъ, меньшевиковъ, Раковскихъ, Муравьевыхъ и прочихъ — можно было бы хоть чему-то научиться... Нужно имъ сказать, что когда придетъ революція, то мистеръ Эррю будетъ сидѣть въ подвалѣ, дочь его — въ лагерной прачешной, сынъ — на томъ свѣтѣ, а заправлять будетъ Сталинъ и Стародубцевъ. Вотъ что мы должны сдѣлать... И нужно бѣжать. Какъ можно скорѣе. Не тянуть и не возжаться съ Авдѣевыми... Къ чортовой матери!..
Борисъ высыпалъ на газету измятые остатки рыбешки и вытеръ платкомъ окровавленную колючками ладонь. Юра искоса посмотрѣлъ на его руку и опять уставился въ огонь. Я думалъ о томъ, что, пожалуй, дѣйствительно нужно не тянуть... Но какъ? Лыжи, слѣдъ, засыпанные снѣгомъ лѣса, незамерзающіе горные ручьи... Ну его къ чорту — хотя бы одинъ вечеръ не думать обо всемъ этомъ... Юра, какъ будто уловивъ мое настроеніе, какъ-то не очень логично спросилъ, мечтательно смотря въ печку:
— Но неужели настанетъ, наконецъ, время, когда мы, по крайней мѣрѣ, не будемъ видѣть всего этого?.. Какъ-то — не вѣрится...
Разговоръ перепрыгнулъ на будущее, которое казалось одновременно и такимъ возможнымъ, и такимъ невѣроятнымъ, о будущемъ по ту сторону. Авдѣевскій дьяволъ пересталъ бродить передъ окнами, а опасности побѣга перестали сверлить мозгъ..
На другой день одинъ изъ моихъ свирьлаговскихъ сослуживцевъ ухитрился устроить для Авдѣева работу сторожемъ на еще несуществующей свирьлаговской телефонной станціи — изъ своей станціи ББК уволокъ все, включая и оконныя стекла. Послали курьера за Авдѣевымъ, но тотъ его не нашелъ.
Вечеромъ въ нашу берлогу ввалился Борисъ и мрачно заявилъ, что съ Авдѣевымъ все устроено.
— Ну, вотъ, я вѣдь говорилъ, — обрадовался Юра, — что если поднажать — можно устроить...
Борисъ помялся и посмотрѣлъ на Юру крайне неодобрительно.
— Только что подписалъ свидѣтельство о смерти... Вышелъ отъ насъ, запутался что-ли... Днемъ нашли его въ сугробѣ — за электростанціей... Нужно было вчера проводить его, все-таки...
Юра замолчалъ и съежился. Борисъ подошелъ къ окну и снова сталъ смотрѣть въ прямоугольникъ вьюжной ночи...
ПОСЛѢДНІЕ ДНИ ПОДПОРОЖЬЯ
Изъ Москвы, изъ ГУЛАГа пришла телеграмма: лагерный пунктъ Погра со всѣмъ его населеніемъ и инвентаремъ считать за ГУЛАГомъ, запретить всякія переброски съ лагпункта.
Объ этой телеграммѣ мнѣ, въ штабъ Свирьлага, позвонилъ Юра, и тонъ у Юры былъ растерянный и угнетенный. Къ этому времени всякими способами были, какъ выражался Борисъ, "нажаты всѣ кнопки на Медгору". Это означало, что со дня на день изъ Медгоры должны привезти требованіе на всѣхъ насъ трехъ. Но Борисъ фигурировалъ въ спискахъ живого инвентаря Погры, Погра — закрѣплена за ГУЛАГомъ, изъ подъ высокой руки ГУЛАГа выбраться было не такъ просто, какъ изъ Свирьлага въ ББК, или изъ ББК — въ Свирьлагъ. Значитъ, меня и Юру заберутъ подъ конвоемъ въ ББК, а Борисъ останется здѣсь... Это — одно. Второе: изъ-за этой телеграммы угрожающей тѣнью вставала мадемуазель Шацъ, которая со дня на день могла пріѣхать ревизовать свои новыя владѣнія и "укрощать" Бориса своей махоркой и своимъ кольтомъ.
Борисъ сказалъ: надо бѣжать, не откладывая ни на одинъ день. Я сказалъ: нужно попробовать извернуться. Намъ не удалось ни бѣжать, ни извернуться.
Вечеромъ, въ день полученія этой телеграммы, Борисъ пришелъ въ нашу избу, мы продискуссировали еще разъ вопросъ о возможномъ завтрашнемъ побѣгѣ, не пришли ни къ какому соглашенію и легли спать. Ночью Борисъ попросилъ у меня кружку воды. Я подалъ воду и пощупалъ пульсъ. Пульсъ у Бориса былъ подъ сто двадцать: это былъ припадокъ его старинной маляріи — вещь, которая въ Россіи сейчасъ чрезвычайно распространена. Проектъ завтрашняго побѣга былъ ликвидированъ автоматически. Слѣдовательно, оставалось только изворачиваться.
Мнѣ было очень непріятно обращаться съ этимъ дѣломъ къ Надеждѣ Константиновнѣ: женщина переживала трагедію почище нашей. Но я попробовалъ: ничего не вышло. Надежда Константиновна посмотрѣла на меня пустыми глазами и махнула рукой: "ахъ, теперь мнѣ все безразлично"... У меня не хватило духу настаивать.
15-го марта вечеромъ мнѣ позвонили изъ ликвидкома и сообщили, что я откомандировываюсь обратно въ ББК. Я пришелъ въ ликвидкомъ. Оказалось, что на насъ двоихъ — меня и Юру — пришло требованіе изъ Медгоры въ числѣ еще восьми человѣкъ интеллигентнаго живого инвентаря, который ББК забиралъ себѣ.
Отправка — завтра въ 6 часовъ утра. Сдѣлать уже ничего было нельзя. Сейчасъ я думаю, что болѣзнь Бориса была везеньемъ. Сейчасъ, послѣ опыта шестнадцати сутокъ ходьбы черезъ карельскую тайгу, я уже знаю, что зимой мы бы не прошли. Тогда — я этого еще не зналъ. Болѣзнь Бориса была снова какъ какой-то рокъ, какъ ударъ, котораго мы не могли ни предусмотрѣть, ни предотвратить. Но списки были уже готовы, конвой уже ждалъ насъ, и оставалось только одно: идти по теченію событій... Утромъ мы сурово и почти молча попрощались съ Борисомъ. Коротко и твердо условились о томъ, что гдѣ бы мы ни были — 28-го іюля утромъ мы бѣжимъ... Больше объ этомъ ничего не было сказано. Перекинулись нѣсколькими незначительными фразами. Кто-то изъ насъ попытался было даже дѣланно пошутить — но ничего не вышло. Борисъ съ трудомъ поднялся съ наръ, проводилъ до дверей и на прощаніе сунулъ мнѣ въ руку какую-то бумажку: "послѣ прочтешь"... Я зашагалъ, не оглядываясь: зачѣмъ оглядываться?..
Итакъ, еще одно "послѣднее прощаніе"... Оно было не первымъ. Но сейчасъ — какіе шансы, что намъ удастся бѣжать всѣмъ тремъ? Въ подавленности и боли этихъ минутъ мнѣ казалось, что шансовъ — никакихъ, или почти никакихъ... Мы шли по еще темнымъ улицамъ Подпорожья, и въ памяти упорно вставали наши предыдущія "послѣднія" прощанія: въ ленинградскомъ ГПУ полгода тому назадъ, на Николаевскомъ вокзалѣ въ Москвѣ, въ ноябрѣ 1926 года, когда Бориса за его скаутскіе грѣхи отправляли на пять лѣтъ въ Соловки...
___
Помню: уже съ утра, холоднаго и дождливаго, на Николаевскомъ вокзалѣ собралась толпа мужчинъ и женщинъ, друзей и родныхъ тѣхъ, которыхъ сегодня должны были пересаживать съ "чернаго ворона" Лубянки въ арестантскій поѣздъ на Соловки. Вмѣстѣ со мною была жена брата, Ирина, и былъ его первенецъ, котораго Борисъ еще не видалъ: семейное счастье Бориса длилось всего пять мѣсяцевъ.
Никто изъ насъ не зналъ, ни когда привезутъ заключенныхъ, ни гдѣ ихъ будутъ перегружать. Въ тѣ добрыя, старыя времена, когда ГПУ-скій терроръ еще не охватывалъ милліоновъ, какъ онъ охватываетъ ихъ сейчасъ — погрузочныя операціи еще не были индустріализированы. ГПУ еще не имѣло своихъ погрузочныхъ платформъ, какія оно имѣетъ сейчасъ. Возникали и исчезали слухи. Толпа провожающихъ металась по путямъ, платформамъ и тупичкамъ. Блѣдныя, безмѣрно усталыя женщины — кто съ узелкомъ, кто съ ребенкомъ на рукахъ — то бѣжали куда-то къ посту второй версты, то разочарованно и безсильно плелись обратно. Потомъ — новый слухъ, и толпа, точно въ паникѣ, опять устремляется куда-то на вокзальные задворки. Даже я усталъ отъ этихъ путешествій по стрѣлкамъ и по лужамъ, закутанный въ одѣяло ребенокъ оттягивалъ даже мои онѣмѣвшія руки, но эти женщины, казалось, не испытывали усталости: ихъ вела любовь.
Такъ промотались мы цѣлый день. Наконецъ, поздно вечеромъ, часовъ около 11-ти, кто-то прибѣжалъ и крикнулъ: "везутъ". Всѣ бросились къ тупичку, на который уже подали арестантскіе вагоны. Тогда — это были только вагоны, настоящіе, классные, хотя и съ рѣшетками, но только вагоны, а не безконечные телячьи составы, какъ сейчасъ. Первый "воронъ", молодцевато описавъ кругъ, повернулся задомъ къ вагонамъ, конвой выстроился двойной цѣпью, дверцы "ворона" раскрылись, и изъ него въ вагоны потянулась процессы страшныхъ людей — людей, изжеванныхъ голодомъ и ужасомъ, тоской за близкихъ и перспективами Соловковъ — острова смерти. Шли какіе-то люди въ священническихъ рясахъ и люди въ военной формѣ, люди въ очкахъ и безъ очковъ, съ бородами и безусые. Въ неровномъ свѣтѣ раскачиваемыхъ вѣтромъ фонарей, сквозь пелену дождя мелькали неизвѣстныя мнѣ лица, шедшія, вѣроятнѣе всего, на тотъ свѣтъ... И вотъ:
Полусогнувшись, изъ дверцы "ворона" выходитъ Борисъ. Въ рукахъ — мѣшокъ съ нашей послѣдней передачей, вещи и провіантъ. Лицо стало блѣднымъ, какъ бумага, — пять мѣсяцевъ одиночки безъ прогулокъ, свиданій и книгъ. Но плечи — такъ же массивны, какъ и раньше. Онъ выпрямляется и своими близорукими глазами ищетъ въ толпѣ меня и Ирину. Я кричу:
— Cheer up, Bobby!
Борисъ что-то отвѣчаетъ, но его голоса не слышно: не я одинъ бросаю такой, можетъ быть, прощальный крикъ. Борисъ выпрямляется, на его лицѣ бодрость, которую онъ хочетъ внушить намъ, онъ подымаетъ руку, но думаю, онъ насъ не видитъ: темно и далеко. Черезъ нѣсколько секундъ его могучая фигура исчезаетъ въ рамкѣ вагонной двери. Сердце сжимается ненавистью и болью... Но, о Господи...
Идутъ еще и еще. Вотъ какія-то дѣвушки въ косыночкахъ, въ ситцевыхъ юбчонкахъ — безъ пальто, безъ одѣялъ, безо всякихъ вещей. Какой-то юноша лѣтъ 17-ти, въ однихъ только трусикахъ и въ тюремныхъ "котахъ". Голова и туловище закутаны какимъ-то насквозь продырявленнымъ одѣяломъ. Еще юноша, почти мальчикъ, въ стоптанныхъ "тапочкахъ", въ безрукавкѣ и безъ ничего больше... И этихъ дѣтей въ такомъ видѣ шлютъ въ Соловки!.. Что они, шестнадцатилѣтнія, сдѣлали, чтобы ихъ обрекать на медленную и мучительную смерть? Какіе шансы у нихъ вырваться живыми изъ Соловецкаго ада?..
Личную боль перехлестываетъ что-то большее. Ну, что Борисъ? Съ его физической силой и жизненнымъ опытомъ, съ моей финансовой и прочей поддержкой съ воли — а у меня есть чѣмъ поддержать, и пока у меня есть кусокъ хлѣба — онъ будетъ и у Бориса — Борисъ, можетъ быть, пройдетъ черезъ адъ, но у него есть шансы и пройти и выйти. Какіе шансы у этихъ дѣтей? Откуда они? Что сталось съ ихъ родителями? Почему они здѣсь, полуголыя, безъ вещей, безъ продовольствія? Гдѣ отецъ вотъ этой 15-16-лѣтней дѣвочки, которая ослабѣвшими ногами пытается переступать съ камня на камень, чтобы не промочить своихъ изодранныхъ полотняныхъ туфелекъ? У нея въ рукахъ — ни одной тряпочки, а въ лицѣ — ни кровинки. Кто ея отецъ? Контръ-революціонеръ ли, уже "ликвидированный, какъ классъ", священникъ ли, уже таскающій бревна въ ледяной водѣ Бѣлаго моря, меньшевикъ ли, замѣшанный въ шпіонажѣ и ликвидирующій свою революціонную вѣру въ камерѣ какого-нибудь страшнаго суздальскаго изолятора?
Но процессія уже закончилась. "Вороны" ушли. У вагоновъ стоитъ караулъ. Вагоновъ не такъ и много: всего пять штукъ. Я тогда еще не зналъ, что въ 1933 году будутъ слать не вагонами, а поѣздами...
Публика расходится, мы съ Ириной еще остаемся. Ирина хочетъ продемонстрировать Борису своего потомка, я хочу передать еще кое-какія вещи и деньги. Въ дипломатическія переговоры съ караульнымъ начальникомъ вступаетъ Ирина съ потомкомъ на рукахъ. Я остаюсь на заднемъ планѣ. Молодая мать съ двумя длинными косами и съ малюткой, конечно, подѣйствуетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ вся моя совѣтская опытность.
Начальникъ конвоя, звеня шашкой, спускается со ступенекъ вагона. "Не полагается, да ужъ разъ такое дѣло"... Беретъ на руки свертокъ съ первенцемъ: "ишь ты, какой онъ... У меня тоже малецъ вродѣ этого есть, только постарше... ну, не ори, не ори, не съѣмъ... сейчасъ папашѣ тебя покажемъ".
Начальникъ конвоя со сверткомъ въ рукахъ исчезаетъ въ вагонѣ. Намъ удается передать Борису все, что нужно было передать...
И все это — уже въ прошломъ... Сейчасъ снова боль, и тоска, и тревога... Но сколько разъ былъ послѣдній разъ, который не оказывался послѣднимъ... Можетъ быть, и сейчасъ вывезетъ.
___
Отъ Подпорожья мы подъ небольшимъ конвоемъ идемъ къ станціи. Начальникъ конвоя — развеселый и забубеннаго вида паренекъ, лѣтъ двадцати, заключенный, попавшій сюда на пять лѣтъ за какое-то убійство, связанное съ превышеніемъ власти. Пареньку очень весело идти по освѣщенному яркимъ солнцемъ и уже подтаивающему снѣгу, онъ болтаетъ, поетъ, то начинаетъ разсказывать какія-то весьма путанныя исторіи изъ своей милицейской и конвойной практики, то снова заводитъ высокимъ голоскомъ:
и даже пытается разсѣять мое настроеніе. Какъ это ни глупо, но это ему удается.
На станціи онъ для насъ восьмерыхъ выгоняетъ полвагона пассажировъ.
— Нужно, чтобы нашимъ арестантикамъ мѣсто было. Тѣ, сволочи, кажинный день въ своихъ постеляхъ дрыхаютъ, надо и намъ буржуями проѣхаться.
Поѣхали. Я вытаскиваю письмо Бориса, прочитываю его и выхожу на площадку вагона, чтобы никто не видѣлъ моего лица. Холодный вѣтеръ сквозь разбитое окно нѣсколько успокаиваетъ душу. Минутъ черезъ десять на площадку осторожненько входитъ начальникъ конвоя.
— И чего это вы себя грызете? Нашему брату жить надо такъ: день прожилъ, поллитровку выдулъ, бабу тиснулъ — ну, и давай. Господи, до другого дня... Тутъ главное — ни объ чемъ не думать. Не думай — вотъ тебѣ и весь сказъ.
У начальника конвоя оказалась болѣе глубокая философія, чѣмъ я ожидалъ...
Вечерѣетъ.
Я лежу на верхней полкѣ съ краю купэ. За продырявленной досчатой перегородкой уже другой міръ, вольный міръ. Какой-то деревенскій паренекъ разсказываетъ кому-то старинную сказку о Царевнѣ-лебеди. Слушатели сочувственно охаютъ.
— ... И вотъ приходитъ, братъ ты мой, Иванъ-царевичъ къ царевнѣ-лебеди. А сидитъ та вся заплаканная. А перышки у ее серебряныя, а слезы она льетъ алмазныя. И говоритъ ей Иванъ, царевичъ то-есть. Не могу я, говоритъ, безъ тебя, царевна-лебедь, не грудью дышать, ни очами смотрѣть... А ему царевна-лебедь: Заколдовала меня, говоритъ, злая мачеха, не могу я, говоритъ, Иванъ-царевичъ, за тебя замужъ пойтить. Да и ты, говоритъ, Иванъ-царевичъ, покеда цѣлъ — иди ты, говоритъ, къ... матери.
— Ишь ты, — сочувственно охаютъ слушатели.
Совѣтскій фольклоръ нѣсколько разсѣиваетъ тяжесть на душѣ. Мы подъѣзжаемъ къ Медгорѣ. Подпорожская эпопея закончилась. Какая, въ сущности, короткая эпопея — всего 68 дней. Какая эпопея ожидаетъ насъ въ Медгорѣ?
ПРОЛЕТАРІАТЪ
МЕДГОРА
Медвѣжья Гора, столица Бѣломорско-Балтійскаго лагеря и комбината, еще не такъ давно была микроскопическимъ желѣзнодорожнымъ поселкомъ, расположеннымъ у стыка Мурманской желѣзной дороги и самой сѣверной оконечностью Онѣжскаго озера. Съ воцареніемъ надъ Карельской "республикой" Бѣломорско-Балтійскаго лагеря, Медгора превратилась въ столицу ББК и, слѣдовательно, столицу Кареліи. Въ нѣсколькихъ стахъ метрахъ къ западу отъ желѣзной дороги выросъ цѣлый городокъ плотно и прочно сколоченныхъ изъ лучшаго лѣса зданій: центральное управленіе ББК, его отдѣлы, канцеляріи, лабораторіи, зданія чекистскихъ квартиръ и общежитій, огромный, расположенный отдѣльно въ паркѣ, особнякъ высшаго начальства лагеря.
На востокъ отъ желѣзной дороги раскинулъ свои привиллегированные бараки "первый лагпунктъ". Здѣсь живутъ заключенные служащіе управленія: инженеры, плановики, техники, бухгалтера, канцеляристы и прочее. На берегу озера, у пристани — второй лагпунктъ. Здѣсь живутъ рабочіе многочисленныхъ предпріятій лагерной столицы: мукомоленъ, пристани, складовъ, мастерскихъ, гаража, телефонной и радіо-станціи, типографіи и многочисленныя плотничьи бригады, строящія все новые и новые дома, бараки, склады и тюрьмы: сворачиваться, сокращать свое производство и свое населеніе лагерь никакъ не собирается.
Медвѣжья Гора — это наиболѣе привиллегированный пунктъ Бѣломорско-Балтійскаго лагеря, повидимому, наиболѣе привиллегированнаго изъ всѣхъ лагерей СССР. Былъ даже проектъ показывать ее иностраннымъ туристамъ (девятнадцатаго квартала показывать бы не стали)... Верстахъ въ четырехъ къ сѣверу былъ третій лагпунктъ, менѣе привиллегированный и уже совсѣмъ не для показа иностраннымъ туристамъ. Онъ игралъ роль пересыльнаго пункта. Туда попадали люди, доставленные въ лагерь въ индивидуальномъ порядкѣ, перебрасываемые изъ отдѣленія въ отдѣленіе и прочіе въ этомъ родѣ. На третьемъ лагпунктѣ людей держали два-три дня — и отправляли дальше на сѣверъ. Медвѣжья Гора была, въ сущности, самымъ южнымъ пунктомъ ББК: послѣ ликвидаціи Подпорожья южнѣе Медгоры оставался только незначительный Петрозаводскій лагерный пунктъ.
Въ окрестностяхъ Медгоры, въ радіусѣ 25-30 верстъ, было раскидано еще нѣсколько лагерныхъ пунктовъ, огромное оранжерейное хозяйство лагернаго совхоза Вичка, гдѣ подъ оранжереями было занято около двухъ гектаровъ земли, мануфактурныя и пошивочныя мастерскія шестого пункта, и въ верстахъ 10 къ сѣверу, по желѣзной дорогѣ, еще какіе-то лѣсные пункты, занимавшіеся лѣсоразработками. Народу во всѣхъ этихъ пунктахъ было тысячъ пятнадцать...
Въ южной части городка былъ вольный желѣзнодорожный поселокъ, клубъ и базаръ. Были магазины, былъ Госспиртъ, былъ Торгсинъ — словомъ, все, какъ полагается. Заключеннымъ доступъ въ вольный городокъ былъ воспрещенъ — по крайней мѣрѣ, оффиціально. Вольному населенію воспрещалось вступать въ какую бы то ни было связь съ заключенными — тоже, по крайней мѣрѣ, оффиціально. Неоффиціально эти запреты нарушались всегда, и это обстоятельство давало возможность администраціи время отъ времени сажать лагерниковъ въ ШИЗО, а населеніе — въ лагерь. И этимъ способомъ поддерживать свой престижъ: не зазнавайтесь. Никакихъ оградъ вокругъ лагеря не было.
Мы попали въ Медгору въ исключительно неудачный моментъ: тамъ шло очередное избіеніе младенцевъ, сокращали "аппаратъ". На волѣ — эта операція производится съ неукоснительной регулярностью — приблизительно одинъ разъ въ полгода. Теорія такихъ сокращеній исходитъ изъ того нелѣпаго представленія, что бюрократическая система можетъ существовать безъ бюрократическаго аппарата, что власть, которая планируетъ и контролируетъ и политику, и экономику, и идеологію, и "географическое размѣщеніе промышленности", и мужицкую корову, и жилищную склоку, и торговлю селедкой, и фасонъ платья, и брачную любовь, — власть, которая, говоря проще, насѣдаетъ на все и все выслѣживаетъ, — что такая власть можетъ обойтись безъ чудовищно разбухшихъ аппаратовъ всяческаго прожектерства и всяческой слѣжки. Но такая презумпція существуетъ. Очень долго она казалась мнѣ совершенно безсмысленной. Потомъ, въѣдаясь и вглядываясь въ совѣтскую систему, я, мнѣ кажется, понялъ, въ чемъ тутъ зарыта соціалистическая собака: правительство хочетъ показать массамъ, что оно, правительство, власть, и система, стоитъ, такъ сказать, на вершинѣ всѣхъ человѣческихъ достиженій, а вотъ аппаратъ — извините — сволочной. Вотъ мы, власть, съ этимъ аппаратомъ и боремся. Ужъ такъ боремся... Не щадя, можно сказать, животовъ аппаратныхъ... И если какую-нибудь колхозницу заставляютъ кормить грудью поросятъ, — то причемъ власть? Власть не при чемъ. Недостатки механизма. Наслѣдіе проклятаго стараго режима. Бюрократическій подходъ. Отрывъ отъ массъ. Потеря классоваго чутья... Ну, и такъ далѣе. Система — во всякомъ случаѣ, не виновата. Система такая, что хоть сейчасъ ее на весь міръ пересаживай...
По части пріисканія всевозможныхъ и невозможныхъ козловъ отпущенія совѣтская власть переплюнула лучшихъ въ исторіи послѣдователей Маккіавели. Но съ каждымъ годомъ козлы помогаютъ все меньше и меньше. Въ самую тупую голову начинаетъ закрадываться сомнѣніе: что-жъ это вы, голубчики, полтора десятка лѣтъ все сокращаетесь и приближаетесь къ массамъ, — а какъ была ерунда, такъ и осталась. На восемнадцатомъ году революціи женщину заставляютъ кормить грудью поросятъ, а надъ школьницами учиняютъ массовый медицинскій осмотръ на предметъ установленія невинности... И эти вещи могутъ случаться въ странѣ, которая оффиціально зовется "самой свободной въ мірѣ". "Проклятымъ старымъ режимомъ", "наслѣдіемъ крѣпостничества", "вѣковой темнотой Россіи" и прочими, нѣсколько мистическаго характера, вещами тутъ ужъ не отдѣлаешься: при дореволюціонномъ правительствѣ, которое исторически все же ближе было къ крѣпостному праву, чѣмъ совѣтское, — такія вещи просто были бы невозможны. Не потому, чтобы кто-нибудь запрещалъ, а потому, что никому бы въ голову не пришло. А если бы и нашлась такая сумасшедшая голова — такъ ни одинъ врачъ не сталъ бы осматривать и ни одна школьница на осмотръ не пошла бы...
Да, въ Россіи сомнѣнія начинаютъ закрадываться въ самыя тупыя головы. Оттого-то для этихъ головъ начинаютъ придумывать новыя побрякушки — вотъ вродѣ красивой жизни... Нѣкоторыя головы въ эмиграціи начинаютъ эти сомнѣнія "изживать"... Занятіе исключительно своевременное.
...Въ мельканіи всяческихъ административныхъ мѣропріятій каждое совѣтское заведеніе, какъ планета по орбитѣ, проходитъ такое коловращеніе: сокращеніе, укрупненіе, разукрупненіе, разбуханіе и снова сокращеніе: у попа была собака...
Когда, вслѣдствіе предшествующихъ мѣропріятій, аппаратъ разбухъ до такой степени, что ему, дѣйствительно, и повернуться нельзя, начинается кампанія по сокращенію. Аппаратъ сокращаютъ неукоснительно, скорострѣльно, безпощадно и безтолково. Изъ этой операціи онъ вылѣзаетъ въ такомъ изуродованномъ видѣ, что ни жить, ни работать онъ въ самомъ дѣлѣ не можетъ. Отъ него отгрызли все то, что не имѣло связей, партійнаго билета, умѣнья извернуться или пустить пыль въ глаза. Изгрызенный аппаратъ временно оставляютъ въ покоѣ со свирѣпымъ внушеніемъ: впредь не разбухать. Тогда возникаетъ теорія "укрупненія": нѣсколько изгрызенныхъ аппаратовъ соединяются вкупѣ, какъ слѣпой соединяется съ глухимъ. "Укрупнившись" и получивъ новую вывѣску и новыя "плановыя заданія", новорожденный аппаратъ начинаетъ понемногу и потихоньку разбухать. Когда разбуханіе достигнетъ какого-то предѣла, при которомъ снова ни повернуться, ни вздохнуть, — на сцену приходитъ теорія "разукрупненія". Укрупненіе соотвѣтствуетъ централизаціи, спеціализаціи, индустріализаціи и вообще "масштабамъ". Разукрупненіе выдвигаетъ лозунги приближенія. Приближаются къ массамъ, къ заводамъ, къ производству, къ женщинамъ, къ быту, къ коровамъ. Во времена пресловутой кроличьей эпопеи былъ даже выброшенъ лозунгъ "приближенія къ бытовымъ нуждамъ кроликовъ". Приблизились. Кролики передохли.
Такъ вотъ: вчера еще единое всесоюзное, всеобъемлющее заведеніе начинаетъ почковаться на отдѣльные "строи", "тресты", "управленія" и прочее. Всѣ они куда-то приближаются. Всѣ они открываютъ новые методы и новыя перспективы. Для новыхъ методовъ и перспективъ явственно нужны и новые люди. "Строи" и "тресты" начинаютъ разбухать — на этотъ разъ беззастѣнчиво и безпардонно. Опять же — до того момента, когда — ни повернуться, ни дохнуть.
Начинается новое сокращеніе.
Такъ идетъ вотъ уже восемнадцать лѣтъ. Такъ идти будетъ еще долго, ибо совѣтская система ставитъ задачи, никакому аппарату непосильныя. Никакой аппаратъ не сможетъ спланировать красивой жизни и установить количество поцѣлуевъ, допустимое теоріей Маркса-Ленина-Сталина. Никакой контроль не можетъ услѣдить за каждой селедкой въ каждомъ кооперативѣ. Приходится нагромождать плановика на плановика, контролера на контролера и сыщика на сыщика. И потомъ планировать и контроль, и сыскъ.
Процессъ разбуханія объясняется тѣмъ, что когда вчернѣ установлены планы, контроль и сыскъ, выясняется, что нужно планировать сыщиковъ и организовывать слѣжку за плановиками. Организуется плановой отдѣлъ въ ГПУ и сыскное отдѣленіе въ Госпланѣ. Въ плановомъ отдѣлѣ ГПУ организуется собственная сыскная ячейка, а въ сыскномъ отдѣленіи Госплана — планово-контрольная группа. Каждая гнилая кооперативная селедка начинаете обрастать плановиками, контролерами и сыщиками. Такой марки не въ состояніи выдержать и гнилая кооперативная селедка. Начинается перестройка: у попа была собака...
Впрочемъ, на волѣ эти сокращенія проходятъ болѣе или менѣе безболѣзненно. Резиновый совѣтскій бытъ приноровился и къ нимъ. Какъ-то выходитъ, что когда сокращается аппаратъ А, начинаетъ разбухать аппаратъ Б. Когда сокращается Б — разбухаетъ А. Иванъ Ивановичъ, сидящій въ А и ожидающій сокращенія, звонитъ по телефону Ивану Петровичу, сидящему въ Б и начинающему разбухать: нѣтъ-ли у васъ, Иванъ Петровичъ, чего-нибудь такого подходящаго. Что-нибудь такое подходящее обыкновенно отыскивается. Черезъ мѣсяцевъ пять-шесть и Иванъ Ивановичъ, и Иванъ Петровичъ мирно перекочевываютъ снова въ аппаратъ А. Такъ оно и крутится. Особой безработицы отъ этого не получается. Нѣкоторое углубленіе всероссійскаго кабака, отъ всего этого происходящее, въ "общей тенденціи развитія" мало замѣтно и въ глаза не бросается. Конечно, покидая аппаратъ А, Иванъ Ивановичъ никому не станетъ "сдавать дѣлъ": просто вытряхнетъ изъ портфеля свои бумаги и уйдетъ. Въ аппаратѣ Б Иванъ Ивановичъ три мѣсяца будетъ разбирать бумаги, точно такимъ же образомъ вытряхнутыя кѣмъ-то другимъ. Къ тому времени, когда онъ съ ними разберется, его уже начнутъ укрупнять или разукрупнять. Засидѣться на одномъ мѣстѣ Иванъ Ивановичъ не имѣетъ почти никакихъ шансовъ, да и засиживаться — опасно...
Здѣсь уже, собственно говоря, начинается форменный бедламъ — къ каковому бедламу лично я никакого соціологическаго объясненія найти не могу. Когда, въ силу какой-то таинственной игры обстоятельствъ, Ивану Ивановичу удастся усидѣть на одномъ мѣстѣ три-четыре года и, слѣдовательно, какъ-то познакомиться съ тѣмъ дѣломъ, на которомъ онъ работаетъ, то на ближайшей чисткѣ ему бросятъ въ лицо обвиненіе въ томъ, что онъ "засидѣлся". И этого обвиненія будетъ достаточно для того, чтобы Ивана Ивановича вышибли вонъ — правда, безъ порочащихъ его "добрую совѣтскую" честь отмѣтокъ. Мнѣ, повидимому, удалось установить всесоюзный рекордъ "засиживанья". Я просидѣлъ на одномъ мѣстѣ почти шесть лѣтъ. Правда, мѣсто было, такъ сказать, внѣ конкурренціи: физкультура. Ей всѣ весьма сочувствуютъ и никто ничего не понимаетъ. И все же на шестой годъ меня вышибли. И въ отзывѣ комиссіи по чисткѣ было сказано (буквально):
"Уволить, какъ засидѣвшагося, малограмотнаго, не имѣющаго никакого отношенія къ физкультурѣ, задѣлавшагося инструкторомъ и ничѣмъ себя не проявившаго".
А Госиздатъ за эти годы выпустилъ шесть моихъ руководствъ по физкультурѣ...
Нѣтъ, ужъ Господь съ нимъ, лучше не "засиживаться"...
___
Засидѣться въ Медгорѣ у насъ, къ сожалѣнію, не было почти никакихъ шансовъ: обстоятельство, которое мы (тоже къ сожалѣнію) узнали уже только послѣ "нажатія всѣхъ кнопокъ". Медгора свирѣпо сокращала свои штаты. А рядомъ съ управленіемъ лагеря здѣсь не было того гипотетическаго заведенія Б, которое, будучи рядомъ, не могло не разбухать. Инженеры, плановики, бухгалтера, машинистки вышибались вонъ; въ тотъ же день переводились съ перваго лагпункта на третій, два-три дня пилили дрова или чистили клозеты въ управленіи и исчезали куда-то на сѣверъ: въ Сороку, въ Сегежу, въ Кемь... Конечно, черезъ мѣсяцъ-два Медгора снова станетъ разбухать: и лагерное управленіе подвластно неизмѣннымъ законамъ натуры соціалистической, но это будетъ черезъ мѣсяцъ-два. Мы же съ Юрой рисковали не черезъ мѣсяцъ — два, а дня черезъ два-три попасть куда-нибудь въ такія непредусмотрѣнныя Господомъ Богомъ мѣста, что изъ нихъ къ границѣ совсѣмъ выбраться будетъ невозможно.
Эти мысли, соображенія и перспективы лѣзли мнѣ въ голову, когда мы по размокшему снѣгу, подъ дождемъ и подъ конвоемъ нашего забубеннаго чекистика, топали со станціи въ медгорскій УРЧ. Юра былъ настроенъ весело и боеспособно и даже напѣвалъ:
— Что УРЧ грядущій намъ готовить?
Ничего путнаго отъ этого "грядущаго УРЧа" ждать не приходилось...
ТРЕТІЙ ЛАГПУНКТЪ
УРЧ медгорскаго отдѣленія приблизительно такое же завалящее и отвратное заведеніе, какимъ было и наше подпорожское УРЧ. Между нарядчикомъ УРЧ и нашимъ начальникомъ конвоя возникаетъ дискуссія. Конвой сдалъ насъ и получилъ расписку. Но у нарядчика УРЧ нѣтъ конвоя, чтобы переправить насъ на третій лагпунктъ. Нарядчикъ требуетъ, чтобы туда доставилъ насъ нашъ подпорожскій конвой. Начальникъ конвоя растекается соловьинымъ матомъ и исчезаетъ. Намъ, слѣдовательно, предстоитъ провести ночь въ новыхъ урчевскихъ закоулкахъ. Возникаетъ перебранка, въ результатѣ которой мы получаемъ сопроводительную бумажку для насъ и сани — для нашего багажа. Идемъ самостоятельно, безъ конвоя.
На третьемъ лагпунктѣ часа три тыкаемся отъ лагпунктоваго УРЧ къ начальнику колонны, отъ начальника колонны — къ статистикамъ, отъ статистиковъ — къ какимъ-то старостамъ и, наконецъ, попадаемъ въ баракъ № 19.
Это высокій и просторный баракъ, на много лучше, чѣмъ на Погрѣ. Горитъ электричество. Оконъ раза въ три больше, чѣмъ въ Погровскихъ баракахъ. Холодъ — совсѣмъ собачій, ибо печекъ только двѣ. Посерединѣ одной изъ длинныхъ сторонъ барака — нѣчто вродѣ ниши съ окномъ — тамъ "красный уголокъ": столъ, покрытый кумачемъ, на столѣ — нѣсколько агитаціонныхъ брошюрокъ, на стѣнахъ — портреты вождей и лозунги. На нарахъ — много пустыхъ мѣстъ: только что переправили на сѣверъ очередную партію сокращенной публики. Дня черезъ три-четыре будутъ отправлять еще одинъ этапъ. Въ него рискуемъ попасть и мы. Но — довлѣетъ дневи злоба его. Пока что — нужно спать.
Насъ разбудили въ половинѣ шестого — идти въ Медгору работу. Но мы знаемъ, что ни въ какую бригаду мы еще нечислены, и поэтому повторяемъ нашъ погровскій пріемъ: выходимъ, окалачиваемся по уборнымъ, пока колонны не исчезаютъ, и потомъ снова заваливаемся спать.
Утромъ осматриваемъ лагпунктъ. Да, это нѣсколько лучше Погры. Не на много, но все же лучше. Однако, пройти изъ лагпункта въ Медгору мнѣ не удается. Ограды, правда, нѣтъ, но между Медгорой и лагпунктомъ — рѣчушка Вичка, не замерзающая даже въ самыя суровыя зимы. Берега ея — въ отвѣсныхъ сугробахъ снѣга, обледенѣлыхъ отъ брызгъ стремительнаго теченія... Черезъ такую рѣчку пробираться — крайне некомфортабельно. А по дорогѣ къ границѣ такихъ рѣчекъ — десятки... Нѣтъ, зимой мы бы не прошли...
На этой рѣчкѣ — мостъ, и на мосту — "попка". Нужно получить пропускъ отъ начальника лагпункта. Иду къ начальнику лагпункта. Тотъ смотритъ подозрительно и отказываетъ наотрѣзъ: "Никакихъ пропусковъ, а почему вы не на работѣ?" Отвѣчаю: прибыли въ пять утра. И чувствую: здѣсь спецовскимъ видомъ никого не проймешь. Мало-ли спеціалистовъ проходили черезъ третій лагпунктъ, чистку уборныхъ и прочія удовольствія. Методы психолоческаго воздѣйствія здѣсь должны быть какіе-то другіе. Какіе именно — я еще не знаю. Въ виду этого мы вернулись въ свой красный уголокъ, засѣли за шахматы. Днемъ насъ приписали къ бригадѣ какого-то Махоренкова. Къ вечеру изъ Медгоры вернулись бригады. Публика — очень путаная. Нѣсколько преподавателей и инженеровъ. Какой-то химикъ. Много рабочихъ. И еще больше урокъ. Какой-то урка подходитъ ко мнѣ и съ дружественнымъ видомъ щупаетъ добротность моей кожанки.
— Подходящая кожанка. И гдѣ это вы ее купили?
По рожѣ урки видно ясно: онъ подсчитываетъ — за такую кожанку не меньше какъ литровъ пять перепадетъ — обязательно сопру...
Урки въ баракѣ — это хуже холода, тѣсноты, вшей и клоповъ. Вы уходите на работу, ваши вещи и ваше продовольствіе остаются въ баракѣ, вмѣстѣ съ вещами и продовольствіемъ ухитряется остаться какой-нибудь урка. Вы возвращаетесь — и ни вещей, ни продовольствія, ни урки. Черезъ день-два урка появляется. Ваше продовольствіе съѣдено, ваши вещи пропиты, но въ этомъ пропитіи принимали участіе не только урки, но и кто-то изъ мѣстнаго актива — начальникъ колонны, статистикъ, кто-нибудь изъ УРЧ и прочее. Словомъ, взывать вамъ не къ кому и просить о разслѣдованіи тоже некого. Бывалые лагерники говорили, что самое простое, когда человѣка сразу по прибытіи въ лагерь оберутъ, какъ липку, и человѣкъ начинаетъ жить по классическому образцу: все мое ношу съ собой. Насъ на Погрѣ ограбить не успѣли — въ силу обстоятельствъ, уже знакомыхъ читателю, и подвергаться ограбленію намъ очень не хотѣлось. Не только въ силу, такъ сказать, обычнаго человѣческаго эгоизма, но также и потому, что безъ нѣкоторыхъ вещей бѣжать было бы очень некомфортабельно.
Но урки — это все-таки не активъ. Дня два-три мы изворачивались такимъ образомъ: навьючивали на себя елико возможное количество вещей, и такъ и шли на работу. А потомъ случилось непредвидѣнное происшествіе.
Около насъ, точнѣе, надъ нами помѣщался какой-то паренекъ лѣтъ этакъ двадцати пяти. Какъ-то ночью меня разбудили его стоны. "Что съ вами?" — "Да животъ болитъ, ой, не могу, ой, прямо горитъ"... Утромъ паренька стали было гнать на работу. Онъ кое-какъ сползъ съ наръ и тутъ же свалился. Его подняли и опять положили на нары. Статистикъ изрекъ нѣсколько богохульствъ и оставилъ паренька въ покоѣ, пообѣщавъ все же пайка ему не выписать.
Мы вернулись поздно вечеромъ. Паренекъ все стоналъ. Я его пощупалъ. Даже въ масштабахъ моихъ медицинскихъ познаній можно было догадаться, что на почвѣ неизмѣнныхъ лагерныхъ катарровъ (сырой хлѣбъ, гнилая капуста и прочее) — у паренька что-то вродѣ язвы желудка. Спросили старшину барака. Тотъ отвѣтилъ, что во врачебный пунктъ уже заявлено. Мы легли спать — и отъ физической усталости и непривычныхъ дней, проводимыхъ въ физической работѣ на чистомъ воздухѣ, я заснулъ, какъ убитый. Проснулся отъ холода, Юры — нѣтъ. Мы съ Юрой приноровились спать, прижавшись спиной къ спинѣ, — въ этомъ положеніи нашего наличнаго постельнаго инвентаря хватало, чтобы не замерзать по ночамъ. Черезъ полчаса возвращается Юра. Видъ у него мрачный и рѣшительный. Рядомъ съ нимъ — какой-то старичекъ, какъ потомъ оказалось, докторъ. Докторъ пытается говорить что-то о томъ, что онъ-де разорваться не можетъ, что ни медикаментовъ, ни мѣстъ въ больницѣ нѣтъ, но Юра стоитъ надъ нимъ этакимъ коршуномъ, и видъ у Юры профессіональнаго убійцы. Юра говоритъ угрожающимъ тономъ:
— Вы раньше осмотрите, а потомъ ужъ мы съ вами будемъ разговаривать. Мѣста найдутся. Въ крайности — я къ Успенскому пойду.
Успенскій — начальникъ лагеря. Докторъ не можетъ знать, откуда на горизонтѣ третьяго лагпункта появился Юра и какія у него были или могли быть отношенія съ Успенскимъ. Докторъ тяжело вздыхаетъ. Я говорю о томъ, что у паренька, повидимому, язва привратника. Докторъ смотритъ на меня подозрительно.
— Да, нужно бы везти въ больницу. Ну что-жъ, завтра пришлемъ санитаровъ.
— Это — завтра, — говоритъ Юра, — а парня нужно отнести сегодня.
Нѣсколько урокъ уже столпилось у постели болящаго. Они откуда-то въ одинъ моментъ вытащили старыя, рваныя и окровавленныя носилки — и у доктора никакого выхода не оказалось. Парня взвалили на носилки, и носилки въ сопровожденіи Юры, доктора и еще какой-то шпаны потащились куда-то въ больницу.
Утромъ мы по обыкновенію стали вьючить на себя необходимѣйшую часть нашего имущества. Къ Юрѣ подошелъ какой-то чрезвычайно ясно выраженный урка, остановился передъ нами, потягивая свою цыгарку и лихо сплевывая.
— Что это — паханъ твой? — спросилъ онъ Юру.
— Какой паханъ?
— Ну, батька, отецъ — человѣчьяго языка не понимаешь?
— Отецъ.
— Такъ, значитъ, вотъ что — насчетъ борохла вашего — не бойтесь. Никто ни шпинта не возьметъ. Будьте покойнички. Парнишка-то этотъ — съ нашей шпаны. Такъ что вы — намъ, а мы — вамъ.
О твердости урочьихъ обѣщаній я кое-что слыхалъ, но не очень этому вѣрилъ. Однако, Юра рѣшительно снялъ свое "борохло", и мнѣ ничего не оставалось, какъ послѣдовать его примѣру. Если ужъ "оказывать довѣріе" — такъ безъ запинки. Урка посмотрѣлъ на насъ одобрительно, еще сплюнулъ и сказалъ:
— А ежели кто тронетъ — скажите мнѣ. Тутъ тебѣ не третій отдѣлъ, найдемъ вразъ.
Урки оказались, дѣйствительно, не третьимъ отдѣломъ и не активистами. За все время нашего пребыванія въ Медгорѣ у насъ не пропало ни одной тряпки. Даже и послѣ того, какъ мы перебрались изъ третьяго лагпункта. Таинственная организація урокъ оказалась, такъ сказать, вездѣсущей. Нѣчто вродѣ китайскихъ тайныхъ обществъ нищихъ и бродягъ. Нѣсколько позже — Юра познакомился ближе съ этимъ міромъ, оторваннымъ отъ всего остального человѣчества и живущимъ по своимъ таинственнымъ и жестокимъ законамъ. Но пока что — за свои вещи мы могли быть спокойны.
В ЧЕРНОРАБОЧЕМЪ ПОЛОЖЕНІИ
Насъ будятъ въ половинѣ шестого утра. На дворѣ еще тьма. Въ этой тьмѣ выстраиваются длинныя очереди лагерниковъ — за своей порціей утренней каши. Здѣсь порціи раза въ два больше, чѣмъ въ Подпорожьи: такъ всякій совѣтскій бытъ тучнѣетъ по мѣрѣ приближенія къ начальственнымъ центрамъ и тощаетъ по мѣрѣ удаленія отъ нихъ. Потомъ насъ выстраиваютъ по бригадамъ, и мы топаемъ — кто куда. Наша бригада идетъ въ Медгору, "въ распоряженіе комендатуры управленія".
Приходимъ въ Медгору. На огромной площади управленческаго городка разбросаны зданія, службы, склады. Все это выстроено на много солиднѣе лагерныхъ бараковъ. Посерединѣ двора — футуристическаго вида столпъ, и на столпѣ ономъ — бюстъ Дзержинскаго, — такъ сказать, основателя здѣшнихъ мѣстъ и благодѣтеля здѣшняго населенія.
Нашъ бригадиръ исчезаетъ въ двери комендатуры и оттуда появляется въ сопровожденіи какого-то мрачнаго мужчины, въ лагерномъ бушлатѣ, съ длинными висячими усами и изрытымъ оспой лицомъ. Мужчина презрительнымъ окомъ оглядываетъ нашу разнокалиберную, но въ общемъ довольно рваную шеренгу. Насъ — человѣкъ тридцать. Одни отправляются чистить снѣгъ, другіе рыть ямы для будущаго ледника чекистской столовой. Мрачный мужчина, распредѣливъ всю шеренгу, заявляетъ:
— А вотъ васъ двое, которые въ очкахъ, — берите лопаты и айда за мной.
Мы беремъ лопаты и идемъ. Мрачный мужчина широкими шагами перемахиваетъ черезъ кучи снѣга, сора, опилокъ, досокъ и чортъ его знаетъ, чего еще. Мы идемъ за нимъ. Я стараюсь сообразить, кто бы это могъ быть не по его нынѣшнему оффиціальному положенію, а по его прошлой жизни. Въ общемъ — сильно похоже на кондоваго рабочаго, наслѣдственнаго пролетарія и прочее. А впрочемъ — увидимъ...
Пришли на одинъ изъ дворовъ, заваленный пиленымъ лѣсомъ: досками, брусками, балками, обрѣзками. Мрачный мужчина осмотрѣлъ все это испытующимъ окомъ и потомъ сказалъ:
— Ну, такъ вотъ, значитъ, что... Всю эту хрѣновину нужно разобрать такъ, чтобы доски къ доскамъ, бруски къ брускамъ... Въ штабели, какъ полагается.
Я осмотрѣлъ все это столпотвореніе еще болѣе испытующимъ окомъ:
— Тутъ на десять человѣкъ работы на мѣсяцъ будетъ.
"Комендантъ" презрительно пожалъ плечами.
— А вамъ что? Сроку не хватитъ? Лѣтъ десять, небось, имѣется?
— Десять не десять, а восемь есть.
— Ну, вотъ... И складайте себѣ. А какъ пошабашите — приходите ко мнѣ — рабочее свѣдѣніе дамъ... Шабашить — въ четыре часа. Только что прибыли?
— Да.
— Ну, такъ вотъ, значитъ, и складайте. Только — жилъ изъ себя тянуть — никакого расчету нѣтъ. Всѣхъ дѣлъ не передѣлаешь, а сроку хватитъ...
"Комендантъ" повернулся и ушелъ. Мы съ Юрой спланировали нашу работу и начали потихоньку перекладывать доски, бревна и прочее. Тутъ только я понялъ, до чего я ослабь физически. Послѣ часа этой, въ сущности, очень неторопливой работы — уже еле ноги двигались.
Погода прояснилась. Мы усѣлись на доскахъ на солнцѣ, достали изъ кармановъ по куску хлѣба и позавтракали такъ, какъ завтракаютъ и обѣдаютъ и въ лагеряхъ, и въ Россіи вообще, тщательно прожевывая каждую драгоцѣнную крошку и подбирая упавшія крошки съ досокъ и съ полъ бушлата. Потомъ — посидѣли и поговорили о массѣ вещей. Потомъ снова взялись за работу. Такъ незамѣтно и прошло время. Въ четыре часа мы отправились въ комендатуру за "рабочими свѣдѣніями". "Рабочія свѣдѣнія" — это нѣчто вродѣ квитанціи, на которой "работодатель" отмѣчаетъ, что такой-то заключенный работалъ столько-то времени и выполнилъ такой-то процентъ нормы.
Мрачный мужчина сидѣлъ за столикомъ и съ кѣмъ-то говорилъ по телефону. Мы подождали. Повѣсивъ трубку, онъ спросилъ мою фамилію. Я сказалъ. Онъ записалъ, поставилъ какую-то "норму" и спросилъ Юру. Юра сказалъ. "Комендантъ" поднялъ на насъ свои очи:
— Что — родственники?
Я объяснилъ.
— Эге, — сказалъ комендантъ. — Заворочено здорово. Чтобы и сѣмени на волѣ не осталось.
Онъ протянулъ заполненную бумажку. Юра взялъ ее, и мы вышли на дворъ. На дворѣ Юра посмотрѣлъ на бумажку и сдѣлалъ индѣйское антраша — отголоски тѣхъ индѣйскихъ танцевъ, которые онъ въ особо торжественныхъ случаяхъ своей жизни выполнялъ лѣтъ семь тому назадъ.
— Смотри.
Я посмотрѣлъ. На бумажкѣ стояло:
— Солоневичъ Иванъ. 8 часовъ. 135%.
— Солоневичъ Юріи. 8 часовъ. 135%.
Это означало, что мы выполнили по 135 процентовъ какой-то неизвѣстной намъ нормы и поэтому имѣемъ право на полученіе сверхударнаго обѣда и сверхударнаго пайка размѣромъ въ 1100 граммъ хлѣба.
Тысяча сто граммъ хлѣба это, конечно, былъ капиталъ. Но еще большимъ капиталомъ было ощущеніе, что даже лагерный свѣтъ — не безъ добрыхъ людей...
РАЗГАДКА СТА ТРИДЦАТИ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВЪ
Наша бригада нестройной и рваной толпой вяло шествовала "домой" на третій лагпунктъ. Шествовали и мы съ Юрой. Все-таки очень устали, хотя и наработали не Богъ знаетъ сколько. Рабочія свѣдѣнія съ отмѣткой о ста тридцати пяти процентахъ выработки лежали у меня въ карманѣ и вызывали нѣкоторое недоумѣніе: съ чего бы это?
Здѣсь, въ Медгорѣ, мы очутились на самыхъ низахъ соціальной лѣстницы лагеря. Мы были окружены и придавлены неисчислимымъ количествомъ всяческаго начальства, которое было поставлено надъ нами съ преимущественной цѣлью — выколотить изъ насъ возможно большее количество коммунистической прибавочной стоимости. А коммунистическая прибавочная стоимость — вещь гораздо болѣе серьезная, чѣмъ та, капиталистическая, которую въ свое время столь наивно разоблачалъ Марксъ. Здѣсь выколачиваютъ все, до костей. Основныя функціи выколачиванія лежатъ на всѣхъ "работодателяхъ", то-есть, въ данномъ случаѣ, на всѣхъ, кто подписывалъ намъ эти рабочія свѣдѣнія.
Проработавъ восемь часовъ на перекладкѣ досокъ и бревенъ, мы ощутили съ достаточной ясностью: при существующемъ уровнѣ питанія и тренированности мы не то что ста тридцати пяти, а пожалуй, и тридцати пяти процентовъ не выработаемъ. Хорошо, попалась добрая душа, которая поставила намъ сто тридцать пять процентовъ. А если завтра доброй души не окажется? Перспективы могутъ быть очень невеселыми.
Я догналъ нашего бригадира, угостилъ его папироской и завелъ съ нимъ разговоръ о предстоящихъ намъ работахъ и о томъ, кто, собственно, является нашимъ начальствомъ на этихъ работахъ. Къ термину "начальство" нашъ бригадиръ отнесся скептически.
— Э, какое тутъ начальство, все своя бражка.
Это объясненіе меня не удовлетворило. Внѣшность бригадира была нѣсколько путаной: какая же "бражка" является для него "своей"? Я переспросилъ.
— Да въ общемъ же — свои ребята. Рабочая публика.
Это было яснѣе, но не на много. Во-первыхъ, потому, что сейчасъ въ Россіи нѣтъ слоя, болѣе разнокалибернаго, чѣмъ пресловутый рабочій классъ, и, во-вторыхъ, потому, что званіемъ рабочаго прикрывается очень много очень разнообразной публики: и урки, и кулаки, и дѣлающіе карьеру активисты, и интеллигентская молодежь, зарабатывающая пролетарскіе мозоли и пролетарскій стажъ, и многіе другіе.
— Ну, знаете, рабочая публика бываетъ ужъ очень разная.
Бригадиръ беззаботно передернулъ плечами.
— Гдѣ разная, а гдѣ и нѣтъ. Тутъ гаражи, электростанціи, мастерскія, мельницы. Кого попало не поставишь. Тутъ завѣдуютъ рабочіе, которые съ квалификаціей, съ царскаго времени рабочіе.
Квалифицированный рабочій, да еще съ царскаго времени — это было уже ясно, опредѣленно и весьма утѣшительно. Сто тридцать пять процентовъ выработки, лежавшіе въ моемъ карманѣ, потеряли характеръ пріятной неожиданности и пріобрѣли нѣкоторую закономѣрность: рабочій — всамдѣлишный, квалифицированный, да еще царскаго времени, не могъ не оказать намъ, интеллигентамъ, всей той поддержки, на которую онъ при данныхъ обстоятельствахъ могъ быть способенъ. Правда, при "данныхъ обстоятельствахъ" нашъ, еще неизвѣстный мнѣ, комендантъ кое-чѣмъ и рисковалъ: а вдругъ бы кто-нибудь разоблачилъ нашу фактическую выработку? Но въ Совѣтской Россіи люди привыкли къ риску и къ риску не только за себя самого.
Не знаю, какъ кто, но лично я всегда считалъ теорію разрыва интеллигенціи съ народомъ — кабинетной выдумкой, чѣмъ-то весьма близкимъ къ такъ называемымъ сапогамъ всмятку, однимъ изъ тѣхъ изобрѣтеній, на которыя такъ охочи и такіе мастера русскіе пишущіе люди. Сколько было выдумано всякихъ міровоззрѣнческихъ, мистическихъ, философическихъ и потустороннихъ небылицъ! И какая отъ всего этого получилась путаница въ терминахъ, понятіяхъ и мозгахъ! Думаю, что ликвидація всего этого является основной, насущнѣйшей задачей русской мысли, вопросомъ жизни и смерти интеллигенціи, не столько подсовѣтской — тамъ процессъ обезвздориванія мозговъ "въ основномъ" уже продѣланъ — сколько эмигрантской.
...Въ 1921-22 году Одесса переживала такъ называемые "дни мирнаго возстанія". "Рабочіе" ходили по квартирамъ "буржуазіи" и грабили все, что де-юре было лишнимъ для буржуевъ и де-факто казалось нелишнимъ для возставшихъ. Было очень просто сказать: вотъ вамъ ваши рабочіе, вотъ вамъ русскій рабочій классъ. А это былъ никакой не классъ, никакіе не рабочіе. Это была портовая шпана, лумпенъ-пролетаріатъ Молдаванки и Пересыпи, всякіе отбившіеся люди, такъ сказать, генеалогическій корень нынѣшняго актива. Они не были рабочими въ совершенно такой же степени, какъ не былъ интеллигентомъ дореволюціонный околодочный надзиратель, бившій морду пьяному дворнику, какъ не былъ интеллигентомъ — то-есть профессіоналомъ умственнаго труда — старый баринъ, пропивавшій послѣднія закладныя.
Всѣ эти мистически кабинетныя теоріи и прозрѣнія сыграли свою жестокую роль. Они раздробили единый народъ на противостоящія другъ другу группы. Отбросы классовъ были представлены, какъ характерные представители ихъ. Большевизмъ, почти геніально использовавъ путаницу кабинетныхъ мозговъ, извлекъ изъ нея далеко не кабинетныя послѣдствія.
Русская революція, которая меня, какъ и почти всѣхъ русскихъ интеллигентовъ, спихнула съ "верховъ" — въ моемъ случаѣ, очень относительныхъ — и погрузила въ "низы" — въ моемъ случаѣ, очень неотносительные (уборка мусорныхъ ямъ въ концлагерѣ — чего ужъ глубже) — дала мнѣ блестящую возможность провѣрить свои и чужія точки зрѣнія на нѣкоторые вопросы. Долженъ сказать откровенно, что за такую провѣрку годомъ концентраціоннаго лагеря заплатить стоило. Склоненъ также утверждать, что для нѣкоторой части россійской эмиграціи годъ концлагеря былъ бы великолѣпнымъ средствомъ для протиранія глазъ и приведенія въ порядокъ мозговъ. Очень вѣроятно, что нѣкоторая группа новыхъ возвращенцевъ этимъ средствомъ принуждена будетъ воспользоваться.
Въ тѣ дни, когда культурную Одессу грабили "мирными возстаніями", я работалъ грузчикомъ въ Одесскомъ рабочемъ кооперативѣ. Меня послали съ грузовикомъ пересыпать бобы изъ какихъ-то закромовъ въ мѣшки на заводъ Гена, на Пересыпи. Шофферъ съ грузовикомъ уѣхалъ, и мнѣ пришлось работать одному.
Было очень неудобно — некому мѣшокъ держать. Работаю. Прогудѣлъ заводской гудокъ. Мимо склада — онъ былъ нѣсколько въ сторонкѣ — бредутъ кучки рабочихъ, голодныхъ, рваныхъ, истомленныхъ. Прошли, заглянули, пошептались, потоптались, вошли въ складъ.
— Что-жъ это они, сукины дѣти, на такую работу одного человѣка поставили?
Я отвѣтилъ, что что же дѣлать, вѣроятно, людей больше нѣтъ.
— У нихъ-то грузчиковъ нѣту? У нихъ по коммиссаріатамъ одни грузчики и сидятъ. Ну, давайте, мы вамъ подсобимъ.
Подсобили. Ихъ было человѣкъ десять — и бобы были ликвидированы въ теченіе часа. Одинъ изъ рабочихъ похлопалъ ладонью послѣдній завязанный мѣшокъ.
— Вотъ, значитъ, ежели коллективно поднажмать, такъ разъ — и готово. Ну, закуримъ что ли, что-бъ дома не журились.
Закурили, поговорили о томъ, о семъ. Стали прощаться. Я поблагодарилъ. Одинъ изъ рабочихъ, сумрачно оглядывая мою внѣшность, какъ-то, какъ мнѣ тогда показалось, подозрительно спросилъ:
— А вы-то давно на этомъ дѣлѣ работаете?
Я промычалъ что-то не особенно внятное. Первый рабочій вмѣшался въ мои междометія.
— А ты, товарищокъ, дуру изъ себя не строй, видишь, человѣкъ образованный, развѣ его дѣло съ мѣшками таскаться.
Сумрачный рабочій плюнулъ и матерно выругался:
— Вотъ поэтому-то, мать его... , такъ все и идетъ. Которому мѣшки грузить, такъ онъ законы пишетъ, а которому законы писать, такъ онъ съ мѣшками возится. Учился человѣкъ, деньги на него страчены... По такому путѣ далеко-о мы пойдемъ.
Первый рабочій, прощаясь и подтягивая на дорогу свои подвязанные веревочкой штаны, успокоительно сказалъ:
— Ну, ни черта. Мы имъ кишки выпустимъ!
Я отъ неожиданности задалъ явственно глуповатый вопросъ: кому это, имъ?
— Ну, ужъ кому, это и вы знаете и мы знаемъ.
Повернулся, подошелъ къ двери, снова повернулся ко мнѣ и показалъ на свои рваные штаны.
— А вы это видали?
Я не нашелъ, что отвѣтить: я и не такіе штаны видалъ, да и мои собственные были ничуть не лучше.
— Такъ вотъ, значитъ, въ семнадцатомъ году, когда товарищи про все это разорялись, вотъ, думаю, будетъ рабочая власть, такъ будетъ у меня и костюмчикъ, и все такое. А вотъ съ того времени — какъ были эти штаны, такъ одни и остались. Одного прибавилось — дыръ. И во всемъ такъ. Хозяева! Управители! Нѣтъ, ужъ мы имъ кишки выпустимъ...
Насчетъ "кишекъ" пока что — не вышло. Сумрачный рабочій оказался пророкомъ: пошли, дѣйствительно, далеко — гораздо дальше, чѣмъ въ тѣ годы могъ кто бы то ни было предполагать....
Кто-же былъ типиченъ для рабочаго класса? Тѣ, кто грабилъ буржуйскія квартиры, или тѣ, кто помогалъ мнѣ грузить мѣшки? Донбассовскіе рабочіе, которые шли противъ добровольцевъ, подпираемые сзади латышско-китайско-венгерскими пулеметами, или ижевскіе рабочіе, сформировавшіеся въ ударные колчаковскіе полки?
Прошло много, очень много лѣтъ. Потомъ были: "углубленія революціи", ликвидація кулака, какъ класса, на базѣ сплошной "коллективизаціи деревни", голодъ на заводахъ и въ деревняхъ, пять милліоновъ людей въ концентраціонныхъ лагеряхъ, ни на одинъ день не прекращающаяся работа подваловъ ВЧК-ОГПУ-Наркомвнудѣла.
За эти путанные и трагически годы я работалъ грузчикомъ, рыбакомъ, кооператоромъ, чернорабочимъ, работникомъ соціальнаго страхованія, профработникомъ и, наконецъ, журналистомъ. Въ порядкѣ ознакомленія читателей съ источниками моей информаціи о рабочемъ классѣ Россіи, а также и объ источникахъ пропитанія этого рабочаго класса — мнѣ хотѣлось бы сдѣлать маленькое отступленіе на аксаковскую тему о рыбной ловлѣ удочкой.
Въ нынѣшней совѣтской жизни это не только тихій спортъ, на одномъ концѣ котораго помѣщается червякъ, а на другомъ дуракъ. Это способъ пропитанія. Это одинъ — только одинъ — изъ многихъ отвѣтовъ на вопросъ: какъ же это, при томъ способѣ хозяйствованія, какой ведется въ Совѣтской Россіи, пролетарская и непролетарская Русь не окончательно вымираетъ отъ голода. Спасаютъ, въ частности, просторы. Въ странахъ, гдѣ этихъ просторовъ нѣтъ, революція обойдется дороже.
Я знаю инженеровъ, бросавшихъ свою профессію для рыбной ловли, сбора грибовъ и ягодъ. Рыбной ловлей, при всей моей безталанности въ этомъ направленіи, не разъ пропитывался и я. Такъ вотъ. Безчисленные таборы рабочихъ: и использующихъ свой выходной день, и тѣхъ, кто добываетъ пропитаніе свое въ порядкѣ "прогуловъ", "лодырничанья" и "летучести", бродятъ по изобильнымъ берегамъ россійскихъ озеръ, прудовъ, рѣкъ и рѣчушекъ. Около крупныхъ центровъ, въ частности, подъ Москвой эти берега усѣяны "куренями" — земляночки, прикрытыя сверху хворостомъ, еловыми лапами и мхомъ. Тамъ ночуютъ пролетарскіе рыбаки или въ ожиданіи клева отсиживаются отъ непогоды.
...Берегъ Учи. Подъ Москвой. Послѣдняя полоска заката уже догорѣла. Послѣдняя удочка уже свернута. У ближайшаго куреня собирается компанія сосѣдствующихъ удильщиковъ. Зажигается костеръ, ставится уха. Изъ одного мѣшка вынимается одна поллитровочка, изъ другого — другая. Спать до утренней зари не стоитъ. Потрескиваетъ костеръ, побулькиваютъ поллитровочки, изголодавшіеся за недѣлю желудки наполняются пищей и тепломъ — и вотъ, у этихъ-то костровъ начинаются самые стоющіе разговоры съ пролетаріатомъ. Хорошіе разговоры. Никакой мистики. Никакихъ вѣчныхъ вопросовъ. Никакихъ потустороннихъ темъ. Простой, хорошій, здравый смыслъ. Или, въ англійскомъ переводѣ, "common sense", провѣренный вѣками лучшаго въ мірѣ государственнаго и общественнаго устройства. Революція, интеллигенція, партія, промфинпланъ, цехъ, инженеры, прорывы, бытъ, война и прочее встаютъ въ такомъ видѣ, о какомъ и не заикается совѣтская печать, и такихъ формулировкахъ, какія не приняты ни въ одной печати міра...
За этими куренями увязались было профсоюзные культотдѣлы и понастроили тамъ "красныхъ куреней" — домиковъ съ культработой, портретами Маркса, Ленина, Сталина и съ прочимъ "принудительнымъ ассортиментомъ". Изъ окрестностей этихъ куреней не то что рабочіе, а и окуни, кажется, разбѣжались. "Красные курени" поразвалились и были забыты. Разговоры у костровъ съ ухой ведутся безъ наблюденія и руководства со стороны профсоюзовъ. Эти разговоры могли бы дать необычайный матеріалъ для этакихъ предразсвѣтныхъ "записокъ удильщика", такихъ же предразсвѣтныхъ, какими передъ освобожденіемъ крестьянъ были Тургеневскія "Записки охотника".
___
Изъ безконечности вопросовъ, подымавшихся въ этихъ разговорахъ "по душамъ", здѣсь я могу коснуться только одного, да и то мелькомъ, безъ доказательствъ — это вопроса отношенія рабочаго къ интеллигенціи.
Если "разрыва" не было и до революціи, то до послѣднихъ лѣтъ не было и яснаго, исчерпывающаго пониманія той взаимосвязанности, нарушеніе которой оставляетъ кровоточащія раны на тѣлѣ и пролетаріата, и интеллигенціи. Сейчасъ, послѣ страшныхъ лѣтъ соціалистическаго наступленія, вся трудящаяся масса частью почувствовала, а частью и сознательно поняла, что когда-то и какъ-то она интеллигенцію проворонила. Ту интеллигенцію, среди которой были и идеалисты, была, конечно, и сволочь (гдѣ же можно обойтись безъ сволочи?), но которая въ массѣ функціи руководства страной выполняла во много разъ лучше, честнѣе и человѣчнѣе, чѣмъ ихъ сейчасъ выполняютъ партія и активъ. И пролетаріатъ, и крестьянство — я говорю о среднемъ рабочемъ и о среднемъ крестьянинѣ — какъ-то ощущаютъ свою вину передъ интеллигенціей, въ особенности передъ интеллигенціей старой, которую они считаютъ болѣе толковой, болѣе образованной и болѣе способной къ руководству, чѣмъ новую интеллигенцію. И вотъ поэтому вездѣ, гдѣ мнѣ приходилось сталкиваться съ рабочими и крестьянами не въ качествѣ "начальства", а въ качествѣ равнаго или подчиненнаго, я ощущалъ съ каждымъ годомъ революціи все рѣзче и рѣзче нѣкій неписанный лозунгъ русской трудовой массы:
Интеллигенцію надо беречь.
Это не есть пресловутая россійская жалостливость — какая ужъ жалостливость въ лагерѣ, который живетъ трупами и на трупахъ. Это не есть сердобольная сострадательность богоносца къ пропившемуся барину. Ни я, ни Юра не принадлежали и въ лагерѣ къ числу людей, способныхъ, особенно въ лагерной обстановкѣ, вызывать чувство жалости и состраданія: мы были и сильнѣе, и сытѣе средняго уровня. Это была поддержка "трудящейся массы" того самаго цѣннаго, что у нея осталось: наслѣдниковъ и будущихъ продолжателей великихъ строекъ русской государственности и русской культуры.
___
И я, интеллигентъ, ощущаю ясно, ощущаю всѣмъ нутромъ своимъ: я долженъ дѣлать то, что нужно и что полезно русскому рабочему и русскому мужику. Больше я не долженъ дѣлать ничего. Остальное — меня не касается, остальное отъ лукаваго.
ТРУДОВЫЕ ДНИ
Итакъ, на третьемъ лагпунктѣ мы погрузились въ лагерные низы и почувствовали, что мы здѣсь находимся совсѣмъ среди своихъ. Мы перекладывали доски и чистили снѣгъ на дворахъ управленія, грузили мѣшки на мельницѣ, ломали ледъ на Онѣжскомъ озерѣ, пилили и рубили дрова для чекисткихъ квартиръ, расчищали подъѣздные пути и пристани, чистили мусорныя ямы въ управленческомъ городкѣ. Изъ десятка завѣдующихъ, комендантовъ, смотрителей и прочихъ не подвелъ ни одинъ: всѣ ставили сто тридцать пять процентовъ выработки — максимумъ того, что можно было поставить по лагерной конституціи. Только одинъ разъ завѣдующій какой-то мельницей поставилъ намъ сто двадцать пять процентовъ. Юра помялся, помялся и сказалъ:
— Что же это вы, товарищъ, намъ такъ мало поставили? Всѣ ставили по сто тридцать пять, чего ужъ вамъ попадать въ отстающіе?
Завѣдующій съ колеблющимся выраженіемъ въ обалдѣломъ и замороченномъ лицѣ посмотрѣлъ на наши фигуры и сказалъ:
— Пожалуй, не повѣрятъ, сволочи.
— Повѣрятъ, — убѣжденно сказалъ я. — Уже одинъ случай былъ, нашъ статистикъ заѣлъ, сказалъ, что въ его колоннѣ сроду такой выработки не было.
— Ну? — съ интересомъ переспросилъ завѣдующій.
— Я ему далъ мускулы пощупать.
— Пощупалъ?
— Пощупалъ.
Завѣдующій осмотрѣлъ насъ оцѣнивающимъ взоромъ.
— Ну, ежели такъ, давайте вамъ переправлю. А то бываетъ такъ: и хочешь человѣку, ну, хоть сто процентовъ поставить, а въ немъ еле душа держится, кто-жъ повѣритъ. Такому, можетъ, больше, чѣмъ вамъ, поставить нужно бы. А поставишь — потомъ устроятъ провѣрку — и поминай, какъ звали.
___
Жизнь шла такъ: насъ будили въ половинѣ шестого утра, мы завтракали неизмѣнной ячменной кашей, и бригады шли въ Медвѣжью Гору. Работали по десять часовъ, но такъ какъ въ Совѣтской Россіи оффиціально существуетъ восьмичасовый рабочій день, то во всѣхъ рѣшительно документахъ, справкахъ и свѣдѣніяхъ ставилось: отработано часовъ — 8. Возвращались домой около семи, какъ говорится, безъ рукъ и безъ ногъ. Затѣмъ нужно было стать въ очередь къ статистику, обмѣнять у него рабочія свѣдѣнія на талоны на хлѣбъ и на обѣдъ, потомъ стать въ очередь за хлѣбомъ, потомъ стать въ очередь за обѣдомъ. Пообѣдавъ, мы заваливались спать, тѣсно прижавшись другъ къ другу, накрывшись всѣмъ, что у насъ было, и засыпали, какъ убитые, безъ всякихъ сновъ.
Кстати, о снахъ. Чернавины разсказывали мнѣ, что уже здѣсь, заграницей, ихъ долго терзали мучительные кошмары бѣгства и преслѣдованія. У насъ всѣхъ трехъ тоже есть свои кошмары — до сихъ поръ. Но они почему-то носятъ иной, тоже какой-то стандартизированный, характеръ. Все снится, что я снова въ Москвѣ и что снова нужно бѣжать. Бѣжать, конечно, нужно — это аксіома. Но какъ это я сюда опять попалъ? Вѣдь вотъ былъ же уже заграницей, неправдоподобная жизнь на свободѣ вѣдь уже была реальностью и, какъ часто бываетъ въ снахъ, какъ-то понимаешь, что это — только сонъ, что уже не первую ночь насѣдаетъ на душу этотъ угнетающій кошмаръ, кошмаръ возвращенія къ совѣтской жизни. И иногда просыпаюсь отъ того, что Юра и Борисъ стоятъ надъ кроватью и будятъ меня.
Но въ Медгорѣ сновъ не было. Какой бы холодъ ни стоялъ въ баракѣ, какъ бы ни выла полярная вьюга за его тонкими и дырявыми стѣнками, часы сна проходили, какъ мгновеніе. За свои сто тридцать пять процентовъ выработки мы все-таки старались изо всѣхъ своихъ силъ. По многимъ причинамъ. Главное, можетъ, потому, чтобы не показать барскаго отношенія къ физическому труду. Было очень трудно первые дни. Но килограммъ съ лишнимъ хлѣба и кое-что изъ посылокъ, которыя здѣсь, въ лагерной столицѣ, совсѣмъ не разворовывались, съ каждымъ днемъ вливали новыя силы въ наши одряблѣвшія было мышцы.
Пяти-шестичасовая работа съ полупудовымъ ломомъ была великолѣпной тренировкой. Въ обязательной еженедѣльной банѣ я съ чувствомъ великаго удовлетворенія ощупывалъ свои и Юрочкины мускулы и съ еще большимъ удовлетвореніемъ отмѣчалъ, что порохъ въ пороховницахъ — еще есть. Мы оба считали, что мы устроились почти идеально: лучшаго и не придумаешь. Вопросъ шелъ только о томъ, какъ бы намъ на этой почти идеальной позиціи удержаться возможно дольше. Какъ я уже говорилъ, третій лагпунктъ былъ только пересыльнымъ лагпунктомъ, и на задержку здѣсь расчитывать не приходилось. Какъ всегда и вездѣ въ Совѣтской Россіи, приходилось изворачиваться.
ИЗВЕРНУЛИСЬ
Наши работы имѣли еще и то преимущество, что у меня была возможность въ любое время прервать ихъ и пойти околачиваться по своимъ личнымъ дѣламъ.
Я пошелъ въ УРО — учетно распредѣлительный отдѣлъ лагеря. Тамъ у меня были кое-какіе знакомые изъ той полусотни "спеціалистовъ учетно-распредѣлительной работы", которыхъ Якименко привезъ въ Подпорожье въ дни бамовской эпопеи. Я толкнулся къ нимъ. Объ устройствѣ въ Медгорѣ нечего было и думать: медгорскія учрежденія переживали періодъ жесточайшаго сокращенія. Я прибѣгнулъ къ путанному и, въ сущности, нехитрому трюку: отъ нѣсколькихъ отдѣловъ УРО я получилъ рядъ взаимноисключающихъ другъ друга требованіи на меня и на Юру въ разныя отдѣленія, перепуталъ наши имена, возрасты и спеціальности и потомъ лицемѣрно помогалъ нарядчику въ УРЧѣ перваго отдѣленія разобраться въ полученныхъ имъ на насъ требованіяхъ: разобраться въ нихъ вообще было невозможно. Я выразилъ нарядчику свое глубокое и искреннее соболѣзнованіе.
— Вотъ, сукины дѣти, сидятъ тамъ, путаютъ, а потомъ на насъ вѣдь все свалятъ.
Нарядчикъ, конечно, понималъ: свалятъ именно на него, на кого же больше? Онъ свирѣпо собралъ пачку нашихъ требованій и засунулъ ихъ подъ самый низъ огромной бумажной кучи, украшавшей его хромой, досчатый столъ.
— Такъ ну ихъ всѣхъ къ чортовой матери. Никакихъ путевокъ по этимъ хрѣновинамъ я вамъ выписывать не буду. Идите сами въ УРО, пусть мнѣ пришлютъ бумажку, какъ слѣдуетъ. Напутаютъ, сукины дѣти, а потомъ меня изъ-за васъ за зебры и въ ШИЗО.
Нарядчикъ посмотрѣлъ на меня раздраженно и свирѣпо. Я еще разъ выразилъ свое соболѣзнованіе.
— А я-то здѣсь при чемъ?
— Ну, и я не при чемъ. А отвѣчать никому не охота. Я вамъ говорю: пока оффиціальной бумажки отъ УРО не будетъ, такъ вотъ ваши требованія хоть до конца срока пролежать здѣсь.
Что мнѣ и требовалось. Нарядчикъ изъ УРЧа не могъ подозрѣвать, что я — интеллигентъ — считаю свое положеніе на третьемъ лагпунктѣ почти идеальнымъ и что никакой бумажки отъ УРО онъ не получитъ. Наши документы выпали изъ нормальнаго оборота бумажнаго конвейера лагерной канцелярщины, а этотъ конвейеръ, потерявъ бумажку, теряетъ и стоящаго за ней живого человѣка. Словомъ, на нѣкоторое время мы прочно угнѣздились на третьемъ лагпунктѣ. А дальше будетъ видно.
Былъ еще одинъ забавный эпизодъ. Сто тридцать пять процентовъ выработки давали намъ право на сверхударный паекъ и на сверхударный обѣдъ. Паекъ — тысячу сто граммъ хлѣба — мы получали регулярно. А сверхударныхъ обѣдовъ — и въ заводѣ не было. Право на сверхударный обѣдъ, какъ и очень многія изъ совѣтскихъ правъ вообще, оставалось какою-то весьма отдаленной, оторванной отъ дѣйствительности абстракціей, и я, какъ и другіе, весьма, впрочемъ, немногочисленные, обладатели столь счастливыхъ рабочихъ свѣдѣній, махнулъ на эти сверхударные обѣды рукой. Однако, Юра считалъ, что махать рукой не слѣдуетъ: съ лихого пса хоть шерсти клокъ. Послѣ нѣкоторой дискуссіи я былъ принужденъ преодолѣть свою лѣнь и пойти къ завѣдующему снабженіемъ третьяго лагпункта.
Завѣдующій снабженіемъ принялъ меня весьма непривѣтливо — не то, чтобы сразу послалъ меня къ чорту, но во всякомъ случаѣ выразилъ весьма близкую къ этому мысль. Однако, завѣдующій снабженіемъ нѣсколько ошибся въ оцѣнкѣ моего совѣтскаго стажа. Я сказалъ, что обѣды — обѣдами, дѣло тутъ вовсе не въ нихъ, а въ томъ, что онъ, завѣдующій, срываетъ политику совѣтской власти, что онъ, завѣдующій, занимается уравниловкой, каковая уравниловка является конкретнымъ проявленіемъ троцкистскаго загиба.
Проблема сверхударнаго обѣда предстала передъ завѣдующимъ совсѣмъ въ новомъ для него аспектѣ. Тонъ былъ сниженъ на цѣлую октаву. Чортова матерь была отодвинута въ сторону.
— Такъ что же я, товарищъ, сдѣлаю, когда у насъ такихъ обѣдовъ вовсе нѣтъ.
— Это, товарищъ завѣдующій, дѣло не мое. Нѣтъ обѣдовъ, — давайте другое. Тутъ вопросъ не въ обѣдѣ, а въ стимулированіи. (Завѣдующій поднялъ брови и сдѣлалъ видъ, что насчетъ стимулированія онъ, конечно, понимаетъ). Необходимо стимулировать лагерную массу. Чтобы никакой уравниловки. Тутъ же, понимаете, политическая линія.
Политическая линія доканала завѣдующаго окончательно. Мы стали получать сверхъ обѣда то по сто граммъ творогу, то по копченой рыбѣ, то по куску конской колбасы.
Завѣдующій снабженіемъ сталъ относиться къ намъ съ нѣсколько безпокойнымъ вниманіемъ: какъ бы эти сукины дѣти еще какого-нибудь загиба не откопали.
СУДОРОГИ ТЕКУЧЕСТИ
Однако, наше "низовое положеніе" изобиловало не одними розами, были и нѣкоторые шипы. Однимъ изъ наименѣе пріятныхъ — были переброски изъ барака въ баракъ: по приблизительному подсчету Юры, намъ въ лагерѣ пришлось перемѣнить 17 бараковъ.
Въ Совѣтской Россіи "все течетъ". а больше всего течетъ всяческое начальство. Есть даже такой оффиціальный терминъ "текучесть руководящаго состава". Такъ вотъ: всякое такое текучее и протекающее начальство считаетъ необходимымъ ознаменовать первые шаги своего новаго административнаго поприща хоть какими-нибудь, да нововведеніями. Основная цѣль показать, что вотъ-де товарищъ X. иниціативы не лишенъ. Въ чемъ же товарищъ Х. на новомъ, какъ и на старомъ, поприщѣ не понимающій ни уха, ни рыла, можетъ проявить свою просвѣщенную иниціативу? А проявиться нужно. Событія развертываются по линіи наименьшаго сопротивленія: изобрѣтаются безконечныя и въ среднемъ абсолютно безсмысленныя переброски съ мѣста на мѣсто вещей и людей. На волѣ это непрерывныя реорганизаціи всевозможныхъ совѣтскихъ аппаратовъ, съ перекрасками вывѣсокъ, передвижками отдѣловъ и подотдѣловъ, перебросками людей, столовъ и пишущихъ машинокъ съ улицы на улицу или, по крайней мѣрѣ, изъ комнаты въ комнату.
Эта традиція такъ сильна, что она не можетъ удержаться даже и въ государственныхъ границахъ СССР. Одинъ изъ моихъ знакомыхъ, полунѣмецъ, нынѣ обрѣтающійся въ томъ же ББК, прослужилъ нѣсколько меньше трехъ лѣтъ въ берлинскомъ торгпредствѣ СССР. Торгпредство занимаетъ колоссальный домъ въ четыреста комнатъ. Нѣмецкая кровь моего знакомаго сказалась въ нѣкоторомъ пристрастіи къ статистикѣ. Онъ подсчиталъ, что за два года и восемь мѣсяцевъ пребыванія его въ торгпредствѣ его отдѣлъ перекочевывалъ изъ комнаты въ комнату и изъ этажа въ этажъ ровно двадцать три раза. Изумленные нѣмецкіе кліенты торгпредства безпомощно тыкались изъ этажа въ этажъ въ поискахъ отдѣла, который вчера былъ въ комнатѣ, скажемъ, сто семьдесятъ первой, а сегодня пребываетъ Богъ его знаетъ гдѣ. Но новое становище перекочевавшаго отдѣла не было извѣстно не только нѣмцамъ, потрясеннымъ бурными темпами соціалистической текучести, но и самимъ торгпредскимъ работникамъ. Разводили руками и совѣтовали: а вы пойдите въ справочное бюро. Справочное бюро тоже разводило руками и говорило: позвольте, вотъ же записано — сто семьдесятъ первая комната. Потрясенному иностранцу не оставалось ничего другого, какъ въ свою очередь развести руками, отправиться домой и подождать, пока въ торгпредскихъ джунгляхъ мѣстоположеніе отдѣла не будетъ установлено твердо.
Но на волѣ на это болѣе или менѣе плевать. Вы просто связываете въ кучу ваши бумаги, перекочевываете въ другой этажъ и потомъ двѣ недѣли отбрыкиваетесь отъ всякой работы: знаете ли, только что переѣхали, я еще съ дѣлами не разобрался. А въ лагерѣ это хуже. Во-первыхъ, въ другомъ баракѣ для васъ и мѣста можетъ никакого нѣту, а во-вторыхъ, вы никогда не можете быть увѣреннымъ — переводятъ ли васъ въ другой баракъ, на другой лагпунктъ или, по чьему-то, вамъ неизвѣстному, доносу, васъ собираются сплавить куда-нибудь верстъ на пятьсотъ сѣвернѣе, скажемъ, на Лѣсную Рѣчку — это и есть мѣсто, которое верстъ на пятьсотъ сѣвернѣе и изъ котораго выбраться живьемъ шансовъ нѣтъ почти никакихъ.
Всякій вновь притекшій начальникъ лагпункта или колонны обязательно норовитъ выдумать какую-нибудь новую комбинацію или классификацію для новаго "переразмѣщенія" своихъ подданныхъ. Днемъ — для этихъ переразмѣщеніи времени нѣтъ: люди или на работѣ, или въ очередяхъ за обѣдомъ. И вотъ, въ результатѣ этихъ тяжкихъ начальственныхъ размышленіи, васъ среди ночи кто-то тащитъ съ наръ за ноги.
— Фамилія?.. Собирайте вещи...
Вы, сонный и промерзшій, собираете ваше борохло и топаете куда-то въ ночь, задавая себѣ безпокойный вопросъ: куда это васъ волокутъ? То-ли въ другой баракъ, то-ли на Лѣсную Рѣчку? Потомъ оказалось, что, выйдя съ пожитками изъ барака и потерявъ въ темнотѣ свое начальство, вы имѣете возможность плюнуть на всѣ его классификаціи и реорганизаціи и просто вернуться на старое мѣсто. Но если это мѣсто было у печки, оно въ теченіе нѣсколькихъ секундъ будетъ занято кѣмъ-то другимъ. Ввиду этихъ обстоятельствъ, былъ придуманъ другой методъ. Очередного начальника колонны, стаскивавшаго меня за ноги, я съ максимальной свирѣпостью послалъ въ нехорошее мѣсто, лежащее дальше Лѣсной Рѣчки.
Посланный въ нехорошее мѣсто, начальникъ колонны сперва удивился, потомъ разсвирѣпѣлъ. Я послалъ его еще разъ и высунулся изъ наръ съ завѣдомо мордобойнымъ видомъ. О моихъ троцкистскихъ загибахъ съ завѣдующимъ снабженіемъ начальникъ колонны уже зналъ, но, вѣроятно, въ его памяти моя физіономія съ моимъ именемъ связана не была...
Высунувшись, я сказалъ, что онъ, начальникъ колонны, подрываетъ лагерную дисциплину и занимается административнымъ головокруженіемъ, что ежели онъ меня еще разъ потащитъ за ноги, такъ я его такъ въ "Перековкѣ" продерну, что онъ свѣта Божьяго не увидитъ.
"Перековка", какъ я уже говорилъ, — это листокъ лагерныхъ доносовъ. Въ Медгорѣ было ея центральное изданіе. Начальникъ колонны заткнулся и ушелъ. Но впослѣдствіи эта сценка мнѣ даромъ не прошла.
КАБИНКА МОНТЕРОВЪ
Одной изъ самыхъ тяжелыхъ работъ была пилка и рубка дровъ. Рубка еще туда сюда, а съ пилкой было очень тяжело. У меня очень мало выносливости къ однообразнымъ механическимъ движеніямъ. Пила же была совѣтская, на сучкахъ гнулась, оттопыривались въ стороны зубцы, разводить мы ихъ вообще не умѣли; пила тупилась послѣ пяти-шести часовъ работы. Вотъ согнулись мы надъ козлами и пилимъ. Подошелъ какой-то рабочій, маленькаго роста, вертлявый и смѣшливый.
— Что, пилите, господа честные? Пилите! Этакой пилой хоть отца родного перепиливать. А ну ка, дайте я на струментъ вашъ посмотрю.
Я съ трудомъ вытащилъ пилу изъ пропила. Рабочій крякнулъ:
— Ее впустую таскать, такъ нужно по трактору съ каждой стороны поставить. Эхъ, ужъ такъ и быть, дамъ-ка я вамъ пилочку одну — у насъ въ кабинкѣ стоитъ, еще старорежимная.
Рабочій какъ будто замялся, испытующе осмотрѣлъ наши очки: "Ну, вы, я вижу, не изъ такихъ, чтобы сперли; какъ попилите, такъ поставьте ее обратно въ кабинку".
Рабочій исчезъ и черезъ минуту вернулся съ пилой. Постучалъ по полотнищу, пила дѣйствительно звенѣла. "Посмотрите — усъ-то какой". На зубцахъ пилы дѣйствительно былъ "усъ" — отточенный, какъ иголка, острый конецъ зубца. Рабочій поднялъ пилу къ своему глазу и посмотрѣлъ на линію зубцовъ: "а разведена-то — какъ по ниточкѣ". Разводка дѣйствительно была — какъ по ниточкѣ. Такой пилой, въ самомъ дѣлѣ, можно было и норму выработать. Рабочій вручилъ мнѣ эту пилу съ какой-то веселой торжественностью и съ видомъ мастерового человѣка, знающаго цѣну хорошему инструменту.
— Вотъ это пила! Даромъ, что при царѣ сдѣлана. Хорошія пилы при царѣ дѣлали... Чтобы, такъ сказать, трудящійся классъ пополамъ перепиливать и кровь изъ него сосать. Н-да... Такое-то дѣльце, господа товарищи. А теперь ни царя, ни пилы, ни дровъ... Семья у меня въ Питерѣ, такъ чортъ его знаетъ, чѣмъ она тамъ топитъ... Ну, прощевайте, бѣгу. Замерзнете — валяйте къ намъ въ кабинку грѣться. Ребята тамъ подходящіе — еще при царѣ сдѣланы. Ну, бѣгу...
Эта пила сама въ рукахъ ходила. Попилили, сѣли отдохнуть. Достали изъ кармановъ по куску промерзшаго хлѣба и стали завтракать. Шла мимо какая-то группа рабочихъ. Предложили попилить: вотъ мы вамъ покажемъ классъ. Показали. Классъ дѣйствительно былъ высокій — чурбашки отскакивали отъ бревенъ, какъ искры.
— Ко всякому дѣлу нужно свою сноровку имѣть, — съ какимъ-то поучительнымъ сожалѣніемъ сказалъ высокій мрачный рабочій. На его изможденномъ лицѣ была характерная татуировка углекопа — голубыя пятна царапинъ съ въѣвшейся на всю жизнь угольной пылью.
— А у васъ-то откуда такая сноровка? — спросилъ я. — Вы, видимо, горнякъ? Не изъ Донбасса?
— И въ Донбассѣ былъ. А вы по этимъ мѣткамъ смотрите? — Я кивнулъ головой. — Да, ужъ кто въ шахтахъ былъ, на всю жизнь мѣченымъ остается. Да, тамъ пришлось. А вы не инженеръ?
Такъ мы познакомились съ кондовымъ, наслѣдственнымъ петербургскимъ рабочимъ, товарищемъ Мухинымъ. Революція мотала его по всѣмъ концамъ земли русской, но въ лагерь онъ поѣхалъ изъ своего родного Петербурга. Исторія была довольно стандартная. На заводѣ ставили новый американскій сверлильный автоматъ — очень путанный, очень сложный. Въ цѣляхъ экономіи валюты и утиранія носа заграничной буржуазіи какая-то комсомолькая бригада взялась смонтировать этотъ станокъ самостоятельно, безъ помощи фирменныхъ монтеровъ. Работали, дѣйствительно звѣрски. Иностранной буржуазіи носъ, дѣйствительно, утерли: станокъ былъ смонтированъ что-то въ два или три раза скорѣе, чѣмъ его полагается монтировать на американскихъ заводахъ. Какой-то злосчастный инженеръ, которому въ порядкѣ дисциплины навязали руководство этимъ монтажемъ, получилъ даже какую-то премію; позднѣе я этого инженера встрѣтилъ здѣсь же, въ ББК...
Словомъ — смонтировали. Во главѣ бригады, обслуживающей этотъ автоматъ, былъ поставленъ Мухинъ, "я ужъ, знаете, стрѣляный воробей, а тутъ вертѣлся, вертѣлся и — никакая сила... Сглупилъ. Думалъ, покручусь недѣлю, другую — да и назадъ, въ Донбассъ, сбѣгу. Не успѣлъ, чортъ его дери"...
...Станокъ лопнулъ въ процессѣ осваиванія. Инженеръ, Мухинъ и еще двое рабочихъ поѣхали въ концлагерь по обвиненію во вредительствѣ. Мухину, впрочемъ, "припаяли" очень немного — всего три года; инженеръ за "совѣтскіе темпы" заплатилъ значительно дороже...
...— Такъ вотъ, значитъ, и сижу... Да мнѣ-то что? Если про себя говорить — такъ мнѣ здѣсь лучше, чѣмъ на волѣ было. На волѣ у меня — однихъ ребятишекъ четверо: жена, видите ли, ребятъ очень ужъ любить, — Мухинъ уныло усмѣхнулся. — Ребятъ, что и говорить, и я люблю, да развѣ такое теперь время... Ну, значитъ — на заводѣ двѣ смѣны подрядъ работаешь. Домой придешь — еле живой. Ребята полуголодные, а самъ ужъ и вовсе голодный... Здѣсь кормы — не хуже, чѣмъ на волѣ, были: гдѣ въ квартирѣ у вольнонаемныхъ проводку поправишь, гдѣ — что: перепадаетъ. Н-да, мнѣ-то еще — ничего. А вотъ — какъ семья живетъ — и думать страшно...
___
На другой день мы все пилили тѣ же дрова. Съ сѣверо-востока, отъ Бѣлаго моря и тундръ, рвался къ Ладогѣ пронизывающій полярный вѣтеръ. Бушлатъ онъ пробивалъ насквозь. Но даже и бушлатъ плюсъ кожанка очень мало защищали наши коченѣющія тѣла отъ его сумасшедшихъ порывовъ. Временами онъ вздымалъ тучи колючей, сухой снѣжной пыли, засыпавшей лицо и проникавшей во всѣ скважины нашихъ костюмовъ, пряталъ подъ непроницаемымъ для глаза пологомъ сосѣднія зданія, электростанцію и прилѣпившуюся къ ней кабинку монтеровъ, тревожно гудѣлъ въ вѣтвяхъ сосенъ. Я чувствовалъ, что работу нужно бросать и удирать. Но куда удирать? Юра прыгалъ поочередно то на правой, то на лѣвой ногѣ, пряталъ свои руки за пазуху и лицо его совсѣмъ ужъ посинѣло...
Изъ кабинки монтеровъ выскочила какая-то смутная, завьюженная фигура, и чей-то относимый въ бурю голосъ проревѣлъ:
— Эй, хозяинъ, мальца своего заморозишь. Айдате къ намъ въ кабинку. Чайкомъ угостимъ...
Мы съ великой готовностью устремились въ кабинку. Монтеры — народъ дружный и хозяйственный. Кабинка представляла собою досчатую пристроечку, внутри были нары, человѣкъ этакъ на 10—15, стоялъ большой чисто выструганный столъ, на стѣнкахъ висѣли географическія карты — старыя, изодранныя и старательно подклеенныя школьныя полушарія, висѣло весьма скромное количество вождей, такъ сказать, — ни энтузіазма, но и ни контръ-революціи, вырѣзанные изъ какихъ-то журналовъ портреты Тургенева, Достоевскаго и Толстого — тоже изорванные и тоже подклеенные. Была полочка съ книгами — десятка четыре книгъ. Была шахматная доска и самодѣльные шахматы. На спеціальныхъ полочкахъ съ какими-то дырками были поразвѣшаны всякіе слесарные и монтерскіе инструменты. Основательная печурка — не жестяная, а каменная — пылала привѣтливо и уютно. Надъ ней стоялъ громадный жестяной чайникъ, и изъ чайника шелъ паръ.
Все это я, впрочемъ, увидѣлъ только послѣ того, какъ снялъ и протеръ запотѣвшія очки. Увидѣлъ и человѣка, который натужнымъ басомъ звалъ насъ въ кабинку — это оказался рабочій, давеча снабдившій насъ старорежимной пилой. Рабочій тщательно приперъ за нами двери.
— Никуда такое дѣло не годится. По такой погодѣ — пусть сами пилятъ, сволочи. Этакъ — былъ носъ, хвать — и нѣту... Что вамъ — казенныя дрова дороже своего носа? Къ чортовой матери. Посидите, обогрѣйтесь, снимите бушлаты, у насъ тутъ тепло.
Мы сняли бушлаты. На столѣ появился чаекъ — конечно, по совѣтски: просто кипятокъ, безъ сахару и безо всякой заварки... Надъ нарами высунулась чья-то взлохмаченная голова.
— Что, Ванъ Палычъ, пильщиковъ нашихъ приволокъ?
— Приволокъ.
— Давно бы надо. Погодка стоитъ, можно сказать, партейная. Ну, и сволочь же погода, прости Господи. Чаекъ, говоришь, есть. Сейчасъ слѣзу.
Съ наръ слѣзъ человѣкъ лѣтъ тридцати, невысокаго роста смуглый крѣпышъ съ неунывающими, разбитными глазами — чѣмъ-то онъ мнѣ напоминалъ Гендельмана.
— Ну, какъ вы у насъ въ гостяхъ — позвольте ужъ представиться по всей формѣ: Петръ Мироновичъ Середа, потомственный почетный пролетарій. Былъ техникомъ, потомъ думалъ быть инженеромъ, а сижу вотъ здѣсь. Статья 58, пунктъ 7[7], срокъ — десять, пять отсидѣлъ. А это, — Середа кивнулъ на нашего смѣшливаго рабочаго съ пилой, — это, какъ говорится, просто Ленчикъ. Ванъ Палычъ Ленчикъ. Изъ неунывающаго трудящаго классу. Пунктъ пятьдесятъ девять — три[8]. А сроку всего пять. Повезло нашему Ленчику. Людей рѣзалъ, можно сказать, почемъ зря — а лѣтъ-то всего пять...
Ленчикъ запихнулъ въ печку полѣно — вѣроятно, нашей же пилки — вытеръ руку объ штаны.
— Значитъ, давайте знакомиться по всей формѣ. Только фамилія моя не Ленчикъ — Миронычъ — онъ мастеръ врать, — а Ленчицкій. Но для простоты обращенія — я и за Ленчика хожу... Хлѣба хотите?
Хлѣбъ у насъ былъ свой. Мы отказались и представились "по всей формѣ".
— Это мы знаемъ, — сказалъ Середа, — Мухинъ объ васъ уже все доложилъ. Да вотъ онъ, кажется, и топаетъ.
За дверью раздался ожесточенный топотъ ногъ, обивающихъ снѣгъ, и въ кабинку вошли двое: Мухинъ и какой-то молодой парнишка лѣтъ двадцати двухъ — двадцати трехъ. Поздоровались. Парнишка пожалъ намъ руки и хмыкнулъ что-то невразумительное.
— А ты, Пиголица, ежели съ людьми знакомишься, такъ скажи, какъ тебя и по батюшкѣ и по матушкѣ величать... Когда это мы тебя, дите ты колхозное, настоящему обращенію выучимъ. Былъ бы я на мѣстѣ папашки твоего званаго — такъ поролъ бы я тебя на каждомъ общемъ собраніи.
Мухинъ устало сложилъ свои инструменты.
— Брось ты, Ленчикъ, зубоскалить.
— Да, Господи-же, здѣсь однимъ зубоскальствомъ и прожить можно. Ежели бы мы съ Середой не зубоскалили бы и день и ночь — такъ ты бы давно повѣсился. Мы тебя, братокъ, однимъ зубоскальствомъ отъ петли спасаемъ... Нѣту у людей благодарности. Ну, давайте что ли съ горя чай пить.
Усѣлись за столъ. Пиголица мрачно и молчаливо нацѣдилъ себѣ кружку кипятку, потомъ, какъ бы спохватившись, передалъ эту кружку мнѣ. Ленчикъ лукаво подмигнулъ мнѣ: обучается, дескать, парень "настоящему обращенію". Середа полѣзъ на свои нары и извлекъ оттуда небольшую булку бѣлаго хлѣба, порѣзалъ ее на части и молча разложилъ передъ каждымъ изъ присутствующихъ. Бѣлаго хлѣба мы не видали съ момента нашего водворенія въ ГПУ. Юра посмотрѣлъ на него не безъ вождѣленія въ сердцѣ своемъ и сказалъ:
— У насъ, товарищи, свой хлѣбъ есть, спасибо, не стоитъ...
Середа посмотрѣлъ на него съ дѣланной внушительностью.
— А вы, молодой человѣкъ, не кочевряжтесь, берите примѣръ со старшихъ — тѣ отказываться не будутъ. Это хлѣбъ трудовой. Чинилъ проводку и отъ пролетарской барыни на чаекъ, такъ сказать, получилъ.
Монтеры и вообще всякій мастеровой народъ ухитрялись даже здѣсь, въ лагерѣ, заниматься кое-какой "частной практикой". Кто занимался проводкой и починкой электрическаго освѣщенія у вольнонаемныхъ — т.е. въ чекистскихъ квартирахъ, кто изъ ворованныхъ казенныхъ матеріаловъ мастерилъ ножи, серпы или даже косы для вольнаго населенія, кто чинилъ замки, кто занимался "внутреннимъ товарооборотомъ" по такой примѣрно схемѣ: монтеры снабжаютъ кабинку мукомоловъ спертымъ съ электростанціи керосиномъ, мукомолы снабдятъ монтеровъ спертой съ мельницы мукой — всѣ довольны. И всѣ — сыты. Не жирно, но сыты. Такъ что, напримѣръ, Мухинъ высушивалъ на печкѣ почти весь свой пайковый хлѣбъ и слалъ его, черезъ подставныхъ, конечно, лицъ, на волю, въ Питеръ, своимъ ребятишкамъ. Вся эта рабочая публика жила дружно и спаянно, въ "активъ" не лѣзла, доносами не занималась, выкручивалась, какъ могла, и выкручивала кого могла.
Ленчикъ взялъ свой ламотокъ бѣлаго хлѣба и счелъ своимъ долгомъ поддержать Середу:
— Какъ сказано въ писаніи: даютъ — бери, а бьютъ — бѣги. Середа у насъ парень умственный. Онъ жратву изъ такого мѣста выкопаетъ, гдѣ десятеро другихъ съ голоду бы подохли... Говорилъ я вамъ — ребята у насъ — гвозди, при старомъ режимѣ сдѣланы, не то что какая-нибудь совѣтская фабрикація, — Ленчикъ похлопалъ по плечу Пиголицу, — не то, что вотъ — выдвиженецъ-то этотъ...
Пиголица сумрачно отвелъ плечо:
— Бросилъ бы трепаться, Ленчикъ. Что это ты все про старый режимъ врешь. Мало тебя, что ли, по мордѣ били.
— Насчетъ морды — не приходилось, братокъ, не приходилось. Конечно, люди мы простые. По пьяному дѣлу — не безъ того, чтобы и потасовочку завести... Былъ грѣхъ, былъ грѣхъ... Такъ я, братокъ, на свои деньги пилъ, на заработанныя... Да и денегъ у меня, братокъ, довольно было, чтобы и выпить, и закусить, и машину завести, что-бъ играла вальсъ "Дунайскія волны"... А ежели перегрузочка случалась, это значитъ: "извозчикъ, на Петербургскую двугривенный?" За двугривенный двѣ версты бариномъ ѣдешь. Вотъ какъ оно, братокъ.
— И все ты врешь, — сказалъ Пиголица, — ужъ вралъ бы въ своей компаніи — чортъ съ тобой.
— Для насъ, братокъ, всякъ хорошій человѣкъ — своя компанія.
— Нашъ Пиголица, — вставилъ свое разъясненіе Середа, — парень хорошій. Что онъ нѣсколько волкомъ глядитъ — это оттого, что въ мозгахъ у него малость промфинплана не хватаетъ. И чего ты треплешься, чучело? Говорятъ люди, которые почище твоего видали. Сиди и слушай. Про хорошую жизнь и въ лагерѣ вспомнить пріятно.
— А вотъ я послушаю, — раздраженно сказалъ Пиголица. — Всѣ вы старое хвалите, какъ сговорились, а вотъ я свѣжаго человѣка спрошу.
— Ну, ну... Спроси, спроси.
Пиголица испытующе уставился въ меня.
— Вы, товарищъ, старый режимъ, вѣроятно, помните?
— Помню.
— Значитъ, и закусочку, и выпивку покупать приходилось?
— Не безъ того.
— Вотъ старички эти меня разыгрывали — ну, они сговорившись. Вотъ, скажемъ, если Ленчикъ далъ бы мнѣ въ старое время рубль и сказалъ: пойди, купи... — дальнѣйшее Пиголица сталъ отсчитывать по пальцамъ: — полбутылки водки, фунтъ колбасы, бѣлую булку, селедку, два огурца... да, что еще... да, еще папиросъ коробку — такъ сколько съ рубля будетъ сдачи?
Вопросъ Пиголицы засталъ меня нѣсколько врасплохъ. Чортъ его знаетъ, сколько все это стоило... Кромѣ того, въ Совѣтской Россіи не очень ужъ удобно вспоминать старое время, въ особенности не въ терминахъ оффиціальной анафемы. Я слегка замялся. Мухинъ посмотрѣлъ на меня со своей невеселой улыбкой.
— Ничего, не бойтесь, у парня въ головѣ — путаница, а такъ, онъ парень ничего, въ стукачахъ не работаетъ... Я самъ напомню, полбутылки...
— А ты не подсказывай, довольно уже разыгрывали. Ну, такъ сколько будетъ сдачи?
Я сталъ отсчитывать — тоже по пальцамъ: полбутылки, примѣрно, четвертакъ, колбаса — вѣроятно, тоже (Мухинъ подтверждающе кивнулъ головой, и Пиголица безпокойно оглянулся на него), булка — пятакъ, селедка — копѣйки три, огурцы — тоже вродѣ пятака, папиросы... Да, такъ съ двугривенный сдачи будетъ.
— Никакихъ сдачей, — восторженно заоралъ Ленчикъ, — кутить, такъ кутить. Гони, Пиголица, еще пару пива и четыре копѣйки сдачи. А? Видалъ миндалъ?
Пиголица растерянно и подозрительно осмотрѣлъ всю компанію.
— Что? — спросилъ Мухинъ, — опять скажешь: сговорившись?
Видъ у Пиголицы былъ мрачный, но отнюдь не убѣжденный.
— Все это — ни черта подобнаго. Если бы такія цѣны были — и революціи никакой не было бы. Ясно.
— Вотъ такіе-то умники, вродѣ тебя, революцію и устраивали.
— А ты не устраивалъ?
— Я?
— Ну да, ты.
— Такихъ умниковъ и безъ меня хватало, — не слишкомъ искренно отвѣтилъ Середа.
— Тебѣ, Пиголица, — вмѣшался Ленчикъ, — чтобы прорывъ въ мозгахъ заткнуть, нужно по старымъ цѣнамъ не иначе какъ рублей тысячу пропить. Охъ, и балда, прости Господи... Толкуешь тутъ ему, толкуешь... Заладилъ про буржуевъ, а того, что подъ носомъ, — такъ ему не видать...
— А тебѣ буржуи нравятся?
— А ты видалъ буржуя?
— Не видалъ, а знаю.
— Сукинъ ты сынъ, Пигалица, вотъ что я тебѣ скажу. Что ты, орясина, о буржуѣ знаешь? Сидѣлъ у тебя буржуй и торговалъ картошкой. Шелъ ты къ этому буржую и покупалъ на три копѣйки картофеля — и горюшка тебѣ было мало. А какъ остался безъ буржуя — на заготовки картофеля ѣздилъ?
— Не ѣздилъ.
— Ну, такъ на хлѣбозаготовки ѣздилъ, все одно, одинъ чортъ. Ѣздилъ?
— Ѣздилъ.
— Очень хорошо... Очень замѣчательно. Значитъ, будемъ говорить такъ: замѣсто того, чтобы пойти къ буржую и купить у него на три копѣйки пять фунтовъ картофеля, — Ленчикъ поднялъ указующій перстъ, — на три копѣйки пять фунтовъ — безо всякаго тамъ бюрократизма, очередей, — ѣхалъ, значитъ, нашъ уважаемый и дорогой пролетарскій товарищъ Пиголица у мужика картошку грабить. Такъ. Ограбилъ. Привезъ. Потомъ говорятъ нашему дорогому и уважаемому товарищу Пиголицѣ: не будете ли вы такъ любезны въ порядкѣ комсомольской или тамъ профсоюзной дисциплины идти на станцію и насыпать эту самую картошку въ мѣшки — субботникъ, значитъ. На субботники ходилъ?
— А ты не ходилъ?
— И я ходилъ. Такъ я этимъ не хвастаюсь.
— И я не хвастаюсь.
— Вотъ это — очень замечательно, хвастаться тутъ, братишечка, вовсе ужъ нечѣмъ: гнали — ходилъ. Попробовалъ бы не пойти... Такъ вотъ, значитъ, ограбивши картошку, ходилъ нашъ Пиголица и картошку грузилъ; конечно, не всѣ Пиголицы ходили и грузили, кое-кто и кишки свои у мужика оставилъ. Потомъ ссыпалъ Пиголица картошку изъ мѣшковъ въ подвалы, потомъ перебиралъ Пиголица гнилую картошку отъ здоровой, потомъ мотался нашъ Пиголица по разнымъ бригадамъ и кавалеріямъ — то кооперативъ ревизовалъ, то чистку устраивалъ, то карточки провѣрялъ и чортъ его знаетъ что... И за всю эту за волыночку получилъ Пиголица карточку, а по карточкѣ — пять килъ картошки въ мѣсяцъ, только кила-то эти, извините ужъ, не по три копѣечки, а по тридцать. Да еще и въ очереди постоишь...
— За такую работу, да при старомъ режимѣ — пять вагоновъ можно было бы заработать.
— Почему — пять вагоновъ? — спросилъ Пиголица.
— А очень просто. Я, скажемъ, рабочій, мое дѣло — за станкомъ стоять. Если бы я все это время, что я на заготовки ѣздилъ, на субботники ходилъ, по бригадамъ мотался, въ очередяхъ торчалъ, — ты подумай, сколько я бы за это время рублей выработалъ. Да настоящихъ рублей, золотыхъ. Такъ вагоновъ на пять и вышло бы.
— Что это вы все только на копѣйки, да на рубли все считаете?
— А ты на что считаешь?
— Вотъ и сидѣлъ буржуй на твоей шеѣ.
— А на твоей шеѣ никто не сидитъ? И самъ ты-то гдѣ сидишь? Если ужъ объ шеѣ разговоръ пошелъ — тутъ ужъ молчалъ бы ты лучше. За что тебѣ пять лѣтъ припаяли? Далъ бы въ морду старому буржую — отсидѣлъ бы недѣлю и кончено. А теперь вмѣсто буржуя — ячейка. Кому ты далъ въ морду? А вотъ пять лѣтъ просидишь. Да потомъ еще домой не пустятъ — ѣзжай куда-нибудь къ чортовой матери. И поѣдешь. Насчетъ шеи — кому ужъ кому, а тебѣ бы, Пиголица, помалкивать лучше бы...
— Если бы старый буржуй, — сказалъ Ленчикъ, — если бы старый буржуй тебѣ такую картошку далъ, какъ сейчасъ кооперативъ даетъ — такъ этому бы буржую всю морду его же картошкой вымазали бы...
— Такъ у насъ еще не налажено. Не научились...
— Оно, конечно, не научились! За пятнадцать-то лѣтъ? За пятнадцать лѣтъ изъ обезьяны профессора сдѣлать можно, а не то что картошкой торговать. Наука, подумаешь. Раньше никто не умѣлъ ни картошку садить, ни картошкой торговать! Инструкцій, видишь-ли, не было! Картофельной политграмоты не проходили! Скоро не то, что сажать, а и жевать картошку разучимся...
Пиголица мрачно поднялся и молча сталъ вытаскивать изъ полокъ какіе-то инструменты. Видъ у него былъ явно отступательный.
— Нужно эти разговоры, въ самомъ дѣлѣ, бросить, — степенно сказалъ Мухинъ. — Что тутъ человѣку говорить, когда онъ уши затыкаетъ. Вотъ просидитъ еще года съ два — поумнѣетъ.
— Кто поумнѣетъ — такъ еще неизвѣстно. Вы все въ старое смотрите, а мы напередъ смотримъ.
— Семнадцать лѣтъ смотрите.
— Ну и семнадцать лѣтъ. Ну, еще семнадцать лѣтъ смотрѣть будемъ. А заводы-то построили?
— Иди ты къ чортовой матери со своими заводами, дуракъ, — обозлился Середа, — заводы построили? Такъ чего же ты, сукинъ сынъ, на Тулому не ѣдешь, электростанцію строить? Ты почему, сукинъ сынъ, не ѣдешь? А? Чтобы строили, да не на твоихъ костяхъ? Дуракъ, а своихъ костей подкладывать не хочетъ...
На Туломѣ — это верстахъ въ десяти южнѣе Мурманска — шла въ это время стройка электростанціи, конечно, "ударная" стройка и, конечно, "на костяхъ" — на большомъ количествѣ костей. Всѣ, кто могъ какъ-нибудь извернуться отъ посылки на Тулому, изворачивались изо всѣхъ силъ. Видимо, изворачивался и Пиголица.
— А ты думаешь — не поѣду?
— Ну, и ѣзжай ко всѣмъ чертямъ. Однимъ дуракомъ меньше будетъ.
— Подумаешь — умники нашлись. Въ семнадцатомъ году, небось, всѣ противъ буржуевъ перли. А теперь — остались безъ буржуевъ, такъ кишка тонка. Няньки нѣту. Хотѣлъ бы я послушать, что это вы въ семнадцатомъ году про буржуевъ говорили... Тыкать въ носъ кооперативомъ, да лагеремъ — теперь всякій дуракъ можетъ. Умники... Гдѣ ваши мозги были, когда вы революцію устраивали?
Пиголица засунулъ въ карманъ свои инструменты и исчезъ.
Мухинъ подмигнулъ мнѣ:
— Вотъ это правильно сказано, здорово заворочено. А то, въ самомъ дѣлѣ — насѣли всѣ на одного... — Въ тонѣ Мухина было какое-то удовлетвореніе. Онъ не безъ нѣкотораго ехидства посмотрѣлъ на Середу. — А то — тоже, кто тамъ ни устраивалъ — а Пиголицамъ-то расхлебывать приходится. А Пиголицамъ-то — куда податься...
— Н-да, — какъ бы оправдываясь передъ кѣмъ-то, протянулъ Середа, — въ семнадцатомъ году, оно, конечно... Опять же — война. Дурака, однако, что и говорить, сваляли, такъ не вѣкъ же изъ-за этого въ дуракахъ торчать... Поумнѣть пора бы...
— Ну, и Пиголица — поживетъ съ твое — поумнѣетъ... А тыкать парню въ носъ: дуракъ да дуракъ — это тоже не дѣло... Въ такіе годы — кто въ дуракахъ не ходилъ...
— А что за парень этотъ, Пиголица? — спросилъ я. — Вы увѣрены, что онъ въ третью часть не бѣгаетъ?
— Ну, нѣтъ, этого нѣту, — торопливо сказалъ Середа, какъ бы обрадовавшійся перемѣнѣ темы — Этого — нѣтъ. Это сынъ Мухинскаго пріятеля. Мухинъ его здѣсь и подобралъ... Набилъ морду какому-то комсомольскому секретарю — вотъ ему пять лѣтъ и припаяли... Безъ Мухина — пропалъ бы, пожалуй, парнишка... — Середа какъ-то неуютно поежился, какъ бы что-то вспоминая... — Такимъ вотъ, какъ Пиголица, — здѣсь хуже всего, ума еще немного, опыта — и того меньше, во всякія тамъ политграмоты взаправду вѣрятъ... Думаетъ, что и въ самомъ дѣлѣ — царство трудящихся. Но вотъ — пока что пять лѣтъ уже имѣетъ, какія-то тамъ свои комсомольскія права отстаивалъ... А начнетъ отстаивать здѣсь — совсѣмъ пропадетъ. Ты, Мухинъ, зря за него заступаешься. Никто его не обижаетъ, а нужно, чтобы парень ходилъ, глаза раскрывши... Ежели бы намъ въ семнадцатомъ году такъ бы прямо, какъ дважды — два, доказали: дураки вы, ребята, сами себѣ яму роете, — мы бы здѣсь не сидѣли...
— А вотъ вы лично въ семнадцатомъ году такія доказательства стали бы слушать?
Середа кисло поморщился и для чего-то посмотрѣлъ въ окно.
— Вотъ то-то и оно, — неопредѣленно сказалъ онъ.
ВЗАИМООТНОШЕНІЯ
Въ этой кабинкѣ мы провели много часовъ, то скрываясь въ ней отъ послѣднихъ зимнихъ бурь, то просто принимая приглашеніе кого-нибудь изъ ея обитателей насчетъ чайку. Очень скоро въ этой кабинкѣ и около нея установились взаимоотношенія, такъ сказать, стандартныя, между толковой частью интеллигенціи и толковой частью пролетаріата. Пролетарское отношеніе выражалось въ томъ, что у насъ всегда была отточенная на ять пила, что мы, напримѣръ, были предупреждены о перемѣнѣ коменданта и о необходимости выполнить норму цѣликомъ. Норму выполняла почти вся кабинка, такъ что, когда новый — на этотъ разъ вольнонаемный — комендантъ пришелъ провѣрить наши фантастическіе 135% — ему оставалось только недоумѣнно потоптаться и искупить свое гнусное подозрѣніе довольно путаной фразой:
— Ну, вотъ — если человѣкъ образованный...
Почему образованный человѣкъ могъ выполнить количество работы, рѣшительно непосильное никакому профессіоналу-пильщику, — осталось, конечно, невыясненнымъ. Но наши 135% были, такъ сказать, оффиціально провѣрены и оффиціально подтверждены. Ленчикъ, не безъ нѣкотораго волненія смотрѣвшій со стороны на эту провѣрку, не удержался и показалъ носъ удалявшейся комендантской спинѣ.
— Эхъ, елочки мои вы палочки, если бы намъ — да всѣмъ вмѣстѣ, вотъ какъ пальцы на кулакѣ, — Ленчикъ для вразумительности растопырилъ было пальцы и потомъ сжалъ ихъ въ кулакъ, — если бы намъ, да всѣмъ вмѣстѣ — показали бы мы этой сволочи...
— Да, — сумрачно сказалъ Юра, — дѣло только въ томъ, что сволочь все это знаетъ еще лучше, чѣмъ мы съ вами.
— Это, молодой человѣкъ, ничего. Исторію-то вы знаете — ну, какъ были удѣльные князья — всякій врозь норовилъ — вотъ и насѣли татары. А какъ взялись всѣ скопомъ — такъ отъ татаръ мокрое мѣсто осталось.
— Вѣрно, — сказалъ Юра еще сумрачнѣе, — только татары сидѣли триста лѣтъ.
Ленчикъ какъ-то осѣлъ.
— Да, конечно, триста лѣтъ... Ну, теперь и темпы не тѣ, и народъ не тотъ... Долго не просидятъ...
Съ нашей же стороны мы поставляемъ кабинкѣ, такъ сказать, интеллектуальную продукцію. Сейчасъ, выбитыя изъ всѣхъ своихъ колей, русскія массы очень въ этомъ нуждаются. Но къ кому мужикъ пойдетъ, скажемъ, съ вопросомъ объ удобреніи своего пріусадебнаго участка? Къ активу? Такъ активъ къ нему приставленъ не для разъясненія, а для ограбленія. Къ кому обратится рабочій съ вопросами насчетъ пенсіи, переѣзда въ другое мѣсто, жилищнаго прижима или уклоненія отъ какой-нибудь очередной мобилизаціи куда-нибудь къ чортовой матери? Къ профсоюзному работнику? Такъ профсоюзный работникъ приставленъ, какъ "приводной ремень отъ партіи къ массамъ", и ремень этотъ закрученъ туго. Словомъ, мужикъ пойдетъ къ какому-нибудь сельскому интеллигенту, обязательно безпартійному, а рабочій пойдетъ къ какому-нибудь городскому интеллигенту, предпочтительно контръ-революціонному. И оба они — и крестьянинъ, и рабочій — всегда рады потолковать съ хорошимъ, образованнымъ человѣкомъ и о политикѣ: какой, напримѣръ, подвохъ заключается въ законѣ о колхозной торговлѣ — во всякомъ законѣ публика ищетъ прежде всего подвоха, — или что такое японецъ и какъ обстоятъ дѣла съ войной, ну, и такъ далѣе. Обо всемъ этомъ, конечно, написано въ совѣтской печати, но совѣтская печать занимаетъ совершенно исключительную позицію: ей рѣшительно никто не вѣритъ — въ томъ числѣ и партійцы. Не вѣрятъ даже и въ томъ, гдѣ она не вретъ.
Въ частномъ случаѣ лагерной жизни возникаетъ рядъ особыхъ проблемъ: напримѣръ, съ Мухинымъ. Семья осталась въ Питерѣ, семью лишаютъ паспорта — куда дѣваться? Все переполнено, вездѣ голодъ. Въ какой-нибудь Костромѣ придется мѣсяцами жить въ станціонномъ залѣ, въ пустыхъ товарныхъ вагонахъ, подъ заборами и т.д.: жилищный кризисъ. На любомъ заводѣ жену Мухина спросятъ: а почему вы уѣхали изъ Ленинграда и гдѣ вашъ паспортъ? Понятно, что съ такими вопросами Мухинъ не обратится ни къ юрисконсульту, ни въ культурно-просвѣтительный отдѣлъ. Я же имѣлъ возможность сказать Мухину: нужно ѣхать не въ Кострому, а въ Махачъ Кала или Пишпекъ — тамъ русскихъ мало и тамъ насчетъ паспортовъ не придираются. Въ Пишпекѣ, скажемъ, можно обратиться къ нѣкоему Ивану Ивановичу, вѣроятно, еще возсѣдающему въ овцеводческомъ трестѣ или гдѣ-нибудь около. Иванъ Ивановичъ имѣетъ возможность переправить жену Мухина или въ опіумный совхозъ въ Каракола, или въ овцеводческій совхозъ на Качкорѣ. Жить придется въ юртѣ, но съ голоду не пропадутъ.
Все это, — такъ сказать, житейская проза. Но, кромѣ прозы, возникаютъ и нѣкоторые другіе вопросы: напримѣръ, о старой русской литературѣ, которую читаютъ взасосъ, до полнаго измочаливанія страницъ — трижды подклеенныхъ, замусоленныхъ, наполненныхъ карандашными вставками окончательно нечитательныхъ мѣстъ... Вотъ ужъ, дѣйствительно, пришло время-времячко, "когда мужикъ не Блюхера и не милорда глупаго"... Марксистскую расшифровку русскихъ классиковъ знаютъ приблизительно всѣ — но что "товарищи" пишутъ, это уже въ зубахъ навязло, въ это никто не вѣритъ — хотя какъ разъ тутъ-то марксистская критика достаточно сильна... Но все равно — это "наши пишутъ", и читать не стоитъ...
...Такъ, въ милліонахъ мѣстъ и по милліону поводовъ идетъ процессъ выковыванія новаго народнаго сознанія...
КУЛАКЪ АКУЛЬШИНЪ
Въ виду приближенія весны, всѣ наши бригады были мобилизованы на уборку мусора въ многочисленныхъ дворахъ управленія ББК. Юра къ этому времени успѣлъ приноровиться къ другой работѣ: по дорогѣ между Медгорой и третьимъ лагпунктомъ достраивалось зданіе какого-то будущаго техникума ББК, въ зданіи уже жилъ его будущій завѣдующій, и Юра совершенно резонно разсудилъ, что ему цѣлесообразнѣе околачиваться у этого техникума съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ: потомъ влѣзть въ него въ качествѣ учащагося — о техникумѣ рѣчь будетъ позже. Мнѣ же нельзя было покинуть управленческихъ дворовъ, такъ какъ изъ нихъ я могъ совершать развѣдывательныя вылазки по всякаго рода лагернымъ заведеніямъ. Словомъ, я попалъ въ окончательные чернорабочіе.
Я былъ приставленъ въ качествѣ подручнаго къ крестьянину-возчику, крупному мужику лѣтъ сорока пяти, съ изрытымъ оспой, рябымъ лицомъ и угрюмымъ взглядомъ, прикрытымъ нависающими лохматыми бровями. Наши функціи заключались въ выковыриваніи содержимаго мусорныхъ ящиковъ и въ отвозкѣ нашей добычи за предѣлы управленческой территоріи. Содержимое же представляло глыбы замерзшихъ отбросовъ, которыя нужно было разбивать ломами и потомъ лопатами накладывать на сани.
Къ моей подмогѣ мужикъ отнесся нѣсколько мрачно. Нѣкоторыя основанія у него для этого были. Я, вѣроятно, былъ сильнѣе его, но моя городская и спортивная выносливость по сравненіе съ его — деревенской и трудовой — не стоила, конечно, ни копѣйки. Онъ работалъ ломомъ, какъ машина, изъ часу въ часъ. Я непрерывной работы въ данномъ темпѣ больше получаса безъ передышки выдержать не могъ. И, кромѣ этого, сноровки по части мусорныхъ ямъ у меня не было никакой.
Мужикъ не говорилъ почти ничего, но его междометія и мимику можно было расшифровать такъ: "не ваше это дѣло, я ужъ и самъ справлюсь, не лѣзьте только подъ ноги". Я очутился въ непріятной роли человѣка ненужнаго и безтолковаго, взирающаго на то, какъ кто-то дѣлаетъ свою работу.
Потомъ вышло такъ: мой патронъ отбилъ три стѣнки очередного ящика и оттуда, изъ-за досокъ, вылѣзла глыба льда пудовъ этакъ въ двѣнадцать. Она была надтреснутой, и мужикъ очень ловко разбилъ ее на двѣ части. Я внесъ предложеніе: взгромоздить эти половинки, не разбивая ихъ, прямо на сани, чтобы потомъ не возиться съ лопатами. Мужикъ усмѣхнулся снисходительно: говоритъ-де человѣкъ о дѣлѣ, въ которомъ онъ ничего не понимаетъ. Я сказалъ: нужно попробовать. Мужикъ пожалъ плечами: попробуйте. Я присѣлъ, обхватилъ глыбу, глаза полѣзли на лобъ, но глыба все же была водружена на сани — сначала одна, потомъ другая.
Мужикъ сказалъ: "ишь ты" и "ну-ну" и потомъ спросилъ: "а очки-то вы давно носите?". "Лѣтъ тридцать" — "Что-жъ это вы такъ? ну, давайте, закуримъ". Закурили, пошли рядомъ съ санями. Садиться на сани было нельзя: за это давали годъ добавочнаго срока — конское поголовье и такъ еле живо; до человѣческаго поголовья начальству дѣла не было.
Начался обычный разговоръ: давно ли въ лагерѣ, какой срокъ и статья, кто остался на волѣ... Изъ этого разговора я узналъ, что мужика зовутъ Акульшинъ, что получилъ онъ десять лѣтъ за сопротивленіе коллективизаціи, но что, впрочемъ, влипъ не онъ одинъ: все село выслали въ Сибирь съ женами и дѣтьми, но безъ скота и безъ инвентаря. Самъ онъ, въ числѣ коноводовъ чиномъ помельче, получилъ десять лѣтъ. Коноводы чиномъ покрупнѣе были разстрѣляны тамъ же, на мѣстѣ происшествія. Гдѣ-то тамъ, въ Сибири, какъ-то неопредѣленно околачивается его семья ("жена-то у меня — просто кладъ, а не баба") и шестеро ребятъ въ возрастѣ отъ трехъ до 25-ти лѣтъ ("дѣти у меня подходящія, Бога гнѣвить нечего"). "А гдѣ это городъ Барнаулъ?" Я отвѣтилъ. "А за Барнауломъ что? Мѣста дикія? Ну, ежели дикія мѣста — смылись мои куда-нибудь въ тайгу... У насъ давно уже такой разговоръ былъ: въ тайгу смываться. Ну, мы сами не успѣли... Жена тутъ писала, что, значитъ, за Барнауломъ"... — Мужикъ замялся и замолкъ.
На другой день наши дружественныя отношенія нѣсколько продвинулись впередъ. Акульшинъ заявилъ: насчетъ этого мусора — такъ чортъ съ нимъ: и онъ самъ напрасно старался, и я зря глыбы ворочалъ — надъ этимъ мусоромъ никакого контроля и быть не можетъ, кто его знаетъ, сколько тамъ его было...
Скинули въ лѣсу очередную порцію мусора, сѣли, закурили. Говорили о томъ, о семъ: о минеральныхъ удобреніяхъ ("хороши, да нѣту ихъ"), о японцѣ ("до Барнаула, должно быть, доберутся — вотъ радость-то нашимъ сибирякамъ будетъ"), о совхозахъ ("плакали мужики на помѣщика, а теперь бы чортъ съ нимъ, съ помѣщикомъ, самимъ бы живьемъ выкрутиться"), потомъ опять свернули на Барнаулъ: что это за мѣста и какъ далеко туда ѣхать. Я вынулъ блокнотъ и схематически изобразилъ: Мурманская желѣзная дорога, Москва, Уралъ, Сибирскій путь, Алтайская вѣтка... "Н-да, далеконько ѣхать-то! Но тутъ главное — продовольствіе... Ну, продовольствіе-то ужъ я добуду!"
Эта фраза выскочила у Акульшина какъ-то самотекомъ — чувствовалось, что онъ обо всемъ этомъ уже много, много думалъ. Акульшинъ передернулъ плечами и дѣланно усмѣхнулся, искоса глядя на меня: вотъ такъ люди и пропадаютъ, думаетъ про себя, думаетъ, да потомъ возьметъ и ляпнетъ. Я постарался успокоить Акульшина: я вообще не ляпаю ни за себя, ни за другихъ... "Ну, дай-то Богъ... Сейчасъ такое время, что и передъ отцомъ роднымъ лучше не ляпать... Но ужъ разъ сказано, чего тутъ скрывать: семья-то моя, должно, въ тайгу подалась, такъ мнѣ тутъ сидѣть нѣтъ никакого расчету".
— А какъ же вы семью-то въ тайгѣ найдете? "Ужъ найду, есть такой способъ, договорившись уже были". "А какъ съ побѣгомъ, съ деньгами и ѣдой на дорогу?" "Да намъ что, мы сами лѣсные, уральскіе, тамъ — лѣсомъ, тамъ — къ поѣзду подцѣплюсь". "А деньги и ѣду?"
Акульшинъ усмѣхнулся: руки есть. Я посмотрѣлъ на его руки. Акульшинъ сжалъ ихъ въ кулакъ, кулакъ вздулся желваками мускуловъ. Я сказалъ: это не такъ просто.
— А что тутъ мудренаго? Мало-ли какой сволочи съ наганами и портфелями ѣздитъ. Взялъ за глотку и кончено...
...Въ числѣ моихъ весьма многочисленныхъ и весьма разнообразныхъ подсовѣтскихъ профессій была и такая: преподаватель бокса и джіу-джитсу. По нѣкоторымъ весьма нужнымъ мнѣ основаніямъ я продумывалъ комбинацію изъ обѣихъ этихъ системъ, а по минованіи этихъ обстоятельствъ, часть продуманнаго использовалъ для "извлеченія прибыли": преподавалъ на курсахъ команднаго состава, милиціи и выпустилъ книгу. Книга была немедленно конфискована ГПУ, пришли даже ко мнѣ, не очень чтобы съ обыскомъ, но весьма настойчиво — давайте-ка всѣ авторскіе экземпляры. Я отдалъ почти всѣ. Одинъ, прошедшій весьма путаный путь, — сейчасъ у меня на рукахъ. Акульшинъ не зналъ, что десять тысячъ экземпляровъ моего злополучнаго руководства было использовано для ГПУ и Динамо и, слѣдовательно, не зналъ, что съ хваткой за горло дѣло можетъ обстоять не такъ просто, какъ это ему кажется...
— Ничего тутъ мудренаго нѣтъ, — нѣсколько беззаботно повторилъ Акульшинъ.
— А вотъ вы попробуйте, а я покажу, что изъ этого выйдетъ.
Акульшинъ попробовалъ: ничего не вышло. Черезъ полсекунды Акульшинъ лежалъ на снѣгу въ положеніи полной безпомощности. Слѣдующій часъ нашего трудового дня былъ посвященъ разучиванію нѣкоторыхъ элементовъ благороднаго искусства безшумной ликвидаціи ближняго своего — въ варіантахъ, не попавшихъ даже и въ мое пресловутое руководство. Черезъ часъ я выбился изъ силъ окончательно. Акульшинъ былъ еще свѣжъ.
— Да, вотъ что значитъ образованіе, — довольно неожиданно заключилъ онъ.
— При чемъ тутъ образованіе?
— Да такъ. Вотъ сила у меня есть, а умѣть не умѣю. Вообще, если народъ безъ образованныхъ людей, — все равно, какъ если бы армія — въ одномъ мѣстѣ все ротные, да безъ ротъ, а въ другомъ — солдаты, да безъ ротныхъ. Ну, и бьетъ, кто хочетъ... Наши товарищи это ловко удумали... Образованные, они сидятъ вродѣ какъ безъ рукъ и безъ ногъ, а мы сидимъ вродѣ какъ безъ головы... Вотъ оно такъ и выходитъ... — Акульшинъ подумалъ и вѣско добавилъ: — Организаціи нѣту!
— Что имѣемъ — не хранимъ, потерявши — плачемъ, — съиронизировалъ я.
Акульшинъ сдѣлалъ видъ, что не слыхалъ моего замѣчанія.
— Теперь, возьмите вы нашего брата, крестьянство. Ну, конечно, съ революціей — это все горожане завели, да и теперь намъ безъ города ничего не сдѣлать. Народу-то насъ сколько: одними топорами справились бы, да вотъ — организаціи нѣту... Сколько у насъ на Уралѣ возстаній было — да все вразбродъ, въ одиночку. Одни воюютъ, другіе ничего не знаютъ: сидятъ и ждутъ. Потомъ этихъ подавили — тѣ подымаются. Такъ вотъ все сколько ужъ лѣтъ идетъ — и толку никакого нѣтъ. Безъ командировъ живемъ. Разбрелся народъ, кто куда. Пропасть, оно, конечно, не пропадемъ, а дѣло выходитъ невеселое.
Я посмотрѣлъ на квадратныя плечи Акульшина и на его крѣпкую, упрямую челюсть и внутренне согласился: такой, дѣйствительно, не пропадетъ — но такихъ не очень-то и много. Біографію Акульшина легко можно было возстановить изъ скудной и отрывочной информаціи давешняго разговора: всю свою жизнь работалъ мужикъ, какъ машина, — приблизительно такъ же, какъ вчера онъ работалъ ломомъ. И, работая, толково работая, не могъ не становиться "кулакомъ" — это, вѣроятно, выходило и помимо его воли... Попалъ въ "классовые враги" и сидитъ въ лагерѣ. Но Акульшинъ выкрутится и въ лагерѣ: изъ хорошаго дуба сдѣланъ человѣкъ... Вспомнились кулаки, которыхъ я въ свое время видалъ подъ Архангельскомъ, въ Сванетіи и у Памира — высланные, сосланные, а то и просто бѣжавшіе куда глаза глядятъ. Въ Архангельскъ они прибывали буквально въ чемъ стояли: ихъ выгружали толпами изъ ГПУ-скихъ эшелоновъ и отпускали на всѣ четыре стороны. Дѣти и старики вымирали быстро, взрослые желѣзной хваткой цѣплялись за жизнь и за работу... и потомъ черезъ годъ-два какими-то неисповѣдимыми путями опять вылѣзали въ кулаки: кто по извозной части, кто по рыбопромышленной, кто сколачивалъ лѣсорубочныя артели; смотришь — опять сапоги бутылками, борода лопатой... до очередного раскулачиванія... Въ Киргизіи, далеко за Иссыкъ-Кулемъ, "кулаки", сосланные на земли ужъ окончательно "неудобоусвояемыя", занимаются какими-то весьма путанными промыслами, вродѣ добычи свинца изъ таинственныхъ горныхъ рудъ, ловлей и копченіемъ форели, пойманной въ горныхъ рѣчкахъ, какой-то самодѣльной охотой — то силками, то какими-то допотопными мултуками, живутъ въ неописуемыхъ шалашахъ и мирно уживаются даже и съ басмачами. Въ Сванетіи они дѣйствуютъ организованнѣе: сколотили артели по добычѣ экспортныхъ и очень дорогихъ древесныхъ породъ — вродѣ сампита — торгуютъ съ совѣтской властью "въ порядкѣ товарообмѣна", имѣютъ свои пулеметныя команды. Совѣтская власть сампитъ принимаетъ, товары сдаетъ, но въ горы предпочитаетъ не соваться и дѣлаетъ видъ, что все обстоитъ въ порядкѣ. Это — то, что я самъ видалъ. Мои пріятели — участники многочисленныхъ географическихъ, геологическихъ ботаническихъ и прочихъ экспедицій — разсказывали вещи, еще болѣе интересныя. Экспедицій этихъ сейчасъ расплодилось невѣроятное количество. Для ихъ участниковъ — это способъ отдохнуть отъ совѣтской жизни. Для правительства — это глубокая развѣдка въ дебри страны, это подсчетъ скрытыхъ рессурсовъ, на которыхъ будетъ расти будущее хозяйство страны. Рессурсы эти огромны. Мнѣ разсказывали о цѣлыхъ деревняхъ, скрытыхъ въ тайгѣ и окруженныхъ сторожевыми пунктами. Пункты сигнализируютъ о приближеніи вооруженныхъ отрядовъ — и село уходитъ въ тайгу. Вооруженный отрядъ находитъ пустыя избы и рѣдко выбирается оттуда живьемъ. Въ деревняхъ есть американскіе граммофоны, японскія винтовки и японская мануфактура.
По всей видимости, въ одно изъ такихъ селъ пробралась и семья Акульшина. Въ такомъ случаѣ ему, конечно, нѣтъ никакого смысла торчать въ лагерѣ. Прижметъ за горло какого-нибудь чекиста, отберетъ винтовку и пойдетъ въ обходъ Онѣжскаго озера, на востокъ, къ Уралу. Я бы не прошелъ, но Акульшинъ, вѣроятно, пройдетъ. Для него лѣсъ — какъ своя изба. Онъ найдетъ пищу тамъ, гдѣ я погибъ бы отъ голода, онъ пройдетъ по мѣстамъ, въ которыхъ я бы запутался безвыходно и безнадежно... Своимъ урокомъ джіу-джитсу я, конечно, сталъ соучастникомъ убійства какого-нибудь зазѣвавшагося чекиста: едва-ли чекистъ этотъ имѣетъ шансы уйти живьемъ изъ дубовыхъ лапъ Акульшина... Но жизнь этого чекиста меня ни въ какой степени не интересовала. Мнѣ самому надо бы подумать объ оружіи для побѣга... И, кромѣ того, Акульшинъ — свой братъ, товарищъ по родинѣ и по несчастью. Нѣтъ, жизнь чекиста меня не интересовала.
Акульшинъ тяжело поднялся:
— Ну, а пока тамъ до хорошей жизни — поѣдемъ г..... возить...
Да, до "хорошей жизни" его еще много остается...
"КЛАССОВАЯ БОРЬБА"
Какъ-то мы съ Акульшинымъ выгружали нашу добычку въ лѣсу, верстахъ въ двухъ отъ Медгоры. Всѣ эти дни съ сѣверо-востока дулъ тяжелый морозный вѣтеръ, но сейчасъ этотъ вѣтеръ превращался въ бурю. Сосны гнулись и скрипѣли, тучи снѣжной пыли засыпали дорогу и лѣсъ. Акульшинъ сталъ торопиться.
Только что успѣли мы разгрузить наши сани, какъ по лѣсу, приближаясь къ намъ, прошелъ низкій и тревожный гулъ: шла пурга. Въ нѣсколько минуть и лѣсъ, и дорога исчезли въ хаосѣ мятели. Мы почти ощупью, согнувшись въ три погибели, стали пробираться въ Медгору. На открытыхъ мѣстахъ вѣтеръ почти сбивалъ съ ногъ. Шагахъ въ десяти уже не было видно ничего. Безъ Акульшина я запутался бы и замерзъ. Но онъ шелъ увѣренно, ведя на поводу тревожно фыркавшую и упиравшуюся лошаденку, то нащупывая ногой заносимую снѣгомъ колею дороги, то оріентируясь, ужъ Богъ его знаетъ, какимъ лѣснымъ чутьемъ.
До Медгоры мы брели почти часъ. Я промерзъ насквозь. Акульшинъ все время оглядывался на меня: "уши-то, уши потрите"... Посовѣтовалъ сѣсть на сани: все равно въ такой пургѣ никто не увидитъ, но я чувствовалъ, что если я усядусь, то замерзну окончательно. Наконецъ, мы уперлись въ обрывистый берегъ рѣчушки Кумсы, огибавшей территорію управленческаго городка. Отсюда до третьяго лагпункта оставалось версты четыре. О дальнѣйшей работѣ нечего было, конечно, и думать... Но и четыре версты до третьяго лагпункта — я, пожалуй, не пройду.
Я предложилъ намъ обоимъ завернуть въ кабинку монтеровъ. Акульшинъ сталъ отказываться: "а коня-то я куда дѣну?" Но у кабинки стоялъ маленькій почти пустой дровяной сарайчикъ, куда можно было поставить коня. Подошли къ кабинкѣ.
— Вы ужъ безъ меня не заходите, подержите, я съ конемъ справлюсь... Одному, незнакомому, заходить какъ-то неподходяще.
Я сталъ ждать. Акульшинъ распрягъ свою лошаденку, завелъ ее въ сарай, старательно вытеръ ее клочкомъ сѣна, накрылъ какой-то дерюгой: я стоялъ, все больше замерзая и злясь на Акульшина за его возню съ лошаденкой. А лошаденка ласково ловила губами его грязный и рваный рукавъ. Акульшинъ сталъ засыпать ей сѣно, а я примирился со своей участью и думалъ о томъ, что вотъ для Акульшина эта лагерная кляча — не "живой инвентарь" и не просто "тягловая сила", а живое существо, помощница его трудовой мужицкой жизни... Ну какъ же Акульшину не становиться кулакомъ? Ну какъ же Акульшину не становиться бѣльмомъ въ глазу любого совхоза, колхоза и прочихъ предпріятій соціалистическаго типа?...
Въ кабинкѣ я, къ своему удивленію, обнаружилъ Юру — онъ удралъ со своего техникума, гдѣ онъ промышлялъ по плотницкой части. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ Пиголица, и слышались разговоры о тангенсахъ и котангенсахъ. Акульшинъ истово поздоровался съ Юрой и Пиголицей, попросилъ разрѣшенія погрѣться и сразу направился къ печкѣ. Я протеръ очки и обнаружилъ, что, кромѣ Пиголицы и Юры, въ кабинкѣ больше не было никого. Пиголица конфузливо сталъ собирать со стола какія-то бумаги. Юра сказалъ:
— Постой, Саша, не убирай. Мы сейчасъ мобилизнемъ старшее поколѣніе. Ватикъ, мы тутъ съ тригонометрій возимся, требуется твоя консультація...
На мою консультацію расчитывать было трудно. За четверть вѣка, прошедшихъ со времени моего экстерничанія на аттестатъ зрѣлости, у меня ни разу не возникла необходимость обращаться къ тригонометріи, и тангенсы изъ моей головы вывѣтрились, повидимому, окончательно: было не до тангенсовъ. Юра же математику проходилъ въ германской школѣ и въ нѣмецкихъ терминахъ. Произошла нѣкоторая путаница въ терминахъ. Путаницу эту мы кое-какъ расшифровали. Пиголица поблагодарилъ меня:
— А Юра-то взялъ надо мною, такъ сказать, шефство по части математики, — конфузливо объяснилъ онъ, — наши-то старички — тоже зубрятъ, да и сами-то не больно много понимаютъ...
Акульшинъ повернулся отъ печки къ намъ:
— Вотъ это, ребята, — дѣло, что хоть въ лагерѣ — а все же учитесь. Образованность — большое дѣло, охъ, большое. Съ образованіемъ — не пропадешь.
Я вспомнилъ объ Авдѣевѣ и высказалъ свое сомнѣніе. Юра сказалъ:
— Вы, знаете что — вы намъ пока не мѣшайте, а то времени у Саши мало...
Акульшинъ снова отвернулся къ своей печкѣ, а я сталъ ковыряться на книжной полкѣ кабинки. Тутъ было нѣсколько популярныхъ руководствъ по электротехникѣ и математикѣ, какой-то толстый томъ сопротивленія матеріаловъ, полъ десятка неразрѣзанныхъ брошюръ пятилѣтняго характера, Гладковскій "Цементъ", два тома "Войны и Мира", мелкіе остатки второго тома "Братьевъ Карамазовыхъ", экономическая географія Россіи и "Фрегатъ Паллада". Я, конечно, взялъ "Фрегатъ Палладу". Уютно ѣхалъ и уютно писалъ старикъ. За всѣми бурями житейскихъ и прочихъ морей у него всегда оставалось: Россія, въ Россіи — Петербургъ, и въ Петербургѣ — домъ, все это налаженное, твердое и все это — свое... Свой очагъ — и личный и національный, — въ который онъ могъ вернуться въ любой моментъ своей жизни. А куда вернуться намъ, русскимъ, нынѣ пребывающимъ и по эту, и по ту сторону "историческаго рубежа двухъ міровъ"?.. Мы бездомны и здѣсь, и тамъ — но только тамъ это ощущеніе бездомности безмѣрно острѣе... Здѣсь — у меня тоже нѣтъ родины, но здѣсь есть, по крайней мѣрѣ, ощущеніе своего дома, изъ котораго — если я не украду и не зарѣжу, меня никто ни въ одиночку, ни на тотъ свѣтъ не пошлетъ. Тамъ — нѣтъ ни родины, ни дома. Тамъ совсѣмъ заячья бездомность. На ночь прикурнулъ, день — какъ-то извернулся — и опять навостренныя уши: какъ бы не мобилизнули, не посадили, не уморили голодомъ и меня самого, и близкихъ моихъ. Какъ бы не отобрали жилплощади, логовища моего, не послали Юру на хлѣбозаготовки подъ "кулацкій" обрѣзъ, не разстрѣляли Бориса за его скаутскіе грѣхи, не поперли бы жену на культработу среди горняковъ совѣтской концессіи на Шпицбергенѣ, не "припаяли" бы мнѣ самому "вредительства", "контръ-революцію" и чего-нибудь въ этомъ родѣ... Вотъ — жена: была мобилизована переводчицей въ иностранной рабочей делегаціи. Ѣздила, переводила — контроль, конечно, аховый. Делегація произносила рѣчи, потомъ уѣхала, а потомъ оказалось — среди нея былъ человѣкъ, знавшій русскій языкъ... И вернувшись на родину, ляпнулъ печатно о томъ, какъ это все переводилось... Жену вызвали въ соотвѣтствующее мѣсто, выпытывали, выспрашивали, сказали: "угу", "гмъ" и "посмотримъ еще"... Было нѣсколько совсѣмъ неуютныхъ недѣль... Совсѣмъ заячьихъ недѣль... Да, Гончарову и ѣздить, и жить было не въ примѣръ уютнѣе. Поэтому-то, вѣроятно, такъ замусоленъ и истрепанъ его томъ... И въ страницахъ — большая нехватка. Ну, все равно... Я полѣзъ на чью-то пустую нару, усмѣхаясь уже привычнымъ своимъ мыслямъ о бренности статистики....
___
...Въ эпоху служеніи своего въ ЦК ССТС (Центральный комитетъ профессіональнаго союза служащихъ) я, какъ было уже сказано, руководилъ спортомъ, который я знаю и люблю. Потомъ мнѣ навязали шахматы, которыхъ я не знаю и терпѣть не могу, — завѣдывалъ шахматами[9]. Потомъ, въ качествѣ наиболѣе грамотнаго человѣка въ ЦК, я получилъ въ свое завѣдываніе библіотечное дѣло: около семисотъ стаціонарныхъ и около двухъ тысячъ передвижныхъ библіотекъ. Я этого дѣла не зналъ, но это дѣло было очень интересно... Въ числѣ прочихъ мѣропріятій мы проводили и статистическія обслѣдованія читаемости различныхъ авторовъ.
Всякая совѣтская статистика — это нѣкое жизненное, выраженное въ цифрахъ, явленіе, однако, исковерканное до полной неузнаваемости различными "заданіями". Иногда изъ-подъ этихъ заданій — явленіе можно вытащить, иногда оно уже задавлено окончательно. По нашей статистикѣ выходило: на первомъ мѣстѣ — политическая литература, на второмъ — англосаксы, на третьемъ — Толстой и Горькій, дальше шли совѣтскіе авторы и послѣ нихъ — остальные русскіе классики. Я, для собственнаго потребленія, сталъ очищать статистику отъ всякихъ "заданій", но все же оставался огромный пробѣлъ между тѣмъ, что я видалъ въ жизни, и тѣмъ, что показывали мною же очищенныя цифры. Потомъ, послѣ бесѣдъ съ библіотекаршами и собственныхъ размышленій, тайна была болѣе или менѣе разгадана: совѣтскій читатель, получившій изъ библіотеки томъ Достоевскаго или Гончарова, не имѣетъ никакихъ шансовъ этого тома не спереть. Такъ бывало и со мной, но я считалъ, что это только индивидуальное явленіе:
Придетъ нѣкая Марья Ивановна и увидитъ на столѣ, скажемъ, "Братьевъ Карамазовыхъ":
— И. Л., голубчикъ, ну, только на два дня, ей, Богу, только на два дня, вы все равно заняты... Ну, что вы въ самомъ дѣлѣ — я вѣдь культурный человѣкъ! Послѣзавтра вечеромъ обязательно принесу...
Дней черезъ пять приходите къ Марьѣ Ивановнѣ...
— Вы ужъ, И. Л., извините, ради Бога... тутъ заходилъ Ваня Ивановъ... Очень просилъ... — Ну, знаете, неудобно все-таки не дать: наша молодежь такъ мало знакома съ классиками... Нѣтъ, нѣтъ, вы ужъ не безпокойтесь, онъ обязательно вернетъ, я сама схожу и возьму...
Еще черезъ недѣлю вы идете къ Ванѣ Иванову. Ваня встрѣчаетъ васъ нѣсколько шумно:
— Я уже знаю, вы за Достоевскимъ... Какъ же, прочелъ... Очень здорово... Эти старички — умѣли, сукины дѣти, писать... Но, скажите, чего этотъ старецъ...
Когда, послѣ нѣкоторой литературной дискуссіи, вы ухитряетесь вернуться къ судьбѣ книги, то выясняется, что книги уже нѣтъ: ее читаетъ какая-то Маруся.
— Ну, знаете, что я за буржуй такой, чтобы не дать дѣвочкѣ книги? Что съѣстъ она ее? Книги — для того, чтобы читать... Въ библіотекѣ? Чорта съ два получишь что-нибудь путное въ библіотекѣ. Ничего, прочтетъ и вернетъ. Я вамъ самъ принесу.
Словомъ, вы идете каяться въ библіотеку, платите рубля три штрафа, книга исчезаетъ изъ каталога и начинается ея интенсивное хожденіе по рукамъ. Черезъ годъ зачитанный у васъ томъ окажется гдѣ-нибудь на стройкѣ Игарскаго порта или на хлопковыхъ поляхъ Узбекистана. Но ни вы, ни тѣмъ паче библіотека, этого тома больше не увидите... И ни въ какую статистику эта "читаемость" не попадетъ...
Такъ, болѣе или менѣе мирно, въ совѣтской странѣ существуютъ двѣ системы духовнаго питанія массъ: съ одной стороны — мощная сѣть профсоюзныхъ библіотекъ, гдѣ спеціально натасканныя и отвѣтственныя за наличіе совѣтскаго спроса библіотекарши втолковываютъ какимъ-нибудь заводскимъ парнямъ:
— А вы "Гидроцентрали" еще не читали? Ну, какъ же такъ! Обязательно возьмите! Замѣчательная книга, изумительная книга!
Съ другой стороны:
а) классики, которыхъ "рвутъ изъ рукъ", къ которымъ власть относится весьма снисходительно, новѣе же не переиздаетъ: бумаги нѣтъ. Въ послѣднее время не взлюбили Салтыкова-Щедрина: очень ужъ для современнаго фельетона годится.
б) рядъ совѣтскихъ писателей, которые и существуютъ, и какъ бы не существуютъ. Изъ библіотекъ изъять весь Есенинъ, почти весь Эренбургъ (даромъ, что теперь такъ старается), почти весь Пильнякъ, "Улялаевщина" и "Пушторгъ" Сельвинскаго, "12 стульевъ" и "Золотой теленокъ" Ильфа и Петрова — и многое еще въ томъ же родѣ. Оно, конечно, нужно же имѣть и свою лирику, и свою сатиру — иначе гдѣ же золотой сталинскій вѣкъ литературы? Но массъ сюда лучше не пускать.
в) подпольная литература, ходящая по рукамъ въ гектографированныхъ спискахъ: еще почти никому неизвѣстные будущіе русскіе классики, вродѣ Крыжановскаго (не члена ЦК партіи), исписывающіе "для души" сотни печатныхъ листовъ, или Сельвинскаго, пишущаго, какъ часто дѣлывалъ и авторъ этихъ строкъ, одной рукой (правой) для души и другой рукой (лѣвой) для хлѣба халтурнаго, который, увы, нуженъ все-таки "днесь"... Нелегальные кружки читателей, которые, рискуя мѣстами весьма отдаленными, складываются по трешкѣ, покупаютъ, вынюхиваютъ, выискиваютъ все, лишенное оффиціальнаго штампа... И многое другое.
Ясное, опредѣленное мѣсто занимаетъ политическая литература. Она печатается милліонными тиражами и въ любой библіотекѣ губернскаго масштаба она валяется вагонами (буквально вагонами) неразрѣзанной бумажной макулатуры и губитъ бюджеты библіотекъ.
А какъ же со статистикой?
А со статистикой вотъ какъ:
Всякая библіотекарша служебно заинтересована въ томъ, чтобы показать наивысшій процентъ читаемости политической и вообще совѣтской литературы. Всякій инструкторъ центральнаго комитета, вотъ вродѣ меня, заинтересованъ въ томъ, чтобы по своей линіи продемонстрировать наиболѣе совѣтскую постановку библіотечнаго дѣла. Всякій профессіональный союзъ заинтересованъ въ томъ, чтобы показать ЦК партіи, что у него культурно-просвѣтительная работа поставлена "по сталински".
Слѣдовательно: а) библіотекарша вретъ, б) я вру, в) профсоюзъ вретъ. Врутъ еще и многія другія "промежуточныя звенья". И я, и библіотекарша, и ЦК союза, и промежуточныя звенья все это отлично понимаемъ: невысказанная, но полная договоренность... И въ результатѣ — получается, извините за выраженіе, статистика... По совершенно такой же схемѣ получается статистика колхозныхъ посѣвовъ, добычи угля, ремонта тракторовъ... Нѣтъ, статистикой меня теперь не проймешь.
ЗУБАМИ — ГРАНИТЪ НАУКИ
Отъ Гончарова меня оторвалъ Юра: снова понадобилось мое математическое вмѣшательство. Стали разбираться. Выяснилось, что, насѣдая на тригонометрію, Пиголица имѣлъ весьма неясное представленіе объ основахъ алгебры и геометріи, тангенсы цѣплялись за логарифмы, логарифмы за степени, и вообще было непонятно, почему доброе русское "х" именуется иксомъ. Кое-какія формулы были вызубрены на зубокъ, но между ними оказались провалы, разрывъ всякой логической связи между предыдущимъ и послѣдующимъ: то, что на совѣтскомъ языкѣ именуется "абсолютной неувязкой". Попытались "увязать". По этому поводу я не безъ нѣкотораго удовольствія убѣдился, что какъ ни прочно забыта моя гимназическая математика — я имѣю возможность возстановить логическимъ путемъ очень многое, почти все. Въ назиданіе Пиголицѣ — а, кстати, и Юрѣ — я сказалъ нѣсколько вдумчивыхъ словъ о необходимости систематической учебы: вотъ-де училъ это двадцать пять лѣтъ тому назадъ и никогда не вспоминалъ, а когда пришлось — вспомнилъ... Къ моему назиданію Пиголица отнесся раздражительно:
— Ну, и чего вы мнѣ объ этомъ разсказываете — будто я самъ не знаю... Вамъ хорошо было учиться, никуда васъ не гоняли, сидѣли и зубрили... А тутъ мотаешься, какъ навозъ въ проруби... И работа на производствѣ, и комсомольская нагрузка, и профсоюзная нагрузка, и всякіе субботники... Чтобы учиться — зубами время вырывать надо. Мѣсяцъ поучишься — потомъ попрутъ куда-нибудь на село — начинай сначала... Да еще и жрать нечего... Нѣтъ, ужъ вы мнѣ насчетъ стараго режима — оставьте...
Я отвѣтилъ, что хлѣбъ свой я зарабатывалъ съ пятнадцати лѣтъ, экзаменъ на аттестатъ зрѣлости сдалъ экстерномъ, въ университетѣ учился на собственныя деньги и что такихъ, какъ я, было сколько угодно. Пиголица отнесся къ моему сообщенію съ нескрываемымъ недовѣріемъ, но спорить не сталъ:
— Теперь стараго режима нѣту — такъ можно про него что угодно говорить... Правящимъ классамъ, конечно, очень неплохо жилось, я и не говорю, зато трудящійся народъ...
Акульшинъ угрюмо кашлянулъ.
— Трудящійся народъ, — сказалъ онъ, не отрывая глазъ отъ печки, — трудящійся народъ по лагерямъ не сидѣлъ и съ голодухи не дохъ... А ходъ былъ — куда хочешь: хочешь — на заводъ, хочешь — въ университетъ...
— Такъ ты мнѣ еще скажешь, что крестьянскому парню можно было въ университетъ идти?
— Скажу... И не то еще скажу... А куда теперь крестьянскому парню податься, когда ему ѣсть нечего? Въ колхозъ?
— А почему же не въ колхозъ?
— А такіе, какъ ты, будутъ командовать, — презрительно спросилъ Акульшинъ и, не дожидаясь отвѣта, продолжалъ о давно наболѣвшемъ: — на дуракахъ власть держится; понабрали дураковъ, лодырей, пропойцъ — вотъ и командуютъ: пятнадцать лѣтъ изъ голодухи вылѣзть не можемъ.
— Изъ голодухи? Ты думаешь, городской рабочій не голодаетъ? А кто эту голодуху устроилъ? Саботируютъ, сволочи, скотъ рѣжутъ, кулачье...
— Кулачье?... — Усы Акульшина встали дыбомъ. — Кулачье? Это кулачье-то Россію разорило? А? Кулачье, а не товарищи-то ваши съ револьверами и лагерями? Кулачье? Ахъ, ты, сукинъ ты сынъ, соплякъ. — Акульшинъ запнулся, какъ бы не находя словъ для выраженія своей ярости. — Ахъ, ты, сукинъ сынъ, выдвиженецъ...
Выдвиженца Пиголица вынести не смогъ.
— А вы, папаша, — сказалъ онъ ледянымъ тономъ, — если пришли грѣться, такъ грѣйтесь, а то за выдвиженца можно и по мордѣ получить.
Акульшинъ грузно поднялся съ табуретки.
— Это — ты-то... по мордѣ... — и сдѣлалъ шагъ впередъ.
Вскочилъ и Пиголица. Въ лицѣ Акульшина была неутолимая ненависть ко всякаго рода активистамъ, а въ Пиголицѣ онъ не безъ нѣкотораго основанія чувствовалъ нѣчто активистское. Выдвиженецъ же окончательно вывелъ Пиголицу изъ его и безъ того весьма неустойчиваго нервнаго раздраженія. Терминъ "выдвиженецъ" звучитъ въ неоффиціальной Россіи чѣмъ-то глубоко издѣвательскимъ и по убойности своей превосходитъ самый оглушительный матъ. Запахло дракой. Юра тоже вскочилъ.
— Да бросьте вы, ребята, — началъ было онъ... Однако, моментъ для мирныхъ переговоровъ оказался неподходящимъ. Акульшинъ вѣжливо отстранилъ Юру, какъ-то странно исподлобья уставился въ Пиголицу и вдругъ схватилъ его за горло. Я, проклиная свои давешнія уроки джіу-джитсу, ринулся на постъ миротворца. Но въ этотъ моментъ дверь кабинки раскрылась и оттуда, какъ deus ex machina, появились Ленчикъ и Середа. На все происходившее Ленчикъ реагировалъ довольно неожиданно.
— Ура, — заоралъ онъ. — Потасовочка? Рабоче-крестьянская смычка? Вотъ это я люблю... Вдарь его, папаша, по заду... Покажи ему, папаша...
Середа отнесся ко всему этому съ менѣе зрѣлищной точки зрѣнія.
— Эй, хозяинъ, пришелъ въ чужой домъ, такъ рукамъ воли не давай. Пусти руку. Въ чемъ тутъ дѣло?
Къ этому моменту я уже вѣжливо обжималъ Акульшина за талію. Акульшинъ отпустилъ руку и стоялъ, тяжело сопя и не сводя съ Пиголицы взгляда, исполненнаго ненависти. Пиголица стоялъ, задыхаясь, съ перекошеннымъ лицомъ...
— Та-акъ, — протянулъ онъ... — Цѣльной, значитъ, бандой собрались... Та-акъ.
Никакой "цѣльной банды", конечно, и въ поминѣ не было — наоборотъ, въ сущности, всѣ стали на его, Пиголицы, защиту. Но подъ бандой Пиголица разумѣлъ, видимо, весь "старый міръ", который онъ когда-то былъ призванъ "разрушить"; да и едва-ли Пиголица находился въ особенно вмѣняемомъ состояніи.
— Та-акъ, — продолжалъ онъ, — по старому режиму, значитъ, дѣйствуете...
— При старомъ режимѣ, дорогая моя пташечка Пиголица, — снова затараторилъ Ленчикъ, — ни въ какомъ лагерѣ ты бы не сидѣлъ, а уважаемый покойничекъ, папаша твой то-есть, просто загнулъ бы тебѣ въ свое время салазки, да всыпалъ бы тебѣ, сколько полагается.
"Салазки" добили Пиголицу окончательно. Онъ осѣкся и стремительно ринулся къ полочкѣ съ инструментами и дрожащими руками сталъ вытаскивать оттуда какое-то зубило. "Ахъ, такъ салазки, я вамъ покажу салазки". Юра протиснулся какъ-то между нимъ и полкой и дружественно обхватилъ парня за плечи...
— Да, брось ты, Сашка, брось, не видишь что-ли, что ребята просто дурака валяютъ, разыгрываютъ тебя...
— Ага, разыгрываютъ, вотъ я имъ покажу розыгрышъ...
Зубило было уже въ рукахъ Пиголицы. На помощь Юрѣ бросились Середа и я...
— Разыгрываютъ... Осточертѣли мнѣ эти розыгрыши. Всякая сволочь въ носъ тыкаетъ: дуракъ, выдвиженецъ, грабитель... Что, грабилъ я тебя? — вдругъ яростно обернулся онъ къ Акульшину.
— А что, не грабилъ?
— Послушай, Саша, — нѣсколько неудачно вмѣшался Юра, — вѣдь и въ самомъ дѣлѣ грабилъ. На хлѣбозаготовки вѣдь ѣздилъ?
Теперь ярость Пиголицы обрушилась на Юру.
— И ты — тоже. Ахъ, ты, сволочь, а тебя пошлютъ, такъ ты не поѣдешь. А ты на какомъ хлѣбѣ въ Берлинѣ учился? Не на томъ, что я на заготовкахъ грабилъ?
Замѣчаніе Пиголицы могло быть вѣрно въ прямомъ смыслѣ и оно безусловно было вѣрно въ переносномъ. Юра сконфузился.
— Я не про себя говорю. Но вѣдь Акульшину-то отъ этого не легче, что ты — не самъ, а тебя посылали.
— Стойте ребята, — сурово сказалъ Середа, — стойте. А ты, папашка, послушай: я тебя знаю. Ты въ третьей плотницкой бригадѣ работалъ?
— Ну, работалъ, — какъ-то подозрительно отвѣтилъ Акульшинъ.
— Новое зданіе ШИЗО строилъ?
— Строилъ.
— Заставляли?
— А что, я по своей волѣ здѣсь?
— Такъ какая разница: этого паренька заставляли грабить тебя, а тебя заставляли строить тюрьму, въ которой этотъ паренекъ сидѣть, можетъ, будетъ? Что, своей волей мы тутъ всѣ сидимъ? Тьфу, — свирѣпо сплюнулъ Середа, — вотъ, мать вашу... сволочи, сукины дѣти... Семнадцать лѣтъ Пиголицу мужикомъ по затылку бьютъ, а Пиголицей изъ мужика кишки вытягиваютъ... Такъ еще не хватало, чтобы вы для полнаго комплекта удовольствія еще другъ другу въ горло и по своей волѣ цѣплялись.. Ну, и дубина народъ, прости Господи. Замѣсто того, чтобы раскумекать, кто и кѣмъ васъ лупитъ — не нашли другого разговору, какъ другъ другу морды бить... А тебѣ, хозяинъ, — стыдно, старый ты мужикъ, тебѣ ужъ давно бы пора понять.
— Давно понялъ, — сумрачно сказалъ Акульшинъ.
— Такъ чего же ты въ Пиголицу вцѣпился?
— А ты видалъ, что по деревнямъ твои Пиголицы дѣлаютъ?
— Видалъ. Такъ что, онъ по своей волѣ?
— Эхъ ребята, — снова затараторилъ Ленчикъ, — не по своей волѣ воробей навозъ клюетъ... Конечно, ежели потасовочка по хорошему отъ добраго сердца, отчего же и кулаки не почесать... а всамдѣлишно за горло цѣпляться никакого расчету нѣтъ.
Юра за это время что-то потихоньку втолковывалъ Пиголицѣ.
— Ну и хрѣнъ съ ними, — вдругъ сказалъ тотъ. — Сами же, сволочи, все это устроили, а теперь мнѣ въ носъ тычутъ. Что — я революцію подымалъ? Я совѣтскую власть устраивалъ? А теперь, какъ вы устроили, такъ гдѣ я буду жить? Что я въ Америку поѣду? Хорошо этому, — Пиголица кивнулъ на Юру, — онъ всякіе тамъ языки знаетъ, а я куда дѣнусь? Если вамъ всѣмъ про старый режимъ повѣрить, такъ выходитъ, просто съ жиру бѣсились, революціи вамъ только не хватало... А я за кооперативный кусокъ хлѣба, какъ сукинъ сынъ, работать долженъ. А мнѣ, чтобы учиться, такъ послѣднее здоровье отдать нужно, — въ голосѣ Пиголицы зазвучали нотки истерики... — Ты что меня, сволочь, за глотку берешь, — повернулся онъ къ Акульшину, — ты что меня за грудь давишь? Ты, сукинъ сынъ, не на пайковомъ хлѣбѣ росъ, такъ ты меня, какъ муху, задушить можешь. Ну и души, мать твою... души... — Пиголица судорожно сталъ разстегивать воротникъ своей рубашки, застегнутой не пуговицами, а веревочками... — Нате, бейте, душите, что я дуракъ, что я выдвиженецъ, что у меня силъ нѣту, — нате, душите...
Юра дружественно обнялъ Пиголицу и говорилъ ему какія-то довольно безсмысленныя слова: да брось ты, Саша, да ну ихъ всѣхъ къ чертовой матери: не понимаютъ, когда можно шутить — и что-то въ этомъ родѣ. Середа сурово сказалъ Акульшину:
— А ты бы, хозяинъ, подумать долженъ, можетъ, и сынъ твой гдѣ-нибудь тоже такъ болтается... Ты, вотъ, хоть молодость видалъ, а они — что? Что они видали? Развѣ отъ хорошей жизни на хлѣбозаготовки перли? Развѣ ты такимъ въ двадцать лѣтъ не былъ? Сидѣлъ ты въ лагерѣ? Помочь парню надо, а не за глотку его хватать.
— Помочь? — презрительно усмѣхнулся Пиголица. — Помочь? Много вы тутъ мнѣ помогли?..
— Не трепись, Саша, зря... Конечно, иногда, можетъ, очень ужъ круто заворачивали, а все же вотъ подцѣпилъ же тебя Мухинъ, и живешь ты не въ баракѣ, а въ кабинкѣ, и учимъ мы тебя ремеслу, и вотъ Юра съ тобою математикой занимается, и вотъ товарищъ Солоневичъ о писателяхъ разсказываетъ... Значитъ — хотѣли помочь...
— Не надо мнѣ такой помощи, — сумрачно, но уже тише сказалъ Пиголица.
Акульшинъ вдругъ схватился за шапку и направился къ двери:
— Тутъ одна только помощь: за топоръ — и въ лѣсъ.
— Постой, папашка, куда ты? — вскочилъ Ленчикъ, но Акульшина уже не было. — Вотъ совсѣмъ послѣзала публика съ мозговъ, ахъ, ты Господи, такая пурга... — Ленчикъ схватилъ свою шапку и выбѣжалъ во дворъ. Мы остались втроемъ. Пиголица въ изнеможеніи сѣлъ на лавку.
— А, ну чего къ.... Тутъ все равно никуда не вылѣзешь, все равно пропадать. Не учись — съ голоду дохнуть будешь, учись — такъ все равно здоровья не хватитъ... Тутъ только одно есть: чѣмъ на старое оглядываться — лучше ужъ впередъ смотрѣть: можетъ быть, что-нибудь и выйдетъ. Вотъ — пятилѣтка...
Пиголица запнулся: о пятилѣткѣ говорить не стоило...
— Какъ-нибудь выберемся, — оптимистически сказалъ Юра.
— Да ты-то выберешься. Тебѣ — что. Образованіе имѣешь, парень здоровый, отецъ у тебя есть... Мнѣ, братъ, труднѣе.
— Такъ ты, Саша, не ершись, когда тебѣ опытные люди говорятъ. Не лѣзь въ бутылку со своимъ коммунизмомъ. Изворачивайся...
Пиголица въ упоръ уставился на Середу.
— Изворачиваться, а куда мнѣ прикажете изворачиваться? — Потомъ Пиголица повернулся ко мнѣ и повторилъ свой вопросъ: — Ну, куда?
Мнѣ съ какой-то небывалой до того времени остротой представилась вся жизнь Пиголицы... Для него совѣтскій строй со всѣми его украшеніями — единственно знакомая ему соціальная среда. Другой среды онъ не знаетъ. Юрины разсказы о Германіи 1927-1930 года оставили въ немъ только спутанность мыслей, спутанность, отъ которой онъ инстинктивно стремился отдѣлаться самымъ простымъ путемъ — путемъ отрицанія. Для него совѣтскій строй есть исторически данный строй, и Пиголица, какъ большинство всякихъ живыхъ существъ, хочетъ приспособиться къ средѣ, изъ которой у него выхода нѣтъ. Да, мнѣ хорошо говорить о старомъ строѣ и критиковать совѣтскій! Совѣтскій для меня всегда былъ, есть и будетъ чужимъ строемъ, "плѣномъ у обезьянъ", я отсюда все равно сбѣгу, рано или поздно сбѣгу, сбѣгу цѣной любого риска. Но куда идти Пиголицѣ? Или, во всякомъ случаѣ, куда ему идти, пока милліоны Пиголицъ и Акульшиныхъ не осознали силы организаціи единства?
Я сталъ разбирать нѣкоторыя — примѣнительно къ Пиголицѣ — теоріи учебы, изворачиванія и устройства. Середа одобрительно поддакивалъ. Это были приспособленческія теоріи — ничего другого я Пиголицѣ предложить не могъ. Пиголица слушалъ мрачно, ковыряя зубиломъ столъ. Не было видно — согласенъ ли онъ со мною и съ Середой, или не согласенъ.
Въ кабинку вошли Ленчикъ съ Акульшинымъ...
— Ну вотъ, — весело сказалъ Ленчикъ, — уговорилъ папашку. Ахъ, ты, Господи...
Акульшинъ потоптался.
— Ты ужъ, парнишка, не серчай... Жизнь такая, что хоть себѣ самому въ глотку цѣпляйся.
Пиголица устало пожалъ плечами.
— Ну, что-жъ, хозяинъ, — обратился Акульшинъ ко мнѣ, — домой что ли поѣдемъ. Такая тьма — никто не увидитъ...
Нужно было ѣхать — а то могли бы побѣгъ припаять. Я поднялся. Попрощались. Уходя, Акульшинъ снова потоптался у дверей и потомъ сказалъ:
— А ты, парнекъ, главное — учись. Образованіе — это... Учись...
— Да, ужъ тутъ — хоть кровь изъ носу... — угрюмо отвѣтилъ Пиголица... — Такъ ты, Юрка, завтра забѣжишь?
— Обязательно, — сказалъ Юра.
Мы вышли.
НА ВЕРХАХЪ
ИДИЛЛІЯ КОНЧАЕТСЯ
Наше — по лагернымъ масштабамъ идиллическое — житье на третьемъ лагпунктѣ оказалось, къ сожалѣнію, непродолжительнымъ. Виноватъ былъ я самъ. Не нужно было запугивать завѣдующаго снабженіемъ теоріями троцкисткаго загиба, да еще въ примѣненіи оныхъ теорій къ полученію сверхударнаго обѣда, не нужно было посылать начальника колонны въ нехорошее мѣсто. Нужно было сидѣть, какъ мышь подъ метлой и не рипаться. Нужно было сдѣлаться какъ можно болѣе незамѣтнымъ...
Какъ-то поздно вечеромъ нашъ баракъ обходилъ начальникъ лагпункта, сопровождаемый почтительной фигурой начальника колонны — того самаго, котораго я послалъ въ нехорошее мѣсто. Начальникъ лагпункта величественно прослѣдовалъ мимо всѣхъ нашихъ клопиныхъ дыръ; начальникъ колонны что-то вполголоса объяснялъ ему и многозначительно указалъ глазами на меня съ Юрой. Начальникъ лагпункта бросилъ въ нашу сторону неопредѣленно-недоумѣнный взглядъ — и оба ушли. О такихъ случаяхъ говорится: "мрачное предчувствіе сжало его сердце". Но тутъ и безъ предчувствій было ясно: насъ попытаются сплавить въ возможно болѣе скорострѣльномъ порядкѣ. Я негласно и свирѣпо выругалъ самого себя и рѣшилъ на другой день предпринять какія-то еще неясныя, но героическія мѣры. Но на другой день, утромъ, когда бригады проходили на работу мимо начальника лагпункта, онъ вызвалъ меня изъ строя и подозрительно спросилъ: чего я это такъ долго околачиваюсь на третьемъ лагпунктѣ? Я сдѣлалъ вполнѣ невинное лицо и отвѣтилъ, что мое дѣло — маленькое, разъ держать, значитъ, у начальства есть какія-то соображенія по этому поводу. Начальникъ лагпункта съ сомнѣніемъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ: нужно будетъ навести справки. Наведеніе справокъ въ мои расчеты никакъ не входило. Разобравшись въ нашихъ "требованіяхъ", насъ сейчасъ же вышибли бы съ третьяго лагпункта куда-нибудь, хоть и не на сѣверъ; но мои мѣропріятія съ оными требованіями не принадлежали къ числу одобряемыхъ совѣтской властью дѣяній. На работу въ этотъ день я не пошелъ вовсе и сталъ неистово бѣгать по всякимъ лагернымъ заведеніямъ. Перспективъ былъ милліонъ: можно было устроиться плотниками въ одной изъ бригадъ, переводчиками въ технической библіотекѣ управленія, переписчиками на пишущей машинкѣ, штатными грузчиками на центральной базѣ снабженія, лаборантами въ фотолабораторіи и еще въ цѣломъ рядѣ мѣстъ. Я попытался было устроиться въ колонизаціонномъ отдѣлѣ — этотъ отдѣлъ промышлялъ разселеніемъ "вольно-ссыльныхъ" крестьянъ въ карельской тайгѣ. У меня было нѣкоторое имя въ области туризма и краевѣдѣнія, и тутъ дѣло было на мази. Но всѣ эти проекты натыкались на сократительную горячку; эту горячку нужно было переждать: "придите-ка этакъ черезъ мѣсяцъ — обязательно устроимъ". Но меня мѣсяцъ никакъ не устраивалъ. Не только черезъ мѣсяцъ, а и черезъ недѣлю мы рисковали попасть въ какую-нибудь Сегежу, а изъ Сегежи, какъ намъ уже было извѣстно, — никуда не сбѣжишь: кругомъ трясины, въ которыхъ не то что люди, а и лоси тонутъ...
Рѣшилъ тряхнуть своей физкультурной стариной и пошелъ непосредственно къ начальнику культурно-воспитательнаго отдѣла (КВО) тов. Корзуну. Тов. Корзунъ, слегка горбатый, маленькій человѣкъ, встрѣтилъ меня чрезвычайно вѣжливо и корректно: да, такіе работники намъ бы нужны... а статьи ваши?.. Я отвѣтилъ, что статьями, увы, хвастаться нечего: 58-6 и прочее. Корзунъ безнадежно развелъ руками: "Ничего не выйдетъ... Ваша работа по культурно-воспитательной линіи — да еще и въ центральномъ аппаратѣ КВО — абсолютно исключена, не о чемъ говорить".
...Черезъ мѣсяцъ тотъ же тов. Корзунъ велъ упорный бой за то, чтобы перетащить меня въ КВО, хотя статьи мои за это время не измѣнились. Но въ тотъ моментъ такой возможности тов. Корзунъ еще не предусматривалъ. Я извинился и сталъ уходить.
— Знаете что, — сказалъ мнѣ Корзунъ въ догонку, — попробуйте-ка вы поговорить съ "Динамо". Оно лагернымъ порядкамъ не подчинено, можетъ, что-нибудь и выйдетъ.
"ДИНАМО"
"Динамо" — это "пролетарское спортивное общество войскъ и сотрудниковъ ГПУ" — въ сущности, одинъ изъ подотдѣловъ ГПУ — заведеніе отвратительное въ самой высокой степени — даже и по совѣтскимъ масштабамъ. Оффиціально оно занимается физической подготовкой чекистовъ, неоффиціально оно скупаетъ всѣхъ мало-мальски выдающихся спортсменовъ СССР и, слѣдовательно, во всѣхъ видахъ спорта занимаетъ въ СССР первое мѣсто. Къ какому-нибудь Иванову, подающему большія надежды въ области голкиперскаго искусства, подходитъ этакій "жучекъ" — т.е. спеціальный и штатный вербовщикъ-скупщикъ — и говоритъ:
— Переходите-ка къ намъ, тов. Ивановъ, сами понимаете — паекъ, ставка, квартира...
Передъ квартирой устоять трудно. Но если паче чаянія Ивановъ устоитъ даже и передъ квартирой, "жучекъ" подозрительно говоритъ:
— Что? Стѣсняетесь подъ чекистской маркой выступать? Н-даа... Придется вами поинтересоваться...
"Динамо" выполняетъ функціи слѣжки въ спортивныхъ кругахъ. "Динамо" занимается весьма разносторонней хозяйственной дѣятельностью: строитъ стадіоны, монополизировало производство спортивнаго инвентаря, имѣетъ цѣлый рядъ фабрикъ — и все это строится и производится исключительно трудомъ каторжниковъ. "Динамо" въ корнѣ подрѣзываетъ всякую спортивную этику ("морально — то, что служить цѣлямъ міровой революціи").
На "міровой спартакіадѣ" 1928 года я въ качествѣ судьи снялъ съ бѣговой дорожки одного изъ динамовскихъ чемпіоновъ, который съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ разодралъ шипами своихъ бѣговыхъ туфель ногу своего конкурента. Конкурентъ выбылъ со спортивнаго фронта навсегда. Чемпіонъ же, уходя съ дорожки, сказалъ мнѣ: "ну, мы еще посмотримъ". Въ тотъ же день вечеромъ я получилъ повѣстку въ ГПУ: невеселое приглашеніе. Въ ГПУ мнѣ сказали просто, внушительно и свирѣпо: чтобы этого больше не было. Этого больше и не было: я въ качествѣ судьи предпочелъ въ дальнѣйшемъ не фигурировать...
Нужно отдать справедливость и "Динамо": своихъ чемпіоновъ оно кормитъ блестяще — это одинъ изъ секретовъ спортивныхъ успѣховъ СССР. Иногда эти чемпіоны выступаютъ подъ флагомъ профсоюзовъ, иногда подъ военнымъ флагомъ, иногда даже отъ имени промысловой коопераціи — въ зависимости отъ политическихъ требованій дня. Но всѣ они прочно закуплены "Динамо".
Въ тѣ годы, когда я еще могъ ставить рекорды, мнѣ стоило большихъ усилій отбояриться отъ приглашеній "Динамо": единственной реальной возможностью было прекратить всякую тренировку (по крайней мѣрѣ, оффиціальную). Потомъ наши дружественныя отношенія съ "Динамо" шли, все ухудшаясь и ухудшаясь, и если я сѣлъ въ лагерь не изъ-за "Динамо", то это, во всякомъ случаѣ, не отъ избытка симпатіи ко мнѣ со стороны этой почтенной организаціи. Въ силу всего этого, а также и статей моего приговора, я въ "Динамо" рѣшилъ не идти. Настроеніе было окаянное.
Я зашелъ въ кабинку монтеровъ, гдѣ Юра и Пиголица сидѣли за своей тригонометріей, а Мухинъ чинилъ валенокъ. Юра сообщилъ, что его дѣло уже въ шляпѣ и что Мухинъ устраиваетъ его монтеромъ. Я выразилъ нѣкоторое сомнѣніе: люди чиномъ покрупнѣе Мухина ничего не могутъ устроить... Мухинъ пожалъ плечами.
— А мы — люди маленькіе, такъ у насъ это совсѣмъ просто: вотъ сейчасъ перегорѣла проводка у начальника третьей части — такъ я ему позвоню, что никакой возможности нѣту: всѣ мастера въ дежурствѣ, не хватаетъ рабочихъ рукъ. Посидитъ вечеръ безъ свѣта — какое угодно требованіе подпишетъ...
Стало легче на душѣ. Если даже меня попрутъ куда-нибудь, а Юра останется — останется и возможность черезъ медгорскихъ знакомыхъ вытащить меня обратно... Но все-таки...
По дорогѣ изъ кабинки я доложилъ Юрѣ о положеніи дѣлъ на моемъ участкѣ фронта. Юра взъѣлся на меня сразу: конечно, нужно идти въ "Динамо", если тамъ на устройство есть хоть одинъ шансъ изъ ста. Мнѣ идти очень не хотѣлось. Такъ мы съ Юрой шествовали и ругались... Я представлялъ себѣ, что даже въ удачномъ случаѣ мнѣ не безъ злорадства скажутъ: ага, когда мы васъ звали — вы не шли... Ну, и такъ далѣе. Да и шансы-то были нулевые... Впослѣдствіи оказалось, что я сильно недооцѣнилъ большевицкой реалистичности и нѣкоторыхъ другихъ вещей... Словомъ, въ результатѣ этой перепалки, я уныло поволокся въ "Динамо".
ТОВАРИЩЪ МЕДОВАРЪ
На территоріи вольнаго города расположенъ динамовскій стадіонъ. На стадіонѣ — низенькое деревянные домики: канцеляріи, склады, жилища служащихъ... Въ первой комнатѣ — билліардный залъ. На двери (второй) — надпись: "Правленіе "Динамо". Вхожу. Очки запотѣли, снимаю ихъ и, почти ничего не видя, спрашиваю:
— Могу я видѣть начальника учебной части?
Изъ за письменнаго стола подымается нѣкто туманный и, уставившись въ меня, нѣкоторое время молчитъ. Молчу и я. И чувствую себя въ исключительно нелѣпомъ положеніи.
Нѣкто туманный разводитъ руками:
— Елки-палки или, говоря вѣжливѣе, сапенъ-батонъ. Какими путями вы, товарищъ Солоневичъ, сюда попали? Или это, можетъ быть, вовсе не вы?
— Повидимому, это — я. А попалъ, какъ обыкновенно, — по этапу.
— И давно? И что вы теперь дѣлаете?
— Примѣрно, мѣсяцъ. Чищу уборныя.
— Ну, это же, знаете, совсѣмъ безобразіе. Что, вы не знали, что существуетъ ББКовское отдѣленіе "Динамо"? Словомъ, съ этой секунды вы состоите на службѣ въ пролетарскомъ спортивномъ обществѣ "Динамо" — о должности мы поговоримъ потомъ. Ну, садитесь, разсказывайте.
Я протеръ очки. Передо мною — фигура, мнѣ вовсе неизвѣстная, но, во всякомъ случаѣ, ясно выраженный одесситъ: его собственная мамаша не могла бы опредѣлить процентъ турецкой, еврейской, греческой, русской и прочей крови, текущей въ его жилахъ. На крѣпкомъ туловищѣ — дубовая шея, на ней — жуликовато-добродушная и энергичная голова, покрытая густой черной шерстью... Гдѣ это я могъ его видѣть? Понятія не имѣю. Я сажусь.
— Насчетъ моей работы въ "Динамо" дѣло, мнѣ кажется, не такъ просто. Мои статьи...
— А плевать намъ на ваши статьи. Очень мнѣ нужны ваши статьи. Я о нихъ даже и спрашивать не хочу. Что, вы будете толкать штангу статьями или вы ее будете толкать руками? Вы раньше разсказывайте.
Я разсказываю.
— Ну, въ общемъ, все въ порядкѣ. Страницы вашей исторіи перевертываются дальше. Мы здѣсь такое дѣло развернемъ, что Москва ахнетъ... На начальника лагпункта вы можете наплевать. Вы же понимаете, у насъ предсѣдатель — самъ Успенскій (начальникъ ББК), замѣстителемъ его — Радецкій, начальникъ третьяго отдѣла (лагерное ГПУ), что намъ УРО? Хе, плевать мы хотѣли на УРО.
Я смотрю на начальника учебной части и начинаю соображать, что, во-первыхъ, за нимъ не пропадешь и что, во-вторыхъ, онъ собирается моими руками сдѣлать себѣ какую-то карьеру. Но кто онъ? Спросить неудобно.
— А жить вы съ сыномъ будете здѣсь, мы вамъ отведемъ комнату. Ну да, конечно же, и сына вашего мы тоже устроимъ — это ужъ, знаете, если "Динамо" за что-нибудь берется, такъ оно это устраиваетъ на бене мунесъ... А вотъ, кстати, и Батюшковъ идетъ, вы не знакомы съ Батюшковымъ?
Въ комнату вошелъ крѣпкій, по военному подтянутый человѣкъ. Это былъ Федоръ Николаевичъ Батюшковъ, одинъ изъ лучшихъ московскихъ инструкторовъ, исчезнувшій съ московскаго горизонта въ связи съ уже извѣстной политизаціей физкультуры. Мы съ нимъ обмѣниваемся подходящими къ данному случаю междометіями.
— Такъ, — заканчиваетъ Батюшковъ свои междометія, — словомъ, какъ говорится, всѣ дороги ведутъ въ Римъ. Но, главное, сколько?
— Восемь.
— Статьи?
— 58-6 и такъ далѣе.
— И давно вы здѣсь?
Разсказываю.
— Ну, ужъ это вы, И. Л., извините, это просто свинство. Если вамъ самому доставляетъ удовольствіе чистить уборныя — ваше дѣло. Но вѣдь вы съ сыномъ? Неужели вы думали, что въ Россіи есть спортивная организація, въ которой васъ не знаютъ? Въ мірѣ есть солидарность классовая, раціональная, ну, я не знаю, какая еще, но превыше спортивной солидарности — нѣтъ ничего. Мы бы васъ въ два счета приспособили бы.
— Вы, Ф. Н., не суйтесь, — сказалъ начальникъ учебной части. — Мы уже обо всемъ договорились.
— Ну, вы договорились, а я поговорить хочу... Эхъ, и заживемъ мы тутъ съ вами. Будемъ, во-первыхъ, — Батюшковъ загнулъ палецъ, — играть въ теннисъ, во вторыхъ, купаться, въ третьихъ, пить водку, въ четвертыхъ... въ четвертыхъ, кажется, ничего...
— Послушайте, Батюшковъ, — оффиціальнымъ тономъ прервалъ его начальникъ учебной части, — что вы себѣ, въ самомъ дѣлѣ позволяете, вѣдь работа же есть.
— Ахъ, плюньте вы на это къ чортовой матери, Яковъ Самойловичъ, кому вы это будете разсказывать? Ивану Лукьяновичу? Онъ на своемъ вѣку сто тысячъ всякихъ спортивныхъ организацій ревизовалъ. Что, онъ не знаетъ? Еще не хватало, чтобы мы другъ передъ другомъ дурака валять начали. Видъ, конечно, нужно дѣлать...
— Ну, да, вы понимаете, — нѣсколько забезпокоился начальникъ учебной части, — понимаете, намъ нужно показать классъ работы.
— Ну, само собой разумѣется. Дѣлать видъ — это единственное, что мы должны будемъ дѣлать. Вы ужъ будьте спокойны, Я. С. — И. Л. тутъ такой видъ разведетъ, что вы прямо въ члены ЦК партіи попадете. Верхомъ ѣздите? Нѣтъ? Ну, такъ я васъ научу, будемъ вмѣстѣ прогулки дѣлать... Вы, И. Л., конечно, можетъ быть, не знаете, а можетъ быть, и знаете, что пріятно увидѣть человѣка, который за спортъ дрался всерьезъ... Мы же, низовые работники, понимали, что кто — кто, а ужъ Солоневичъ работалъ за спортъ всерьезъ, по совѣсти. Это не то, что Медоваръ. Медоваръ просто спекулируетъ на спортѣ. Почему онъ спекулируетъ на спортѣ, а не съ презервативами — понять не могу...
— Послушайте, Батюшковъ, — сказалъ Медоваръ, — идите вы ко всѣмъ чертямъ, очень ужъ много вы себѣ позволяете.
— А вы не орите, Яковъ Самойловичъ я вѣдь васъ знаю, вы просто милѣйшей души человѣкъ. Вы сдѣлали ошибку, что родились передъ революціей и Медоваромъ, а не тысячу лѣтъ тому назадъ и не багдадскимъ воромъ...
— Тьфу, — плюнулъ Медоваръ, — развѣ съ нимъ можно говорить? Вы же видите, у насъ серьезный разговоръ, а эта пьяная рожа...
— Я абсолютно трезвъ. И вчера, къ сожалѣнію, былъ абсолютно трезвъ.
— На какія же деньги вы пьянствуете? — удивился я.
— Вотъ на тѣ же самыя, на которыя будете пьянствовать и вы. Великая тайна лагернаго блата. Не будете? Это оставьте, обязательно будете. Въ общемъ черезъ мѣсяцъ вы будете ругать себя за то, что не сѣли въ лагерь на пять лѣтъ раньше, что были дуракомъ, трепали нервы въ Москвѣ и все такое. Увѣряю васъ, самое спокойное мѣсто въ СССР — это медгорское "Динамо". Не вѣрите? Ну, поживете, увидите...
СУДЬБА ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ЛИЦОМЪ КЪ ДЕРЕВНѢ
Изъ "Динамо" я шелъ въ весьма путаномъ настроеніи духа. Впослѣдствіи я убѣдился въ томъ, что въ "Динамо" ББК ОГПУ, среди заваленныхъ трупами болотъ, девятнадцатыхъ кварталовъ и безпризорныхъ колоній, можно было дѣйствительно вести, такъ сказать, курортный образъ жизни — но въ тотъ моментъ я этого еще не зналъ. Юра, выслушавъ мой докладъ, сказалъ мнѣ поучительно и весело: ну, вотъ, видишь, а ты не хотѣлъ идти, я вѣдь тебѣ говорю, что когда очень туго — долженъ появиться Шпигель...
— Да, оно, конечно, повезло... И, главное, во время. Хотя... Если бы опасность со стороны начальника лагпункта обрисовалась нѣсколько раньше — я бы и раньше пошелъ въ "Динамо: въ данномъ положеніи идти больше было некуда. А почему бы "Динамо" могло бы не взять меня на работу?
На другой день мы съ Медоваромъ пошли въ третій отдѣлъ "оформлять" мое назначеніе. "А, это пустяки, — говорилъ Медоваръ, — одна формальность. Гольманъ, нашъ секретарь, подпишетъ — и все въ шляпѣ"...
— Какой Гольманъ? Изъ высшаго совѣта физкультуры?
— Ну, да. Какой же еще?
Розовыя перспективы стали блекнуть. Гольманъ былъ однимъ изъ тѣхъ активистовъ, которые дѣлали карьеру на политизаціи физкультуры, я былъ однимъ изъ немногихъ, кто съ этой политизаціей боролся, и единственный, который изъ этой борьбы выскочилъ цѣликомъ. Гольманъ же, послѣ одной изъ моихъ перепалокъ съ нимъ, спросилъ кого-то изъ присутствующихъ:
— Какой это Солоневичъ? Тотъ, что въ Соловкахъ сидѣлъ?
— Нѣтъ, это братъ его сидѣлъ.
— Ага... Такъ передайте ему, что онъ тоже сядетъ.
Мнѣ, конечно, передали.
Гольманъ, увы, оказался пророкомъ. Не знаю, примиритъ ли его эти ощущеніе съ проектомъ моей работы въ Динамо. Однако, Гольманъ встрѣтилъ меня весьма корректно, даже нѣсколько церемонно. Долго и въѣдчиво разспрашивалъ, за что я, собственно, сѣлъ, и потомъ сказалъ, что онъ противъ моего назначенія ничего не имѣетъ, но что онъ надѣется на мою безусловную лояльность:
— Вы понимаете, мы вамъ оказываемъ исключительное довѣріе, и если вы его не оправдаете...
Это было ясно и безъ его намековъ, хотя никакого "довѣрія", а тѣмъ паче исключительнаго, Гольманъ мнѣ не оказывалъ.
— Приказъ по линіи "Динамо" подпишу я. А по лагерной линіи Медоваръ получитъ бумажку отъ Радецкаго о вашемъ переводѣ и устройствѣ. Ну, пока...
Я пошелъ въ "Динамо" поговорить съ Батюшковымъ: какъ дошелъ онъ до жизни такой. Ходъ оказался очень простымъ, съ тѣмъ только осложненіемъ, что по поводу этой политизаціи Батюшковъ получилъ не пять лѣтъ, какъ остальные, а десять лѣтъ, какъ бывшій офицеръ. Пять лѣтъ онъ уже отсидѣлъ, часть изъ нихъ на Соловкахъ. Жизнь его оказалась не столь уже курортной, какъ онъ описывалъ: на волѣ осталась жена съ ребенкомъ...
Черезъ часа два съ разстроеннымъ видомъ пришелъ Медоваръ.
— Эхъ, ничего съ вашимъ назначеніемъ не вышло. Стопроцентный провалъ. Вотъ чортъ бы его подралъ...
Стало очень безпокойно. Въ чемъ дѣло?...
— А я знаю? Тамъ, въ третьемъ отдѣлѣ, оказывается, на васъ какое-то дѣло лежитъ. Какія-то тамъ бумаги вы въ подпорожскомъ отдѣленіи украли. Я говорю Гольману, вы же должны понимать, зачѣмъ Солоневичу какія-то тамъ бумаги красть, развѣ онъ такой человѣкъ... Гольманъ говоритъ, что онъ знать ничего не знаетъ... Разъ Солоневичъ такими дѣлами и въ лагерѣ занимается...
Я соображаю, что это тотъ самый Стародубцевскій доносъ, который я считалъ давно ликвидированнымъ. Я пошелъ къ Гольману. Гольманъ отнесся ко мнѣ по прежнему корректно, но весьма сухо. Я повторилъ свой старый доводъ: если бы я сталъ красть бумаги съ цѣлью, такъ сказать, саботажа, я укралъ бы какія угодно, но только не тѣ, по которымъ семьдесятъ человѣкъ должны были освобождаться. Гольманъ пожалъ плечами:
— Мы не можемъ вдаваться въ психологическія изысканія. Дѣло имѣется, и вопросъ полностью исчерпанъ.
Я рѣшаю ухватиться за послѣднюю соломинку, за Якименко — ненадежная соломинка, но чѣмъ я рискую?
— Начальникъ УРО, тов. Якименко, вполнѣ въ курсѣ этого дѣла. По его приказу это дѣло въ подпорожскомъ отдѣленіи было прекращено.
— А вы откуда это знаете?
— Да онъ самъ мнѣ сказалъ.
— Ахъ, такъ? Ну, посмотримъ, — Гольманъ снялъ телефонную трубку.
— Кабинетъ начальника УРО. Тов. Якименко? Говоритъ начальникъ оперативной группы Гольманъ... Здѣсь у насъ въ производствѣ имѣется дѣло по обвиненію нѣкоего Солоневича въ кражѣ документовъ подпорожскаго УРЧ... Ага? Такъ, такъ... Ну, хорошо. Пустимъ на прекращеніе. Да, здѣсь. Здѣсь, у меня въ кабинетѣ, — Гольманъ протягиваетъ мнѣ трубку.
— Вы, оказывается, здѣсь, — слышу голосъ Якименки. — А сынъ вашъ? Великолѣпно! Гдѣ работаете?
Я сказалъ, что вотъ собираюсь устраиваться по старой спеціальности — по спорту...
— Ага, ну, желаю вамъ успѣха. Если что-нибудь будетъ нужно — обращайтесь ко мнѣ.
И тонъ, и предложенія Якименки оставляютъ во мнѣ недоумѣніе. Я такъ былъ увѣренъ, что Якименки знаетъ всю исторію съ бамовскими списками и что мнѣ было бы лучше ему и на глаза не показываться — и вотъ...
— Значитъ, вопросъ урегулированъ. Очень радъ. Я знаю, что вы можете работать, если захотите. Но, тов. Солоневичъ, никакихъ преній! Абсолютная дисциплина!
— Мнѣ сейчасъ не до преній.
— Давно бы такъ — не сидѣли бы здѣсь. Сейчасъ я занесу Радецкому для подписи бумажку насчетъ васъ. Посидите въ пріемной, подождите...
...Я сижу въ пріемной. Здѣсь — центръ ББКовскаго ГПУ. Изъ кабинетовъ выходятъ и входятъ какія-то личности пинкертоновскаго типа... Тащатъ какихъ-то арестованныхъ. Рядомъ со мною, подъ охраной двухъ оперативниковъ, сидитъ какой-то старикъ, судя по внѣшнему виду — священникъ. Онъ прямо, не мигая, смотритъ куда-то вдаль, за стѣнки третьяго отдѣла, и какъ будто подсчитываетъ оставшіеся ему дни его земной жизни... Напротивъ — какой-то неопредѣленнаго вида парень съ лицомъ изможденнымъ до полнаго сходства съ лицомъ скелета... Какая-то женщина беззвучно плачетъ, уткнувшись лицомъ въ свои колѣни... Это, видимо, люди, ждущіе разстрѣла, — мелкоту сюда не вызываютъ... Меня охватываетъ чувство какого-то гнуснаго, липкаго отвращенія — въ томъ числѣ и къ самому себѣ: почему я здѣсь сижу не въ качествѣ арестованнаго, хотя и я вѣдь заключенный... Нѣтъ, нужно выкарабкиваться и бѣжать, бѣжать, бѣжать...
Приходитъ Гольманъ съ бумажкой въ рукѣ.
— Вотъ это — для перевода васъ на первый лагпунктъ и прочее, подписано Радецкимъ... — Гольманъ недоумѣнно и какъ будто чуть чуть недовольно пожимаетъ плечами... — Радецкій вызываетъ васъ къ себѣ съ сыномъ... Какъ будто онъ васъ знаетъ... Завтра въ девять утра...
О Радецкомъ я не знаю рѣшительно ничего, кромѣ того, что онъ, такъ сказать, Дзержинскій или Ягода — въ карельскомъ и ББКовскомъ масштабѣ. Какого чорта ему отъ меня нужно? Да еще и съ Юрой? Опять въ голову лѣзутъ десятки безпокойныхъ вопросовъ...
ПРОЩАНЬЕ СЪ НАЧАЛЬНИКОМЪ ТРЕТЬЯГО ЛАГПУНКТА
Вечеромъ ко мнѣ подходитъ начальникъ колонны:
— Солоневичъ старшій, къ начальнику лагпункта.
Видъ у начальника колонны мрачно-угрожающій: вотъ теперь-то ты насчетъ загибовъ не поговоришь... Начальникъ лагпункта смотритъ совсѣмъ уже — правда, этакимъ низовымъ, "волостного масштаба" — инквизиторомъ.
— Ну-съ, гражданинъ Солоневичъ, — начинаетъ онъ леденящимъ душу тономъ, — потрудитесь-ка вы разъяснить намъ всю эту хрѣновину.
На столѣ у него — цѣлая кипа моихъ пресловутыхъ требованій... А у меня въ карманѣ — бумажка за подписью Радецкаго.
— Загибчики все разъяснялъ, — хихикаетъ начальникъ колонны.
У обоихъ — удовлетворенно сладострастный видъ: вотъ, дескать, поймали интеллигента, вотъ мы его сейчасъ... Во мнѣ подымается острая рѣжущая злоба, злоба на всю эту стародубцевскую сволочь. Ахъ, такъ думаете, что поймали? Ну, мы еще посмотримъ, кто — кого.
— Какую хрѣновину? — спрашиваю я спокойнымъ тономъ. — Ахъ, это? Съ требованіями?... Это меня никакъ не интересуетъ.
— Что вы тутъ мнѣ дурака валяете, — вдругъ заоралъ начальникъ колонны. — Я васъ, мать вашу...
Я протягиваю къ лицу начальника колонны лагпункта свой кулакъ:
— А вы это видали? Я вамъ такой матъ покажу, что вы и на Лѣсной Рѣчкѣ не очухаетесь.
По тупой рожѣ начальника, какъ тѣни по экрану, мелькаетъ ощущеніе, что если нѣкто поднесъ ему кулакъ къ носу, значитъ, у этого нѣкто есть какія-то основанія не бояться, мелькаетъ ярость, оскорбленное самолюбіе и — многое мелькаетъ: совершенно то же, что въ свое время мелькало на лицѣ Стародубцева.
— Я вообще съ вами разговаривать не желаю, — отрѣзываю я. — Будьте добры заготовить мнѣ на завтра препроводительную бумажку на первый лагпунктъ.
Я протягиваю начальнику лагпункта бумажку, на которой надъ жирнымъ краснымъ росчеркомъ Радецкаго значится: "Такого-то и такого-то немедленно откомандировать въ непосредственное распоряженіе третьяго отдѣла. Начальнику перваго лагпункта предписывается обезпечить указанныхъ"...
Начальнику перваго лагпункта предписывается, а у начальника третьяго лагпункта глаза на лобъ лѣзутъ. "Въ непосредственное распоряженіе третьяго отдѣла!" Значитъ — какой-то временно опальный и крупной марки чекистъ. И сидѣлъ-то онъ не иначе, какъ съ какимъ-нибудь "совершенно секретнымъ предписаніемъ"... Сидѣлъ, высматривалъ, вынюхивалъ...
Начальникъ лагпункта вытираетъ ладонью вспотѣвшій лобъ... Голосъ у него прерывается...
— Вы ужъ, товарищъ, извините, сами знаете, служба... Всякіе тутъ люди бываютъ... Стараешься изо всѣхъ силъ ... Ну, конечно, и ошибки бываютъ... Я вамъ, конечно, сейчасъ же... Подводочку вамъ снарядимъ — не нести же вамъ вещички на спинѣ... Вы ужъ, пожалуйста, извините.
Если бы у начальника третьяго лагпункта былъ хвостъ — онъ бы вилялъ хвостомъ. Но хвоста у него нѣтъ. Есть только безпредѣльное лакейство, созданное атмосферой безпредѣльнаго рабства...
— Завтра утречкомъ все будетъ готово, вы ужъ не безпокойтесь... Ужъ, знаете, такъ вышло, вы ужъ извините...
Я, конечно, извиняю и ухожу. Начальникъ колонны забѣгаетъ впередъ и открываетъ передо мной двери... Въ баракѣ Юра меня спрашиваетъ, отчего у меня руки дрожать... Нѣтъ, нельзя жить, нельзя здѣсь жить, нельзя здѣсь жить... Можно сгорѣть въ этой атмосферѣ непрерывно сдавливаемыхъ ощущеній ненависти, отвращенія и безпомощности... Нельзя жить! Господи, когда же я смогу, наконецъ, жить не здѣсь?..
АУДІЕНЦІЯ
На утро намъ, дѣйствительно, дали подводу до Медгоры. Начальникъ лагпункта подобострастно крутился около насъ. Моя давешняя злоба уже поутихла, и я видалъ, что начальникъ лагпункта — просто забитый и загнанный человѣкъ, конечно, воръ, конечно, сволочь, но въ общемъ, примѣрно, такая же жертва системы всеобщаго рабства, какъ и я. Мнѣ стало неловко за свою вчерашнюю вспышку, за грубость, за кулакъ, поднесенный къ носу начальника.
Сейчасъ онъ помогалъ намъ укладывать наше нищее борохло на подводу и еще разъ извинился за вчерашній матъ. Я отвѣтилъ тоже извиненіемъ за свой кулакъ. Мы разстались вполнѣ дружески и такъ же дружески встрѣчались впослѣдствіи. Что-жъ, каждый въ этомъ кабакѣ выкручивается, какъ можетъ. Чтобы я самъ сталъ дѣлать, если бы у меня не было моихъ нынѣшнихъ данныхъ выкручиваться? Была бы возможна и такая альтернатива: или въ "активъ", или на Лѣсную Рѣчку. Въ теоріи эта альтернатива рѣшается весьма просто... На практикѣ — это сложнѣе...
На первомъ лагпунктѣ насъ помѣстили въ одинъ изъ наиболѣе привиллегированныхъ бараковъ, населенный исключительно управленческими служащими, преимущественно желѣзнодорожниками и водниками. "Урокъ" здѣсь не было вовсе. Баракъ былъ сдѣланъ "въ вагонку", т.е. нары были не сплошныя, а съ проходами, какъ скамьи въ вагонахъ третьяго класса. Мы забрались на второй этажъ, положили свои вещи и съ тревожнымъ недоумѣніемъ въ душѣ пошли на аудіенцію къ тов. Радецкому.
Радецкій принялъ насъ точно въ назначенный часъ. Пропускъ для входа въ третій отдѣлъ былъ уже заготовленъ. Гольманъ вышелъ посмотрѣть, мы ли идемъ по этому пропуску или не мы. Удостовѣрившись въ нашихъ личностяхъ, онъ провелъ насъ въ кабинетъ Радецкаго — огромную комнату, стѣны которой были увѣшаны портретами вождей и географическими картами края. Я съ вожделѣніемъ въ сердцѣ своемъ посмотрѣлъ на эти карты.
Крупный и грузный человѣкъ лѣтъ сорока пяти встрѣчаетъ насъ дружественно и чуть-чуть насмѣшливо: хотѣлъ-де возобновить наше знакомство, не помните?
Я не помню и проклинаю свою зрительную память. Правда, столько тысячъ народу промелькнуло передъ глазами за эти годы. У Радецкаго полное, чисто выбритое, очень интеллигентное лицо, спокойныя и корректныя манеры партійнаго вельможи, разговаривающаго съ безпартійнымъ спецомъ: партійныя вельможи всегда разговариваютъ съ изысканной корректностью. Но всетаки —не помню!
— А это вашъ сынъ? Тоже спортсменъ? Ну, будемте знакомы, молодой человѣкъ. Что-жъ это вы вашу карьеру такъ нехорошо начинаете, прямо съ лагеря! Ай-ай-ай, нехорошо, нехорошо...
— Такая ужъ судьба, — улыбается Юра.
— Ну, ничего, ничего, не унывайте, юноша... Все образуется... Знаете, откуда это?
— Знаю.
— Ну, откуда?
— Изъ Толстого...
— Хорошо, хорошо, молодцомъ... Ну, усаживайтесь.
Чего-чего, а ужъ такой встрѣчи я никакъ не ожидалъ. Что это? Какой-то подвохъ? Или просто комедія? Этакіе отцовскаго стиля разговоры въ кабинетѣ, въ которомъ каждый день подписываются смертные приговоры, подписываются, вѣроятно, десятками. Чувствую отвращенье и нѣкоторую растерянность.
— Такъ не помните, — оборачивается Радецкій ко мнѣ. — Ладно, я вамъ помогу. Кажется, въ двадцать восьмомъ году вы строили спортивный паркъ въ Ростовѣ и по этому поводу ругались съ кѣмъ было надо и съ кѣмъ было не надо, въ томъ числѣ и со мною.
— Вспомнилъ! Вы были секретаремъ сѣверо-кавказскаго крайисполкома.
— Совершенно вѣрно, — удовлетворенно киваетъ головой Радецкій. — И, слѣдовательно, предсѣдателемъ совѣта физкультуры[10]. Паркъ этотъ, нужно отдать вамъ справедливость, вы спланировали великолѣпно, такъ что ругались вы не совсѣмъ зря... Кстати, паркъ-то этотъ мы забрали себѣ: "Динамо" все-таки лучшій хозяинъ, чѣмъ союзъ совторгслужащихъ...
Радецкій испытающе и иронически смотритъ ъ на меня: расчитывалъ ли я въ то время, что я строю паркъ для чекистовъ? Я не расчитывалъ. "Спортивные парки" — ростовскій и харьковскій — были моимъ изобрѣтеніемъ и, такъ сказать, апофеозомъ моей спортивной дѣятельности. Я старался сильно и рисковалъ многимъ. И старался, и рисковалъ, оказывается, для чекистовъ. Обидно... Но этой обиды показывать нельзя.
— Ну, что-жъ, — пожимаю я плечами, — вопросъ не въ хозяинѣ. Вы, я думаю, пускаете въ этотъ паркъ всѣхъ трудящихся.
При словѣ "трудящихся" Радецкій иронически приподымаетъ брови.
— Ну, это — какъ сказать. Иныхъ пускаемъ, иныхъ и нѣтъ. Во всякомъ случаѣ, ваша идея оказалась технически правильной... Берите папиросу... А вы, молодой человѣкъ? Не курите? И водки не пьете? Очень хорошо, великолѣпно, совсѣмъ образцовый спортсменъ... А только вы, cum bonus pater familias, все-таки поприсмотрите за вашимъ наслѣдникомъ, какъ бы въ "Динамо" его не споили, тамъ сидятъ великіе спеціалисты по этой части.
Я выразилъ нѣкоторое сомнѣніе.
— Нѣтъ, ужъ вы мнѣ повѣрьте. Въ нашу спеціальность входитъ все знать. И то, что нужно сейчасъ, и то, что можетъ пригодиться впослѣдствіи... Такъ, напримѣръ, вашу біографію мы знаемъ съ совершенной точностью...
— Само собою разумѣется... Если я въ теченіе десяти лѣтъ и писалъ, и выступалъ подъ своей фамиліей...
— Вотъ — и хорошо дѣлали. Вы показали намъ, что ведете открытую игру. А съ нашей точки зрѣнія — быль молодцу не въ укоръ...
Я поддакивающе киваю головой. Я велъ не очень ужъ открытую игру, о многихъ деталяхъ моей біографіи ГПУ и понятія не имѣло; за "быль" "молодцовъ" разстрѣливали безъ никакихъ, но опровергать Радецкаго было бы ужъ совсѣмъ излишней роскошью: пусть пребываетъ въ своемъ вѣдомственномъ самоутѣшеніи. Легенду о всевидящемъ окѣ ГПУ пускаетъ весьма широко и съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ запугать обывателя. Я къ этой легендѣ отношусь весьма скептически, а въ томъ, что Радецкій о моей біографіи имѣетъ весьма отдаленное представленіе, я увѣренъ вполнѣ. Но зачѣмъ спорить?..
— Итакъ, перейдемте къ дѣловой части нашего совѣщанія. Вы, конечно, понимаете, что мы приглашаемъ васъ въ "Динамо" не изъ-за вашихъ прекрасныхъ глазъ (я киваю головой). Мы знаемъ васъ, какъ крупнаго, всесоюзнаго масштаба, работника по физкультурѣ и блестящаго организатора (я скромно опускаю очи). Работниковъ такого масштаба у насъ въ ББК нѣтъ. Медоваръ — вообще не спеціалистъ, Батюшковъ — только инструкторъ... Слѣдовательно, предоставлять вамъ возможность чистить дворы или пилить дрова — у насъ нѣтъ никакого расчета. Мы используемъ васъ по вашей прямой спеціальности... Я не хочу спрашивать, за что васъ сюда посадили, — я узнаю это и безъ васъ, и точнѣе, чѣмъ вы сами знаете. Но меня въ данный моментъ это не интересуетъ. Мы ставимъ передъ вами задачу: создать образцовое динамовское отдѣленіе... Ну, вотъ, скажемъ, осенью будутъ разыгрываться первенства сѣверо-западной области, динамовскія первенства... Можете ли вы такую команду сколотить, чтобы ленинградскому отдѣленію перо вставить? А? А ну-ка, покажите классъ.
Тайна аудіенціи разъясняется сразу. Для любого заводского комитета и для любого отдѣленія "Динамо" спортивная побѣда — это вопросъ самолюбія, моды, азарта — чего хотите. Заводы переманиваютъ къ себѣ форвардовъ, а "Динамо" скупаетъ чемпіоновъ. Для заводского комитета заводское производство — это непріятная, но неизбѣжная проза жизни, футбольная же команда — это предметъ гордости, объектъ нѣжнаго ухода, поэтическая полоска на сѣромъ фонѣ жизни... Такъ приблизительно баринъ начала прошлаго вѣка въ свою псарню вкладывалъ гораздо больше эмоцій, чѣмъ въ урожайность своихъ полей; хорошая борзая стоила гораздо дороже самаго работящаго мужика, а квалифицированный псарь шелъ, вѣроятно, совсѣмъ на вѣсъ золота. Вотъ на амплуа этого квалифицированнаго псаря попадаю и я. "Вставить перо" Ленинграду Радецкому очень хочется. Для такого торжества онъ, конечно, закроетъ глаза на любыя мои статьи...
— Тов. Радецкій, я все-таки хочу по честному предупредить васъ — непосильныхъ вещей я вамъ обѣщать не могу...
— Почему непосильныхъ?
— Какимъ образомъ Медгора съ ея 15.000 населенія можетъ конкурировать съ Ленинградомъ?
— Ахъ, вы объ этомъ? Медгора здѣсь не причемъ. Мы вовсе не собираемся использовать васъ въ масштабѣ Медгоры. Вы у насъ будете работать въ масштабѣ ББК. Объѣдете всѣ отдѣленія, подберете людей... Выборъ у васъ будетъ, выборъ изъ приблизительно трехсотъ тысячъ людей...
Трехсотъ тысячъ! Я въ Подпорожьи пытался подсчитать "населеніе" ББК, и у меня выходило гораздо меньше... Неужели же триста тысячъ? О, Господи... Но подобрать команду, конечно, можно будетъ... Сколько здѣсь однихъ инструкторовъ сидитъ?
— Такъ вотъ — начните съ Медгорскаго отдѣленія. Осмотрите всѣ лагпункты, подберите команды... Если у васъ выйдутъ какія-нибудь дѣловыя недоразумѣнія съ Медоваромъ или Гольманомъ — обращайтесь прямо ко мнѣ.
— Меня тов. Гольманъ предупреждалъ, чтобы я работалъ "безъ преній".
— Здѣсь хозяинъ не Гольманъ, а я. Да, я знаю, у васъ съ Гольманомъ были въ Москвѣ не очень блестящія отношенія, оттого онъ... Я понимаю, портить дальше эти отношенія вамъ нѣтъ смысла... Если возникнуть какія-нибудь недоразумѣнія — вы обращайтесь ко мнѣ, такъ сказать, заднимъ ходомъ... Мы это обсудимъ, и Гольманъ съ Медоваромъ будутъ имѣть мои приказанія, и вы здѣсь будете не причемъ... Да, что касается вашихъ бытовыхъ нуждъ — мы ихъ обезпечимъ, мы заинтересованы въ томъ, чтобы вы работали, какъ слѣдуетъ... Для вашего сына вы придумайте что-нибудь подходящее. Мы его пока тоже зачислимъ инструкторомъ...
— Я хотѣлъ въ техникумъ поступить...
— Въ техникумъ? Ну что-жъ, валяйте въ техникумъ. Правда, съ вашими статьями васъ туда нельзя бы пускать, но я надѣюсь, — Радецкій добродушно и иронически ухмыляется, — надѣюсь — вы перекуетесь?
— Я ужъ, гражданинъ начальникъ, почти на половину перековался, — подхватываетъ шутку Юра...
— Ну вотъ, осталось, значитъ, пустяки. Ну-съ, будемъ считать наше совѣщаніе законченнымъ, а резолюцію принятой единогласно. Кстати — обращается Радецкій ко мнѣ, — вы, кажется, хорошій игрокъ въ теннисъ?
— Нѣтъ, весьма посредственный.
— Позвольте, мнѣ Батюшковъ говорилъ, что вы вели цѣлую кампанію въ пользу, такъ сказать, реабилитаціи тенниса. Доказывали, что это вполнѣ пролетарскій видъ спорта... Ну, словомъ, мы съ вами какъ-нибудь сразимся. Идетъ? Ну, пока... Желаю вамъ успѣха...
Мы вышли отъ Радецкаго.
— Нужно будетъ устроить еще одно засѣданіе, — сказалъ Юра, — а то я ничегошеньки не понимаю...
Мы завернули въ тотъ дворъ, на которомъ такъ еще недавно мы складывали доски, усѣлись на нашемъ собственноручномъ сооруженіи, и я прочелъ Юрѣ маленькую лекцію о спортѣ и о динамовскомъ спортивномъ честолюбіи. Юра не очень былъ въ курсѣ моихъ физкультурныхъ дѣяній, они оставили во мнѣ слишкомъ горькій осадокъ. Сколько было вложено мозговъ, нервовъ и денегъ и, въ сущности, почти безрезультатно... Отъ тридцати двухъ водныхъ станцій остались рожки да ножки, ибо тамъ распоряжались всѣ, кому не лѣнь, а на спортивное самоуправленіе, даже въ чисто хозяйственныхъ дѣлахъ, смотрѣли, какъ на контръ-революцію, спортивные парки попали въ руки ГПУ, а въ теннисъ, подъ который я такъ старательно подводилъ "идеологическую базу", играютъ Радецкіе и иже съ ними... И больше почти никого... Какой тамъ спортъ для "массы", когда массѣ, помимо всего прочаго, ѣсть нечего... Зря было ухлопано шесть лѣтъ работы и риска, а о такихъ вещахъ не очень хочется разсказывать... Но, конечно, съ точки зрѣнія побѣга мое новое амплуа даетъ такія возможности, о какихъ я и мечтать не могъ...
На другой же день я получилъ пропускъ, предоставлявшій мнѣ право свободнаго передвиженія на территоріи всего медгоровскаго отдѣленія, т.е. верстъ пятидесяти по меридіану и верстъ десяти къ западу и въ любое время дня и ночи. Это было великое пріобрѣтеніе. Фактически оно давало мнѣ большую свободу передвиженія, чѣмъ та, какою пользовалось окрестное "вольное населеніе". Планы побѣга стали становиться конкретными...
ВЕЛИКІЙ КОМБИНАТОРЪ
Въ "Динамо" было пусто. Только Батюшковъ со скучающимъ видомъ самъ съ собой игралъ на билліардѣ. Мое появленіе нѣсколько оживило его.
— Вотъ хорошо, партнеръ есть, хотите пирамидку?
Я пирамидки не хотѣлъ, было не до того.
— Въ пирамидку мы какъ-нибудь потомъ, а вотъ вы мнѣ пока скажите, кто собственно такой этотъ Медоваръ?
Батюшковъ усѣлся на край билліарда.
— Медоваръ по основной профессіи — одесситъ.
Это опредѣленіе меня не удовлетворяло.
— Видите ли, — пояснилъ Батюшковъ, — одесситъ — это человѣкъ, который живетъ съ воздуха. Ничего толкомъ не знаетъ, за все берется и, представьте себѣ, кое-что у него выходитъ...
Въ Москвѣ онъ былъ какимъ-то спекулянтомъ, потомъ примазался къ "Динамо", ѣздилъ отъ нихъ представителемъ московскихъ командъ, знаете, такъ, чтобы выторговать и суточными обѣды и все такое. Потомъ какъ-то пролѣзъ въ партію... Но жить съ нимъ можно, самъ живетъ и другимъ даетъ жить. Жуликъ, но очень порядочный человѣкъ, — довольно неожиданно закончилъ Батюшковъ.
— Откуда онъ меня знаетъ?
— Послушайте, И. Л., васъ же каждая спортивная собака знаетъ. Приблизительно въ три раза больше, чѣмъ вы этого заслуживаете... Почему въ три раза? Вы выступали въ спортѣ и двое вашихъ братьевъ: кто тамъ разберетъ, который изъ нихъ Солоневичъ первый и который третій. Кстати, а гдѣ вашъ средній братъ?
Мой средній братъ погибъ въ арміи Врангеля, но объ этомъ говорить не слѣдовало. Я сказалъ что-то подходящее къ данному случаю. Батюшковъ посмотрѣлъ на меня понимающе.
— М-да, немного старыхъ спортсменовъ уцѣлѣло. Вотъ я думалъ, что уцѣлѣю, въ бѣлыхъ арміяхъ не былъ, политикой не занимался, а вотъ сижу... А съ Медоваромъ вы споетесь, съ нимъ дѣло можно имѣть. Кстати, вотъ онъ и шествуетъ.
Медоваръ, впрочемъ, не шествовалъ никогда, онъ леталъ. И сейчасъ, влетѣвъ въ комнату, онъ сразу накинулся на меня съ вопросами:
— Ну, что у васъ съ Радецкимъ? Чего васъ Радецкій вызывалъ? И откуда онъ васъ знаетъ? И что вы, Федоръ Николаевичъ, сидите, какъ ворона на этомъ паршивомъ билліардѣ, когда работа же есть. Сегодня съ меня спрашиваютъ сводки мартовской работы "Динамо", такъ что я имъ дамъ, какъ вы думаете, что я имъ дамъ?
— Ничего я не думаю. Я и безъ думанья знаю.
Медоваръ бросилъ на билліардъ свой портфель.
— Ну вотъ, вы сами видите, И. Л., онъ даже вида не хочетъ дѣлать, что работа есть... Послалъ, вы понимаете, въ Ленинградъ сводку о нашей февральской работѣ и даже копіи не оставилъ. И вы думаете, онъ помнить, что тамъ въ этой сводкѣ было? Такъ теперь, что мы будемъ писать за мартъ? Нужно же намъ ростъ показать. А какой ростъ? А изъ чего мы будемъ исходить?
— Не кирпичитесь, Яковъ Самойловичъ, ерунда все это.
— Хорошенькая ерунда!
— Ерунда! Въ февралѣ былъ зимній сезонъ, сейчасъ весенній. Не могутъ же у насъ въ мартѣ лыжныя команды расти. На весну нужно совсѣмъ другое выдумывать... — Батюшковъ попытался засунуть окурокъ въ лузу, но одумался и сунулъ его въ медоваровскій портфель...
— Знаете что, Ф. Н., вы хорошій парень, но за такія одесскія штучки я вамъ морду набью.
— Морды вы не набьете, а въ пирамидку я вамъ дамъ тридцать очковъ впередъ и обставлю, какъ миленькаго.
— Ну, это вы разсказывайте вашей бабушкѣ. Онъ меня обставитъ? Вы такого нахала видали? А вы сами пятнадцать очковъ не хотите?
Разговоръ начиналъ пріобрѣтать вѣдомственный характеръ. Батюшковъ началъ ставить пирамидку. Медоваръ засунулъ свой портфель подъ билліардъ и вооружился кіемъ. Я, ввиду всего этого, повернулся уходить.
— Позвольте, И. Л., куда же вы это? Я же съ вами хотѣлъ о Радецкомъ поговорить. Такая масса работы, прямо голова кругомъ идетъ... Знаете что, Батюшковъ, — съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ Медоваръ на уже готовую пирамидку, — смывайтесь вы пока къ чортовой матери, приходите черезъ часъ, я вамъ покажу, гдѣ раки зимуютъ.
— Завтра покажете. Я пока пошелъ спать.
— Ну вотъ, видите, опять пьянъ, какъ великомученица. Тьфу. — Медоваръ полѣзъ подъ билліардъ, досталъ свой портфель. — Идемте въ кабинетъ. — Лицо Медовара выражало искреннее возмущеніе. — Вотъ видите сами, работнички... Я на васъ, И. Л., буду крѣпко расчитывать, вы человѣкъ солидный. Вы себѣ представьте, пріѣдетъ инспекція изъ центра, такъ какіе мы красавцы будемъ. Закопаемся къ чертямъ. И Батюшкову не поздоровится. Этого еще мало, что онъ съ Радецкимъ въ теннисъ играетъ и со всей головкой пьянствуетъ. Если инспекція изъ центра...
— Я вижу, что вы, Я. С., человѣкъ на этомъ дѣлѣ новый и нѣсколько излишне нервничаете. Я самъ "изъ центра" инспектировалъ разъ двѣсти. Все это ерунда, халоймесъ.
Медоваръ посмотрѣлъ на меня бокомъ, какъ курица. Терминъ "халоймесъ" на одесскомъ жаргонѣ обозначаетъ халтуру, взятую, такъ сказать, въ кубѣ.
— А вы въ Одессѣ жили? — спросилъ онъ осторожно.
— Былъ грѣхъ, шесть лѣтъ...
— Знаете что, И. Л., давайте говорить прямо, какъ дѣловые люди, только чтобы, понимаете, абсолютно между нами и никакихъ испанцевъ.
— Ладно, никакихъ испанцевъ.
— Вы же понимаете, что мнѣ вамъ объяснять? Я на такой отвѣтственной работѣ первый разъ, мнѣ нужно классъ показать. Это же для меня вопросъ карьеры. Да, такъ что же у васъ съ Радецкимъ?
Я сообщилъ о своемъ разговорѣ съ Радецкимъ.
— Вотъ это замѣчательно. Что Якименко васъ поддержалъ съ этимъ дѣломъ — это хорошо, но разъ Радецкій васъ знаетъ, обошлись бы и безъ Якименки, хотя вы знаете, Гольманъ очень не хотѣлъ васъ принимать. Знаете что, давайте работать на пару. У меня, знаете, есть проектъ, только между нами... Здѣсь въ управленіи есть культурно-воспитательный отдѣлъ, это же въ общемъ вродѣ профсоюзнаго культпросвѣта. Теперь каждый культпросвѣтъ имѣетъ своего инструктора. Это же неотъемлемая часть культработы, это же свинство, что нашъ КВО не имѣетъ инструктора, это недооцѣнка политической и воспитательной роли физкультуры. Что, не правду я говорю?
— Конечно, недооцѣнка, — согласился я.
— Вы же понимаете, имъ нуженъ работникъ. И не какой-нибудь, а крупнаго масштаба, вотъ вродѣ васъ. Но, если я васъ спрашиваю, вы пойдете въ КВО...
— Ходилъ — не приняли.
— Не приняли, — обрадовался Медоваръ, — ну вотъ, что я вамъ говорилъ. А если бы и приняли, такъ дали бы вамъ тридцать рублей жалованья, какой вамъ расчетъ? Никакого расчета. Знаете, И. Л., мы люди свои, зачѣмъ намъ дурака валять, я же знаю, что вы по сравненію со мной мірового масштаба спеціалистъ. Но вы заключенный, а я членъ партіи. Теперь допустите: что я получилъ бы мѣсто инспектора физкультуры при КВО, они бы мнѣ дали пятьсотъ рублей... Нѣтъ, пожалуй, пятисотъ, сволочи, не дадутъ: скажутъ, работаю по совмѣстительству съ "Динамо"... Ну, триста рублей дадутъ, триста дадутъ обязательно. Теперь такъ: вы писали бы мнѣ всякія тамъ директивы, методически указанія, инструкціи и все такое, я бы бѣгалъ и оформлялъ все это, а жалованье, понимаете, пополамъ. Вы же понимаете, И. Л., я вовсе не хочу васъ грабить, но вамъ же, какъ заключенному, за ту же самую работу дали бы копѣйки. И я тоже не даромъ буду эти полтораста рублей получать, мнѣ тоже нужно будетъ бѣгать...
Медоваръ смотрѣлъ на меня съ такимъ видомъ, словно я подозрѣвалъ его въ эксплоатаціонныхъ тенденціяхъ. Я смотрѣлъ на Медовара, какъ на благодѣтеля рода человѣческаго. Полтораста рублей въ мѣсяцъ! Это для насъ — меня и Юры — по кило хлѣба и литру молока въ день. Это значитъ, что въ побѣгъ мы пойдемъ не истощенными, какъ почти всѣ, кто покушается бѣжать, у кого силъ хватаетъ на пять дней и — потомъ гибель.
— Знаете что, Яковъ Самойловичъ, въ моемъ положеніи вы могли бы мнѣ предложить не полтораста, а пятнадцать рублей, и я бы ихъ взялъ. А за то что вы предложили мнѣ полтораста, да еще и съ извиняющимся видомъ, я вамъ предлагаю, такъ сказать, встрѣчный промфинпланъ.
— Какой промфинпланъ, — слегка забезпокоился Медоваръ.
— Попробуйте заключить съ ГУЛАГомъ договоръ на книгу. Ну, вотъ, вродѣ: "Руководство по физкультурной работѣ въ исправительно-трудовыхъ лагеряхъ ОГПУ". Писать буду я. Гонораръ — пополамъ. Идетъ?
— Идетъ, — восторженно сказалъ Медоваръ, — вы, я вижу, не даромъ жили въ Одессѣ. Честное мое слово — это же вовсе великолѣпно. Мы, я вамъ говорю, мы таки сдѣлаемъ себѣ имя. То-есть, конечно, сдѣлаю я, — зачѣмъ вамъ имя въ ГУЛАГѣ, у васъ и безъ ГУЛАГа имя есть. Пишите планъ книги и планъ работы въ КВО. Я сейчасъ побѣгу въ КВО Корзуна обрабатывать. Или нѣтъ, лучше не Корзуна, Корзунъ по части физкультуры совсѣмъ идіотъ, онъ же горбатый. Нѣтъ, я сдѣлаю такъ — я пойду къ Успенскому — это голова. Ну, конечно же, къ Успенскому, какъ я, идіотъ, сразу этого не сообразилъ? Ну, а вы, конечно, сидите безъ денегъ?
Безъ денегъ я, къ сожалѣнію, сидѣлъ уже давно.
— Такъ я вамъ завтра авансъ выпишу. Мы вамъ будемъ платить шестьдесятъ рублей въ мѣсяцъ. Больше не можемъ, ей Богу, больше не можемъ, мы же за васъ еще и лагерю должны 180 рублей платить... Ну, и сыну тоже что-нибудь назначимъ... Я васъ завтра еще на столовку ИТР устрою[11].
БЕЗПЕЧАЛЬНОЕ ЖИТЬЕ
Весна 1934 года, дружная и жаркая, застала насъ съ Юрой въ совершенно фантастическомъ положеніи. Медоваръ реализовалъ свой проектъ: устроился "инспекторомъ" физкультуры въ КВО и мои 150 рублей выплачивалъ мнѣ честно. Кромѣ того, я получалъ съ "Динамо еще 60 рублей и давалъ уроки физкультуры и литературы въ техникумѣ. Уроки эти, впрочемъ, оплачивались уже по лагернымъ расцѣнкамъ: пятьдесятъ копѣекъ за академическій часъ. Полтинникъ равнялся цѣнѣ 30 граммъ сахарнаго песку. Питались мы въ столовой ИТР, въ которую насъ устроилъ тотъ же Медоваръ — при поддержкѣ Радецкаго. Медоваръ далъ мнѣ бумажку начальнику отдѣла снабженія ББК, тов. Неймайеру.
Въ бумажкѣ было написано: "инструкторъ физкультуры не можетъ работать, когда голодный"... Почему, "когда голодный, можетъ работать лѣсорубъ и землекопъ — я, конечно, выяснять не сталъ. Кромѣ того, въ бумажкѣ была и ссылка: "по распоряженію тов. Радецкаго"...
Неймайеръ встрѣтилъ меня свирѣпо:
— Мы только что сняли со столовой ИТР сто сорокъ два человѣка. Такъ что же, изъ-за васъ мы будемъ снимать сто сорокъ третьяго.
— И сто сорокъ четвертаго, — наставительно поправилъ я, — здѣсь рѣчь идетъ о двухъ человѣкахъ.
Неймайеръ посмотрѣлъ на одинаковыя фамиліи и понялъ, что вопросъ стоитъ не объ "ударникѣ", а о протекціи.
— Хорошо, я позвоню Радецкому, — нѣсколько мягче сказалъ онъ.
Въ столовую ИТР попасть было труднѣе, чѣмъ на волѣ — въ партію. Но мы попали. Было непріятно то, что эти карточки были отобраны у какихъ-то инженеровъ, но мы утѣшались тѣмъ, что это — не надолго, и тѣмъ, что этимъ-то инженерамъ все равно сидѣть, а намъ придется бѣжать, и силы нужны. Впрочемъ, съ Юриной карточкой получилась чепуха: для него карточку отобрали у его же непосредственнаго начальства, директора техникума, инж. Сташевскаго, и мы рѣшили ее вернуть — конечно, нелегально, просто изъ рукъ въ руки, иначе бы Сташевскій этой карточки уже не получилъ бы, ее перехватили бы по дорогѣ. Но Юрина карточка къ тому времени не очень ужъ была и нужна. Я околачивался по разнымъ лагернымъ пунктамъ, меня тамъ кормили и безъ карточки, а Юра обѣдалъ за меня.
Въ столовой ИТР давали завтракъ — такъ, примѣрно, тарелку чечевицы, обѣдъ — болѣе или менѣе съѣдобныя щи съ отдаленными слѣдами присутствія мяса, какую-нибудь кашу или рыбу и кисель. На ужинъ — ту же чечевицу или кашу. Въ общемъ очень не густо, но мы не голодали. Было два неудобства: комнатой "Динамо" мы рѣшили не воспользоваться, чтобы не подводить своимъ побѣгомъ нѣкоторыхъ милыхъ людей, о которыхъ я въ этихъ очеркахъ предпочитаю не говорить вовсе. Мы остались въ баракѣ, побѣгомъ откуда мы подводили только мѣстный "активъ", къ судьбамъ котораго мы были вполнѣ равнодушны. Впрочемъ, впослѣдствіи вышло такъ, что самую существенную помощь въ нашемъ побѣгѣ намъ оказалъ... начальникъ лагеря, тов. Успенскій, съ какового, конечно, взятки гладки. Единственное, что ему послѣ нашего побѣга оставалось, это посмотрѣть на себя въ зеркало и обратиться къ своему отраженію съ парой сочувственныхъ словъ. Кромѣ него, ни одинъ человѣкъ въ лагерѣ и ни въ какой степени за нашъ побѣгъ отвѣчать не могъ...
И еще послѣднее неудобство — я такъ и не ухитрился добыть себѣ "постельныхъ принадлежностей", набитаго морской травой тюфяка и такой же подушки: такъ все наше лагерное житье мы и проспали на голыхъ доскахъ. Юра нѣсколько разъ нажималъ на меня, и эти "постельныя принадлежности" не такъ ужъ и трудно было получить. Я только позже сообразилъ, почему я ихъ такъ и не получилъ: инстинктивно не хотѣлось тратить ни капли нервовъ ни для чего, не имѣвшаго прямого и непосредственнаго отношенія къ побѣгу. Постели къ побѣгу никакого отношенія и не имѣли: въ лѣсу придется спать похуже, чѣмъ на нарахъ...
...Въ части писемъ, полученныхъ мною отъ читателей, были легкіе намеки на, такъ сказать, нѣкоторую неправдоподобность нашей лагерной эпопеи. Не въ порядкѣ литературнаго пріема (какъ это дѣлается въ началѣ утопическихъ романовъ), а совсѣмъ всерьезъ я хочу сказать слѣдующее: во всей этой эпопеѣ нѣтъ ни одного выдуманнаго лица и ни одного выдуманнаго положенія. Фамиліи дѣйствующихъ лицъ за исключеніямъ особо оговоренныхъ — настоящія фамиліи. Изъ моихъ лагерныхъ встрѣчъ я вынужденъ былъ выкинуть нѣкоторые весьма небезынтересные эпизоды (какъ, напримѣръ, всю свирьлаговскую интеллигенцію), чтобы никого не подвести: по слѣдамъ моего пребываніи въ лагерѣ ГПУ не такъ ужъ трудно было бы установить, кто скрывается за любой вымышленной фамилій. Матеріалъ, данный въ этихъ очеркахъ, расчитанъ, въ частности, и на то, чтобы никого изъ людей, оставшихся въ лагерѣ, не подвести. Я не думаю, чтобы въ этихъ расчетахъ могла быть какая-нибудь ошибка... А оговорку о реальности даже и неправдоподобныхъ вещей мнѣ приходится дѣлать потому, что лѣто 1934 года мы провели въ условіяхъ, поистинѣ неправдоподобныхъ.
Мы были безусловно сыты. Я не дѣлалъ почти ничего, Юра не дѣлалъ рѣшительно ничего, его техникумъ оказался такой же халтурой, какъ и "Динамо". Мы играли въ теннисъ, иногда и съ Радецкимъ, купались, забирали кипы книгъ, выходили на берегъ озера, укладывались на солнышкѣ и читали цѣлыми днями. Это было курортное житье, о какомъ московскій инженеръ и мечтать не можетъ. Если бы я остался въ лагерѣ, то по совокупности тѣхъ обстоятельствъ, о которыхъ рѣчь будетъ идти ниже, я жилъ бы въ условіяхъ такой сытости, комфорта и безопасности и даже... свободы, какія недоступны и крупному московскому инженеру... Мнѣ все это лѣто вспоминалась фраза Марковича: если ужъ нужно, чтобы было ГПУ, такъ пусть оно лучше будетъ у меня подъ бокомъ. У меня ГПУ было подъ бокомъ — тотъ же Радецкій. Если бы не перспектива побѣга, я спалъ бы въ лагерѣ гораздо спокойнѣе, чѣмъ я спалъ у себя дома, подъ Москвой. Но это райское житье ни въ какой степени не противорѣчило тому, что уже въ 15 верстахъ къ сѣверу цѣлые лагпункты вымирали отъ цынги, что въ 60-ти верстахъ къ сѣверу колонизаціонный отдѣлъ разселялъ "кулацкія" семьи, цѣлое воронежское село, потерявшее за время этапа свыше шестисотъ своихъ дѣтишекъ, что еще въ 20-ти верстахъ сѣвернѣе была запиханная въ безысходное болото колонія изъ 4.000 безпризорниковъ, обреченныхъ на вымираніе... Наше райское житье въ Медгорѣ и перспективы такого матеріальнаго устройства, какого — я не знаю — добьюсь ли въ эмиграціи, ни въ какой степени и ни на одну секунду не ослабляли нашей воли къ побѣгу, какъ не ослабило ея и постановленіе отъ 7 іюня 1934 года, устанавливающее смертную казнь за попытку покинуть соціалистическій рай. Можно быть не очень хорошимъ христіаниномъ, но лучшій ББКовскій паекъ, на фонѣ "дѣвочекъ со льдомъ", въ глотку какъ-то не лѣзъ...
ПО ШПАЛАМЪ
Методическія указанія для тов. Медовара занимали очень немного времени. Книги я, само собою разумѣется, и писать не собирался, авансъ, впрочемъ, получилъ — сто рублей: единственное, что я остался долженъ совѣтской власти. Впрочемъ, и совѣтская власть мнѣ кое что должна. Какъ-нибудь сосчитаемся...
Моей основной задачей былъ подборъ футбольной команды для того, что Радецкій поэтически опредѣлялъ, какъ "вставка пера Ленинграду". Вставить, въ сущности, можно было бы: изъ трехсотъ тысячъ человѣкъ можно было найти 11 футболистовъ. Въ Медгорѣ изъ управленческихъ служащихъ я организовалъ три очень слабыя команды и для дальнѣйшаго подбора рѣшилъ осмотрѣть ближайшіе лагерные пункты. Административный отдѣлъ заготовилъ мнѣ командировочное удостовѣреніе для проѣзда на пятый лагпунктъ — 16 верстъ къ югу по желѣзной дорогѣ и 10 — къ западу, въ тайгу. На командировкѣ стоялъ штампъ: "Слѣдуетъ въ сопровожденіи конвоя".
— По такой командировкѣ, — сказалъ я начальнику Адмотдѣла, — никуда я не поѣду.
— Ваше дѣло, — огрызнулся начальникъ, — не поѣдете, васъ посадятъ — не меня.
Я пошелъ къ Медовару и сообщилъ ему объ этомъ штампѣ; по такой командировкѣ ѣхать, это — значитъ подрывать динамовскій авторитетъ.
— Такъ я же вамъ говорилъ: тамъ же сидятъ одни сплошные идіоты. Я сейчасъ позвоню Радецкому.
Въ тотъ же вечеръ мнѣ эту командировку принесли, такъ сказать, "на домъ" — въ баракъ. О конвоѣ въ ней не было уже ни слова.
На проѣздъ по желѣзной дорогѣ я получилъ 4 р. 74 коп., но, конечно, пошелъ пѣшкомъ: экономія, тренировка и развѣдка мѣстности. Свой рюкзакъ я набилъ весьма основательно, для пробы: какъ подорожные патрули отнесутся къ такому рюкзаку и въ какой степени они его будутъ ощупывать. Однако, посты, охранявшіе выходы изъ медгорскаго отдѣленія соціалистическаго рая, у меня даже и документовъ не спросили. Не знаю — почему.
Желѣзная дорога петлями вилась надъ берегомъ Онѣжскаго озера. Справа, то-есть съ запада, на нее наваливался безформенный хаосъ гранитныхъ обломковъ — слѣды ледниковъ и динамита. Слѣва, внизъ къ озеру, уходили склоны, поросшіе непроходимой чащей всякихъ кустарниковъ. Дальше разстилалось блѣдно-голубое полотно озера, изрѣзанное бухтами, губами, островами, проливами.
Съ точки зрѣнія живописной этотъ ландшафтъ въ лучахъ яркаго весенняго солнца былъ изумителенъ. Съ точки зрѣнія практической онъ производилъ угнетающее и тревожное впечатлѣніе: какъ по такимъ джунглямъ и обломкамъ пройти 120 верстъ до границы?
Пройдя верстъ пять и удостовѣрившись, что меня никто не видитъ и за мной никто не слѣдитъ, я нырнулъ къ западу, въ кусты, на развѣдку мѣстности. Мѣстность была окаянная. Каменныя глыбы, навороченный въ хаотическомъ безпорядкѣ, на нихъ какимъ-то чудомъ росли сосны, ели, можевельникъ, иногда осина и береза. Подлѣсокъ состоялъ изъ кустарника, черезъ который приходилось не проходить, а продираться. Кучи этихъ глыбъ вдругъ обрывались какими-то гигантскими ямами, наполненными водой, камни были покрыты тонкимъ и скользкимъ слоемъ мокраго мха. Потомъ, верстахъ въ двухъ, камни кончились, и на ширину метровъ двухсотъ протянулось какое-то болото, которое пришлось обойти съ юга. Дальше — снова начинался поросшій лѣсомъ каменный хаосъ, подымавшійся къ западу какимъ-то невысокимъ хребтомъ. Я взобрался и на хребетъ. Онъ обрывался почти отвѣсной каменной стѣной, метровъ въ 50 высоты, на верху были "завалы", которые, впослѣдствіи, въ дорогѣ, стоили намъ столько времени и усилій. Это былъ въ безпорядкѣ наваленный буреломъ, сваленныя бурями деревья, съ перепутавшимися вѣтками, корнями, сучьями. Пробраться вообще невозможно, нужно обходить. Я обошелъ. Внизу, подъ стѣной, ржавѣло какое-то болото, поросшее осокой. Я кинулъ въ него булыжникъ. Булыжникъ плюхнулся и исчезъ. Да, по такимъ мѣстамъ бѣжать — упаси Господи. Но съ другой стороны, въ такія мѣста нырнуть и тутъ ужъ никто не разыщетъ.
Я вышелъ на желѣзную дорогу. Оглянулся — никого. Прошелъ еще версты двѣ и сразу почувствовалъ, что смертельно усталъ, ноги не двигаются. Возбужденіе отъ первой прогулки на волѣ прошло, а мѣсяцы одиночки, УРЧа, лагернаго питанія и нервовъ — сказывались. Я влѣзъ на придорожный камень, разостлалъ на немъ свою кожанку, снялъ рубашку, подставилъ свою одряхлѣвшую за эти мѣсяцы кожу подъ весеннее солнышко, закурилъ самокрутку и предался блаженству.
Хорошо... Ни лагеря, ни ГПУ... Въ травѣ дѣловито, какъ Медоваръ, суетились какія-то козявки. Какая-то пичужка со столь же дѣловитымъ видомъ перелетала съ дерева на дерево и оживленно болтала сама съ собой... Дѣла у нея явственно не была никакого, а болтаетъ и мечется она просто такъ, отъ весны, отъ радости птичьей своей жизни. Потомъ мое вниманіе привлекла бѣлка, которая занималась дѣломъ еще болѣе серьезнымъ: ловила собственный хвостъ. Хвостъ удиралъ, куда глаза глядятъ, и бѣлка во погонѣ за своимъ пушистымъ продолженіемъ вьюномъ вертѣлась вокругъ ствола мохнатой ели, рыжимъ, солнечнымъ зайчикомъ мелькала въ вѣтвяхъ. Въ этой игрѣ она развивала чудовищное количество лошадиныхъ силъ, это не то, что я: верстъ двѣнадцать прошелъ и уже выдохся. Мнѣ бы такой запасъ энергіи — дня не просидѣлъ бы въ СССР. Я приподнялся, и бѣлочка замѣтила меня. Ея тоненькій, подвижной носикъ выглянулъ изъ-за ствола, а хвостъ остался тамъ, гдѣ былъ — съ другой стороны. Мое присутствіе бѣлкѣ не понравилось: она крѣпко выругалась на своемъ бѣличьемъ языкѣ и исчезла. Мнѣ стало какъ-то и грустно, и весело: вотъ живетъ же животина — и никакихъ тебѣ ГПУ...
ВОЛЬНОНАЕМНЫЕ
По полотну дороги шагали трое какихъ-то мужиковъ, одинъ постарше — лѣтъ подъ пятьдесятъ, двое другихъ помоложе — лѣтъ подъ двадцать-двадцать пять. Они были невыразимо рваны. На ногахъ у двоихъ были лапти, на ногахъ у третьяго — рваные сапоги. Весь ихъ багажъ состоялъ изъ микроскопическихъ узелковъ, вѣроятно, съ хлѣбомъ. На бѣглецовъ изъ лагеря они какъ-то не были похожи. Подходя, мужики поздоровались со мной. Я отвѣтилъ, потомъ старикъ остановился и спросилъ:
— А спичекъ нѣтути, хозяинъ?
Спички были. Я вытащилъ коробку. Мужикъ перелѣзъ черезъ канаву ко мнѣ. Видъ у него былъ какой-то конфузливый.
— А можетъ, и махорочка-то найдется?.. Я объ спичкахъ только такъ, чтобы посмотрѣть, каковъ человѣкъ есть...
Нашлась и махорочка. Мужикъ бережно свернулъ собачью ножку. Парни робко топтались около, умильно поглядывая на махорку. Я предложилъ и имъ. Они съ конфузливой спѣшкой подхватили мой кисетъ и такъ же бережно, не просыпая ни одной крошки, стали свертывать себѣ папиросы. Усѣлись, закурили.
— ДЈнъ пять уже не куривши, — сказалъ старикъ, — тянетъ — не дай, Господи...
— А вы откуда? Заключенные?
— Нѣтъ, по вольному найму работали, на лѣсныхъ работахъ. Да нѣту никакой возможности. Еле живы вырвались.
— Заработать собирались, — саркастически сказалъ одинъ изъ парней. — Вотъ и заработали, — онъ протянулъ свою ногу въ рваномъ лаптѣ, — вотъ и весь заработокъ.
Мужикъ какъ-то виновато поежился:
— Да кто-жъ его зналъ...
— Вотъ, то-то и оно, — сказалъ парень, — не знаешь — не мути.
— Что ты все коришь? — сказалъ мужикъ, — пріѣхали люди служащіе, люди государственные, говорили толкомъ — за кубометръ погрузки — рупь съ полтиной. А какъ сюда пріѣхали, хорошая погрузка — за полъ версты баланы таскать, да еще и по болоту. А хлѣба-то полтора фунта — и шабашъ, и болѣ ничего, каши и той нѣту. Потаскаешь тутъ.
— Значитъ, завербовали васъ?
— Да, ужъ такъ завербовали, что дальше некуда...
— Одежу собирались справить, — ядовито сказалъ парень, — вотъ тебѣ и одежа.
Мужикъ сдѣлалъ видъ, что не слышалъ этого замѣчанія.
— Черезъ правленіе колхоза, значитъ. Тутъ не поговоришь. Приказъ вышелъ — дать отъ колхоза сорокъ человѣкъ, ну — кого куда. Кто на торфы подался, кто куда... И договоръ подписывали, вотъ тебѣ и договоръ. Теперь далъ бы Богъ домой добраться.
— А дома-то что? — спросилъ второй парень.
— Ну, дома-то оно способнѣе, — не особенно увѣренно сказалъ мужикъ. — Дома-то — оно не пропадешь.
— Пропадешь въ лучшемъ видѣ, — сказалъ ядовитый парень. — Дома для тебя пироги пекутъ. Пріѣхалъ, дескать, Федоръ Ивановичъ, заработочекъ, дескать, привезъ...
— Да и трудодней нѣту, — грустно замѣтилъ парень въ сапогахъ. — Кто и съ трудоднями, такъ ѣсть нечего, а ужъ ежели и безъ трудодней — прямо ложись и помирай...
— А откуда вы?
— Да мы Смоленскіе. А вы кто будете? Изъ начальства здѣшняго?
— Нѣтъ, не изъ начальства, заключенный въ лагерѣ.
— Ахъ, ты, Господи... А вотъ люди сказываютъ, что въ лагерѣ теперь лучше, какъ на волѣ, хлѣбъ даютъ, кашу даютъ... (Я вспомнилъ девятнадцатый кварталъ — и о лагерѣ говорить не хотѣлось). А на волѣ? — продолжалъ мужикъ. — Вотъ тебѣ и воля: сманили сюда, въ тайгу, ѣсть не даютъ, одежи нѣту, жить негдѣ, комары поѣдомъ ѣдятъ, а домой не пускаютъ, документа не даютъ. Мы ужъ Христомъ Богомъ молили: отпустите, видите сами — помремъ мы тутъ. Отощавши мы еще изъ дому, силъ нѣту, а баланы самые легкіе — пудовъ пять... Да еще по болоту... Все одно, говорю — помремъ... Ну, пожалѣли, дали документъ. Вотъ такъ и идемъ, гдѣ хлѣба попросимъ, гдѣ что... Верстовъ съ пятьдесятъ на чугункѣ проѣхали... Намъ бы до Питера добраться.
— А въ Питерѣ что? — спросилъ ядовитый парень. — Накормятъ тебя въ Питерѣ, какъ же...
— Въ Питерѣ накормятъ, — сказалъ я. Я еще не видалъ примѣра, чтобы недоѣдающій горожанинъ отказалъ въ кускѣ хлѣба голодающему мужику. Годъ тому назадъ, до паспортизаціи, столицы были запружены нищенствующими малороссійскими мужиками — давали и имъ.
— Ну что-жъ, придется христорадничать, — покорно сказалъ мужикъ.
— Одежу думалъ справить, — повторилъ ядовитый парень. — А теперь что и было, разлѣзлось: домой голышемъ придемъ. Ну, пошли, что ли?
Трое вольныхъ гражданъ СССР поднялись на ноги. Старикъ умильно посмотрѣлъ на меня: — А можетъ, хлѣбца лишняго нѣту? А?
Я сообразилъ, что до лагпункта я могу дойти и не ѣвши, а тамъ ужъ какъ-нибудь накормятъ. Я развязалъ свой рюкзакъ, досталъ хлѣбъ, вмѣстѣ съ хлѣбомъ лежалъ завернутый кусочекъ сала, граммовъ на сто. При видѣ сала у мужика дыханье сперло.
"Сало, вишь ты, Господи Боже!" — Я отдалъ мужикамъ и сало. Кусочекъ былъ съ аптекарской точностью подѣленъ на три части... "Вотъ это, значитъ, закусимъ, — восторженно сказалъ мужикъ, — эхъ, ты, на что ужъ есесерія, а и тутъ добрые люди не перевелись"...
Вольнонаемные ушли. Бѣлочка снова выглянула изъ-за еловаго ствола и уставилась на меня бусинками своихъ глазъ... Бусинки какъ будто говорили: что, культуру строите? въ Бога вѣруете? науки развиваете? — ну, и дураки...
Возражать было трудно. Я одѣлся, навьючилъ на спину свой рюкзакъ и пошелъ дальше.
Верстахъ въ двухъ, за поворотомъ дороги, я наткнулся на своихъ мужичковъ, которыхъ обыскивалъ вохровскій патруль: одинъ вохровцевъ общупывалъ, другой разсматривалъ документы, третій стоялъ въ шагахъ десяти, съ винтовкой на изготовку. Было ясно, что будутъ "провѣрять" и меня. Документы у меня были въ полномъ порядкѣ, но безчисленные обыски, которымъ я, какъ и каждый гражданинъ "самой свободной республики въ мірѣ", подвергался на своемъ вѣку, выработали, вмѣсто привычки, какую-то особенно отвратительную нервную, рабью дрожь передъ каждою такой "провѣркой", даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда такая "провѣрка" никакого рѣшительно риска за собой не влекла, какъ было и въ данномъ случаѣ. И сейчасъ же въ мозгу привычный совѣтскій "условный рефлексъ": какъ бы этакъ извернуться.
Я подошелъ къ группѣ вохровцевъ, сталъ, засунулъ руки въ карманы и посмотрѣлъ на все происходящее испытующимъ окомъ:
— Что, бѣгунковъ подцѣпили?
Вохровецъ недовольно оторвался отъ документовъ.
— Чортъ его знаетъ, можетъ, и бѣгунки. А вы кто? Изъ лагеря?
Положеніе нѣсколько прояснилось: вохровецъ спросилъ не грубо: "вы заключенный", а "дипломатически" — "вы не изъ лагеря?"
— Изъ лагеря, — отвѣтилъ я административнымъ тономъ.
— Чортъ его знаетъ, — сказалъ вохровецъ, — документы-то какіе-то липоватые...
— А ну-ка, покажите-ка ихъ сюда...
Вохровецъ протянулъ мнѣ нѣсколько бумажекъ. Въ нихъ нелегко было разобраться и человѣку съ нѣсколько большими стажемъ, чѣмъ вохровецъ. Тутъ было все, что навьючиваетъ на себя многострадальный совѣтскій гражданинъ, дѣйствующій по принципу — масломъ каши не испортишь: чортъ его знаетъ, какая именно бумажка можете показаться наиболѣе убѣдительной носителямъ власти и нагановъ... Былъ же у меня случай, когда отъ очень непріятнаго ареста меня спасъ сезонный желѣзнодорожный билетъ, который для "властей" наиболѣе убѣдительно доказывалъ мою самоличность, и это при наличіи паспорта, профсоюзной книжки, постояннаго удостовѣренія газеты "Трудъ", ея командировочнаго удостовѣренія и цѣлой коллекціи бумаженокъ болѣе мелкаго масштаба. Исходя изъ этого принципа, одинъ изъ парней захватилъ съ собой и свидѣтельство Загса о рожденіи у него дочки Евдокіи. Евдокія помогала плохо: самый важный документъ — увольнительное свидѣтельство было выдано профсоюзомъ, а профсоюзъ такихъ удостовѣреній выдавать не имѣетъ права. И вообще бумажка была, какъ говорилъ вохровецъ, "липоватая". Во многихъ мѣстахъ СССР, не вездѣ, но почти вездѣ, крестьянинъ, отлучающійся за предѣлы своего района, долженъ имѣть увольнительное удостовѣреніе отъ сельсовѣта: они обычно выдаются за литръ водки. За какой-то литръ получилъ свою бумажку и этотъ парень, по лицу его видно было, что за эту-то бумажку онъ боялся больше всего: парень стоялъ ни живъ, ни мертвъ.
— Нѣтъ, — сказалъ я чуть-чуть разочарованнымъ тономъ, — бумаги въ порядкѣ. Съ какихъ вы разработокъ? — сурово спросилъ я мужика.
— Да съ Массельги, — отвѣтилъ мужикъ робко.
— А кто у васъ тамъ прорабъ? Кто предрабочкома? — словомъ, допросъ былъ учиненъ по всей формѣ. Вохровцы почувствовали, что передъ ними "лицо административнаго персонала".
— Обыскивали? — спросилъ я.
— Какъ же.
— А сапоги у этого снимали?
— Нѣтъ, объ сапогахъ позабыли. А ну, ты, сымай сапоги...
Въ сапогахъ, конечно, не было ничего, но бумажка была забыта.
— Ну, пусть топаютъ, — сказалъ я, — тамъ на Званкѣ разберутся.
— Ну, катись катышкомъ, — сказалъ старикъ изъ вохровцевъ. Патруль повернулся и пошелъ на сѣверъ, документовъ у меня такъ и не спросилъ, мы съ мужичками пошли дальше на югъ. Отойдя съ версту, я сдѣлалъ парнишкѣ свирѣпое внушеніе: чтобы другой разъ не ставилъ литра водки, кому не нужно, чтобы по пути отставалъ на полверсты отъ своихъ товарищей и, буде послѣдніе наткнутся на патруль, нырять въ кусты и обходить сторонкой. Что касается линіи рѣки Свирь и Званки, то тутъ я никакихъ путныхъ совѣтовъ дать не могъ, я зналъ, что эти мѣста охраняются особенно свирѣпо, но болѣе подробныхъ данныхъ у меня не было. Парень имѣлъ видъ пришибленный и безнадежный.
— Такъ вѣдь никакъ же не отпускали, я тамъ одному, дѣйствительно поставилъ — не литръ, на литръ денегъ не хватило — поллитра, развѣ-жъ я зналъ...
Мнѣ оставалось только вздохнуть. И этотъ мужикъ, и эти парни — это не Акульшинъ. Эти пропадутъ, все равно пропадутъ: имъ не только до Свири, а и до Петрозаводска не дойти... Пожилой мужичекъ былъ такъ растерянъ, что на мои совѣты только и отвѣчалъ: да, да, какъ-же, какъ-же, понимаемъ, понимаемъ, но онъ и плохо слушалъ ихъ, и не понималъ вовсе. Парень въ сапогахъ жалобно скулилъ на свою судьбу, жаловался на жуликовъ изъ рабочкома, зря вылакавшихъ его поллитровку, ядовитый парень шагалъ молча и свирѣпо. Мнѣ стало какъ-то очень тяжело... Я распрощался со своими спутниками и пошелъ впередъ.
ПЯТЫЙ ЛАГПУНКТЪ
Пятый лагпунктъ былъ наиболѣе привиллегированнымъ изъ производительныхъ пунктовъ ББК. Занимался онъ добычей кокоръ. Кокора — это сосновый стволъ съ отходящимъ отъ него приблизительно подъ прямымъ угломъ крупнымъ корневищемъ. Кокоры эти шли для шпангоутовъ и форштевней всякаго рода барокъ, баржъ, баркасовъ и всего прочаго, что строилось на Пинужской, Сорокской и Кемской верфяхъ ББК. Техническія требованія къ этихъ кокорамъ были довольно суровы — иногда изъ ста стволовъ пригодныхъ оказывалось тридцать, иногда — только три. А безъ кокоръ всѣ эти верфи, съ ихъ 6—7-мью тысячами заключенныхъ рабочихъ, были бы обречены на бездѣйствіе.
Въ виду этого, пятый лагпунктъ находился на нѣкоемъ своеобразномъ хозрасчетѣ: онъ обязанъ былъ поставить столько-то кокоръ въ мѣсяцъ и получалъ за это столько-то продовольствія. Во "внутреннія дѣла" пункта лагерь почти не вмѣшивался, и начальникъ пункта, тов. Васильчукъ, изворачивался тамъ въ мѣру разумѣнія своего — еще больше въ мѣру изворотливости своей. Изворотливости же у него были большіе запасы. И заботливости — тоже. Въ силу этого обстоятельства лагпунктъ питался вполнѣ удовлетворительно — такъ, примѣрно, не хуже, чѣмъ питаются рабочіе московскихъ заводовъ — по качеству пищи, и значительно лучше — по ея калорійности. И кромѣ того, для добычи кокоръ требовались очень сильные люди, ибо приходилось возиться не съ баланами, а съ цѣлыми стволами. Въ виду всего этого, я твердо расчитывалъ на то, что на пятомъ лагпунктѣ я ужъ подыщу людей, необходимыхъ для "вставки пера Ленинграду"...
Начальникъ лагпункта, тов. Васильчукъ, былъ типомъ весьма необычнымъ для совѣтской администраціи. Петербургскій рабочій, бывалый коммунистъ, онъ получилъ три года за какое-то участіе въ какомъ-то партійномъ уклонѣ и шесть лѣтъ уже просидѣлъ. Дальнѣйшіе года ему набавлялись автоматически. Одну такую бумажку онъ какъ-то получилъ при мнѣ. Въ бумажкѣ было написано — просто и прозаически:
..."На основаніи постановленія ПП ОГПУ отъ такого-то числа, за номеромъ такимъ-то, предлагается вамъ объявить подъ расписку з/к Васильчуку, А. А., что срокъ его заключенія продленъ до ..."
И точка. Васильчукъ получилъ уже четвертую, какъ онъ говорилъ, "годовую отсрочку". Онъ флегматически подмахнулъ свою подпись подъ этой бумажкой и сказалъ:
— Вотъ, значитъ, и "объявилъ подъ расписку"... Это попасть сюда — просто... А выбраться — это еще придется подождать...
Бывшихъ коммунистовъ, высланныхъ сюда не за воровство, не за убійство, не за изнасилованіе, а за неповиновеніе мановеніямъ сталинскихъ рукъ, — не выпускаютъ, повидимому, никогда, и не собираются выпускать. Васильчукъ же не собирался каяться.
— И вотъ, буду я сидѣть здѣсь до скончанія, — говорилъ онъ. — Сволочь — та пусть кается, а мы пока здѣсь посидимъ... Ей-Богу, чѣмъ на хлѣбозаготовки ѣзжать, лучше ужъ здѣсь сидѣть... А физкультурой буду заниматься обязательно — иначе сгніешь здѣсь ко всѣмъ чертямъ и міровой революціи не увидишь... А міровую революцію хорошо бы повидать... Вотъ кабачекъ будетъ — а?
Пятый лагпунктъ я посѣтилъ всего четыре раза, но съ Васильчукомъ у насъ сразу же установились отношенія не очень интимныя, но, во всякомъ случаѣ, дружественныя. Во-первыхъ, Васильчуку и его помощнику — бухгалтеру — здѣсь была тоска смертная и, во-вторыхъ, моя физкультурная спеціальность была встрѣчена въ пятомъ лагпунктѣ съ такими же симпатіями и упованіями, съ какими она встрѣчалась на заводахъ, въ вузахъ и во многихъ другихъ мѣстахъ...
НЕМНОГО О ФИЗКУЛЬТУРѢ
Въ Россіи есть цѣлый рядъ положительныхъ явленій, которыя власть засчитываетъ въ списокъ своихъ "достиженій". Сюда войдетъ и укрѣпленіе семьи, и болѣе здоровая сексуальная жизнь молодежи, и парашютистки, и тяга къ учебѣ, и многое другое — въ томъ числѣ и физкультура. Эмигрантская печать напрасно беретъ этотъ терминъ въ иронически кавычки. Это — нужный терминъ. Онъ охватываетъ все то, доступное индивидуальнымъ усиліямъ, что служить человѣческому здоровью. Это будетъ "гимнастика" въ томъ смыслѣ, въ какомъ Платонъ противопоставлялъ ее медицинѣ. Интересъ къ физкультурѣ существуетъ огромный, въ старой Россіи — невиданный... Но этотъ интересъ — какъ и семья, и парашютистки, и многое другое — возникъ не въ результатѣ усилій власти, а какъ реакція на прочія ея достиженія. Рабочіе, надорванные непосильнымъ трудомъ, студенты, изъѣденные туберкулезомъ, служащіе, очумѣлые отъ вѣчныхъ перебросокъ и перестроекъ, все это — недоѣдающее, истрепанное, охваченное тѣмъ, что, по оффиціальному термину, зовется "совѣтской изношенностью", съ жадностью — совершенно естественной въ ихъ положеніи — тянется ко всему, что можетъ поддержать ихъ растрачиваемыя силы.
Я хотѣлъ бы привести одинъ примѣръ, который, какъ мнѣ кажется, можетъ внести нѣкоторую ясность въ "діалектику" совѣтскихъ достиженій.
Въ декабрѣ 1928 года я обслѣдовалъ лыжныя станціи Москвы. Обслѣдованіе выяснило такіе факты. Рядовые рабочіе и служащіе по своимъ выходнымъ днямъ часовъ съ семи-восьми утра пріѣзжаютъ на лыжныя станціи и становятся въ очередь за лыжами. Стоятъ и два, и три, и четыре часа — иногда получаютъ лыжи — иногда не получаютъ. Лыжъ не хватаетъ потому, что власть на ихъ же, этихъ рабочихъ и служащихъ, деньги (профсоюзные взносы) строитъ предназначенные для втиранія очковъ стадіоны и не строитъ предназначенныхъ для массы лыжныхъ станціи и фабрикъ... Такъ она не строитъ ихъ и до сихъ поръ. Но каждому иностранцу власть можетъ показать великолѣпный стадіонъ "Динамо" и сказать — вотъ наши достиженія. Стадіонъ "Динамо" обошелся около 12 милліоновъ рублей — и это при условіи использованія почти безплатнаго труда заключенныхъ, а лыжныхъ станцій подъ Москвой — путныхъ, хотя и маленькихъ — только двѣ: одна военнаго вѣдомства, другая союза служащихъ, построенная мною въ результатѣ жестокой борьбы и очень существеннаго риска... Стадіонъ занять публикой раза три въ годъ, а остальные 360 дней — пусть абсолютно; лыжныя станціи работаютъ ежедневно — и съ работой справиться не могутъ. Гимнастическаго зала въ Москвѣ нѣтъ почти ни одного.
Живая потребность массъ въ физкультурѣ, вызванная не усиліями власти, а условіями жизни, — остается удовлетворенной по моимъ подсчетамъ примѣрно на 10—12%. Но передъ самымъ арестомъ я все еще пытался воевать, — правда, уже очень нерѣшительно — противъ проекта постройки въ Измайловскомъ звѣринцѣ гигантскаго "физкультурнаго комбината" съ колизейнаго типа стадіонами, расчитанными на 360.000 (!) сидячихъ мѣстъ, стоимостью въ 60 милліоновъ рублей, при использованіи того же труда заключенныхъ. Кажется, что этотъ комбинатъ все-таки начали строить.
Если вы вмѣсто физкультуры возьмете тягу къ учебѣ — то вы увидите, какъ оба эти явленія рождаются и развиваются по, такъ сказать, строго параллельнымъ линіямъ. Тяга къ учебѣ родилась, какъ реакція противъ данныхъ — совѣтскихъ — условій жизни, она охватываетъ десятки милліоновъ, и она остается неудовлетворенной: школъ нѣтъ, учебниковъ нѣтъ, программъ нѣтъ, преподавателей нѣтъ. Даже и тѣ школы, которыя числятся не только на бумагѣ (бумажныхъ школъ — очень много), отнимаютъ у молодежи чудовищное количество времени и силъ и не даютъ почти ничего, — результаты этого обученія видны по тѣмъ выдержкамъ изъ "Правды", которыя время отъ времени приводятся на страницахъ эмигрантскихъ газетъ. Школьныя зданія — даже въ Москвѣ — заняты въ три смѣны, и уже къ серединѣ второй смѣны въ классахъ рѣшительно нечѣмъ дышать, и ребята уже не соображаютъ ничего. Но стадіоны строятся, а школы — нѣтъ. Строятся канцеляріи, интуристскія гостиницы, дома совѣтовъ и союзовъ — но даже въ Москвѣ за семь лѣтъ моего тамъ пребыванія было построено не то 4, не то 5 новыхъ школьныхъ зданій. И уже подъ Москвой — хотя бы въ той же Салтыковкѣ съ ея 10-12 тысячами жителей и съ двумя школами — власть не въ состояніи даже поддерживать существующихъ школьныхъ зданій...
Объяснять все это глупостью совѣтскаго режима было бы наивно. Совѣтскій режимъ — что бы тамъ ни говорили — организованъ не для нуждъ страны, а для міровой революціи. Нужды страны ему, по существу, безразличны. Я не представляю себѣ, чтобы съ какой бы то ни было другой точки зрѣнія можно было логически объяснить и исторію съ лыжными станціями, и исторію со школами, и эпопею съ коллективизаціей, и трагедію съ лагерями. Но если вы станете именно на эту точку зрѣнія, то весь совѣтскій бытъ — и въ мелочахъ, и въ "гигантахъ" — получаетъ логическое и исчерпывающее объясненіе... Оно можетъ нравиться и можетъ не нравиться. Но, я думаю, другого — не найти...
Пятый лагпунктъ, въ силу своеобразнаго сцѣпленія обстоятельствъ нѣсколько изолированный отъ дѣйствія всесоюзнаго кабака, — былъ сытъ. И когда мѣсяцемъ позже я пришелъ сюда уже не для вылавливанія футболистовъ, а для организаціи физкультуры, полуторатысячная масса "лагернаго населенія" въ теченіе одного выходного дня построила гимнастическій городокъ и выровняла три площадки для волейбола. Въ карельскихъ условіяхъ это была весьма существенная работа — приходилось выворачивать камни по пять-десять тоннъ вѣсомъ и таскать носилками песокъ для засыпки образовавшихся ямъ. Но эта работа была сдѣлана быстро и дружно. Когда я сталъ проводить занятія по легкой атлетикѣ, то выяснилось, что изъ людей, пытавшихся толкать ядро, шесть человѣкъ — безъ всякой тренировки и, ужъ конечно, безъ всякаго стиля — толкнули его за 11 метровъ. Какой-то крестьянинъ среднихъ лѣтъ, въ сапогахъ и арестантскомъ платьѣ, тоже безъ тренировки и тоже безъ стиля, прыгнулъ въ длину 5,70; онъ же толкнулъ ядро на 11.80. Это и есть та черноземная сила, которая русскимъ дореволюціоннымъ спортомъ не была затронута совершенно, но которая, при нѣкоторой тренировкѣ, могла бы не оставить ни одной странѣ ни одного мірового рекорда. Я не могу объ этомъ говорить съ цифрами въ рукахъ, какъ могу говорить о рекордахъ, но я совершенно увѣренъ въ томъ, что въ этомъ "черноземѣ" — не только физическая сила. Отсюда шли Мамонтовы, Морозовы, Рябушинскіе, Горькіе и Рѣпины. Если сейчасъ физическая сила подорвана звѣрски, то интеллектуальная сила этого "чернозема", закаленная полуторадесятилѣтіемъ чудовищнаго напряженія и опыта, планами и разочарованіями, совѣтской агитаціей и совѣтской реальностью, построитъ такую будущую Россію, о какой намъ сейчасъ трудно и мечтать... Но это — въ томъ случаѣ, если физическихъ силъ хватитъ.
"СЕКРЕТЪ"
Изъ пятаго лагпункта я возвращался въ Медгору пѣшкомъ. Стояло очаровательное весеннее утро — такое утро, что не хотѣлось думать ни о революціи, ни о побѣгѣ. По обочинамъ дороги весело болтали весенніе ручейки, угрюмость таежнаго болота скрашивалась беззаботной болтовней птичьяго населенія и буйной яркостью весеннихъ цвѣтовъ. Я шелъ и думалъ о самыхъ веселыхъ вещахъ — и мои думы были прерваны чьимъ-то возгласомъ:
— ГалЈ, тов. Солоневичъ, не узнаете?
Узнавать было некого. Голосъ исходилъ откуда-то изъ-подъ кустовъ. Тамъ была густая тѣнь, и мнѣ съ моей освѣщенной солнцемъ позиціи не было видно ничего. Потомъ изъ кустовъ выползъ какой-то вохровецъ съ винтовкой въ рукѣ и съ лицомъ, закрытымъ "накомарникомъ" — густой тюлевой сѣткой отъ комаровъ:
— Не узнаете? — повторилъ вохровецъ.
— Вы бы еще мѣшокъ на голову накрутили — совсѣмъ легко было бы узнать...
Вохровецъ снялъ свой накомарникъ, и я узналъ одного изъ урокъ, въ свое время околачивавшихся въ третьемъ лагпунктѣ.
— Какъ это вы въ вохръ попали? "Перековались"?
— Перековался къ чортовой матери, — сказалъ урка. — Не житье, а маслянница. Лежишь этакъ цѣльный день животомъ вверхъ, пташки всякія бѣгаютъ...
— Что, въ секретѣ лежите?
— Въ секретѣ. Бѣгунковъ ловимъ. Махорочки у васъ разжиться нельзя? Посидимъ, покуримъ. Степка, катай сюда!
Изъ-подъ того же куста вылѣзъ еще одинъ вохровецъ — мнѣ незнакомый. Сѣли, закурили.
— Много вы этихъ бѣгунковъ ловите? — спросилъ я.
— Чтобъ очень много, такъ нѣтъ. А — ловимъ. Да тутъ, главное дѣло, не въ ловлѣ. Намъ бы со Степкой тутъ до конца лѣта доболтаться, а потомъ — айда, въ Туркестанъ, въ теплые края.
— Выпускаютъ?
— Не, какое тамъ! Сами по себѣ. Вотъ сидимъ, значитъ, и смотримъ, какъ гдѣ какіе секреты устроены. Да тутъ, главное дѣло, только по дорогѣ или около дороги и пройти можно: какъ саженъ сто въ сторону — такъ никакая сила: болото. А гдѣ нѣтъ болота — тамъ вотъ секреты, вродѣ насъ: подъ кустикомъ — яма, а въ ямѣ вохра сидитъ, все видитъ, а ея не видать...
Слышать о такихъ секретахъ было очень неуютно. Я поразспросилъ урку объ ихъ разстановкѣ, но урка и самъ немного зналъ, да и секреты вокругъ пятаго лагпункта меня не очень интересовали. А воображеніе уже стало рисовать: вотъ идемъ мы такъ съ Юрой, и изъ подъ какого-то кустика: "а ну стой" — и тогда гибель... Весеннія краски поблекли, и міръ снова сталъ казаться безвыходно, безвылазно совѣтскимъ...
СЛЕТЪ УДАРНИКОВЪ
Я пришелъ въ Медгору свѣтлымъ весеннимъ вечеромъ. Юры въ баракѣ не было. На душѣ было очень тоскливо. Я рѣшилъ пойти послушать "вселагерный слетъ лучшихъ ударниковъ ББК", который подготовлялся уже давно, а сегодня вечеромъ открывался въ огромномъ деревянномъ зданіи ББК-овскаго клуба. Пошелъ.
Конечно, переполненный залъ. Конечно, доклады. Докладъ начальника производственной части Вержбицкаго: "Какъ мы растемъ." Какъ растутъ совхозы ББК, добыча лѣса, гранита, шуньгита, апатитовъ, какъ растетъ стройка туломской электростанціи, сорокскаго порта, стратегическихъ шоссе къ границѣ. Что у насъ будетъ по плану черезъ годъ, что черезъ три года. Къ концу второй пятилѣтки мы будемъ имѣть такія-то и такія-то достиженія... Въ началѣ третьей пятилѣтки мы будемъ имѣть...
Вторая пятилѣтка "по плану" должна была ликвидировать классы и какъ будто бы вслѣдствіе этого ликвидировать и лагери... Но изъ доклада явствуетъ, во всякомъ случаѣ, одно: количество каторжныхъ рабочихъ рукъ "должно расти" по меньшей мѣрѣ "въ уровень" съ остальными темпами соціалистическаго роста. Если и сейчасъ этихъ рукъ — что-то около трехсотъ тысячъ паръ, то что же будетъ "въ условіяхъ дальнѣйшаго роста?"
Потомъ докладъ начальника КВО тов. Корзуна: "Какъ мы перевоспитываемъ, какъ мы перековываемъ"... Совѣтская исправительная система построена не на принципѣ наказанія, а на принципѣ трудового воздѣйствія. Мы не караемъ, а внимательнымъ, товарищескимъ подходомъ прививаемъ заключеннымъ любовь къ "свободному, творческому, соціалистическому труду"...
Въ общемъ Корзунъ говоритъ все то же, что въ свое время по поводу открытія Бѣломорско-Балтійскаго канала писалъ Горькій. Но съ одной только разницей: Горькій вралъ въ расчетѣ на неосвѣдомленность "вольнаго населеніи" Россіи и паче всего заграницы. На какую же публику расчитываетъ Корзунъ? Здѣсь всѣ знаютъ объ этой исправительной системѣ, которая "не караетъ, а перевоспитываетъ", здѣсь всѣ знаютъ то, что знаю уже я: и девятнадцатые кварталы, и диковскіе овраги, и безсудные разстрѣлы. Многіе знаютъ и то, чего я еще не знаю и Богъ дастъ и не успѣю узнать: штрафные командировки, вродѣ Лѣсной Рѣчки, "роты усиленнаго режима" съ полуфунтомъ хлѣба въ день и съ оффиціальнымъ правомъ каждаго начальника колонны на смертный приговоръ, страшныя работы на Морсплавѣ около Кеми, когда люди зимой по сутками подрядъ работаютъ по поясъ въ ледяной водѣ незамерзающихъ горныхъ рѣчекъ. Эта аудиторія все это знаетъ.
И — ничего. И даже апплодируютъ... Н-да, въ совѣтской исторіи поставлено много "міровыхъ рекордовъ", но ужъ рекордъ наглости поставленъ по истинѣ "всемірно-историческій". Такъ врать и такъ къ этому вранью привыкнуть, какъ врутъ и привыкли ко вранью въ Россіи, — этого, кажется, не было еще нигдѣ и никогда...
Потомъ на сценѣ выстраивается десятка три какихъ-то очень неплохо одѣтыхъ людей. Это ударники, "отличники", лучшіе изъ лучшихъ. Гремитъ музыка и апплодисменты. На грудь этимъ людямъ Корзунъ торжественно цѣпляетъ ордена Бѣлморстроя, что въ лагерѣ соотвѣтствуетъ примѣрно ордену Ленина. Корзунъ столь же торжественно пожимаетъ руки "лучшимъ изъ лучшихъ" и представляетъ ихъ публикѣ: вотъ Ивановъ, бывшій воръ... создалъ образцовую бригаду... перевыполнялъ норму на... процентовъ, вовлекъ въ перевоспитаніе столько-то своихъ товарищей. Ну и такъ далѣе. Лучшіе изъ лучшихъ горделиво кланяются публикѣ. Публика апплодируетъ, въ заднихъ рядахъ весело посмѣиваются, лучшіе изъ лучшихъ выходятъ на трибуну и повѣствуютъ о своей "перековкѣ". Какой-то парень цыганистаго вида говоритъ на великолѣпномъ одесскомъ жаргонѣ, какъ онъ воровалъ, убивалъ, нюхалъ кокаинъ, червонцы поддѣлывалъ и какъ онъ теперь, на великой стройкѣ соціалистическаго отечества, понялъ, что... ну и такъ далѣе. Хорошо поетъ собака, убѣдительно поетъ. Ужъ на что я стрѣляный воробей, а и у меня возникаетъ сомнѣніе: чортъ его знаетъ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ перековался... Начинаются клятвы въ вѣрности "отечеству всѣхъ трудящихся", предстоитъ торжественное заключеніе какихъ-то соціалистически-соревновательныхъ договоровъ, я кое-что по профессіональной привычкѣ записываю въ свой блокнотъ — записанное все-таки не такъ забывается, но чувствую, что дальше я уже не выдержу. Максимальная длительность совѣтскихъ засѣданій, какую я могу выдержать, — это два часа. Затѣмъ тянетъ не стѣнку лѣзть.
Я пробрался сквозь толпу, загораживавшую входъ въ залъ. У входа меня остановилъ вохръ: "Куда это до конца засѣданія, заворачивай назадъ". Я спокойно поднесъ къ носу вохры свой блокнотъ: на радіо сдавать. Вохра, конечно, ничего не поняла, но я вышелъ безъ задержки.
Рѣшилъ зайти въ Динамо, не безъ нѣкоторой задней мысли выпить тамъ и закусить. Изъ комнаты Батюшкова услышалъ голосъ Юры. Зашелъ. Въ комнатѣ Батюшкова была такая картина: На столѣ стояло нѣсколько водочныхъ бутылокъ, частью уже пустыхъ, частью еще полныхъ. Тамъ же была навалена всякая снѣдь, полученная изъ вольнонаемной чекисткой столовой. За столомъ сидѣлъ начальникъ оперативной части медгорскаго отдѣленія ОГПУ Подмоклый — въ очень сильномъ подпитіи, на кровати сидѣлъ Батюшковъ — въ менѣе сильномъ подпитіи. Юра пѣлъ нѣмецкую пѣсенку:
"Jonny, wenn du Geburtstag hast."
Батюшковъ аккомпанировалъ на гитарѣ. При моемъ входѣ Батюшковъ прервалъ свой аккомпаниментъ и, неистово бряцая струнами, заоралъ выученную у Юры же англійскую пѣсенку.
"Oh my, what a rotten song".
Закончивъ бравурный куплетъ, Батюшковъ всталъ и обнялъ меня за плечи.
— Эхъ, люблю я тебя, Ванюша, хорошій ты, сукинъ сынъ, человѣкъ. Давай-ка братъ дербалызнемъ.
— Да, — сказалъ начальникъ оперативной части тономъ, полнымъ глубочайшаго убѣжденія, — дербалызнуть нужно обязательно.
Дербалызнули.
Бѣлая ночь, часа этакъ въ три, освѣтила такую картину:
По пустыннымъ улицамъ Медгоры шествовалъ начальникъ оперативной части медгорскаго отдѣленія ББК ОГПУ, тщательно поддерживаемый съ двухъ сторонъ двумя заключенными: съ одной стороны-Солоневичемъ Юріемъ, находившемся въ абсолютно трезвомъ видѣ, и съ другой стороны — Солоневичемъ Иваномъ, въ абсолютно трезвомъ видѣ не находившемся. Мимохожіе патрули оперативной части ГПУ ухмылялись умильно и дружественно.
Такого типа "дѣйства" совершались въ Динамо еженощно, съ неукоснительной правильностью, и, какъ выяснилось, Батюшковъ въ своихъ предсказаніяхъ о моей грядущей динамовской жизни оказался совершенно правъ. Технически же все это объяснялось такъ:
Коммунистъ или не коммунистъ — а выпить-то хочется. Выпивать въ одиночку — тоска. Выпивать съ коммунистами — рискованно. Коммунистъ коммунисту, если и не всегда волкъ, то ужъ конкурентъ во всякомъ случаѣ. Выпьешь, ляпнешь что-нибудь не вполнѣ "генерально-линейное" и потомъ смотришь — подвохъ, и потомъ смотришь, на какой-нибудь чисткѣ — ехидный вопросецъ: "а не помните ли вы, товарищъ, какъ..." ну и т.д. Батюшковъ же никакому чекисту ни съ какой стороны не конкурентъ. Куда дѣваться, чтобы выпить, какъ не къ Батюшкову? У Батюшкова же денегъ явственно нѣтъ. Поэтому — вотъ приходитъ начальникъ оперативной части и изъ дѣлового своего портфеля начинаетъ извлекать бутылку за бутылкой. Когда бутылки извлечены — начинается разговоръ о закускѣ. Отрывается нѣсколько талоновъ изъ обѣденной книжки въ чекисткую столовую и приносится ѣда такого типа: свинина, жареная тетерка, бѣломорская семга и такъ далѣе — нѣсколько вкуснѣе даже и ИТРовскаго меню. Всѣмъ присутствующимъ пить полагалось обязательно.
Юра отъ этой повинности уклонился, ссылаясь на то, что послѣ одной рюмки онъ пѣть больше не можетъ. А у Юры былъ основательный запасъ пѣсенокъ Вертинскаго, берлинскихъ шлагеровъ и прочаго въ этомъ же родѣ. Все это было абсолютно ново, душещипательно, и сидѣлъ за столомъ какой-нибудь Подмоклый, который на своемъ вѣку убилъ больше людей, чѣмъ добрый охотникъ зайцевъ, и проливалъ слезу въ стопку съ недопитой водкой...
Все это вмѣстѣ взятое особо элегантнаго вида не имѣло. Я вовсе не собираюсь утверждать, что къ выпивкѣ и закускѣ — даже и въ такой компаніи — меня влекли только дѣловые мотивы, но, во всякомъ случаѣ, за мѣсяцъ этакихъ мѣропріятій Юра разузналъ приблизительно все, что намъ было нужно: о собакахъ ищейкахъ, о секретахъ, сидѣвшихъ по ямамъ, и о патруляхъ, обходящихъ дороги и тропинки, о карельскихъ мужикахъ — здѣсь, въ районѣ лагеря, этихъ мужиковъ оставляли только "особо-провѣренныхъ" и имъ за каждаго пойманнаго или выданнаго бѣглеца давали по кулю муки. Долженъ, впрочемъ, сказать, что, расписывая о мощи своей организаціи и о томъ, что изъ лагеря "не то что человѣкъ, а и крыса не убѣжитъ", оперативники врали сильно... Однако, общую схему охраны лагеря мы кое-какъ выяснили.
Съ этими пьянками въ Динамо были связаны и наши проекты добыть оружіе для побѣга... Изъ этихъ проектовъ такъ ничего и не вышло. И однажды, когда мы вдвоемъ возвращались подъ утро "домой", въ свой баракъ, Юра сказалъ мнѣ:
— Знаешь, Ва, когда мы, наконецъ, попадемъ въ лѣсъ, по дорогѣ къ границѣ нужно будетъ устроить какой-нибудь обрядъ омовенія что ли... отмыться отъ всего этого...
Такой "обрядъ" Юра впослѣдствіи и съимпровизировалъ. А пока что въ Динамо ходить перестали. Предлогъ былъ найденъ болѣе, чѣмъ удовлетворительный: приближается-де лагерная спартакіада (о спартакіадѣ рѣчь будетъ дальше) и надо тренироваться къ выступленію. И, кромѣ того, побѣгъ приближался, нервы сдавали все больше и больше, и за свою выдержку я уже не ручался. Пьяные разговоры оперативниковъ и прочихъ, ихъ бахвальство силой своей всеподавляющей организаціи, ихъ цинизмъ, съ котораго въ пьяномъ видѣ сбрасывались рѣшительно всякіе покровы идеи, и оставалась голая психологія всемогущей шайки платныхъ профессіональныхъ убійцъ, вызывали припадки ненависти, которая слѣпила мозгъ... Но семь лѣтъ готовиться къ побѣгу и за мѣсяцъ до него быть разстрѣляннымъ за изломанныя кости какого-нибудь дегенерата, на мѣсто котораго другихъ дегенератовъ найдется сколько угодно, было бы слишкомъ глупо... Съ динамовской аристократіей мы постепенно прервали всякія связи...
ПЕРЕКОВКА ВЪ КАВЫЧКАХЪ
Въ зданіи культурно-воспитательнаго отдѣла двѣ огромныхъ комнаты были заняты редакціей лагерной газеты "Перековка". Газета выходила три раза въ недѣлю и состояла изъ двухъ страницъ, формата меньше половины полосы парижскихъ эмигрантскихъ газетъ. Постоянный штатъ редакціоннаго штаба состоялъ изъ шестнадцати полуграмотныхъ лоботрясовъ, хотя со всей этой работой совершенно свободно могъ справиться одинъ человѣкъ. При появленіи въ редакціи посторонняго человѣка всѣ эти лоботрясы немедленно принимали священнодѣйственный видъ, точно такъ же, какъ это дѣлается и въ вольныхъ совѣтскихъ редакціяхъ, и встрѣчали гостя оффиціально-недружелюбными взглядами. Въ редакцію принимались люди, особо провѣренные и особо заслуженные, исключительно изъ заключенныхъ; пользовались они самыми широкими привиллегіями и возможностями самаго широкаго шантажа и въ свою среду предпочитали никакихъ конкурентовъ не пускать. Въ тѣ дни, когда подпорожскій Марковичъ пытался устроить меня или брата въ совсѣмъ уже захудалой редакціи своей подпорожской шпаргалки, онъ завелъ на эту тему разговоръ съ пріѣхавшимъ изъ Медгоры "инструкторомъ" центральнаго изданія "Перековки", нѣкіимъ Смирновымъ. Несмотря на лагерь, Смирновъ былъ одѣтъ и выбритъ такъ, какъ одѣваются и бреются совѣтскіе журналисты и кинорежиссеры: краги, бриджи, пестрая "апашка", бритые усы и подбородокъ, и подъ подбородкомъ этакая американская бороденка. Круглые черные очки давали послѣдній культурный бликъ импозантной фигурѣ "инструктора". Къ предложенію Марковича онъ отнесся съ холоднымъ высокомѣріемъ.
— Намъ роли не играетъ, гдѣ онъ тамъ на волѣ работалъ. А съ такими статьями мы его въ редакцію пущать не можемъ.
Я не удержался и спросилъ Смирнова, гдѣ это онъ на волѣ учился русскому языку — для журналиста русскій языкъ не совсѣмъ ужъ безполезенъ... Отъ крагъ, апашки и очковъ Смирнова излились потоки презрѣнія и холода.
— Не у васъ учился...
Увы, кое чему поучиться у меня Смирнову все-таки пришлось. Въ Медвѣжьей Горѣ я въ "Перековку" не заходилъ было вовсе: въ первое время — въ виду безнадежности попытокъ устройства тамъ, а въ динамовскія времена — въ виду полной ненадобности мнѣ этой редакціи. Однако, Радецкій какъ-то заказалъ мнѣ статью о динамовской физкультурѣ съ тѣмъ, чтобы она была помѣщена въ "Перековкѣ". Зная, что Радецкій въ газетномъ дѣлѣ не смыслитъ ни уха, ни рыла, я для чистаго издѣвательства сдѣлалъ такъ: подсчиталъ число строкъ въ "Перековкѣ" и ухитрился написать такую статью, чтобы она весь номеръ заняла цѣликомъ. Долженъ отдать себѣ полную справедливость: статья была написана хорошо, иначе бы Радецкій и не поставилъ на ней жирной краской надписи: "Ред. газ. Пер. — помѣстить немедленно цѣликомъ".
"Цѣликомъ" было подсказано мной: "Я, видите ли, редакціонную работу знаю, парни-то въ "Перековкѣ" не больно грамотные, исковеркаютъ до полной неузнаваемости".
Съ этой статьей, резолюціей и съ запасами нѣкоего ехидства на душѣ я пришелъ въ редакцію "Перековки". Смирновъ уже оказался ея редакторомъ. Его очки стали еще болѣе черепаховыми и борода еще болѣе фотоженичной. Вмѣсто прозаической папиросы, изъ угла его рта свѣшивалась стилизованная трубка, изъ которой неслась махорочная вонь.
— Ахъ, это вы? Да я васъ, кажется, гдѣ-то видалъ... Вы кажется, заключенный?
Что я былъ заключеннымъ — это было видно рѣшительно по всему облику моему. Что Смирновъ помнилъ меня совершенно ясно — въ этомъ для меня не было никакихъ сомнѣній.
— Да, да, — сказалъ подтверждающе Смирновъ, хотя я не успѣлъ произнести ни одного слова, и подтверждать было рѣшительно нечего, — такъ что, конкретно говоря, для васъ угодно?
Я молча подвинулъ себѣ стулъ, неспѣшно усѣлся на него, неспѣшно сталъ вытаскивать изъ кармановъ разнаго рода бумажное барахло и уголкомъ глаза поглядывалъ, какъ этотъ дядя будетъ реагировать на мой стиль поведенія. Трубка въ углу рта дяди отвисла еще больше, а американистая бороденка приняла ершистое и щетинистое выраженіе.
— Ну-съ, такъ въ чемъ дѣло, молодой человѣкъ?
Я былъ все-таки минимумъ лѣтъ на десять старше его, но на "молодого человѣка" я не отвѣтилъ ничего и продолжалъ медлительно перебирать бумажки. Только такъ — мелькомъ, уголкомъ глаза — бросилъ на "главнаго редактора" центральнаго изданія "Перековки" чуть-чуть предупреждающій взглядъ. Взглядъ оказалъ свое вліяніе. Трубка была передвинута чуть-чуть ближе къ серединѣ рта.
— Рукопись принесли?
Я досталъ рукопись и молча протянулъ ее Смирнову. Смирновъ прежде всего внимательно изучилъ резолюцію Радецкаго и потомъ перелисталъ страницы: страницъ на пишущей машинкѣ было семь — какъ разъ обѣ полосы "Перековки". На лицѣ Смирнова выразилось профессіональное возмущеніе:
— Мы не можемъ запихивать весь номеръ одной статьей.
— Дѣло не мое. Радецкій поэтому-то и написалъ "цѣликомъ", чтобы вы не вздумали ее сокращать.
Смирновъ вынулъ трубку изо рта и положилъ ее на столъ. Еще разъ перелисталъ страницы: "какъ разъ на цѣльный номеръ".
— Вы, вѣроятно, полагаете, что Радецкій не знаетъ размѣровъ "Перековки". Словомъ — рукопись съ резолюціей я вамъ передалъ. Будьте добры — расписку въ полученіи.
— Никакихъ расписокъ редакція не даетъ.
— Знаю, а расписку все-таки — пожалуйте. Потому что, если со статьей выйдутъ какія-нибудь недоразумѣнія, такъ уговаривать васъ о помѣщеніи ея будетъ Радецкій. Я заниматься этимъ не собираюсь. Будьте добры — расписку, что я вамъ передалъ и статью, и приказъ. Иначе — отъ васъ расписку потребуетъ третья часть.
Борода и очки Смирнова потеряли фотоженичный видъ. Онъ молча написалъ расписку и протянулъ ее мнѣ. Расписка меня не удовлетворила: "будьте добры написать, что вы получили статью съ резолюціей". Смирновъ посмотрѣлъ на меня звѣремъ, но расписку переписалъ. Очередной номеръ "Перековки" вышелъ въ идіотскомъ видѣ — на весь номеръ одна статья и больше не влѣзло ни строчки: размѣръ статьи я расчиталъ очень точно. За этотъ номеръ Корзунъ аннулировалъ Смирнову полгода его "зачетовъ", которые онъ заработалъ перековками и доносами, но къ Радецкому никто обратиться не посмѣлъ. Я же испыталъ нѣкоторое, хотя и весьма слабое, моральное удовлетвореніе... Послѣ этого "номера" я не былъ въ редакціи "Перековки" недѣли три.
На другой день послѣ этого слета "лучшихъ ударниковъ", о которомъ я уже говорилъ, я поплелся въ "Перековку" сдавать еще одну халтуру по физкультурной части — тоже съ помѣткой Радецкаго. На этотъ разъ Смирновъ не дѣлалъ американскаго вида и особой фотоженичностью отъ него не несло. Въ его взглядѣ были укоръ и почтеніе... Я вспомнилъ Кольцовскія формулировки о "платныхъ перьяхъ буржуазныхъ писакъ" (Кольцовъ въ "Правдѣ" пишетъ, конечно, "безплатно") и думалъ о томъ, что нигдѣ въ мірѣ и никогда въ мірѣ до такого униженія печать все-таки не доходила. Я журналистъ — по наслѣдству, по призванію и по профессіи, и у меня — даже и послѣ моихъ совѣтскихъ маршрутовъ — осталось какое-то врожденное уваженіе къ моему ремеслу... Но что вносятъ въ это ремесло товарищи Смирновы и иже съ ними?
— Замѣточку принесли?
Принимая во вниманіе мою статьищу, за которую Смирновъ получилъ лишніе полгода, уменьшительное "замѣточка" играло ту роль, какую въ собачьей дракѣ играетъ небезызвѣстный пріемъ: песикъ, чувствуя, что дѣло его совсѣмъ дрянь, опрокидывается на спинку и съ трусливой привѣтливостью перебираетъ въ воздухѣ лапками. Смирновъ лапками, конечно, не перебиралъ, но сквозь стекла его очковъ — простыя стекла, очки носились для импозантности — можно было прочесть такую мысль: ну, ужъ хватитъ, за Подпорожье отомстилъ, не подводи ужъ больше...
Мнѣ стало противно — тоже и за себя. Не стоило, конечно, подводить и Смирнова... И не стоитъ его особенно и винить. Не будь революціи — сидѣлъ бы онъ какимъ-нибудь захолустнымъ телеграфистомъ, носилъ бы сногсшибательные галстуки, соблазнялъ бы окрестныхъ дѣвицъ гитарой и романсами и всю свою жизнь мечталъ бы объ аттестатѣ зрѣлости и никогда въ своей жизни этотъ аттестатъ такъ и не взялъ бы... И вотъ здѣсь, въ лагерѣ, пройдя какую-то, видимо, весьма обстоятельную школу доносовъ и шпіонажа, онъ, дуракъ, совсѣмъ всерьезъ принимаетъ свое положеніе главнаго редактора центральнаго изданія "Перековки" — изданія, которое, въ сущности, рѣшительно никому не было нужно и содержится исключительно по большевицкой привычкѣ къ вранью и доносамъ. Вранье никуда за предѣлы лагеря не выходило — надъ заголовкомъ была надпись: "не подлежитъ распространенію за предѣлами лагеря"; для доносовъ и помимо "лагкоровъ" существовала цѣлая сѣть стукачей третьяго отдѣла, такъ что отъ "Перековки" толку не было никому и никакого. Правда, нѣкоторый дополнительный кабакъ она все-таки создавала...
Замѣточка оказалась коротенькой, строкъ въ тридцать, и на лицѣ Смирнова выразилось нѣкоторое облегченіе: никакимъ подвохомъ не пахнетъ... Къ редакторскому столу подошелъ какой-то изъ редакціонныхъ лоботрясовъ и спросилъ Смирнова:
— Ну, такъ что же мы съ этими ударниками будемъ дѣлать?
— Чортъ его знаетъ... Придется все снять съ номера и отложить.
— А въ чемъ дѣло? — спросилъ я.
Смирновъ посмотрѣлъ на меня недовѣрчиво. Я успокоилъ его: подводить его я не собираюсь.
— А вы, кажется, въ московской печати работали?
— Было такое дѣло...
— Тутъ, понимаете, прямо хоть разорвись... Эти сволочные ударники, которыхъ вчера въ клубѣ чествовали, такъ они прямо со слета, ночью, разграбили торгсинъ...
— Ага, понимаю, словомъ — перековались?
— Абсолютно. Часть перепилась, такъ ихъ поймали. А кое-кто захватилъ валюту и — смылись... Теперь же такое дѣло: у насъ ихнія исповѣди набраны, статьи, портреты и все такое. Чортъ его знаетъ — то-ли пускать, то-ли не пускать. А спросить — некого. Корзунъ уѣхалъ къ Радецкому...
Я посмотрѣлъ на главнаго редактора не безъ удивленія.
— Послушайте, а на волѣ вы гдѣ въ печати работали?
— Н-ну, въ провинціи, — отвѣтилъ онъ уклончиво.
— Простите, въ порядкѣ, такъ сказать, выдвиженчества?
— А вамъ какое дѣло? — обозлился Смирновъ.
— Не видно марксистскаго подхода. Вѣдь совершенно ясно, что все нужно пускать: и портреты, и статьи, и исповѣди. Если не пустите, васъ Корзунъ и Успенскій живьемъ съѣдятъ.
— Хорошенькое дѣло, — развелъ руками Смирновъ. — А если пущу? Снова мнѣ лишній срокъ припаяютъ.
— Давайте разсуждать такъ: рѣчи этихъ ударниковъ по радіо передавались? (Смирновъ кивнулъ головой). Въ Москву, въ "Правду", въ ТАСС телеграммы пошли? (Смирновъ снова кивнулъ головой). О томъ, что эти люди перековались знаетъ, можно сказать, весь міръ. О томъ, что они сегодня ночью проворовались, даже и въ Медгорѣ знаетъ только нѣсколько человѣкъ. Для вселенной — эти дяди должны остаться святыми, блудными сынами, вернувшимися въ отчій домъ трудящихся СССР. Если вы не пустите ихъ портретовъ, вы сорвете цѣлую политическую кампанію.
Главный редакторъ посмотрѣлъ на меня почтительно.
— А вы на волѣ не въ "Правдѣ" работали?
— Въ "Правдѣ", — совралъ я.
— Слушайте, хотите къ намъ на работу перейти?
Работа въ "Перековкѣ" меня ни въ какой степени не интересовала.
— Ну, во всякомъ случаѣ захаживайте... Мы вамъ гонораръ заплатимъ...
ПЕРВЫЕ ТЕРРОРИСТЫ
Размышляя о необычномъ своемъ положеніи въ лагерѣ, я находилъ его почти идеальнымъ. Вопросъ его прочности, если и приходилъ въ голову, то только съ, такъ сказать, теоретической точки зрѣнія: теоретически подъ серпомъ совѣтской луны и подъ молотомъ совѣтской власти нѣтъ прочнаго ничего. Но до побѣга осталось около двухъ мѣсяцевъ, ужъ эти два мѣсяца я прокручусь. Я старался предусмотрѣть и заранѣе нейтрализовать нѣкоторыя угрожавшія мнѣ возможности, но нѣкоторыхъ — все же не предусмотрѣлъ.
Паденіе мое съ динамскихъ высотъ началось по вопросу о футбольныхъ командахъ, но кто же это могъ знать!.. Я объѣхалъ или, точнѣе, обошелъ нѣсколько сосѣднихъ лагерныхъ пунктовъ и подобралъ тамъ двѣ довольно сильныхъ футбольныхъ команды, съ запасными — 28 человѣкъ. Такъ какъ было совершенно очевидно, что при двѣнадцати часовомъ рабочемъ днѣ и лагерномъ питаніи они тренироваться не могли, то ихъ надлежало перевести въ мѣста болѣе злачныя и болѣе спокойныя, въ данномъ случаѣ — зачислить въ Вохръ. Гольманъ сказалъ мнѣ: составьте списки этихъ игроковъ, укажите ихъ соціальное положеніе, сроки, статьи приговора, я отдамъ приказъ о переводѣ ихъ въ Вохръ.
Я составилъ списки и, составивъ, съ полной ясностью понялъ, что никуда я съ этими списками сунуться не могу и что, слѣдовательно, вся моя футбольная дѣятельность повисла въ воздухѣ. Изъ 28-ми человѣкъ трое сидѣли за бандитизмъ, двое — по какимъ-то неопредѣленно контръ-революціоннымъ статьямъ, а остальные 23 имѣли въ своемъ формулярѣ суровое 58-8 — терроръ. И десятилѣтніе сроки заключенія.
Пять-шесть террористовъ еще могли бы проскочить подъ прикрытіемъ остальныхъ, но 23 террориста превращали мои футбольныя команды въ какія-то террористическія организаціи внутри лагеря. Если даже у Гольмана и не явится подозрѣнія, что этихъ людей я подобралъ сознательно, то все равно ни онъ, ни даже Радецкій не рискнутъ перевести въ Вохръ этакій террористическій букетикъ. Что же мнѣ дѣлать?
Я рѣшилъ пойти посовѣтоваться съ Медоваромъ, но не нашелъ его. Пошелъ домой въ баракъ. У барака на солнышкѣ сидѣли Юра и его пріятель Хлѣбниковъ[12]. Хлѣбникова Юра подцѣпилъ откуда-то изъ бараковъ второго лагпункта, прельщенный его разносторонними дарованіями. Дарованія у Хлѣбникова были дѣйствительно разностороннія, мѣстами, по моему скромному мнѣнію, подымавшіяся до уровня геніальности... Онъ торчалъ здѣсь въ числѣ десятковъ двухъ студентовъ Вхутемаса (высшее московское художественное училище), имѣвшихъ въ своемъ формулярѣ ту же статью — 58-8 и тотъ же срокъ — 10 лѣтъ. О другихъ деталяхъ Хлѣбниковской біографіи я предпочитаю умолчать.
Юра и Хлѣбниковъ играли въ шахматы. Я подошелъ и сѣлъ рядомъ. Юра оторвался отъ доски и посмотрѣлъ на меня испытующе: что это у тебя такой кислый видъ? Я сообщилъ о положеніи дѣлъ со списками. Хлѣбниковъ сказалъ: "М-да, за такіе списочки васъ по головкѣ не погладятъ". Что не погладятъ, я это зналъ и безъ Хлѣбникова. Юра внимательно просмотрѣлъ списки, какъ бы желая удостовѣриться, и, удостовѣрившись, сказалъ: нужно подыскать другихъ.
— Безнадежное дѣло, — сказалъ Хлѣбниковъ.
— Почему безнадежное?
— Очень просто, хорошіе спортмены у насъ почти исключительно студенты.
— Ну, такъ что?
— А за что можетъ сидѣть въ лагерѣ совѣтскій студентъ? Воровать ему негдѣ и нечего. Если сажать за агитацію, тогда нужно вузы закрыть — не такъ просто. Всѣ за терроръ сидятъ.
— Не будете же вы утверждать, что совѣтскіе студенты только тѣмъ и занимаются, что бомбы кидаютъ.
— Не буду. Не всѣ и сидятъ. Попробуйте проанализировать. Въ мірѣ устроено такъ, что терроромъ занимается преимущественно молодежь. Изъ молодежи самая сознательная часть — студенты. Изъ студентовъ въ терроръ идетъ самая энергичная часть, то-есть спортсмены. Естественный подборъ, ничего не подѣлаешь. Вотъ и сидятъ. То-есть сидятъ тѣ, кто уцѣлѣлъ.
Я былъ раздраженъ и спискомъ, и связанными съ нимъ перспективами, и увѣренно-академическимъ тономъ Хлѣбникова...
— Валяютъ мальчишки дурака, а потомъ отсиживаютъ по десять лѣтъ чортъ его знаетъ гдѣ.
Хлѣбниковъ повернулся ко мнѣ.
— А вы совершенно увѣрены въ томъ, что эти мальчишки только валяютъ дурака и — ничего больше?
Увѣренности у меня такой не было. Я зналъ, что терроръ идетъ преимущественно въ деревнѣ, что пострѣливаютъ и въ городахъ — но по фигурамъ весьма второстепеннымъ. Объ этомъ въ газетахъ не публикуется ни слова и объ этомъ ходятъ по Москвѣ только темные и таинственные шепоты.
— А вы тоже кидали бомбы?
— Я не кидалъ. Я былъ на десятыхъ роляхъ — вотъ потому и сижу здѣсь, а не на томъ свѣтѣ. По нашему вхутемасовскому дѣлу разстрѣляно пятьдесятъ два человѣка.
О вхутемасовскомъ дѣлѣ и о разстрѣлахъ я кое-что слыхалъ въ Москвѣ — что-то очень неясное и путанное. Пятьдесятъ два человѣка? Я уставился въ Хлѣбникова не безъ нѣкотораго интереса.
— И это былъ не романъ, а организація?
— Организація. Нашъ Вхутемасъ работалъ надъ оформленіемъ декорацій въ первомъ Мхатъ[13]. Былъ проектъ бросить со сцены бомбу въ сталинскую ложу. Не успѣли...
— И бомба была?
— Была.
— И пятьдесятъ два человѣка собирались ее бросать?
— Ну, И. Л., ужъ вамъ-то нужно бы знать, что разстрѣливаютъ не только тѣхъ, кто собирался кидать бомбу, но и тѣхъ, кто подвернулся подъ руку ГПУ... Попалась лабораторія, изготовлявшая бомбу — и ребята не изъ нашего вуза, химики ... Но, въ общемъ, могу васъ увѣрить, что вотъ такіе ребята будутъ, какъ вы говорите, валять дурака и кончатъ тѣмъ, что они этого дурака въ самомъ дѣлѣ свалятъ къ чертовой матери. Своей смертью Сталинъ не умретъ — ужъ тутъ вы можете быть спокойны.
Въ голосѣ Хлѣбникова не было никакой ненависти. Онъ говорилъ тономъ врача, указывающаго на необходимость тяжелой, но неизбѣжной операціи.
— А почему тебя не разстрѣляли? — спросилъ Юра.
— А тутъ многое было. И, главное, что папаша у меня — больно партійный.
— Ахъ, такъ это вашъ отецъ возглавляетъ... — я назвалъ видное московское заведеніе.
— Онъ самый. Вообще почти всѣ, кто уцѣлѣлъ по этому дѣлу, имѣютъ партійныхъ папашъ. Ну, папаши, конечно, забѣгали... Вѣроятно, говорили то же самое, что вотъ вы сейчасъ — валяютъ-де мальчишки дурака. Или что-нибудь въ этомъ родѣ. Ну, папашъ было много. Вотъ мы кое-какъ и выскочили...
— Значитъ, вы — студентъ, такъ сказать, вполнѣ пролетарскій?
— Абсолютно. И даже комсомолецъ. Я знаю, вы хотите спросить, почему я, пролетарій и все такое, собирался заняться такимъ непредусмотрѣннымъ физкультурой спортомъ, какъ метаніе бомбъ?
— Именно.
— Да вотъ именно потому, что я пролетарій. Сталинъ обманулъ не васъ, а меня. Вы ему никогда не вѣрили, а я вѣрилъ. Сталинъ эксплоатировалъ не вашъ, а мой энтузіазмъ. И потомъ еще, вы вотъ не вѣрите, въ это... ну, какъ сказано у Сельвинскаго — "въ святую банальность о счастьи міра"...
— Пока что — не вѣрю.
— Вотъ видите. А я вѣрю. Слѣдовательно, вамъ наплевать на то, что эту "банальность" Сталинъ дискредитируетъ на вѣка и вѣка. А мнѣ? Мнѣ не наплевать. Если Сталинъ процарствуетъ еще лѣтъ десять, то-есть, если мы за это время его не ухлопаемъ, то дѣло будетъ стоять такъ, что вы его повѣсите.
— Кто это — вы?
— Такъ сказать, старый режимъ. Помѣщики, фабриканты...
— Я не помѣщикъ и не фабрикантъ.
— Ну, это не важно. Люди, такъ сказать, стараго міра. Вотъ тѣ, кто въ святую банальность не вѣрятъ ни на копѣйку. А если Сталинъ процарствуетъ этакъ еще лѣтъ десять — кончено. Тогда будетъ такое положеніе, что приходи и владѣй, кто попало. Не то, чтобы Муссолини или Гитлеръ, а прямо хоть Амманулу подавай.
— А вы не думаете, что такое положеніе создалось уже и сейчасъ?
— Ну, вотъ — тѣмъ хуже. Но я не думаю. Еще не создалось. Такъ понимаете мою мысль: если до этого дойдетъ, если вы повѣсите Сталина, ну и все такое, тогда всякій будетъ имѣть право мнѣ, пролетарію, сказать: ну что, сдѣлали революцію? Взяли власть въ свои мозолистыя руки? Довели Россію до точки. А теперь — пошли вонъ! Молчать и не разговаривать! И разговаривать будетъ не о чемъ. Вотъ-съ какая получается исторія... Мы не хотимъ, чтобы надъ страной, которую мы строимъ, торчалъ какой-то готтентотскій царекъ. Понятно?
— Понятно, хотя и нѣсколько путано...
— Почему путано?
— Ухлопавъ Сталина, что вы будете дѣлать дальше? И почему именно вы, а не кто-нибудь другой?
— Другого никого нѣтъ. Есть трудящіяся массы, и хозяевами будутъ онѣ.
— А кто этими хозяевами будетъ управлять?
— Никто не будетъ управлять. Не будетъ управленія. Будетъ техническое руководство.
— Такъ сказать, утопія технократическаго порядка, — съиронизировалъ я.
— Да, технократическая, но не утопія. Техническая неизбѣжность. Дворянства у насъ нѣтъ. Возьмите любой заводъ и выкиньте къ чорту партійную головку. Кто останется? Останутся рабочій и инженеръ. Партійная головка только тѣмъ и занимается, что никому не даетъ ни житья, ни возможности работать. А инженеръ съ рабочимъ сговорятся всегда. Нужно вышибить партійную головку — всю. Вотъ мы ее и вышибемъ.
Тонъ у Хлѣбникова былъ очень увѣренный.
— Мы, Николай Вторый, Самодержецъ... — началъ было я.
— Можете смѣяться. Смѣется — послѣдній. Послѣдними будемъ смѣяться мы. Мы ее вышибемъ, но помѣщиковъ не пустимъ. Хотятъ работать директорами совхозовъ — конечно, тѣ, кто это дѣло знаетъ — пожалуйста, деньги на бочку, власть въ руки: дѣйствуйте. Если Рябушинскій...
— Откуда вы знаете Рябушинскаго?
— Знаю. Это онъ пророчествовалъ о костлявой рукѣ голода, которая схватитъ насъ за горло и заставитъ придти къ нему съ поклономъ — придите, дескать, и владѣйте...
— Знаешь, Коля, — сказалъ Юра, — давай говорить по честному: изъ всѣхъ пророчествъ о революціи это, кажется, единственное, которое выполняется, такъ сказать, на всѣ сто процентовъ.
— Революція еще не кончилась, такъ что о ста процентахъ пока нечего и говорить. Такъ если онъ захочетъ — пусть работаетъ директоромъ треста. Будетъ хорошо работать — будемъ платить сотни тысячъ. Въ золотѣ.
— А откуда у васъ эти сотни тысячъ будутъ?
— Будутъ. Если всѣ будутъ работать и никто не будетъ мѣшать — будутъ сотни милліардовъ. Вамъ, И. Л., отдадимъ всю физкультуру: дѣйствуйте...
— Вы очень ужъ сильно злоупотребляете мѣстоимѣніемъ "мы". Кто это собственно эти "мы?
— Мы — тѣ, кто работаютъ, и тѣ, кто тренируются. Вотъ, скажемъ, спортивныя организаціи выбираютъ васъ, и И. Л. дѣйствуетъ. И выбираютъ не на четыре года, какъ въ буржуазныхъ странахъ, а на двадцать лѣтъ, чтобы не было чехарды. А отвѣчать вы будете только по суду.
Въ голосѣ Хлѣбникова не было ни экстаза, ни энтузіазма, ни, такъ сказать, религіознаго подъема. Слова онъ вбивалъ, какъ плотникъ гвозди, — увѣренно и спокойно. И даже не жестикулировалъ при этомъ. Отъ его крѣпкихъ плечъ вѣяло силой...
Программа технократіи для меня не была новостью — она весьма популярна среди части совѣтской интеллигенціи, но тамъ она обсуждается нѣсколько абстрактно: "вотъ ежели бы"... У Хлѣбникова "ежели бы" не было никакихъ.
— Такъ вотъ, намъ нужно торопиться ухлопать Сталина, пока онъ не довелъ вещей до окончательнаго развала. Его и ухлопаютъ...
Я бокомъ посмотрѣлъ на Хлѣбникова. Въ 22 года жизнь кажется очень простой. Вѣроятно, такой же простой кажется и техника террора. Думаю, что техника провокаціи ГПУ стоитъ нѣсколько выше. И ухлопать Сталина — это не такъ просто, какъ вбить голъ зазѣвавшемуся голкиперу.
Къ этимъ соображеніямъ Хлѣбниковъ отнесся довольно равнодушно:
— Да, техника невысока. Вотъ потому и не ухлопали еще. Но, повѣрьте мнѣ, надъ этой техникой работаютъ не совсѣмъ пустыя головы...
— А какъ же съ папашами? — спросилъ Юра.
— Да вотъ, такъ же и съ папашами. Мой-то еще сравнительно безвредный... Но если станетъ на дорогѣ — придется ухлопать и его. Удовольствіе, конечно, среднее, а ничего не подѣлаешь...
Юра посмотрѣлъ на Хлѣбникова укоризненно и недоумѣнно. И техника, и психологія ухлопыванія собственнаго папаши въ его головѣ не умѣщались...
ОТЦЫ И ДѢТИ
Такъ я впервые столкнулся съ лагерной разновидностью совѣтской учащейся молодежи. Впервые — потому что, какъ оказалось впослѣдствіи, всю эту публику держать на сѣверѣ ББК. Даже въ Медвѣжью Гору попадаютъ только единицы — наиболѣе квалифицированные, наиболѣе необходимые для всякаго рода проектныхъ бюро, лабораторій, изыскательныхъ станцій и прочаго. Когда я — мѣсяцемъ позже — сталъ подбирать команды для "вселагерной спартакіады", для которой статьи приговора не имѣли никакого значенія, я и сталъ выяснять количество пребывающаго въ ББК студенчества. Для этого выясненія мнѣ были даны всѣ возможности, ибо отъ полученной цифры зависѣла сумма, ассигнованная лагеремъ для закупки спортивнаго инвентаря. Все же точной цифры мнѣ выяснить не удалось — Кемское и Сегежское отдѣленія, гдѣ сосредоточено большинство заключенныхъ студентовъ, своихъ данныхъ не прислали. По остальнымъ семи отдѣленіямъ я получилъ цифру, нѣсколько превышающую 6000 человѣкъ. Надо полагать, что общее число студентовъ доходитъ до девяти-десяти тысячъ. По этому поводу выяснилась и еще одна — довольно неожиданная — вещь: тѣ 3,5-4 проц. лагерной интеллигенціи, которые я еще въ Подпорожьи получилъ, такъ сказать, методомъ экстраполяціи, состоять почти исключительно изъ совѣтскаго студенчества... Да, для того, чтобы узнать нынѣшнюю Россію — въ лагерѣ побывать нужно обязательно... Именно здѣсь можно разыскать "недостающія звенья" всяческихъ проблемъ "вольной" Совѣтской Россіи — и въ томъ числѣ проблемы "отцовъ и дѣтей".
Въ эмиграціи эта проблема рѣшается сравнительно безболѣзненно. Изъ литературнаго архива извлечена столѣтней давности "усмѣшка горькая обманутаго сына надъ промотавшимся отцомъ", и дѣло ограничивается, такъ сказать, "вербальными нотами". Эмигрантскія отцы, что и говорить, промотались, но такъ промотаться, какъ промотались совѣтскіе партійные отцы, не удавалось, кажется, въ исторіи мірозданія еще никому.
Я хотѣлъ бы установить свою наблюдательную точку зрѣнія — т.е. ту точку, съ которой я наблюдаю этотъ споръ. Между "отцами и дѣтьми" я занимаю нѣкую промежуточную позицію: изъ "дѣтей" явственно уже выросъ, до отцовъ какъ будто еще не доросъ. Мы съ Юрой играемъ въ одной и той же футбольной командѣ: онъ — хавбэкомъ, я — бэкомъ: какіе ужъ тутъ "отцы и дѣти"... И какъ бы ни оцѣнивать политическое значеніе Хлѣбниковской рѣшимости ухлопать собственнаго отца — рѣшимость производила все-таки тягостное впечатлѣніе и на меня, и на Юру.
Когда Хлѣбниковъ ушелъ, Юра съ разсѣяннымъ видомъ сгребъ съ доски недоигранную партію и сказалъ:
— Знаешь, Ватикъ, нужно драпать. Я не спеціалистъ по рѣзнѣ... А здѣсь будутъ рѣзать, охъ, здѣсь будутъ рѣзать... Помнишь Сеньку Б.?
Я помнилъ и Сеньку Б., и многое еще другое. А съ Сенькой Б. произошелъ такой эпизодъ — очень коротенькій и очень характерный для проблемы "отцовъ и дѣтей".
У меня въ Москвѣ былъ хорошій знакомый Семенъ Семеновичъ Б. — коммунистъ изъ рабочихъ, партійный работникъ завода, изъ угасающихъ энтузіастовъ революціи. У меня были съ нимъ кое-какія дѣла по части "культуры быта" и "красивой жизни" (эти темы разрабатывались уже очень давно, въ особенности въ годы, когда ѣсть совсѣмъ было нечего, — какъ сейчасъ моды, фокстротъ). У этого Семена Семеновича былъ сынъ Сеня — парень лѣтъ 20—22-хъ, работавшій на томъ же заводѣ техникомъ. Онъ былъ изобрѣтателемъ — говорятъ, талантливымъ, — и Юра былъ съ нимъ "въ контактѣ" по поводу постройки лыжнаго буера. Мы съ Юрой какъ-то зашли въ ихъ комнатушку на Н-ой улицѣ. Сынъ сидитъ у окна за газетой, отецъ куда-то собирается и запихиваетъ какія-то бумаги въ свой портфель. Спрашиваю:
— Вы куда, Семенъ Семеновичъ?
— Въ парткомъ.
Сынъ, не отрывая глазъ отъ газеты:
— Папаша въ парткомъ идутъ... Торговать своимъ роскошнымъ пролетарскимъ тѣломъ.
Отецъ оторвался отъ своего портфеля и посмотрѣлъ на сына съ какимъ-то горькимъ негодованіемъ:
— Ужъ ты... ужъ помолчалъ бы ты...
— Помолчать... Пусть тѣ молчатъ, которые съ голоду подохли.
И обращаясь ко мнѣ:
— Б.....тъ наши папаши. За партійную книжку — на любую кровать.
Отецъ стукнулъ кулакомъ по портфелю.
— Молчи ты, щенокъ, гнида!.. А то я тебя...
— А что вы меня, папаша, къ стѣночкѣ поставите?.. А? Вы за партійную книжку не только свой народъ, а и своего сына задушить готовы...
Отецъ сжалъ зубы, и все лицо его перекосилось. И сынъ, и отецъ стояли другъ передъ другомъ и тяжело дышали... Потомъ отецъ судорожнымъ движеніемъ ткнулъ свой портфель подъ мышку и бросился къ двери...
— Семенъ Семеновичъ, а шапка? — крикнулъ ему Юра.
Семенъ Семеновичъ высунулся изъ двери и протянулъ руку за шапкой.
— Вотъ растилъ... — сказалъ онъ.
— Молчали бы ужъ, хватитъ, — крикнулъ ему сынъ въ догонку.
...Какъ видите, это нѣсколько посерьезнѣе "усмѣшки горькой..."
Долженъ, впрочемъ, сказать, что въ данномъ, конкретномъ, случаѣ сынъ былъ неправъ. Отецъ не "торговалъ своимъ роскошнымъ пролетарскимъ тѣломъ". Онъ былъ честной водовозной клячей революціи, съ раненіями, съ тифами, съ каторжной работой и съ полнымъ сознаніемъ того, что все это было впустую, что годы ушли, что ихъ не воротить такъ же, какъ не воротить загубленныя для соціалистическаго рая жизни... И что передъ его лицомъ — совсѣмъ вплотную — стоитъ смерть (онъ былъ весь изъѣденъ туберкулезомъ) и что передъ этой смертью у него не было никакого, абсолютно никакого утѣшенія. И сынъ, погибая, не крикнетъ ему, какъ Остапъ Тарасу Бульбѣ: "слышишь, батьку" — ибо онъ считаетъ отца проституткой и палачемъ...
Да, у большинства партійныхъ отцовъ есть "смягчающія вину обстоятельства"... Но "дѣти" судятъ по результатамъ...
О СВИДѢТЕЛЯХЪ И О КАБАКѢ
Топая по карельскимъ болотамъ къ финляндской границѣ, я всячески представлялъ себѣ, что и какъ я буду докладывать эмиграціи, то-есть той части русскаго народа, которая осталась на свободѣ. Всѣ предшествующіе побѣгу годы я разсматривалъ себя, какъ нѣкоего развѣдчика, который долженъ сообщить всѣ и слабыя, и сильныя стороны врага. Но именно врага. Я не предполагалъ двухъ вещей: что мнѣ будетъ брошенъ упрекъ въ ненависти къ большевизму и что мнѣ придется доказывать существованіе совѣтскаго кабака. Я считалъ и считаю, что ненависть къ строю, который отправляетъ въ могилу милліоны людей моей родины, — это не только мое право, но и мой долгъ. Я, какъ спортсменъ, считалъ и считаю, что ни въ коемъ случаѣ нельзя обольщаться слабыми сторонами противника — люди, которые выступали на рингѣ, понимаютъ это очень хорошо: моментъ недооцѣнки — и вы нокаутированы. Что же касается кабака, то мнѣ казалось, что нужно только объяснить технически его корни, его практику и его послѣдствія. Я ошибся. И, наконецъ, у меня не было никакого сомнѣнія въ томъ, что мнѣ надо будетъ доказывать свою свидѣтельскую добропорядочность и передъ очень суровымъ ареопагомъ.
На каждомъ судебномъ процессѣ каждый свидѣтель попадаетъ нѣсколько въ положеніе обвиняемаго и въ особенности на такомъ процессѣ, который касается судебъ родины. Свидѣтели же бываютъ разные. Вотъ видалъ же г-нъ Эррю пышущую здоровьемъ и счастьемъ страну, и вотъ видалъ же г-нъ Соколовъ чудесно обновленныя иконы. Причемъ, оба они видѣли все это не какъ-нибудь, а собственными глазами. И поэтому всякій эмигрантскій читатель вправѣ отнестись съ суровой подозрительностью къ каждому свидѣтелю: како вѣруеши и не врешь ли? Переходя къ такой острой и такой наболѣвшей темѣ, какъ тема о совѣтской молодежи, я чувствую моральную необходимость отстоять мою свидѣтельскую добропорядочность, какъ это ни трудно въ моемъ положеніи.
Изъ ряда высказываній по поводу моихъ очерковъ мнѣ хотѣлось бы остановиться на высказываніяхъ г-жи Кусковой. Во-первыхъ, потому, что они несомнѣнно отражаютъ мнѣніе весьма широкихъ читательскихъ круговъ, во-вторыхъ, потому, что у меня нѣтъ никакихъ основаніи подозрѣвать г-жу Кускову въ тенденціи поставить интересы партіи или группы выше интересовъ страны. Хочу оговориться: я на г-жу Кускову никакъ не въ претензіи. Она не только читательница, она и общественная дѣятельница: поэтому "допросъ съ пристрастіемъ" не только ея право, но и ея обязанность. Мое же право и моя обязанность — отстоять свое доброе свидѣтельское имя.
Г-жа Кускова противопоставляетъ моимъ показаніямъ показанія супруговъ Чернавиныхъ: тамъ — "спокойствіе и взвѣшенность каждаго слова", у меня — "страсть и ненависть", каковая ненависть "окрасила совѣтскую дѣйствительность не въ тѣ цвѣта".
Можно было бы задать вопросъ: а какими будутъ тѣ цвѣта? И кто будетъ достаточно компетентнымъ судьей въ соотвѣтствіи "цвѣтовъ" съ реальной окраской совѣтской жизни? Г-жа Кускова подчеркиваетъ объективность Чернавиныхъ. Въ этомъ отношеніи я съ г-жей Кусковой согласенъ "цѣликомъ и полностью". Чернавины, дѣйствительно, объективны. Я читалъ ихъ высказыванія и говорилъ съ ними лично: они стоятъ лѣвѣе меня, но въ оцѣнкѣ дѣйствительности — никакой разницы. И по поводу моихъ очерковъ Т. В. Чернавина, въ частности, писала мнѣ (цитирую съ согласія Т. В.):
"Очень хорошо. Самое удачное — это "Активисты". Это вѣрно, и вмѣстѣ съ тѣмъ это очень трудно изобразить"...
Читатели, вѣроятно, согласятся съ тѣмъ, что ужъ гдѣ-гдѣ, а въ "активистахъ" ненависть была, хотя лично мнѣ активисты въ глотку вцѣпиться никогда не ухитрялись. О своемъ ГПУ-скомъ слѣдователѣ, который послалъ насъ на 8 лѣтъ каторги, я говорилъ безо всякой ненависти. Итакъ, гдѣ же "двѣ стороны тамошней психологіи"?
Г-нъ Парчевскій, бесѣдуя съ 55 переселяющимися въ Парагвай мужиками (см. "Посл. Нов." № 5271), отмѣчаетъ ихъ полное единодушіе и, какъ образно выражается онъ: "словно не одинъ, а пятьдесятъ пять Солоневичей". Насчетъ "двухъ сторонъ" — опять не выходитъ. Но можно утверждать, что и я, и Чернавинъ, и парагвайскіе мужики, и г-нъ Тренинъ — всѣ мы, бѣжавшіе, "ущемленные", безсознательно склонны сгущать краски и дѣлать красное чернымъ. Поэтому придется перейти къ документальнымъ доказательствамъ. Ибо, если наличіе "кабака" не будетъ установлено твердо, тогда всѣ дальнѣйшіе выводы и иллюстраціи останутся повисшими въ воздухѣ.
Изъ безконечной путаницы порочныхъ круговъ совѣтской реальности попробуемъ проанализировать и продумать одинъ кругъ — "раскулачиваніе — тракторы — тягловая сила — голодъ — комсомольцы". По даннымъ, сообщеннымъ Сталинымъ на послѣдней партконференціи, СССР за послѣдніе годы потерялъ 19 милліоновъ лошадей: было 35 милліоновъ, осталась 16. Осталось, положимъ, меньше (11 милліоновъ безъ красной арміи), но не въ этомъ сила. Люди, которые хоть сколько-нибудь понимаютъ въ сельскомъ хозяйствѣ, поймутъ, что, имѣя на лицо около пятидесяти процентовъ прежней тягловой силы (да еще и истощенной безкормицей), физически не возможно обработать сто процентовъ прежней посѣвной площади.
Ни коровами, ни дѣвками, ни бабами, таскающими плуги въ Малороссіи и на Кубани, недостатокъ 19 милліоновъ лошадей возмѣстить нельзя. Отсюда маленькій выводъ о статистикѣ: совѣтская статистика утверждала, что въ 1933 году СССР собралъ рекордный за всю исторію Россіи урожай. По поводу этой, извините за выраженіе, статистики можно было бы поставить два вопроса: 1) откуда онъ взялся? и 2) куда онъ дѣлся? Взяться было неоткуда и дѣться было некуда: въ странѣ оставалось бы около двухъ милліардовъ пудовъ свободнаго зерна, и еврейскимъ общинамъ не пришлось бы собирать милостыню для спасенія погибающихъ отъ голода единовѣрцевъ (см. статью А. Ф. Керенскаго въ № 57 "Совр. Записокъ"). Это, значитъ, статистика. Перейдемъ къ планамъ и стройкамъ. Цѣною, въ частности, — этихъ 19 милліоновъ коней (гибли вѣдь еще и люди, и коровы и прочее) были построены, въ частности, три тракторныхъ завода — Сталинградскій, Харьковскій и Челябинскій; построено было еще много заводовъ, но мы пока будемъ говорить о тягловыхъ потеряхъ и о "тягловыхъ заводахъ". По оффиціальнымъ даннымъ эти заводы плюсъ импортъ дали странѣ нѣсколько больше двухсотъ тысячъ тракторовъ. По даннымъ секретаря сибирскаго крайкома партіи, опубликованнымъ въ "Правдѣ", кажется, въ ноябрѣ 1933 г. (этого номера у меня нѣтъ, но за точность цифры я ручаюсь категорически), производительность десяти совѣтскихъ тракторовъ равна на практикѣ производительности одиннадцати совѣтскихъ же лошадей. Слѣдовательно, для того, чтобы при данныхъ условіяхъ восполнить механической тягловой силой разбазаренную живую — надо построить приблизительно семнадцать милліоновъ тракторовъ.
Такъ вотъ: если это называется статистикой, планомъ и строительствомъ, — я позволю себѣ спросить: что же тогда должно обозначаться техническимъ терминомъ кабакъ?
ПСИХОЛОГИЧЕСКІЯ ОТРАЖЕНІЯ КАБАКА
Такъ вотъ: русскому молодняку твердили отцы: А ну-ка долбанемъ! А ну-ка — ухнемъ. Подтянемъ животъ, поголодаемъ, поднажмемъ — зато ужъ потомъ — сразу въ соціалистическій рай. Молоднякъ нажималъ, подтягивалъ животъ, подставлялъ свою головушку подъ "кулацкій" обрѣзъ, гибнулъ сотнями тысячъ: и отъ морозовъ — на зимней стройкѣ Магнитки, и отъ тифа — на Днѣпростроѣ, и отъ маляріи — въ Березникахъ, и отъ цынги въ Соликамскѣ, и отъ города — вездѣ, и отъ несчастныхъ случаевъ — на всѣхъ стройках, ибо при всѣхъ этихъ штурмахъ мѣры охраны труда — были какъ на турецкой перестрѣлкѣ.
И теперь, "выполнивъ и перевыполнивъ", онъ видитъ: тракторныя кладбища. И онъ чувствуетъ: все тотъ же голодъ. И онъ понимаетъ: все тотъ же кабакъ. "Кипитъ веселая соціалистическая стройка", перерабатывающая металлъ въ ржавчину и людей въ рабовъ или въ трупы. А когда, послѣ всѣхъ этихъ штурмов и побѣдъ, онъ попробовалъ было заикнуться: Дорогіе папаши, да какъ это? — такъ его десятками тысячъ поперли въ концентраціонные лагеря...
И сейчасъ, въ самое послѣднее время, ему — этому молодняку — преподнесли еще одну "награду побѣдителю" — отмѣну карточекъ. Онъ, этотъ молоднякъ, на вольномъ рынкѣ не покупалъ никогда и ничего (средняя студенческая стипендія была равна 60 рублямъ въ мѣсяцъ). Теперь эта стипендія уровнемъ новыхъ цѣнъ урѣзана больше, чѣмъ въ два раза, слѣдовательно, совсѣмъ уже голодъ, и въ качествѣ приправы къ этому голоду — свѣтятся икрянныя витрины "магазиновъ заочнаго питанія"...
И еще документикъ — изъ "Комсомольской Правды": разсказъ секретаря азовскаго райкома о раскулачиваніи Кубани. Годъ не указанъ, но раскулачиваніе идетъ хронически — никакъ не могутъ раскулачить до конца:
"Въ пустой станицѣ не горѣли огни и не лаяли собаки. Чернѣли вздувшіеся трупы лошадей. Ежедневно погибало 50 штукъ тягловаго скота (а людей? И. С.). Изъ сорока пяти комсомольцевъ — 30 пришлось выслать, четырехъ арестовать за кражу (процентикъ-то какой? И. С.), одиннадцать бѣжали вмѣстѣ съ раскулаченными... Весной землю пахали дѣвушки — некому больше было. А сѣмена носили на поле на собственныхъ спинахъ — такъ какъ лошадей не осталось (а на чемъ пахали, если лошадей не осталось? И. С.)
...По поводу моего очерка о колхозной деревнѣ — въ № 58 "Современныхъ Записокъ" я получилъ нѣкоторое количество негодующихъ писемъ, написанныхъ эмигрантскими толстовцами и вегетаріанцами: сгущаю краски. Что-жъ? И "Комсомольская Правда", она тоже сгущаетъ краски?...
Здѣсь, въ эмиграціи, обо всемъ этомъ можно разсуждать благодушно, спокойно и, такъ сказать, академически: намъ тепло, не дуетъ, и въ Соловки не волокутъ. Совѣтскій студентъ, комсомолецъ, мужикъ, рабочій — такъ разсуждать не могутъ. И не будутъ. Потому что одно — сочувствовать отцу умершаго ребенка и другое — хоронить собственнаго ребенка, погибшаго съ голоду...
...Со страницъ совѣтской прессы на читателя смотрятъ круглыя, исполненныя энтузіазма и прочаго лица "смѣны" (въ главѣ о спартакіадѣ я разскажу, какъ это дѣлается технически). Да, смѣна идетъ. Она не такая круглая и благодушная, какъ это кажется по фотографіямъ. Эта смѣна — придетъ. Мѣнять — она будетъ сильно...
СПАРТАКІАДА
ДИНАМО ТАЕТЪ
Къ концу мая мѣсяца наше каторжно-привиллегированное положеніе въ Медгорѣ закрѣпилось приблизительно въ такой степени, въ какой это вообще возможно въ текучести совѣтскихъ судебъ, и я (оптимистическій человѣкъ) сталъ было проникаться увѣренностью въ томъ, что нашъ побѣгъ, по крайней мѣрѣ побѣгъ изъ лагеря, можно считать вполнѣ обезпеченнымъ. Одно время возникла было нѣкоторая угроза со стороны культурно-воспитательнаго отдѣла, который довольно скоро сообразилъ, что Медоваръ играетъ только декоративную роль и что платить Медовару 300 рублей — когда мнѣ можно было заплатить только 30 — нѣтъ никакого расчета. Отъ опасности со стороны КВО я отдѣлался довольно просто: сманилъ Динамо на постройку новаго стадіона, благо прежній дѣйствительно никуда не годился. Нашелъ площадку на пригоркѣ за управленческимъ городкомъ, спланировалъ постройку. Для нея ежедневно сгоняли изъ ШИЗО по 150-200 урокъ, приволокли откуда-то с лѣсныхъ работъ три трактора, и КВО понялъ, что ужъ теперь-то Динамо меня не отдастъ. Словомъ — на Шипкѣ все было спокойно...
Потомъ, въ теченіе приблизительно трехъ дней все это спокойствіе было подорвано со всѣхъ сторонъ, и передѣ нами (въ который это уже разъ!) снова встала угроза полной катастрофы.
Началось все это съ моихъ футбольно-террористическихъ списковъ. Хлѣбниковъ оказался правъ: почти никого, кромѣ террористовъ, я среди лагерной физкультурной молодежи разыскать не могъ. Гольманъ же все настойчивѣе и настойчивѣе требовалъ отъ меня представленія списковъ: люди по этимъ спискамъ должны были быть переведены въ составъ Вохра. Исчерпавъ свои возможности, я пошелъ къ Медовару и сказалъ ему — устройте мнѣ командировку въ другія отдѣленія, здѣсь все, что можно было выискать, я уже выискалъ...
— Да, да, — затараторилъ Медоваръ, — ну, это все пустяки... Вы объ этихъ спискахъ пока никому не говорите, понимаете, только дискредитируете себя... (я, конечно, это понималъ)... Сейчасъ уезжаю въ Москву, вернусь дней черезъ пять, все это обставимъ въ лучшемъ видѣ...
Какимъ образомъ можно было "обставить все это въ лучшемъ видѣ", я понятія не имѣлъ. Да и видъ у Медовара былъ какой-то очень ужъ разсѣянно-жуликоватый. Медоваръ уѣхалъ. Дня черезъ три изъ Москвы пришла телеграмма:
"Медгору не вернусь тчк. вышлите вещи адресъ Динамо Москва тчк. Медоваръ".
Итакъ, великій комбинаторъ исчезъ съ медгорскаго горизонта. Поползли слухи о томъ, что головка центральнаго Динамо проворовалась въ какихъ-то совсѣмъ ужъ астрономическихъ масштабахъ, ходили слухи о полной ликвидаціи Динамо въ связи со сліяніемъ ОГПУ и Наркомвнудѣла.
Кстати, объ этомъ сліяніи. Въ лагерѣ оно ознаменовалось однимъ единственнымъ событіемъ. На этакой тріумфальной аркѣ при входѣ въ первый лагпунктъ красовались вырѣзанныя изъ фанеры буквы: ББК ОГПУ. Пришли плотники, сняли ОГПУ и приколотили НКВД. Заключенные толклись около и придумывали всякія расшифровки новой комбинаціи буквъ. Всѣ эти расшифровки носили характеръ цѣликомъ и полностью непечатный. Никакихъ другихъ перемѣнъ и комментаріевъ "ликвидація" ОГПУ не вызвала: въ лагерѣ сидѣли въ среднемъ люди толковые.
Почти одновременно съ Медоваромъ въ Москву уѣхалъ и Радецкій: подозрѣваю, что Медоваръ къ нему и пристроился. Радецкій получалъ какое-то новое назначеніе. Я остался, такъ сказать, лицомъ къ лицу съ Гольманомъ. Te^te-a`-te^te было не изъ пріятныхъ.
Вопросъ о спискахъ Гольманъ поставилъ въ ультимативномъ порядкѣ. Я отвѣтилъ просьбой о командировкѣ на сѣверъ и показалъ свои списки, больше ничего не оставалось дѣлать:
— Развѣ Медоваръ вамъ о нихъ не говорилъ, — съ невиннымъ видомъ спросилъ я.
Гольманъ внимательно посмотрѣлъ списки и поднялъ на меня свое испытующее, активистское око.
— Не везетъ вамъ, т. Солоневичъ, съ политикой въ физкультурѣ. Бросили бы вы это дѣло.
— Какое дѣло?
— Оба. И политику, и физкультуру.
— Политикой не занимаюсь.
Гольманъ посмотрѣлъ на меня съ ехидной усмѣшечкой. Потомъ сухо сказалъ:
— Оставьте эти списки здѣсь. Мы выяснимъ. Я васъ вызову. Пока.
И "выяснимъ", и "вызову", и "пока" ничего хорошаго не предвѣщали. На другой день Гольманъ дѣйствительно вызвалъ меня. Разговоръ былъ коротокъ и оффиціаленъ: КВО настаиваетъ на моемъ переходѣ туда на работу, и съ его настояніями онъ, Гольманъ, согласенъ. Въ виду чего я откомандировываюсь въ распоряженіе КВО. Однако, по совмѣстительству съ работой въ КВО я обязанъ закончить стройку стадіона.
Я вздохнулъ съ облегченіемъ. У Гольмана ко мнѣ было тоже активистское чувство, какъ и у Стародубцева, — только нѣсколько, такъ сказать, облагороженное. Гольманъ все-таки понималъ, что очень ужъ прижимать меня — не слишкомъ рентабильное предпріятіе. Но мало ли какъ могло прорваться это чувство...
О футбольно-террористическихъ спискахъ ни я, ни Гольманъ не сказали ни слова...
БЕСѢДА СЪ ТОВАРИЩЕМЪ КОРЗУНОМЪ
Культурно-воспитательный отдѣлъ ББК былъ здѣсь тѣмъ же, чѣмъ на волѣ являются культурно-просвѣтательные отдѣлы профсоюзовъ. По корридорамъ КВО съ необычайно дѣловымъ видомъ околачивались всякіе бибработники, музработники, агитпропработники — околачивался и я, и съ тѣмъ же дѣловымъ видомъ: дѣлать что-нибудь другое еще, было рѣшительно нечего. Во время одной изъ такихъ дѣловыхъ прогулокъ изъ комнаты въ комнату КВО меня въ корридорѣ перехватилъ Корзунъ.
— Ага, тов. Солоневичъ... Что такое я хотѣлъ съ вами поговорить... Вотъ и забылъ, чортъ возьми... Ну, зайдемте ко мнѣ, я вспомню.
Зашли. Усѣлись. Кабинетъ Корзуна былъ увѣшанъ фотографическими снимками, иллюстрирующими героизмъ строительства Бѣломорско-Балтійскаго канала, висѣли фотографіи особо перековавшихся ударниковъ, и въ числѣ оныхъ — красовался снимокъ торжественнаго момента: на сценѣ клуба тов. Корзунъ навѣшиваетъ ордена Бѣлморстроя "лучшимъ изъ лучшихъ", тѣмъ самымъ, которые послѣ торжества отправились въ Торгсинъ — выпить, закусить и разжиться валютой...
Я отвелъ глаза отъ фотографіи — встрѣтился съ иронически-добродушнымъ взглядомъ Корзуна — видимо, о моемъ давешнемъ совѣтѣ Смирнову онъ зналъ.
— У васъ, кажется, основательный стажъ въ области культработы.
Я отвѣтилъ.
— Но вы едва-ли знаете, въ чемъ заключается принципіальная разница между культработой на волѣ и здѣсь.
— Думаю, что принципіальной — никакой.
— Нѣтъ, есть и принципіальная. На волѣ культработа должна поднять сознательность средняго трудящагося до уровня сознательности коммуниста. Здѣсь мы должны поднять соціальные инстинкты, — Корзунъ поднялъ палецъ, — понимаете: соціальные трудовые инстинкты деклассированной и контръ-революціонной части населенія — до средняго совѣтскаго уровня.
— Гмъ, — сказалъ я. — Перековка?
Корзунъ посмотрѣлъ на меня какъ-то искоса.
— Всѣхъ перековать — мы не можемъ. Но тѣхъ, кого мы перековать не можемъ, — мы уничтожаемъ...
Утвержденіе Корзуна было форменнымъ вздоромъ: лагерь не "перековывалъ" никого, но даже и лагерь не былъ въ состояніи "уничтожить" милліоны неперекованныхъ...
— Боюсь, что для проведенія въ жизнь этой программы пришлось бы создать очень мощный, такъ сказать, механизированный аппаратъ уничтоженія.
— Ну, такъ что-жъ? — Взглядъ у Корзуна былъ ясный, открытый и интеллигентный...
Передъ этимъ "ну, что-жъ" — я замялся. Корзунъ посмотрѣлъ на меня не безъ соболѣзнованія.
— А вы помните Сталинскую фразу о тараканахъ? — спросилъ онъ...
Эту фразу я помнилъ: забыть ее — трудно. Изъ всего того, что было сказано о революціи ея вождями, болѣе гнуснаго, чѣмъ эта фраза, не было сказано ничего. Той части партіи, которая въ ужасѣ остановилась передъ неисчислимостью труповъ, наваленныхъ на путяхъ коллективизаціи, передъ страданіями и гнѣвомъ народа, — Сталинъ бросилъ презрительный упрекъ: таракановъ испугались. Для него "трудящіеся" были только тараканами. Выморить ихъ милліономъ больше, милліономъ меньше — не все ли равно. Я сжалъ зубы и отъ всякихъ комментаріевъ воздержался, ибо единственный подходящій къ этому случаю комментарій — это висѣлица. Въ моемъ распоряженіи ея не было...
— Да, — продолжалъ Корзунъ, — вотъ поэтому-то Сталинъ и вождь, что онъ человѣкъ абсолютной смѣлости. Онъ ни передъ чѣмъ не остановится. Если для интересовъ революціи потребуется, чтобы онъ пошелъ цѣловать туфлю римскаго папы, — онъ пойдетъ.
Что онъ дѣйствительно пойдетъ — въ этомъ, конечно, не было никакого сомнѣнія. Я снова, какъ это часто бывало въ разговорахъ съ коммунистами, почувствовалъ себя во власти спокойной, увѣренной, очень умной и безпримѣрно наглой силы. Настолько большой, что она даже и не даетъ себѣ труда скрывать свою наглость... Весь нынѣшній разговоръ былъ нелѣпъ, ненуженъ, а можетъ быть, и опасенъ...
— Простите, тов. Корзунъ, мнѣ не хотѣлось бы разрабатывать эту тему, въ особенности здѣсь, когда я самъ, нахожусь въ положеніи таракана.
— Ну, нѣтъ, вы — не въ положеніи таракана. Вы вѣдь и сами это прекрасно понимаете... Но вы должны понять, что мы вынуждены къ безпощадности... И въ сущности — внѣ зависимости личной вины тѣхъ, кого мы уничтожаемъ. Развѣ, напримѣръ, есть какая-нибудь личная вина въ нашихъ безпризорникахъ — а вотъ... Ахъ, чортъ, наконецъ, вспомнилъ.... Я васъ по поводу безпризорниковъ и искалъ. Вы знаете о нашей колоніи на Водораздѣлѣ. Мы тамъ организуемъ второе Болшево. Тамъ пока около двухъ тысячъ человѣкъ (пока я доѣхалъ до колоніи, въ ней оказалось болѣе четырехъ тысячъ). Такъ вотъ, мы рѣшили васъ туда командировать... Для постановки физкультурной работы. Вы вѣдь сами понимаете, что лагерная физкультура — это мифъ... А тамъ — ударная работа... Словомъ — поѣзжайте. Жить вы тамъ будете на положеніи вольнонаемнаго, ударный зачетъ сроковъ... Мы съ Гольманомъ этотъ вопросъ уже обсуждали. Онъ не возражаетъ...
Въ душѣ подымается острая боль обиды на судьбу... Водораздѣлъ... Это около 250 верстъ до границы по совсѣмъ непроходимымъ болотамъ. Если я — въ Водораздѣлѣ, Юра — здѣсь, Борисъ — въ Лодейномъ полѣ, то какъ списаться? У насъ пока — ни компасовъ, ни карты, ни сапогъ. Продовольствія — какъ котъ наплакалъ... Въ водораздѣльскомъ болотѣ можетъ насъ засосать — и въ переносномъ, и въ прямомъ смыслѣ этого слова.
Что дѣлать?..
Корзунъ продолжалъ расписывать прелести работы въ колоніи. Для того, чтобы выиграть время, я достаю папиросу, зажигаю ее, и спичка въ рукахъ прыгаетъ, какъ зайчикъ на стѣнѣ.
Но отказываться нельзя. О, Господи... Снова придется какъ-то выкручиваться — длинно, мучительно и оскорбительно. И, главное, — совершенно неизвѣстно какъ...
Отъ Корзуна я вышелъ въ какомъ-то оглушенномъ состояніи. Удалось оттянуть отправку въ колонію на два дня; и послѣзавтра... Что дѣлать?..
Забрался на берегъ рѣчки, сидѣлъ, курилъ, выработалъ планъ еще одной небольшой отсрочки. Пришелъ къ Гольману, доложилъ о моей полной договоренности съ Корзуномъ и сдѣлалъ при этомъ такой видъ: ну, ужъ теперь я отъ васъ, тов. Гольманъ, отдѣлаюсь, слава Тебѣ Господи, окончательно. Точно такой же видъ былъ и у Гольмана.
— А ваши динамовскія дѣла вы сдайте Батюшкову, — сказалъ онъ.
— Хорошо. Но такъ какъ Батюшковъ не находится въ совсѣмъ трезвомъ видѣ, то нѣкоторыя дѣла по сооруженію стадіона я хотѣлъ бы передать лично вамъ.
— А какія тамъ еще дѣла?
— Вамъ прорабъ сдѣлалъ неправильныя насыпи на виражахъ дорожки — онѣ осѣли, нужно пересыпать. И, второе — тотъ строительный мусоръ, который привезли для теннисныхъ площадокъ, никуда не годится. Передайте, пожалуйста, Батюшкову, чтобы онъ подыскалъ подходящіе матеріалы....
Гольманъ посмотрѣлъ на меня съ раздраженіемъ.
— Напутали вы съ этимъ стадіономъ, а теперь хотите на Батюшкова переложить. Нѣтъ ужъ, извините, пока вы стадіонъ не закончите — ни въ какія колоніи мы васъ не отпустимъ. Извольте немедленно взяться за стадіонъ и закончить его.
Я принимаю сдержанно-огорченный видъ.
— Позвольте, вѣдь т. Корзунъ уже отдалъ приказъ...
— Это васъ не касается, беритесь немедленно за стадіонъ.
ПЛАНЪ ВЕЛИКОЙ ХАЛТУРЫ
Какая-то отсрочка была добыта. А дальше что? Я сообщилъ Юрѣ о положеніи вещей. Юра выдвинулъ проектъ немедленнаго побѣга. Я только посмотрѣлъ на Юру. Юра сконфузился: да, это просто ляпнулъ... Но можетъ быть, можно какъ-нибудь дать знать Борису, чтобы и онъ бѣжалъ сейчасъ же...
Это все было утопіей. Бѣжать до нашего общаго срока, значило подвести Бориса, если и не подъ разстрѣлъ, то подъ отправку куда-нибудь за Уралъ или на Соловки. Дать ему знать и получить отъ него отвѣтъ, что онъ принимаетъ новый срокъ, было почти невозможно технически, не говоря уже о рискѣ, съ которымъ были сопряжены эти переговоры.
Дня два я бродилъ по лѣсу, въ состояніи какой-то озлобленной рѣшимости: выходъ нужно найти. Я возстанавливалъ въ своемъ воображеніи всю мою схему совѣтскихъ взаимоотношеній, и по этой схемѣ выходило такъ, что нужно въ самомъ срочномъ порядкѣ найти какую-то огромную, вопіющую халтуру, которая могла бы кому-то изъ крупнаго начальства, хотя бы и тому же Корзуну или Вержбицкому, дать какія-то новыя карьерныя перспективы. Возникали и отбрасывались культурно-просвѣтительные, технически-производственные и всякіе другіе планы, пока путемъ исключенія не вырисовался, пока только въ общихъ чертахъ, планъ проведенія вселагерной спартакіады ББК.
Думаю, что въ эти дни видъ у меня былъ не совсѣмъ вразумительный. По крайней мѣрѣ, Юра, встрѣтивъ какъ-то меня по дорогѣ въ техникумъ, безпокойно сказалъ:
— Этакъ, Ва, ты совсѣмъ съ мозговъ слѣзешь.
— А что?
— Да вотъ ходишь и что-то бормочешь...
Я постарался не бормотать. На другой же день пролѣзъ въ машинное бюро управленія ББК и по блату накаталъ докладную записку самому начальнику лагеря, Успенскому. Записка касалась вопроса объ организаціи вселагерной спартакіады, о томъ, что эта спартакіада должна служить документальнымъ и неоспоримымъ доказательствомъ правильности воспитательной системы лагерей, что она должна дать совершенно очевидное доказательство перековки и энтузіазма, что она должна опровергнуть буржуазную клевету о лагерѣ, какъ о мѣстѣ истребленія людей, ну, и прочее въ томъ же родѣ. Путемъ нѣкоторыхъ техническихъ ухищреній я сдѣлалъ такъ, чтобы записка эта попала непосредственно къ Успенскому, безъ никакихъ Корзуновъ и Гольмановъ.
Записку взялись передать непосредственно. Я шатался по лѣсамъ около Медгоры въ странномъ настроеніи: отъ этой записки зависѣлъ нашъ побѣгъ или, по крайней мѣрѣ, шансы на благополучный исходъ побѣга. Иногда мнѣ казалось, что весь этотъ проектъ — форменный вздоръ и что Успенскій въ лучшемъ случай кинетъ его въ корзину, иногда мнѣ казалось, что это — идеально вывѣренный и точный планъ.
Планъ этотъ былъ, конечно, самой вопіющей халтурой, но онъ былъ реально выполнимъ и, въ случаѣ выполненія, заложилъ бы нѣкоторый дополнительный камень въ фундаментъ карьеры т. Успенскаго. Временами мнѣ казалось, что на столь наглую и столь очевидную халтуру Успенскій все-таки не пойдетъ. Но по зрѣломъ размышленіи я пришелъ къ выводу, что эти опасенія — вздоръ. Для того, чтобы халтурный проектъ провалился не вслѣдствіе технической невыполнимости, а только вслѣдствіе своей чрезмѣрной наглости, нужно было предполагать въ начальствѣ хоть малѣйшую совѣстливость... Какія есть у меня основанія предполагать эту совѣстливость въ Успенскомъ, если я и на волѣ не встрѣчался съ ней никогда? Объ Успенскомъ же говорили, какъ о человѣкѣ очень умномъ, чрезвычайно властномъ и совершенно безпощадномъ, какъ объ очень молодомъ партійномъ администраторѣ, который дѣлаетъ свою карьеру изо всѣхъ силъ, своихъ и чужихъ. На его совѣсти лежало много десятковъ тысячъ человѣческихъ жизней. Онъ усовѣстится? Онъ не клюнетъ на такого жирнаго, халтурнаго, карьернаго червяка? Если не клюнетъ, тогда, значитъ, во всей механикѣ совѣтскаго кабака я не понимаю ничего. Долженъ клюнуть. Клюнетъ обязательно...
Я расчитывалъ, что меня вызовутъ дня черезъ два-три, и по всей вѣроятности, къ Гольману... Но въ тотъ же день вечеромъ въ баракъ торопливо и нѣсколько растерянно вбѣжалъ начальникъ колонны.
— Гдѣ тов. Солоневичъ... старшій... Иванъ?.. Васъ сейчасъ же требуютъ къ товарищу Успенскому...
Съ начальникомъ колонны у меня въ сущности не было никакихъ отношеній. Онъ изрѣдка дѣлалъ начальственныя, но безтолковыя и безвредныя замѣчанія, и въ глазахъ у него стояло: ты не смотри, что ты въ очкахъ... Въ случаѣ чего, я тебѣ такія гайки завинчу...
Сейчасъ въ очахъ начальника колонны не было никакихъ гаекъ. Эти очи трепались растерянно и недоумѣвающе. Къ "самому" Успенскому... И въ чемъ это здѣсь зарыта собака?.. Юра дипломатически и хладнокровно подлилъ масла въ огонь:
— Ну, значитъ, Ватикъ, опять до поздней ночи...
— Такъ вы, товарищъ Солоневичъ... пожалуйста ... Я сейчасъ позвоню въ управленіе, что я вамъ передалъ..
— Да, да я сейчасъ иду... — И въ моемъ голосѣ — спокойствіе, какъ будто прогулка къ Успенскому — самое обыденное занятіе въ моей лагерной жизни....
СОЛОВЕЦКІЙ НАПОЛЕОНЪ
Въ пріемной у Успенскаго сидитъ начальникъ отдѣла снабженія и еще нѣсколько человѣкъ. Значитъ, придется подождать...
Я усаживаюсь и оглядываюсь кругомъ. Публика все хорошо откормленная, чисто выбритая, одѣтая въ новую чекистскую форму — все это головка лагернаго ОГПУ. Я здѣсь — единственный въ лагерномъ, арестантскомъ одѣяніи, и чувствую себя какимъ-то пролетаріемъ навыворотъ. Вотъ, напротивъ меня сидитъ грузный, суровый старикъ — это начальникъ нашего медгорскаго отдѣленія Поккалнъ. Онъ смотритъ на меня неодобрительно. Между мной и имъ — цѣлая лѣстница всяческаго начальства, изъ котораго каждое можетъ вышибить меня въ тѣ не очень отдаленныя мѣста, куда даже лагерный Макаръ телятъ своихъ не гонялъ. Куда-нибудь вродѣ девятнадцатаго квартала, а то и похуже... Поккалнъ можетъ отправить въ тѣ же мѣста почти все это начальство, меня же стереть съ лица земли однимъ дуновеніемъ своимъ... Такъ что сидѣть здѣсь подъ недоумѣнно-неодобрительными взглядами всей этой чекистской аристократіи мнѣ не очень уютно...
Сидѣть же, видимо, придется долго. Говорятъ, что Успенскій иногда работаетъ въ своемъ кабинетѣ сутки подрядъ и тѣ же сутки заставляетъ ждать въ пріемныхъ своихъ подчиненныхъ.
Но дверь кабинета раскрывается, въ ея рамѣ показывается вытянутый въ струнку секретарь и говоритъ:
— Товарищъ Солоневичъ, пожалуйста.
Я "жалую"... На лицѣ Поккална неодобреніе переходитъ въ полную растерянность. Начальникъ отдѣла снабженія, который при появленіи секретаря поднялся было и подхватилъ свой портфель, остается торчать столбомъ съ видомъ полнаго недоумѣнія. Я вхожу въ кабинетъ и думаю: "Вотъ это клюнулъ... Вотъ это глотнулъ"...
Огромный кабинетъ, обставленный съ какою-то выдержанной, суровой роскошью. За большимъ столомъ — "самъ" Успенскій, молодой сравнительно человѣкъ, лѣтъ тридцати пяти, плотный, съ какими-то, безцвѣтными, свѣтлыми глазами. Умное, властолюбивое лицо. На Соловкахъ его называли "Соловецкимъ Наполеономъ"... Да, этого на мякинѣ не проведешь... Но не на мякинѣ же я и собираюсь его провести...
Онъ не то, чтобы ощупывалъ меня глазами, а какъ будто какимъ-то точнымъ инструментомъ измѣрялъ каждую часть моего лица и фигуры.
— Садитесь.
Я сажусь.
— Это вашъ проектъ?
— Мой.
— Вы давно въ лагерѣ?
— Около полугода.
— Гмъ... Стажъ невеликъ. Лагерныя условія знаете?
— Въ достаточной степени для того, чтобы быть увѣреннымъ въ исполнимости моего проекта. Иначе я вамъ бы его и не предлагалъ...
На лицѣ Успенскаго настороженность и, пожалуй, недовѣріе.
— У меня о васъ хорошіе отзывы... Но времени слишкомъ мало. По климатическимъ условіямъ мы не можемъ проводить праздникъ позже середины августа. Я вамъ совѣтую всерьезъ подумать.
— Гражданинъ начальникъ, у меня обдуманы всѣ детали.
— А ну, разскажите...
Къ концу моего коротенькаго доклада Успенскій смотритъ на меня довольными и даже улыбающимися глазами. Я смотрю на него примѣрно такъ же, и мы оба похожи на двухъ жуликоватыхъ авгуровъ.
— Берите папиросу... Такъ вы это все беретесь провести? Какъ бы только намъ съ вами на этомъ дѣлѣ не оскандалиться...
— Товарищъ Успенскій... Въ одиночку, конечно, я ничего не смогу сдѣлать, но если помощь лагерной администраціи...
— Объ этомъ не безпокойтесь. Приготовьте завтра мнѣ для подписи рядъ приказовъ — въ томъ духѣ, о которомъ вы говорили. Поккалну я дамъ личныя распоряженія...
— Товарищъ Поккалнъ сейчасъ здѣсь.
— А, тѣмъ лучше...
Успенскій нажимаетъ кнопку звонка.
— Позовите сюда Поккална.
Входитъ Поккалнъ. Нѣмая сцена. Поккалнъ стоитъ передъ Успенскимъ болѣе или менѣе на вытяжку. Я, червь у ногъ Поккална, сижу въ креслѣ не то, чтобы развалившись, но все же заложивъ ногу на ногу, и покуриваю начальственную папиросу.
— Вотъ что, товарищъ Поккалнъ... Мы будемъ проводить общелагерную спартакіаду. Руководить ея проведеніемъ будетъ т. Солоневичъ. Вамъ нужно будетъ озаботиться слѣдующими вещами: выдѣлить спеціальные фонды усиленнаго питанія на 60 человѣкъ — срокомъ на 2 мѣсяца, выдѣлить отдѣльный баракъ или палатку для этихъ людей, обезпечить этотъ баракъ обслуживающимъ персоналомъ, дать рабочихъ для устройства тренировочныхъ площадокъ... Пока, товарищъ Солоневичъ, кажется, все?
— Пока все.
— Ну, подробности вы сами объясните тов. Поккалну. Только, тов. Поккалнъ, имѣйте въ виду, что спартакіада имѣетъ большое политическое значеніе и что подготовка должна быть проведена въ порядкѣ боевого заданія...
— Слушаю, товарищъ начальникъ...
Я вижу, что Поккалнъ не понимаетъ окончательно ни черта. Онъ ни черта не понимаетъ ни насчетъ спартакіады, ни насчетъ "политическаго значенія".
Онъ не понимаетъ, почему "боевое заданіе" и почему я, замызганный, очкастый арестантъ, сижу здѣсь почти развалившись, почти какъ у себя дома, а онъ, Поккалнъ, стоитъ на вытяжку. Ничего этого не понимаетъ честная латышская голова Поккална.
— Товарищъ Солоневичъ будетъ руководить проведеніемъ спартакіады, и вы ему должны оказать возможное содѣйствіе. Въ случаѣ затрудненій, обращайтесь ко мнѣ. И вы тоже, товарищъ Солоневичъ. Можете идти, т. Поккалнъ. Сегодня я васъ принять не могу.
Поккалнъ поворачивается налѣво кругомъ и уходитъ... А я остаюсь. Я чувствую себя немного... скажемъ, на страницахъ Шехерезады... Поккалнъ чувствуетъ себя точно такъ же, только онъ еще не знаетъ, что это Шехерезада...
Мы съ Успенскимъ остаемся одни.
— Здѣсь, т. Солоневичъ, есть все-таки еще одинъ неясный пунктъ. Скажите, что это у васъ за странный наборъ статей?
Я уже говорилъ, что ОГПУ не сообщаетъ лагерю, за что именно посаженъ сюда данный заключенный. Указывается только статья и срокъ. Поэтому Успенскій рѣшительно не знаетъ, въ чемъ тутъ дѣло. Онъ, конечно, не очень вѣритъ въ то, что я занимался шпіонажемъ (ст. 58, п. 6), что я работалъ въ контръ-революціонной организаціи (58, 11), ни въ то, что я предавался такому пороку, какъ нелегальная переправка совѣтскихъ гражданъ за границу, совершаемая въ видѣ промысла (59, п. 10). Статью, карающую за нелегальный переходъ границы и предусматривавшую въ тѣ времена максимумъ 3 года, ГПУ изъ скромности не использовало вовсе.
Во всю эту ахинею Успенскій не вѣритъ по той простой причинѣ, что люди, осужденные по этимъ статьямъ всерьезъ, получаютъ такъ называемую, птичку или, выражаясь оффиціальной терминологіей, "особыя указанія" и ѣдутъ въ Соловки безъ всякой пересадки.
Отсутствіе "птички", да еще 8-лѣтній срокъ заключенія являются, такъ сказать, оффиціальнымъ симптомомъ вздорности всего обвиненія.
Кромѣ того, Успенскій не можетъ не знать, что статьи совѣтскаго Уголовнаго Кодекса "пришиваются" вообще кому попало и какъ попало: "былъ бы человѣкъ, а статья найдется"...
Я знаю, чего боится Успенскій. Онъ боится не того, что я шпіонъ, контръ-революціонеръ и все прочее — для спартакіады это не имѣетъ никакого значенія. Онъ боится, что я просто не очень удачный халтурщикъ и что гдѣ-то тамъ на волѣ я сорвался на какой-то крупной халтурѣ, а такъ какъ этотъ проступокъ не предусмотрѣнъ Уголовнымъ Кодексомъ, то и пришило мнѣ ГПУ первыя попавшіяся статьи.
Это — одна изъ возможностей, которая Успенскаго безпокоитъ. Если я сорвусь и съ этой спартакіадской халтурой — Успенскій меня, конечно, живьемъ съѣстъ, но ему-то отъ этого какое утѣшеніе? Успенскаго безпокоитъ возможная нехватка у меня халтурной квалификаціи. И больше ничего.
...Я успокаиваю Успенскаго. Я сижу за "связь съ заграницей" и сижу вмѣстѣ съ сыномъ. Послѣдній фактъ отметаетъ послѣднія подозрѣнія насчетъ неудачной халтуры:
— Такъ вотъ, т. Солоневичъ, — говоритъ Успенскій, поднимаясь. — Надѣюсь, что вы это провернете на большой палецъ. Если сумѣете — я вамъ гарантирую сниженіе срока на половину.
Успенскій, конечно, не знаетъ, что я не собираюсь сидѣть не только половины, но и четверти своего срока... Я сдержанно благодарю. Успенскій снова смотритъ на меня пристально въ упоръ.
— Да, кстати, — спрашиваетъ онъ, — какъ ваши бытовыя условія? Не нужно ли вамъ чего?
— Спасибо, тов. Успенскій, я вполнѣ устроенъ.
Успенскій нѣсколько недовѣрчиво приподнимаетъ брови.
— Я предпочитаю, — поясняю я, — авансовъ не брать, надѣюсь, что послѣ спартакіады...
— Если вы ее хорошо провернете, вы будете устроены блестяще... Мнѣ кажется, что вы ее... провернете...
И мы снова смотримъ другъ на друга глазами жуликоватыхъ авгуровъ.
— Но, если вамъ что-нибудь нужно — говорите прямо.
Но мнѣ не нужно ничего. Во-первыхъ, потому, что я не хочу тратить на мелочи ни одной копѣйки капитала своего "общественнаго вліянія", а во-вторыхъ, потому, что теперь все, что мнѣ нужно, я получу и безъ Успенскаго...
ВВЕДЕНІЕ ВЪ ФИЛОСОФІЮ ХАЛТУРЫ
Теперь я передамъ, въ чемъ заключалась высказанная и невысказанная суть нашей бесѣды.
Само собой разумеется, что ни о какой мало-мальски серьезной постановкѣ физической культуры въ концлагерѣ и говорить не приходилось. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ предлагать футболъ человѣку, который работаетъ физически по 12 часовъ въ сутки при ясно недостаточномъ питаніи и у самаго полярнаго круга. Не могъ же я въ самомъ дѣлѣ пойти со своей физкультурой въ девятнадцатый кварталъ?... Я сразу намекнулъ Успенскому, что ужъ эту-то штуку я понимаю совершенно ясно — и этимъ избавило его отъ необходимости вдаваться въ не совсѣмъ все-таки удобныя объясненія.
Но я не собирался ставить физкультуру всерьезъ. Я только обязался провести спартакіаду такъ, чтобы въ ней была масса, были рекорды, чтобы спартакіада была соотвѣтствующе рекламирована въ московской прессѣ и сочувствующей иностранной, чтобы она была заснята и на фото-пластинки, и на кино-пленку — словомъ, чтобы urbi et orbi и отечественной плотвѣ, и заграничнымъ идеалистическимъ карасямъ воочію, съ документами на страницахъ журналовъ и на экранѣ кино, было показано: вотъ какъ совѣтская власть заботится даже о лагерникахъ, даже о бандитахъ, контръ-революціонерахъ, вредителяхъ и т.д. Вотъ какъ идетъ "перековка". Вотъ здѣсь — правда, а не въ "гнусныхъ буржуазныхъ выдумкахъ" о лагерныхъ звѣрствахъ, о голодѣ, о вымираніи...
"L'Humanite'", которая въ механикѣ этой халтуры не понимаетъ ни уха, ни рыла, будетъ орать объ этой спартакіадѣ на всю Францію — допускаю даже, что искренно. Максимъ Горькій, который приблизительно такъ же, какъ я и Успенскій, знаетъ эту механику, напишетъ елейно-проститутскую статью въ "Правду" и пришлетъ въ ББК привѣтствіе. Объ этомъ привѣтствіи лагерники будутъ говорить въ выраженіяхъ, не поддающихся переводу ни на одинъ иностранный языкъ: выраженіяхъ, формулирующихъ тѣ предѣльныя степени презрѣнія, какія завалящій урка можетъ чувствовать къ самой завалящей, изъѣденной сифилисомъ, подзаборной проституткѣ. Ибо онъ, лагерникъ, онъ-то знаетъ, гдѣ именно зарыта собака, и знаетъ, что Горькому это извѣстно не хуже, чѣмъ ему самому...
О прозаическихъ реальныхъ корняхъ этой халтуры будутъ знать всѣ, кому это надлежитъ знать — и ГПУ, и ГУЛАГ, и Высшій Совѣтъ Физкультуры, и въ глазахъ всѣхъ Успенскій будетъ человѣкомъ, который выдумалъ эту комбинацію, хотя и жульническую, но явно служащую къ вящей славѣ Сталина. Успенскій на этомъ дѣлѣ заработаетъ нѣкоторый административно-политическій капиталецъ... Могъ ли Успенскій не клюнуть на такую комбинацію? Могъ ли Успенскій не остаться довольнымъ нашей бесѣдой, гдѣ столь прозаическихъ выраженій, какъ комбинація и жульничество, конечно, не употреблялось en toutes lettres и гдѣ все было ясно и понятно само собой...
Еще довольнѣе былъ я, ибо въ этой игрѣ не Успенскій используетъ и обставитъ меня, а я использую и обставлю Успенскаго... Ибо я точно знаю, чего я хочу. И Успенскій сдѣлаетъ почти все отъ него зависящее, чтобы, самъ того не подозрѣвая, гарантировать максимальную безопасность моего побѣга...
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВИХРЬ
Въ течете ближайшихъ трехъ дней были изданы приказы:
1. По всему ББК — о спартакіадѣ вообще, съ обязательнымъ опубликованіемъ въ "Перековкѣ" не позже 12 іюня.
2. Всѣмъ начальникамъ отдѣленій — о подборѣ инструкторовъ, командъ и прочаго — "подъ ихъ личную (начальниковъ отдѣленій) отвѣтственность" и съ обязательнымъ докладомъ непосредственно начальнику ББЛАГа, тов. Успенскому каждую пятидневку о продѣланной работѣ.
Приказъ этотъ былъ средактированъ очень круто: "Тутъ можно и перегнуть палку, сказалъ Успенскій, времени мало"...
3. Объ освобожденіи всѣхъ участниковъ командъ отъ работы и общественной нагрузки и о прекращеніи ихъ перебросокъ съ лагпункта на лагпунктъ.
4. О подготовкѣ отдѣльнаго барака въ совхозѣ "Вичка" для 60 человѣкъ участниковъ спартакіады и о бронированіи для нихъ усиленнаго питанія на все время тренировки и состязаній.
5. Объ ассигнованіи 50 000 рублей на покупку спортивнаго инвентаря.
6 и 7. Секретные приказы по Вохру, третьему отдѣлу и Динамо объ оказаніи мнѣ содѣйствія.
Когда все это было подписано и "спущено на мѣста", я почувствовалъ: feci quod potui. Дальше этого дѣлать больше было нечего — развѣ что затребовать автомобиль до границы...
Впрочемъ, какъ это ни глупо звучитъ, такой автомобиль тоже не былъ совсѣмъ утопичнымъ: въ 50 клм. къ западу отъ Медгоры былъ выстроенъ поселокъ для административно-ссыльныхъ, и мы съ Юрой обсуждали проектъ поѣздки въ этотъ поселокъ въ командировку. Это не было бы до границы, но это было бы все-таки почти полъ дороги до границы. Но я предпочелъ лишніе 5 дней нашего пѣшаго хожденія по болотамъ — дополнительному риску автомобильной поѣздки...
КАКЪ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛАРЧИКЪ СЪ ЭНТУЗІАЗМОМЪ
Какая-то завалящая ББКовская спартакіада — это, конечно, мелочь. Это — не пятилѣтка, не Магнитострой и даже не "Магнитострой литературы". Но величіе Аллаха проявляется въ малѣйшемъ изъ его созданій... Халтурные методы ББКовской спартакіады примѣняются и на московскихъ спартакіадахъ, на "строяхъ" всѣхъ разновидностей и типовъ, на Магнитострояхъ литературныхъ и не литературныхъ, печатныхъ и вовсе непечатныхъ и въ суммѣ мелкихъ и крупныхъ слагаемыхъ даютъ необозримые массивы великой всесоюзной Халтуры съ большой буквы.
Ключъ къ ларчику, въ которомъ были запрятаны успѣхи, увы, не состоявшейся ББКовской халтуры, будетъ открывать много совѣтскихъ ларчиковъ вообще. Не знаю, будетъ ли это интересно, но поучительно будетъ во всякомъ случаѣ.
Спартакіада была назначена на 15 августа, и читатель, неискушенный въ совѣтской техникѣ, можетъ меня спросить: какимъ это образомъ собирался я за эти полтора-два мѣсяца извлечь изъ пустого мѣста и массы, и энтузіазмъ, и рекорды, и прочее. И неискушенному въ совѣтской техникѣ читателю я отвѣчу, даже и не извиняясь за откровенность:
— Точно такъ же, какъ я извлекалъ ихъ на Всесоюзной спартакіадѣ, точно такъ же, какъ эти предметы первой совѣтской необходимости извлекаются по всей Совѣтской Россіи вообще.
На волѣ есть нѣсколько сотенъ хорошо оплачиваемыхъ и питаемыхъ профессіоналовъ (рекорды), нѣсколько тысячъ кое-какъ подкармливаемыхъ, но хорошо натренированныхъ въ "организаціонномъ отношеніи" комсомольцевъ (энтузіазмъ) и десятки тысячъ всякой публики, вродѣ осоавіахимовцевъ и прочаго, которые по соотвѣтствующему приказу могутъ воплотиться въ соотвѣтствующую массу въ любой моментъ и по любому рѣшительно поводу: спартакіада, процессъ вредителей, пріѣздъ Горькаго, встрѣча короля Амманулы и пр. Поводъ не играетъ никакой роли. Важенъ приказъ.
У меня для рекордовъ будетъ 5-6 десятковъ людей, которыхъ я помѣщу въ этотъ курортный баракъ въ Вичкѣ, которые будутъ тамъ жрать такъ, какъ имъ на волѣ и не снилось (Успенскій эту жратву дастъ, и у меня ни одинъ каптеръ не сопретъ ни одной копѣйки), которые будутъ ѣсть, спать, тренироваться и больше ничего. Въ ихъ числѣ будутъ десятка два-три бывшихъ инструкторовъ физкультуры, то-есть профессіоналовъ своего дѣла.
Кромѣ того, есть моментъ и не халтурнаго свойства, точно такъ же, какъ онъ есть и въ пятилѣткѣ... Дѣло въ томъ, что на нашей бывшей святой Руси разсыпаны спортивные таланты феерическаго масштаба. Сколько разъ, еще до революціи, меня, человѣка исключительнаго сложенія и многолѣтней тренировки, били, въ томъ числѣ и по моимъ "спортивнымъ спеціальностямъ", совершенно случайные люди, рѣшительно никакого отношенія къ спорту не имѣвшіе: пастухи, монтеры, гимназисты... Дѣло прошлое, но тогда было очень обидно...
Такихъ людей, поискавши, можно найти и въ лагерѣ. Людей, вродѣ того сибирскаго гиганта съ девятнадцатаго квартала. Нѣсколькихъ, правда, пожиже, но не такъ изъѣденныхъ голодомъ, я уже подобралъ на 5 лагпунктѣ. За полтора мѣсяца они подкормятся. Человѣкъ 10 я еще подберу.
Но ежели паче чаянія цифры рекордовъ покажутся мнѣ недостаточными, то что по милости Аллаха мѣшаетъ мнѣ провести надъ ними ту же операцію, какую Наркоматъ тяжелой промышленности производить надъ цифрами добычи угля (въ сей послѣдней операціи я тоже участвовалъ). Какой мудрецъ разберетъ потомъ, сколько тоннъ угля было добыто изъ шахтъ Донбасса и сколько изъ канцеляріи Наркомтяжпрома?
Какой мудрецъ можетъ провѣрить, дѣйствительно ли заключенный Ивановъ 7-ой пробѣжалъ стометровку въ 11,2 секунды и, въ положительномъ случаѣ, былъ ли онъ дѣйствительно заключеннымъ? Хронометражъ будетъ въ моихъ рукахъ, судейская коллегія будутъ "свои парни въ доску". Успенскому же важно, во-первыхъ, чтобы цифры были хороши, и, во-вторыхъ, чтобы онѣ были хорошо сдѣланы, внѣ подозрѣній или, во всякомъ случаѣ, внѣ доказуемыхъ подозрѣній.
Все это будетъ сдѣлано. Впрочемъ, ничего этого на этотъ разъ не будетъ сдѣлано, ибо спартакіада назначена на 15 августа, а побѣгъ на 28 іюля.
Дальше: роль десятка тысячъ энтузіастовъ будутъ выполнять сотни двѣ-три вохровцевъ, оперативниковъ и работниковъ ОГПУ — народъ откормленный, тренированный и весьма натасканный на всяческій энтузіазмъ. Они создадутъ общій спортивный фонъ, они будутъ орать, они дадутъ круглыя, улыбающіяся лица для съемки переднимъ планомъ.
Наконецъ, для массы я мобилизую треть всей Медгоры. Эта треть будетъ маршировать "мощными колоннами", нести на своихъ спинахъ "лозунги", получить лишній паекъ хлѣба и освобожденіе отъ работъ дня на 2-3. Если спартакіада пройдетъ успѣшно, то для этой массы я еще выторгую по какой-нибудь майкѣ — Успенскій тогда будетъ щедръ.
Вотъ эти пайки и майки — единственное, что я для этихъ массъ могу сдѣлать. Да и то относительно, ибо хлѣбъ этотъ будетъ отнять отъ какихъ-то другихъ массъ, и для этихъ другихъ я не могу сдѣлать рѣшительно ничего. Только одно — использовать Успенскаго до конца, бѣжать за границу и тамъ на весь христіанскій и нехристіанскій міръ орать благимъ матомъ объ ихъ, этихъ массъ, судьбѣ. Здѣсь же я не могу не только орать, но и пикнуть: меня прирѣжутъ въ первомъ же попавшемся чекистскомъ подвалѣ, какъ поросенка, безъ публикаціи не то, что въ "Правдѣ", а даже и въ "Перековкѣ", прирѣжутъ такъ, что даже родной братъ не сможетъ откопать, куда я дѣлся...
ТРАМПЛИНЪ ДЛЯ ПРЫЖКА КЪ ГРАНИЦѢ
Конечно, при всемъ этомъ я малость покривлю душой. Но что подѣлаешь? Во-первыхъ, не я выдумалъ эту систему общеобязательнаго всесоюзнаго кривлянья и, во вторыхъ — Paris vaut la messe.
Вмѣсто "Парижа" я буду имѣть всяческую свободу дѣйствій, передвиженій и развѣдки, а также практически ничѣмъ не ограниченный "блатъ". Теперь я могу придти въ административный отдѣлъ и сказать дружескимъ, но не допускающимъ никакихъ сомнѣній тономъ:
— Заготовьте ка мнѣ сегодня вечеромъ командировку туда-то и туда-то...
И командировка будетъ заготовлена мнѣ внѣ всякой очереди, и никакая третья часть не поставитъ на ней штампа: "Слѣдуетъ въ сопровожденіи конвоя", какой она поставила на моей первой командировкѣ.
И никакой вохровецъ, когда я буду нести въ укромное мѣсто въ лѣсу свой набитый продовольствіемъ рюкзакъ, въ этотъ рюкзакъ не полѣзетъ, ибо и онъ будетъ знать о моемъ великомъ блатѣ у Успенскаго — я уже позабочусь, чтобы онъ объ этомъ зналъ... И онъ будетъ знать еще о нѣкоторыхъ возможностяхъ, изложенныхъ ниже...
Въ моемъ распоряженіи окажутся такія великія блага, какъ тапочки — я ихъ могу дать, а могу и не дать... И человѣкъ будетъ ходить либо въ пудовыхъ казенныхъ сапожищахъ, либо на своихъ голыхъ частно-собственническихъ подошвахъ.
И, наконецъ, если мнѣ это понадобится, я приду, напримѣръ, къ завѣдующему ларькомъ товарищу Аведисяну и предложу ему полтора мѣсяца жратвы, отдыха и сладкаго бездумья на моемъ вичкинскомъ курортѣ. На жратву Аведисяну наплевать и онъ можетъ мнѣ отвѣтить:
Нашъ братъ презираетъ совѣтскую власть,
И даръ мнѣ твой вовсе не нуженъ.
Мы сами съ усами и кушаемъ всласть
На завтракъ, обѣдъ и на ужинъ...
Но объ отдыхѣ, объ единственномъ днѣ отдыха за всѣ свои 6 лѣтъ лагернаго сидѣнія, Аведисянъ мечтаетъ всѣ эти 6 лѣтъ. Онъ, конечно, воруетъ — не столько для себя, сколько для начальства. И онъ вѣчно дрожитъ — не столько за себя, сколько за начальство. Если влипнетъ онъ самъ — ерунда, начальство выручить — только молчи и не болтай. Но если влипнетъ начальство? Тогда — пропалъ. Ибо начальство, чтобы выкрутиться — свалитъ все на Аведисяна, и некому будетъ Аведисяна выручать, и сгніетъ Аведисянъ гдѣ-нибудь на Лѣсной Рѣчкѣ...
Аведисянъ облизнется на мой проектъ, мечтательно посмотритъ въ окно на недоступное ему голубое небо, хотя и не кавказское, а только карельское, но все же небо, и скажетъ этакъ безнадежно:
— Полтора мѣсяца? Хотя бы полтора дня... Но, товарищъ Солоневичъ, ничего изъ этого не выйдетъ... Не отпустятъ...
Я знаю, его очень трудно вырвать. Безъ него начальству придется сызнова и съ новымъ человѣкомъ налаживать довольно сложную систему воровства. Хлопотливо и небезопасно...
Но я скажу Аведисяну небрежно и увѣренно:
— Ну, ужъ это вы, т. Аведисянъ, предоставьте мнѣ.
И я пойду къ Дорошенкѣ, начальнику лагпункта.
Здѣсь могутъ быть два основныхъ варіанта:
1. Если начальникъ лагпункта человѣкъ умный и съ нюхомъ, то онъ отдастъ мнѣ Аведисяна безъ всякихъ разговоровъ. Или, если съ Аведисяномъ будетъ дѣйствительно трудно, скажетъ мнѣ:
— Знаете что, т. Солоневичъ, мнѣ очень трудно отпустить Аведисяна. Ну, вы знаете — почему, вы человѣкъ бывалый... Пойдите лучше къ начальнику отдѣленія т. Поккалну и поговорите съ нимъ...
2. Если онъ человѣкъ глупый и нюха не имѣетъ, то онъ, выслушавъ столь фантастическую просьбу, пошлетъ меня къ чортовой матери, что ему очень дорого обойдется... Не потому, чтобы я былъ мстительнымъ, а потому, что въ моемъ нынѣшнемъ положеніи я вообще не могу позволить себѣ роскоши быть посланнымъ къ чортовой матери...
А такъ какъ Дорошенко человѣкъ толковый и, кромѣ того, знаетъ о моемъ блатѣ у Успенскаго, онъ вѣроятнѣе всего уступить мнѣ безо всякихъ разговоровъ. Въ противномъ случаѣ мнѣ придется пойти къ Поккалну и повторить ему свою просьбу.
Поккалнъ съ сокрушеніемъ пожметъ плечами, протянетъ мнѣ свой умилостивительный портсигаръ и скажетъ:
— Да, но вы знаете, т. Солоневичъ, какъ трудно оторвать Аведисяна отъ ларька, да еще на полтора мѣсяца...
— Ну, конечно, знаю, т. Поккалнъ. Поэтому-то я и обратился къ вамъ. Вы же понимаете, насколько намъ политически важно провести нашу спартакіаду...
Политически... Тутъ любой стремительно-начальственный разбѣгъ съ размаху сядетъ въ галошу... По-ли-ти-чески... Это пахнетъ такими никому непонятными вещами, какъ генеральной линіей, коминтерномъ, интересами міровой революціи и всяческимъ чортомъ въ ступѣ и, во всякомъ случаѣ, — "недооцѣнкой", "притупленіемъ классовой бдительности", "хожденіемъ на поводу у классоваго врага" и прочими вещами, еще менѣе понятными, но непріятными во всякомъ случаѣ... Тѣмъ болѣе, что и Успенскій говорилъ: "политическое значеніе"... Поккалнъ не понимаетъ ни черта, но Аведисяна дастъ.
Въ томъ совершенно невѣроятномъ случаѣ, если откажетъ и Поккалнъ, я пойду къ Успенскому и скажу ему, что Аведисянъ — лучшее украшеніе будущей спартакіады, что онъ пробѣгаетъ стометровку въ 0,1 секунды, но что "по весьма понятнымъ соображеніямъ" администрація лагпункта не хочетъ его отпустить. Успенскому все-таки будетъ спокойнѣе имѣть настоящія, а не липовыя цифры спартакіады и, кромѣ того, Успенскому наплевать на то, съ какой степенью комфорта разворовывается лагерный сахаръ — и Аведисяна я выцарапаю.
Я могу такимъ же образомъ вытянуть раздатчика изъ столовой ИТР и многихъ другихъ лицъ... Даже предубѣжденный читатель пойметъ, что въ ларьковомъ сахарѣ я недостатка терпѣть не буду, что ИТРовскихъ щей я буду хлебать, сколько въ меня влѣзетъ... И въ своемъ курортѣ я на всякій случай (напримѣръ, срывъ побѣга изъ-за болѣзни — мало ли что можетъ быть) я забронировалъ два десятка мѣстъ, необходимыхъ мнѣ исключительно для блата...
Но я не буду безпокоить ни Дорошенки, ни Поккална, ни Аведисяна съ его сахаромъ. Все это мнѣ не нужно...
Это — случай гипотетическій и, такъ сказать, несостоявшійся... О случаяхъ, которые "состоялись" и которые дали намъ по компасу, по парѣ сапогъ, по плащу, по пропуску и, главное, карту — правда, паршивую, но все же карту — я не могу говорить по причинамъ вполнѣ понятнымъ. Но они развивались по канонамъ "гипотетическаго случая" съ Аведисяномъ... Ибо не только, скажемъ, кухонному раздатчику, но любому вохровцу и оперативнику перспектива полутора мѣсяца на курортѣ гораздо пріятнѣе того же срока, проведеннаго въ какихъ-нибудь засадахъ, заставахъ и обходахъ по топямъ, болотамъ и комарамъ...
А вотъ вамъ случай не гипотетическій:
Я прохожу по корридору отдѣленія и слышу грохочущій матъ Поккална и жалкій лепетъ оправданія, исходящій изъ устъ товарища Левина, моего начальника колонны.
Мнѣ ничего не нужно у Поккална, но мнѣ нужно произвести должное впечатлѣніе на Левина. Поэтому я вхожу въ кабинетъ Поккална (о, конечно, безъ доклада и безъ очереди), бережно обхожу вытянувшагося въ струнку Левина, плотно усаживаюсь въ кресло у стола Поккална, закидываю ногу на ногу и осматриваю Левина сочувственно-покровительственнымъ взглядомъ: "И какъ это тебя, братецъ, такъ угораздило?"...
Теперь нѣсколько разъясненій:
Я живу въ баракѣ № 15, и надо мной въ баракѣ существуетъ начальство: "статистикъ", староста барака и двое дневальныхъ, не говоря о "выборномъ" начальствѣ вродѣ, напримѣръ, уполномоченнаго по борьбѣ съ прогулами, тройки по борьбѣ съ побѣгами, тройки по соревнованію и ударничеству и прочее. Я между всѣмъ этимъ начальствомъ — какъ листъ, крутимый бурей. Дневальный, напримѣръ, можетъ поинтересоваться, почему я, уѣзжая въ двухдневную командировку, уношу съ собой двухпудовый рюкзакъ и даже поковыряться въ немъ. Вы понимаете, какія будутъ послѣдствія, если онъ поковыряется?.. Тройка по борьбѣ съ побегами можетъ въ любой моментъ учинить мнѣ обыскъ... Староста барака можетъ погнать меня на какое-либо особо неудобное дежурство, на какой-нибудь ударникъ по чисткѣ отхожихъ мѣстъ, можетъ подложить мнѣ всяческую свинью по административной линіи. Начальникъ колонны можетъ погнать на общія работы, можетъ пересадить меня въ какой-нибудь особо дырявый и уголовный баракъ, перевести куда-нибудь моего сына, зачислить меня въ филоны или въ антіобщественные и антисовѣтски настроенные элементы и вообще проложить мнѣ прямую дорожку на Лѣсную Рѣчку. Надъ начальникомъ колонны стоитъ начальникъ УРЧа, который съ начальникомъ колонны можетъ сдѣлать больше, чѣмъ начальникъ колонны со мной, а обо мнѣ ужъ и говорить нечего... Я возношусь мысленно выше и вижу монументальную фигуру начальника лагпункта, который и меня, и Левина просто въ порошекъ стереть можетъ... Еще дальше — начальникъ отдѣленія, при имени котораго прилипаетъ языкъ къ горлу лагерника...
Говоря короче, начальство до начальника колонны — это крупныя непріятности, до начальника лагпункта — это возможность погребенія заживо въ какомъ-нибудь Морсплавѣ, Лѣсной Рѣчкѣ, Поповомъ островѣ, девятнадцатомъ кварталѣ... Начальникъ отдѣленія — это уже право жизни и смерти. Это уже право на разстрѣлъ.
И все это начальство мнѣ нужно обойти и обставить. И это при томъ условіи, что по линіи чисто административной — я былъ у ногъ не только Поккална, но и Левина, а по линіи "блата" — чортъ меня разберетъ... Я черезъ головы всего этого сногсшибательнаго начальства имѣю хожденіе непосредственно къ самому Успенскому, одно имя котораго вгоняетъ въ потъ начальника лагпункта... И развѣ начальникъ лагпункта, начальникъ колонны могутъ предусмотрѣть, что я тамъ брякну насчетъ воровства, пьянства, начальственныхъ процентныхъ сборовъ съ лагерныхъ проститутокъ, приписки мертвыхъ душъ къ лагернымъ столовкамъ и много, очень много другого?..
И вотъ, я сижу, болтая въ воздухѣ ногой, покуривая папиросу и глядя на то, какъ на лбу Левина уже выступили капельки пота...
Поккалнъ спохватывается, что матъ вѣдь оффиціально неодобренъ, слегка осѣкается и говоритъ мнѣ, какъ бы извиняясь:
— Ну, вотъ видите, тов. Солоневичъ, что съ этимъ народомъ подѣлаешь?..
Я сочувственно пожимаю плечами:
— Ну, конечно, тов. Поккалнъ, что подѣлаешь... Вопросъ кадровъ... Мы все этимъ болѣемъ...
— Ступайте вонъ, — говоритъ Поккалнъ Левину.
Левинъ пробкой вылетаетъ въ корридоръ и, вылетѣвъ, не дважды и не трижды возблагодаритъ Аллаха за то, что ни вчера, ни позавчера, ни даже третьяго дня онъ не подложилъ мнѣ никакой свиньи. Ибо, если бы такая свинья была подложена, то я не сказалъ бы Поккалну вотъ такъ, какъ сейчасъ:
— Что подѣлаешь... Вопросъ кадровъ...
А сказалъ бы:
— Что же вы хотите, тов. Поккалнъ... У нихъ въ кабинкѣ перманентное воровство и ежедневное пьянство...
Само собой разумѣется, что и объ этомъ воровствѣ, и объ этомъ пьянствѣ Поккалнъ знаетъ такъ же точно, какъ знаю и я. Поккалнъ, можетъ быть, и хотѣлъ бы что-нибудь сдѣлать, но какъ ему справиться, если воруетъ вся администрація и въ лагерѣ, какъ и на волѣ. Посадишь въ ШИЗО одного, другой на его мѣстѣ будетъ воровать точно такъ же — система. Поэтому Поккалнъ глядитъ сквозь пальцы. Но если бы я при Поккалнѣ сказалъ о воровствѣ вслухъ, то о томъ же воровствѣ я могъ бы сказать и Успенскому, такъ, между прочимъ... И тогда полетитъ не только Левинъ, но и Поккалнъ. Ибо въ функціи Успенскаго входитъ "нагонять страхъ". И, значитъ, въ случаѣ подложенной мною свиньи, вылетѣлъ бы товарищъ Левинъ, но уже не въ корридоръ, а въ ШИЗО, подъ судъ, на Лѣсную Рѣчку, въ гніеніе заживо. Ибо я, въ числѣ прочихъ моихъ качествъ, живой свидѣтель, имѣющій доступъ къ самому Успенскому...
И, придя домой и собравъ собутыльниковъ и соучастниковъ своихъ, скажетъ имъ товарищъ Левинъ, не можетъ не сказать въ интересахъ общей безопасности:
— Обходите вы этого очкастаго за двадцать пять верстъ съ правой стороны. Чортъ его знаетъ, какой у него тамъ блатъ и у Поккална, и у Успенскаго.
И буду я благоденствовать и не полѣзетъ никто ни въ карманы мои, ни въ рюкзакъ мой...
РЕЗУЛЬТАТЫ
Въ результатѣ всего этого блата я къ 28 іюля имѣлъ: Двѣ командировки въ разныя стороны для себя самого, что было сравнительно несложно. Двѣ командировки на тотъ же срокъ и тоже въ разныя стороны для Юры, что было, при нашихъ статьяхъ и одинаковыхъ фамиліяхъ, чрезвычайно сложно и трудно. Два разовыхъ пропуска для насъ обоихъ на всякій случай... И, кромѣ того, этотъ блатъ по-просту спасъ намъ жизнь.
Какъ я ни обдумывалъ заранѣе всѣхъ деталей побѣга, какъ ни представлялъ себѣ всѣхъ возможныхъ комбинацій, я проворонилъ одну. Дорогу къ "укромному мѣсту" въ лѣсу, гдѣ былъ сложенъ нашъ багажъ, я прошелъ для развѣдки разъ десять. На этихъ мѣстахъ ни разу не было ни души, и эти мѣста не охранялись. Когда я въ послѣдній разъ шелъ туда, шелъ уже въ побѣгъ, имѣя на спинѣ рюкзакъ съ тремя пудами вещей и продовольствія, а въ карманѣ — компасъ и карту, я натолкнулся на патруль изъ двухъ оперативниковъ... Судьба.
Въ перспективѣ было: или арестъ и разстрѣлъ, или драка съ двумя вооруженными людьми, съ очень слабыми шансами на побѣду.
И патруль прошелъ мимо меня, не посмѣвъ поинтересоваться не только рюкзакомъ, но и документами.
ЕСЛИ БЫ...
Если бы я почему бы то ни было остался въ ББК, я провелъ бы эту спартакіаду такъ, какъ она проектировалась. "L'Humanite'" распирало бы отъ энтузіазма, а отъ Горькаго по всему міру растекался бы его подзаборный елей. Я жилъ бы лучше, чѣмъ на волѣ. Значительно лучше, чѣмъ живутъ квалифицированные спеціалисты въ Москвѣ, и не дѣлалъ бы ровно ни черта. Все это не очень красиво?
Все это просто и прямо отвратительно. Но это есть совѣтская жизнь, такая, какая она есть...
Милліоны людей въ Россіи дохнутъ съ голоду и отъ другихъ причинъ, но нельзя себѣ представить дѣло такъ, что передъ тѣмъ, какъ подохнуть, они не пытаются протестовать, сопротивляться и изворачиваться.
Процессами этого изворачиванія наполнены всѣ совѣтскія будни, ибо протесты и открытое сопротивленіе безнадежны.
Не нужно схематизировать этихъ будней. Нельзя представить себѣ дѣло такъ, что съ одной стороны существуютъ безпощадные палачи, а съ другой — безотвѣтные агнцы. Палачи — тоже рабы. Успенскій — рабъ передъ Ягодой, а Ягода — передъ Сталинымъ. Психологіей рабства, изворачиванія, воровства и халтуры пропитаны эти будни. Нѣтъ Бога, кромѣ міровой революціи, и Сталинъ пророкъ ея. Нѣтъ права, а есть революціонная цѣлесообразность, и Сталинъ единственный толкователь ея. Не человѣческія личности, а есть безличныя единицы "массы", приносимой въ жертву міровому пожару...
ПРИПОЛЯРНЫЕ ОГУРЦЫ
Административный вихрь, рожденный въ кабинетѣ Успенскаго, произвелъ должное впечатлѣніе на лагерную администрацію всѣхъ ранговъ. Дня черезъ три меня вызвалъ къ себѣ Поккалнъ. Вызовъ былъ сдѣланъ весьма дипломатически: ко мнѣ пришелъ начальникъ лагпункта, тов. Дорошенко, сказалъ, что Поккалнъ хочетъ меня видѣть и что, если у меня есть время, не откажусь ли я заглянуть къ Поккалну.
Я, конечно, не отказался. Поккалнъ былъ изысканно вѣжливъ: въ одномъ изъ приказовъ всѣмъ начальникамъ отдѣленій вмѣнялось въ обязанность каждую пятидневку лично и непосредственно докладывать Успенскому о продѣланной работѣ. А о чемъ, собственно, могъ докладывать Поккалнъ?
Я былъ столь же изысканно вѣжливъ. Изобразили докладъ Успенскому, и я сказалъ Поккалну, что для медгорскаго отдѣленія ему придется найти спеціальнаго работника. Я, дескать, работаю не какъ-нибудь, а въ масштабѣ всего ББК. Никакого такого работника у Поккална, конечно, и въ заводѣ не было. Поэтому я, снисходя къ Поккалновской административней слабости, предложилъ ему пока что услуги Юры. Услуги были приняты съ признательностью, и Юра былъ зачисленъ инструкторомъ спорта медгорскаго отдѣленія ББК — это было чрезвычайно важно для побѣга.
Потомъ мы съ Поккалномъ намѣтили мѣсто для жилья будущихъ участниковъ спартакіады. Я предложилъ лагерный пунктъ Вичку, лежавшую верстахъ въ шести къ западу отъ Медгоры. Вичка представляла рядъ техническихъ преимуществъ для побѣга, которыя, впрочемъ, впослѣдствіи такъ и не понадобились. Поккалнъ сейчасъ же позвонилъ по телефону начальнику вичкинскаго лагпункта, сообщилъ, что туда прибудетъ нѣкій тов. Солоневичъ, обремененный по-ли-ти-че-ски-ми заданіями и дѣйствующій по личному приказу тов. Успенскаго. Поэтому, когда я пришелъ на Вичку, начальникъ лагпункта встрѣтилъ меня точно такъ же, какъ нѣкогда товарищъ Хлестаковъ былъ встрѣченъ товарищемъ Сквозникъ-Дмухановскимъ.
Сама же Вичка была достаточно любопытнымъ произведеніемъ совѣтскаго строительства. На территоріи двухъ десятинъ былъ выкорчеванъ лѣсъ, вывезены камни, засыпаны ямы и сооружены оранжереи. Это было огородное хозяйство для нуждъ чекистскихъ столовыхъ и распредѣлителей.
Въ Москвѣ для того, чтобы вставить выбитое въ окнѣ стекло, нуженъ великій запасъ изворотливости и удачи. А тутъ двѣ десятины были покрыты стекломъ, и подъ этимъ стекломъ выращивались огурцы, помидоры, арбузы и дыни. Со всего ББК поѣздами свозился навозъ, команды Вохра выцарапывали изъ деревень каждую крошку коровьихъ экскрементовъ, сюда было ухлопано огромное количество народнаго труда и народныхъ денегъ.
Такъ какъ я прибылъ на Вичку въ качествѣ этакаго почетнаго, но все же весьма подозрительнаго гостя (начальникъ лагпункта никакъ, конечно, не могъ повѣрить, что всѣ эти приказы и прочее — что все это изъ-за какого-то футбола; въ его глазахъ стояло: ужъ вы меня не проведете, знаемъ мы...), то ко мнѣ былъ приставленъ старикъ агрономъ Вички — тоже заключенный, который потащилъ меня демонстрировать свои огородныя достиженія.
Демонстрировать, собственно, было нечего. Были чахлые, малокровные огурцы и такой же салатъ, помидоровъ еще не было, арбузы и дыни еще должны были быть. Въ общемъ — приполярное огородное хозяйство. Освоеніе приполярныхъ массивовъ... Продолженіе соціалистической агрикультуры къ полярному кругу: для большевиковъ нѣтъ ничего невозможнаго.
Невозможнаго дѣйствительно нѣтъ. При большевицкомъ отношеніи къ труду можно и на сѣверномъ полюсѣ кокосовыя пальмы выращивать: отчего нѣтъ? Но съ затратой только одной сотой доли всего того, что было ухлопано въ вичкинскія оранжереи, всю Медгору можно было бы завалить помидорами, выращенными въ Малороссіи безъ всякаго стекла, безъ всякихъ достиженій и безъ всякихъ фокусовъ. Правда, въ результатѣ аналогичныхъ фокусовъ помидоры и въ Малороссіи расти перестали...
Агрономъ оказался энтузіастомъ. Какъ у всѣхъ энтузіастовъ, у него futurum подавляюще доминировало надъ praesens.
— Все это, вы понимаете, только начало. Только первые шаги въ дѣлѣ сельско-хозяйственнаго освоенія сѣвера... Вотъ когда будетъ закончена электростанція на Кумсѣ — мы будемъ отоплять эти оранжереи электрическимъ токомъ.
Вѣроятно, будутъ отоплять электрическимъ токомъ. Уже былъ почти окончательно разработанъ проектъ сооруженія на сосѣдней рѣчушкѣ Кумсѣ гигантской, въ 80 метровъ вышиной, плотины и постройки тамъ гидростанціи. Постройка, конечно, проектировалась путемъ использованія каторжнаго труда и каторжныхъ костей. Какой-нибудь Акульшинъ, вмѣсто того, чтобы у себя дома сотнями тоннъ производить помидоры безъ всякихъ гидростанцій, будетъ гнить гдѣ-то подъ этой плотиной, а помидоровъ, какъ и раньше, не будетъ ни тамъ, ни тамъ.
Еще одинъ изъ нелѣпыхъ порочныхъ круговъ совѣтской реальности. Но коллекція этихъ круговъ въ какихъ-то вырванныхъ изъ общей связи мѣстахъ создаетъ нѣкоторое впечатлѣніе. Такъ и съ этой Вичкой. Мѣсяцемъ позже меня приставили въ качествѣ переводчика къ какой-то иностранной делегаціи. Делегація осматривала, ахала и охала, а я чувствовалъ себя такъ глупо и такъ противно, что даже и писать объ этомъ не хочется...
Я испытующе посмотрѣлъ на агронома. Кто его знаетъ? Вѣдь вотъ я организую во имя спасенія шкуры свою совершенно идіотскую халтуру со спартакіадой. Можетъ быть, спасаетъ свою шкуру и агрономъ, со своей вичкинской халтурой? Правда, Вичка обойдется во много разъ дороже моей спартакіады, но когда дѣло доходитъ до собственной шкуры, люди расходами обычно не стѣсняются, въ особенности расходами за чужой счетъ.
Я даже попробовалъ было понимающе подмигнуть этому агроному, какъ подмигиваютъ другъ другу толковые совѣтскіе люди. Никакого впечатлѣнія. Свои приполярные помидоры агрономъ принималъ совершенно всерьезъ. Мнѣ стало чуть жутко: боюсь я энтузіастовъ. И вотъ еще одинъ энтузіастъ. Для этихъ помидоровъ онъ своей головы не пожалѣетъ — это достаточно очевидно, но еще въ меньшей степени онъ позаботится о моей головѣ.
Отъ агронома мнѣ стало противно и жутко. Я попытался было намекнуть на то, что на Днѣпрѣ, Дону, Кубани, эти помидоры можно выращивать милліонами тоннъ и безъ никакихъ электрификацій, а мѣста тамъ, слава Богу, хватаетъ и еще на сотни лѣтъ хватитъ. Агрономъ посмотрѣлъ на меня презрительно и замолчалъ. Не стоитъ-де метать бисера передъ свиньями. Впрочемъ, огурцами онъ меня снабдилъ въ изобиліи.
КУРОРТЪ НА ВИЧКѢ
Никакого барака для участниковъ спартакіады строить не пришлось. Въ Вичкѣ только что было закончено огромное деревянное зданіе будущей конторы совхоза, и я пока что прикарманилъ это зданіе для жилья моихъ спортсменовъ. Впрочемъ, тамъ оказались не одни спортсмены: спартакіады я все равно проводить не собирался и подбиралъ туда всякую публику, преимущественно по признаку личныхъ симпатій, такъ сказать, "протекціонизмъ". Мы съ Юрой оказались въ положеніи этакихъ Гарунъ-аль-Рашидовъ, имѣющихъ возможность на общемъ фонѣ каторжной жизни разсыпать вокругъ себя благодѣянія полутора-двухъ мѣсяцевъ сытнаго и привольнаго житья на вичкинскомъ курортѣ. Разсыпали щедро, все равно бѣжать; чѣмъ мы рискуемъ? Забирались въ траву, на мѣсто нашего постояннаго "разложенія", "разлагались" тамъ и выискивали: ну, кого еще? Помѣщеніе уже было, фонды питанія, и хорошаго питанія, уже были выдѣлены — жалко было оставлять пустующими курортный мѣста. Такъ, для медицинскаго надзора за драгоцѣннымъ здоровьемъ тренирующихся я извлекъ изъ центральной чекистской амбулаторіи одного престарѣлаго хирурга, окончательно измотаннаго лагернымъ житьемъ, и въ воздаяніе за это — хотя тогда о воздаяніи я не думалъ — я получилъ возможность подлѣчить свои нервы душами Шарко, массажемъ, электротерапіей, горнымъ солнцемъ и прочими вещами, которыя въ европейскихъ условіяхъ влетаютъ, вѣроятно, въ копѣечку. Примѣрно такимъ же образомъ были извлечены двѣ машинистки управленія ББК, одна изъ которыхъ отсидѣла уже семь лѣтъ, другая — шесть. Вообще на Вичку переводились люди, которые рѣшительно никакого отношенія къ спартакіадѣ не имѣли и имѣть не могли.
Всѣ мои предписанія насчетъ такихъ переводовъ Поккалнъ исполнялъ неукоснительно и безъ разговоровъ. Имѣю основанія полагать, что за эти недѣли я Поккалну осточертѣлъ, и моя спартакіада снилась ему какимъ-то восьминогимъ кошмаромъ съ очками на каждой ногѣ. И если кто былъ обрадованъ нашимъ побѣгомъ изъ лагеря, такъ это Поккалнъ — какъ гора съ плечъ. Была только одна маленькая зацѣпочка. Юра — черезъ Хлѣбникова — отыскалъ семидесятилѣтняго профессора геологіи, имя небезызвѣстное и заграницей. Я рѣшилъ рискнуть и пришелъ къ Поккалну. Даже латышская флегма тов. Поккална не выдержала:
— Ну, ужъ, позвольте, тов. Солоневичъ, это уже черезчуръ. Зачѣмъ онъ вамъ нуженъ? Ему же шестьдесятъ, что онъ, въ футболъ у васъ будетъ играть?
— Ахъ, тов. Поккалнъ, вѣдь вы сами же понимаете, что спартакіада имѣетъ въ сущности вовсе не спортивное, а чисто политическое значеніе.
Поккалнъ посмотрѣлъ на меня раздраженно, но сдѣлалъ видъ, что о политическомъ значеніи онъ понимаетъ все. Разспрашивать меня и, слѣдовательно, признаваться въ обратномъ — было бы неудобно: какой же онъ послѣ этого членъ партіи?
Профессоръ въ полномъ изумленіи забралъ свои пожитки, былъ перевезенъ на Вичку, лежалъ тамъ на солнышкѣ, удилъ форель и съ совершенно недоумѣннымъ видомъ спрашивалъ меня потомъ:
— Послушайте, тутъ, кажется, вы что-то вродѣ завѣдующаго... Объясните мнѣ ради Бога, что сей сонъ значитъ?
Объяснять ему — у меня не было никакой возможности. Но въ воздаяніе за курортъ я попросилъ профессора выучить меня уженью форели. Профессоръ поучилъ меня дня два, а потомъ бросилъ.
— Простите, я выдвиженцами никогда не занимался... Извините, пожалуйста, но такой бездарности, какъ вы — еще не встрѣчалъ... Совѣтую вамъ никогда и въ руки удочки не брать. Профанація!
Юра въ своемъ новомъ чинѣ инструктора спорта медгорскаго отдѣленія ББК ОГПУ лазилъ по лагпунктамъ и потомъ говорилъ мнѣ: тамъ, на шестомъ лагпунктѣ, бухгалтерша одна есть... Кандидатура бухгалтерши подвергалась обсужденію, и женщина изъ обстановки голоднаго двѣнадцатичасоваго рабочаго дня, клопиныхъ бараковъ и всяческихъ понуканій, не вѣря глазамъ своимъ, перебиралась на Вичку...
Я сейчасъ заплатилъ бы нѣкоторое количество денегъ, чтобы посмотрѣть, какъ послѣ нашего побѣга Успенскій расхлебывалъ мою спартакіаду, а Поккалнъ расхлебывалъ мой вичкинскій курортъ. Во всякомъ случаѣ — это былъ на рѣдкость веселый періодъ моей жизни.
НА САМЫХЪ ВЕРХАХЪ
Мои отношенія съ Успенскимъ, если и были лишены нѣкоторыхъ человѣческихъ черточекъ, то, во всякомъ случаѣ, нехваткой оригинальности никакъ не страдали. Изъ положенія заключеннаго и каторжника я однимъ мановеніемъ начальственныхъ рукъ былъ перенесенъ въ положеніе соучастника нѣкоей жульнической комбинаціи, въ положеніе, такъ сказать, совладѣльца нѣкоей жульнической тайны. Успенскій имѣлъ въ себѣ достаточно мужества или чего-то иного, чтобы при всемъ этомъ не дѣлать честнаго выраженія лица, я — тоже. Такъ что было взаимное пониманіе, не очень стопроцентное, но было.
Успенскій вызывалъ меня по нѣсколько разъ въ недѣлю въ самые неподходящіе часы дня и ночи, выслушивалъ мои доклады о ходѣ дѣлъ, заказывалъ и цензурировалъ статьи, предназначенныя для "Перековки", Москвы и "братскихъ компартій", обсуждалъ проекты сценарія о спартакіадѣ и прочее въ этомъ родѣ. Иногда выходили маленькія недоразумѣнія. Одно изъ нихъ вышло изъ-за профессора-геолога.
Успенскій вызвалъ меня, и видъ у него былъ раздраженный.
— На какого чорта вамъ этотъ старикашка нуженъ?
— А я его въ волейболъ учу играть.
Успенскій повернулся ко мнѣ съ такимъ видомъ, который довольно ясно говорилъ: будьте добры дурака не разыгрывать, это вамъ дорого можетъ обойтись. Но вслухъ спросилъ:
— А вы знаете, какую должность онъ занимаетъ въ производственномъ отдѣлѣ?
— Конечно, знаю.
— Ну-съ?
— Видите ли, тов. Успенскій... Профессора X. я разсматривалъ въ качествѣ, такъ сказать, короннаго номера спартакіады...
Самый ударный моментъ. Профессоръ X. извѣстенъ въ лицо — и не только въ Россіи, а, пожалуй, и заграницей. Я его выучу въ волейболъ играть — конечно, въ его годы это не такъ просто. Лицо у него этакое патріархальное. Мы его подкормимъ. И потомъ заснимемъ на кино: загорѣлое лицо подъ сѣдиною волосъ, почтенный старецъ, отбросившій всѣ свои вредительскія заблужденія и въ окруженіи исполненной энтузіазма молодежи играющій въ волейболъ или марширующій въ колоннахъ... Вы вѣдь понимаете, всѣ эти перековавшіеся урки — это и старо, и неубѣдительно: кто ихъ тамъ знаетъ, этихъ урокъ? А тутъ человѣкъ извѣстный, такъ сказать, всей Россіи...
Успенскій даже папиросу изо рта вынулъ.
— Н-не глупо придумано, — сказалъ онъ. — Совсѣмъ не глупо. Но вы подумали о томъ, что этотъ старикашка можетъ отказаться? Я надѣюсь, вы ему о... вообще спартакіадѣ ничего не говорили.
— Ну, это ужъ само собой разумѣется. О томъ, что его будутъ снимать, онъ до самаго послѣдняго момента не долженъ имѣть никакого понятія.
— Т-такъ... Мнѣ Вержбицкій (начальникъ производственнаго отдѣла) уже надоѣлъ съ этимъ старичкомъ. Ну, чортъ съ нимъ, съ Вержбицкимъ. Только очень ужъ старъ, вашъ профессоръ-то. Устроить развѣ ему діэтическое питаніе?
Профессору было устроено діэтическое питаніе. Совершенная фантастика!
ВОДНАЯ СТАНЦІЯ
На берегу Онѣжскаго озера была расположена водная станція Динамо. И въ Москвѣ, и въ Петербургѣ, и въ Медгорѣ водныя станціи Динамо были прибѣжищемъ самой высокой, преимущественно чекистской, аристократіи. Здѣсь былъ буфетъ по цѣнамъ кооператива ГПУ, т.е. по цѣнамъ, устанавливаемымъ въ томъ допущеніи, что совѣтскій рубль равенъ приблизительно золотому — иначе говоря, по цѣнамъ почти даровымъ. Здѣсь были лодки, была водка, было пиво. Ни вольной публики, ни тѣмъ болѣе заключенныхъ сюда не подпускали и на выстрѣлъ. Даже мѣстная партійная, но не лагерная, аристократія заходила сюда робко, жалась по уголкамъ и подобострастно взирала на монументально откормленныя фигуры чекистовъ. По роду моей дѣятельности — эта водная станція была подчинена мнѣ.
Приходитъ на эту станцію секретарь партійнаго комитета вольнаго медгорскаго района, такъ сказать, мѣстный предводитель дворянства. Приходитъ сюда, чтобы хоть бочкомъ прикоснуться къ великимъ міра сего, и долго думаетъ: слѣдуетъ ли ему рискнуть на рюмку водки или благоразумнѣе будетъ ограничиться кружкой пива. Всѣ эти Радецкіе, Якименки, Корзуны и прочіе — "центральные", т.е. командированные сюда Москвой — работники, сытые и увѣренные — такъ сказать, чекистскіе бароны и князья. Онъ — провинціальный, захолустный секретаришка, которому здѣсь, въ районѣ лагеря, и дѣлать-то что — неизвѣстно. Хотя у него — орденъ краснаго знамени: вѣроятно, какія-то заслуги въ прошломъ и въ достаточной степени каторжная жизнь — въ настоящемъ, но онъ придавленъ массивами, столично-чекистской увѣренностью и аристократически-пренебрежительными манерами какого-нибудь Якименки, который, проплывая мимо, посмотритъ на него приблизительно, какъ на пустое мѣсто.
А я, такъ сказать, отрепье соціалистической общественности, хожу по станціи въ однихъ трусахъ, и Якименко дружественно пожимаетъ мнѣ руку, плюхается рядомъ со мной на песокъ, и мы ведемъ съ нимъ разные разговоры: я обучаю Якименку плаванью, снабжаю его туристскими совѣтами, со мной вообще есть о чемъ говорить, и у меня — блатъ у Успенскаго. Предводитель дворянства чувствуетъ, что его какъ-то, неизвѣстно какъ, обставили всѣ: и я — контръ-революціонеръ, и Якименко — "революціонеръ", и еще многіе люди. А зарѣжутъ его какіе-нибудь "кулаки" гдѣ-нибудь на переѣздѣ изъ глухой карельской деревни въ другую — и его наслѣдникъ по партійному посту выкинетъ его семью изъ квартиры въ двадцать четыре часа.
Въ одинъ изъ такихъ жаркихъ іюньскихъ дней лежу я на деревянной пристани динамовской станціи, грѣюсь на солнышкѣ и читаю Лонгфелло — въ англійскомъ изданіи. Исторія же съ этой книгой достаточно поучительна и нелѣпа, чтобы не разсказать о ней.
Управленіе ББК имѣло прекрасную библіотеку — исключительно для администраціи и для заключенныхъ перваго лагпункта. Библіотека была значительно лучше крупнѣйшихъ профсоюзныхъ библіотекъ Москвы: во-первыхъ, книгъ тамъ не растаскивали, во-вторыхъ, книгъ отсюда не изымали, и тамъ были изданія, которыя по Москвѣ ходятъ только подпольно — вродѣ Сельвинскаго — и, наконецъ, библіотека очень хорошо снабжалась иностранной технической литературой и журналами, изъ которыхъ кое-что можно было почерпнуть изъ заграничной жизни вообще. Я попросилъ мнѣ выписать изъ Лондона Лонгфелло...
Для того, чтобы московскій профессоръ могъ выписать изъ заграницы необходимый ему научный трудъ, ему нужно пройти черезъ пятьдесятъ пять мытарствъ и съ очень невеликими шансами на успѣхъ: нѣтъ валюты. Здѣсь же — ГПУ. Деньги — ГПУ-скія. Распорядитель этимъ деньгамъ — Успенскій. У меня съ Успенскимъ — блатъ.
Итакъ, лежу и читаю Лонгфелло. Юра околачивается гдѣ-то въ водѣ, въ полуверстѣ отъ берега. Слышу голосъ Успенскаго:
— Просвѣщаетесь?
Переворачиваюсь на бокъ. Стоитъ Успенскій, одѣтый, какъ всегда, по лагерному: грязноватые красноармейскіе штаны, разстегнутый воротъ рубахи: "Ну, и жара"...
— А вы раздѣвайтесь.
Успенскій сѣлъ, стянулъ съ себя сапоги и все прочее. Два его тѣлохранителя шатались по берегу и дѣлали видъ, что они тутъ не при чемъ. Успенскій похлопалъ себя по впалому животу и сказалъ:
— Худѣю, чортъ его дери...
Я посовѣтовалъ ему мертвый часъ послѣ обѣда.
— Какой тутъ къ чорту мертвый часъ — передохнуть и то некогда!.. А вы и англійскій знаете?
— Знаю.
— Вотъ буржуй.
— Не безъ того...
— Ну, и жара...
Юра пересталъ околачиваться и плылъ къ берегу классическимъ кроулемъ — онъ этимъ кроулемъ покрывалъ стометровку приблизительно въ рекордное для Россіи время. Успенскій приподнялся:
— Ну, и плыветъ же, сукинъ сынъ... Кто это?
— А это мой сынъ.
— Ага. А вашего брата я въ Соловкахъ зналъ — ну и медвѣдь...
Юра съ полнаго хода схватился за край мостика и съ этакой спортивной элегантностью вскочилъ наверхъ. Съ копны его волосъ текла вода, и вообще безъ очковъ онъ видѣлъ не очень много.
— Плаваете вы, такъ сказать, большевицкими темпами, — сказалъ Успенскій.
Юра покосился на неизвѣстное ему голое тѣло.
— Да, такъ сказать, спеціализація...
— Это приблизительно скорость всесоюзнаго рекорда, — пояснилъ я.
— Всерьезъ?
— Сами видали.
— А вы въ спартакіадѣ участвуете? — спросилъ Успенскій Юру.
— Коронный номеръ, — нѣсколько невпопадъ отвѣтилъ я.
— Короннымъ номеромъ будетъ профессоръ X., — сказалъ Юра.
Успенскій недовольно покосился на меня — какъ это я не умѣю держать языка за зубами.
— Юра абсолютно въ курсѣ дѣла. Мой ближайшій помъ. А въ Москвѣ онъ работалъ въ кино помощникомъ режиссера Ромма. Будетъ организовывать кинооформленіе спартакіады.
— Такъ васъ зовутъ Юрой? Ну что-жъ, давайте познакомимся. Моя фамилія Успенскій.
— Очень пріятно, — осклабился Юра. — Я знаю, вы начальникъ лагеря, я о васъ много слышалъ.
— Что вы говорите? — иронически удивился Успенскій.
Юра выжалъ свои волосы, надѣлъ очки и усѣлся рядомъ въ позѣ, указывавшей на полную непринужденность.
— Вы, вѣроятно, знаете, что я учусь въ техникумѣ?
— Н-да... знаю, — столь же иронически сказалъ Успенскій.
— Техникумъ, конечно, халтурный. Тамъ, вы знаете, одни урки сидятъ. Очень романтическій народъ. Въ общемъ тамъ по вашему адресу написаны цѣлыя баллады. То-есть не записаны, а такъ, сочинены. Записываю ихъ я.
— Вы говорите, цѣлыя баллады?
— И баллады, и поэмы, и частушки — все, что хотите.
— Очень интересно, — сказалъ Успенскій. — Такъ они у васъ записаны? Можете вы ихъ мнѣ прочесть?
— Могу. Только они у меня въ баракѣ.
— И на какого чорта вы живете въ баракѣ? — повернулся ко мнѣ Успенскій, — я же предлагалъ вамъ перебраться въ общежитіе Вохра.
Общежитіе Вохра меня ни въ какой степени не устраивало.
— Я думаю на Вичку перебраться.
— А вы наизусть ничего изъ этихъ балладъ не помните?
Юра кое-что продекламировалъ: частушки — почти непереводимыя на обычный русскій языкъ и непечатныя абсолютно.
— Да, способные тамъ люди есть, — сказалъ Успенскій. — А поразстрѣливать придется почти всѣхъ, ничего не подѣлаешь.
Отъ разговора о разстрѣлахъ я предпочелъ уклониться.
— Вы говорили, что знали моего брата въ Соловкахъ. Вы и тамъ служили?
— Да, примѣрно такъ же, какъ служите теперь вы.
— Были заключеннымъ? — изумился я.
— Да, на десять лѣтъ. И какъ видите — ничего. Можете мнѣ повѣрить, лѣтъ черезъ пять и вы карьеру сдѣлаете.
Я собрался было отвѣтить, какъ въ свое время отвѣтилъ Якименкѣ: меня-де и московская карьера не интересовала, а о лагерной и говорить ничего. Но сообразилъ, что это было бы неумѣстно.
— Эй, Грищукъ, — вдругъ заоралъ Успенскій.
Одинъ изъ тѣлохранителей вбѣжалъ на мостикъ.
— Окрошку со льдомъ, порцій пять. Коньяку со льдомъ — литръ. Три стопки. Живо.
— Я не пью, — сказалъ Юра.
— Ну, и не надо. Вы еще маленькій, вамъ еще сладенькаго. Шоколаду хотите?
— Хочу.
И вотъ сидимъ мы съ Успенскимъ, всѣ трое въ голомъ видѣ, среди бѣлаго дня и всякой партійно-чекистской публики и пьемъ коньякъ. Все это было неприличнымъ даже и по чекистскимъ масштабамъ, но Успенскому, при его власти, на всякія приличія было плевать. Успенскій доказываетъ мнѣ, что для умнаго человѣка нигдѣ нѣтъ такого карьернаго простора, какъ въ лагерѣ. Здѣсь все очень просто: нужно быть толковымъ человѣкомъ и не останавливаться рѣшительно ни передъ чѣмъ. Эта тема начинаетъ вызывать у меня легкіе позывы къ тошнотѣ.
— Да, а насчетъ вашего брата. Гдѣ онъ сейчасъ?
— По сосѣдству. Въ Свирьлагѣ.
— Статьи, срокъ?
— Тѣ же, что и у меня.
— Обязательно заберу его сюда. Какого ему тамъ чорта. Это я черезъ ГУЛАГ устрою въ два счета... А окрошка хороша.
Тѣлохранители сидятъ подъ палящимъ солнцемъ на пескѣ, шагахъ въ пятнадцати отъ насъ. Ближе не подсѣлъ никто. Мѣстный предводитель дворянства, въ пиджакѣ и при галстухѣ, цѣдитъ пиво, обливается потомъ. Розетка его "Краснаго Знамени" багровѣетъ, какъ сгустокъ крови, пролитой имъ — и собственной, и чужой, и предводитель дворянства чувствуетъ, что кровь эта была пролита зря...
МОЛОДНЯКЪ
ВИЧКИНСКІЙ КУРОРТЪ
Какъ бы ни былъ халтуренъ самый замыселъ спартакіады, мнѣ время отъ времени приходилось демонстрировать Успенскому и прочимъ чинамъ ходъ нашей работы и "наши достиженія". Поэтому, помимо публики, попавшей на Вичку по мотивамъ, ничего общаго со спортомъ не имѣющимъ, туда же было собрано сорокъ два человѣка всякой спортивной молодежи. Для показа Успенскому провели два футбольныхъ мачта — неплохо играли — и одно "отборочное" легкоатлетическое соревнованіе. Секундомѣры были собственные, рулетокъ никто не провѣрялъ, дисковъ и прочаго никто не взвѣшивалъ — кромѣ, разумѣется, меня — такъ что за "достиженіями" остановки не было. И я имѣлъ, такъ сказать, юридическое право сказать Успенскому:
— Ну вотъ, видите, я вамъ говорилъ. Еще мѣсяцъ подтренируемся — такъ только держись...
Моимъ талантамъ Успенскій воздалъ должную похвалу.
___
Домъ на Вичкѣ наполнился самой разнообразной публикой: какая-то помѣсь спортивнаго клуба съ бандой холливудскихъ статистовъ. Профессоръ, о которомъ я разсказывалъ въ предыдущей главѣ, какъ-то уловилъ меня у рѣчки и сказалъ:
— Послушайте, если ужъ вы взяли на себя роль благодѣтеля лагернаго человѣчества, такъ давайте ужъ до конца. Переведите меня въ какое-нибудь зданіе, силъ нѣтъ, круглыя сутки — галдежъ.
Галдежъ стоялъ, дѣйствительно, круглыя сутки. Я ходилъ по Вичкѣ — и завидовалъ. Только что — и то не надолго — вырвались ребята изъ каторги, только что перешли съ голодной "пайки" на бифштексы (кормили и бифштексами — въ Москвѣ, на волѣ, бифштексъ невиданное дѣло) — и вотъ, міръ для нихъ уже полонъ радости, оптимизма, бодрости и энергіи. Здѣсь были и русскіе, и узбеки, и татары, и евреи, и Богъ знаетъ, кто еще. Былъ молчаливый бѣгунъ на длинныя дистанціи, который именовалъ себя афганскимъ басмачемъ, былъ какой-то по подданству англичанинъ, по происхожденію сиріецъ, по національности еврей, а по прозвищу Чумбурбаба. Росту и силы онъ былъ необычайной, и голосъ у него былъ, какъ труба іерихонская. Знаменитъ онъ былъ тѣмъ, что два раза пытался бѣжать изъ Соловковъ, могъ играть одинъ противъ цѣлой волейбольной команды и иногда и выигрывалъ. Его жизнерадостный рыкъ гремѣлъ по всей Вичкѣ.
Чумбурбабу разыгрывала вся моя "малолѣтняя колонія" и на всѣхъ онъ весело огрызался.
Все это играло въ футболъ, прыгало, бѣгало, грѣлось на солнцѣ и галдѣло. Болѣе солидную часть колоніи пришлось устроить отдѣльно: такой марки не могли выдержать даже лагерныя бухгалтерши... Мы съ Юрой думали было перебраться на жительство на Вичку, но по ходу лагерныхъ дѣлъ нашъ побѣгъ оттуда могъ бы очень непріятно отозваться на всей этой компаніи. Поэтому мы остались въ баракѣ. Но на Вичку я ходилъ ежедневно и пытался наводить тамъ нѣкоторые порядки. Порядковъ особенныхъ, впрочемъ, не вышло, да и незачѣмъ было ихъ создавать. Постепенно у меня, а въ особенности у Юры, образовался небольшой кружокъ "своихъ ребятъ".
Я старался разобраться въ новомъ для меня мірѣ лагерной молодежи и, разобравшись, увидалъ, что отъ молодежи на волѣ она отличается только однимъ: полнымъ отсутствіемъ какихъ бы то ни было совѣтскихъ энтузіастовъ — на волѣ они еще есть. Можно было бы сказать, что здѣсь собрались сливки антисовѣтской молодежи — если бы настоящія сливки не были на томъ свѣтѣ и на Соловкахъ. Такимъ образомъ, настроенія этой группы не были характерны для всей совѣтской молодежи — но они были характерны все же для 60-70 процентовъ ея. Разумѣется, что о какой-либо точности такой "статистики" и говорить не приходится, но, во всякомъ случаѣ, рѣзко антисовѣтски настроенная молодежь преобладала подавляюще и на волѣ, а ужъ о лагерѣ и говорить нечего.
Сидѣла вся эта публика почти исключительно по статьямъ о террорѣ и сроки имѣла стандартные: по десять лѣтъ. Въ примѣненіи къ террористическимъ статьямъ приговора это означало то, что на волю имъ вообще не выйти никогда: послѣ лагеря — будетъ высылка или тотъ, весьма малоизвѣстный заграницѣ родъ ссылки, который именуется вольнонаемной лагерной службой: вы вашъ срокъ закончили, никуда изъ лагеря васъ не выпускаютъ, но вы получаете право жить не въ баракѣ, а на частной квартирѣ и получаете въ мѣсяцъ не 3 рубля 80 копѣекъ, какъ получаетъ лѣсорубъ, не 15-20 рублей, какъ получаетъ бухгалтеръ, и даже не 70-80 рублей, какъ получалъ я, а напримѣръ, 300-400, но никуда изъ лагеря вы уѣхать не можете. Человѣкъ, уже разъ попавшій въ хозяйственную машину ГПУ, вообще почти не имѣетъ никакихъ шансовъ выбраться изъ нея, человѣкъ, попавшій по террористическимъ дѣламъ, — и тѣмъ болѣе.
Въ виду всего этого, лагерная молодежь вела себя по отношенію къ администраціи весьма независимо и, я бы сказалъ, вызывающе. Видъ у нея при разговорахъ съ какимъ-нибудь начальникомъ колонны или лагернаго пункта былъ приблизительно такой: "Что ужъ тамъ дальше будетъ — это плевать, а пока что — я ужъ тебѣ морду набью". Психологія, такъ сказать, "отчаянности"...
Били довольно часто и довольно основательно. За это, конечно, сажали въ ШИЗО, иногда — рѣдко — даже и разстрѣливали (публика квалифицированная и нужная), но все же администрація всякихъ ранговъ предпочитала съ этимъ молоднякомъ не связываться, обходила сторонкой...
Я, конечно, зналъ, что товарищъ Подмоклый среди всей этой публики имѣетъ какихъ-то своихъ сексотовъ, но никакъ не могъ себѣ представить — кто именно изъ всѣхъ моихъ футболистовъ и прочихъ, подобранныхъ лично мной — могъ бы пойти на такое занятіе. Затесался было какой-то парень, присужденный къ пяти годамъ за превышеніе власти. Какъ оказалось впослѣдствіи, это превышеніе выразилось въ "незаконномъ убійствѣ" двухъ арестованныхъ — парень былъ сельскимъ милиціонеромъ. Объ этомъ убійствѣ онъ проболтался самъ, и ему на ближайшей футбольной тренировкѣ сломали ногу. Подмоклый вызвалъ меня въ третью часть и упорно допрашивалъ: что это, несчастная случайность или "заранѣе обдуманное намѣреніе"?
Подмоклому было доказано, что о заранѣе обдуманномъ намѣреніи и говорить нечего: я самъ руководилъ тренировкой и видалъ, какъ все это случилось. Подмоклый смотрѣлъ на меня непріязненно и подозрительно, впрочемъ, онъ, какъ всегда по утрамъ, переживалъ міровую скорбь похмѣлья. Выпытывалъ, что тамъ за народъ собрался у меня на Вичкѣ, о чемъ они разговариваютъ и какія имѣются "политическія настроенія". Я сказалъ:
— Чего вы ко мнѣ пристаете, у васъ вѣдь тамъ свои стукачи есть — у нихъ и спрашивайте.
— Стукачи, конечно есть, а я хочу отъ васъ подтвержденіе имѣть...
Я понялъ, что парнишка съ превышеніемъ власти былъ его единственнымъ стукачемъ: Вичка была организована столь стремительно, что третья часть не успѣла командировать туда своихъ людей, да и командировать было трудно: подбиралъ кандидатовъ лично я.
Разговоръ съ Подмоклымъ принялъ чрезвычайно дипломатическій характеръ. Подмоклый крутилъ, крутилъ, ходилъ кругомъ да около, рекомендовалъ мнѣ какихъ-то замѣчательныхъ форвардовъ, которые у него имѣлись въ оперативномъ отдѣлѣ. Я сказалъ:
— Давайте — посмотримъ, что это за игроки: если дѣйствительно хорошіе — я ихъ приму.
Подмоклый опять начиналъ крутить — и я поставилъ вопросъ прямо:
— Вамъ нужно на Вичкѣ своихъ людей имѣть — съ этого бы и начинали.
— А что вы изъ себя наивняка крутите — что, не понимаете вы, о чемъ разговоръ идетъ?
Положеніе создалось невеселое. Отказываться прямо — было невозможно технически. Принять кандидатовъ Подмоклаго и не предупредить о нихъ моихъ спортсменовъ — было невозможно психически. Принять и предупредить — это значило бы, что этимъ кандидатамъ на первыхъ же тренировкахъ поломаютъ кости, какъ поломали бывшему милиціонеру, — и отвѣчать пришлось бы мнѣ. Я сказалъ Подмоклому, что я ничего противъ его кандидатовъ не имѣю, но что, если они не такіе ужъ хорошіе игроки, какъ объ этомъ повѣствуетъ Подмоклый, то остальные физкультурники поймутъ сразу, что на Вичку эти кандидаты попали не по своимъ спортивнымъ заслугамъ, — слѣдовательно, ни за какія послѣдствія я не ручаюсь и не отвѣчаю.
— Ну, и дипломатъ же вы, — недовольно сказалъ Подмоклый.
— Еще бы... Съ вами поживешь — поневолѣ научишься...
Подмоклый былъ слегка польщенъ... Досталъ изъ портфеля бутылку водки:
— А опохмѣлиться нужно, хотите стакашку?
— Нѣтъ, мнѣ на тренировку идти.
Подмоклый налилъ себѣ стаканъ водки и медленно высосалъ ее цѣликомъ.
— А намъ своей глазъ обязательно нужно тамъ имѣть. Такъ вы моихъ ребятъ возьмите... Поломаютъ ноги — такъ и чортъ съ ними, намъ этого товара не жалко.
Такъ попали на Вичку два бывшихъ троцкиста. Передъ тѣмъ, какъ перевести ихъ туда, я сказалъ Хлѣбникову и еще кое-кому, чтобы ребята зря языкомъ не трепали. Хлѣбниковъ отвѣтилъ, что на всякихъ сексотовъ ребятамъ рѣшительно наплевать... На ту же точку зрѣнія сталъ Кореневскій — упорный и воинствующій соціалъ-демократъ. Кореневскій сказалъ, что онъ и передъ самимъ Сталинымъ ни въ какомъ случаѣ не желаетъ скрывать своихъ политическихъ убѣжденій: за него-де, Кореневскаго, работаетъ исторія и просыпающаяся сознательность пролетарскихъ массъ. Я сказалъ: ну, ваше дѣло — я предупреждаю.
Исторія и массы не помогли. Кореневскій велъ настойчивую и почти открытую меньшевицкую агитацію — съ Вички поѣхалъ на Соловки: я не очень увѣренъ, что онъ туда доѣхалъ живымъ.
Впрочемъ, меньшевицкая агитація никакого сочувствія въ моихъ "физкультурныхъ массахъ" не встрѣчала. Было очень наивно идти съ какой бы то ни было соціалистической агитаціей къ людямъ, на практикѣ переживающимъ почти стопроцентный соціализмъ... Даже Хлѣбниковъ — единственный изъ всей компаніи, который рисковалъ произносить слово "соціализмъ", глядя на результатъ Кореневской агитаціи, пересталъ оперировать этимъ терминомъ... Съ Кореневскимъ же я поругался очень сильно.
Это былъ высокій, тощій юноша, съ традиціонной меньшевицко-народовольческой шевелюрой, — вымирающій въ Россіи типъ книжнаго идеалиста... О революціи, соціализмѣ и пролетаріатѣ онъ говорилъ книжными фразами — фразами довоенныхъ соціалъ-демократическихъ изданій, оперировалъ эрфуртской программой, Каутскимъ, тоже, конечно, въ довоенномъ изданіи, доказывалъ, что большевики — узурпаторы власти, вульгаризаторы марксизма, диктаторы надъ пролетаріатомъ и т.п. Вичковская молодежь, уже пережившая и революцію, и соціализмъ, и пролетаріатъ, смотрѣла на Кореневскаго, какъ на человѣка малость свихнувшагося, и только посмеивалась. Екатеринославскій слесарь Фомко, солидный пролетарій лѣтъ двадцати восьми, какъ-то отозвалъ меня въ сторонку.
— Хотѣлъ съ вами насчетъ Кореневскаго поговорить... Скажите вы ему, чтобы онъ заткнулся. Я самъ пролетарій не хуже другого, такъ и у меня отъ соціализму съ души воротить. А хлопца размѣняютъ, ни за полкопѣйки пропадетъ. Побалакайте вы съ нимъ, у васъ на него авторитетъ есть...
"Авторитета" не оказалось никакого. Я вызвалъ Кореневскаго сопровождать меня съ Вички въ Медгору и по дорогѣ попытался устроить ему отеческій разносъ: во-первыхъ, вся его агитація — какъ подъ стеклышкомъ: не можетъ же онъ предполагать, что изъ 60 человѣкъ вичкинскаго населенія нѣтъ ни одного сексота, и, во-вторыхъ, если ужъ подставлять свою голову подъ наганы третьяго отдѣла, такъ ужъ за что-нибудь менѣе безнадежное, чѣмъ пропаганда соціализма въ Совѣтской Россіи вообще, а въ лагерѣ — въ частности и въ особенности.
Но жизнь прошла какъ-то мимо Кореневскаго. Онъ нервными жестами откидывалъ спадавшіе на лицо спутанные свои волосы и отвѣчалъ мнѣ Марксомъ и эрфуртской программой. Я ему сказалъ, что и то, и другое я знаю и безъ него, и знаю въ изданіяхъ болѣе позднихъ, чѣмъ 1914 годъ. Ничего не вышло: хоть колъ на головѣ теши. Кореневскій сказалъ, что онъ очень признателенъ мнѣ за мои дружескія къ нему чувства, но что интересы пролетаріата для него выше всего — кстати, съ пролетаріатомъ онъ не имѣлъ ничего общаго: отецъ его былъ московскимъ врачемъ, а самъ онъ избралъ себѣ совсѣмъ удивительную для Совѣтской Россіи профессію — астронома. Что ему пролетаріатъ и что онъ пролетаріату? Я напомнилъ ему о Фомко. Результатъ былъ равенъ нулю.
Недѣли черезъ двѣ послѣ этого разговора меня при входѣ на Вичку встрѣтилъ весьма разстроенный Хлѣбниковъ.
— Кореневскаго изъяли. Самъ онъ куда-то исчезъ, утромъ пришли оперативники и забрали его вещи...
— Такъ, — сказалъ я, — доигрался...
Хлѣбниковъ посмотрѣлъ на меня ожидающимъ взоромъ.
— Давайте сядемъ... Какой-то планъ нужно выработать.
— Какой тутъ можетъ быть планъ, — сказалъ я раздраженно. — Предупреждали парня...
— Да, я знаю... Это, конечно, утѣшеніе, — Хлѣбниковъ насмѣшливо передернулъ плечами, — мы, дескать, говорили, не слушалъ — твое дѣло. Чортъ съ нимъ, съ утѣшеніемъ... Постойте, кажется, кто-то идетъ...
Мы помолчали. Мимо прошли какіе-то вичкинскіе лагерники и оглядѣли насъ завистливо-недружелюбными взглядами — вичкинскіе бифштексы на фонѣ сосѣднихъ "паекъ" — широкихъ симпатій лагерной массы не вызывали. За лагерниками показалась монументальная фигура Фомко, вооруженнаго удочками. Фомко подошелъ къ намъ:
— Насчетъ Кореневскаго уже знаете?
— Идемъ въ сторонку, — сказалъ Хлѣбниковъ.
Отошли въ сторонку и усѣлись.
— Видите-ли, И. Л., — сказалъ Хлѣбниковъ, — и, конечно, понимаю, что у васъ никакихъ симпатій къ соціализму нѣтъ, — а Кореневскаго все-таки надо выручить.
Я только пожалъ плечами — какъ его выручишь?
— Попробуйте подъѣхать къ начальнику третьей части — я знаю, вы съ нимъ, такъ сказать, интимно знакомы... — Хлѣбниковъ посмотрѣлъ на меня не безъ ироніи. — А то, можетъ быть, и къ самому Успенскому?
Фомко смотрѣлъ мрачно:
— Тутъ, товарищъ Хлѣбниковъ, не такъ просто... Вотъ такіе тихенькіе, какъ этотъ Кореневскій, — дай ему власть — такъ онъ почище Успенскаго людей рѣзать будетъ... Пролетаріемъ, сукинъ сынъ, задѣлался... Онъ еще мнѣ насчетъ пролетаріата будетъ говорить... Нѣтъ, если большевики меньшевиковъ вырѣжутъ — ихнее дѣло, намъ туда соваться нечего: одна стерва другую загрызетъ....
Хлѣбниковъ посмотрѣлъ на Фомко холодно и твердо.
— Дурацкіе разговоры. Во первыхъ, Кореневскій — нашъ товарищь...
— Если вашъ, такъ вы съ нимъ и цѣлуйтесь. Намъ такихъ товарищей не надо. "Товарищами" — и такъ сыты...
— ... А во вторыхъ, — такъ же холодно продолжалъ Хлѣбниковъ, не обращая вниманія на реплику Фомко, — во вторыхъ — онъ противъ сталинскаго режима — слѣдовательно намъ съ нимъ пока по дорогѣ. А кого тамъ придется вѣшать послѣ Сталина, это будетъ видно. И еще: Кореневскій единственный сынъ у отца... Если вы, И. Л., можете выручить, вы это должны сдѣлать.
— Я, можетъ, тоже единственный сынъ, — сказалъ Фомко. — Сколько этихъ сыновей ваши соціалисты на тотъ свѣтъ отправили. А впрочемъ, ваше дѣло, хотите — выручайте... А вотъ стукачей намъ отсюдова вывести нужно...
Фомко и Хлѣбниковъ обмѣнялись понимающими взглядами.
— М-да, — неопредѣленно сказалъ Хлѣбниковъ...
Помолчали.
— Наши ребята очень взволнованы арестомъ Кореневскаго, хорошій былъ, въ сущности, парень.
— Парень ничего, — нѣсколько мягче сказалъ Фомко.
Я не видалъ рѣшительно никакихъ возможностей помочь Кореневскому. Идти къ Подмоклому? Что ему сказать? Меньшевицкая агитація Кореневскаго было поставлена такъ по мальчишески, что о ней всѣ знали — удивительно, какъ Кореневскій не сѣлъ раньше... При случаѣ можно попытаться поговорить съ Успенскимъ, но это только въ томъ случаѣ, если онъ меня вызоветъ: идти къ нему спеціально съ этой цѣлью, значило обречь эту попытку на безусловный провалъ. Но Хлѣбниковъ смотрѣлъ на меня въ упоръ, смотрѣлъ, такъ сказать, прямо мнѣ въ совѣсть, и въ его взглядѣ былъ намекъ на то, что, если ужъ я пьянствую съ Подмоклымъ, то я морально обязанъ какъ-то и чѣмъ-то компенсировать паденіе свое.
Въ тотъ же вечеръ въ Динамо я и попытался представить Подмоклому всю эту исторію въ весьма юмористическомъ видѣ. Подмоклый смотрѣлъ на меня пьяными и хитрыми глазами и только подсмѣивался. Я сказалъ, что эта исторія съ арестомъ вообще глупо сдѣлана: только что я ввелъ на Вичку двухъ, явно подозрительныхъ для окружающихъ, "троцкистовъ" — и вотъ уже арестъ... Столковались на такихъ условіяхъ: Подмоклый выпускаетъ Кореневскаго, я же обязуюсь принять на Вичку еще одного сексота.
— А знаете, кого? — съ пьянымъ торжествомъ сказалъ мнѣ Подмоклый.
— А мнѣ все равно.
— Ой-ли? Профессора У.
У меня глаза на лобъ полѣзли. Профессоръ У. — человѣкъ съ почти міровымъ именемъ. И онъ сексотъ? И моя Вичка превращается изъ курорта въ западню? И моя халтура превращается въ трагедію? И, главное, какъ будто ничего не подѣлаешь.
Но профессоръ У. на Вичку не попалъ, а Кореневскаго выручить такъ и не удалось. Рыбачья бригада, ставившая сѣти на озерѣ, при впаденіи въ него рѣки Вички, вытащила трупъ одного изъ "троцкистовъ". Ноги трупа запутались въ крѣпкой лескѣ отъ удочки, тѣло было измолото вичкинскими водопадами: удилъ, значитъ, парень рыбу, какъ-то оступился въ водопады — и поминай, какъ звали.
На этотъ разъ Подмоклый вызвалъ меня въ оффиціальномъ порядкѣ и сказалъ мнѣ:
— Итакъ, гражданинъ Солоневичъ, будьте добры отвѣтить мнѣ.
Произошла нѣкоторая перепалка. Бояться Подмоклаго со всей его третьей частью у меня не было никакихъ основаній. До проведенія спартакіады я былъ забронированъ отъ всякихъ покушеній съ чьей бы то ни было стороны. Поэтому, когда Подмоклый попробовалъ повысить тонъ, я ему сказалъ, чтобы онъ дурака не валялъ, а то я пойду и доложу Успенскому, что сексотовъ всадили на Вичку по дурацки, что я объ этомъ его, Подмоклаго, предупреждалъ, что онъ, Подмоклый, самъ мнѣ сказалъ: "этого товара намъ не жалко", и что я ему, Подмоклому, категорически предлагаю моей работы не разваливать: всякому понятно, что энтузіастовъ соціалистическаго строительства на Вичкѣ нѣтъ и быть не можетъ, что тамъ сидятъ контръ-революціонеры (не даромъ же ихъ посадили) и что, если третья часть начнетъ арестовывать моихъ людей, я пойду къ Успенскому и скажу, что проведеніе спартакіады онъ, Подмоклый, ставитъ подъ угрозу.
— Ну, и чего вы взъерепенились, — сказалъ Подмоклый. — Я съ вами, какъ съ человѣкомъ, разговариваю.
Инцидентъ былъ исчерпанъ. Виновниковъ гибели "троцкиста" разыскивать такъ и не стали. Этого "товара" у третьей части, дѣйствительно, было много. Но и Кореневскаго выручить не удалось. Оставшійся "троцкистъ" былъ въ тотъ же день изъятъ изъ Вички и куда-то отосланъ. Но я чувствовалъ, что послѣ спартакіады или, точнѣе, послѣ моего побѣга Подмоклый постарается кое съ кѣмъ раздѣлаться. Я снова почувствовалъ одинъ изъ самыхъ отвратительныхъ, самыхъ идіотскихъ тупиковъ совѣтской жизни: что бы ни организовывать — самое безпартійное, самое аполитичное — туда сейчасъ же проползетъ ГПУ и устроитъ тамъ западню. Передъ самымъ побѣгомъ мнѣ пришлось кое-кого изъ моихъ физкультурниковъ изъять изъ Вички и отправить въ качествѣ инструкторовъ въ другія отдѣленія, подальше отъ глазъ медгорской третьей части. Впрочемъ, дня за три до побѣга Подмоклый, подмочившись окончательно, сталъ стрѣлять въ корридорѣ общежитія ГПУ — и куда-то исчезъ. Что съ нимъ сдѣлалось, я такъ и не узналъ. Въ этомъ есть какое-то воздаяніе. Изъ ГПУ-скихъ палачей немногіе выживаютъ. Остатки человѣческой совѣсти они глушатъ алкоголемъ, морфіемъ, кокаиномъ, и ГПУ-ская машина потомъ выбрасываетъ ихъ на свалку, а то и на тотъ свѣтъ... Туда же, видимо, былъ выброшенъ и товарищъ Подмоклый...
На Вичкѣ былъ моментъ напряженной тревоги, когда въ связи съ убійствомъ сексота ожидались налеты третьей части, обыски, допросы, аресты. Обычно въ такихъ случаяхъ подвергается разгрому все, что попадается подъ руку: бригада, баракъ, иногда и цѣлая колонна. ГПУ не любить оставлять безнаказанной гибель своихъ агентовъ. Но здѣсь разгромъ Вички означалъ бы разгромъ спартакіады, а для спартакіады Успенскій охотно пожертвовалъ бы и сотней своихъ сексотовъ. Поэтому Вичку оставили въ покоѣ. Напряженіе понемногу улеглось: притихшая было молодежь снова подняла свой галдежъ, и въ небольшихъ разрозненныхъ кружкахъ моихъ физкультурниковъ снова стали вестись политическія пренія.
Велись они по всякимъ болѣе или менѣе отдаленнымъ уголкамъ вичкинской территоріи, и время отъ времени приходилъ ко мнѣ какой-нибудь питерскій студентъ или бывшій комсомолецъ московскаго завода "АМО" за какими-нибудь фактическими справками. Напримѣръ: существуетъ ли въ Европѣ легальная коммунистическая печать?
— Да вы возьмите "Правду" и прочитайте. Тамъ есть и цитаты изъ коммунистической печати, и цифры коммунистическихъ депутатовъ въ буржуазныхъ парламентахъ...
— Такъ-то такъ, такъ вѣдь это все — по подпольной линіи...
Или:
— Правда ли, что при старомъ строѣ былъ такой порядокъ: если рабочій сидитъ въ трамваѣ, а входитъ буржуй, такъ рабочій долженъ былъ встать и уступить свое мѣсто?
Такіе вопросы задавались преимущественно со стороны бывшихъ низовыхъ комсомольцевъ, комсомольцевъ "отъ станка". Со стороны публики болѣе квалифицированной и вопросы были болѣе сложные, напримѣръ, по поводу мірового экономическаго кризиса. Большинство молодежи убѣждено, что никакого кризиса вообще нѣтъ. Разъ объ этомъ пишетъ совѣтская печать — значитъ, вретъ. Ну, перебои, конечно, могутъ быть — вотъ "наши" все это и раздуваютъ. Или: была ли въ Россіи конституція? Или: правда ли, что Троцкій писалъ о Ленинѣ, какъ о "профессіональномъ эксплоататорѣ всяческой отсталости въ русскомъ рабочемъ классѣ?" Или: дѣйствительно ли до революціи принимали въ университеты только дворянъ?...
Не на всѣ эти вопросы я рисковалъ исчерпывающими отвѣтами.
Все это были очень толковые ребята, ребята съ ясными мозгами, но съ чудовищнымъ невѣжествомъ въ исторіи Россіи и міра. И всѣ они, какъ и молодежь на волѣ, находились въ періодѣ бурленій. Мои футбольныя команды представляли цѣлую радугу политическихъ исканій и политическихъ настроеній. Былъ одинъ троцкистъ — настоящій, а не изъ третьей части. Попалъ онъ сюда по дѣлу какой-то организаціи, переправлявшей оружіе изъ-за границы въ Россію, но ни объ этой организаціи, ни о своемъ прошломъ онъ не говорилъ ни слова. Я даже не увѣренъ въ томъ, что онъ былъ троцкистомъ: терминъ "троцкистъ" отличается такой же юридической точностью, какъ термины: "кулакъ", "бѣлобандитъ", "бюрократъ". Доказывать, что вы не "троцкистъ" или не "бюрократъ", такъ же трудно, какъ доказывать, напримѣръ, что вы не сволочь. Доказывать же по совѣтской практикѣ приходится не обвинителю, а обвиняемому... Во всякомъ случаѣ, этотъ "троцкистъ" былъ единственнымъ, пріемлющимъ принципъ совѣтской власти. Онъ и Хлѣбниковъ занимали крайній лѣвый флангъ вичкинскаго парламента. Остальная публика въ подавляющемъ большинствѣ принадлежала къ той весьма неопредѣленной и расплывчатой организаціи или, точнѣе, къ тому теченію, которое называетъ себя то "союзомъ русской молодежи", то "союзомъ мыслящей молодежи", то "Молодой Россіей" и вообще всякими комбинаціями изъ словъ "Россія" и "молодость". На волѣ все это гнѣздится по вузовскимъ и рабочимъ общежитіямъ, по комсомольскимъ ячейкамъ, и иногда, смотришь — какой-нибудь Ваня или Петя на открытомъ собраніи распинается за пятилѣтку такъ, что только диву даешься. А потомъ выясняется: накрыли Ваню или Петю въ завкомѣ, гдѣ онъ на ночномъ дежурствѣ отбарабанивалъ на пишущей машинкѣ самую кровожадную антисовѣтскую листовку. И поѣхалъ Ваня или Петя на тотъ свѣтъ...
Долженъ сказать, что среди этой молодежи напрасно было бы искать какой-нибудь, хотя бы начерно выработанной программы — во всякомъ случаѣ, положительной программы. Ихъ идеологія строится прежде всего на отметаніи того, что ихъ ни въ какомъ случаѣ не устраиваетъ. Ихъ ни въ какомъ отношеніи не устраиваетъ совѣтская система, не устраиваетъ никакая партійная диктатура, и поэтому между той молодежью (въ лагерѣ ея мало), которая хочетъ измѣнить нынѣшнее положеніе путемъ, такъ сказать, усовершенствованія коммунистической партіи, и той, которая предпочитаетъ эту партію просто перевѣшать, — существуетъ основной, рѣшающій переломъ: двѣ стороны баррикады.
Вся молодежь, почти безъ всякаго исключенія, совершенно индифферентна къ какимъ бы то ни было религіознымъ вопросамъ. Это никакъ не воинствующее безбожіе, а просто полное безразличіе: "можетъ быть, это кому-нибудь и надо, а намъ рѣшительно ни къ чему". Въ этомъ пунктѣ антирелигіозная пропаганда большевиковъ сдѣлала свое дѣло — хотя враждебности къ религіи внушить не смогла. Монархическихъ настроеній нѣтъ никакихъ. О старой Россіи представленіе весьма сумбурное, создавшееся не безъ вліянія совѣтскаго варіанта русской исторіи. Но если на религіозные темы съ молодежью и говорить не стоитъ — выслушаютъ уважительно, даже и возражать не будутъ, — то о царѣ поговорить можно: "да, технически это, можетъ быть, и не такъ плохо". Къ капитализму отношеніе въ общемъ неопредѣленное: съ одной стороны, теперь-то уже ясно, что безъ капиталиста, частника, "хозяина" не обойтись, а съ другой — какъ же такъ, строили заводы на своихъ костяхъ?.. Каждая группировка имѣетъ свои программы регулированія капитализма... Среди этихъ программъ — есть и небезынтересныя... Въ среднемъ, можно бы сказать, что, оторванная отъ всего міра, лишенная всякаго руководства со стороны старшихъ, не имѣющая никакого доступа къ мало-мальски объективной политико-экономической литературѣ, русская молодежь нащупываетъ какіе-то будущіе компромиссы между государственнымъ и частнымъ хозяйствомъ. Ходъ мышленія — чисто экономическій и техническій, земной: если хотите, то даже и шкурный. Никакихъ "вѣчныхъ вопросовъ" и никакихъ потустороннихъ темъ. И за всѣмъ этимъ — большая и хорошая любовь къ своей странѣ — это, вѣроятно, и будетъ то, что въ эмиграціи называется терминомъ "національное возрожденіе". Но терминъ "національный" будетъ для этой молодежи непонятнымъ терминомъ. Или, пожалуй, хуже — двусмысленнымъ терминомъ: въ немъ будетъ заподозрѣно то, что у насъ когда-то называлось зоологическимъ націонализмомъ — противопоставленіе одной изъ россійскихъ національностей другимъ.
Я позволю себѣ коснуться здѣсь — мелькомъ и безъ доказательствъ — очень сложнаго вопроса о націонализмѣ, какъ таковомъ, то-есть о противопоставленіи одной націи другой, внѣ всякаго отношенія къ моимъ личнымъ взглядамъ по этому поводу.
Въ томъ чудовищномъ смѣшеніи "племенъ, нарѣчій, состояній", которое совершено совѣтской революціей, междунаціональная рознь среди молодежи сведена на нѣтъ. Противопоставленія русскаго не русскому быту отсутствуютъ вовсе. Этотъ фактъ создаетъ чрезвычайно важныя побочныя послѣдствія: стремительную руссификацію окраинной молодежи.
Какъ это ни странно, на эту руссификацію первый обратилъ вниманіе Юра во время нашихъ пѣшихъ скитаній по Кавказу. Я потомъ провѣрилъ его выводы — и по своимъ воспоминаніямъ, и по своимъ дальнѣйшимъ наблюденіямъ — и пришелъ въ нѣкоторое изумленіе, какъ такой крупный и бьющій въ глаза фактъ прошелъ мимо моего вниманія. Для какого-нибудь Абарцумяна русскій языкъ — это его пріобрѣтеніе, это его завоеваніе, и онъ — поскольку это касается молодежи — своего завоеванія не отдастъ ни за какія самостійности. Это — его билетъ на право входа въ міровую культуру, а въ нынѣшней Россіи, при всѣхъ прочихъ неудобствахъ совѣтской жизни, научились думать въ масштабахъ непровинціальныхъ.
Насильственная коренизація, украинизація, якутизація и прочее, обернулась самыми неожиданными послѣдствіями. Украинскій мужикъ отъ этой украинизаціи волкомъ взвылъ: во-первыхъ, оффиціальной мовы онъ не понимаетъ и, во-вторыхъ, онъ убѣжденъ въ томъ, что ему и его дѣтямъ преграждаютъ доступъ къ русскому языку, со спеціальной цѣлью, оставить этихъ дѣтей мужиками и закрыть имъ всѣ пути вверхъ. А пути вверхъ практически доступны только русскому языку. И Днѣпрострой, и Харьковскій Тракторный, и Криворожье, и Кіевъ, и Одесса — всѣ они говорятъ по русски, и опять же, въ тѣхъ же гигантскихъ переброскахъ массъ съ мѣста на мѣсто, ни на какихъ украинскихъ мовахъ они говорить не могутъ технически... Въ Дагестанѣ было сдѣлано еще остроумнѣе: было установлено восемь оффиціальныхъ государственныхъ языковъ — пришлось ликвидировать ихъ всѣ: желѣзныя дороги не могли работать: всегда найдется патріотъ волостного масштаба, который, на основаніи закона о восьми государственныхъ языкахъ, начнетъ лопотать такое, что никто ужъ не пойметъ... Итакъ, при отсутствіи національнаго подавленія и, слѣдовательно, при отсутствіи ущемленныхъ національныхъ самолюбій — получило преобладаніе чисто техническое соображеніе о томъ, что безъ русскаго языка все равно не обойтись. И украинскій бетонщикъ, который вчера укладывалъ днѣпровскую плотину, сегодня переброшенъ на Волгу, а на завтра мечтаетъ попасть въ московскій вузъ, ни на какіе соблазны украинизаціи не пойдетъ. Основная база всякихъ самостійныхъ теченій — это сравнительно тонкая прослойка полуинтеллигенціи, да и ту прослойку большевизмъ разгромилъ... Программы, которыя "дѣлятъ Русь по картѣ указательнымъ перстомъ", обречены на провалъ — конечно, поскольку это касается внутреннихъ процессовъ русской жизни...
ТОВАРИЩЪ ЧЕРНОВЪ
За справками политическаго характера ко мнѣ особенно часто приходилъ товарищъ Черновъ[14], бывшій комсомолецъ и бывшій студентъ, прошедшій своими боками Бобрики, Магнитострой и Бѣломорско-Балтійскій каналъ: первые два — въ качествѣ "энтузіаста пятилѣтки", третій — въ качествѣ каторжника ББК. Это былъ бѣлобрысый, сѣроглазый парень, лѣтъ 22-хъ, 23-хъ, медвѣжьяго сложенія, которое и позволило ему выбраться изъ всѣхъ этихъ энтузіазмомъ живьемъ. По нѣкоторымъ, весьма косвеннымъ, моимъ предположеніямъ это именно онъ сбросилъ ГПУ-ского троцкиста въ вичкинскіе водопады, впрочемъ, объ этомъ я его, конечно, не спрашивалъ.
Въ своихъ скитаніяхъ онъ выработалъ изумительное умѣнье добывать себѣ пищу изъ всѣхъ мыслимыхъ и немыслимыхъ источниковъ — приготовлять для ѣды сосновую заболонь, выпаривать весенній березовый сокъ, просто удить рыбу. Наблюдая тщетныя мои попытки приноровиться къ уженью форели, онъ предложилъ мнѣ свои услуги въ качествѣ наставника. Я досталъ ему разовый пропускъ, мы взяли удочки и пошли подальше, вверхъ по рѣчкѣ: на территоріи Вички могли удить рыбу всѣ, для выхода подальше — нуженъ былъ спеціальный пропускъ.
Моя система уженья была подвергнута уничтожающей критикѣ, удочка была переконструирована, но съ новой системой и удочкой не вышло ровно ничего. Черновъ выудилъ штукъ двадцать, я — не то одну, не то двѣ. Устроили привалъ, разложили костеръ и стали на палочкахъ жарить Черновскую добычу. Жарили и разговаривали, сначала, конечно, на обычныя лагерныя темы: какія статьи, какой срокъ. Черновъ получилъ десять лѣтъ по все той же статьѣ о террорѣ: былъ убитъ секретарь цеховой комячейки и какой-то сексотъ. Троихъ по этому дѣлу разстрѣляли, восемь послали въ концлагерь, но фактически убійца такъ и остался невыясненнымъ.
— Кто убилъ, конечно, неизвѣстно, — говорилъ Черновъ. — Можетъ, я, а можетъ, и не я. Темное дѣло.
Я сказалъ, что въ такихъ случаяхъ убійцѣ лучше бы сознаваться: одинъ бы онъ и пропалъ.
— Это нѣтъ. Ужъ уговоры такіе есть. Дѣло въ томъ, что, если не сознается никто, ну, кое-кого размѣняютъ, а организація останется. А если начать сознаваться, тутъ ужъ совсѣмъ пропащее дѣло.
— А какая организація?
— Союзъ молодежи — извѣстно какая, другихъ, пожалуй, и нѣтъ.
— Ну, положимъ есть и другія.
Черновъ пожалъ плечами.
— Какія тамъ другія, по полтора человѣка. Троцкисты, рабочая оппозиція... Недоумки...
— Почему недоумки?
— А, видите, какъ считаемъ мы, молодежь: нужно давать отбой отъ всей совѣтской системы. По всему фронту. Для насъ ясно, что не выходитъ абсолютно ни хрѣна. Что ужъ тутъ латать, да подмазывать — все это нужно сковыривать ко всѣмъ чертямъ, чтобы и совѣтскимъ духомъ не пахло... Все это нужно говорить прямо — карьеристы. И у тѣхъ, и у тѣхъ въ принципѣ — та же партійная, коммунистическая организація. Только если Троцкій, скажемъ, сядетъ на сталинское мѣсто, какой-нибудь тамъ Ивановъ сядетъ на мѣсто Молотова или въ этомъ родѣ. Троцкизмъ и рабочая оппозиція и группа рабочей правды, — всѣ они галдятъ про партійную демократію: на кой чортъ намъ партійная демократія — намъ нужна просто демократія... Кто за ними пойдетъ? Вотъ не сдѣлалъ себѣ карьеры при сталинской партіи, думаетъ, что сдѣлаетъ ее при троцкистской. Авантюра. Почему авантюра? А какъ вы думаете, что, если имъ удастся сковырнуть Сталина, такъ кто ихъ пуститъ на сталинское мѣсто. У Сталина мѣсто насиженное, вездѣ своя брашка, такой другой организаціи не скоро сколотить. Вы думате, имъ дадутъ время сколачивать эту организацію? Держи карманъ шире.
Я спросилъ Чернова, насколько, по его мнѣнію, Хлѣбниковъ характеренъ для рабочей молодежи.
Черновъ подложилъ въ костеръ основательный сукъ, навалилъ сверху свѣжей хвои: "совсѣмъ комары одолѣли, вотъ сволочь".
— Хлѣбниковъ? — переспросилъ онъ. — Такъ какая же онъ рабочая молодежь? Тоже вродѣ Кореневскаго: у Хлѣбникова отецъ — большой коммунистъ, Хлѣбниковъ видитъ, что Сталинъ партію тащитъ въ болото, хочетъ устроить совѣтскій строй только, такъ сказать, пожиже — тѣхъ же щей да пожиже влей. Ну, да я знаю, онъ тоже противъ партійной диктатуры — разговоръ одинъ!.. Что теперь нужно? Нужно крестьянину свободную землю, рабочему свободный профсоюзъ. Все равно, если я токарь, такъ я заводомъ управлять не буду. Кто будетъ управлять? А чортъ съ нимъ, кто — лишь бы не партія. И при капиталистѣ — хуже не будетъ, теперь ужъ это всякій дуракъ понимаетъ. У насъ на Магнитку навезли нѣмецкихъ рабочихъ — изъ безработныхъ тамъ набирали... Елки зеленыя, — Черновъ даже приподнялся на локтѣ, — костюмчики, чемоданчики, граммофончики, отдѣльное снабженіе, а работаютъ, ей-Богу, хуже нашего: нашему такую кормежку — такъ онъ любого нѣмца обставитъ. Что, не обставитъ?
Я согласился, что обставитъ — дѣйствительно обставляли: въ данныхъ условіяхъ иностранные рабочіе работали въ среднемъ хуже русскихъ...
— Ну, мы отъ нихъ кое-что разузнали... Вотъ тебѣ и капитализмъ! Вотъ тебѣ и кризисъ! Такъ это — Германія, ѣсть тамъ нечего и фабричное производство некуда дѣвать. А у насъ?.. Да, хозяинъ нуженъ... Вы говорите, монархія? Что-жъ, и о монархіи можно поговорить, не думаю, что-бъ изъ этого что-нибудь вышло. Знаете, пока царь былъ Божьей милостью — было другое дѣло. А теперь на Божьей милости далеко не уѣдешь... Нѣтъ, я лично ничего противъ монархіи не имѣю, но все это сейчасъ совсѣмъ не актуально. Что актуально? А чтобы и у каждаго рабочаго, и у каждаго мужика по винтовочкѣ дома висѣло. Вотъ это конституція. А тамъ — монархія, президентъ ли — дѣло шестнадцатое. Стойте, кто-то тамъ хруститъ.
Изъ за кустовъ вышло два вохровца. Одинъ сталъ въ сторонкѣ, съ винтовкой на изготовку, другой мрачно подошелъ къ намъ.
— Документы, прошу.
Мы достали наши пропуска. На мой — вохровецъ такъ и не посмотрѣлъ: "ну, васъ-то мы и такъ знаемъ" — это было лестно и очень удобно. На пропускъ Чернова онъ взглянулъ тоже только мелькомъ.
— А на какого вамъ чорта пропуска спрашивать? — интимно-дружественнымъ тономъ спросилъ я. — Сами видите, сидятъ люди среди бѣлаго дня, рыбу жарятъ.
Вохровецъ посмотрѣлъ на меня раздраженно.
— А вы знаете, бываетъ такъ: вотъ сидитъ такой, вотъ не спрошу у него пропуска, а онъ: а ну, товарищъ вохровецъ, ваше удостовѣреніе. А почему вы у меня пропуска не спросили? — вотъ тебѣ и мѣсяцъ въ ШИЗО.
— Житье-то у васъ — тоже не такъ, чтобы очень, — сказалъ Черновъ.
— Отъ такого житья къ ... матери внизъ головой, вотъ что, — свирѣпо ляпнулъ вохровецъ. — Только тѣмъ и живемъ, что другъ друга караулимъ... Вотъ: оборвалъ накомарникъ объ сучья, другого не даютъ — рожа въ арбузъ распухла.
Лицо у вохровца было дѣйствительно опухшее, какъ отъ водянки.
Второй вохровецъ опустилъ свою винтовку и подошелъ къ костру:
— Треплешь ты языкомъ, чучело, охъ, и сядешь же...
— Знаю я, передъ кѣмъ трепать, передъ кѣмъ не трепать, народъ образованный. Можно посидѣть?
Вохровецъ забрался въ струю дыма отъ костра: хоть подкоптиться малость, совсѣмъ комарье заѣло — хуже революціи...
Второй вохровецъ посмотрѣлъ неодобрительно на своего товарища и тревожно — на насъ. Черновъ невесело усмѣхнулся...
— А вдругъ, значитъ, мы съ товарищемъ пойдемъ и заявимъ: ходилъ-де вотъ такой патруль и контръ-революціонные разговоры разводилъ.
— Никакихъ разговоровъ я не развожу, — сказалъ второй вохровецъ. — А что — не бываетъ такъ?
— Бываетъ, — согласился Черновъ. — Бываетъ.
— Ну и хрѣнъ съ нимъ. Такъ жить — совсѣмъ отъ разговора отвыкнешь — только и будемъ коровами мычать. — Вохровецъ былъ изъѣденъ комарами, его руки распухли такъ же, какъ и его лицо, и настроеніе у него было крайне оппозиціонное.
— Оч-чень пріятно: ходишь какъ баранъ по лѣсу: опухши, не спамши, а вотъ товарищъ сидитъ и думаетъ, вотъ сволочи, тюремщики.
— Да, такъ оно и выходитъ, — сказалъ Черновъ.
— А я развѣ говорю, что не такъ? Конечно, такъ. Такъ оно и выходитъ: ты меня караулишь, а я тебя караулю. Тѣмъ и занимаемся. А пахать, извините, некому. Вотъ тебѣ и весь сказъ.
— Васъ за что посадили? — спросилъ я вохровца.
— За любопытство характера. Былъ въ красной арміи, спросилъ командира — какъ же это такъ: царство трудящихся, а нашу деревню — всю подъ метелку къ чертовой матери... Кто передохъ, кого такъ выселили. Такъ я спрашиваю — за какое царство трудящихся мы драться-то будемъ, товарищъ командиръ?
Второй вохровецъ аккуратно положилъ винтовку рядомъ съ собой и вороватымъ взглядомъ осмотрѣлъ прилегающіе кусты: нѣтъ ли тамъ кого...
— Вотъ и здѣсь договоришься ты, — еще разъ сказалъ онъ.
Первый вохровецъ презрительно посмотрѣлъ на него сквозь опухшія щелочки глазъ и не отвѣтилъ ничего. Тотъ уставился въ костеръ своими безцвѣтными глазами, какъ будто хотѣлъ что-то сказать, поперхнулся, потомъ какъ-то зябко поежился.
— Да, оно куда ни поверни... ни туды, ни сюды ...
— Вотъ то-то.
Помолчали. Вдругъ гдѣ-то въ полуверстѣ къ югу раздался выстрѣлъ, потомъ еще и еще. Оба вохровца вскочили, какъ встрепанные, сказалась военная натаска. Опухшее лицо перваго перекосилось озлобленной гримасой.
— Застукали когось-то... Тутъ только что оперативный патруль прошелъ, эти ужъ не спустятъ...
Вслѣдъ за выстрѣлами раздался тонкій сигнальный свистъ, потомъ еще нѣсколько выстрѣловъ.
— Охъ, ты, мать его... бѣжать надо, а то еще саботажъ пришьютъ...
Оба чина вооруженной охраны лагеря скрылись въ чащѣ.
— Прорвало парня, — сказалъ Черновъ. — Вотъ такъ и бываетъ: ходитъ, ходитъ человѣкъ, молчитъ, молчитъ, а потомъ ни съ того, ни съ сего и прорвется... У насъ, на Бобрикахъ, былъ такой парторгъ (партійный организаторъ) — оралъ, оралъ, слѣдилъ, слѣдилъ, а потомъ на общемъ собраніи цеха вылѣзъ на трибуну: простите, говоритъ, товарищи, всю жизнь обманомъ жилъ, карьеру я, сволочь дѣлалъ, проституткой жилъ... За наганъ — сколько тамъ пуль — въ президіумъ: двухъ ухлопалъ, одного ранилъ, а послѣднюю пулю себѣ въ ротъ. Прорвало. А какъ вы думаете, среди вотъ этихъ караульщиковъ — сколько нашихъ? Девяносто процентовъ! Вотъ говорилъ я вамъ, а вы не вѣрили.
— То-есть, чему это я не вѣрилъ?
— А вообще, видъ у васъ скептическій. Н-нѣтъ, въ Россіи — все готово. Не хватаетъ одного — сигнала. И тогда въ два дня — все къ чортовой матери. Какой сигналъ? — Да все равно какой. Хоть война, чортъ съ ней...
Стрѣльба загрохотала снова и стала приближаться къ намъ. Мы благоразумно отступили на Вичку.
ЕЩЕ О КАБИНКѢ МОНТЕРОВЪ
Вся эта возня со спартакіадой и прочимъ не прерывала нашей связи съ кабинкой монтеровъ — это было единственное мѣсто, гдѣ мы чувствовали себя болѣе или менѣе дома среди хорошихъ, простыхъ русскихъ людей — простыхъ не въ смыслѣ простонародности. Просто не валяли люди никакого дурака, не лѣзли ни въ какіе активисты, не дѣлали никакихъ лагерныхъ карьеръ. Только здѣсь я хоть на часъ-другой могъ чувствовать себя какъ-будто я вовсе не въ лагерѣ, только здѣсь какъ-то отдыхала душа.
Какъ-то вечеромъ, возвращаясь съ Вички, я завернулъ въ кабинку. У ея дверей на какомъ-то самодѣльномъ верстакѣ Мухинъ что-то долбилъ стамеской:
— Промфинпланъ выполняете? — пошутилъ я и протянулъ Мухину руку.
Мухинъ оторвался отъ тисковъ, какъ-то странно, бокомъ, посмотрѣлъ на меня — взглядъ его былъ суровъ и печаленъ — вытеръ руку о штаны и снова взялся за стамеску.
— Простите, рука грязная, — сказалъ онъ.
Я нѣсколько растерянно опустилъ свою руку. Мухинъ продолжалъ ковыряться со своей стамеской, не глядя на меня и не говоря ни слова. Было ясно, что Мухинъ руки мнѣ подавать не хочетъ... Я стоялъ столбомъ, съ ощущеніемъ незаслуженной обиды и неожиданной растерянности.
— Вы никакъ дуетесь на меня? — не очень удачно спросилъ я...
Мухинъ продолжалъ долбить своей стамеской, только стамеска какъ-то нелѣпо скользила по зажатой въ тиски какой-то гайкѣ.
— Что тутъ дуться, — помолчавъ, сказалъ онъ, — а рука у меня дѣйствительно въ маслѣ. Зачѣмъ вамъ моя рука — у васъ и другія руки есть.
— Какія руки? — не сообразилъ я.
Мухинъ поднялъ на меня тяжелый взглядъ.
— Да ужъ извѣстно, какія.
Я понялъ. Что я могъ сказать и какъ я могъ объяснить? Я повернулся и пошелъ въ баракъ. Юра сидѣлъ на завалинкѣ у барака, обхвативъ руками колѣни и глядя куда-то вдаль. Рядомъ лежала раскрытая книга.
— Въ кабинку заходилъ? — спросилъ Юра.
— Заходилъ.
— Ну?
— И ты заходилъ?
— Заходилъ.
— Ну?
Юра помолчалъ и потомъ пожалъ плечами.
— Точно сексота встрѣтили. Ну, я ушелъ. Пиголица сказалъ: видали тебя съ Подмоклымъ и у Успенскаго... Знаешь, Ва, давай больше не откладывать... Какъ-нибудь дать знать Бобу... Ну его со всѣмъ этимъ къ чортовой матери... Прямо — хоть повѣситься...
Повѣситься хотѣлось и мнѣ. Можно сказать — доигрался... Дохалтурился... И какъ объяснить Мухину, что халтурю я вовсе не для того, чтобы потомъ, какъ теперь Успенскій, сѣсть на ихъ, Мухиныхъ, Ленчиковъ, Акульшиныхъ шеи и на ихъ Мухиныхъ, Ленчиковъ и Акульшиныхъ костяхъ и жизняхъ дѣлать совѣтскую карьеру: если бы хотѣлъ дѣлать совѣтскую карьеру — я дѣлалъ бы ее не въ лагерѣ. Какъ это объяснить?... Для того, чтобы объяснить это, пришлось бы сказать слово "побѣгъ" — его я, послѣ опыта съ г-жей Е. и съ Бабенкой, не скажу никому. А какъ все это объяснить безъ побѣга?
— А какъ Пиголица? — спросилъ я.
— Такъ, растерянный какой-то. Подробно я съ нимъ не говорилъ. О чемъ говорить? Развѣ разскажешь?
На душѣ было исключительно противно.
Приблизительно черезъ недѣлю послѣ этого случая начался оффиціальный пріемъ въ техникумъ. Юра былъ принять автоматически, хотя въ техникумѣ дѣлать ему было рѣшительно нечего. Пиголицу не приняли, такъ какъ въ его формулярѣ была статья о террорѣ. Техникумъ этотъ былъ предпріятіемъ совершенно идіотскимъ. Въ немъ было человѣкъ триста учащихся, были отдѣленія: дорожное, гражданскаго строительства, геодезическое, лѣсныхъ десятниковъ и какія-то еще. Въ составѣ преподавателей — рядъ профессоровъ Петербурга и Москвы, конечно, заключенныхъ. Въ составѣ учащихся — исключительно урки: принимали только "соціально-близкій элементъ" — слѣдовательно, ни одинъ контръ-революціонеръ и къ порогу не подпускался. Набрали три сотни полуграмотныхъ уголовниковъ, два мѣсяца подтягивали ихъ до таблицы умноженія, и уголовники совершенно открыто говорили, что они ни въ какомъ случаѣ ни учиться, ни работать не собираются: какъ раньше воровали, такъ и въ дальнѣйшемъ будутъ воровать — это на ослахъ воду возятъ, поищите себѣ другихъ ословъ... Юра былъ единственнымъ исключеніемъ — единственнымъ учащимся, имѣвшимъ въ формулярѣ контръ-революціонныя статьи, но на подготовительные курсы Юра былъ принять по запискѣ Радецкаго, а въ техникумъ — по запискѣ Успенскаго. О какой бы то ни было учебѣ въ этомъ техникумѣ и говорить было нечего, но среди учебныхъ пособій были карты района и компаса. Въ техникумъ Юра поступилъ съ единственной цѣлью спереть и то, и другое, каковое намѣреніе онъ въ свое время и привелъ въ исполненіе.
Въ этомъ техникумѣ я нѣкоторое время преподавалъ физкультуру и русскій языкъ, потомъ не выдержалъ и бросилъ сизифовъ трудъ, переливаніе изъ пустого въ порожнее. Русскій языкъ имъ вообще не былъ нуженъ — у нихъ былъ свой, блатной жаргонъ, а физкультуру они разсматривали исключительно съ утилитарной точки зрѣнія, въ качествѣ, такъ сказать, подсобной дисциплины въ ихъ разнообразныхъ воровскихъ спеціальностяхъ... Впрочемъ, въ этотъ техникумъ водили иностранныхъ туристовъ и показывали: вотъ видите, какъ мы перевоспитываемъ... Откуда иностранцамъ было знать? Тутъ и я могъ бы повѣрить...
Пиголицу въ техникумъ не пустили: въ его формулярѣ была статья о террорѣ. Правда, терроръ этотъ заключался только въ зуботычинѣ, данной по поводу какихъ-то жилищныхъ склокъ какому-то секретарю ячейки, правда, большинство урокъ было не очень увѣрено въ 6 X 8 = 48, а Пиголицу мы съ Юрой дотянули до логарифмовъ включительно, правда, урки совершенно откровенно не хотѣли ни учиться въ техникумѣ, ни "перековываться" послѣ его проблематичнаго окончанія, а Пиголица за возможность учебы — "да, я бы, знаете, ей Богу, хоть полъ жизни отдалъ бы"... но у Пиголицы была статья 58, 8.
Юра сказалъ мнѣ, что Пиголица совсѣмъ раздавленъ своей неудачей: собирается не то топиться, не то вѣшаться. Я пошелъ къ Корзуну. Корзунъ встрѣтилъ меня такъ же корректно и благожелательно, какъ всегда. Я изложилъ ему свою просьбу о Пиголицѣ. Корзунъ развелъ руками — ничего не могу подѣлать: инструкція ГУЛАГа. Я былъ очень взвинченъ, очень раздраженъ и сказалъ Корзуну, что ужъ здѣсь-то, съ глазу на глазъ, объ инструкціи ГУЛАГа, ей Богу, не стоило бы говорить, а то я начну разговаривать о перековкѣ и о пользѣ лагерной физкультуры — обоимъ будетъ неловко.
Корзунъ пожалъ плечами:
— И чего это васъ заѣло?
— Вы понимаете, Климченко (фамилія Пиголицы), въ сущности, единственный человѣкъ, который изъ этого техникума хоть что-нибудь вынесетъ.
— А вашъ сынъ ничего не вынесетъ? — не безъ ехидства спросилъ Корзунъ.
— Сыну осталось сидѣть ерунда, дорожнымъ десятникомъ онъ, конечно, не будетъ, я его въ Москву въ кино-институтъ переправлю... Послушайте, тов. Корзунъ, если ваши полномочія недостаточны для принятія Пиголицы — я обращусь къ Успенскому.
Корзунъ вздохнулъ: "экъ васъ заѣло!" Пододвинулъ къ себѣ бумажку. Написалъ.
— Ну, вотъ, передайте это непосредственно директору техникума.
Пиголица зашелъ ко мнѣ въ баракъ, какъ-то путано поблагодарилъ и исчезъ. Кабинка, конечно, понимала, что человѣкъ, который началъ дѣлать столь головокружительную карьеру, можетъ сбросить со своего стола кость благотворительности, но отъ этого сущность его карьеры не мѣняется. Своей руки кабинка намъ все-таки не протянула.
...Возвращаясь вечеромъ къ себѣ въ баракъ, застаю у барака Акульшина. Онъ какъ-то исхудалъ, обросъ грязно-рыжей щетиной и видъ имѣлъ еще болѣе угрюмый, чѣмъ обыкновенно.
— А я васъ поджидаю... Начальникъ третьяго лагпункта требуетъ, чтобы вы сейчасъ зашли.
Начальникъ третьяго лагпункта ничего отъ меня требовать не могъ. Я собрался было въ этомъ тонѣ и отвѣтить Акульшину, но, посмотрѣвъ на него, увидалъ, что дѣло тутъ не въ начальникѣ третьяго лагпункта.
— Ну что-жъ, пойдемъ.
Молча пошли. Вышли съ территоріи лагпункта. На берегу Кумсы валялись сотни выкинутыхъ на берегъ бревенъ. Акульшинъ внимательно и исподлобья осмотрѣлся вокругъ.
— Давайте присядемъ.
Присѣли.
— Я это насчетъ начальника лагпункта только такъ, для людей сказалъ.
— Понимаю...
— Тутъ дѣло такое... — Акульшинъ вынулъ кисетъ, — сворачивайте.
Начали сворачивать. Чугунные пальцы Акульшина слегка дрожали.
— Я къ вамъ, товарищъ Солоневичъ, прямо — панъ или пропалъ. Былъ у Мухина. Мухинъ говоритъ — ссучился[15] твой Солоневичъ, съ Подмоклымъ пьянствуетъ, у Успенскаго сидитъ... Н-да... — Акульшинъ посмотрѣлъ на меня упорнымъ, тяжелымъ и въ то же время какимъ-то отчаяннымъ взглядомъ.
— Ну, и что? — спросилъ я.
— Я говорю — непохоже. Мухинъ говоритъ, что непохоже? Сами видали... А я говорю, вотъ насчетъ побѣгу я Солоневичу разсказалъ. Ну, говоритъ, и дуракъ. Это, говорю, какъ сказать, Солоневичъ меня разнымъ пріемамъ обучилъ. Середа говоритъ, что тутъ чортъ его разберетъ — такіе люди, они съ подходцемъ дѣйствуютъ, сразу не раскусишь...
Я пожалъ плечами и помолчалъ. Помолчалъ и Акульшинъ. Потомъ, точно рѣшившись — какъ головой въ воду — прерывающимся глухимъ голосомъ:
— Ну, такъ я прямо — панъ или пропалъ. Мнѣ смываться надо. Вродѣ, какъ сегодня, а то перебрасываютъ на Тулому. Завтра утромъ — отправка.
— Смываться на Алтай? — спросилъ я
— На Алтай, къ семьѣ... Ежели Господь поможетъ... Да вотъ... Мнѣ бы вкругъ озера обойти, съ сѣвера... На Повѣнецъ — сейчасъ не пройти, ну, на Петрозаводскъ и говорить нечего... Ежели бы мнѣ... — голосъ Акульшина прервался, словно передъ какой-то совсѣмъ безнадежной попыткой. — Ежели бы мнѣ бумажку какую на Повѣнецъ. Безъ бумажки не пройти...
Акульшинъ замолчалъ и посмотрѣлъ на меня суровымъ взглядомъ, за которымъ была скрытая мольба. Я посмотрѣлъ на Акульшина. Странная получалась игра. Если я дамъ бумажку (бумажку я могъ достать, и Акульшинъ объ этомъ или зналъ, или догадывался) и если кто-то изъ насъ сексотъ, то другой — кто не сексотъ — пропадетъ. Такъ мы сидѣли и смотрѣли другъ другу въ глаза. Конечно, проще было бы сказать: всей душой радъ бы, да какъ ее, бумажку-то, достанешь?.. Потомъ я сообразилъ, что третьей части сейчасъ нѣтъ никакого смысла подводить меня никакими сексотами: подвести меня, значитъ, сорвать спартакіаду. Если даже у третьей части и есть противъ меня какіе-нибудь порочащіе мою совѣтскую невинность матеріалы, она ихъ предъявитъ только послѣ спартакіады, а если спартакіада будетъ проведена хорошо, то не предъявитъ никогда — не будетъ смысла.
Я пошелъ въ административную часть и выписалъ тамъ командировку на имя Юры — срокомъ на одинъ день для доставки въ Повѣнецъ спортивнаго инвентаря. Завтра Юра заявитъ, что у него эта бумажка пропала и что инвентарь былъ отправленъ съ оказіей — онъ на всякій случай и былъ отправленъ. Акульшинъ остался сидѣть на бревнахъ, согнувъ свои квадратныя плечи и, вѣроятно, представляя себѣ и предстоящія ему тысячи верстъ по доуральской и зауральской тайгѣ, и возможность того, что я вернусь не съ "бумажкой", а просто съ оперативниками. Но безъ бумажки въ эти недѣли пройти дѣйствительно было нельзя. Сѣвернѣе Повѣнца выгружали новые тысячи "вольно ссыльныхъ" крестьянъ и, вѣроятно, въ виду этого районъ былъ оцѣпленъ "маневрами" ГПУ-скихъ частей...
Командировку мнѣ выписали безъ всякихъ разговоровъ — лагпунктовское начальство было уже вышколено. Я вернулся на берегъ рѣки, къ бревнамъ. Акульшинъ сидѣлъ, все такъ же понуривъ голову и уставившись глазами въ землю. Онъ молча взялъ у меня изъ рукъ бумажку. Я объяснилъ ему, какъ съ ней нужно дѣйствовать и что нужно говорить.
— А на автобусъ до Повѣнца деньги у васъ есть?
— Это есть. Спасибо. Жизни нѣту — вотъ какое дѣло. Нѣту жизни, да и все тутъ... Ну, скажемъ, дойду. А тамъ? Сиди, какъ въ норѣ барсукъ, пока не загрызутъ... Такое, можно сказать, обстоятельство кругомъ... А земли кругомъ... Можно сказать — близокъ локоть, да нечего лопать...
Я сѣлъ на бревно противъ Акульшина. Закурили.
— А насчетъ вашей бумажки — не бойтесь. Ежели что — зубами вырву, не жевавши, проглочу... А вамъ бы — тоже смываться.
— Мнѣ некуда. Вамъ еще туда-сюда — нырнули въ тайгу. А я что тамъ буду дѣлать? Да и не доберусь...
— Да, выходитъ такъ... Иногда образованному лучше, а иногда образованному-то и совсѣмъ плохо.
Тяжело было на душѣ. Я поднялся. Поднялся и Акульшинъ.
— Ну, ежели что — давай вамъ Богъ, товарищъ Солоневичъ, давай вамъ Богъ.
Пожали другъ другу руки. Акульшинъ повернулся и, не оглядываясь, ушелъ. Его понурая голова мелькала надъ завалами бревенъ и потомъ исчезла. У меня какъ-то сжалось сердце _ вотъ ушелъ Акульшинъ не то на свободу, не то на тотъ свѣтъ. Черезъ мѣсяцъ такъ и мы съ Юрой пойдемъ...
ПРИМИРЕНІЕ
Въ послѣдній мѣсяцъ передъ побѣгомъ жизнь сложилась по всѣмъ правиламъ детективнаго романа, написаннаго на уровнѣ самой современной техники этого искусства. Убійство "троцкиста" на Вичкѣ, побѣгъ Акульшина и разслѣдованіе по поводу этого побѣга, раскрытіе "панамы" на моемъ вичкинскомъ курортѣ, первыя точныя извѣстія о Борисѣ, подкопъ, который Гольманъ неудачно пытался подвести подъ мой блатъ у Успенскаго, и многое другое — все это спуталось въ такой нелѣпый комокъ, что разсказать о немъ болѣе или менѣе связно — моей литературной техники не хватитъ. Чтобы провѣтриться, посмотрѣть на лагерь вообще, я поѣхалъ въ командировку на сѣверъ; объ этой поѣздки — позже. Поѣздку не кончилъ, главнымъ образомъ отъ того отвращенія, которое вызвало во мнѣ впечатлѣніе лагеря, настоящаго лагеря, не Медвѣжьей Горы съ Успенскими, Корзунами и "блатомъ", а лагеря по всѣмъ правиламъ соціалистическаго искусства... Когда пріѣхалъ — потянуло въ кабинку, но въ кабинку хода уже не было.
Какъ-то разъ по дорогѣ на Вичку я увидѣлъ Ленчика, куда-то суетливо бѣжавшаго съ какими-то молотками, ключами и прочими приспособленіями своего монтерскаго ремесла. Было непріятно встрѣчаться — я свернулъ было въ сторонку, въ переулокъ между сараями. Ленчикъ догналъ меня.
— Товарищъ Солоневичъ, — сказалъ онъ просительнымъ тономъ, — заглянули бы вы къ намъ въ кабинку, разговоръ есть.
— А какой разговоръ? — пожалъ я плечами.
Ленчикъ лѣвой рукой взялъ меня за пуговицу и быстро заговорилъ. Правая рука жестикулировала французскимъ ключомъ.
— Ужъ вы, товарищъ Солоневичъ, не серчайте, всѣ тутъ какъ пауки живемъ... Кому повѣришь? Вотъ, думали, хорошъ человѣкъ подобрался, потомъ смотримъ, съ Подмоклымъ. Развѣ разберешь, вотъ, думаемъ, такъ подъѣхалъ, а думали — свой братъ, ну, конечно же, сами понимаете — обидно стало, прямо такъ обидно, хорошія слова говорилъ человѣкъ, а тутъ, на — съ третьей частью... Я Мухину и говорю, что ты такъ сразу, съ плеча, можетъ, у человѣка какой свой расчетъ есть, а мы этого расчету не знаемъ... А Мухинъ, ну, тоже надо понять — семья у него тамъ въ Питерѣ была, теперь вотъ, какъ вы сказали, въ Туркестанъ выѣхавши, но ежели, напримѣръ вы — да въ третьей части, такъ какъ у него съ семьей будетъ? Такъ я, конечно, понимаю, ну, а Мухину-то какъ за сердце схватило...
— Вы сами бы, Ленчикъ, подумали — да если бы я и въ третьей части былъ, какой мнѣ расчетъ подводить Мухинскую семью...
— Вотъ, опять же, то-то и я говорю — какой вамъ расчетъ?.. И потомъ же — какой вамъ расчетъ былъ въ кабинкѣ? Ну, знаете, люди теперь живутъ наершившись... Ну, потомъ пришелъ Акульшинъ: прощайте говоритъ, ребята, ежели не поймаютъ меня, такъ, значитъ, Солоневичей вы зря забидѣли. Ну, больше говорить не сталъ, ушелъ, потомъ розыскъ на него былъ — не поймали...
— Навѣрно — не поймали.
— Не поймали — ужъ мы спрашивали кого надо... Ушелъ...
Я только въ этотъ моментъ сообразилъ, что гдѣ-то очень глубоко въ подсознаніи была у меня суевѣрная мысль: если Акульшинъ уйдетъ — уйдемъ и мы. Сейчасъ изъ подсознанія эта мысль вырвалась наружу какимъ-то весеннимъ потокомъ. Стало такъ весело и такъ хорошо...
Ленчикъ продолжалъ держать меня за пуговицу.
— Такъ ужъ вы прихватывайте Юрочку и прилазьте. Эхъ, по такому случаю — мы ужъ проголосовали — насъ, значитъ, будетъ шестеро — двѣ литровочки — чортъ съ нимъ, кутить, такъ кутить. А? Придете?
— Приду. Только литровочки-то эти я принесу.
— Э, нѣтъ, уже проголосовано, единогласно...
— Ну, ладно, Ленчикъ, — а закуска-то ужъ моя.
— И закуска будетъ. Эхъ, вотъ выпьемъ по хорошему для примиренія, значитъ... Во!
Ленчикъ оставилъ въ покоѣ мою пуговицу и изобразилъ жестомъ "на большой палецъ".
"НАЦІОНАЛИСТЫ"
Промфинпланъ былъ перевыполненъ. Я принесъ въ кабинку двѣ литровки и закуску — невиданную и неслыханную — и, грѣшный человѣкъ, спертую на моемъ вичкинскомъ курортѣ... Впрочемъ — не очень даже спертую, потому что мы съ Юрой не каждый день пользовались нашимъ правомъ курортнаго пропитанія.
Мухинъ встрѣтилъ меня молчаливо и торжественно: пожалъ руку и сказалъ только: "ну, ужъ — не обезсудьте". Ленчикъ суетливо хлопоталъ вокругъ стола, Середа подсмѣивался въ усы, а Пиголица и Юра — просто были очень довольны.
Середа внимательнымъ окомъ осмотрѣлъ мои приношенія: тамъ была ветчина, масло, вареныя яйца и шесть жареныхъ свиныхъ котлетъ: о способѣ ихъ благопріобрѣтенія кабинка уже была информирована. Поэтому Середа только развелъ руками и сказалъ:
— А еще говорятъ, что въ Совѣтской Россіи ѣсть нечего, а тутъ — прямо какъ при старомъ режимѣ...
Когда уже слегка было выпито — Пиголица ни съ того, ни съ сего вернулся къ темѣ о старомъ режимѣ.
— Вотъ вы все о старомъ режимѣ говорите...
Середа слегка пожалъ плечами: "ну, я не очень-то объ немъ говорю, а все — лучше было"...
Пиголица вдругъ вскочилъ:
— Вотъ я вамъ сейчасъ одну штуку покажу — рѣчь Сталина.
— А зачѣмъ это? — спросилъ я.
— Вотъ вы всѣ про Сталина говорили, что онъ Россію моритъ...
— Я и сейчасъ это говорю...
— Такъ вотъ, это и есть невѣрно. Вотъ я вамъ сейчасъ разыщу. Пиголица сталъ рыться на книжной полкѣ.
— Да бросьте вы, рѣчи Сталина я и безъ васъ знаю...
— Э, нѣтъ, постойте, постойте. Сталинъ говоритъ, о Россіи, то-есть, что насъ всѣ, кому не лѣнь, били... О Россіи, значитъ, заботится... А вотъ вы послушайте.
Пиголица досталъ брошюру съ одной изъ "историческихъ" рѣчей Сталина и началъ торжественно скандировать:
— "Мы отстали отъ капиталистическаго строя на сто лѣтъ. А за отсталость бьютъ. За отсталость насъ били шведы и поляки. За отсталость насъ били турки и били татары, били нѣмцы и били японцы... Мы отстали на сто лѣтъ. Мы должны продѣлать это разстояніе въ десять лѣтъ или насъ сомнутъ..."
Эту рѣчь Сталина я, конечно, зналъ. У меня подъ руками нѣтъ никакихъ "источниковъ", но не думаю, чтобы я сильно ее перевралъ — въ тонѣ и смыслѣ, во всякомъ случаѣ. Въ натурѣ эта тирада нѣсколько длиннѣе. Пиголица скандировалъ торжественно и со смакомъ: били — били, били — били. Его бѣлобрысая шевелюра стояла торчкомъ, а въ выраженіи лица было предвкушеніе того, что вотъ раньше-де всѣ били, а теперь, извините, бить не будутъ. Середа мрачно вздохнулъ:
— Да, это что и говорить, влетало...
— Вотъ, — сказалъ Пиголица торжествующе, — а вы говорите, Сталинъ противъ Россіи идетъ.
— Онъ, Саша, не идетъ спеціально противъ Россіи, онъ идетъ на міровую революцію. И за нѣкоторыя другія вещи. А въ общемъ, здѣсь, какъ и всегда, вретъ онъ и больше ничего.
— То-есть какъ это вретъ? — возмутился Пиголица.
— Что дѣйствительно били, — скорбно сказалъ Ленчикъ, — такъ это что и говорить...
— То-есть какъ это вретъ? — повторилъ Пиголица. — Что, не били насъ?
— Били. И шведы били, и татары били. Ну, и что дальше?
Я рѣшилъ использовать свое торжество, такъ сказать, въ разсрочку — пусть Пиголица догадывается самъ. Но Пиголица опустилъ брошюрку и смотрѣлъ на меня откровенно растеряннымъ взглядомъ.
— Ну, скажемъ, Саша, насъ били татары. И шведы и прочіе. Подумайте, какимъ же образомъ вотъ тотъ же Сталинъ могъ бы править одной шестой частью земной суши, если бы до него только мы и дѣлали, что шеи свои подставляли? А? Не выходитъ?
— Что-то не выходитъ, Саша, — подхватилъ Ленчикъ. — Вотъ, скажемъ, татары, гдѣ они теперь? Или шведы. Вотъ этотъ самый лагерь, сказываютъ, раньше на шведской землѣ стоялъ, была тутъ Щвеція... Значитъ, не только насъ били, а и мы кому-то шею костыляли, только про это Сталинъ помалкиваетъ...
— А вы знаете, Саша, мы и Парижъ брали, и Берлинъ брали...
— Ну, это ужъ, И. Л., извините, тутъ ужъ вы малость заврались. Насчетъ татаръ еще туда сюда, а о Берлинѣ — ужъ извините.
— Брали, — спокойно подтвердилъ Юра, — хочешь, завтра книгу принесу — совѣтское изданіе... — Юра разсказалъ о случаѣ во время ревельскаго свиданія монарховъ, когда Вильгельмъ II спросилъ трубача какого-то полка: за что получены его серебряныя трубы? "За взятіе Берлина, Ваше Величество"... "Ну, этого больше не случится". "Не могу знать, Ваше Величество"...
— Такъ и сказалъ, сукинъ сынъ? — обрадовался Пиголица.
— Насчетъ Берлина, — сказалъ Середа, — это не то, что Пиголица, а и я самъ слыхомъ не слыхалъ...
— Учили же вы когда-то русскую исторію?
— Учить не училъ, а такъ, книжки читалъ: до революціи — подпольныя, а послѣ — совѣтскія: не много тутъ узнаешь.
— Вотъ что, — предложилъ Ленчикъ, — мы пока по стаканчику выпьемъ, а тамъ устроимъ маленькую передышку, а вы намъ, товарищъ Солоневичъ, о русской исторіи малость поразскажите. Такъ, коротенько. А то въ самомъ дѣлѣ, птичку Пиголицу обучать надо, въ техникумѣ не научатъ...
— А тебя — не надо?
— И меня надо. Я, конечно, читалъ порядочно, только знаете, все больше "наше совѣтское".
— А въ самомъ дѣлѣ, разсказали бы, — поддержалъ Середа.
— Ну, вотъ и послушаемъ, — заоралъ Ленчикъ ("да тише, ты" — зашипѣлъ на него Мухинъ). Такъ вотъ, значитъ, на порядкѣ дня: стопочка во славу русскаго оружія и докладъ тов. Солоневича. Слово предоставляется стопочкѣ: за славу...
— Ну, это какъ какого оружія, — угрюмо сказалъ Мухинъ, — за красное, хоть оно пять разъ будетъ русскимъ, пей самъ.
— Э, нѣтъ, за красное и я пить не буду, — сказалъ Ленчикъ.
Пиголица поставилъ поднятую было стопку на столъ.
— Такъ это, значитъ, вы за то, чтобы насъ опять били?
— Кого это насъ? Насъ и такъ бьютъ — лучше и не надо... А если вамъ шею накостыляютъ — для всѣхъ прямой выигрышъ.
Середа выпилъ свою стопку и поставилъ ее на столъ.
— Тутъ, птичка моя Пиголица, такое дѣло, — затараторилъ Ленчикъ, — русскій мужикъ — онъ, извѣстное дѣло, заднимъ умомъ крѣпокъ: пока по шеѣ не вдарятъ — не перекрестится. А когда вдарятъ, перекрестится — такъ только зубы держи... Скажемъ, при Петрѣ набили морду подъ Нарвой, перекрестился — и крышка шведамъ. Опять же при Наполеонѣ... Теперь, конечно, тоже набьютъ, никуда не дѣнешься...
— Такъ, что и ты-то морду бить будешь?
— А ты въ красную армію пойдешь?
— И пойду.
Мухинъ тяжело хлопнулъ кулакомъ по столу.
— Сукинъ ты сынъ, за кого ты пойдешь? За лагери? За то, что-бъ дѣти твои въ безпризорникахъ бѣгали? За ГПУ, сволочь, пойдешь? Я тебѣ, сукиному сыну, самъ первый голову проломаю... — лицо Мухина перекосилось, онъ оперся руками о край стола и приподнялся. Запахло скандаломъ.
— Послушайте, товарищи, кажется, рѣчь шла о русской исторіи — давайте перейдемъ къ порядку дня, — вмѣшался я.
Но Пиголица не возразилъ ничего. Мухинъ былъ чѣмъ-то вродѣ его пріемнаго отца, и нѣкоторый решпектъ къ нему Пиголица чувствовалъ. Пиголица выпилъ свою стопку и что-то пробормоталъ Юрѣ вродѣ: "ну, ужъ тамъ насчетъ головы — еще посмотримъ"...
Середа поднялъ брови:
— Охъ, и умный же ты, Сашка, такихъ умныхъ немного уже осталось... Вотъ поживешь еще съ годикъ въ лагерѣ...
— Такъ вы хотите слушать или не хотите? — снова вмѣшался я.
Перешли къ русской исторіи. Для всѣхъ моихъ слушателей, кромѣ Юры, это былъ новый міръ. Какъ ни были бездарны и тенденціозны Иловайскіе стараго времени — у нихъ были хоть факты. У Иловайскихъ совѣтскаго производства нѣтъ вообще ничего: ни фактовъ, ни самой элементарной добросовѣстности. По этимъ Иловайскимъ до ленинская Россія представлялась какой-то сплошной помойкой, ея дѣятели — сплошными идіотами и пьяницами, ея исторія — сплошной цѣпью пораженій, позора. Объ основномъ стержнѣ ея исторіи, о тысячелѣтней борьбѣ со степью, о разгромѣ этой степи ничего не слыхалъ не только Пиголица, но даже и Ленчикъ. Отъ хозаръ, половцевъ, печенѣговъ, татаръ, отъ полоняничной дани, которую платила крымскому хану еще Россія Екатерины Второй до постепеннаго и послѣдовательнаго разгрома Россіей величайшихъ военныхъ могуществъ міра: татаръ, турокъ, шведовъ, Наполеона; отъ удѣльныхъ князей, правившихъ по ханскимъ полномочіямъ, до гигантской имперіи, которою вчера правили цари, а сегодня правитъ Сталинъ, — весь этотъ путь былъ моимъ слушателямъ неизвѣстенъ совершенно.
— Вотъ мать ихъ, — сказалъ Середа, — читалъ, читалъ, а объ этомъ, какъ это на самомъ дѣлѣ, слышу первый разъ.
Фраза Александра Третьяго: "когда русскій царь удитъ рыбу — Европа можетъ подождать" — привела Пиголицу въ восторженное настроеніе.
— Въ самомъ дѣлѣ? Такъ и сказалъ? Вотъ сукинъ сынъ! Смотри ты... А?
— Про этого Александра, — вставилъ Середа, — пишутъ, пьяница былъ.
— У Горькаго о немъ хорошо сказано — какимъ-то мастеровымъ: "вотъ это былъ царь — зналъ свое ремесло"... — сказалъ Юра. — Звѣздъ съ неба не хваталъ, а ремесло свое зналъ...
— Всякое ремесло знать надо, — вѣско сказалъ Мухинъ, — вотъ понаставили "правящій классъ" — а онъ ни уха, ни рыла...
Я не согласился съ Мухинымъ: эти свое ремесло знаютъ почище, чѣмъ Александръ Третій зналъ свое — только ремесло у нихъ разбойное. "Ну, а возьмите вы Успенскаго — необразованный же человѣкъ". Я и съ этимъ не согласился: очень умный человѣкъ Успенскій и свое ремесло знаетъ, "иначе мы бы съ вами, товарищъ Мухинъ, въ лагерѣ не сидѣли"...
— А главное — такъ что же дальше? — скорбно спросилъ Середа.
— Э, какъ-нибудь выберемся, — оптимистически сказалъ Ленчикъ.
— Внуки — тѣ, можетъ, выберутся, — мрачно замѣтилъ Мухинъ. — А намъ — уже не видать...
— Знаете, Алексѣй Толстой писалъ о томъ моментѣ, когда Москва была занята французами: "Казалось, что ужъ ниже нельзя сидѣть въ дырѣ — анъ, глядь — ужъ мы въ Парижѣ". Думаю — выберемся и мы.
— Вотъ я и говорю. Вы смотрите, — Ленчикъ протянулъ руку надъ столомъ и сталъ отсчитывать по пальцамъ: — первое дѣло: раньше всякій думалъ — моя хата съ краю, намъ до государства ни котораго дѣла нѣту, теперь Пиголица и тотъ — ну, не буду, не буду, я о тебѣ только такъ, для примѣра — теперь каждый понимаетъ: ежели государство есть — держаться за него надо: хоть плохое — а держись.
— Такъ вѣдь и теперь у насъ государство есть, — прервалъ его Юра.
— Теперь? — Ленчикъ недоумѣнно воззрился на Юру. — Какое же теперь государство? Ну, земля? Земля есть — чортъ ли съ ней? У насъ теперь не государство, а сидитъ хулиганская банда, какъ знаете, въ деревняхъ бываетъ, собирается десятокъ хулигановъ... Ну не въ томъ дѣло... Второе: вотъ возьмите вы Акульшина — можно сказать, глухой мужикъ, дремучій мужикъ, съ уральскихъ лѣсовъ, такъ вотъ, ежели ему послѣ всего этого о соціализмѣ, да объ революціи начнутъ агитировать — такъ онъ же зубами глотку перерветъ... Теперь, третье: скажемъ, Середа — онъ тамъ когда-то тоже насчетъ революціи возжался (Середа недовольно передернулъ плечами: "ты бы о себѣ говорилъ"). Такъ что-жъ, я и о себѣ скажу то же: думалъ, книжки всякія читалъ, вотъ, значитъ, свернемъ царя, Керенскаго, буржуевъ, хозяевъ — заживемъ!.. Зажили! Нѣтъ, теперь на дурницу у насъ никого не поймаешь. — Ленчикъ посмотрѣлъ на свою ладонь — тамъ еще осталось два неиспользованныхъ пальца. — Да... Словомъ — выпьемъ пока что. А главное, народъ-то поумнѣлъ — вотъ, трахнули по черепу... Теперь ежели хулигановъ этихъ перевѣшаемъ — государство будетъ — во! — Ленчикъ сжалъ руку въ кулакъ и поднялъ вверхъ большой палецъ. — Какъ ужъ оно будетъ, конечно, неизвѣстно, а, чортъ его дери, будетъ! Мы имъ еще покажемъ!
— Кому это, имъ?
— Да — вообще. Что-бъ не зазнавались! Россію, сукины дѣти, дѣлить собрались...
— Да, — сказалъ Мухинъ, уже забывъ о "внукахъ", — да, кое-кому морду набить придется, ничего не подѣлаешь...
— Такъ какъ же вы будете бить морду? — спросилъ Юра. — Съ красной арміей?
Ленчикъ запнулся. "Нѣтъ, это не выйдетъ, тутъ — не по дорогѣ"...
— А это — какъ большевики сдѣлали: они сдѣлали по своему правильно, — академическимъ тономъ пояснилъ Середа, — старую армію развалили, пока тамъ что — нѣмцы Украину пробовали оттяпать.
— Пока тамъ что, — передразнилъ Юра, — ничего хорошаго и не вышло.
— Ну, у нихъ и выйти не можетъ, а у насъ выйдетъ.
Это сказалъ Пиголица — я въ изумленіи обернулся къ нему. Пиголица уже былъ сильно навеселѣ. Его вихры торчали въ разныя стороны, а глаза блестѣли возбужденными искорками — онъ уже забылъ и о Сталинѣ, и о "били — били".
— У кого, это у насъ? — мнѣ вспомнилось о томъ, какъ о "насъ" говорилъ и Хлѣбниковъ.
— Вообще у насъ, у всей Россіи, значитъ. Вы подумайте, полтораста милліоновъ; да если мы всѣ мясомъ навалимся, ну, всѣ, ну, чортъ съ ними, безъ партійцевъ, конечно... А то, вотъ, хочешь учиться, сволочь всякую учатъ, а мнѣ... Или, скажемъ, у насъ въ комсомолѣ — охъ, и способные же ребята есть, я не про себя говорю... Въ комсомолъ полѣзли, чтобы учиться можно было, а ихъ — на хлѣбозаготовки... У меня тамъ одна дѣвочка была, послали... ну, да что и говорить... Безъ печенокъ обратно привезли... — По веснусчатому лицу Пиголицы покатились слезы. Юра быстро и ловко подсунулъ четвертую бутылку подъ чей-то тюфякъ, я одобрительно кивнулъ ему головой: хватитъ. Пиголица опустился за столъ, уткнулъ голову на руки, и плечи его стали вздрагивать. Мухинъ посмотрѣлъ на Пиголицу, потомъ на таинственныя манипуляціи Юры: "что-жъ это вы, молодой человѣкъ"... Я наступилъ Мухину на ногу и показалъ головой на Пиголицу... Мухинъ кивнулъ поддакивающе. Ленчикъ обѣжалъ кругомъ стола и сталъ трясти Пиголицу за плечи.
— Да брось ты, Саша, ну, померла, мало ли народу померло этакъ, ничего — пройдетъ, забудется...
Пиголица поднялъ свое заплаканное лицо — и удивилъ меня еще разъ:
— Нѣтъ — это имъ, братъ, не забудется... Ужъ это, мать ихъ... не забудется...
ПАНАМА НА ВИЧКѢ
Когда я составлялъ планы питанія моихъ физкультурниковъ, я исходилъ изъ расчета на упорный и длительный торгъ: сперва съ Успенскимъ, потомъ съ Неймайеромъ, начальникомъ снабженія — Успенскій будетъ урѣзывать планы, Неймайеръ будетъ урѣзывать выдачи. Но, къ моему изумленію, Успенскій утвердилъ мои планы безо всякаго торга.
— Да, такъ не плохо. Ребятъ нужно не только кормить, а и откармливать.
И надписалъ:
"Тов. Неймайеру. Выдавать за счетъ особыхъ фондовъ ГПУ."
А раскладка питанія была доведена до 8000 калорій въ день! Эти калоріи составлялись изъ мяса, масла, молока, яицъ, ветчины и прочаго. Неймайеръ только спросилъ: въ какой степени можно будетъ замѣнять, напримѣръ, мясо рыбой... "Какой рыбой?" Ну, скажемъ, осетриной. На осетрину я согласился.
Впослѣдствіи я не разъ задавалъ себѣ вопросъ: какимъ это образомъ я могъ представить, что всѣхъ этихъ благъ не будутъ разворовывать: у меня-то, дескать, ужъ не украдутъ... И вообще, насколько въ Совѣтской Россіи возможна такая постановка дѣла, при которой не воровали бы... Воровать начали сразу.
Обслуживающій персоналъ моего курорта состоялъ изъ вичкинскихъ лагерниковъ. Слѣдовательно, напримѣръ, поваръ, который жарилъ моимъ питомцамъ бифштексы, яичницы съ ветчиной, свиныя котлеты и прочее, долженъ былъ бы обладать характеромъ святого Антонія, чтобы при наличіи всѣхъ этихъ соблазновъ питаться только тѣмъ, что ему полагалось: полутора фунтами отвратнаго чернаго хлѣба и полутора тарелками такой же отвратной ячменной каши. Поваръ, конечно, ѣлъ бифштексы. Ѣли ихъ и его помощники. Но это бы еще полбѣды.
Начальникъ вичкинскаго лагпункта могъ изъ лагпунктовскаго снабженія воровать приблизительно все, что ему было угодно. Но того, чего въ этомъ снабженіи не было, не могъ уворовать даже и начальникъ лагпункта. Онъ, напримѣръ, могъ бы вылизывать въ свою пользу все постное масло, полагающееся на его лагпунктъ (по два грамма на человѣка въ день) — практически все это масло начальствомъ и вылизывалось. Онъ могъ съѣдать по ведру ячменной каши въ день, если бы такой подвигъ былъ въ его силахъ. Но если на лагпунктѣ мяса не было вовсе, то и уворовать его не было никакой технической возможности. Поваръ не подчиненъ начальнику лагпункта. Веселые дни вичкинскаго курорта пройдутъ, и поваръ снова поступить въ полное и практически безконтрольное распоряженіе начальника. Могъ ли поваръ отказать начальнику? Конечно, не могъ. Въ такой же степени онъ не могъ отказать и начальнику колонны, статистику, командиру вохровскаго отряда и прочимъ великимъ и голоднымъ людямъ міра сего.
Для того, чтобы уберечь любую совѣтскую организацію отъ воровства, нужно около каждаго служащаго поставить по вооруженному чекисту. Впрочемъ, тогда будутъ красть и чекисты: заколдованный кругъ... Машинистки московскихъ учрежденій подкармливаются, напримѣръ, такъ: шесть дней въ недѣлю, точнѣе, пять дней въ шестидневку потихоньку подворовываютъ бумагу, по нѣсколько листиковъ въ день. Въ день же шестой, субботній идутъ на базарь и обмѣниваютъ эту бумагу на хлѣбъ: еще одно изъ объясненій того таинственнаго факта, что люди вымираютъ не совсѣмъ ужъ сплошь...
У меня на Вичкѣ былъ и завхозъ, на складѣ котораго были зарыты пиратскія сокровища сахару, масла, ветчины, осетрины и прочаго. Въ первые дни моего завхоза стали ревизовать всѣ. Эти ревизіи я прекратилъ. Но какъ я могъ прекратить дружественныя хожденія начальника лагпункта къ оному завхозу? Можно было бы посадить и начальника, и повара, и завхоза въ каталажку: какой толкъ?
Изъ числа физкультурниковъ назначались дежурные на кухню и на складъ. Я не предполагалъ, чтобы это могло кончиться какими-нибудь осложненіями, я самъ раза два дежурилъ на кухнѣ перваго лагпункта. Предполагалось, что я въ качествѣ, такъ сказать, представителя общественнаго контроля долженъ смотрѣть за тѣмъ, чтобы кухня не кормила кого не надо и чтобы на кухнѣ не разворовывались продукты. Конечно, разворовывались. На эту кухню начальникъ лагпункта приходилъ, какъ на свою собственную: а ну-ка, поджарьте-ка мнѣ...
Изъ начальства приходили всѣ, кому не лѣнь, и лопали все, что въ нихъ могло влѣзть. Если бы я попробовалъ протестовать, то весь этотъ союзъ объединеннаго начальства слопалъ бы меня со всѣми моими протекціями. Или, если бы нельзя было слопать, ухлопалъ бы откуда-нибудь изъ-за угла. Нѣтъ ужъ, общественный контроль въ условіяхъ крѣпостного общественнаго строя — опасная игрушка, даже и на волѣ. А въ лагерѣ — это просто самоубійство. Я полагалъ, что мои физкультурники эту истину знаютъ достаточно ясно.
Но какая-то нелѣпая "иниціативная группа", не спросясь ни броду, ни меня, полѣзла ревизовать складъ и кухню. Обревизовали. Уловили. Устроили скандалъ. Составили протоколъ. Поваръ и завхозъ были посажены въ ШИЗО — начальника лагпункта, конечно, не тронули, да и не такіе были дураки поваръ и завхозъ, чтобы дискредитировать начальство.
Во главѣ этой иниціативной группы оказался мой меньшевикъ — Кореневскій. Полагаю, что въ его послѣдующей поѣздкѣ на Соловки эта ревизія тоже сыграла свою роль. Кореневскому я устроилъ свирѣпый разносъ: неужели онъ не понимаетъ, что на мѣстѣ повара и завхоза и я, и онъ, Кореневскій, дѣйствовали бы точно такимъ же образомъ и что никакимъ инымъ образомъ дѣйствовать нельзя, не жертвуя своей жизнью... "Нужно жертвовать", сказалъ Кореневскій. Я взъѣлся окончательно: если ужъ жертвовать, такъ, чортъ васъ раздери совсѣмъ, изъ-за чего-нибудь болѣе путнаго, чѣмъ свиныя котлеты... Но Кореневскій остался непреклоненъ — вотъ тоже олухъ Царя Небеснаго, о, Господи!..
Новаго повара нашли довольно скоро. Завхоза не было. Начальникъ лагпункта, оскорбленный въ лучшихъ своихъ гастрономическихъ чувствахъ, сказалъ: "ищите сами, — я вамъ одного далъ — не понравился — не мое дѣло". Фомко какъ-то пришелъ ко мнѣ и сказалъ: "тутъ одинъ старый жидъ есть". "Какой жидъ и почему жидъ?" "Хорошій жидъ, старый кооператоръ. Его просвѣчивали, теперь онъ совсѣмъ калѣка... Хорошій будетъ завхозъ". "Ну, давайте его"...
ПРОСВѢЧИВАНІЕ
Просвѣчиваніе — это одинъ изъ совѣтскихъ терминовъ, обогатившихъ великій, могучій и свободный русскій языкъ. Обозначаетъ онъ вотъ что:
Въ поискахъ валюты для соціализаціи, индустріализаціи, пятилѣтки въ четыре года или, какъ говорятъ рабочіе, пятилѣтки въ два счета — совѣтская власть выдумывала всякіе трюки — вплоть до продажи черезъ интуристъ живыхъ или полуживыхъ человѣчьихъ душъ. Но самымъ простымъ, самымъ привычнымъ способомъ, наиболѣе соотвѣтствующимъ инстинктамъ правящаго класса, былъ и остается все-таки грабежъ: раньше ограбимъ, а потомъ видно будетъ. Стали грабить. Взялись сначала за зубныхъ техниковъ, у которыхъ предполагались склады золотыхъ коронокъ, потомъ за зубныхъ врачей, потомъ за недорѣзанные остатки НЭПа, а потомъ за тѣхъ врачей, у которыхъ предполагалась частная практика, потомъ за всѣхъ, у кого предполагались деньги, — ибо при стремительномъ паденіи совѣтскаго рубля каждый, кто зарабатывалъ деньги (есть и такія группы населенія — вотъ вродѣ меня), старались превратить пустопорожніе совѣтскіе дензнаки хоть во что-нибудь.
Техника этого грабежа была поставлена такъ: зубной техникъ Шепшелевичъ получаетъ вѣжливенькое приглашеніе въ ГПУ. Является. Ему говорятъ — вѣжливо и проникновенно: "Мы знаемъ, что у васъ есть золото и валюта. Вы вѣдь сознательный гражданинъ отечества трудящихся (конечно, сознательный, — соглашается Шепшелевичъ — какъ тутъ не согласишься?). Понимаете: гигантскія цѣли пятилѣтки, строительство безклассоваго общества... Словомъ — отдавайте по хорошему".
Кое-кто отдавалъ. Тѣхъ, кто не отдавалъ, приглашали во второй разъ — менѣе вѣжливо и подъ конвоемъ. Сажали въ парилку и холодилку и въ другія столь же уютныя приспособленія — пока человѣкъ или не отдавалъ, или не помиралъ. Пытокъ не было никакихъ. Просто были приспособлены спеціальныя камеры: то съ температурой ниже нуля, то съ температурой Сахары. Давали въ день полфунта хлѣба, селедку и стаканъ воды. Жилплощадь камеръ была расчитана такъ, чтобы только половина заключенныхъ могла сидѣть — остальные должны были стоять. Но испанскихъ сапогъ не надѣвали и на дыбу не подвѣшивали. Обращались, какъ въ свое время формулировали суды инквизиціи: по возможности мягко и безъ пролитія крови...
Въ Москвѣ видывалъ я людей, которые были приглашены по хорошему и такъ, по хорошему, отдали все, что у нихъ было: крестильные крестики, царскіе полтинники, обручальныя кольца... Видалъ людей, которые, будучи однажды приглашены, бѣгали по знакомымъ, занимали по сотнѣ, по двѣ рублей, покупали кольца (въ томъ числѣ и въ государственныхъ магазинахъ) и сдавали ГПУ. Людей, которые были приглашены во второй разъ, я въ Москвѣ не встрѣчалъ ни разу: ихъ, видимо, не оставляютъ. Своей главной тяжестью это просвѣчиваніе ударило по еврейскому населенію городовъ. ГПУ не безъ нѣкотораго основанія предполагало, что, если ужъ еврей зарабатывалъ деньги, то онъ ихъ не пропивалъ и въ дензнакахъ не держалъ — слѣдовательно, ежели его хорошенько подержать въ парилкѣ, то какія-то цѣнности изъ него можно будетъ выжать. Люди освѣдомленные передавали мнѣ, что въ 1931-1933 годахъ въ Москвѣ ГПУ выжимало такимъ образомъ отъ тридцати до ста тысячъ долларовъ въ мѣсяцъ... Въ связи съ этимъ можно бы провести нѣкоторыя параллели съ финансовымъ хозяйствомъ средневѣковыхъ бароновъ и можно бы было поговорить о привиллегированномъ положеніи еврейства въ Россіи, но не стоитъ...
Фомко притащилъ въ мой кабинетѣ старика еврея. У меня былъ свой кабинетъ. Начальникъ лагпункта поставилъ тамъ трехногій столъ и на дверяхъ приклеилъ собственноручно изготовленную надпись: "кабинетъ начальника спартакіады". И, подумавши, приписалъ снизу карандашемъ: "безъ доклада не входить". Я началъ обрастать подхалимажемъ...
Поздоровались. Мой будущій завхозъ, съ трудомъ сгибая ноги, присѣлъ на табуретку.
— Простите, пожалуйста, вы никогда въ Минскѣ не жили?
— Ну, такъ я же васъ помню... И вашего отца. И вы тамъ съ братьями еще на Кошарской площади въ футболъ играли. Ну, меня вы, вѣроятно, не помните, моя фамилія Данцигеръ[16].
Словомъ, разговорились. Отецъ моего завхоза имѣлъ въ Минскѣ кожевенный заводъ съ 15-ю рабочими. Націонализировали. Самъ Данцигеръ удралъ куда-то на Уралъ, работалъ въ какомъ-то кооперативѣ. Вынюхали "торговое происхожденіе" и выперли. Голодалъ. Пристроился къ какому-то кустарю выдѣлывать кожи. Черезъ полгода и его кустаря посадили за "спекуляцію" — скупку кожъ дохлаго скота. Удралъ въ Новороссійскъ и пристроился тамъ грузчикомъ — крѣпкій былъ мужикъ... На профсоюзной чисткѣ (чистили и грузчиковъ) какой-то комсомольскій компатріотъ выскочилъ: "такъ я же его знаю, такъ это же Данцигеръ, у его же отца громадный заводъ былъ". Выперли и посадили за "сокрытіе классоваго происхожденія". Отсидѣлъ... Когда сталъ укореняться НЭП, вкупѣ съ еще какими-то лишенными всѣхъ правъ человѣческихъ устроили кооперативную артель "самый свободный трудъ" (такъ и называлась!). На самыхъ свободныхъ условіяхъ проработали годъ: посадили всѣхъ за дачу взятки.
— Хотѣлъ бы я посмотрѣть, какъ это можно не дать взятки! У насъ договоръ съ военвѣдомъ, мы ему сдаемъ поясные ремни. А сырье мы получаемъ отъ какой-то тамъ заготкожи. Если я не дамъ взятки заготкожѣ, такъ я не буду имѣть сырья, такъ я не сдамъ ремней, такъ меня посадятъ за срывъ договора. Если я куплю сырье на подпольномъ рынкѣ, такъ меня посадятъ за спекуляцію. Если я дамъ взятку заготкожѣ, такъ меня или рано, или поздно посадятъ за взятку: словомъ, вы бьетесь, какъ рыба головой объ ледъ... Ну, опять посадили. Такъ я уже, знаете, и не отпирался: ну да, и заводъ былъ, и въ Курганѣ сидѣлъ, и въ Новороссійскѣ сидѣлъ, и заготкожѣ давалъ. "Такъ вы мнѣ скажите, товарищъ слѣдователь, такъ что бы вы на моемъ мѣстѣ сдѣлали?" "На вашемъ мѣстѣ я бы давно издохъ". "Ну, и я издохну — развѣ же такъ можно жить?"
Принимая во вниманіе чистосердечное раскаяніе, посадили на два года. Отсидѣлъ. Вынырнулъ въ Питерѣ: какой-то кузенъ оказался начальникомъ кронштадской милиціи ("вотъ эти крали, такъ, вы знаете, просто ужасъ!") Кузенъ какъ-то устроилъ ему право проживанія въ Питерѣ. Данцигеръ открылъ галстучное производство: собиралъ всякіе обрывки, мастерилъ галстуки и продавалъ ихъ на базарѣ — работалъ въ единоличномъ порядкѣ и никакихъ дѣлъ съ государственными учрежденіями не имѣлъ... "Я ужъ обжигался, обжигался, хватитъ — ни къ какимъ заготкожамъ и на порогъ не подойду"... Выписалъ семью. Оказывается, была и семья, оставалась на Уралѣ: дочь померла съ голоду, сынъ исчезъ въ безпризорники — пріѣхали жена и тесть.
Стали работать втроемъ. Поработали года полтора. Кое-что скопили. Пришло ГПУ и сказало — пожалуйте. Пожаловали. Уговаривали долго и краснорѣчиво, даже со слезой. Не помогло. Посадили. Держали по три дня въ парилкѣ, по три дня въ холодилкѣ. Время отъ времени выводили всѣхъ въ корридоръ, и какой-то чинъ произносилъ рѣчи. Рѣчи были изысканны и весьма разнообразны. Взывали и къ гражданскимъ доблестямъ, и къ инстинкту самосохраненія, и къ родительской любви, и къ супружеской ревности. Мужьямъ говорили: "ну, для кого вы свое золото держите? Для жены? Такъ вотъ что она дѣлаетъ". Демонстрировались документы объ измѣнахъ женъ, даже и фотографіи, снятыя, такъ сказать, en flagrant de'lit.
Втянувъ голову въ плечи, какъ будто кто-то занесъ надъ ними дубину, и глядя на меня навѣкъ перепуганными глазами, Данцигеръ разсказывалъ, какъ въ этихъ парилкахъ и холодилкахъ люди падали. Самъ онъ — крѣпкій мужикъ (биндюгъ, какъ говаривалъ Фомко), держался долго. Распухли ноги, раздулись вены, узлы лопнули въ язвы, кости рукъ скрючило ревматизмомъ. Потомъ — вотъ повезло, потерялъ сознаніе.
— Ну, знаете, — вздохнулъ Фомко, — чортъ съ ними съ деньгами — я бы отдалъ.
— Вы бы отдали? Пусть они мнѣ всѣ зубы вырывали бы — не отдалъ бы. Вы думаете, что если я — еврей, такъ я за деньги больше, чѣмъ за жизнь, держусь? Такъ мнѣ, вы знаете, на деньги наплевать — что деньги? — заработалъ и проработалъ, — а что-бъ мои деньги на ихъ дѣтяхъ язвами выросли!... За что они меня пятнадцать лѣтъ, какъ собаку, травятъ? За что моя дочка померла? За что мой сынъ? — я же не знаю даже-жъ гдѣ онъ и живой ли онъ? Такъ что-бъ я имъ на это еще свои деньги давалъ?..
— Такъ и не отдали?
— Что значитъ не отдалъ. Ну, я не отдалъ, такъ они и жену и тестя взяли...
— А много денегъ было?
— А стыдно и говорить: двѣ десятки, восемь долларовъ и обручальное кольцо — не мое, мое давно сняли — а жены...
— Ну и ну, — сказалъ Фомко...
— Значитъ, всего рублей на пятьдесятъ золотомъ, — сказалъ я.
— Пятьдесятъ рублей? Вы говорите, за пятьдесятъ рублей. А мои пятнадцать лѣтъ жизни, а мои дѣти — это вамъ пятьдесятъ рублей? А мои ноги — это вамъ тоже пятьдесятъ рублей? Вы посмотрите, — старикъ засучилъ штаны, — голени были обвязаны грязными тряпками, сквозь тряпки, просачивался гной...
— Вы видите? — жилистыя руки старика поднялись вверхъ. — Если есть Богъ — все равно, еврейскій Богъ, христіанскій Богъ, — пусть разобьетъ о камни ихъ дѣтей, пусть дѣти ихъ и дѣти ихъ дѣтей, пусть они будутъ въ язвахъ, какъ мои ноги, пусть...
Отъ минскаго кожевника вѣяло библейской жутью. Фомко пугливо отодвинулся отъ его проклинающикъ рукъ и поблѣднѣлъ. Я думалъ о томъ, какъ мало помогаютъ эти проклятія — милліоны и сотни милліоновъ проклятій... Старикъ глухо рыдалъ, уткнувшись лицомъ въ столъ моего кабинета, — а Фомко стоялъ блѣдный, растерянный и придавленный...
ПУТЕВКА ВЪ ЖИЗНЬ
ВТОРОЕ БОЛШЕВО
Въ концѣ іюня мѣсяца 1934 года я находился, такъ сказать, на высотахъ своего ББКовскаго величія и на этихъ высотахъ я сидѣлъ прочно. Спартакіада уже была разрекламирована въ "Перековкѣ". Въ Москву уже были посланы статьи для спортивныхъ журналовъ, для "Извѣстій", для ТАССа и нѣкоторыя "указанія" для газетъ братскихъ компартій. Братскія компартіи такія "указанія" выполняютъ безо всякихъ разговоровъ. Словомъ, хотя прочныхъ высотъ въ совѣтской райской жизни вообще не существуетъ, но, въ частности, въ данномъ случаѣ, нужны были какія-нибудь совсѣмъ ужъ стихійныя обстоятельства, чтобы снова низвергнуть меня въ лагерные низы.
Отчасти оттого, что вся эта халтура мнѣ надоѣла, отчасти повинуясь своимъ газетнымъ инстинктамъ, я рѣшилъ поѣздить по лагерю и посмотрѣть, что гдѣ дѣлается. Оффиціальный предлогъ — болѣе, чѣмъ удовлетворителенъ: нужно объѣздить крупнѣйшія отдѣленія, что-то тамъ проинструктировать и кого-то тамъ подобрать въ дополненіе къ моимъ вичкинскимъ командамъ. Командировка была выписана на Повѣнецъ, Водораздѣлъ, Сегежу, Кемь, Мурманскъ.
Когда Корзунъ узналъ, что я буду и на Водораздѣлѣ, онъ попросилъ меня заѣхать и въ лагерную колонію безпризорниковъ, куда въ свое время онъ собирался посылать меня въ качествѣ инструктора. Что мнѣ тамъ надо было дѣлать — осталось нѣсколько невыясненнымъ.
— У насъ тамъ второе Болшево! — сказалъ Корзунъ.
Первое Болшево я зналъ довольно хорошо. Юра зналъ еще лучше, ибо работалъ тамъ по подготовкѣ Горьковскаго сценарія о "перековкѣ безпризорниковъ". Болшево — это въ высокой степени образцово-показательная подмосковная колонія безпризорниковъ или, точнѣе, бывшихъ уголовниковъ, куда въ обязательномъ порядкѣ таскаютъ всѣхъ туриствующихъ иностранцевъ и демонстрируютъ имъ чудеса совѣтской педагогики и ловкость совѣтскихъ рукъ. Иностранцы приходятъ въ состояніе восторга — тихаго или бурнаго — въ зависимости отъ темперамента. Бернардъ Шоу пришелъ въ состояніе — бурнаго. Въ книгѣ почетныхъ посѣтителей фигурируютъ такія образчики огненнаго энтузіазма, которымъ и блаженной памяти Марковичъ позавидовалъ бы. Нашелся только одинъ прозаически настроенный американецъ, если не ошибаюсь, проф. Дьюи, который поставилъ нескромный и непочтительный вопросъ: насколько цѣлесообразно ставить преступниковъ въ такія условія, который совершенно недоступны честнымъ гражданамъ страны.
Условія, дѣйствительно, были недоступны. "Колонисты" работали въ мастерскихъ, вырабатывавшихъ спортивный матеріалъ для Динамо, и оплачивались спеціальными бонами — былъ въ тѣ времена такой спеціальный ГПУ-скій, "внутренняго хожденія", рубль, цѣнностью приблизительно равный — торгсинскому. Ставки же колебались отъ 50 до 250 рублей въ мѣсяцъ. Изъ "честныхъ гражданъ" такихъ денегъ не получалъ никто... Фактическая заработная плата средняго инженера была разъ въ пять-десять ниже фактической заработной платы бывшаго убійцы.
Были прекрасныя общежитія. Новобрачнымъ полагались отдѣльныя комнаты — въ остальной Россіи новобрачнымъ не полагается даже отдѣльнаго угла... Мы съ Юрой философствовали: зачѣмъ дѣлать научную или техническую карьеру, зачѣмъ писать или изобрѣтать — не проще ли устроить двѣ-три основательныхъ кражи (только не "священной соціалистической собственности"), или два-три убійства (только не политическихъ), потомъ должнымъ образомъ покаяться и перековаться — и покаяніе, и перековка должны, конечно, стоятъ "на уровнѣ самой современной техники" — потомъ пронырнуть себѣ въ Болшево: не житье, а маслянница...
На перековку "колонисты" были натасканы идеально. Во-первыхъ, это — отборъ изъ милліоновъ, во-вторыхъ, отъ добра добра не ищутъ и, въ третьихъ, за побѣгъ изъ Болшева или за "дискредитацію" разстрѣливали безъ никакихъ разговоровъ. Былъ еще одинъ мотивъ, о которомъ нѣсколько меланхолически сообщилъ одинъ изъ воспитателей колоніи: красть, въ сущности, нечего и негдѣ — ну, что теперь на волѣ украдешь?
Это, значитъ, было "первое Болшево". Стоило посмотрѣть и на второе. Я согласился заѣхать въ колонію.
ПО КОМАНДИРОВКѢ
Отъ Медгоры до Повѣнца нужно ѣхать на автобусѣ, отъ Повѣнца до Водораздѣла — на моторкѣ по знаменитому Бѣломорско-Балтійскому каналу... На автобусъ сажаютъ въ первую очередь командировочныхъ ББК, потомъ остальныхъ командировочныхъ чиномъ повыше — командировочные чиномъ пониже могутъ и подождать. Которое вольное населеніе — можетъ топать, какъ ему угодно. Я начинаю чувствовать, что и концлагерь имѣетъ не одни только шипы, и плотно втискиваюсь въ мягкую кожу сидѣнья. За окномъ какая-то старушка слезно молитъ вохровцевъ:
— Солдатики, голубчики, посадите и меня, ей-Богу, уже третьи сутки здѣсь жду, измаялась вся...
— И чего тебѣ, старая, ѣздить, — философически замѣчаетъ одинъ изъ вохровцевъ. — Сидѣла бы ты, старая, дома, да Богу бы молилась...
— Ничего, мадама, — успокоительно говоритъ другой вохровецъ, — не долго ужъ ждать осталось...
— А что, голубчикъ, еще одна машина будетъ?
— Объ машинѣ — не знаю, а вотъ до смерти — такъ тебѣ, дѣйствительно, не долго ждать осталось.
Вохръ коллективно гогочетъ. Автобусъ трогается. Мы катимся по новенькому, съ иголочки, но уже въ ухабахъ и выбоинахъ, повѣнецкому шоссе, сооруженному все тѣми же каторжными руками. Шоссе совершенно пусто: зачѣмъ его строили? Мимо мелькаютъ всяческіе лагпункты съ ихъ рванымъ населеніемъ, покосившіяся и полуразвалившіяся коллективизированныя деревушки, опустѣлые дворы единоличниковъ. Но шоссе — пусто, мертво. Впрочемъ, особой жизни не видать и въ деревушкахъ — много людей отсюда повысылали...
Проѣзжаемъ тихій, уѣздный и тоже какъ-то опустѣлый городишко Повѣнецъ... Автобусъ подходитъ къ повѣнецкому затону знаменитаго Бѣломорско-Балтійскаго канала.
Я ожидалъ увидѣть здѣсь кое-какое оживленіе: пароходы, баржи, плоты. Но затонъ — пустъ. У пристани стоитъ потертый моторный катеръ, на который пересаживается двое пассажировъ нашего автобуса: я и какой-то инженеръ. Катеръ, натужно пыхтя, тащится на сѣверъ.
Я сижу на носу катера, зябко поднявъ воротникъ своей кожанки, и смотрю кругомъ. Совершенно пусто. Ни судна, ни бревна. Тихо, пусто, холодно, мертво. Кругомъ озеръ и протоковъ, по которымъ проходитъ каналъ, тянется дремучій, заболоченный, непроходимый лѣсъ. Надъ далями стоитъ сизый туманъ болотныхъ испареній... На берегахъ — ни одной живой души, ни избы, ни печного дыма — ничего.
А еще годъ тому назадъ здѣсь скрежетали экскаваторы, бухалъ аммоналъ и стотысячныя арміи людей копошились въ этихъ трясинахъ, строя монументъ товарищу Сталину. Сейчасъ эти арміи куда-то ушли — на БАМ, въ Сиблагъ, Дмитлагъ и прочіе лагери, въ другія трясины — строить тамъ другіе монументы, оставивъ здѣсь, въ братскихъ могилахъ болотъ, цѣлые корпуса своихъ боевыхъ товарищей. Сколько ихъ — безвѣстныхъ жертвъ этого канальскаго участка великаго соціалистическаго наступленія. "Старики"-бѣломорстроевцы говорятъ — двѣсти тысячъ. Болѣе компетентные люди изъ управленія ББК говорили: двѣсти не двѣсти, а нѣсколько больше ста тысячъ людей здѣсь уложено... имена же ихъ Ты, Господи, вѣси... Кто узнаетъ и кто будетъ подсчитывать эти тысячи тоннъ живого удобренія, брошеннаго въ карельскія трясины ББК, въ сибирскую тайгу БАМа, въ пески Турксиба, въ каменныя осыпи Чустроя?
Я вспомнилъ зимнія ночи на Днѣпростроѣ, когда леденящій степной вѣтеръ вылъ въ обледенѣлыхъ лѣсахъ, карьерахъ, котловинахъ, люди валились съ ногъ отъ холода и усталости, падали у покрытыхъ тонкой ледяной коркой настиловъ; свирѣпствовалъ тифъ, амбулаторіи разрабатывали способы массоваго производства ампутацій отмороженныхъ конечностей; стаи собакъ потомъ растаскивали и обгладывали эти конечности, а стройка шла и день и ночь, не прерываясь ни на часъ, а въ газетахъ трубили о новыхъ міровыхъ рекордахъ по кладкѣ бетона. Я вспомнилъ Чустрой — небольшой, на 40.000 человѣкъ концентраціонный лагерь на рѣку Чу, въ средней Азіи; тамъ строили плотины для орошенія 360.000 гектаровъ земли подъ плантаціи индійской конопли и каучуконосовъ. Вспомнилъ и нѣсколько наивный вопросъ Юры, который о Чустроѣ заданъ былъ въ Дагестанѣ.
Мы заблудились въ прибрежныхъ джунгляхъ у станціи Берикей, въ верстахъ въ 50-ти къ сѣверу отъ Дербента. Эти джунгли когда-то были садами и плантаціями. Раскулачиваніе превратило ихъ въ пустыню. Система сбѣгавшихъ съ горъ оросительныхъ каналовъ была разрушена, и каналы расплылись въ болота — разсадники малярійнаго комара. Отъ маляріи плоскостной Дагестанъ вымиралъ почти сплошь. Но природныя условія были тѣ, что и на Чустроѣ: тотъ же климатъ, та же почва... И Юра задалъ мнѣ вопросъ: зачѣмъ собственно нуженъ Чустрой?..
А смѣтныя ассигнованія на Чустрой равнялись восьмистамъ милліонамъ рублей. На Юринъ вопросъ я не нашелъ отвѣта. Точно такъ же я не нашелъ отвѣта и на мой вопросъ о томъ, зачѣмъ же строили Бѣломорско-Балтійскій каналъ. И за что погибло сто тысячъ людей?
Нѣсколько позже я спрашивалъ людей, которые жили на каналѣ годъ: что-нибудь возятъ? Нѣтъ, ничего не возятъ. Весной по полой водѣ нѣсколько миноносцевъ, со снятыми орудіями и машинами, были протащены на сѣверъ — и больше ничего. Еще позже я спрашивалъ у инженеровъ управленія ББК — такъ зачѣмъ же строили? Инженеры разводили руками: приказано было. Что-жъ, такъ просто, для рекорда и монумента? Одинъ изъ героевъ этой стройки, бывшій вредитель, съ похоронной ироніей спросилъ меня: "а вы къ этому еще не привыкли?"
Нѣтъ, къ этому я еще не привыкъ. Богъ дастъ, и не привыкну никогда...
...Изъ лѣсовъ тянетъ гнилой, пронизывающей, болотной сыростью. Начинаетъ накрапывать мелкій, назойливый дождь. Холодно. Пусто. Мертво.
Мы подъѣзжаемъ ко "второму Болшеву"...
ЧОРТОВА КУЧА
Параллельно каналу и метрахъ въ трехстахъ къ востоку отъ него тянется невысокая каменная гряда въ безпорядкѣ набросанныхъ валуновъ, булыжниковъ, безформенныхъ и острыхъ обломковъ гранита. Все это полузасыпано пескомъ и похоже на какую-то мостовую гигантовъ, развороченную взрывами или землетрясеніемъ.
Если стать лицомъ къ сѣверу, то слѣва отъ этой гряды идетъ болотце, по которому проложены доски къ пристани, потомъ — каналъ и потомъ — снова болото и лѣсъ... Справа — широкая, съ версту, трясина, по которой привидѣніями стелются промозглые карельскіе туманы, словно души усопшихъ здѣсь ББКовскихъ корпусовъ.
На вершинѣ этой гряды — нѣсколько десятковъ чахлыхъ сосенокъ, обнаженными корнями судорожно вцѣпившихся въ камень и песокъ, и десятка два грубо сколоченныхъ бревенчатыхъ бараковъ, тщательно и плотно обнесенныхъ проволочными загражденіями, — это и есть "второе Болшево" — "Первая дѣтская трудовая колонія ББК".
Дождь продолжается. Мои ноги скользятъ по мокрымъ камнямъ — того и гляди поскользнешься и разобьешь себѣ черепъ объ острые углы гранитныхъ осколковъ. Я иду, осторожно балансируя, и думаю: какой это идіотъ догадался всадить въ эту гиблую трясинную дыру дѣтскую колонію — четыре тысячи ребятъ въ возрастѣ отъ десяти до семнадцати лѣтъ. Не говоря уже о территоріяхъ всей шестой земной суши подвластной Кремлю, неужели и на территоріи ББК не нашлось менѣе гиблой дыры?
Дождь и вѣтеръ мечутся между бараками. Сосны шумятъ и скрипятъ. Низкое и холодное небо нахлобучилось почти на ихъ вершины. Мнѣ холодно и въ моей основательной кожанкѣ, а вѣдь это конецъ іюня... По двору колоніи, кое-гдѣ понасыпаны дорожки изъ гравія. Все остальное завалено гранитными обломками, мокрыми отъ дождя и скользкими, какъ ледъ...
..."Ликвидація безпризорности" встаетъ передо мною въ какомъ-то новомъ аспектѣ... Да — ихъ здѣсь ликвидируютъ... Ликвидируютъ, "какъ классъ".
Не узнаетъ, дѣйствительно, никто...
НАЧАЛЬСТВО
Я иду разыскивать начальника колоніи и, къ крайнему своему неудовольствію, узнаю, что этимъ начальникомъ является тов. Видеманъ, переброшенный сюда изъ ликвидированнаго подпорожскаго отдѣленія ББК.
Тамъ, въ Подпорожьи, я, и не безъ успѣха, старался съ товарищемъ Видеманомъ никакого дѣла не имѣть. Видеманъ принадлежалъ къ числу начинающихъ преуспѣвать совѣтскихъ администраторовъ и переживалъ свои первые и наиболѣе бурные припадки административнаго восторга. Административный же восторгъ въ условіяхъ лагерной жизни подобенъ той пушкѣ, сорвавшейся въ бурю съ привязи и тупо мечущейся по палубѣ фрегата, которую описываетъ Викторъ Гюго.
Видеманъ не только могъ цапнуть человѣка за икру, какъ это, скажемъ, дѣлалъ Стародубцевъ, онъ могъ цапнуть человѣка и за горло, какъ могли, напримѣръ, Якименко и Успенскій. Но онъ еще не понималъ, какъ понимали и Якименко и Успенскій, что цапать зря и не стоитъ, и невыгодно. Эта возможность была для Видемана еще относительно нова: ощущеніе чужого горла въ своихъ зубахъ, вѣроятно, еще волновало его... А можетъ быть, просто тренировка административныхъ челюстей?
Всѣ эти соображенія могли бы служить нѣкоторымъ психологическимъ объясненіемъ административнаго характера тов. Видемана, но съ моей стороны было бы неискренностью утверждать, что меня тянуло къ встрѣчѣ съ нимъ. Я ругательски ругалъ себя, что, не спросясь броду, сунулся въ эту колонію... Правда, откуда мнѣ могло придти въ голову, что здѣсь я встрѣчусь съ товарищемъ Видеманомъ. Правда и то, что въ моемъ сегодняшнемъ положеніи я теоретически былъ за предѣлами досягаемости административной хватки тов. Видемана: за всякія поползновенія по моему адресу его Успенскій по головкѣ бы не погладилъ. Но за всѣмъ этимъ оставались кое-какія "но"... О моихъ дѣлахъ и отношеніяхъ съ Успенскимъ Видеманъ и понятія не имѣетъ, и если бы я сталъ разсказывать ему, какъ мы съ Успенскимъ въ голомъ видѣ пили коньякъ на водной станціи, Видеманъ бы счелъ меня за неслыханнаго враля... Дальше: Медгора — далеко. Въ колоніи Видеманъ полный хозяинъ, какъ нѣкій феодальный вассалъ, имѣющій въ своемъ распоряженіи свои собственныя подземелья и погреба для консервированія въ оныхъ непотрафившихъ ему дядей. А мнѣ до побѣга осталось меньше мѣсяца... Какъ-то выходитъ нехорошо...
Конечно, хватать меня за горло Видеману какъ будто нѣтъ рѣшительно никакого ни повода, ни расчета, но въ томъ-то и дѣло, что онъ это можетъ сдѣлать рѣшительно безъ всякаго повода и расчета, просто отъ избытка власти, отъ того, что у него, такъ сказать, административно чешутся зубы... Вамъ, вѣроятно, извѣстно ощущеніе, когда очень зубастый, но еще весьма плохо дисциплинированный песъ, рыча, обнюхиваетъ вашу икру. Можетъ быть, и нѣтъ, а можетъ быть, и цапнетъ. Если цапнетъ, хозяинъ его вздуетъ, но вашей-то икрѣ какое отъ этого утѣшеніе?
Въ Подпорожьи люди отъ Видемана летѣли клочьями во всѣ стороны: кто на БАМ, кто въ ШИЗО, кто на Лѣсную Рѣчку. Я избралъ себѣ сравнительно благую часть — старался обходичь Видемана издали. Моимъ единственнымъ личнымъ съ нимъ столкновеніемъ я обязанъ былъ Надеждѣ Константиновнѣ.
Видеманъ въ какой-то бумажкѣ употребилъ терминъ "предговореніе". Онъ, видимо, находился въ сравнительно сытомъ настроеніи духа, и Надежда Константиновна рискнула вступить въ нѣкую лингвистическую дискуссію: такого де слова въ русскомъ языкѣ нѣтъ. Видеманъ сказалъ: нѣтъ, есть. Надежда Константиновна сдуру сказала, что вотъ у нея работаетъ нѣкій писатель, сирѣчь я, у него-де можно спросить, какъ у спеціалиста. Я былъ вызванъ въ качествѣ эксперта.
Видеманъ сидѣлъ, развалившись въ креслѣ, и рычалъ вполнѣ добродушно. Вопросъ же былъ поставленъ, такъ сказать, дипломатически:
— Такъ что-жъ, по вашему, такого слова, какъ "предговореніе", въ русскомъ языкѣ нѣтъ?
— Нѣтъ, — сглупилъ я.
— А по моему, есть, — заоралъ Видеманъ. — А еще писатель. Убирайтесь вонъ. Такихъ не даромъ сюда сажаютъ...
Нѣтъ, Богъ ужъ съ ними, съ Видеманомъ, съ лингвистикой, съ русскимъ языкомъ и съ прочими дискуссіонными проблемами. Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ и съ оными нечестивыми не дискуссируетъ...
___
А тутъ дискуссировать, видимо, придется. Съ одной стороны, конечно, житья моего въ совѣтской райской долинѣ или житья моего вообще осталось меньше мѣсяца, и чорта ли мнѣ ввязываться въ дискуссію, которая этотъ мѣсяцъ можетъ растянуть на годы.
А съ другой стороны, старый, откормленный всякой буржуазной культурой, интеллигентскій червякъ сосетъ гдѣ-то подъ ложечкой и талдычитъ о томъ, что не могу же я уѣхать изъ этой вонючей, вымощенной преисподними булыжниками, цынготной дыры и не сдѣлать ничего, чтобы убрать изъ этой дыры четыре тысячи заживо погребенныхъ въ ней ребятъ. Вѣдь это же дѣти, чортъ возьми!.. Правда, они воры, въ чемъ я черезъ часъ убѣдился еще одинъ, совершенно лишній для меня, разъ; правда, они алкоголики, жулики, кандидаты въ профессіональные преступники, но вѣдь это все-таки дѣти, чортъ побери. Развѣ они виноваты въ томъ, что революція разстрѣляла ихъ отцовъ, уморила голодомъ ихъ матерей, выбросила ихъ на улицу, гдѣ имъ оставалось или умирать съ голоду, какъ умерли милліоны ихъ братьевъ и сестеръ, или идти воровать. Развѣ этого всего не могло быть, напримѣръ съ моимъ сыномъ, если бы въ свое время не подвернулся Шпигель и изъ одесской чеки мы съ женой не выскочили бы живьемъ? Развѣ они, эти дѣти, виноваты въ томъ, что партія проводитъ коллективизацію деревни, что партія объявила безпризорность ликвидированной, что на семнадцатомъ году существованія соціалистическаго рая ихъ рѣшили убрать куда-нибудь подальше отъ постороннихъ глазъ — вотъ и убрали. Убрали на эту чортову кучу, въ приполярныя трясины, въ цынгу, туберкулезъ.
Я представилъ себѣ безконечныя полярныя ночи надъ этими оплетенными колючей проволокой бараками — и стало жутко. Да, здѣсь-то ужъ эту безпризорность ликвидируютъ въ корнѣ. Сюда-то ужъ мистера Бернарда Шоу не повезутъ...
...Я чувствую, что червякъ одолѣваетъ и что дискуссировать придется...
ТРУДОВОЙ ПЕЙЗАЖЪ
Но Видемана здѣсь нѣтъ. Онъ, оказывается, въ колоніи не живетъ: климатъ неподходящій. Его резиденція находится гдѣ-то въ десяти верстахъ. Тѣмъ лучше: можно будетъ подготовиться къ дискуссіи, а кстати и поѣсть.
Брожу по скользкимъ камнямъ колоніи. Дождь пересталъ. Въ дырахъ между камнями засѣдаютъ небольшія группы ребятъ. Они, точно индѣйцы трубку міра, тянутъ махорочныя козьи ножки, обходящія всю компанію. Хлѣба въ колоніи мало, но махорку даютъ. Другіе рѣжутся въ неизвѣстныя мнѣ безпризорныя игры съ монетами и камушками. Это, какъ я узналъ впослѣдствіи, проигрываются пайки или, по мѣстному, "птюшки".
Ребята — босые, не очень оборванные и болѣе или менѣе умытые. Я ужъ такъ привыкъ видѣть безпризорныя лица, вымазанныя всевозможными сортами грязи и сажи, что эти умытыя рожицы производятъ какое-то особо отвратительное впечатлѣніе: весь порокъ и вся гниль городского дна, все разнообразіе сексуальныхъ извращеній преждевременной зрѣлости, скрытыя раньше слоемъ грязи, теперь выступаютъ съ угнетающей четкостью...
Ребята откуда-то уже услышали, что пріѣхалъ инструкторъ физкультуры, и сбѣгаются ко мнѣ — кто съ заискивающей на всякій случай улыбочкой, кто съ наглой развязностью. Сыплются вопросы. Хриплые, но все же дѣтскіе голоса. Липкія, проворный дѣтскія руки съ непостижимой ловкостью обшариваютъ всѣ мои карманы, и пока я успѣваю спохватиться, изъ этихъ кармановъ исчезаетъ все: махорка, спички, носовой платокъ...
Когда это они успѣли такъ насобачиться? Вѣдь это все новые безпризорные призывы, призыва 1929-31 годовъ. Я потомъ узналъ, что есть и ребята, попавшіе въ безпризорники и въ нынѣшнемъ году: источникъ, оказывается, не изсякаетъ.
Отрядъ самоохраны (собственный дѣтскій Вохръ) и штуки двѣ воспитателей волокутъ за ноги и за голову какого-то крѣпко связаннаго "пацана". Пацанъ визжитъ такъ, какъ будто его не только собираются, а и въ самомъ дѣлѣ рѣжутъ. Ничьего вниманія это не привлекаетъ — обычная исторія, пацана тащатъ въ изоляторъ.
Я отправляюсь въ "штабъ". Огромная комната бревенчатаго барака переполнена ребятами, которые то грѣются у печки, то тянутъ собачьи ножки, то флегматически выискиваютъ вшей, то такъ просто галдятъ. Матъ стоитъ необычайный.
За столомъ сидитъ нѣкто — я узнаю въ немъ товарища Полюдова, который въ свое время завѣдывалъ культурно-воспитательной частью въ Подпорожьи. Полюдовъ творитъ судъ — пытается установить виновниковъ фабрикаціи нѣсколькихъ колодъ картъ. Вещественныя доказательства лежатъ передъ нимъ на столѣ — отпечатанныя шаблономъ карты изъ вырванныхъ листовъ. Подозрѣваемыхъ — штукъ десять. Они стоятъ подъ конвоемъ самоохраны, клянутся и божатся наперебой — галдежъ стоитъ несусвѣтимый. У Полюдова — очумѣлое лицо и воспаленное отъ махорки и безсонницы глаза. Онъ здѣсь — помощникъ Видемана. Я пока что достаю у него талонъ на обѣдъ въ вольнонаемной столовой и ухожу изъ штаба, обшариваемый глазами и руками безпризорниковъ; но мои карманы все равно пусты — пусть обшариваютъ.
ИДЕАЛИСТЪ
На ночлегъ я отправляюсь въ клубъ. Клубъ — огромное бревенчатое зданіе съ большимъ зрительнымъ заломъ, съ библіотекой и съ полдюжиной совершенно пустыхъ клубныхъ комнатъ. Завѣдующій клубомъ — завклубъ, высокій, истощенный малый, лѣтъ 26-ти, встрѣчаетъ меня, какъ родного:
— Ну, слава Богу, голубчикъ, что вы, наконецъ, пріѣхали. Хоть чѣмъ-нибудь ребятъ займете... Вы поймите, здѣсь на этой чертовой кучѣ, имъ рѣшительно нечего дѣлать: мастерскихъ нѣтъ, школы нѣтъ, учебниковъ нѣтъ, ни черта нѣтъ. Даже дѣтскихъ книгъ въ библіотекѣ ни одной. Играть имъ негдѣ, сами видите, камни и болото, а въ лѣсъ вохровцы не пускаютъ. Знаете, здѣсь эти ребята разлагаются такъ, какъ и на волѣ не разлагались. Подумайте только — четыре тысячи ребятъ запиханы въ одну яму и дѣлать имъ нечего совершенно.
Я разочаровываю завклуба: я пріѣхалъ такъ, мимоходомъ, на день два, посмотрѣть, что здѣсь вообще можно сдѣлать. Завклубъ хватаетъ меня за пуговицу моей кожанки.
— Послушайте, вѣдь вы же интеллигентный человѣкъ...
Я уже знаю напередъ, чѣмъ кончится тирада, начатая съ интеллигентнаго человѣка... Я — "интеллигентный человѣкъ", — слѣдовательно, и я обязанъ отдать свои нервы, здоровье, а если понадобится, и шкуру для заплатыванія безконечныхъ дыръ совѣтской дѣйствительности. Я — "интеллигентный человѣкъ", — слѣдовательно, по своей основной профессіи я долженъ быть великомученикомъ и страстотерпцемъ, я долженъ застрять въ этой фантастической трясинной дырѣ и отдать свою шкуру на заплаты, на коллективизацію деревни, на безпризорность и на ея "ликвидацію". Только на заплату дыръ — ибо больше сдѣлать нельзя ничего. Но вотъ съ этой "интеллигентской" точки зрѣнія, въ сущности, важенъ не столько результатъ, сколько, такъ сказать, жертвенность...
...Я его знаю хорошо, этого завклуба. Это онъ — вотъ этакій завклубъ — геологъ, ботаникъ, фольклористъ, ихтіологъ и, Богъ его знаетъ, кто еще, въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ растекается по всему лицу земли русской, сгораетъ отъ недоѣданія, цынги, туберкулеза, маляріи, строитъ тоненькую паутинку культурной работы, то сдуваемую легкимъ дыханіемъ совѣтскихъ Пришибеевыхъ всякаго рода, то ликвидируемую на корню чрезвычайкой, попадаетъ въ концлагери, въ тюрьмы, подъ разстрѣлъ — но все-таки строитъ...
Я уже его видалъ — этого завклуба — и на горныхъ пастбищахъ Памира, гдѣ онъ выводитъ тонкорунную овцу, и въ малярійныхъ дырахъ Дагестана, гдѣ онъ добываетъ пробный іодъ изъ каспійскихъ водорослей, и въ ущельяхъ Сванетіи, гдѣ онъ занимается раскрѣпощеніемъ женщины, и въ украинскихъ колхозахъ, гдѣ онъ прививаетъ культуру топинамбура, и въ лабораторіяхъ ЦАГИ, гдѣ онъ изучаетъ обтекаемость авіаціонныхъ бомбъ.
Потомъ тонкорунныя овцы гибнутъ отъ безкормицы, сванетская раскрѣпощенная женщина — отъ голоду, топинамбуръ не хочетъ расти на раскулаченныхъ почвахъ, гдѣ не выдерживаетъ ко всему привыкшая картошка... Авіабомбами сметаютъ съ лица земли цѣлые районы "кулаковъ" — дѣти этихъ кулаковъ попадаютъ вотъ сюда — и сказка про краснаго бычка начинается сначала.
Но кое-что остается. Все-таки кое-что остается. Кровь праведниковъ никогда не пропадаетъ совсѣмъ ужъ зря.
И я — конфужусь передъ этимъ завклубомъ. И вотъ — знаю же я, что на заплатываніе дыръ, прорванныхъ рогами этого краенаго быка, не хватитъ никакихъ въ мірѣ шкуръ, что пока быкъ этотъ не прирѣзанъ — количество дыръ будетъ расти изъ года въ годъ, что мои и его, завклуба, старанія, и мужика, и ихтіолога — всѣ они безслѣдно потонуть въ топяхъ совѣтскаго кабака, потонетъ и онъ самъ, этотъ завклубъ. Онъ вольнонаемный. Его уже наполовину съѣла цынга, но: "понимаете сами — какъ же я могу бросить — никакъ не найду себѣ замѣстителя". Правда, бросить-то не такъ просто — вольнонаемныя права здѣсь не на много шире каторжныхъ. При поступленіи на службу отбирается паспортъ и взамѣнъ выдается бумажка, по которой никуда вы изъ лагеря не уѣдете. Но я знаю — завклуба удерживаетъ не одна эта бумажка.
И я сдаюсь. И вмѣсто того, чтобы удрать изъ этой дыры на слѣдующее же утро — до встрѣчи съ товарищемъ Видеманомъ, я даю завклубу обѣщаніе остаться здѣсь на недѣлю, проклинаю себя за слабодушіе и чувствую, что завтра я съ Видеманомъ буду дискуссировать насчетъ колоніи вообще...
___
Завклубъ подзываетъ къ себѣ двухъ ребятишекъ:
— А ну-ка, шпана, набейте товарищу инструктору тюфякъ и достаньте въ каптеркѣ одѣяло. Живо.
— Дяденька, а махорки дашь?
— Дастъ, дастъ. Ну, шпанята, живо.
"Шпанята" исчезаютъ, сверкая по камнямъ босыми пятками.
— Это мой культактивъ. Хоть книгъ, по крайней мѣрѣ, не воруютъ.
— А зачѣмъ имъ книги?
— Какъ зачѣмъ? Махорку крутить, карты фабриковать, подложные документы... Червонцы, сволочи, дѣлаютъ, не то, что карты, — не безъ нѣкоторой гордости разъяснилъ завклубъ. — Замѣчательно талантливые ребята попадаются. Я кое съ кѣмъ рисованіемъ занимаюсь, я вамъ ихъ рисунки покажу. Да вотъ только бумаги нѣтъ...
— А вы на камняхъ выдалбливайте, — съиронизировалъ я, — самая, такъ сказать, современная техника...
Завклубъ не замѣтилъ моей ироніи.
— Да, и на камняхъ, черти, выдалбливаютъ, только больше порнографію... Но, та-алантливая публика есть...
— А какъ вы думаете, изъ ребятъ, попавшихъ на безпризорную дорожку, какой процентъ выживаетъ?
— Ну, этого не знаю. Процентовъ двадцать должно быть остается.
Въ двадцати процентахъ я усумнился... "Шпана" принесла набитый соломой мѣшокъ и ждетъ обѣщаннаго гонорара. Я отсыпаю имъ махорку въ подставленную бумажку, и рука завклуба скорбно протягивается къ этой бумажкѣ.
— Ну, а это что?
— Дяденька, ей-Богу, дяденька, это не мы... Мы это нашли.
Завклубъ разворачиваетъ конфискованную бумажку — это свѣжевырванный листъ изъ какой-то книги.
— Ну, такъ и есть, — печально констатируетъ завклубъ, — это изъ ленинскаго пятитомника... Ну, и какъ же вамъ, ребята не стыдно?..
Завклубъ читаетъ длинную нотацію. Ребята молніеносно осваиваются съ положеніемъ: одинъ покорно выслушиваетъ нотацію, второй за его спиной крутить собачью ножку изъ другого листа... Завклубъ безнадежно машетъ рукой, и "активъ" исчезаетъ...
___
Я приспосабливаюсь на ночлегъ въ огромной, совершенно пустой комнатѣ, у окна. Въ окно видны: разстилающееся внизу болотце, подернутое туманными испареніями, за болотцемъ — свинцовая лента канала, дальше — лѣсъ, лѣсъ и лѣсъ. Бѣлая приполярная ночь унылымъ, матовымъ свѣтомъ освѣщаетъ этотъ безрадостный пейзажъ.
Я разстилаю свой тюфякъ, кладу подъ него всѣ свои вещи — такъ посовѣтовалъ завклубъ, иначе сопрутъ — укладываюсь, вооружаюсь найденнымъ въ библіотекѣ томикомъ Бальзака и собираюсь предаться сладкому "фарніенте". Хорошо все-таки побыть одному...
Но ночная тишина длится недолго. Откуда-то изъ бараковъ доносится душераздирающій крикъ, потомъ ругань, потомъ обрывается, словно кому-то заткнули глотку тряпкой. Потомъ гдѣ-то за каналомъ раздаются пять шесть ружейныхъ выстрѣловъ — это, вѣроятно, каналохрана стрѣляетъ по какому-нибудь заблудшему бѣглецу. Опять тихо. И снова тишину прорѣзаютъ выстрѣлы, на этотъ разъ совсѣмъ близко. Потомъ чей-то нечеловѣческій, предсмертный вопль, потомъ опять выстрѣлъ...
Бальзакъ въ голову не лѣзетъ...
БЕЗПРИЗОРНЫЕ БУДНИ
Солнечное утро какъ-то скрашиваетъ всю безотрадность этой затерянной въ болотахъ каменной гряды, угрюмость сѣрыхъ бараковъ, блѣдность и истасканность голодныхъ ребячьихъ лицъ...
Въ качествѣ чичероне ко мнѣ приставленъ малый лѣтъ тридцати пяти, со странной фамиліей Ченикалъ, сухой, подвижной, жилистый, съ какими-то волчьими ухватками — одинъ изъ старшихъ воспитателей колоніи. Былъ когда-то какимъ-то краснымъ партизанскимъ командиромъ, потомъ служилъ въ войскахъ ГПУ, потомъ — гдѣ-то въ милиціи и попалъ сюда на пять лѣтъ "за превышеніе властей", какъ онъ выражался. Въ чемъ именно "превысилъ" онъ эти власти, я такъ и не узналъ — вѣроятно, какое-нибудь безсудное убійство. Сейчасъ онъ — начальникъ самоохраны.
"Самоохрана" — это человѣкъ триста ребятъ, спеціально подобранныхъ и натасканныхъ для роли мѣстной полиціи или, точнѣе, мѣстнаго ГПУ. Они живутъ въ лучшемъ баракѣ, получаютъ лучшее питаніе, на рукавахъ и на груди у нихъ понашиты красныя звѣзды. Они занимаются сыскомъ, облавами, обысками, арестами, несутъ при Вохрѣ вспомогательную службу по охранѣ лагеря. Остальная ребячья масса ненавидитъ ихъ лютой ненавистью. По лагерю они ходятъ только патрулями — чуть отобьется кто-нибудь, ему сейчасъ же или голову камнемъ проломаютъ, или ножомъ кишки выпустятъ. Недѣли двѣ тому назадъ одинъ изъ самоохранниковъ Ченикала исчезъ, и его нашли повѣшеннымъ. Убійцъ такъ и не доискались. Отрядъ Ченикала, взятый въ цѣломъ, теряетъ такимъ образомъ пять-шесть человѣкъ въ мѣсяцъ.
Обходимъ бараки — тѣсные, грязные, вшивые. Колонія была расчитана на двѣ тысячи — сейчасъ уже больше четырехъ тысячъ, а лениградское ГПУ все шлетъ и шлетъ новыя "подкрѣпленія". Сегодня ждутъ новую партію, человѣкъ въ 250. Ченикалъ озабоченъ вопросомъ, куда ихъ дѣть. Нары въ баракахъ — въ два этажа. Придется надстроить третій — тогда въ баракахъ окончательно нечѣмъ будетъ дышать.
Завклубъ былъ правъ: ребятамъ, дѣйствительно, дѣлать совершенно нечего. Они цѣлыми днями рѣжутся въ свои азартныя игры и, такъ какъ проигрывать, кромѣ "птюшекъ", нечего, то они ихъ и проигрываютъ, а проигравъ "наличность", рѣжутся дальше въ "кредитъ", на будущія "птюшки". А когда "птюшка" проиграна на двѣ три недѣли впередъ и ѣсть, кромѣ того пойла, что даютъ въ столовой, нечего — ребята бѣгутъ.
— Да куда же здѣсь бѣжать?
Бѣгутъ, оказывается, весьма разнообразными путями. Переплываютъ черезъ каналъ и выходятъ на Мурманскую желѣзную дорогу — тамъ ихъ ловитъ желѣзнодорожный Вохръ. Ловитъ, впрочемъ, немного — меньше половины. Другая половина не то ухитряется пробраться на югъ, не то гибнетъ въ болотахъ. Кое-кто пытается идти на востокъ, на Вологду — о ихъ судьбахъ Ченикалъ не знаетъ ничего. Въ концѣ зимы группа человѣкъ въ тридцать пыталась пробраться на югъ по льду Онѣжскаго озера. Буря оторвала кусокъ льда, на которомъ находились бѣглецы, ребята больше недѣли провели на пловучей и начинающей таять льдинѣ. Восемь человѣкъ утонуло, одного съѣли товарищи, остальныхъ спасли рыбаки.
Ченикалъ таскаетъ съ собой мѣшочекъ съ содой — почти всѣ ребята страдаютъ не то изжогой, не то катарромъ: ББКовской пищи не выдерживаютъ даже безпризорные желудки, а они-то ужъ видали виды. Сода играетъ, такъ сказать, поощрительно-воспитательную роль: за хорошее поведеніе соду даютъ, за плохое — не даютъ. Соды, впрочемъ, такъ же мало, какъ и хорошаго поведенія. Ребята крутятся около Ченикала, дѣлаютъ страдальческая лица, хватаются за животы и скулятъ. Вслѣдъ намъ несется изысканный матъ тѣхъ, кому въ содѣ было отказано...
Житье Ченикала — тоже не маслянница. Съ одной стороны — административные восторги Видемана, съ другой — ножъ безпризорниковъ, съ третьей — ни дня, ни ночи отдыха: въ баракахъ то и дѣло вспыхиваютъ то кровавыя потасовки, то безсмысленные истерическіе бунты. "Кое-когда и разстрѣливать приходится", конфиденціально сообщаетъ Ченикалъ. Особенно тяжело было въ концѣ зимы — въ началѣ весны, когда отъ цынги въ одинъ мѣсяцъ вымерло около семисотъ человѣкъ, а остальные "на стѣнку лѣзли — все равно помирать". "А почему же не организовали ни школъ, ни мастерскихъ?" "Да все прорабатывается этотъ вопросъ". "Сколько же времени онъ прорабатывается? "Да вотъ, какъ колонію основали — года два"...
Отъ разсказовъ Ченикала, отъ барачной вони, отъ вида ребятъ, кучами сидящихъ на нарахъ и щелкающихъ вшей — становится тошно. Въ лагерной чертѣ рѣшительно ничего физкультурнаго организовать нельзя: нѣтъ буквально ни одного метра не заваленной камнями площади. Я отправляюсь на развѣдку вокругъ лагеря — нѣтъ ли поблизости чего-нибудь подходящаго для спортивной площадки.
Лагерь прочно оплетенъ колючей проволокой. У выхода стоитъ патруль изъ трехъ вохровцевъ и трехъ "самоохранниковъ" — это вамъ не Болшево и даже не Медгора. Патруль спрашиваетъ у меня пропускъ. Я показываю свое командировочное удостовѣреніе. Патрульныхъ оно не устраиваетъ: нужно вернуться въ штабъ и тамъ взять спеціальный разовый пропускъ. Отъ этого я отказываюсь категорически: у меня центральная ББКовская командировка по всему лагерю, и плевать я хотѣлъ на всякіе здѣшніе пропуска. И прохожу мимо. "Будемъ стрѣлять". "А ну, попробуйте".
Стрѣлять они, конечно, не стали бы ни въ какомъ случаѣ, а вохру надо было пріучать. Принимая во вниманіе товарища Видемана, какъ бы не пришлось мнѣ драпать отсюда не только безъ пропуска и безъ оглядки, а даже и безъ рюкзака...
СТРОИТЕЛЬСТВО
Лѣсъ и камень. Камень и болото... Но въ верстахъ трехъ у дороги на сѣверъ я нахожу небольшую площадку, изъ которой что-то можно сдѣлать: выкорчевать десятка четыре пней, кое-что подравнять — если не въ футболъ, то въ баскетъ-болъ играть будетъ можно. Съ этимъ открытіемъ я и возвращаюсь въ лагерь. Вохра смотритъ на меня почтительно...
Иду къ Видеману.
— Ахъ, такъ это вы? — не очень ободряющимъ тономъ встрѣчаетъ меня Видеманъ и смотритъ на меня испытующе: что я собственно такое и слѣдуетъ ли ему административно зарычать или лучше будетъ корректно вильнуть хвостомъ. Я ему докладываю, что я и для чего я пріѣхалъ, и перехожу къ "дискуссіи". Я говорю, что въ самой колоніи ни о какой физкультурѣ не можетъ быть и рѣчи — одни камни.
— Ну, да это мы и безъ васъ понимаемъ. Наша амбулаторія дѣлаетъ по сто-двѣсти перевязокъ въ день... Расшибаютъ себѣ головы вдребезги...
— Необходимо перевести колонію въ какое-нибудь другое мѣсто. По пріѣздѣ въ Медгору я поставлю этотъ вопросъ; надѣюсь, товарищъ Видеманъ, и вы меня поддержите. Вы, конечно, сами понимаете: въ такой дырѣ, при такихъ климатическихъ условіяхъ...
Но моя дискуссія лопается сразу, какъ мыльный пузырь.
— Все это всѣмъ и безъ васъ извѣстно. Есть распоряженіе изъ ГУЛАГа оставить колонію здѣсь. Не о чемъ разговаривать...
Да, тутъ разговаривать, дѣйствительно, нечего. Съ Успенскимъ договориться о переводѣ колоніи, пожалуй, было бы можно: выдумалъ бы еще какую-нибудь халтуру, вродѣ спартакіады. Но разговаривать съ ГУЛАГомъ у меня возможности не было никакой. Я все-таки рискую задать вопросъ: "А чѣмъ, собственно, мотивировано приказаніе оставить колонію здѣсь"?
— Ну, чѣмъ тамъ оно мотивировано — это не ваше дѣло.
Н-да, дискуссировать здѣсь трудновато. Я докладываю о своей находкѣ въ лѣсу — хорошо бы соорудить спортивную площадку.
— Ну, вотъ это дѣло... Всѣхъ туда пускать мы не можемъ. Пусть вамъ завтра Полюдовъ подберетъ человѣкъ сто понадежнѣе, берите лопаты или что тамъ и валяйте... Только вотъ что: лопатъ у насъ нѣту. Какъ-то брали въ Южномъ Городкѣ, да потомъ не вернули. Не дадутъ, сволочи, развѣ что вамъ — человѣку свѣжему...
Я досталъ лопаты въ Южномъ Городкѣ — одномъ изъ лагпунктовъ водораздѣльскаго отдѣленія. На утро сто безпризорниковъ выстроилось во дворѣ колоніи рваной и неистово галдящей колонной. Всѣ рады попасть въ лѣсъ, всѣмъ осточертѣло это сидѣніе за проволокой, безъ учебы, безъ дѣла и даже безъ игръ. Колонну окружаетъ еще нѣсколько сотъ завистливыхъ рожицъ: "дяденька, возьмите и меня", "товарищъ инструкторъ, а мнѣ можно"...
Но я чувствую, что съ моимъ предпріятіемъ творится что-то неладное. Воспитатели мечутся, какъ угорѣлые, изъ штаба въ Вохръ и изъ Вохра въ штабъ. А мы все стоимъ и стоимъ. Наконецъ, выясняется: начальникъ Вохра требуетъ, чтобы кто-нибудь изъ воспитателей расписался на спискѣ отправляемыхъ на работу ребятъ, взявъ на себя, такимъ образомъ, отвѣтственность за ихъ, такъ сказать, сохранность, за то, что они не разбѣгутся. Никто расписываться не хочетъ. Видемана въ колоніи нѣтъ. Распорядиться некому. Боюсь, что изъ моего предпріятія ничего не выйдетъ и что колонну придется распустить по баракамъ, но чувствую — для ребятъ это будетъ великимъ разочарованіемъ.
— Ну, а если распишусь я?
— Ну, конечно... Только въ случаѣ побѣга кого-нибудь, вамъ и отвѣчать придется...
Мы идемъ въ Вохръ, и тамъ я равнодушно подмахиваю свою фамилію подъ длиннымъ спискомъ отправляемыхъ на работу ребятъ. Начальникъ Вохра провожаетъ меня весьма неопредѣленнымъ напутствіемъ:
— Ну, смотрите же!
___
На будущей площадкѣ выясняется, что въ качествѣ рабочей силы мои безпризорники не годятся рѣшительно никуда. Несмотря на ихъ волчью выносливость къ холоду и къ голоду, работать они не могутъ: не хватаетъ силъ. Тяжелыя лопаты оттягиваютъ ихъ тоненькія, какъ тростинки, руки, дыханія не хватаетъ, мускульной выносливости нѣтъ никакой. Работа идетъ порывами — то сразу бросаются всѣ, точно рыбья стайка по неслышной командѣ своего нѣмого вожака, то сразу всѣ останавливаются, кидаютъ лопаты и укладываются на мокрой холодной травѣ.
Я ихъ не подгоняю. Торопиться некуда. Какой-то мальчишка выдвигаетъ проектъ: вмѣсто того, чтобы выкорчевывать пни — разложить по хорошему костру на каждомъ изъ нихъ: вотъ они постепенно сгорятъ и истлѣютъ. Раскладывать тридцать костровъ — рискованно, но штуки три мы все-таки разжигаемъ. Я подсаживаюсь къ группѣ ребятъ у одного изъ костровъ.
— А ты, дядь, на пенекъ сядай, а то штаны замочишь.
Я сажусь на пенекъ и изъ внутренняго кармана кожанки достаю пачку махорки. Жадные глаза смотрятъ на эту пачку. Я свертываю себѣ папиросу и молча протягиваю пачку одному изъ ближайшихъ мальчишекъ.
— Можно свернуть? — нѣсколько недоумѣвающе спрашиваетъ онъ.
— Вертайте.
— Нѣтъ, мы не всю.
— Да хоть и всю.
— Такъ мы, дядя, половину отсыпемъ.
— Валяйте всю, у меня еще махорка есть.
— Ишь ты...
Достаются какіе-то листки — конечно, изъ завклубовской библіотеки, — ребята быстро и дѣловито распредѣляютъ между собой полученную махорку. Черезъ минуту всѣ торжественно и молча дымятъ. Молчу и я.
— Дядь, а дядь, а площадку-то эту — зачѣмъ строимъ?
— Такъ я же вамъ, ребята, еще въ колоніи, передъ строемъ объяснилъ — въ футболъ будете играть.
— Такъ это — для митингу, вралъ, небось, дядя, а?
Я объясняю еще разъ. Ребята вѣрятъ плохо. "Что-бъ они для насъ дѣлать что стали — держи карманъ"... "Насъ сюда для умору, а не для футбола посадили". "Конечно, для умору — какой имъ хрѣнъ насъ физкультурой развивать". "Знаемъ мы ужъ: строить-то насъ пошлютъ — а играть будутъ гады".
— Какіе гады?
— А вотъ эти... — безпризорникъ привелъ совершенно непечатный терминъ, обозначающій самоохранниковъ.
— "На гадовъ работать не будемъ"... "Хрѣнъ съ ними — пусть сами работаютъ".
Я пытаюсь убѣдить ребятъ, что играть будутъ и они: "Э, нѣтъ, такое ужъ мы слыхали". "Насъ, дядя, не проведешь". "Заливай кому другому"...
Я чувствую, что эту тему лучше бы до поры до времени оставить въ сторонѣ — очень ужъ широкая тема. На "гадовъ" не хочетъ работать и рабочій, не хотятъ и безпризорники... Я вспомнилъ исторію со своими спортпарками, вспомнилъ сообщеніе Радецкаго о ихъ дальнѣйшей судьбѣ — и даже нѣсколько удивился: въ сущности, вотъ съ этой безпризорной площадкой повторяется совершенно та же схема: я дѣйствую, какъ нѣсколько, скажемъ, идеалистически настроенный спецъ — никто же меня не тянулъ браться за эту площадку, развѣ что завклубъ; я, значитъ, буду планировать и, такъ сказать, организовывать, безпризорники будутъ строить — а играть будутъ самоохрана и Вохръ... И въ самомъ дѣлѣ — стоило ли огородъ городить?.. Я переношу вопросъ въ нѣсколько иную плоскость:
— Такъ вамъ же веселѣе пойти поковыряться здѣсь въ лѣсу, чѣмъ торчать въ баракахъ.
Мои собесѣдники оказываются гораздо сообразительнѣе, чѣмъ могъ предполагать.
— Объ этомъ и разговору нѣтъ, въ баракахъ съ тоски къ ... матери подохнуть можно, а еще зимой — такъ ну его... Намъ расчетъ такой, чтобы строить ее все лѣто — все лѣто будутъ водить...
___
Безпризорники всѣхъ безконечныхъ совѣтскихъ соціалистическихъ, федеративныхъ, автономныхъ и прочихъ республикъ говорятъ на одномъ и томъ же блатномъ жаргонѣ и съ однимъ и тѣмъ же одесскимъ акцентомъ. По степени выработанности этого жаргона и акцента можно до нѣкоторой степени судить о длительности безпризорнаго стажа даннаго мальчишки. Кое-кто изъ моихъ собесѣдниковъ еще не утерялъ своего основного акцента. Я спрашиваю одного изъ нихъ, когда это онъ попалъ въ безпризорники. Оказывается, съ осени прошлаго года, здѣсь — съ весны нынѣшняго — тысячу девятьсотъ тридцать четвертаго... Такихъ — призыва этого года — въ моей группѣ набирается пять человѣкъ — въ группѣ его человѣкъ сорокъ... Еще одно открытіе...
Мальчишка со стажемъ этого года — явственно крестьянскій мальчишка съ ясно выраженнымъ вологодскимъ акцентомъ, лѣтъ этакъ 13-14-ти.
— А ты-то какъ попалъ?
Мальчишка разсказываетъ: отецъ былъ колхозникомъ, попался на кражѣ колхозной картошки, получилъ десять лѣтъ. Мать померла съ голоду. "А въ деревнѣ-то пусто стало — все одно, какъ въ лѣсу... повысылали. Младшій братъ давно болѣлъ глазами и ослѣпъ". Разсказчикъ забралъ своего братишку и отправился въ Питеръ, гдѣ у него служила какая-то тетка. "Гдѣ служила?" — "Извѣстно гдѣ — на заводѣ". "А на какомъ?" — "Ну, просто на заводѣ"...
Словомъ — тетка Ксюшка, а фамилію забылъ — вродѣ чеховскаго адреса: "на деревню, дѣдушкѣ". Кое-какъ добрались до Питера, который оказался нѣсколько не похожъ на все то, что лѣсной крестьянскій мальчишка видалъ на своемъ вѣку. Братъ гдѣ-то затерялся въ вокзальной сутолокѣ, а парнишку сцапало ГПУ.
— А, небось, слямзилъ тоже? — скептически прерываетъ кто-то изъ ребятъ.
— Н-не, не успѣлъ... Неумѣлый былъ.
Теперь-то онъ научится...
Второй — призыва этого года — сынъ московскаго рабочаго. Рабочаго съ семьей перебрасывали на Магнитку. Мальчишка — тоже лѣтъ 12—13-ти — не то отсталъ отъ поѣзда, побѣжавъ за кипяткомъ, не то, набравъ кипятку, попалъ не въ тотъ поѣздъ — толкомъ онъ разсказать объ этомъ не могъ. Ну, и тутъ завертѣлось. Мотался по какимъ-то станціямъ, разыскивая семью — вѣроятно, и семья его разыскивала; подобрали его безпризорники — и пошелъ парень...
Остальныя исторіи совершенно стандартны: голодъ, священная соціалистическая собственность, ссылка отца — а то и обоихъ родителей — за попытку прокормить ребятъ своимъ же собственнымъ хлѣбомъ, который нынѣ объявленъ колхознымъ, священнымъ и неприкосновеннымъ для мужичьяго рта — ну, остальное ясно. У городскихъ, преимущественно рабочихъ дѣтей, безпризорность начинается съ безнадзорности: отецъ на работѣ часовъ по 12 — 15, мать — тоже, дома ѣсть нечего, начинаетъ мальчишка подворовывать, потомъ собирается цѣлая стайка вотъ этакихъ "промышленниковъ" — дальше опять все понятно. Новымъ явленіемъ былъ еврейскій мальчишка, сынъ еврейскаго колхозника — побочный продуктъ коллективизаціи джойнтовскихъ колоній въ Крыму. Продуктовъ еврейскаго раскулачиванія мнѣ еще видать не приходилось. Другой безпризорникъ-еврей пережилъ исторію болѣе путаную и связанную съ Биробиджаномъ — эта исторія слишкомъ длинна для данной темы...
Вообще здѣсь былъ нѣкій новый видъ того совѣтскаго интернаціонала — интернаціонала голода, горя и нищеты, — нивеллирующій всѣ національныя отличія. Какой-то грузинъ — уже совсѣмъ проѣденный туберкулезомъ и все время хрипло кашляющій. Утверждаетъ, что онъ сынъ доктора, разстрѣляннаго ГПУ.
— Ты по грузински говоришь?
— Н-не, забылъ...
Тоже... руссификація... Руссификація людей, уходящихъ на тотъ свѣтъ...
___
Разговоръ шелъ какъ-то нервно: ребята то замолкали всѣ, то сразу — наперебой... Въ голову все время приходило сравненіе съ рыбьей стайкой: точно кто-то невидимый и неслышный командуетъ... И въ голосахъ, и въ порывистости настроеній, охватывающихъ сразу всю эту безпризорную стайку, было что-то отъ истерики... Не помню, почему именно я одному изъ ребятъ задалъ вопросъ о его родителяхъ — и меня поразила грубость отвѣта:
— Подохли. И хрѣнъ съ ними. Мнѣ и безъ родителевъ не хуже...
Я повернулся къ нему. Это былъ мальчишка лѣтъ 15—16-ти, съ упрямымъ лбомъ и темными, озлобленными глазами.
— Ой-ли?
— А на хрѣна они мнѣ сдались? Живу вотъ и безъ нихъ.
— И хорошо живешь?
Мальчишка посмотрѣлъ на меня злобно:
— Да вотъ, какъ хочу, такъ и живу...
— Ужъ будто? — Въ отвѣтъ мальчишка выругался — вонюче и виртуозно...
— Вотъ, — сказалъ я, — ѣлъ бы ты борщъ, сваренный матерью, а не лагерную баланду. Учился бы, въ футболъ игралъ.. Вши бы не ѣли.
— А ну тебя къ.... матери, — сказалъ мальчишка, густо сплюнулъ въ костеръ и ушелъ, на ходу независимо подтягивая свои спадающіе штаны. Отойдя шаговъ десятокъ, оглянулся, плюнулъ еще разъ и бросилъ по моему адресу:
— Вотъ тоже еще стерва выискалась!..
Въ глазахъ его ненависть...
___
Позже, по дорогѣ изъ колоніи дальше на сѣверъ, я все вспоминалъ этого мальчишку съ его отвратительнымъ сквернословіемъ и съ ненавистью въ глазахъ и думалъ о полной, такъ сказать, законности, о неизбѣжной обусловленности вотъ этакой психологіи. Не несчастная случайность, а общество, организованное въ государство, лишило этого мальчишку его родителей. Его никто не подобралъ и ему никто не помогъ. Съ первыхъ же шаговъ своего "самостоятельнаго" и мало-мальски сознательнаго существованія онъ былъ поставленъ передъ альтернативой — или помереть съ голоду, или нарушать общественные законы въ ихъ самой элементарнѣйшей формѣ. Вотъ одинъ изъ случаевъ такого нарушенія:
Дѣло было на базарѣ въ Одессѣ въ 1925 или 1926 году. Какой-то безпризорникъ вырвалъ изъ рукъ какой-то дамочки каравай хлѣба и бросился бѣжать. Дамочка подняла крикъ, мальчишку какъ-то сбили съ ногъ. Падая, мальчишка въ кровь разбилъ себѣ лицо о мостовую. Дамочка подбѣжала и стала колотить его ногой въ спину и въ бокъ. Примѣру дамочки послѣдовалъ и еще кое-кто. Съ дамочкой, впрочемъ, было поступлено не по хорошему: какой-то студентъ звѣрской пощечиной сбилъ ее съ ногъ. Но не въ этомъ дѣло: лежа на землѣ, окровавленный и избиваемый, ежась и подставляя подъ удары наиболѣе выносливыя части своего тѣла, мальчишка съ жадной торопливостью рвалъ зубами и, не жуя, проглатывалъ куски измазаннаго въ крови и грязи хлѣба. Потомъ окровавленнаго мальчишку поволокли въ милицію. Онъ шелъ, всхлипывая, утирая рукавомъ слезы и кровь и продолжая съ той же жадной спѣшкой дожевывать такой цѣной отвоеванный отъ судьбы кусокъ пищи.
Никто изъ этихъ дѣтей не могъ, конечно, лечь на землю, сложить руки на животикѣ и съ этакой мирной резиньяціей помереть во славу будущихъ соціалистическихъ поколѣній... Они, конечно, стали бороться за жизнь — единственнымъ способомъ, какой у нихъ оставался: воровствомъ. Но, воруя, они крали у людей послѣдній кусокъ хлѣба — предпослѣдняго не имѣлъ почти никто. Въ нищетѣ совѣтской жизни, въ милліонныхъ масштабахъ соціалистической безпризорности — они стали общественнымъ бѣдствіемъ. И они были выброшены изъ всякаго общества — и оффиціальнаго, и неоффиціальнаго. Они превратились въ бѣшенныхъ волковъ, за которыми охотятся всѣ.
Но въ этомъ мірѣ, который на нихъ охотился, гдѣ-то тамъ оставались все же и дѣти, и родители, и семья, и забота, кое-какая сытость и даже кое-какая безопасность — и все это было навсегда потеряно для вотъ этихъ десятилѣтнихъ, для этихъ дѣтей, объявленныхъ болѣе или менѣе внѣ закона. Во имя психическаго самосохраненія, чисто инстинктивно они вынуждены были выработать въ себѣ психологію отдѣльной стаи. И ненавидящій взглядъ моего мальчишки можно было перевести такъ: "А ты мнѣ можешь вернуть родителей, семью, мать, борщъ? Ну, и иди къ чортовой матери, не пили душу"...
___
Мальчишка отошелъ къ другому костру. У нашего — опять воцарилось молчаніе. Кто-то предложилъ: спѣть бы... "Ну, спой". Юдинъ изъ мальчиковъ лихо вскочилъ на ноги, извлекъ изъ кармана что-то вродѣ кастаньетъ и, приплясывая и подергиваясь, задорно началъ блатную пѣсенку:
Забубенный мотивъ не подымаетъ ничьего настроенія. "Да брось ты"! Пѣвецъ артистически выругался и сѣлъ. Опять молчаніе. Потомъ какой-то голосокъ затянулъ тягучій мотивъ:
Пѣсню подхватываютъ десятки негромкихъ голосовъ. Поютъ — кто лежа, кто сидя, кто обхвативъ колѣни и уткнувъ въ колѣни голову, кто тупо и безнадежно уставившись въ костеръ — глаза смотрятъ не на пламя, а куда-то внутрь, въ какое-то будущее — какое будущее?
Да, о могилкѣ не узнаетъ, дѣйствительно, никто... Негромко тянется разъѣдающій душу мотивъ. Посѣрѣвшія дѣтскія лица какъ будто всѣ сосредоточились на мысляхъ объ этой могилкѣ, которая ждетъ ихъ гдѣ-то очень недалеко: то-ли въ трясинѣ ближайшаго болота, то-ли подъ колесами поѣзда, то-ли въ цынготныхъ братскихъ ямахъ колоніи, то-ли просто у стѣнки ББК ОГПУ...
— Сволота пришла! — вдругъ говоритъ одинъ изъ "колонистовъ".
Оборачиваюсь. Во главѣ съ Ченикаломъ шествуетъ штукъ двадцать самоохранниковъ. Пѣсня замолкаетъ. "Вотъ сколопендры, гады, гадючье сѣмя"...
Самоохранники разсаживаются цѣпью вокругъ площадки. Ченикалъ подсаживается ко мнѣ. Ребята нехотя подымаются:
— Чѣмъ съ гадами сидѣть, пойдемъ ужъ копать, что-ль...
— Хай сами копаютъ... Мы насаживаться будемъ, а они — сидѣть, да смотрѣть. Пусть и эта язва сама себѣ могилу копаетъ...
Ребята нехотя подымаются и съ презрительной развалочкой покидаютъ нашъ костеръ. Мы съ Ченикаломъ остаемся одни. Ченикалъ мнѣ подмигиваетъ: "вотъ, видали, дескать, что за народъ"... Я это вижу почище Ченикала.
— А вы зачѣмъ собственно свой отрядъ привели?
— Да что-бъ не разбѣжались.
— Нечего сказать, спохватились, мы тутъ ужъ три часа.
Ченикалъ пожимаетъ плечами: "какъ-то такъ очень ужъ скоро все вышло"...
___
Къ обѣденному часу я выстраиваю ребятъ въ колонну, и мы возвращаемся домой. Колонну со всѣхъ сторонъ оцѣпили самоохранники, вооруженные спеціальными дубинками. Я иду рядомъ съ колонной. Какой-то мальчишка начинаетъ подозрительно тереться около меня. Мои наружные карманы благоразумно пусты, и я иронически оглядываю мальчишку: опоздалъ... Мальчишка иронически поблескиваетъ плутоватыми глазками и отстаетъ отъ меня. Въ колоннѣ раздается хохотъ. Смѣюсь и я — нѣсколько дѣланно. "А ты, дядь, въ карманѣ пощупай." Я лѣзу рукой въ карманъ.
Хохотъ усиливается. Къ своему изумленію, вытаскиваю изъ кармана давеча спертый кисетъ. Но самое удивительное то, что кисетъ полонъ. Развязываю — махорка. Ну-ну... Спертую у меня махорку мальчишки, конечно, выкурили сразу — значитъ, потомъ устроили какой-то сборъ. Какъ и когда? Колонна весело хохочетъ вся: "у дядьки инструктора махорка воскресла, ай да дядя... Говорили тебѣ — держи карманъ шире. А въ другой разъ, дядь, не корчи фраера"...
— Съ чего это вы? — нѣсколько растерявшись, спрашиваю я у ближайшаго "пацана".
Пацанъ задорно ухмыльнулся, скаля наполовину выбитые зубы.
— А это у насъ по общему собранію дѣлается, прямо какъ у большихъ.
Я вспомнилъ повѣшеннаго сомоохранника и подумалъ о томъ, что эти дѣтскія "общія собранія" будутъ почище взрослыхъ...
Въ хвостѣ колонны послышались крики и ругань. Ченикалъ своимъ волчьимъ броскомъ кинулся туда и заоралъ: "колонна-а, стой!" Колонна, потоптавшись, остановилась. Я тоже подошелъ къ хвосту колонны. На придорожномъ камнѣ сидѣлъ одинъ изъ самоохранниковъ, всхлипывая и вытирая кровь съ разбитой головы.
"Камнемъ заѣхали", — пояснилъ Ченикалъ. Его волчьи глазки пронзительно шныряли по лицамъ безпризорниковъ, стараясь отыскать виновниковъ. Безпризорники вели себя издѣвательски.
— Это я, товарищъ воспитатель, это я. А ты минѣ въ глаза посмотри. А ты минѣ у ж... посмотри... — ну и такъ далѣе. Было ясно, что виновнаго не найти: камень вырвался откуда-то изъ середины колонны и угодилъ самоохраннику въ темя.
Самоохранникъ всталъ, пошатываясь. Двое изъ его товарищей поддерживали его подъ руки. Въ глазахъ у всѣхъ трехъ была волчья злоба.
...Да, придумано, что и говорить, толково: раздѣляй и властвуй. Эти самоохранники точно такъ же спаяны въ одну цѣпочку — они, Ченикалъ, Видеманъ, Успенскій — какъ на волѣ совѣтскій активъ спаянъ съ совѣтской властью въ цѣломъ. Спаянъ кровью, спаянъ ненавистью остальной массы, спаянъ сознаніемъ, что только ихъ солидарность всей банды, только энергія и безпощадность ихъ вождей могутъ обезпечить имъ, если и не очень человѣческую, то все-таки жизнь...
Ченикалъ зашагалъ рядомъ со мной.
— Вотъ видите, товарищъ Солоневичъ, какая у насъ работа. Вотъ — пойди, найди... Въ шестомъ баракѣ ночью въ дежурнаго воспитателя пикой швырнули.
— Какой пикой?
— А такъ: палка, на палкѣ гвоздь. Въ спину угодили. Не сильно, а проковыряли. Вотъ такъ и живемъ. А то вотъ, весной было: въ котелъ въ вольнонаемной столовой наклали битаго стекла. Хорошо еще, что поваръ замѣтилъ — крупное стекло было... Я знаете, въ партизанской красной арміи былъ; вотъ тамъ — такъ это война — не знаешь съ которой стороны рѣзать будутъ, а рѣзали въ капусту. Честное вамъ говорю слово: тамъ и то легче было.
Я вѣжливо посочувствовалъ Ченикалу...
ВИДЕМАНЪ ХВАТАЕТЪ ЗА ГОРЛО
Придя въ колонію, мы пересчитали свой отрядъ. Шестнадцать человѣкъ все-таки сбѣжало. Ченикалъ въ ужасѣ. Черезъ полчаса меня вызываетъ начальникъ Вохра. У него повадка боа-констриктора, предвкушающаго хорошій обѣдъ и медленно развивающаго свои кольца.
— Такъ — шестнадцать человѣкъ у васъ сбѣжало?
— У меня никто не сбѣжалъ.
Удавьи кольца распрямляются въ матъ.
— Вы мнѣ тутъ янкеля не крутите, я васъ... и т.д.
Совсѣмъ дуракъ человѣкъ. Я сажусь на столъ, вынимаю изъ кармана образцово показательную коробку папиросъ. Данная коробка была получена въ медгорскомъ распредѣлителѣ ГПУ по спеціальной запискѣ Успенскаго (всего было получено сто коробокъ) — единственная бытовая услуга, которую я соизволилъ взять у Успенскаго. Наличіе коробки папиросъ сразу ставитъ человѣка въ нѣкій привиллегированный разрядъ — въ лагерѣ въ особенности, ибо коробка папиросъ доступна только привиллегированному сословію... Отъ коробки папиросъ языкъ начальника Вохра прилипаетъ къ его гортани.
Я досталъ папиросу, постучалъ мундштукомъ, протянулъ коробку начальнику Вохра: "Курите? А скажите, пожалуйста, сколько вамъ собственно лѣтъ?"
— Тридцать пять, — ляпаетъ начальникъ Вохра и спохватывается — попалъ въ какой-то подвохъ. — А вамъ какое дѣло, что это вы себѣ позволяете?
— Нѣкоторое дѣло есть... Такъ какъ вамъ тридцать пять лѣтъ а не три года, вы бы, кажется, могли понять, что одинъ человѣкъ не имѣетъ никакой возможности услѣдить за сотней безпризорниковъ, да еще въ лѣсу.
— Такъ чего же вы расписывались?
— Я расписывался въ наличіи рабочей силы. А для охраны существуете вы. Ежели вы охраны не дали — вы и отвѣчать будете. А если вы еще разъ попытаетесь на меня орать — это для васъ можетъ кончиться весьма нехорошо.
— Я доложу начальнику колоніи...
— Вотъ съ этого надо бы и начинать...
Я зажигаю спичку и вѣжливо подношу ее къ папиросѣ начальника Вохра. Тотъ находится въ совсѣмъ обалдѣломъ видѣ.
Вечеромъ я отправляюсь къ Видеману. Повидимому, за мной была какая-то слѣжка — ибо вмѣстѣ со мной къ Видеману торопливо вваливается и начальникъ Вохра. Онъ, видимо, боится, что о побѣгѣ я доложу первый и не въ его пользу.
Начальникъ Вохра докладываетъ: вотъ, дескать, этотъ товарищъ взялъ на работу сто человѣкъ, а шестнадцать у него сбѣжало. Видеманъ не проявляетъ никакого волненія: "такъ, говорите, шестнадцать человѣкъ?"
— Точно такъ, товарищъ начальникъ.
— Ну, и чортъ съ ними.
— Трое вернулись. Сказываютъ, одинъ утопъ въ болотѣ. Хотѣли вытащить, да чуть сами не утопли.
— Ну, и чортъ съ нимъ...
Начальникъ Вохра балдѣетъ снова. Видеманъ оборачивается ко мнѣ:
— Вотъ что, тов. Солоневичъ. Вы остаетесь у насъ. Я звонилъ Корзуну и согласовалъ съ нимъ все, онъ уже давно обѣщалъ перебросить васъ сюда. Ваши вещи будутъ доставлены изъ Медгоры оперативнымъ отдѣленіемъ...
Тонъ — вѣжливый, но не допускающій никакихъ возраженій. И подъ вѣжливымъ тономъ чувствуются оскаленные зубы всегда готоваго прорваться административнаго восторга.
На душѣ становится нехорошо. У меня есть подозрѣнія, что Корзуну онъ вовсе не звонилъ, — но что я могу подѣлать. Здѣсь я Видеману, въ сущности, не нуженъ ни къ чему, но у Видемана есть Вохръ, и онъ можетъ меня здѣсь задержать, если и не надолго, то достаточно для того, чтобы сорвать побѣгъ. "Вещи будутъ доставлены оперативнымъ отдѣленіемъ" — значитъ, оперродъ полѣзетъ на мою полку и обнаружитъ: запасы продовольствія, еще не сплавленные въ лѣсъ, и два компаса, только что спертые Юрой изъ техникума. Съ моей задержкой — еще не такъ страшно. Юра пойдетъ къ Успенскому — и Видеману влетитъ по первое число. Но компасы?
Я чувствую, что зубы Видемана вцѣпились мнѣ въ горло. Но сейчасъ нужно быть спокойнымъ. Прежде всего — нужно быть спокойнымъ.
Я достаю свою коробку папиросъ и протягиваю Видеману. Видеманъ смотритъ на нее недоумѣвающе.
— Видите ли, товарищъ Видеманъ... Какъ разъ передъ отъѣздомъ я на эту тему говорилъ съ товарищемъ Успенскимъ... Просилъ его о переводѣ сюда...
— Почему съ Успенскимъ? При чемъ здѣсь Успенскій?
Въ рыкѣ тов. Видемана чувствуется нѣкоторая неувѣренность.
— Я сейчасъ занятъ проведеніемъ вселагерной спартакіады... Тов. Успенскій лично руководить этимъ дѣломъ... Корзунъ нѣсколько не въ курсѣ всего этого — онъ все время былъ въ разъѣздахъ... Во всякомъ случаѣ, до окончанія спартакіады о моемъ переводѣ сюда не можетъ быть и рѣчи... Если вы меня оставите здѣсь вопреки прямому распоряженію Успенскаго, — думаю, могутъ быть крупныя непріятности...
— А вамъ какое дѣло? Я васъ отсюда не выпущу, и не о чемъ говорить... Съ Успенскимъ Корзунъ договорится и безъ васъ.
Плохо. Видеманъ и въ самомъ дѣлѣ можетъ не выпустить меня. И можетъ дать распоряженіе оперативному отдѣленію о доставкѣ моихъ вещей. Въ частности, и компасовъ. Совсѣмъ можетъ быть плохо. Говоря просто, отъ того, какъ я сумѣю открутиться отъ Видемана, зависитъ наша жизнь — моя, Юры и Бориса. Совсѣмъ плохо...
— Я вамъ уже докладывалъ, что тов. Корзунъ не вполнѣ въ курсѣ дѣла. А дѣло очень срочное. И если подготовка къ спартакіадѣ будетъ заброшена недѣли на двѣ...
— Можете уходить, — говоритъ Видеманъ начальнику Вохра. Тотъ поворачивается и уходитъ.
— Что это вы мнѣ плетете про какую-то спартакіаду?
Господи, до чего онъ прозраченъ, этотъ Видеманъ. Зубы чешутся, но тамъ, въ Медгорѣ, сидитъ хозяинъ съ большой палкой. Чортъ его знаетъ, какія у этого "писателя" отношенія съ хозяиномъ... Цапнешь за икру, а потомъ окажется — не во время. И потомъ... хозяинъ... палка... А отступать — не хочется: какъ никакъ административное самолюбіе...
Я вмѣсто отвѣта достаю изъ кармана "Перековку" и пачку приказовъ о спартакіадѣ. — Пожалуйте.
Видемановскія челюсти разжимаются и хвостъ пріобрѣтаетъ вращательное движеніе. Гдѣ-то въ глубинѣ души Видеманъ уже благодаритъ своего ГПУ-скаго создателя, что за икру онъ не цапнулъ...
— Но противъ вашего перевода сюда послѣ спартакіады вы, тов. Солоневичъ, надѣюсь, ничего имѣть не будете?
Ухъ, выскочилъ... Можно бы, конечно, задать Видеману вопросъ — для чего я ему здѣсь понадобился, но, пожалуй, не стоитъ...
...Ночью надъ колоніей реветъ приполярная буря. Вѣтеръ бьетъ въ окна тучами песку. Мнѣ не спится. Въ голову почему-то лѣзутъ мысли о зимѣ и о томъ, что будутъ дѣлать эти четыре тысячи мальчиковъ въ безконечныя зимнія ночи, когда чертова куча будетъ завалена саженными сугробами снѣга, а въ баракахъ будутъ мерцать тусклыя коптилочки — до зимы вѣдь всѣ эти четыре тысячи ребятъ "ликвидировать" еще не успѣютъ...
Вспомнился кисетъ махорки: человѣческая реакція на человѣческія отношенія... Значитъ — не такъ ужъ они безнадежны — эти невольные воры?.. Значитъ — Божья искра въ нихъ все еще теплится... Но кто ее будетъ раздувать — Видеманъ? Остаться здѣсь, что-ли? Нѣтъ, невозможно ни технически — спартакіада, побѣгъ, 28-е іюля, ни психологически — все равно ничѣмъ, ничѣмъ не поможешь... Такъ, развѣ только: продлить агонію...
Въ голову лѣзетъ мысль объ утонувшемъ въ болотѣ мальчикѣ, о тѣхъ тринадцати, которые сбѣжали (сколько изъ нихъ утонуло въ карельскихъ трясинахъ?), о дѣвочкѣ съ кастрюлей льда, о профессорѣ Авдѣевѣ, замерзшемъ у своего барака, о наборщикѣ Мишѣ, вспомнились всѣ мои горькіе опыты "творческой работы", все мое горькое знаніе о судьбахъ всякой человѣчности въ этомъ "соціалистическомъ раю". Нѣтъ, ничѣмъ не поможешь.
Утромъ я уѣзжаю изъ "второго Болшева" — аки тать въ нощи, не попрощавшись съ завклубомъ: снова возьметъ за пуговицу и станетъ уговаривать. А что я ему скажу?
...Въ мірѣ существуетъ "Лига защиты правъ человѣка". И человѣкъ, и его права въ послѣдніе годы стали понятіемъ весьма относительнымъ. Человѣкомъ, напримѣръ, пересталъ быть кулакъ — его правъ лига защищать даже и не пыталась.
Но есть права, находящіяся абсолютно внѣ всякаго сомнѣнія: это права дѣтей. Они не дѣлали ни революціи, ни контръ-революціи. Они гибнутъ абсолютно безъ всякой личной вины со своей стороны.
Къ описанію этой колоніи я не прибавилъ ничего: ни для очерненія большевиковъ, ни для обѣленія безпризорниковъ. Сущность дѣла заключается въ томъ, что для того, чтобы убрать подальше отъ глазъ культурнаго міра созданную и непрерывно создаваемую вновь большевизмомъ безпризорность, совѣтская власть — самая гуманная въ мірѣ — лишила родителей милліоны дѣтей, выкинула этихъ дѣтей изъ всякаго человѣческаго общества, заперла остатки ихъ въ карельскую тайгу и обрекла на медленную смерть отъ голода, холода, цынги, туберкулеза...
На просторахъ райскихъ долинъ соціализма такихъ колоній имѣется не одна. Та, которую я описываю, находится на берегу Бѣломорско-Балтійскаго канала, въ 27-ми километрахъ къ сѣверу отъ гор. Повѣнца.
Если у "Лиги защиты правъ" есть хотя бы элементарнѣйшая человѣческая совѣсть — она, быть можетъ, поинтересуется этой колоніей....
Долженъ добавить, что до введенія закона о разстрѣлахъ малолѣтнихъ, этихъ мальчиковъ разстрѣливали и безъ всякихъ законовъ, въ порядкѣ, такъ сказать, обычнаго совѣтскаго права...
ВОДОРАЗДѢЛЪ
На той же моторкѣ и по тому же пустынному каналу я тащусь дальше на сѣверъ. Черезъ четверть часа лѣсъ закрываетъ отъ меня чортову кучу безпризорной колоніи.
Въ сущности, мой отъѣздъ сильно похожъ на бѣгство — точнѣе, на дезертирство. А — что дѣлать? Строить футбольныя площадки на ребячьихъ костяхъ? Вотъ — одинъ уже утонулъ въ болотѣ... что сталось съ тѣми тринадцатью, которые не вернулись?
Каналъ тихъ и пусть. На моторкѣ я — единственный пассажиръ. Каюта, человѣкъ на 10-15, загажена и заплевана; на палубѣ — сырой пронизывающій вѣтеръ, несущій надъ водой длинныя вуали утренняго тумана. "Капитанъ", сидящій въ рулевой будкѣ, жестомъ приглашаетъ меня въ эту будку. Захожу и усаживаюсь рядомъ съ капитаномъ. Здѣсь тепло и не дуетъ, сквозь окна кабинки можно любоваться надвигающимся пейзажемъ: болото и лѣсъ, узкая лента канала, обложенная грубо отесанными кусками гранита. Мѣстами гранитъ уже осыпался, и на протяженіи сотенъ метровъ въ воду вползаютъ медленная осыпи песку. Капитанъ обходитъ эти мѣста, держась поближе къ противоположному берегу.
— Что-жъ это? Не успѣли достроить — уже и разваливается?
Капитанъ флегматично пожимаетъ плечами.
— Песокъ — это что. А вотъ — плотины заваливаются, вотъ за Водораздѣломъ сами посмотрите. Подмываетъ ихъ снизу, что-ли... Гнилая работа, какъ есть гнилая, тяпъ да ляпъ: гонютъ, гонютъ, вотъ и выходитъ — не успѣли построить, — глядишь, а все изъ рукъ разлазится. Вотъ сейчасъ — всю весну чинили, экскаваторы работали, не успѣли подлатать — снова разлѣзлось. Да, песокъ — это что? А какъ съ плотинами будетъ — никому неизвѣстно. Другой каналъ думаютъ строить — не дай Господи...
О томъ, что собираются строить "вторую нитку" канала, я слыхалъ еще въ Медгорѣ. Изыскательныя партіи уже работали, и въ производственномъ отдѣлѣ уже висѣла карта съ двумя варіантами направленія этой "второй нитки" — насколько я знаю, ее все-таки не начали строить...
— А что возятъ по этому каналу?
— Да вотъ — васъ возимъ.
— А еще что?
— Ну, еще кое кого, вродѣ васъ ...
— А грузы?
— Какіе тутъ грузы? Вотъ вчера на седьмой участокъ, подъ Повѣнцомъ, пригнали двѣ баржи съ ссыльными — одни бабы... Тоже — грузъ, можно сказать... Ахъ ты, мать твою...
Моторка тихо въѣхала въ какую-то мель. "Стой! давай полный назадъ", — заоралъ капитанъ въ трубку. Моторъ далъ задній ходъ; пѣна взбитой воды побѣжала отъ кормы къ носу; суденышко не сдвинулось ни на вершокъ. Капитанъ снова выругался: "вотъ, заговорились и въѣхали, ахъ ты, мать его"... Снизу прибѣжалъ замасленный механикъ и въ свою очередь обложилъ капитана. "Ну, что-жъ, пихаться будемъ!" — сказалъ капитанъ фаталистически.
На моторкѣ оказалось нѣсколько шестовъ, спеціально приспособленныхъ для "пиханія", съ широкими досками на концахъ, чтобы шесты не уходили въ песокъ. Дали полный задній ходъ, навалились на шесты, моторка мягко скользнула назадъ, потомъ, освободившись, рѣзко дернулась къ берегу. Капитанъ въ нѣсколько прыжковъ очутился у руля и едва успѣлъ спасти корму отъ удара о береговые камни. Механикъ, выругавшись еще разъ, ушелъ внизъ, къ мотору. Снова усѣлись въ будкѣ.
— Ну, будетъ лясы точать, — сказалъ капитанъ, — тутъ песокъ со всѣхъ щелей лѣзетъ, а напорешься на камень — пять лѣтъ дадутъ.
— А вы — заключенный?
— А то — что же?
Часа черезъ два мы подъѣзжаемъ къ Водораздѣлу — высшей точкѣ канала. Отсюда начинается спускъ на сѣверъ, къ Сорокѣ. Огромный и совершенно пустой затонъ, замкнутый съ сѣвера гигантской бревенчатой дамбой. Надъ шлюзомъ — бревенчатая тріумфальная арка съ надписью объ энтузіазмѣ, побѣдахъ и о чемъ-то еще. Другая такая же арка, только гранитная, перекинута черезъ дорогу къ лагерному пункту. Огромная — и тоже пустынная — площадь, вымощенная булыжниками, замыкается съ сѣвера длиннымъ, метровъ въ сто, двухэтажнымъ бревенчатымъ домомъ. Посерединѣ площади — гранитный обелискъ съ бюстомъ Дзержинскаго. Все это — пусто, позанесено пескомъ. Ни на площади, ни на шлюзахъ — ни одной живой души. Я не догадался спросить у капитана дорогу къ лагерному пункту, а тутъ спросить не у кого. Обхожу дамбу, плотину, шлюзы. На шлюзахъ, оказывается, есть караульная будка, въ которой мирно почиваютъ двое "каналохранниковъ". Выясняю, что до лагернаго пункта — версты двѣ лѣсомъ, окаймляющимъ площадь, вѣроятно, площадь имени Дзержинскаго...
У оплетеннаго проволокой входа въ лагерь стояло трое вохровцевъ — очень рваныхъ, но не очень сытыхъ. Здѣсь же торчала караульная будка, изъ которой вышелъ уже не вохровецъ, а оперативникъ — то-есть вольнонаемный чинъ ОГПУ, въ длиннополой кавалерійской шинели съ соннымъ и отъѣвшимся лицомъ. Я протянулъ ему свое командировочное удостовѣреніе. Оперативникъ даже не посмотрѣлъ на него: "да что тамъ, по личности видно, что свой, — проходите". Вотъ такъ комплиментъ! Неужели мимикрія моя дошла до такой степени, что всякая сволочь по одной "личности" признаетъ меня своимъ...
Я прошелъ за ограду лагеря и только тамъ понялъ, въ чемъ заключалась тайна проницательности этого оперативника: у меня не было голоднаго лица, слѣдовательно, я былъ своимъ. Я понялъ еще одну вещь: что, собственно говоря, лагеря, какъ такового, я еще не видалъ — если не считать девятнадцатаго квартала. Я не рубилъ дровъ, не копалъ песку, не вбивалъ свай въ бѣломорско-балтійскую игрушку товарища Сталина. Съ первыхъ же дней мы всѣ трое вылѣзли, такъ сказать, на лагерную поверхность. И, кромѣ того, Подпорожье было новымъ съ иголочки и сверхударнымъ отдѣленіемъ, Медгора же была столицей, а вотъ здѣсь, въ Водораздѣлѣ, — просто лагерь — лагерь не ударный, не новый и не столичный. Покосившіеся и почернѣлые бараки, крытые парусиной, корой, какими-то заплатами изъ толя, жести и, Богъ знаетъ, чего еще. Еле вылѣзающія изъ-подъ земли землянки, крытыя дерномъ. Понурые, землисто-блѣдные люди, которые не то, чтобы ходили, а волокли свои ноги. На людяхъ — несусвѣтимая рвань — большей частью собственная, а не казенная. Какой-то довольно интеллигентнаго вида мужчина въ чемъ-то вродѣ довоенной дамской жакетки — какъ она сюда попала? Вѣроятно, писалъ домой — пришлите хоть что-нибудь, замерзаю, — вотъ и прислали то, что на днѣ семейственнаго сундука еще осталось послѣ раскулачиваній и грабежей за полной ненадобностью властямъ предержащимъ... Большинство лагерниковъ — въ лаптяхъ. У нѣкоторыхъ — еще проще: йоги обернуты какими-то тряпками и обвязаны мочальными жгутами...
Я поймалъ себя на томъ, что, глядя на все это, я самъ сталъ не идти, а тоже волочить ноги... Нѣтъ, дальше я не поѣду. Ни въ Сегежу, ни въ Кемь, ни даже въ Мурманскъ — къ чертовой матери... Мало ли я видалъ гнусности на своемъ вѣку — на сто нормальныхъ жизней хватило бы. И на мою хватитъ... Что-то было засасывающее, угнетающее въ этомъ пейзажѣ голода, нищеты и забитости... Медгора показалась домомъ — уютнымъ и своимъ... Все въ мірѣ относительно.
Въ штабѣ я разыскалъ начальника лагпункта — желчнаго, взъерошеннаго и очумѣлаго маленькаго человѣчка, который сразу далъ мнѣ понять, что ни на копѣйку не вѣритъ въ то, что я пріѣхалъ въ это полукладбище съ цѣлью выискивать среди этихъ полуживыхъ людей чемпіоновъ для моей спартакіады. Тонъ у начальника лагпункта былъ почтительный и чуть-чуть иронически: знаемъ мы васъ — на соломѣ не проведете, знаемъ, какія у васъ въ самомъ дѣлѣ порученія.
Настаивать на спортивныхъ цѣляхъ моей поѣздки было бы слишкомъ глупо... Мы обмѣнялись многозначительными взглядами. Начальникъ какъ-то передернулъ плечами: "да еще, вы понимаете, послѣ здѣшняго возстанія..."
О возстаніи я не слыхалъ ничего — даромъ, что находился въ самыхъ лагерныхъ верхахъ. Но этого нельзя было показывать: если бы я показалъ, что о возстаніи я ничего не знаю, я этимъ самымъ отдѣлилъ бы себя отъ привиллегированной категоріи "своихъ людей". Я издалъ нѣсколько невразумительно сочувственныхъ фразъ. Начальнику лагпункта не то хотѣлось подѣлиться хоть съ кѣмъ-нибудь, не то показалось цѣлесообразнымъ подчеркнуть передо мною, "центральнымъ работникомъ", сложность и тяжесть своего положенія. Выяснилось: три недѣли тому назадъ на лагпунктѣ вспыхнуло возстаніе. Изрубили Вохръ, разорвали въ клочки начальника лагпункта, — предшественника моего собесѣдника — и двинулись на Повѣнецъ. Стоявшій въ Повѣнцѣ 51-й стрѣлковый полкъ войскъ ОГПУ загналъ возставшихъ въ болото, гдѣ большая часть ихъ и погибла. Оставшихся и сдавшихся въ плѣнъ водворили на прежнее мѣсто; кое-кого разстрѣляли, кое-кого угнали дальше на сѣверъ, сюда же перебросили людей изъ Сегежи и Кеми. Начальникъ лагпункта не питалъ никакихъ иллюзій: ухлопаютъ и его, можетъ быть, и не въ порядкѣ возстанія, а такъ, просто изъ-за угла.
— Такъ что, вы понимаете, товарищъ, какая наша положенія. Положенія критическая и даже, правду говоря, вовсе хрѣновая... Ходятъ эти мужики, а что они думаютъ — всѣмъ извѣстно... Которые — такъ тѣ еще въ лѣсу оставшись. Напали на лѣсорубочную бригаду, охрану зарубили и съѣли...
— То-есть, какъ такъ съѣли?
— Да такъ, просто. Порѣзали на куски и съ собою забрали... А потомъ наши патрули по слѣду шли — нашли кострище, да кости. Что имъ больше въ лѣсу ѣсть-то?
Такъ, значитъ... Такъ... Общественное питаніе въ странѣ строящагося соціализма... Дожили, о, Господи... Нѣтъ, нужно обратно въ Медгору... Тамъ хоть людей не ѣдятъ...
Я пообѣдалъ въ вольнонаемной столовой, попытался было походить по лагпункту, но не выдержалъ... Дѣваться было рѣшительно некуда. Узналъ, что моторка идетъ назадъ въ три часа утра. Что дѣлать съ собою въ эти оставшіеся пятнадцать часовъ?
Мои размышленія прервалъ начальникъ лагпункта, проходившій мимо.
— А то поѣхали бы на участокъ, какъ у насъ тамъ лѣсныя работы идутъ...
Это была неплохая идея. Но на чемъ поѣхать? Оказывается, начальникъ можетъ дать мнѣ верховую лошадь. Верхомъ ѣздить я не умѣю, но до участка — что-то восемь верстъ — какъ-нибудь доѣду.
Черезъ полчаса къ крыльцу штаба подвели осѣдланную клячу. Кляча стала, растопыривъ ноги во всѣ четыре стороны и уныло повѣсивъ голову. Я довольно лихо сѣлъ въ сѣдло, дернулъ поводьями: ну-у... Никакого результата. Сталъ колотить каблуками. Какой-то изъ штабныхъ активистовъ подалъ мнѣ хворостину. Ни каблуки, ни хворостина не произвели на клячу никакого впечатлѣнія.
— Некормленая она, — сказалъ активистъ, — вотъ и иттить не хочетъ... Мы ее сичасъ разойдемъ.
Активистъ услужливо взялъ клячу подъ уздцы и поволокъ. Кляча пошла. Я изображалъ собою не то хана, коня котораго ведетъ подъ уздцы великій визирь — не то просто олуха. Лагерники смотрѣли на это умилительное зрѣлище и потихоньку зубоскалили. Такъ выѣхалъ я за ограду лагеря и проѣхалъ еще около версты. Тутъ моя тягловая сила забастовала окончательно стала на дорогѣ все въ той же понуро-растопыренной позѣ и перестала обращать на меня какое бы то ни было вниманіе. Я попытался прибѣгнуть кое къ какимъ ухищреніемъ — слѣзъ съ сѣдла, сталъ тащить клячу за собой. Кляча пошла. Потомъ сталъ идти съ ней рядомъ — кляча шла. Потомъ на ходу вскочилъ въ сѣдло — кляча стала. Я понялъ, что мнѣ осталось одно: тянуть своего буцефала обратно на лагпунктъ. Но — что дѣлать на лагпунктѣ?
Кляча занялась пощипываніемъ тощаго карельскаго мха и рѣдкой моховой травы, я сѣлъ на придорожномъ камнѣ, закурилъ папиросу и окончательно рѣшилъ, что никуда дальше на сѣверъ я не поѣду. Успенскому что-нибудь совру... Конечно, это слегка малодушно — но еще двѣ недѣли пилить свои нервы и свою совѣсть зрѣлищемъ этой безкрайней нищеты и забитости? — Нѣтъ, Богъ съ нимъ... Да и стало безпокойно за Юру — мало ли что можетъ случиться съ этой спартакіадой. И, если что случится — сумѣетъ ли Юра выкрутиться. Нѣтъ, съ ближайшей же моторкой вернусь въ Медгору...
Изъ за поворота тропинки послышались голоса. Показалась колонна лѣсорубовъ — человѣкъ съ полсотни подъ довольно сильнымъ вохровскимъ конвоемъ... Люди были такими же истощенными, какъ моя кляча, и такъ же, какъ она, еле шли, спотыкаясь, волоча ноги и почти не глядя ни на что по сторонамъ. Одинъ изъ конвоировъ, понявъ по неголодному лицу моему, что я начальство, лихо откозырнулъ мнѣ, кое-кто изъ лагерниковъ бросилъ на меня равнодушно-враждебный взглядъ — и колонна этакой погребальной процессіей прошла мимо... Мнѣ она напомнила еще одну колонну...
...Лѣтомъ 1921 года я съ женой и Юрой сидѣли въ одесской чрезвычайкѣ... Техника "высшей мѣры" тогда была организована такъ: три раза въ недѣлю около часу дня къ тюрьмѣ подъѣзжалъ окруженный кавалерійскимъ конвоемъ грузовикъ — брать на разстрѣлъ. Кого именно будутъ брать — не зналъ никто. Чудовищной тяжестью ложились на душу минуты — часъ, полтора — пока не лязгала дверь камеры, не появлялся "вѣстникъ смерти" и не выкликалъ: Васильевъ, Ивановъ... Петровъ... На буквѣ "С" тупо замирало сердце... Трофимовъ — ну, значитъ, еще не меня... Голодъ имѣетъ и свои преимущества: безъ голода этой пытки душа долго не выдержала бы...
Изъ оконъ нашей камеры была видна улица. Однажды на ней появился не одинъ, а цѣлыхъ три грузовика, окруженные цѣлымъ эскадрономъ кавалеріи... Минуты проходили особенно тяжело. Но "вѣстникъ смерти" не появлялся. Насъ выпустили на прогулку во дворъ, отгороженный отъ входного двора тюрьмы воротами изъ проржавленнаго волнистаго желѣза. Въ желѣзѣ были дыры. Я посмотрѣлъ.
Въ полномъ и абсолютномъ молчаніи тамъ стояла выстроенная прямоугольникомъ толпа молодежи человѣкъ въ 80 — выяснилось впослѣдствіи, что по спискамъ разстрѣлянныхъ оказалось 83 человѣка. Большинство было въ пестрыхъ украинскихъ рубахахъ, дивчата были въ лентахъ и монистахъ. Это была украинская просвита, захваченная на какой-то "вечорници". Самымъ страшнымъ въ этой толпѣ было ея полное молчаніе. Ни звука, ни всхлипыванія. Толпу окружало десятковъ шесть чекистовъ, стоявшихъ у стѣнъ двора съ наганами и прочимъ въ рукахъ. Къ завтрашнему утру эти только что начинающіе жить юноши и дѣвушки превратятся въ груду кроваваго человѣчьяго мяса... Передъ глазами пошли красные круги...
Сейчасъ, тринадцать лѣтъ спустя, эта картина была такъ трагически ярка, какъ если бы я видалъ ее не въ воспоминаніяхъ, а въ дѣйствительности. Только что прошедшая толпа лѣсорубовъ была, въ сущности, такой же обреченной, какъ и украинская молодежь во дворѣ одесской тюрьмы... Да, нужно бѣжать! Дальше на сѣверъ я не поѣду. Нужно возвращаться въ Медгору и всѣ силы, нервы, мозги вложить въ нашъ побѣгъ... Я взялъ подъ узды свою клячку и поволокъ ее обратно на лагпунктъ. Навстрѣчу мнѣ по лагерной улицѣ шелъ какой-то мужиченка съ пилой въ рукахъ, остановился, посмотрѣлъ на клячу и на меня и сказалъ: "доѣхали, мать его..." Да, дѣйствительно, доѣхали...
Начальникъ лагпункта предложилъ мнѣ другую лошадь, впрочемъ, безъ ручательства, что она будетъ лучше первой. Я отказался — нужно ѣхать дальше. "Такъ моторка же только черезъ день на сѣверъ пойдетъ". "Я вернусь въ Медгору и поѣду по желѣзной дорогѣ". Начальникъ лагпункта посмотрѣлъ на меня подозрительно и испуганно...
Было около шести часовъ вечера. До отхода моторки на югъ оставалось еще девять часовъ, но не было силъ оставаться на лагпунктѣ. Я взялъ свой рюкзакъ и пошелъ на пристань. Огромная площадь была пуста по-прежнему, въ загонѣ не было ни щепочки. Пронизывающій вѣтеръ развѣвалъ по вѣтру привѣшанныя на тріумфальныхъ аркахъ красныя полотнища. Съ этихъ полотнищъ на занесенную пескомъ безлюдную площадь и на мелкую рябь мертваго затона изливался энтузіазмъ лозунговъ о строительствѣ, о перековкѣ и о чекистскихъ методахъ труда...
Широкая дамба-плотина шла къ шлюзамъ. У берега дамбу уже подмыли подпочвенныя воды, гигантскіе ряжи выперлись и покосились, дорога, проложенная по верху дамбы, осѣла ямами и промоинами... Я пошелъ на шлюзы. Сонный "каналохранникъ" бокомъ посмотрѣлъ на меня изъ окна своей караулки, но не сказалъ ничего... У шлюзныхъ воротъ стояла будочка съ механизмами, но въ будочкѣ не было никого. Сквозь щели въ шлюзныхъ воротахъ звонко лились струйки воды. Отъ шлюзовъ дальше къ сѣверу шло все то же полотно канала, мѣстами прибрежныя болотца переливались черезъ края набережной и намывали у берега кучки облицовочныхъ булыжниковъ... И это у самаго Водораздѣла! Что же дѣлается дальше на сѣверѣ? Видно было, что каналъ уже умиралъ. Не успѣли затухнуть огненные языки энтузіазма, не успѣли еще догнить въ карельскихъ трясинахъ "передовики чекистскихъ методовъ труда", возможно даже, что послѣдніе эшелоны "бѣломорстроевцевъ" не успѣли еще доѣхать до БАМа — а здѣсь уже началось запустѣніе и умираніе...
И мнѣ показалось: вотъ если стать спиной къ сѣверу, то впереди окажется почти вся Россія: "отъ хладныхъ финскихъ скалъ", отъ Кремля, превращеннаго въ укрѣпленный замокъ средневѣковыхъ завоевателей, и дальше — до Днѣпростроя, Криворожья, Донбасса, до прокладки шоссе надъ стремнинами Ингуна (Сванетія), оросительныхъ работъ на Чуй-Вахшѣ, и еще дальше — по Турксибу на Караганду, Магнитогорскъ — всюду энтузіазмъ, стройка, темпы, "выполненіе и перевыполненіе" — и потомъ надо всѣмъ этимъ мертвое молчаніе.
Одинъ изъ моихъ многочисленныхъ и весьма разнообразныхъ пріятелей, передовикъ "Извѣстій", отстаивалъ такую точку зрѣнія: власть грабить насъ до копѣйки, изъ каждаго ограбленнаго рубля девяносто копѣекъ пропадаетъ впустую, но на гривенникъ власть все-таки что-то строитъ. Тогда — это было въ 1930 году — насчетъ гривенника я не спорилъ: да, на гривенникъ, можетъ быть, и остается. Сейчасъ, въ 1934 году, да еще на Бѣломорско-Балтійскомъ каналѣ, я усумнился даже и насчетъ гривенника. Больше того, — этотъ гривенникъ правильнѣе брать со знакомъ минусъ: Бѣломорско-Балтійскій каналъ точно такъ же, какъ Турксибъ, какъ сталинградскій тракторный, какъ многое другое, это пока не пріобрѣтеніе для страны, это — дальнѣйшая потеря крови на поддержаніе ненужныхъ гигантовъ и на продолженіе ненужныхъ производствъ. Сколько еще денегъ и жизней будетъ сосать этотъ заваливающійся каналъ?
Вечерѣло. Я пошелъ къ пристани. Тамъ не было никого. Я улегся на пескѣ, досталъ изъ рюкзака одѣяло, прикрылся имъ и постарался вздремнуть. Но сырой и холодный вѣтеръ съ сѣверо-востока, съ затона, холодилъ ноги и спину, забирался въ мельчайшія щели одежды. Я сдѣлалъ такъ, какъ дѣлаютъ на пляжахъ, — нагребъ на себя песку, согрѣлся и уснулъ.
Проснулся я отъ грубаго оклика. На блѣдно-зеленомъ фонѣ ночного неба вырисовывались фигуры трехъ вохровцевъ съ винтовками на изготовку. Въ рукахъ у одного былъ керосиновый фонарикъ.
— А ну, какого чорта ты тутъ разлегся?
Я молча досталъ свое командировочное удостовѣреніе и протянулъ его ближайшему вохровцу. "Мандатъ" на поѣздку до Мурманска и подпись Успенскаго умягчили вохровскій тонъ:
— Такъ чего же вы, товарищъ, тутъ легли, пошли бы въ гостиницу...
— Какую гостиницу?
— Да вотъ въ энту, — вохровецъ показалъ на длинное, стометровое зданіе, замыкавшее площадь съ сѣвера.
— Да я моторки жду.
— А когда она еще будетъ, можетъ, завтра, а можетъ, и послѣзавтра. Ну, вамъ тамъ, въ гостиницѣ, скажутъ...
Я поблагодарилъ, стряхнулъ песокъ со своего одѣяла и побрелъ въ гостиницу. Два ряда ея слѣпыхъ и наполовину повыбитыхъ оконъ смотрѣли на площадь сумрачно и негостепріимно. Я долго стучалъ въ дверь. Наконецъ, ко мнѣ вышла какая-то баба въ лагерномъ бушлатѣ.
— Мѣста есть?
— Есть мѣста, есть, одинъ только постоялецъ и живетъ сейчасъ. Я туда васъ и отведу — лампа-то у насъ на всю гостиницу одна.
Баба ввела меня въ большую комнату, въ которой стояло шесть топчановъ, покрытыхъ соломенными матрасами. На одномъ изъ нихъ кто-то спалъ. Чье-то заспанное лицо высунулось изъ подъ одѣяла и опять нырнуло внизъ.
Я, не раздѣваясь, легъ на грязный матрасъ и заснулъ моментально.
Когда я проснулся, моего сосѣда въ комнатѣ уже не было, его вещи — портфель и чемоданъ — лежали еще здѣсь. Изъ корридора слышались хлюпанье воды и сдержанное фырканье. Потомъ, полотенцемъ растирая на ходу грудь и руки, въ комнату вошелъ человѣкъ, въ которомъ я узналъ товарища Королева.
...Въ 1929-30 годахъ, когда я былъ замѣстителемъ предсѣдателя всесоюзнаго бюро физкультуры (предсѣдатель былъ липовый), Королевъ былъ въ томъ же бюро представителемъ ЦК комсомола. Группа активистовъ изъ того же ЦК комсомола начала кампанію за "политизацію физкультуры" — объ этой кампаніи я въ свое время разсказывалъ. "Политизація", конечно, вела къ полному разгрому физкультурнаго движенія — на этотъ счетъ ни у кого никакихъ сомнѣній не было, въ томъ числѣ и у иниціаторовъ этой "политизаціи". Въ качествѣ иниціаторовъ выдвинулась группа совершенно опредѣленной сволочи, которой на все въ мірѣ, кромѣ собственной карьеры, было рѣшительно наплевать. Впрочемъ, всѣ эти карьеристы и весь этотъ активъ имѣютъ нѣкую собственную Немезиду: карьера, въ случаѣ успѣха, стоитъ двѣ копѣйки, въ случаѣ неуспѣха, кончается "низовой работой" гдѣ-нибудь въ особо жизнеопасныхъ мѣстахъ, а то и концлагеремъ. Такъ случилось и съ данной группой.
Но въ тѣ времена — это было, кажется, въ концѣ 1929 года — активисты выиграли свой бой. Изъ двадцати членовъ бюро физкультуры противъ этой группы боролись только два человѣка: я и Королевъ. Я — потому, что физкультура нужна для того, чтобы задержать ходъ физическаго вырожденія молодежи, Королевъ — потому, что физкультура нужна для поднятія боевой способности будущихъ бойцовъ міровой революціи. Цѣли были разныя, но дорога до поры до времени была одна. Такъ въ нынѣшней Россіи совмѣщаются, казалось бы, несовмѣстимыя вещи: русскій инженеръ строитъ челябинскій тракторный заводъ въ надеждѣ, что продукція завода пойдетъ на нужды русскаго народа, коммунистъ строитъ тотъ же заводъ съ нѣсколько болѣе сложнымъ расчетомъ — его продукція будетъ пока что обслуживать нужды россійской базы міровой революціи до того момента, когда на 40.000 ежегодно выпускаемыхъ машинъ будетъ надѣто 40.000 бронированныхъ капотовъ, поставлены пулеметы, и сорокъ тысячъ танковъ, импровизированныхъ, но все же сорокъ тысячъ, пойдутъ организовывать раскулачиваніе и ГПУ въ Польшѣ, Финляндіи и гдѣ-нибудь еще, словомъ, пойдутъ раздувать міровой пожаръ — міровой пожаръ въ крови...
Такъ въ другой, менѣе важной и менѣе замѣтной, области дѣйствовалъ и я. Я организую спортъ — русскій или совѣтскій — какъ хотите. Въ томъ числѣ и стрѣлковый спортъ. Какъ будутъ использованы результаты моей работы? Для народа? Для углубленія "революціи въ одной странѣ"? Для "перерастанія россійской революціи въ міровую"? Я этого не зналъ, да, говоря честно, не знаю и до сихъ поръ. Вопросъ будетъ рѣшенъ въ какой-то послѣдній, самый послѣдній моментъ: и колоссальныя силы, аккумулированный на "командныхъ высотахъ", нынѣ экономически непроизводительныхъ, но все же колоссальныхъ, будутъ брошены: или на огромный, доселѣ невиданный, подъемъ страны, или на огромный, тоже доселѣ невиданный, міровой кабакъ?
Хвастаться тутъ нечего и нечѣмъ: то, что я сдѣлалъ для спорта — а сдѣлалъ многое — до настоящаго момента используется по линіи "углубленія революціи". Мои стадіоны, спортивные парки и прочее попали въ руки Динамо. Слѣдовательно, на нихъ тренируются Якименки, Радецкіе, Успенскіе. Слѣдовательно, объективно, внѣ зависимости отъ добрыхъ или недобрыхъ намѣреній моихъ, результаты моей работы — пусть и въ незначительной степени — укрѣпляютъ тотъ "мечъ пролетарской диктатуры", отъ котораго стономъ стонетъ вся наша страна...
Но въ 1929 году у меня были еще иллюзіи — трудно человѣку обойтись безъ иллюзій. Поэтому Королевъ, который нашелъ въ себѣ мужество пойти и противъ актива ЦК комсомола, сталъ, такъ сказать, моимъ соратникомъ и "попутчикомъ". Мы потерпѣли полное пораженіе. Я, какъ "незамѣнимый спецъ", выскочилъ изъ этой перепалки безъ особаго членовредительства — я уже разсказывалъ о томъ, какъ это произошло. Королевъ, партійный работникъ, замѣнимый, какъ стандартизованная деталь фордовскаго автомобиля, — исчезъ съ горизонта. Потомъ въ ВЦСПС приходила жена его и просила заступиться за ея нищую жилплощадь, изъ которой ее съ ребенкомъ выбрасывали на улицу. Отъ нея я узналъ, что Королевъ переброшенъ куда-то въ "низовку". Съ тѣхъ поръ прошло пять лѣтъ, и вотъ я встрѣчаю Королева въ водораздѣльскомъ отдѣлѣ ББК
ОГПУ.
ПОБѢДИТЕЛИ
Такъ мы съ горестно ироническимъ недоумѣніемъ осмотрѣли другъ друга: я — приподнявшись на локтѣ на своемъ соломенномъ ложѣ, Королевъ — нѣсколько растерянно опустивъ свое полотенце. Тридцатилѣтнее лицо Королева — какъ всегда, чисто выбритое — обогатилось рядомъ суровыхъ морщинъ, а на вискахъ серебрила сѣдина.
— Всѣ дороги ведутъ въ Римъ, — усмѣхнулся я.
Королевъ вздохнулъ, пожалъ плечами и протянулъ мнѣ руку...
— Я читалъ твою фамилію въ "Перековкѣ". Думалъ, что это твой братъ... Какъ ты попалъ?
Я коротко разсказалъ слегка видоизмѣненную исторію моего ареста, конечно, безъ всякаго упоминанія о томъ, что мы были арестованы за попытку побѣга. Королевъ такъ же коротко и еще менѣе охотно разсказалъ мнѣ свою исторію, вѣроятно, тоже нѣсколько видоизмѣненную по сравненію съ голой истиной. За сопротивленіе политизаціи физкультуры его вышибли изъ ЦК комсомола, послали на сѣверъ Урала вести культурно-просвѣтительную работу въ какую-то колонію безпризорниковъ. Безпризорники ткнули его ножомъ. Отлежавшись въ больницѣ, Королевъ былъ переброшенъ на хлѣбозаготовки въ "республику нѣмцевъ Поволжья". Тамъ ему прострѣлили ногу. Послѣ выздоровленія Королевъ очутился на Украинѣ по дѣламъ о разгонѣ и разгромѣ украинскихъ самостійниковъ. Какъ именно шелъ этотъ разгромъ — Королевъ предпочелъ не разсказывать, но въ результатѣ его Королеву "припаяли" "примиренчество" и "отсутствіе классовой бдительности" — это обвиненіе грозило исключеніемъ изъ партіи ... .
Для людей партійно-комсомольскаго типа исключеніе изъ партіи является чѣмъ-то среднимъ между гражданской смертью и просто смертью. Партійная, комсомольская, профсоюзная и прочая работа является ихъ единственной спеціальностью. Исключеніе изъ партіи закрываетъ какую бы то ни было возможность "работать" по этой спеціальности, не говоря уже о томъ, что оно рветъ всѣ наладившіяся общественныя связи. Человѣкъ оказывается выкинутымъ изъ правящаго слоя или, если хотите, изъ правящей банды, и ему нѣтъ никакого хода къ тѣмъ, которыми онъ вчера управлялъ. Получается нѣчто вродѣ outcast или, по русски, ни пава, ни ворона. Остается идти въ приказчики или въ чернорабочіе, и каждый сотоварищъ по новой работѣ будетъ говорить: ага, такъ тебѣ, сукиному сыну, и нужно... По естественному ходу событій такой outcast будетъ стараться выслужиться, "загладить свои преступленія передъ партіей" и снова попасть въ прежнюю среду. Но, неогражденный отъ массы ни наличіемъ нагана, ни круговой порукой правящей банды, немного онъ имѣетъ шансовъ пройти этотъ тернистый путь и остаться въ живыхъ... Вотъ почему многіе изъ исключенныхъ изъ партіи предпочитаютъ болѣе простой выходъ изъ положенія — пулю въ лобъ изъ нагана, пока этого нагана не отобрали вмѣстѣ съ партійнымъ билетомъ...
Но отъ "отсутствія классовой бдительности" Королевъ какъ-то отдѣлался и попалъ сюда, въ ББК, на "партійно-массовую работу" — есть и такая: ѣздитъ человѣкъ по всякимъ партійнымъ ячейкамъ и контролируетъ политическое воспитаніе членовъ партіи, прохожденіе ими марсистско-сталинской учебы, вліяніе ячейки на окружающая безпартійныя массы. Въ условіяхъ Бѣломорско-Балтійскаго лагеря, гдѣ не то, что партійныхъ, а просто вольнонаемныхъ было полтора человѣка на отдѣленіе, эта "работа" была совершеннѣйшимъ вздоромъ — о чемъ я и сказалъ Королеву.
Королевъ иронически усмѣхнулся.
— Не хуже твоей спартакіады.
— Въ качествѣ халтуры — спартакіада придумана совсѣмъ не такъ глупо.
— Я и не говорю, что глупо. Моя работа тоже не такъ глупа, какъ можетъ показаться. Вотъ пріѣхалъ сюда выяснять, чѣмъ было вызвано возстаніе...
— Тутъ и выяснять нечего...
Королевъ надѣлъ на себя рубаху и сталъ напяливать свою сбрую — поясъ и рамень съ наганомъ.
— Надо выяснять — не вездѣ же идутъ возстанія. Головка отдѣленія разворовала фонды питанія — вотъ заключенные и полѣзли на стѣнку...
— И за это ихъ отправили на тотъ свѣтъ...
— Ничего не подѣлаешь — авторитетъ власти... У заключенныхъ были другіе способы обжаловать дѣйствія администраціи...
Въ тонѣ Королева появились новыя для меня административныя нотки. Я недоумѣнно посмотрѣлъ на него и помолчалъ. Королевъ передернулъ плечами — неувѣренно и какъ бы оправдываясь.
— Ты начинаешь говорить, какъ передовица изъ "Перековки"... Ты вотъ въ Москвѣ, будучи въ ЦК комсомола, попытался "обжаловать дѣйствія" — что вышло?
— Ничего не подѣлаешь — революціонная дисциплина. Мы не вправѣ спрашивать руководство партіи — зачѣмъ оно дѣлаетъ то или это... Тутъ — какъ на войнѣ. Приказываютъ — дѣлай. А зачѣмъ — не наше дѣло...
Въ Москвѣ Королевъ въ такомъ тонѣ не разговаривалъ. Какія бы у него тамъ ни были точки зрѣнія — онъ ихъ отстаивалъ. Повидимому, "низовая работа" не легко ему далась... Снова помолчали.
— Знаешь что, — сказалъ Королевъ, — бросимъ эти разговоры. Я знаю, что ты мнѣ можешь сказать... Вотъ каналъ этотъ идіотскій построили... Все идетъ нѣсколько хуже, чѣмъ думали... А все-таки идетъ... И намъ приходится идти. Хочешь — иди добровольно, не хочешь — силой потянутъ. Что тутъ и говорить... — морщины на лицѣ Королева стали глубже и суровѣе. — Ты мнѣ лучше скажи, какъ ты самъ думаешь устраиваться здѣсь?
Я коротко разсказалъ болѣе или менѣе правдоподобную теорію моего дальнѣйшаго "устройства" въ лагерѣ — этого устройства мнѣ оставалось уже меньше мѣсяца. Королевъ кивалъ головой одобрительно.
— Главное — твоего сына нужно вытащить... Пріѣду въ Медгору — поговорю съ Успенскимъ... Надо бы ему къ осени отсюда изъяться... А тебя, если проведешь спартакіаду, — устроимъ инструкторомъ въ ГУЛАГѣ — во всесоюзномъ масштабѣ будешь работать...
— Я пробовалъ и во всесоюзномъ...
— Ну, что дѣлать? Зря мы тогда съ тобой сорвались. Нужно бы политичнѣе... Вотъ пять лѣтъ верчусь, какъ навозъ въ проруби... Понимаешь — жену жилищной площади въ Москвѣ лишили — вотъ это ужъ свинство.
— Почему ты ее сюда не выпишешь?...
— Сюда? Да я и недѣли на одномъ мѣстѣ не сижу — все въ разъѣздахъ. Да и не нужно ей всего этого видѣть.
— Никому этого не нужно видѣть...
— Неправильно. Коммунисты должны это видѣть. Обязаны видѣть. Чтобы знать, какъ оплачивается эта борьба... Чтобы умѣли жертвовать не только другими, а и собой... Да ты не смѣйся — смѣяться тутъ нечего... Вотъ — пустили, сволочи, пятьдесятъ первый полкъ на усмиреніе этого лагпункта — это ужъ преступленіе.
— Почему преступленіе?
— Нужно было мобилизовать коммунистовъ изъ Медгоры, изъ Петрозаводска... Нельзя пускать армію...
— Такъ вѣдь это — войска ГПУ.
— Да, войска ГПУ — а все-таки не коммунисты. Теперь въ полку броженіе. Одинъ комроты уже убитъ. Еще одно такое подавленіе — чортъ его знаетъ, куда полкъ пойдетъ... Разъ мы за это все взялись — на своихъ плечахъ и выносить нужно. Начали идти — нужно идти до конца.
— Куда идти?
— Къ соціализму... — въ голосѣ Королева была искусственная и усталая увѣренность. Онъ, не глядя на меня, сталъ собирать свои вещи.
— Скажи мнѣ, гдѣ тебя найти въ Медгорѣ. Я въ началѣ августа буду тамъ.
Я сказалъ, какъ меня можно было найти, и не сказалъ, что въ началѣ августа меня ни въ лагерѣ, ни вообще въ СССР найти по всей вѣроятности будетъ невозможно... Мы вмѣстѣ вышли изъ гостиницы. Королевъ навьючилъ свой чемоданъ себѣ на плечо.
— А хорошо бы сейчасъ въ Москву, — сказалъ онъ на прощанье. — Совсѣмъ тутъ одичаешь и отупѣешь...
Для одичанія и отупѣнія здѣсь былъ полный просторъ. Впрочемъ — этихъ возможностей было достаточно и въ Москвѣ. Но я не хотѣлъ возобновлять дискуссію, которая была и безцѣльна, и безперспективна. Мы распрощались. Представитель правящей партіи уныло поплелся къ лагпункту, согнувшись подъ своимъ чемоданомъ и сильно прихрамывая на правую ногу. "Низовая работа" сломала парня — и физически, и морально...
...Моторка уже стояла у пристани и въ ней, кромѣ меня, опять не было ни одного пассажира. Капитанъ снова предложилъ мнѣ мѣсто въ своей кабинкѣ и только попросилъ не разговаривать: опять заговорюсь, и на что-нибудь напоремся. Но мнѣ и не хотѣлось разговаривать. Можетъ быть, откуда-то изъ перспективы вѣковъ, sub speciae aeternitatis все это и приметъ какой-нибудь смыслъ, въ особенности для людей, склонныхъ доискиваться смысла во всякой безсмыслицѣ. Можетъ быть, тогда все то, что сейчасъ дѣлается въ Россіи, найдетъ свой смыслъ, уложится на соотвѣтствующую классификаціонную полочку и успокоитъ чью-то не очень ужъ мятущуюся совѣсть. Тогда историки опредѣлятъ мѣсто россійской революціи въ общемъ ходѣ человѣческаго прогресса, какъ они опредѣлили мѣсто татарскаго нашествія, альбигойскихъ войнъ, святошей инквизиціи, какъ они, весьма вѣроятно, найдутъ мѣсто и величайшей безсмыслицѣ міровой войны. Но... пока это еще будетъ. А сейчасъ — еще не просвѣщенкый свѣтомъ широкихъ обобщеній — видишь: никто, въ сущности, изъ всей этой каши ничего не выигралъ. И не выиграетъ. Исторія имѣетъ великое преимущество сбрасывать со счетовъ все то, что когда-то было живыми людьми и что сейчасъ превращается въ, скажемъ, удобренія для правнуковъ. Очень вѣроятно, что и безъ этакихъ удобреніи правнуки жили бы лучше дѣдовъ, тѣмъ болѣе, что и имъ грозить опасность превратиться въ удобренія — опять-таки для какихъ-то правнуковъ.
Товарищъ Королевъ, при его партійной книжкѣ въ карманѣ и при наганѣ на боку, тоже по существу уже перешелъ въ категорію удобренія. Еще, конечно, онъ кое-какъ рипается и еще говоритъ душеспасительныя слова о жертвѣ или о сотнѣ тысячъ жертвъ для безсмыслицы Бѣломорско-Балтійскаго канала. Если бы онъ нѣсколько болѣе былъ свѣдущъ въ исторіи, онъ, вѣроятно, козырнулъ бы дантоновскимъ: "революція — Сатурнъ, пожирающій своихъ дѣтей". Но о Сатурнѣ товарищъ Королевъ не имѣетъ никакого понятія. Онъ просто чувствуетъ, что революція жретъ своихъ дѣтей, впрочемъ, съ одинаковымъ аппетитомъ она лопаетъ и своихъ отцовъ. Сколько ихъ уцѣлѣло — этихъ отцовъ и дѣлателей революціи? Какой процентъ груза знаменитаго запломбированнаго вагона можетъ похвастаться хотя бы тѣмъ, что они въ сдѣланной ими же революціи ходятъ на свободѣ? И сколько дѣтей революціи, энтузіастовъ, активистовъ, Королевыхъ, вотъ такъ, согбясь къ прихрамывая, проходятъ свои послѣдніе безрадостные шаги къ могилѣ въ какой-нибудь ББК-овской трясинѣ? И сколько существуетъ въ буржуазномъ мірѣ карьеристовъ, энтузіастовъ, протестантовъ и лоботрясовъ, которые мечтаютъ о міровой революціи и которыхъ эта революція такъ же задавитъ и сгноитъ, какъ задавила и сгноила тысячи "отцовъ" и милліоны "дѣтей" великая россійская революція. Это — какъ рулетка. Люди идутъ на почти математически вѣрный проигрышъ. Но идутъ. Изъ милліоновъ — одинъ выиграетъ. Вѣроятно, выигралъ Сталинъ и еще около десятка человѣкъ... Можетъ быть, сотня... А всѣ эти Королевы, Чекалины, Шацы, Подмоклые и... Безсмыслица.
ПОБѢЖДЕННЫЕ
На пустой глади Повѣнецкаго затона, у самыхъ шлюзовъ стояли двѣ огромныя волжскаго типа баржи. Капитанъ кивнулъ въ ихъ направленіи головой.
— Бабъ съ ребятами понавезли. Чортъ его знаетъ, то ихъ выгружаютъ, то снова на баржи садятъ — дня уже три тутъ маринуютъ.
— А что это за бабы?
— Да раскулаченныя какія-то. Какъ слѣдуетъ не знаю, не пускаютъ къ нимъ.
Моторка обогнула обѣ баржи и пристала къ бревенчатой набережной. Я распрощался съ капитаномъ и вышелъ на высокую дамбу. За дамбой была небольшая луговина, покрытая, точно цвѣтами, яркими пятнами кумачевыхъ и ситцевыхъ рубахъ копошившейся на травѣ дѣтворы, женскихъ платковъ и кофтъ, наваленныхъ тутъ же добротныхъ кулацкихъ сундуковъ, расписанныхъ пестрыми разводами и окованныхъ жестью. Съ моей стороны — единственной стороны, откуда эта луговина не была окружена водой — угрюмо стояло десятка полтора вохровцевъ съ винтовками. Уже стоялъ медгорскій автобусъ съ тремя пассажирами — въ ихъ числѣ оказались знакомые. Я сдалъ имъ на храненіе свой рюкзакъ, досталъ свои поистинѣ незамѣнимыя папиросы и независимо, закуривая на ходу, прошелъ черезъ вохровскую цѣпь. Вохровцы покосились, посторонились, но не сказали ничего.
Я поднялся на дамбу. Одна баржа была биткомъ набита тѣмъ же пестрымъ цвѣтникомъ рубахъ и платковъ, другая стояла пустой. На обращенномъ къ луговинѣ скатѣ дамбы, гдѣ не такъ пронизывающе дулъ таежный вѣтеръ, сидѣло на своихъ сундукахъ, узлахъ, мѣшкахъ нѣсколько десятковъ бабъ, окруженныхъ ребятами поменьше. Остальная часть табора расположилась на луговинѣ....
Сорокалѣтняя баба въ плотной ватной кофтѣ и въ рваныхъ мужицкихъ сапогахъ сидѣла на краю въ компаніи какой-то старухи и дѣвочки лѣтъ десяти... Я подошелъ къ ней.
— Откуда вы будете?
Баба подняла на меня свое каменное, ненавидящее лицо.
— А ты у своихъ спрашивай, свои тебѣ и скажутъ.
— Вотъ я у своихъ и спрашиваю.
Баба посмотрѣла на меня съ той же ненавистью, молча отвернула окаменѣвшее лицо и уставилась на таборъ; старушка оказалась словоохотливѣе:
— Воронежскіе мы, родимый, воронежскіе... И курскіе есть, есть и курскіе, больше вотъ тамъ, на баржѣ. Сидимъ вотъ тута на холоду, на вѣтру, намаялись мы и — Господи! А скажи, родимый, отправлять-то насъ когда будутъ?
— А я, бабушка, не знаю, я тоже вродѣ васъ — заключенный.
Баба снова повернула ко мнѣ свое лицо:
— Арестантъ, значитъ?
— Да, арестантъ.
Баба внимательно осмотрѣла мою кожанку, очки, папиросу и снова отвернулась къ табору:
— Этакихъ мы знаемъ... Арестанты... Всѣ вы — каторжное сѣмя. При царѣ не вѣшали васъ...
Старуха испуганно покосилась на бабу и изсохшими птичьими своими руками стала оправлять платочекъ на головкѣ дѣвочки. Дѣвочка прильнула къ старухѣ, ежась то-ли отъ холода, то-ли отъ страха.
— Третьи сутки вотъ тутъ маемся... Хлѣба вчера дали по фунту, а сегодня ничего не ѣвши сидимъ... И намѣняли бы гдѣ — такъ солдаты не пускаютъ.
— Намѣнять здѣсь, бабушка, негдѣ — всѣ безъ хлѣба сидятъ...
— Ой, грѣхи, Господи, ой, грѣхи...
— Только чьи грѣхи-то — неизвѣстно, — сурово сказала баба, не оборачиваясь ко мнѣ. Старушка съ испугомъ и съ состраданіемъ посмотрѣла на нее.
— Чьи грѣхи — Господу одному и вѣдомо. Онъ, Праведный, все разсудитъ... Горя-то сколько выпито — ай, Господи Боже мой, — старушка закачала головой... — Вотъ съ весны такъ маемся, ребятъ-то сколько перемерло. — И, снизивъ свой голосъ до шепота, какъ будто рядомъ сидящая баба ничего не могла услышать, конфиденціально сообщила: — Вотъ у бабоньки-то этой двое померло. Эхъ, сказывали люди — на міру и смерть красна, а, вотъ ѣхали мы на баражѣ этой проклятущей, мрутъ ребятишки, какъ мухи, хоронить негдѣ, такъ, безъ панафиды, безъ христіанскаго погребенія — просто на берегъ, да въ яму.
Баба повернулась къ старушкѣ: "молчи ужъ" — голосъ ея былъ озлобленъ и глухъ.
— Почему это васъ съ весны таскаютъ?
— А кто его знаетъ, родимый? Мужиковъ-то нашихъ съ прошлой осени на высылку послали, насъ по веснѣ забрали, къ мужикамъ везутъ, на поселеніе то-есть, да, видно, потеряли ихъ, мужиковъ то нашихъ, вотъ такъ и возютъ... Тамъ, за озеромъ, пни мы корчевали, гдѣ поставили насъ песокъ копать, а то больше такъ на этой баражѣ и живемъ... Хоть бы Бога побоялись, крышу бы какую на баражѣ издѣлали, а то живемъ, какъ звѣри лѣсные, подъ вѣтромъ, подъ дождемъ... А не слыхалъ, родимый, куда мужиковъ-то нашихъ помѣстили...
Такъ называемые "вольно-ссыльныя поселенія", которыми завѣдывалъ "колонизаціонный отдѣлъ ББК", тянулись сравнительно узкой полосой, захватывая повѣнецкое и сегежское отдѣленія. Такихъ поселеній было около восьмидесяти. Отъ обычныхъ "лагерныхъ пунктовъ" они отличались отсутствіемъ охраны и пайка. ГПУ привозило туда ссыльныхъ крестьянъ — въ большинствѣ случаевъ съ семьями — давало "инструментъ" — топоры, косы, лопаты, по пуду зерна на члена семьи "на обзаведеніе" — и дальше предоставляло этихъ мужиковъ ихъ собственной участи.
Я очень жалѣю, что мнѣ не пришлось побывать ни въ одномъ изъ этихъ поселеній. Я видалъ ихъ только на картѣ "колонизаціоннаго отдѣла", въ его планахъ, проектахъ и даже фотографіяхъ... Но въ "колонизаціонномъ отдѣлѣ" сидѣла группа интеллигенціи того же типа, какая въ свое время сидѣла въ свирьскомъ лагерѣ. Я лишенъ возможности разсказать объ этой группѣ — такъ же, какъ и о свирьлаговской... Скажу только, что, благодаря ея усиліямъ, эти мужики попадали въ не совсѣмъ ужъ безвыходное положеніе. Тамъ было много трюковъ. По совершенно понятнымъ причинамъ я не могу о нихъ разсказывать даже и съ той весьма относительной свободой, съ какою я разсказываю о собственныхъ трюкахъ... Чудовищная физическая выносливость и работоспособность этихъ мужиковъ, та опора, которую они получали со стороны лагерной интеллигенціи — давали этимъ "вольно-ссыльнымъ" возможность какъ-то стать на ноги — или, говоря прозаичнѣе, не помереть съ голоду. Они занимались всякаго рода лѣсными работами — въ томъ числѣ и "по вольному найму" — для лагеря, ловили рыбу, снабжали лениградскую кооперацію грибами и ягодами, промышляли силковой охотой и съ невѣроятной быстротой приспособлялись къ непривычнымъ для нихъ условіямъ климата, почвы и труда.
Поэтому я сказалъ старушкѣ, что самое тяжелое для нихъ — уже позади, что ихнихъ мужиковъ рано или поздно разыщутъ и что на новыхъ мѣстахъ можно будетъ какъ-то устраиваться — плохо, но все же будетъ можно. Старушка вздохнула и перекрестилась.
— Охъ, ужъ далъ бы Господь... А что плохо будетъ, такъ гдѣ теперь хорошо? Что тамъ, что здѣсь — все одно — голодъ. Земля тутъ только чужая, холодная земля, что съ такой земли возьмешь?
— Въ этой землѣ — только могилы копать, — сурово сказала баба, не проявившая къ моимъ сообщеніямъ никакого интереса.
— Здѣсь надо жить не съ земли, а съ лѣса. Карельскіе мужики въ старое время богато жили.
— Да намъ ужъ все одно, гдѣ жить-то, родимый, абы только жить дали, не мучали бы народъ-то... А тамъ, хошь въ Сибирь, хошь куда. Да развѣ-жъ дадутъ жить... Мнѣ-то, родимый, что? Зажилась я, не прибираетъ Господь. А которымъ жить бы еще, да жить...
— Молчи ужъ, сколько разовъ просила тебя, — глухо сказала баба...
— Молчу, молчу, — заторопилась старуха. — А все — вотъ договорила съ человѣкомъ — легче стало: вотъ, говоритъ, не помремъ съ голоду-то, говоритъ, и здѣсь люди какъ-тось жили...
У пристани раздался рѣзкій свистокъ. Я оглянулся. Туда подошла новая группа Вохра — человѣкъ въ десять, а во главѣ ея шелъ кто-то изъ начальства.
— А ну, бабы, на баржу грузись, къ мужикамъ своимъ поѣдете, медовый мѣсяцъ справлять...
На начальственную шутку никто изъ вохровцевъ не улыбнулся. Группа ихъ подошла въ нашему биваку.
— А вы кто здѣсь такой? — подозрительно спросилъ меня командиръ.
Я равнодушно поднялъ на него взглядъ.
— Инструкторъ изъ Медгоры...
— А-а, — неопредѣленно протянулъ начальникъ и прошелъ дальше. — А ну, собирайсь живо, — прокатывался его голосъ надъ толпой бабъ и ребятишекъ. Въ толпѣ послышался дѣтскій плачъ.
— Ужо четвертый разъ грузимся — то съ баржи, то на баржу, — сказала старушка, суетливо подымаясь. — И чего они думаютъ, прости Господи...
Угрюмый вохровецъ подошелъ въ ней.
— Ну, давай, бабуся, подсоблю...
— Ой, спасибо, родименькій, ой, спасибо, всѣ руки себѣ понадрывали, развѣ бабьей силы хватитъ...
— Тоже — понабирали барахла, камни у тебя тута, что-ли? — сказалъ другой вохровецъ...
— Какіе тута камни, родимый, послѣднее вѣдь позабирали, послѣднее... Скажемъ, горшокъ какой — а безъ него какъ? Всю жизнь работали — а вотъ только и осталось, что на спинѣ вынесли...
— Работали — тоже, — презрительно сказалъ второй вохровецъ. — И за работу-то васъ въ лагерь послали?
Баба встала со своего сундука и протянула вохровцу свою широкую, грубую, мозолистую руку...
— Ты на руку-то посмотри — такія ты у буржуевъ видалъ?...
— Пошла ты къ чертовой матери, — сказалъ вохровецъ, — давай свою скрыню, бери за той конецъ.
— Ой, спасибо, родименькіе, — сказала старушка, — дай вамъ Господи, можетъ твоей матери кто поможетъ — вотъ какъ ты намъ...
Вохровецъ поднялъ сундукъ, запнулся за камень...
— Вотъ, мать его... понатыкали, сволочи, камней. — Онъ со свирѣпою яростью ткнулъ камень сапогомъ и еще разъ неистово выругался.
— О, что ты, родимый, развѣ же такъ про Господа можно?...
— Тутъ, мать его, не то что, Господа, а... Ну, давай, волокемъ, что ли...
Странная и пестрая толпа бабъ и дѣтей — всего человѣкъ въ пятьсотъ, съ криками, воемъ и плачемъ уже начала переливаться съ дамбы на баржу. Плюхнулся въ воду какой-то мѣшокъ, какая-то баба неистовымъ голосомъ звала какую-то затерявшуюся въ толпѣ Маруську, какую-то бабу столкнули со сходней въ воду. Вохровцы — кто угрюмо и молча, кто ругаясь и кляня все на свѣтѣ — то волокли всѣ эти бабьи узлы и сундуки, то стояли истуканами и исподлобья оглядывали этотъ хаосъ ГПУ-скаго полона.
ПОБѢГЪ
ОБСТАНОВКА
Къ Медвѣжьей Горѣ я подъѣзжалъ съ чувствомъ какой-то безотчетной нервной тревоги. Такъ — по логикѣ — тревожиться какъ будто и нечего, но въ нынѣшней Россіи вообще, а въ концлагерѣ — въ особенности — ощущенье безопасности — это рѣдкій и мимолетный сонъ, развѣваемый первымъ же шумомъ жизни...
Но въ Медвѣжьей Горѣ все было спокойно: и съ моей спартакіадой, и съ моими физкультурниками, и, главное, съ Юрой. Я снова угнѣздился въ баракѣ № 15, и этотъ баракъ, послѣ колоніи безпризорниковъ, послѣ водораздѣльскаго отдѣленія, послѣ ссыльныхъ бабъ у Повѣнца — этотъ баракъ показался этакимъ отчимъ домомъ, куда я, блудный сынъ, возвращаюсь послѣ скитаній по чужому міру.
До побѣга намъ оставалось шестнадцать дней. Юра былъ настроенъ весело и нѣсколько фаталистически. Я былъ настроенъ не очень весело и совсѣмъ ужъ не фаталистически: фатализма у меня вообще нѣтъ ни на копѣйку. Наша судьба будетъ рѣшаться въ зависимости не отъ того, повезетъ или не повезетъ, а въ зависимости отъ того — что мы проворонимъ и чего мы не проворонимъ. Отъ нашихъ собственныхъ усилій зависитъ свести элементъ фатума въ нашемъ побѣгѣ до какой-то quantite' negligeable, до процента, который практически можетъ и не приниматься во вниманіе. На данный моментъ основная опасность заключалась въ томъ, что третій отдѣлъ могъ догадываться о злонамѣренныхъ нашихъ стремленіяхъ покинуть пышные сады соціализма и бѣжать въ безплодныя пустыни буржуазіи. Если такія подозрѣнія у него есть, то здѣсь же, въ нашемъ баракѣ, гдѣ-то совсѣмъ рядомъ съ нами, торчитъ недреманное око какого-нибудь сексота.
Недреманныя очи этой публики никогда особымъ умомъ не блещуетъ, и если я это око расшифрую, то я ужъ какъ-нибудь обойду его. Поэтому наши послѣдніе лагерные дни были посвящены, по преимуществу, самому пристальному разглядыванію того, что дѣлается въ баракѣ.
Хотѣлось бы напослѣдокъ разсказать о жизни нашего барака. Это былъ одинъ изъ наиболѣе привиллегированныхъ бараковъ лагеря, и жизнь въ немъ была не хуже жизни привиллегированнаго комсомольскаго общежитія на сталиградскомъ тракторномъ, значительно лучше жизни московскаго студенческаго общежитія и совсѣмъ ужъ несравненно лучше рабочихъ бараковъ и землянокъ гдѣ-нибудь на новостройкахъ или на торфоразработкахъ — иногда и въ Донбассѣ...
Баракъ нашъ стоялъ въ низинкѣ, между управленческимъ городкомъ и берегомъ озера, былъ окруженъ никогда не просыхавшими лужами и болотцами, былъ умѣренно дырявъ и населенъ совсѣмъ ужъ неумѣреннымъ количествомъ клоповъ.
Публика въ баракѣ была какая-то перехожая. Люди прикомандировывались, пріѣзжали и уѣзжали: баракъ былъ такимъ же проходнымъ дворомъ, какъ всякое учрежденіе, общежитіе или предпріятіе — текучесть кадровъ. Болѣе или менѣе стабильнымъ элементомъ была администрація барака: староста, "статистикъ", двое дневальныхъ и кое кто изъ "актива" — всякаго рода "тройки": тройка по культурно-просвѣтительной работѣ, тройка по соцсоревдованію и ударничеству, тройка по борьбѣ съ побѣгами и прочее. Стабильнымъ элементомъ были и мы съ Юрой. Но мы въ баракѣ занимали совсѣмъ особое положеніе. Мы приходили и уходили, когда хотѣли, ночевали то на Вичкѣ, то въ баракѣ — словомъ пріучили барачную администрацію къ нашей, такъ сказать, экстерриторіальности. Но даже и эта экстерриторіальность не спасала насъ отъ всѣхъ прелестей совѣтской "общественной жизни".
Оффиціальный рабочій день начинался въ девять утра и кончался въ одиннадцать ночи съ трехчасовымъ перерывомъ на обѣдъ. Для того, чтобы получить талоны на обѣдъ и на хлѣбъ, по этимъ талонамъ получить и то, и другое, пообѣдать и вымыть посуду — требовались всѣ эти три часа. Послѣ одиннадцати наиболѣе привиллегированное сословіе лагерниковъ получало еще и ужинъ, непривиллегированное — ужина не получало. Во всякомъ случаѣ, для многополезной "общественной дѣятельности" и актива, и прочихъ обитателей лагеря "рабочій день" начинался въ двѣнадцать ночи. Въ двѣнадцать или въ половинѣ перваго предсѣдатель нашей культъ-тройки громогласно объявляетъ:
— Товарищи, сейчасъ будетъ докладъ товарища Солоневича о работѣ московскаго автозавода.
Активисты устремляются къ нарамъ подымать уже уснувшихъ обитателей барака. Товарищъ Солоневичъ слазить съ наръ и, проклиная свою судьбу, доклады, культработу и активистовъ, честно старается вложить въ 10-15 минутъ все, что полагается сказать объ АМО. Никто товарища Солоневича, конечно, и не думаетъ слушать — кромѣ развѣ актива. Сонныя лица маячатъ надъ нарами, босыя нога свѣшиваются съ наръ. Докладъ конченъ. "Вопросы есть"? — Какіе тамъ вопросы — людямъ скорѣе бы заснуть. Но культъ-тройка хочетъ проявить активность. "А скажите, товарищъ докладчикъ, какъ поставлено на заводѣ рабочее изобрѣтательство". Охъ, еще три минуты. Сказалъ. "А, скажите, товарищъ докладчикъ"...
Но товарищъ Солоневичъ политическаго капитала зарабатывать не собирается и сокращеніе срока заключѣнія его никакъ не интересуетъ. Поэтому на третій вопросъ товарищъ Солоневичъ отвѣчаетъ: "Не знаю; все, что зналъ, разсказалъ"... А какой-нибудь докладчикъ изъ бывшихъ комсомольцевъ или коммунистовъ на тему "революціонный подъемъ среди народовъ востока" будетъ размусоливать часа два-три. Революціоннаго подъема на востокѣ — лагерникамъ какъ разъ и не хватало, особенно — ночью.
Всѣми этакими культурно-просвѣтительными мѣропріятіями завѣдывалъ въ нашемъ баракѣ пожилой петербугскій бухгалтеръ со сладкой фамиліей Анютинъ — толстовецъ, вегетаріанецъ и человѣкъ безтолковый. У меня относительно него было два предложенія: а) онъ дѣйствуетъ, какъ дѣйствуетъ большинство лагернаго актива, въ нелѣпомъ расчетѣ на честность власти, на то, что она сдерживаетъ свои обѣщанія. Онъ-де пять лѣтъ будетъ изъ кожи лѣзть вонъ, надрываться на работѣ, на безсонныхъ ночахъ, проведенныхъ за расписываніемъ никому ненужной стѣнной газеты, составленіемъ плановъ и отчетовъ по культработѣ и пр. пр. — и за это за все ему изъ семи лѣтъ его срока — два года скинутъ. Расчетъ этотъ неправиленъ ни съ какой стороны. За эти пять лѣтъ онъ очень рискуетъ получить прибавку къ своему основному сроку — за какой-нибудь допущенный имъ идеологическій перегибъ или недогибъ. За эти же пять лѣтъ — если онъ все время изъ кожи будетъ лѣзть вонъ — онъ станетъ окончательнымъ инвалидомъ — и тогда, только тогда, власть отпуститъ его на волю помирать, гдѣ ему вздумается. И, наконецъ, сокращеніе срока добывается вовсе не "честнымъ соціалистическимъ трудомъ", а исключительно большимъ или меньшимъ запасомъ изворотливости и сообразительности. Этими пороками Анютинъ не страдалъ. Вся его игра — была совсѣмъ впустую. И поэтому возникло второе предположеніе: Анютинъ нѣкоимъ образомъ прикомандированъ въ баракъ для спеціальнаго наблюденія за мною и Юрой — ни мнѣ, ни Юрѣ онъ со своей культработой не давалъ никакого житья. Я долгое время и съ большимъ безпокойствомъ присматривался къ Анютину, пока на "субботникахъ" (въ лагерѣ называютъ — "ударникахъ") не выяснилъ съ почти окончательной увѣренностью: Анютинымъ двигаютъ безтолковость и суетливость — отличительныя свойства всякаго активиста: безъ суетливости — туда не пролѣзешь, а при наличіи хоть нѣкоторой толковости — туда и лѣзть незачѣмъ...
Въ свой планъ работы Анютинъ всадилъ и такой пунктъ: разбить цвѣтники у нашего барака — вотъ поистинѣ однихъ цвѣтовъ намъ не хватало для полноты нашей красивой жизни, ужъ хоть картошку бы предложилъ посадить...
"Субботникъ" или "ударникъ" — это работа, выполняемая въ порядкѣ общественной нагрузки въ свободное время. Въ лагерѣ это свободное время бываетъ только въ выходные дни. Три выходныхъ дня семьдесятъ человѣкъ нашего барака ковырялись надъ пятью грядками для будущихъ цвѣтовъ: здѣсь я наблюдалъ соціалистическій трудъ въ крайнемъ выраженіи всего его великолѣпія: работы тамъ было одному человѣку на день-полтора. Но, въ виду полной безсмысленности всей этой затѣи люди работали, какъ дохлыя мухи, лопатъ не хватало, порядка не было, и когда въ двѣсти десять рабочихъ дней было сдѣлано пять грядокъ, то выяснилось: цвѣточныхъ сѣмянъ нѣтъ и въ заводѣ. Время же для посадки картошки было слишкомъ позднее. И тогда я сказалъ Анютину: ну, ужъ теперь-то я продерну его въ "Перековкѣ" за "безхозяйственную растрату двухсотъ десяти рабочихъ дней". Анютинъ перепугался смертельно, и это меня успокоило: если бы онъ былъ сексотомъ, то ни "Перековки", ни "безхозяйственности" бояться было бы ему нечего.
Впрочемъ, несмотря на свою активность, а можетъ быть, и вслѣдствіе ея, Анютинъ скоро попалъ въ ШИЗО: вышелъ погулять за предѣлы лагерной черты и напоролся на какого-то активиста изъ вохровцевъ. Анютинъ попалъ въ одну камеру съ группой туломскихъ инженеровъ, которые еще зимой задумали бѣжать въ Финляндію и уже около полугода ждали разстрѣла... Ихъ жены были арестованы въ Петербургѣ и Москвѣ, и шло слѣдствіе: не оказывали ли онѣ своимъ мужьямъ помощи въ дѣлѣ подготовки побѣга... Инженеровъ было, кажется, шесть или семь человѣкъ, люди, по всей вѣроятности, были неглупые, и ихъ судьба висѣла надъ нами какимъ-то страшнымъ предостереженіемъ.
Помню, что когда-то, около этого времени, яркимъ лѣтнимъ днемъ я сидѣлъ въ пустомъ почти баракѣ: ко мнѣ подошелъ Юра и протянулъ мнѣ номеръ "Правды".
— Хочешь полюбопытствовать? — въ голосѣ его было что-то чуть-чуть насмѣшливое. Онъ показалъ мнѣ кѣмъ-то отчеркнутое жирнымъ краснымъ карандашемъ. "Постановленіе Совнаркома СССР". Въ немъ было: за попытку побѣга заграницу — объявленіе внѣ закона и безусловный разстрѣлъ; для военныхъ — тотъ же разстрѣлъ и ссылка семьи "въ отдаленнѣйшія мѣста Союза".
Мы посмотрѣли другъ на друга.
— Подумаешь — напугали! — сказалъ Юра.
— Не мѣняетъ положенія, — сказалъ я.
— Я думаю, — Юра презрительно пожалъ плечами...
Больше объ этомъ постановленіи у насъ съ Юрой никакого "обмѣна мнѣній" не было. Нашихъ плановъ оно, дѣйствительно, ни въ какой степени не мѣняло. Но потомъ я не разъ думалъ о томъ, какое свидѣтельство о бѣдности выдала совѣтская власть и себѣ, и своему строю, и своей арміи.
Представьте себѣ любое въ мірѣ правительство, которое въ мирное время объявило бы urbi et orbi: для того, чтобы поддерживать на должномъ уровнѣ патріотизмъ команднаго состава нашей арміи, мы будемъ разстрѣливать тѣхъ офицеровъ, которые попытаются оставить подвластную намъ страну, и ссылать "въ отдаленнѣйшія мѣста" — то-есть на вѣрную смерть — ихъ семьи. Что стали бы говорить о патріотизмѣ французской арміи, если бы французское правительство пустило бы въ міръ такую позорную угрозу?..
А эта угроза была сдѣлана всерьезъ. Большевики не очень серьезно относятся къ своимъ обѣщаніямъ, но свои угрозы они по мѣрѣ технической возможности выполняютъ и перевыполняютъ... Эта угроза ни въ какой степени не мѣняла ни нашихъ намѣреній, ни нашихъ плановъ, но она могла указывать на какой-то крупный побѣгъ — по всей вѣроятности, по военной линіи — и, слѣдовательно, да усиленіе сыска и охраны границъ... Снова стало мерещиться "недреманное око", снова стали чудиться сексоты во всѣхъ окружающихъ...
И въ эти дни въ нашемъ баракѣ появился новый дневальный; я не помню сейчасъ его фамиліи. Вмѣстѣ съ нимъ въ нашемъ баракѣ поселились и двое его дѣтей: дѣвочка лѣтъ десяти и мальчикъ лѣтъ семи. Юра, какъ великій спеціалистъ въ дѣлѣ возни со всякаго рода дѣтворой, вошелъ съ этими дѣтишками въ самую тѣсную дружбу. Дѣтей этихъ подкармливалъ весь баракъ: на нихъ пайка не полагалось... Я же время отъ времени ловилъ на себѣ взглядъ дневальнаго — мрачный и пронзительный, какъ будто этимъ взглядомъ дневальный хотѣлъ докопаться до самой сущности моей, до самыхъ моихъ сокровенныхъ мыслей... Становилось жутковато... Я перебиралъ въ памяти всѣ слова, интонаціи, жесты Подмоклаго, Гольмана, Успенскаго: нѣтъ, ничего подозрительнаго. Но вѣдь эта публика, при ея-то квалификаціи, никакого подозрѣнія ни однимъ жестомъ не проявитъ. А этотъ нехитрый мужиченко приставленъ слѣдить — слѣдитъ неумѣло, но слѣжка есть: какъ воровато отводитъ онъ глаза въ сторону, когда я ловлю его настороженный взглядъ. Да, слѣжка есть. Что дѣлать?
Бѣжать сейчасъ же — значитъ, подвести Бориса. Написать ему? Но если за нами есть слѣжка, то никакого письма Борисъ просто на просто не получитъ. Нужно было придумать какой-то рѣзкій, для всѣхъ неожиданный поворотъ отъ всѣхъ нашихъ плановъ, рѣзкій бросокъ въ какую-то никѣмъ непредвидѣнную сторону... Но — въ какую сторону? Былъ наскоро, начерно придуманъ такой планъ. Юра идетъ въ лѣсъ къ нашему продовольственному складу. Я увязываюсь съ динамовцами покататься по озеру на моторной лодкѣ — обычно на этой лодкѣ двое чиновъ третьяго отдѣла выѣзжали на рыбную ловлю. Подманю ихъ къ берегу противъ нашего склада, ликвидирую обоихъ и попаду къ Юрѣ и къ складу въ моментъ, котораго третій отдѣлъ предвидѣть не сможетъ, и съ оружіемъ, взятымъ у ликвидированныхъ чекистовъ. Потомъ мы двигаемся на моторкѣ на югъ и, не доѣзжая устья рѣки Суны, высаживаемся на берегъ въ уже знакомыхъ намъ по моей развѣдкѣ и по нашему первому побѣгу мѣстахъ. Весь этотъ планъ висѣлъ на волоскѣ. Но другого пока не было. Стали строить и другіе планы. Наше строительство было прервано двумя вещами.
Первая — это было письмо Бориса. Изъ Свирьскаго лагеря пріѣхалъ нѣкій дядя, разыскалъ меня въ баракѣ, началъ говорить о пятомъ и о десятомъ, оставляя меня въ тревожномъ недоумѣніи относительно смысла и цѣли этихъ нелѣпыхъ разорванныхъ фразъ, ускользающей тематики, безпокойнаго блеска въ глазахъ. Потомъ мы вышли изъ барака на свѣтъ Божій, дядя всмотрѣлся въ меня и облегченно вздохнулъ: "ну, теперь я и безъ документовъ вижу, что вы братъ Бориса Лукьяновича" (мы оба очень похожи другъ на друга, и посторонніе люди насъ часто путаютъ)... Человѣкъ досталъ изъ двойной стѣнки берестовой табакерки маленькую записочку:
— Вы пока прочтите, а я въ сторонкѣ посижу.
Записка была оптимистична и лаконична. Въ ней за обычнымъ письмомъ былъ нашъ старинный, нехитрый, но достаточно остроумный и ни разу чекистами не расшифрованный шифръ. Изъ шифрованной части записки явствовало: дата побѣга остается прежней, никакъ не раньше и не позже. До этой даты оставалось не то восемь, не то девять дней. Измѣнить ее для Бориса уже технически было невозможно — развѣ какая-нибудь ужъ очень счастливая случайность... Изъ разспросовъ выяснилось: Борисъ работаетъ въ качествѣ начальника санитарной части. Это — должность, на которой человѣку нѣтъ покоя ни днемъ, ни ночью: его требуютъ всѣ и во всѣ стороны, и побѣгъ Бориса будетъ обнаруженъ черезъ нѣсколько часовъ; вотъ почему Борисъ такъ настойчиво указываетъ на жесткій срокъ: 12 часовъ дня 28-го іюля. Въ остальномъ у Бориса все въ порядкѣ: сытъ, тренированъ, посылки получаетъ, настроеніе оптимистичное и энергичное.
Уже потомъ, здѣсь, въ Гельсингфорсѣ, я узналъ, какъ и почему Борисъ попалъ изъ Подпорожья въ Лодейное Поле. Изъ его санитарнаго городка для слабосильныхъ, выздоравливающихъ и инвалидовъ ничего не вышло: этотъ городокъ постепенно вовсе перестали кормить; тысячи людей вымерли, остальныхъ куда-то раскассировали; Бориса перевели въ Лодейное Поле — столицу Свирьскаго лагеря ОГПУ... Стало тревожно за Бориса: побѣгъ изъ Лодейнаго Поля былъ значительно труднѣе побѣга изъ Подпорожья: нужно будетъ идти изъ крупнаго лагернаго центра, какъ-то переправиться черезъ Свирь, идти по очень населенной мѣстности, имѣя въ запасѣ очень немного часовъ, свободныхъ отъ преслѣдованія... Это, въ частности, значило, что какой-то планъ Борисомъ уже разработанъ до мельчайшихъ деталей и всякое измѣненіе срока могло бы перевернуть вверхъ дномъ всѣ его планы и всю его подготовку. Что дѣлать?
Мои мучительныя размышленія были прерваны самимъ дневальнымъ.
Какъ-то днемъ я пришелъ въ нашъ баракъ. Онъ былъ абсолютно пусть. Только у дверей сидѣлъ въ понурой своей позѣ нашъ дневальный, онъ посмотрѣлъ на меня совсѣмъ ужъ пронизывающимъ взоромъ. Я даже поежился: вотъ сукинъ сынъ...
Думалъ напиться чаю. Кипятку не было. Я вышелъ изъ барака и спросилъ дневальнаго, когда будетъ кипятокъ.
— Да я сейчасъ сбѣгаю и принесу.
— Да зачѣмъ же вамъ, я самъ могу пойти.
— Нѣтъ, ужъ дозвольте мнѣ, потому какъ и у меня къ вамъ просьба есть.
— Какая просьба?
— Да ужъ я вамъ послѣ...
Дневальный принесъ кипятокъ. Я досталъ изъ нашего "неприкзапа" — неприкосновеннаго запаса для побѣга — два куска сахара. Налили чайку.
Дневальный вдругъ всталъ изъ-за стола, пошелъ къ своимъ нарамъ, что-то поковырялся тамъ и принесъ мнѣ помятое, измазанное письмо въ конвертѣ изъ оберточной бумаги.
— Это — отъ жены моей... А самъ я — неграмотный...
— Никому не показывалъ, совѣстно и показывать... Ну, должно, въ цензурѣ прочли... Такъ я къ вамъ, какъ къ попу, прочитайте, что тутъ есть написанное...
— Такъ чего-же вы стѣсняетесь, если не знаете, что тутъ написано?
— Знать-то, не знаю, а догадка есть. Ужъ вы прочитайте, только что-бъ какъ на исповѣди — никому не говорить.
Прочитать было трудно. Не думаю, чтобы и въ цензурѣ у кого-нибудь хватило терпѣнія прочесть это странное измазанное, съ расплывшимися на ноздреватой бумагѣ каракулями, письмо... Передать его стиль невозможно. Трудно вспомнить этотъ странный переплетъ условностей сельской вѣжливости, деталей колхозной жизни, блестокъ личной трагедіи авторши письма, тревоги за дѣтей, которыя остались при ней, и за дѣтей, которыя поѣхали "кормиться" къ мужу въ концлагерь, и прочаго и прочаго. Положеніе же дѣлъ сводилось къ слѣдующему:
Предсѣдатель колхоза долго и упорно подъѣзжалъ къ женѣ моего дневальнаго. Дневальный засталъ его въ сараѣ на попыткѣ изнасилованія, и предсѣдатель колхоза былъ избить. За террористическій актъ противъ представителя власти дневальнаго послали на десять лѣтъ въ концентраціонный лагерь. Четыре — онъ здѣсь уже просидѣлъ. Посылалъ женѣ сухари, не съѣдалъ своего пайковаго сахара, продавалъ свою пайковую махорку, изъ шести оставшихся на волѣ дѣтей двое все-таки умерло. Кто-то изъ сердобольнаго начальства устроилъ ему право на жительство съ семьей, онъ выписалъ къ себѣ вотъ этихъ двухъ ребятишекъ: въ лагерѣ ихъ все-таки кормили. Двое остались на волѣ. Смыслъ же письма заключался въ слѣдующемъ: къ женѣ дневальнаго подъѣзжаетъ новый предсѣдатель колхоза, "а еще кланяется вамъ, дорогой нашъ супругъ, тетенька Марья совсѣмъ помирающе, а Митенька нашъ лежитъ ножки распухши и животикъ раздувши, а предсѣдатель трудодней не даетъ... И Господомъ Богомъ прошу я васъ, дорогой мой супругъ, благословите податься, безъ вашей воли хошь помру, а дѣтей жалко, а предсѣдатель лапаетъ, а трудодней не даетъ..."
Дневальный уставился глазами въ столъ... Я не зналъ, что и сказать... Что тутъ скажешь?.. "Вотъ какое дѣло, — тихо сказалъ дневальный, — съ такимъ письмомъ, къ кому пойдешь, а сердце чуяло, вотъ ужъ судьба"...
У меня мелькнула мысль — пойти бы къ Успенскому, показать ему это письмо, уцѣпить его за мужское самолюбіе или какъ-нибудь иначе... Можетъ быть, было бы можно какъ-нибудь нажать на соотвѣтствующій районный исполкомъ... Но я представилъ себѣ конкретную банду деревенскихъ "корешковъ". Ванька въ колхозѣ, Петька въ милиціи и пр. и пр. Кто пойдетъ изъ "района" защищать женскія права какой-то безвѣстной деревенской бабы, кто и что сможетъ раскопать въ этой круговой порукѣ? Просто бабу загрызутъ вразъ со всѣми ея ребятами...
— Такъ ужъ отпишите, — глухо сказалъ дневальный — отпишите, пусть... подается... — По его бородѣ текли крупныя слезы...
Въ нашей путаной человѣческой жизни вещи устроены какъ-то особо по глупому: вотъ прошла передо мною тяжелая, безвыходная, всамдѣлишняя человѣческая трагедія. Ну, конечно, было сочувствіе къ судьбѣ этого рязанскаго мужиченки, тѣмъ болѣе острое, что его судьба была судьбой милліоновъ, но все-же было и великое облегченіе — кошмаръ недреманнаго ока разсѣялся, никакихъ мало-мальски подозрительныхъ симптомовъ слѣжки ни съ какой стороны не было видно. Подъ диктовку дневальнаго я слалъ поклоны какимъ-то кумамъ и кумамъ, въ рамкѣ этихъ поклоновъ и хозяйственныхъ совѣтовъ было вставлено мужнино разрѣшеніе "податься"; дневальный сидѣлъ съ каменнымъ лицомъ, по морщинамъ котораго молча скатывались крупныя слезы, а вотъ на душѣ все же было легче, чѣмъ полчаса тому назадъ... Вспомнился Маяковскій: "для веселія планета наша плохо оборудована". Да, плохо оборудована. И не столько планета, сколько самъ человѣкъ: изо всѣхъ своихъ силъ портитъ жизнь — и себѣ, и другимъ... Думаю, что Творецъ, создавая человѣка на шестой день творенія, предшествующими днями былъ нѣсколько утомленъ...
ПОИСКИ ОРУЖІЯ
Для побѣга было готово все — кромѣ одного: у насъ не было оружія. Въ наши двѣ первыя попытки — въ 1932 и 1933 году — мы были вооружены до зубовъ. У меня былъ тяжелый автоматическій дробовикъ-браунингъ 12-го калибра, у Юры — такого же калибра двухстволка. Патроны были снаряжены усиленными зарядами пороха и картечью нашего собственнаго изобрѣтенія, залитой стеариномъ. По нашимъ приблизительнымъ подсчетамъ и пристрѣлкамъ такая штуковина метровъ на сорокъ и медвѣдя могла свалить съ ногъ. У Бориса была его хорошо пристрѣлянная малокалиберная винтовка. Вооруженные этакимъ способомъ, мы могли не бояться встрѣчи ни съ чекистскими заставами, ни съ патрулемъ пограничниковъ. Въ томъ мало вѣроятномъ случаѣ, если бы мы ихъ встрѣтили, и въ томъ, еще менѣе вѣроятномъ случаѣ, если бы эти чекисты рискнули вступить въ перестрѣлку съ хорошо вооруженными людьми, картечь въ чащѣ карельскаго лѣса давала бы намъ огромныя преимущества передъ трехлинейками чекистовъ...
Сейчасъ мы были безоружны совсѣмъ. У насъ было по ножу — но это, конечно, не оружіе. Планы же добычи оружія — восходили еще ко временамъ Погры, и — по всей обстановкѣ лагерной жизни — всѣ они были связаны съ убійствомъ. Они строились "въ запасъ" или, какъ говорятъ въ Россіи, "въ засолъ": оружіе нужно было и слѣдовало его раздобыть за двѣ-три недѣли до побѣга — иначе при любой переброскѣ и рискъ убійства, и рискъ храненія оружія пошелъ бы впустую. Когда насъ съ Юрой перебросили въ Медвѣжью Гору и когда я получилъ увѣренность въ томъ, что отсюда насъ до самаго побѣга никуда перебрасывать не будутъ — я еще слишкомъ слабъ былъ физически, чтобы рискнуть на единоборство съ парой вохровцевъ — вохровцы ходятъ всегда парами, и всякое вооруженное населеніе лагеря предпочитаетъ въ одиночку не ходить... Потомъ настали бѣлыя ночи. Шатавшіеся по пустыннымъ и свѣтлымъ улицамъ вохровскіе патрули были совершенно недоступны для нападенія. Наше вниманіе постепенно сосредоточилось на динамовскомъ тирѣ.
Въ маленькой комнатушкѣ при этомъ тирѣ жили: инструкторъ стрѣлковаго спорта Левинъ и занятный сибирскій мужичекъ — Чуминъ, служившій сторожемъ тира и чѣмъ-то вродѣ егеря у Успенскаго, — глухой, неграмотный, таежный мужичекъ, который лѣсъ, звѣря, воду и рыбу зналъ лучше, чѣмъ человѣческое общество. Время отъ времени Чуминъ приходилъ ко мнѣ и спрашивалъ: "ну, что въ газетахъ сказываютъ — скоро война будетъ?" И, выслушавъ мой отвѣтъ, разочарованно вздыхалъ: "Вотъ, Господи ты, Боже мой — ни откуда выручки нѣтъ"... Впрочемъ — для себя Чуминъ выручку нашелъ: ограбилъ до нитки динамовскій тиръ — и исчезъ на лодкѣ куда-то въ тайгу, такъ его и не нашли.
Левинъ былъ длиннымъ, тощимъ, нелѣпымъ парнемъ лѣтъ 25-ти. Вся его нескладная фигура и мечтательные семитическіе глаза никакъ не вязались со столь воинственной страстью, какъ стрѣлковый спортъ... По вечерамъ онъ аккуратно нализывался въ динамовской компаніи до полнаго безчувствія, по утрамъ онъ жаловался мнѣ на то, что его стрѣлковыя достиженія все таютъ и таютъ.
— Такъ бросьте пить...
Левинъ тяжело вздыхалъ.
— Легко сказать. Попробуйте вы отъ такой жизни не пить. Все равно тонуть — такъ лучше ужъ въ водкѣ, чѣмъ въ озерѣ...
У Левина въ комнатушкѣ была цѣлая коллекція оружія — и собственнаго, и казеннаго. Тутъ были и винтовки, и двустволка, и маузеръ, и парабеллюмъ, и два или три нагана казеннаго образца, и складъ патроновъ для тира. Окна и тира, и комнаты Левина были забраны тяжелыми желѣзными рѣшетками; у входа въ тиръ всегда стоялъ вооруженный караулъ. Днемъ Левинъ все время проводилъ или въ тирѣ, или въ своей комнатушкѣ; на вечеръ комнатушка запиралась, и у ея входа ставился еще одинъ караульный. Къ утру Левинъ или самъ приволакивался домой, или чаще его приносилъ Чуминъ. Въ этомъ тирѣ проходили свой обязательный курсъ стрѣльбы всѣ чекисты Медвѣжьей горы. Левинская комнатушка была единственнымъ мѣстомъ, откуда мы могли раздобыть оружіе. Никакихъ другихъ путей видно не было.
Планъ былъ выработанъ по всѣмъ правиламъ образцоваго детективнаго романа. Я приду къ Левину. Ухлопаю его ударомъ кулака или какъ-нибудь въ этомъ родѣ — неожиданно и неслышно. Потомъ разожгу примусъ, туго накачаю его, разолью по столу и по полу поллитра денатурата и нѣсколько литровъ керосина, стоящихъ рядомъ тутъ же, захвачу маузеръ и парабеллюмъ, зарою ихъ въ песокъ въ концѣ тира и въ однихъ трусахъ, какъ и пришелъ, пройду мимо караула.
Минутъ черезъ пять-десять взорвется примусъ, одновременно съ нимъ взорвутся банки съ чернымъ охотничьимъ порохомъ, потомъ начнутъ взрываться патроны. Комнатушка превратится въ факелъ...
Такая обычная исторія: взрывъ примуса. Совѣтское производство. Самый распространенный видъ несчастныхъ случаевъ въ совѣтскихъ городахъ. Никому ничего и въ голову не придетъ.
Вопросъ о моемъ моральномъ правѣ на такое убійство рѣшался для меня совсѣмъ просто и ясно. Левинъ обучаетъ палачей моей страны стрѣлять въ людей этой страны, въ частности, въ меня, Бориса, Юру. Тотъ фактъ, что онъ, какъ и нѣкоторые другіе "узкіе спеціалисты", не отдаетъ себѣ яснаго отчета — какому объективному злу или объективному добру служить его спеціальность, въ данныхъ условіяхъ никакого значенія не имѣетъ. Левинъ — одинъ изъ винтиковъ гигантской мясорубки. Ломая Левина, я ослабляю эту мясорубку. Чего проще?
Итакъ, и теоретическая, и техническая стороны этого предпріятія были вполнѣ ясны или, точнѣе, казались мнѣ ясными. Практика же ввела въ эту ясность весьма существенный коррективъ.
Я разъ пять приходилъ къ Левину, предварительно давая себѣ слово, что вотъ сегодня я это сдѣлаю, и всѣ пять разъ не выходило ровно ничего: рука не поднималась. И это не въ переносномъ, а въ самомъ прямомъ смыслѣ этого слова: не поднималась. Я клялъ и себя и свое слабодушіе, доказывалъ себѣ, что въ данной обстановкѣ на одной чашкѣ вѣсовъ лежитъ жизнь чекиста, а на другой — моя съ Юрой (это, въ сущности, было ясно и безъ доказательствъ), но, очевидно, есть убійство и убійство...
Въ наши жестокіе годы мало мужчинъ прошли свою жизнь, не имѣя въ прошломъ убійствъ на войнѣ, въ революціи, въ путаныхъ нашихъ біографіяхъ. Но здѣсь — заранѣе обдуманное убійство человѣка, который, хотя объективно и сволочь, а субъективно — вотъ угощаетъ меня чаемъ и показываетъ коллекціи своихъ огнестрѣльныхъ игрушекъ... Такъ ничего и не вышло. Раскольниковскаго вопроса о Наполеонѣ и "твари дрожащей" я такъ и не рѣшилъ. Мучительная борьба самого себя съ собою была закончена выпивкой въ Динамо, и послѣ оной я къ этимъ детективнымъ проектамъ больше не возвращался. Стало на много легче...
Одинъ разъ оружіе чуть было не подвернулось случайно. Я сидѣлъ на берегу Вички, верстахъ въ пяти къ сѣверу отъ Медгоры, и удилъ рыбу. Уженье не давалось, и я былъ обиженъ и на судьбу, и на себя: вотъ люди, которымъ это, въ сущности, не надо, удятъ, какъ слѣдуетъ. А мнѣ надо, надо для пропитанія во время побѣга, и рѣшительно ничего не удается. Мои прискорбныя размышленія прервалъ чей-то голосъ.
— Позвольте-ка, гражданинъ, ваши документы.
Оборачиваюсь. Стоитъ вохровецъ. Больше не видно никого. Документы вохровецъ спросилъ, видимо, только такъ, для очистки совѣсти: интеллигентнаго вида мужчина въ очкахъ, занимающійся столь мирнымъ промысломъ, какъ уженье рыбы, никакихъ спеціальныхъ подозрѣній вызвать не могъ. Поэтому вохровецъ велъ себя нѣсколько небрежно: взялъ винтовку подъ мышку и протянулъ руку за моими документами.
Планъ вспыхнулъ, какъ молнія — со всѣми деталями: лѣвой рукой отбросить въ сторону штыкъ винтовки, правой — ударъ кулакомъ въ солнечное сплетеніе, потомъ вохровца — въ Вичку, ну, и такъ далѣе. Я уже совсѣмъ было приноровился къ удару — и вотъ, въ кустахъ хрустнула вѣтка, я обернулся и увидалъ второго вохровца съ винтовкой на изготовку. Перехватило дыханіе. Если бы я этотъ хрустъ услыхалъ на секунду позже, я ухлопалъ бы перваго вохровца, и второй — ухлопалъ бы меня... Провѣривъ мои документы, патруль ушелъ въ лѣсъ. Я пытался было удить дальше, но руки слегка дрожали...
Такъ кончились мои попытки добыть оружіе...
ТЕХНИЧЕСКІЯ ПРЕДПОСЫЛКИ
Дата нашего побѣга — полдень 28-го іюля 1934 года — приближалась съ какою-то, я бы сказалъ, космической неотвратимостью. Если при нашихъ первыхъ попыткахъ побѣга еще оставалось нѣкое ощущеніе "свободы воли": возможность "въ случаѣ чего" — какъ это было съ болѣзнью Юры — сразу дать отбой, отложить побѣгъ, какъ-то извернуться, перестроиться, — то сейчасъ такой возможности не было вовсе. Въ 12 часовъ дня 28-го іюля Борисъ уйдетъ изъ своего Лодейнаго Поля въ лѣсъ, къ границѣ. Въ этотъ же полдень должны уйти и мы. Если мы запоздаемъ — мы пропали. Лодейное Поле дастъ телеграмму въ Медгору: одинъ Солоневичъ сбѣжалъ, присмотрите за оставшимися. И тогда — крышка. Или, если бы случилось событіе, которое заставило бы насъ съ Юрой бѣжать на день раньше Бориса, такую же телеграмму дала бы Медвѣжья Гора въ Лодейное Поле и съ такими же послѣдствіями...
Практически — это не осложнило нашего побѣга. Но психически жесткость даты побѣга все время висѣла на душѣ: а вдругъ случится что-нибудь совсѣмъ непредвидѣнное, вотъ вродѣ болѣзни — и тогда что?
Но ничего не случилось. Технически предпосылки складывались — или были подготовлены — почти идеально. Мы были сыты, хорошо тренированы, въ тайникѣ въ лѣсу было запрятано нѣсколько пудовъ продовольствія, были компасы, была такая свобода передвиженія, какою не пользовалось даже и несчастное "вольное населеніе" Кареліи. Меня уже знали въ лицо всѣ эти вохровцы, оперативники, чекисты и прочая сволочь — могли спросить документы, но придираться бы ни въ какомъ случаѣ не стали... А все-таки было очень тревожно... Какъ-то не вѣрилось: неужели все это — не иллюзія?
Вспоминалось, какъ въ ленинградскомъ ГПУ мой слѣдователь, товарищъ Добротинъ, говорилъ мнѣ вѣско и слегка насмѣшливо: "Наши границы мы охраняемъ крѣпко, желѣзной рукой... Вамъ повезло, что васъ арестовали по дорогѣ... Если бы не мы, васъ все равно арестовали бы, но только арестовали бы пограничники — а они, знаете, разговаривать не любятъ..."
И потомъ — съ презрительной улыбочкой:
— И — неглупый же вы человѣкъ, Иванъ Лукьяновичъ, ну, какъ вы могли думать, что изъ Совѣтской Россіи такъ просто уйти: взялъ и ушелъ... Могу васъ увѣрить — это дѣло не такъ просто... Одному изъ тысячи, быть можетъ, удается...
Въ свое время начальникъ оперативной части тов. Подмоклый говорилъ приблизительно то же самое. И въ сильно пьяномъ видѣ, разсказывая мнѣ исторію побѣга группы туломскихъ инженеровъ, презрительно оттопыривалъ мокрыя отъ водки синія свои губы:
— Чудаки, а еще образованные... Такъ у насъ же сексотъ на сексотѣ сидитъ... Чудаки... Продовольствіе въ лѣсъ носили... А намъ — что? Пусть себѣ носятъ...
Мы тоже носили свое продовольствіе въ лѣсъ: не такая ужъ, оказывается, новая система... И, можетъ быть, товарищъ Подмоклый, протягивая мнѣ свою стопку и провозглашая: "ну, дай Богъ, въ предпослѣдній", гдѣ-то ухмылялся про себя: "ну, ужъ теперь-то ты бѣжишь въ послѣдній разъ — таскай, таскай свое продовольствіе въ лѣсъ"...
Какъ разъ передъ побѣгомъ я узналъ трагическую исторію трехъ священниковъ, которые пытались бѣжать изъ Повѣнца въ Финляндію: двое погибли въ лѣсу отъ голода, третій, наполовину обезумѣвшій отъ лишеній, — пришелъ въ какую-то деревню и сдался въ плѣнъ — его разстрѣляли даже и безъ слѣдствія...
___
Вспоминались разсказы какого-то "басмача" — узбека, съ которымъ мы еще зимой пилили ледъ на озерѣ. Это былъ выкованный изъ тугой бронзы человѣкъ съ изуродованнымъ сабельными ударами лицомъ и съ неутолимой ненавистью къ большевикамъ. Онъ пытался бѣжать три года тому назадъ, когда отношеніе къ бѣглецамъ было снисходительное. Онъ запутался въ лабиринтѣ озеръ, болотъ и протоковъ и былъ схваченъ чекистами — по его словамъ — уже по ту сторону границы...
Все то, что разсказывали всякіе чекисты и активисты о попыткахъ побѣга на западъ, къ финской границѣ, рисовало почти безнадежную картину. Но въ эту картину я вносилъ весьма существенную поправку: вся эта публика говоритъ о неудачныхъ попыткахъ и она ничего не говоритъ — да и ничего не знаетъ — объ удачныхъ. Только потомъ, уже за границей, я узналъ, какъ мало ихъ — этихъ удачныхъ попытокъ. За весь 1934 годъ ея не перешелъ никто... Только весной на финской сторонѣ былъ подобранъ полуразложившійся трупъ человѣка, который перешелъ границу, но никуда дойти не смогъ... А сколько такихъ труповъ лежитъ въ карельской тайгѣ?..
Я считалъ, что мои планы побѣга разработаны досконально. Передъ первой попыткой побѣга была сдѣлана развѣдка: персидской границы — по обѣ стороны Каспійскаго моря; польской границы — у Минска; латвійской границы — у Пскова и финляндской границы — въ Кареліи... Шли, можно сказать, навѣрняка, а — вотъ, оба раза провалились... Сейчасъ мнѣ кажется, что все подготовлено идеально, что малѣйшія детали предусмотрѣны, что на всякую случайность заранѣе подготовленъ соотвѣтствующій трюкъ... Словомъ — съ точки зрѣнія логики — все въ порядкѣ. Но — что, если моя логика окажется слабѣе логики ГПУ?.. Что, если всѣ наши затѣи — просто дѣтская игра подъ взоромъ недреманнаго ока... Что, если какими-то, мнѣ неизвѣстными, техническими способами ГПУ великолѣпно знаетъ все: и нашу переписку съ Борисомъ, и нашъ тайникъ въ лѣсу, и то, какъ Юра сперъ компасы въ техникумѣ, и то, какъ я тщетно пытался ухлопать Левина для того, чтобы раздобыть оружіе?.. Дѣло прошлое: но въ тѣ дни провалъ нашего побѣга означалъ бы для меня нѣчто, если не худшее, то болѣе обидное, чѣмъ смерть... У каждаго человѣка есть свое маленькое тщеславіе: если бы оказалось, что ГПУ знало о нашей подготовкѣ — это означало бы, что я совсѣмъ дуракъ, что меня обставили и провели, какъ идіота, — и потомъ насъ всѣхъ снисходительно размѣняютъ въ какомъ-то подвалѣ третьей части ББК ОГПУ... При одной мысли объ этомъ глаза лѣзли на лобъ... Я утѣшалъ себя мыслью о томъ, что вотъ мы оба — я и Юра — сейчасъ тренированы и что до "подвала" насъ ни въ какомъ случаѣ не доведутъ. Но такой же уговоръ былъ и въ прошломъ году — а сцапали сонныхъ, безоружныхъ и безсильныхъ... Правда, въ прошломъ году Бабенко врѣзался въ наши планы, какъ нѣкій deus ex machina. Правда, отъ Бабенки шла реальная угроза, которую уже поздно было предотвратить... Бабенко былъ, видимо, весьма квалифицированнымъ сексотомъ: въ Салтыковкѣ мы напоили его до безчувствія и устроили обыскъ на немъ и въ его вещахъ. Ничего не было, что могло бы подтвердить наши подозрѣнія. Но подозрѣнія были. Сейчасъ — никакихъ подозрѣній нѣтъ...
Но есть какое-то липкое ощущеніе — пуганная ворона и куста боится, — что вотъ всѣ наши планы — дѣтская игра передъ лицомъ всемогущей техники ГПУ...
Технику эту я, слава Тебѣ, Господи, знаю хорошо: восемнадцать лѣтъ я отъ этой техники выкручивался и, судя по тому, что я сейчасъ не на томъ свѣтѣ, а въ Финляндіи — выкручивался не плохо. Технику эту я считаю нехитрой техникой, техникой расчитанной на ротозѣевъ. Или — что еще обиднѣе — техникой, расчитанной на нашихъ великолѣпныхъ подпольщиковъ: возьмется за эту работу русскій офицеръ, человѣкъ смѣлый, какъ смерть, человѣкъ, готовый идти на любую пытку — а вотъ выпьетъ — и прорвется... И — кончено...
Словомъ — техника работы ГПУ — техника нехитрая... Молодецъ противъ овецъ... То, что мы оказались овцами, — это не дѣлаетъ особой чести ни намъ, ни ГПУ... Въ порядкѣ изученія этой техники — много литровъ водки выпилъ я со всякими чекистами, всѣ они и хвастались, и плакали. Хвастались всемогуществомъ ГПУ и плакали, что имъ самимъ отъ этого всемогущества нѣтъ никакого житья... Нужно быть справедливымъ и къ врагу: жизнь средняго работника ГПУ — это страшная вещь, это жизнь пана Твардовскаго, который продалъ свою душу чорту. Но чортъ пана Твардовскаго хоть чѣмъ-то платилъ оному пану при его жизни. ГПУ, въ сущности, ничего не платитъ при жизни, а документъ о продажѣ души все время тычетъ въ носъ... Я понимаю, что это звучитъ нѣсколько фантастически и малоправдоподобно, но въ двухъ случаяхъ моей жизни мнѣ удалось выручить изъ работы въ ГПУ двухъ коммунистовъ — одинъ изъ нихъ работалъ въ ГПУ десять лѣтъ... Нѣтъ, технику работы ГПУ я зналъ хорошо... Но въ эти дни, передъ побѣгомъ, все мое знаніе заслонялось внѣлогичной, нелѣпой, подсознательной тревогой...
Насколько я могу вспомнить — я ни о чемъ, кромѣ побѣга, не думалъ. Вѣроятно, Юра — тоже. Но ни онъ, ни я о побѣгѣ не говорили ни слова. Валялись въ травѣ у рѣчки, грѣлись на солнышкѣ, читали Вудворта. Юра былъ настроенъ весьма по майнридовски и всякими окольными путями старался дать мнѣ понять, какъ будетъ великолѣпно, когда мы, наконецъ, очутимся въ лѣсу... Въ эти послѣдніе лагерные мѣсяцы Юра катался, какъ сыръ въ маслѣ, завелъ дружную компанію вичкинскихъ ребятъ, рѣзался съ ними въ шахматы и волейболъ, тренировался въ плаваньи, собирался ставить новый русскій рекордъ на сто метровъ, ѣлъ за троихъ и на голыхъ доскахъ нашихъ наръ засыпалъ, какъ убитый... И отъ юности своей, и отъ солнца, и отъ прочаго, что въ человѣческой жизни уже неповторимо, какъ-то сказалъ мнѣ:
— А знаешь, Ва, въ сущности, не такъ плохо жить и въ лагерѣ...
Мы лежали на травкѣ за рѣчкой Кумсой — послѣ купанья, послѣ маленькой потасовки, подъ яркимъ іюльскимъ небомъ... Я оторвался отъ книги и посмотрѣлъ на Юру. Къ моему удивленію, онъ даже не сконфузился — слишкомъ у него "силушка по жилочкамъ переливалась". Я спросилъ: а кто еще живетъ въ лагерѣ такъ, какъ мы съ тобой живемъ? Юра согласился: никто. Даже и Успенскій такъ не живетъ... Успенскій работаетъ, какъ волъ, а мы ничего не дѣлаемъ.
— Ну, Ватикъ, я не говорю, чтобы не бѣжать, бѣжать, конечно, нужно. Но — не такъ плохо и здѣсь...
— А ты вспомни подпорожскій УРЧ и профессора Авдѣева.
Юра смякъ. Но его вопросъ доставилъ мнѣ нѣсколько очень мучительныхъ часовъ великаго соблазна.
И въ самомъ дѣлѣ — на кой чортъ бѣжать? Въ лагерѣ я буду жить — въ соотвѣтствіи съ моими личными вкусами къ жизни, а вкусы эти довольно просты... Проведу спартакіаду, получу въ свое завѣдываніе команду охотниковъ (была и такая охотничья команда изъ привиллегированныхъ заключенныхъ, поставлявшая рябчиковъ и медвѣдей къ чекистскому столу), Юру устрою въ Москву — вмѣсто того, чтобы подставлять его кудрявую головешку подъ чекистскій наганъ... Побѣгъ Бориса можно остановить... Успенскій, конечно, сможетъ перетащить его сюда. Будемъ таскаться на охоту вмѣстѣ съ Борисомъ... Стоитъ ли подставлять всѣ наши головы? Словомъ — это были часы великаго упадка и малодушія. Они скоро прошли... Подготовка шла своимъ чередомъ.
Подготовка же эта заключалась въ слѣдующемъ:
Все, что нужно было на дорогу, мы уже припасли: продовольствіе, одежду, обувь, компасы, медикаменты и прочее. Все это было получено путемъ блата, кромѣ компасовъ, которые Юра просто сперъ въ техникумѣ. На оружіе мы махнули рукой. Я утѣшалъ себя тѣмъ, что встрѣча съ кѣмъ-нибудь въ карельской тайгѣ — вещь чрезвычайно мало правдоподобная, — впослѣдствіи мы на такую "чрезвычайно мало правдоподобную вещь" все-таки напоролись... Выйти изъ лагеря было совершенно просто. Нѣсколько труднѣе было выйти одновременно вдвоемъ — и въ особенности на югъ. Еще труднѣе было выйти вдвоемъ и съ вещами, которыя у насъ еще оставались въ баракѣ. И, наконецъ, для страховки на всякій случай, нужно было сдѣлать такъ, чтобы меня и Юры не такъ скоро хватились бы...
Все это вмѣстѣ взятое было довольно сложно технически. Но въ результатѣ нѣкоторыхъ мѣропріятій я раздобылъ себѣ командировку на сѣверъ, до Мурманска, срокомъ на двѣ недѣли, Юрѣ — командировку въ Повѣнецъ и Пиндуши, срокомъ на пять дней ("для организаціи обученія плаванью"), себѣ — командировку на пятый лагпунктъ, то-есть на югъ, срокомъ на три дня и, наконецъ, — Юрѣ пропускъ на рыбную ловлю, тоже на югъ... Нашъ тайникъ былъ расположенъ къ югу отъ Медвѣжьей Горы...
Я былъ увѣренъ, что передъ этимъ днемъ — днемъ побѣга — у меня снова, какъ это было передъ прежними побѣгами въ Москвѣ, нервы дойдутъ до какого-то нестерпимаго зуда, снова будетъ безсонница, снова будетъ ни на секунду не ослабѣвающее ощущеніе, что я что-то проворонилъ, чего-то недосмотрѣлъ, что-то переоцѣнилъ, что за малѣйшую ошибку придется, можетъ быть, платить жизнью — и не только моей, но и Юриной... Но ничего не было: ни нервовъ, ни безсонницы... Только когда я добывалъ путаныя командировки, мнѣ померещилась ехидная усмѣшечка въ лицѣ завѣдующаго административнымъ отдѣломъ. Но эти командировки были нужны: если о нашихъ планахъ, дѣйствительно, не подозрѣваетъ никто, то командировки обезпечатъ намъ минимумъ пять дней свободныхъ отъ поисковъ и преслѣдованія, и тотъ же срокъ Борису — на тотъ случай, если у него что-нибудь заѣстъ... Въ теченіе пяти-семи дней насъ никто разыскивать не будетъ. А черезъ пять дней мы будемъ уже далеко...
У меня были всѣ основанія предполагать, что когда Успенскій узнаетъ о нашемъ побѣгѣ, узнаетъ о томъ, что вся уже почти готовая халтура со спартакіадой, съ широковѣщательными статьями въ Москву, въ ТАСС, въ "братскія компартіи", съ вызовомъ въ Медгору московскихъ кино-операторовъ, пошла ко всѣмъ чертямъ, что онъ, "соловецкій Наполеонъ", попалъ въ весьма идіотское положеніе, онъ полѣзетъ на стѣнку, и насъ будутъ искать далеко не такъ, какъ ищутъ обычныхъ бѣгуновъ... Человѣкъ грѣшный — я далъ бы значительную часть своего гонорара для того, чтобы посмотрѣть на физіономію Успенскаго въ тотъ моментъ, когда ему доложили, что Солоневичей и слѣдъ уже простылъ...
Ночь передъ побѣгомъ я проспалъ, какъ убитый. Вѣроятно, благодаря ощущенію полной неотвратимости побѣга — сейчасъ никакого выбора уже не было... Рано утромъ — я еще дремалъ — Юра разбудилъ меня. За его спиной былъ рюкзакъ съ кое-какими вещами, которыя по ходу дѣлъ ему нужно было вынести изъ лагеря и выбросить по дорогѣ... Кое-кто изъ сосѣдей по бараку околачивался возлѣ.
— Ну, значитъ, Ва, я ѣду...
Оффиціально — Юра долженъ былъ ѣхать на автобусѣ до Повѣнца. Я высунулся изъ подъ одѣяла.
— Ѣзжай. Такъ не забудь зайти въ Повѣнцѣ къ Бѣляеву — у него всѣ пловцы на учетѣ. А вообще — не засиживайся...
— Засиживаться не буду. А если что-нибудь важное — я тебѣ въ КВО телефонирую...
— Меня вѣдь не будетъ. Звони прямо Успенскому...
— Ладно. Ну, селямъ алейкюмъ.
— Алейкюмъ селямъ...
Длинная фигура Юры исчезла въ рамкѣ барачной двери... Сердце какъ-то сжалось... Не исключена возможность, что Юру я вижу въ послѣдній разъ...
ИСХОДЪ ИЗЪ ЛАГЕРЯ
По нашему плану Юра долженъ былъ выйти изъ барака нѣсколько раньше девяти утра — въ девять утра отходилъ автобусъ на Повѣнецъ — оставить въ нѣкоемъ мѣстѣ свой декоративный узелокъ съ вещами, достать въ другомъ мѣстѣ удочки и идти на югъ, къ нашему тайнику. Я долженъ былъ выйти въ 12 часовъ — часъ отправленія поѣзда на югъ — взявъ съ собой еще оставшіяся въ баракѣ вещи и продовольствіе и двинуться къ тому же тайнику. Но что — если у этого тайника уже торчитъ ГПУ-ская засада? И какъ быть, если Юру просто задержатъ по дорогѣ какіе-нибудь рьяные оперативники?
Я слѣзъ съ наръ. Староста барака, бывшій коммунистъ и нынѣшній лагерный активистъ, изъ породы людей, которая лучше всего опредѣляется терминомъ "дубина", спросилъ меня безразличнымъ тономъ:
— Что — тоже въ командировку ѣдете?
— Да. До Мурманска и обратно.
— Ну, желаю пріятной поѣздки...
Въ этомъ пожеланіи мнѣ почудилась скрытая иронія... Я налилъ себѣ кружку кипятку, подумалъ и сказалъ:
— Особеннаго удовольствія не видать... Работы будетъ до чорта...
— Да, а все же — хоть на людей посмотрите...
И потомъ безъ всякой логической связи:
— А хорошій парнишка, вашъ Юра-то... Вы все-таки поглянывайте, какъ бы его тутъ не спортили... Жалко будетъ парня... Хотя, какъ вы съ Успенскимъ знакомые — его, должно, скоро выпустятъ...
Я хлебалъ кипятокъ и однимъ уголкомъ глаза тщательно прощупывалъ игру каждаго мускула на дубоватомъ лицѣ старосты... Нѣтъ, ничего подозрительнаго. А на такомъ лицѣ все-таки было бы замѣтно... О Юрѣ же онъ говоритъ такъ, на всякій случай, чтобы сдѣлать пріятное человѣку, который "знакомый" съ самимъ Успенскимъ... Поболтали еще. До моего выхода остается еще три часа — самые долгіе три часа въ моей жизни...
Упорно и навязчиво въ голову лѣзли мысли о какомъ-то таинственномъ дядѣ, который сидитъ гдѣ-то въ дебряхъ третьяго отдѣла, видитъ всѣ наши ухищренія, "какъ сквозь стеклышко", и даетъ намъ время и возможность для коллекціонированія всѣхъ необходимыхъ ему уликъ... Можетъ быть, когда я получалъ свою параллельную командировку на югъ, дядя позвонилъ въ Адмотдѣлъ и сказалъ: "выписывайте, пущай ѣдетъ"... И поставилъ у нашего тайника вохровскій секретъ...
Для того, чтобы отвязаться отъ этихъ мыслей, и для того, чтобы сдѣлать всѣ возможныя попытки обойти этого дядю, буде онъ существовалъ въ реальности, я набросалъ двѣ маленькія статейки о спартакіадѣ въ "Перековку" и въ лагерную радіо-газету, занесъ ихъ, поболталъ со Смирновымъ, далъ ему нѣсколько газетно-отеческихъ совѣтовъ, получилъ нѣсколько порученій въ Мурманскъ, Сегежу и Кемь и — что было совсѣмъ ужъ неожиданно — получилъ также и авансъ въ 35 рублей въ счетъ гонораровъ за выполненіе этихъ порученій... Это были послѣднія совѣтскія деньги, которыя я получилъ въ своей жизни и на нихъ сдѣлалъ свои послѣднія совѣтскія покупки: два килограмма сахара и три пачки махорки. Полтинникъ еще остался...
Вышелъ изъ редакціи и, къ крайнему своему неудовольствію, обнаружилъ, что до полудня остается еще полтора часа. Пока я ходилъ въ обѣ редакціи, болталъ со Смирновымъ, получалъ деньги — время тянулось такъ мучительно, что, казалось, полдень совсѣмъ уже подошелъ. Я чувствовалъ, что этихъ полутора часовъ я полностью не выдержу.
Пришелъ въ баракъ. Въ баракѣ было почти пусто. Влѣзъ на нары, сталъ на нихъ, на верхней полкѣ, закрытой отъ взглядовъ снизу, нагрузилъ въ свой рюкзакъ оставшееся продовольствіе и вещи — ихъ оказалось гораздо больше, чѣмъ я предполагалъ — взялъ съ собой для камуфляжа волейбольную сѣтку, футбольный мячъ, связку спортивной литературы, на верху которой было увязано руководство по футболу съ рисункомъ на обложкѣ, понятнымъ всякому вохровцу, прихватилъ еще и два копья и вышелъ изъ барака.
Въ сущности, не было никакихъ основаній предполагать, что при выходѣ изъ барака кто-нибудь станетъ ощупывать мой багажъ, хотя по правиламъ или староста, или дневальный обязаны это сдѣлать... Если недреманное око не знаетъ о нашемъ проектѣ, никто насъ обыскивать не посмѣетъ: блатъ у Успенскаго. Если знаетъ, насъ захватятъ у тайника... Но все-таки изъ дверей барака я выходилъ не съ очень спокойной душой. Староста еще разъ пожелалъ мнѣ счастливаго пути. Дневальный, сидѣвшій на скамеечкѣ у барака, продѣлалъ ту же церемонію и потомъ какъ-то замялся.
— А жаль, что вы сегодня ѣдете...
Мнѣ почудилось какое-то дружественное, но неясное предупрежденіе... Чуть-чуть перехватило духъ... Но дневальный продолжалъ:
— Тутъ письмо я отъ жены получилъ... Такъ, значитъ, насчетъ отвѣту... Ну, ужъ когда пріѣдете, такъ я васъ попрошу... Юра? Нѣтъ, молодой еще онъ, что его въ такія дѣла мѣшать...
Отлегло... Поднялся на горку и въ послѣдній разъ посмотрѣлъ на печальное мѣсто страннаго нашего жительства. Баракъ нашъ торчалъ какимъ-то кособокимъ гробомъ, съ покосившейся заплатанной крышей, съ заклеенными бумагой дырами оконъ, съ дневальнымъ, понуро сидѣвшимъ у входа въ него... Странная вещь — во мнѣ шевельнулось какое-то сожалѣніе... Въ сущности, неплохо жили мы въ этомъ баракѣ И много въ немъ было совсѣмъ хорошихъ, близкихъ мнѣ русскихъ людей. И даже нары мои показались мнѣ уютными. А впереди въ лучшемъ случаѣ — лѣса, трясины, ночи подъ холоднымъ карельскимъ дождемъ... Нѣтъ, для приключеній я не устроенъ...
Стоялъ жаркій іюльскій день. Я пошелъ по сыпучимъ улицамъ Медгоры, прошелъ базаръ и площадь, тщательно всматриваясь въ толпу и выискивая въ ней знакомыя лица, чтобы обойти ихъ сторонкой, нѣсколько разъ оборачивался, закуривалъ, разсматривалъ афиши и мѣстную газетенку, расклеенную на столбахъ и стѣнахъ (подписка не принимается за отсутствіемъ бумаги), и все смотрѣлъ — нѣтъ ли слѣжки? Нѣтъ, слѣжки не было — на этотъ счетъ глазъ у меня наметанный. Прошелъ вохровскую заставу у выхода изъ поселка — застава меня ни о чемъ не спросила — и вышелъ на желѣзную дорогу.
Первыя шесть верстъ нашего маршрута шли по желѣзной дорогѣ: это была одна изъ многочисленныхъ предосторожностей на всякій случай. Во время нашихъ выпивокъ въ Динамо мы установили, что по полотну желѣзной дороги собаки ищейки не работаютъ вовсе: паровозная топка сжигаетъ всѣ доступные собачьему нюху слѣды. Не слѣдовало пренебрегать и этимъ.
Идти было трудно: я былъ явственно перегруженъ — на мнѣ было не меньше четырехъ пудовъ всякой ноши... Одна за другой проходили версты — вотъ знакомый поворотъ, вотъ мостикъ черезъ прыгающую по камнямъ рѣчку, вотъ, наконецъ, телеграфный столбъ съ цифрой 25/511, откуда въ лѣсъ сворачивало какое-то подобіе тропинки, которая нѣсколько срѣзала путь къ пятому лагпункту. Я на всякій случай оглянулся еще разъ — никого не было — и нырнулъ въ кусты, на тропинку.
Она извивалась между скалъ и корягъ — я обливался потомъ подъ четырехпудовой тяжестью своей ноши, и вотъ, передъ поворотомъ тропинки, откуда нужно было нырять въ окончательную чащу, вижу: навстрѣчу мнѣ шагаетъ патруль изъ двухъ оперативниковъ...
Былъ моментъ пронизывающаго ужаса: значитъ — подстерегли... И еще болѣе острой обиды: значитъ — они оказались умнѣе. Что же теперь?... До оперативниковъ шаговъ двадцать... Мысли мелькаютъ съ сумасшедшей быстротой... Броситься въ чащу? А Юра? Ввязаться въ драку? Ихъ двое... Почему только двое? Если бы этотъ патруль былъ снаряженъ спеціально для меня оперативниковъ было бы больше — вотъ отрядили же въ вагонѣ № 13 человѣкъ по десяти на каждаго изъ боеспособныхъ членовъ нашего "кооператива"... А разстояніе все сокращается... Нѣтъ, нужно идти прямо. Ахъ, если бы не рюкзакъ, связывающій движенія... Можно было бы: схватить одного и, прикрываясь имъ, какъ щитомъ, броситься на другого и обоихъ сбить съ ногъ. Тамъ, на землѣ обѣ ихъ винтовки были бы ни къ чему и мое джіу-джитсу выручило бы меня еще одинъ разъ — сколько разъ оно меня уже выручало... Нѣтъ, нужно идти прямо, да и поздно уже сворачивать — насъ отдѣляетъ шаговъ десять...
Сердце колотилось, какъ сумасшедшее. Но, повидимому, снаружи не было замѣтно ничего, кромѣ лица, залитаго потомъ.
Одинъ изъ оперативниковъ поднесъ руку къ козырьку и не безъ пріятности осклабился.
— Жарковато, товарищъ Солоневичъ... Что-жъ вы не поѣздомъ?..
Что это? Издѣвочка?
— Режимъ экономіи. Деньги за билетъ въ карманѣ останутся...
— Да, оно, конечно. Лишняя пятерка — оно, смотришь, и поллитровка набѣжала... А вы — на пятый?
— На пятый.
Я всматриваюсь въ лица этихъ оперативниковъ. Простыя картофельныя красноармейскія рожи — на такой рожѣ ничего не спрячешь. Ничего подозрительнаго. Вѣроятно, оба эти парня не разъ видали, какъ мы съ Подмоклымъ шествовали послѣ динамовскихъ всенощныхъ бдѣній, навѣрно, они видали меня передъ строемъ роты оперативниковъ, изъ которой я выбиралъ кандидатовъ на вичкинскій курортъ и на спартакіаду, вѣроятно, они знали о великомъ моемъ блатѣ...
— Ну, счастливо... — Оперативникъ опять поднесъ руку къ козырьку, я продѣлалъ нѣчто вродѣ этого — я шелъ безъ шапки — и патруль прослѣдовалъ дальше... Хрустъ ихъ шаговъ постепенно замеръ вдали... Я остановился, прислушался... Нѣтъ, ушли, пронесло...
Я положилъ на землю часть своей ноши, прислонился рюкзакомъ къ какой-то скалѣ. Вытеръ потъ. Еще прислушался, нѣтъ, ничего. Только сердце колотится такъ, что, кажется, изъ третьяго отдѣла слышно... Свернулъ въ чащу, въ кусты, гдѣ ужъ никакіе обходы не были мыслимы — все равно въ десяти-двадцати шагахъ ничего не видать...
До нашего тайника оставалось съ полверсты. Подхожу ужасомъ слышу какой-то неясный голосъ — вродѣ пѣсни. То ли это Юра такъ не во время распѣлся, то ли, чортъ его знаетъ что... Подползъ на карачкахъ къ небольшому склону, въ концѣ котораго, въ чащѣ огромныхъ, непроходимо разросшихся кустовъ, были запрятаны всѣ наши дорожныя сокровища и гдѣ долженъ ждать меня Юра. Мелькаетъ что-то бронзовое, похожее на загорѣлую спину Юры... Неужели вздумалъ принимать солнечныя ванны и пѣть Вертинскаго. Съ него станется. Охъ, и идіотъ же! Ну, и скажу же я ему нѣсколько теплыхъ словъ...
Но изъ чащи кустарника раздается нѣчто вродѣ змѣинаго шипѣнія, показываются Юрины очки, и Юра дѣлаетъ жестъ: ползи скорѣй сюда. Я ползу.
Здѣсь, въ чащѣ кустарника, — полутьма, и снаружи рѣшительно ничего нельзя разглядѣть въ этой полутьмѣ.
— Какіе-то мужики, — шепчетъ Юра, — траву косятъ, что ли... Скорѣй укладываться и драпать...
Голоса стали слышнѣе. Какіе-то люди что-то дѣлали шагахъ въ 20-30 отъ кустовъ. Ихъ пестрыя рубахи время отъ времени мелькали въ просвѣтахъ деревьевъ... Да, нужно было укладываться и исчезать.
Мячъ, копья, литературу, сѣтку я зарылъ въ мохъ, и изъ подо мха мы вырыли наши продовольственные запасы, сверху обильно посыпанные мохоркой, чтобы какой-нибудь заблудили песъ не соблазнился неслыханными запахами торгсиновскаго сала и торгсиновской колбасы... Въ лихорадочной и молчаливой спѣшкѣ мы запихали наши вещи въ рюкзаки. Когда я навьючилъ на себя свой, я почувствовалъ, что я перегруженъ: въ рюкзакѣ опять было не меньше четырехъ пудовъ. Но сейчасъ — не до этого...
Изъ чащи кустарника ползкомъ по травѣ и зарослямъ мы спустились еще ниже, въ русло какого-то почти пересохшаго ручейка, потомъ по этому руслу — тоже ползкомъ — мы обогнули небольшую гряду, которая окончательно закрыла насъ отъ взглядовъ неизвѣстныхъ посѣтителей окрестностей нашего тайника. Поднялись на ноги, прислушались. Напряженный слухъ и взвинченные нервы подсказывали тревожные оклики: видимо, замѣтили.
— Ну, теперь нужно во всѣ лопатки, — сказалъ Юра.
Двинулись во всѣ лопатки. По "промфинплану" намъ нужно было перейти каменную гряду верстахъ въ пяти отъ желѣзной дороги и потомъ перебраться черезъ узкій протокъ, соединяющій цѣпь озеръ — верстахъ въ пяти отъ гряды. Мы шли, ползли, карабкались, лѣзли; потъ заливалъ очки, глаза лѣзли на лобъ отъ усталости, дыханіе прерывалось — а мы все лѣзли. Гряда была самымъ опаснымъ мѣстомъ. Ея вершина была оголена полярными бурями, и по ея хребту прогуливались вохровскіе патрули — не часто, но прогуливались. Во время своихъ развѣдокъ по этимъ мѣстамъ я разыскалъ неглубокую поперечную щель въ этой грядѣ, и мы поползли по этой щели, прислушиваясь къ каждому звуку и къ каждому шороху. За грядой стало спокойнѣе. Но въ безопасности — хотя бы и весьма относительной — мы будемъ только за линіей озеръ. Еще гряда, заваленная буреломомъ, отъ нея — окаянный спускъ къ озеру — гигантскія розсыпи камней, покрытыхъ мокрымъ, скользкимъ мхомъ. Такія мѣста я считалъ самой опасной частью нашего путешествія. При тяжести нашихъ рюкзаковъ поскользнуться на такихъ камняхъ и, въ лучшемъ случаѣ, растянуть связки на ногѣ — ничего не стоило... Тогда пришлось бы засѣть на мѣстѣ происшествія на недѣлю-двѣ. Безъ достаточныхъ запасовъ продовольствія это означало бы гибель. Потому-то мы и захватили такую массу продовольствія.
Часамъ къ пяти мы подошли къ озеру, спустились внизъ, нашли нашъ протокъ, перебрались черезъ него и вздохнули болѣе или менѣе свободно. По пути — въ частности, передъ первой грядой — мы перемазывали наши подошвы всякой сильно пахнувшей дрянью, такъ что никакія ищейки не могли бы пройти по нашимъ слѣдамъ... За протокомъ слегка присѣли и передохнули. Обсудили инцидентъ съ предполагаемыми крестьянами около нашего тайника и пришли къ выводу, что если бы они насъ замѣтили и если бы у нихъ были агрессивныя намѣренія по нашему адресу — они или побѣжали бы къ желѣзной дорогѣ сообщить кому надо о подозрительныхъ людяхъ въ лѣсу, или стали бы преслѣдовать насъ. Но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ они не остались бы около нашего тайника и не стали бы перекликаться... Это — одно. Второе — изъ лагеря мы ушли окончательно. Никто ничего не заподозрилъ. Срокъ нашихъ командировокъ давалъ всѣ основанія предполагать, что насъ хватятся не раньше, чѣмъ черезъ пять дней — Юрина командировка была дѣйствительна на пять дней. Меня могутъ хватиться раньше — вздумаетъ Успенскій послать мнѣ въ Кемь или въ Мурманскъ какой-нибудь запросъ или какое-нибудь порученіе и выяснить, что тамъ меня и слыхомъ не слыхать... Но это очень мало вѣроятно, тѣмъ болѣе, что по командировкѣ я долженъ объѣхать шесть мѣстъ... И Юрой сразу же послѣ истеченія срока его командировки не заинтересуется никто... Въ среднемъ — недѣля намъ обезпечена. За эту недѣлю верстъ минимумъ сто мы пройдемъ, считая, конечно, по воздушной линіи... Да, хорошо въ общемъ вышло... Никакихъ недреманныхъ очей и никакихъ таинственныхъ дядей изъ третьяго отдѣла... Выскочили!...
Однако, лагерь все-таки былъ еще слишкомъ близко. Какъ мы ни были утомлены, мы прошли еще около часу на западъ, набрели на глубокую и довольно широкую внизу расщелину, по дну которой переливался маленькій ручеекъ, и съ чувствомъ великаго облегченія сгрузили наши рюкзаки. Юра молніеносно раздѣлся, влѣзъ въ какой-то омутокъ ручья и сталъ смывать съ себя потъ и грязь. Я сдѣлалъ то же — раздѣлся и влѣзъ въ воду; я отъ пота былъ мокрымъ весь, съ ногъ до головы.
— А ну-ка, Ва, повернись, что это у тебя такое? — вдругъ спросилъ Юра, и въ голосѣ его было безпокойство. Я повернулся спиной...
— Ахъ, чортъ возьми... И какъ же ты этого не замѣтилъ?.. У тебя на поясницѣ — сплошная рана...
Я провелъ ладонью по поясницѣ. Ладонь оказалась въ крови, и по обѣимъ сторонамъ позвоночника кожа была сорвана до мышцъ. Но никакой боли я не почувствовалъ раньше, не чувствовалъ и теперь.
Юра укоризненно суетился, обмывая рану, прижигая ее іодомъ и окручивая мою поясницу бинтомъ — медикаментами на дорогу мы были снабжены не плохо — все по тому же "блату". Освидѣтельствовали рюкзакъ. Оказалось, что въ спѣшкѣ нашего тайника я ухитрился уложить огромный кусокъ торгсиновскаго сала такъ, что острое ребро его подошвенной кожи во все время хода било меня по поясницѣ, но въ возбужденіи этихъ часовъ я ничего не чувствовалъ. Да и сейчасъ это казалось мнѣ такой мелочью, о которой не стоитъ и говорить.
Разложили костеръ изъ самыхъ сухихъ вѣтокъ, чтобы не было дыма, поставили на костеръ кастрюлю съ гречневой кашей и съ основательнымъ кускомъ сала. Произвели тщательную ревизію нашего багажа, безпощадно выкидывая все то, безъ чего можно было обойтись, — мыло, зубныя щетки, лишнія трусики... Оставалось все-таки пудовъ около семи...
Юра со сладострастіемъ запустилъ ложку въ кастрюлю съ кашей.
— Знаешь, Ватикъ, ей Богу, не плохо...
Юрѣ было очень весело. Впрочемъ, весело было и мнѣ. Поѣвъ, Юра съ наслажденіемъ растянулся во всю свою длину и сталъ смотрѣть въ яркое, лѣтнее небо. Я попробовалъ сдѣлать то же самое, легъ на спину — и тогда къ поясницѣ словно кто-то прикоснулся раскаленнымъ желѣзомъ. Я выругался и перевернулся на животъ. Какъ это я теперь буду тащить свой рюкзакъ?
Отдохнули. Я переконструировалъ ремни рюкзака такъ, чтобы его нижній край не доставалъ до поясницы. Вышло плохо. Грузъ въ четыре пуда, помѣщенный почти на шеѣ, создавалъ очень неустойчивое положеніе — центръ тяжести былъ слишкомъ высоко, и по камнямъ гранитныхъ розсыпей приходилось идти, какъ по канату. Мы отошли версту отъ мѣста нашего привала и стали устраиваться на ночлегъ. Выбрали густую кучу кустарника на вершинѣ какого-то холма, разостлали на землѣ одинъ плащъ, прикрылись другимъ, надѣли накомарники и улеглись въ надеждѣ, послѣ столь утомительнаго и богатаго переживаніями дня, поспать въ полное свое удовольствіе. Но со сномъ не вышло ничего. Милліоны комаровъ, весьма разнообразныхъ по калибру, но совершенно одинаковыхъ по характеру опустились на насъ плотной густой массой. Эта мелкая сволочь залѣзала въ мельчайшія щели одежды, набивалась въ уши и въ носъ, милліонами противныхъ голосовъ жужжала надъ нашими лицами. Мнѣ тогда казалось, что въ такихъ условіяхъ жить вообще нельзя и нельзя идти, нельзя спать... Черезъ нѣсколько дней мы этой сволочи почти не замѣчали — ко всему привыкаетъ человѣкъ — и пришли въ Финляндію съ лицами, распухшими, какъ тѣсто, поднявшееся на дрожжахъ.
Такъ промучились почти всю ночь. Передъ разсвѣтомъ оставили всякую надежду на сонъ, навьючили рюкзаки и двинулись дальше въ предразсвѣтныхъ сумеркахъ по мокрой отъ росы травѣ. Выяснилось еще одно непредвидѣнное неудобство. Черезъ нѣсколько минутъ ходьбы брюки промокли насквозь, прилипли къ ногамъ и связывали каждый шагъ. Пришлось идти въ трусикахъ.
Невыспавшіеся и усталые, мы уныло брели по склону горы, вышли на какое-то покрытое туманомъ болото, перешли черезъ него, увязая по бедра въ хлюпающей жижѣ, снова поднялись на какой-то гребень. Солнце взошло, разогнало туманъ и комаровъ; внизу разстилалось крохотное озерко, такое спокойное, уютное и совсѣмъ домашнее, словно нигдѣ въ мірѣ не было лагерей...
— Въ сущности, теперь бы самое время поспать, — сказалъ Юра.
Забрались въ кусты, разложили плащъ. Юра посмотрѣлъ на меня взоромъ какого-то открывателя Америки.
— А вѣдь, оказывается, все-таки драпанули, чортъ его дери...
— Не кажи гопъ, пока не перескочилъ...
— Перескочимъ. А ей-Богу, хорошо. Если бы еще по двухстволкѣ, да по парабеллюму... вотъ была бы жизнь.
ПОРЯДОКЪ ДНЯ
Шли мы такъ. Просыпались передъ разсвѣтомъ, кипятили чай, шли до 11 часовъ. Устраивали привалъ, варили кашу, гасили костеръ и, отойдя на версту, снова укладывались спать. На тѣхъ мѣстахъ, гдѣ раскладывались костры, мы не ложились никогда: дымъ и свѣтъ костра могли быть замѣчены, и какой-нибудь заблудшій въ лѣсахъ активистъ, вынюхивающій бѣглецовъ, или урка, ищущій ѣды и паспорта, или приграничный мужикъ, отсѣянный отъ всякихъ контръ-революціонныхъ плевелъ и чающій заработать куль муки, могли бы пойти на костеръ и застать насъ спящими.
Вставали часовъ въ пять и снова шли до темноты. Снова привалъ съ кашей и ночлегъ. Съ ночными привалами было плохо.
Какъ мы ни прижимались другъ къ другу, какъ мы ни укутывались всѣмъ, что у насъ было, мокрый холодъ приполярной ночи пронизывалъ насквозь. Потомъ мы приноровились. Срѣзывали ножами цѣлыя полотнища моха и накрывались имъ. За воротъ забирались цѣлые батальоны всякой насѣкомой твари, хвои, комки земли, но было тепло.
Нашъ суррогатъ карты въ первые же дни обнаружилъ свою полную несостоятельность. Рѣки на картѣ и рѣки въ натурѣ текли каждая по своему усмотрѣнію, безъ всякаго согласованіи съ совѣтскими картографическими заведеніями. Впрочемъ, и досовѣтскія карты были не лучше. Для первой попытки нашего побѣга въ 1932 году я раздобылъ трехверстки этого района. Такихъ трехверстокъ у меня было три варіанта: онѣ совпадали другъ съ другомъ только въ самыхъ общихъ чертахъ, и даже такая рѣка, какъ Суна, на каждой изъ нихъ текла по особому.
Но это насъ не смущало: мы дѣйствовали по принципу нѣкоего героя Джека Лондона: что бы тамъ ни случилось, держите прямо на западъ. Мы держали прямо на западъ. Одинъ изъ насъ шелъ впереди, провѣряя направленіе или по солнцу, или по компасу, другой шелъ шагахъ въ двадцати сзади, выправляя мелкія извилины пути. А этихъ извилинъ было очень много. Иногда въ лабиринтахъ озеръ, болотъ и протоковъ приходилось дѣлать самыя запутанныя петли и потомъ съ великимъ трудомъ возстанавливать затерянную прямую нашего маршрута. Въ результатѣ всѣхъ этихъ предосторожностей — а можетъ быть, и независимо отъ нихъ — мы черезъ шестнадцать сутокъ петлистыхъ скитаній по тайгѣ вышли точно въ намѣченное мѣсто. Ошибка верстъ въ тридцать къ сѣверу или къ югу могла бы намъ дорого обойтись: на югѣ граница дѣлала петлю, и мы, перейдя ее и двигаясь по прежнему на западъ, рисковали снова попасть на совѣтскую территорію и, слѣдовательно, быть вынужденными перейти границу три раза. На троекратное везенье расчитывать было трудно. На сѣверѣ же къ границѣ подходило стратегическое шоссе, на немъ стояло большое село Поросозеро, въ селѣ была пограничная комендатура, стояла большая пограничная часть, что-то вродѣ полка, и туда соваться не слѣдовало.
Дни шли однообразной чередой. Мы двигались медленно. И торопиться было некуда, и нужно было расчитывать свои силы такъ, чтобы тревога, встрѣча, преслѣдованіе никогда не могли бы захватить насъ уже выдохшимися, и, наконецъ, съ нашими рюкзаками особенной скорости развить было нельзя.
Моя рана на спинѣ оказалась гораздо болѣе мучительной, чѣмъ я предполагалъ. Какъ я ни устраивался со своимъ рюкзакомъ, время отъ времени онъ все-таки сползалъ внизъ и срывалъ подживающую кожу. Послѣ долгихъ споровъ я принужденъ былъ переложить часть моего груза въ Юринъ рюкзакъ — тогда на Юриной спинѣ оказалось четыре пуда, и Юра еле выволакивалъ свои ноги...
ПЕРЕПРАВЫ
Часъ за часомъ и день за днемъ повторялась приблизительно одна и та же послѣдовательность: перепутанная и заваленная камнями чаща лѣса на склонѣ горы, потомъ непроходимые завалы бурелома на ея вершинѣ, потомъ опять спускъ и лѣсъ — потомъ болото или озеро. И вотъ — выйдемъ на опушку лѣса — и передъ нами на полверсты-версту шириной разстилается ржавое карельское болото, длинной полосой протянувшееся съ сѣверо-запада на юго-востокъ — въ направленіи основной массы карельскихъ хребтовъ... Утромъ — въ туманѣ или вечеромъ — въ сумеркахъ мы честно мѣсили болотную жижу, иногда проваливаясь по поясъ, иногда переправляясь съ кочки на кочку и неизмѣнно вспоминая при этомъ Бориса. Мы вдвоемъ — и не страшно. Если бы одинъ изъ насъ провалился и сталъ тонуть въ болотѣ — другой поможетъ. А каково Борису?
Иногда, днемъ, приходилось эти болота обходить. Иногда, даже днемъ, когда ни вправо, ни влѣво болоту и конца не было видно, мы переглядывались и перли "на Миколу Угодника". Тогда 500-700 метровъ нужно было пройти съ максимальной скоростью — чтобы возможно меньше времени быть на открытомъ мѣстѣ. Мы шли, увязая по колѣна, проваливаясь по поясъ, пригибаясь къ землѣ, тщательно используя для прикрытія каждый кустикъ — и выбирались на противоположный берегъ болота выдохшимися окончательно. Это были наиболѣе опасные моменты нашего пути. Очень плохо было и съ переправами.
На первую изъ нихъ мы натолкнулись поздно вечеромъ. Около часу шли въ густыхъ и высокихъ — выше роста — заросляхъ камыша. Заросли обрывались надъ берегомъ какой-то тихой и неширокой — метровъ двадцать — рѣчки. Пощупали бродъ — брода не было. Трехметровый шестъ уходилъ цѣликомъ — даже у берега, гдѣ на днѣ прощупывалось что-то склизкое и топкое. Потомъ мы сообразили, что это, въ сущности, и не былъ берегъ въ обычномъ пониманіи этого слова. Это былъ плавающій слой мертваго камыша, перепутанныхъ корней, давно перегнившей травы — зачатокъ будущаго торфяного болота. Прошли съ версту къ югу — та же картина. Рѣшили переправляться вплавь. Насобирали сучьевъ, связавъ нѣчто вродѣ плотика — веревки для этой цѣли у насъ были припасены — положили на него часть нашего багажа, я раздѣлся; тучи комаровъ тотчасъ же облѣпили меня густымъ слоемъ, вода была холодна, какъ ледъ, плотикъ еле держался на водѣ. Мнѣ пришлось сдѣлать шесть рейсовъ туда и обратно, пока я не иззябъ окончательно до костей и пока не стемнѣло совсѣмъ. Потомъ переплылъ Юра, и оба мы, иззябшіе и окоченѣвшіе, собрали свой багажъ и почти ощупью стали пробираться на сухое мѣсто.
Сухого мѣста не было. Болото, камышъ, наполненныя водой ямы тянулись, казалось, безъ конца. Кое-гдѣ попадались провалы — узкія "окна" въ бездонную торфяную жижу. И идти было нельзя — опасно, и не идти было нельзя — замерзнемъ. Костра же развести и не изъ чего, и негдѣ. Наконецъ, взобрались на какой-то пригорокъ, окутанный тьмой и туманомъ. Разложили костеръ. Съ болота доносилось кряканье дикихъ утокъ, глухо шумѣли сосны, ухала какая-то болотная нечисть — но надъ карельской тайгой не было слышно ни одного человѣчьяго звука. Туманъ надвинулся на наше мокрое становище, окутавъ ватной пеленой ближайшія сосны; мнѣ казалось, что мы безнадежно и безвылазно затеряны въ безлюдьи таежной глуши и вотъ будемъ идти такъ день за днемъ, будемъ идти годы — и не выйти намъ изъ лабиринта ржавыхъ болотъ, тумана, призрачныхъ береговъ и призрачнаго лѣса... А лѣсъ мѣстами былъ, дѣйствительно, какимъ-то призрачнымъ. Вотъ стоитъ сухой стволъ березы. Обопрешься о него рукой, и онъ разваливается въ мокрую плѣсень. Иногда лежитъ по дорогѣ какой-то сваленный бурей гигантъ. Становишься на него ногой — и нога уходитъ въ мягкую трухлявую гниль...
Наломали еловыхъ вѣтокъ, разложили на мокрой землѣ какое-то подобіе логова. Костеръ догоралъ. Туманъ и тьма надвинулись совсѣмъ вплотную. Плотно прижались другъ къ другу, и я заснулъ тревожнымъ болотнымъ сномъ...
Переправъ всего было восемь. Одна изъ нихъ была очень забавной: я въ первый разъ увидалъ, какъ Юра струсилъ.
Яркимъ августовскимъ днемъ мы подошли къ тихой лѣсной рѣчушкѣ, метровъ въ пять ширины и метра полтора глубины. Черное отъ спавшей хвои дно, абсолютно прозрачная вода. Невысокіе поросшіе ольшанникомъ берега обрывались прямо въ воду. Раздѣваться и переходить рѣчку въ бродъ не хотѣлось. Прошли по берегу въ поискахъ болѣе узкаго мѣста. Нашли поваленную сосну, стволъ которой былъ перекинуть черезъ рѣчку. Середина ствола прогнулась и его покрывали вода и тина. Юра рѣшительно вскарабкался на стволъ и зашагалъ на ту сторону.
— Да ты возьми какую-нибудь палку опереться.
— А, ни черта!
Дойдя до середины ствола, Юра вдругъ сдѣлалъ нѣсколько колебательныхъ движеній тазомъ и руками и остановился, какъ завороженный. Мнѣ было ясно видно, какъ поблѣднѣло его лицо и судорожно сжались челюсти, какъ будто онъ увидалъ что-то страшное. Но на берегу не было видно никого, а глаза Юры были устремлены внизъ, въ воду. Что это, не утопленникъ ли тамъ? Но вода была прозрачна, и на днѣ не было ничего. Наконецъ, Юра сказалъ глухимъ и прерывающимся голосомъ: "Дай палку".
Я протянулъ ему какую-то жердь. Юра, не глядя на нее, нащупалъ въ воздухѣ ея конецъ, оперся обо дно и вернулся на прежній берегъ. Лицо его было блѣдно, а на лбу выступилъ потъ.
— Да что съ тобой?
— Скользко, — сказалъ Юра глухо.
Я не выдержалъ. Юра негодующе посмотрѣлъ на меня: что тутъ смѣяться? Но потомъ и на его лицѣ появилось слабое подобіе улыбки.
— Ну, и сдрейфилъ же я...
— То-есть, съ чего это?
— Какъ, съ чего? Упалъ бы въ воду — отъ нашего сахара ни крошки бы не осталось.
Слѣдующая переправа носила менѣе комическій оттѣнокъ. Раннимъ утромъ мы подошли къ высокому обрывистому берегу какой-то рѣчки или протока. Противоположный берегъ, такой же крутой и обрывистый, виднѣлся въ верстѣ отъ насъ, полускрытый полосами утренняго тумана. Мы пошли на сѣверо-западъ въ надеждѣ найти болѣе узкое мѣсто для переправы. Часа черезъ два ходьбы мы увидѣли, что рѣка расширяется въ озеро — версты въ двѣ шириной и версты три-четыре длиной. Въ самомъ отдаленномъ, сѣверо-западномъ, углу озера виднѣлась церковка, нѣсколько строеній и — что было хуже всего — виднѣлся мостъ. Мостъ означалъ обязательное наличіе пограничной заставы. На сѣверо-западъ хода не было.
Мы повернулись и пошли назадъ. Еще часа черезъ три ходьбы — причемъ, за часъ мы успѣвали пройти не больше полутора-двухъ верстъ — рѣшили прилечь отдохнуть. Прилегли. Юра слегка задремалъ. Сталъ было дремать и я, но откуда-то съ юга донеслось звяканье деревянныхъ колокольчиковъ, которые привязываются на шеи карельскимъ коровамъ. Я приподнялся. Звукъ, казалось, былъ еще далеко — и вдругъ въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ прямо на насъ вылазитъ стадо коровъ. Мы схватили наши рюкзаки и бросились бѣжать. Сзади насъ раздался какой-то крикъ: это кричалъ пастухъ, но кричалъ ли онъ по нашему адресу или по адресу своихъ коровъ — разобрать было нельзя.
Мы свернули на юго-востокъ. Но впереди снова раздалось дребезжанье колокольчиковъ и стукъ топоровъ. Выходило нехорошо. Оставалось одно — сдѣлать огромный крюкъ и обойти деревню съ мостомъ съ сѣверо-востока. Пошли.
Часа черезъ три-четыре мы вышли на какую-то опушку. Юра сложилъ свой рюкзакъ, выползъ, осмотрѣлся и сообщилъ: дорога. Высунулся и я. Это была новая съ иголочки дорога — одинъ изъ тѣхъ стратегическихъ путей, которые большевики проводятъ къ финской границѣ. Оставалось перебѣжать эту дорогу. Взяли стартъ и, пригнувшись, перебѣжали на другую сторону. Тамъ стоялъ телеграфный столбъ съ какими-то надписями, и мы рѣшили рискнуть подойти къ столбу и посмотрѣть — а вдругъ мы у же на финляндской территоріи.
Подошли къ столбу — увы, совѣтскія обозначенія. И вотъ слышу сзади чей-то неистовый крикъ: стоо-ой...
Я только мелькомъ успѣлъ замѣтить какую-то человѣческую фигуру, видимо, только что вынырнувшую изъ лѣсу шагахъ въ сорока-пятидесяти отъ насъ. Фигура выхватила откуда-то что-то весьма похожее на револьверъ. Въ дальнѣйшее мы всматриваться не стали... Сзади насъ бухнули два или три револьверныхъ выстрѣла, почти заглушенные топотомъ нашихъ ногъ. Возможно, что "пули свистали надъ нашими головами", но намъ было не до свиста — мы мчались изо всѣхъ нашихъ ногъ. Я запнулся за какой-то корень, упалъ и, подымаясь, разслышалъ чьи-то вовсе ужъ идіотскіе крики: "стой, стой" — такъ мы и стали бы стоять и ждать!.. Потомъ нѣкто остроумный заоралъ: "держи" — кто бы тутъ насъ сталъ держать?...
Мы пробѣжали около версты и пріостановились. Дѣло было неуютнымъ: насъ замѣтили приблизительно въ верстѣ-полутора отъ деревни, въ деревнѣ — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія — расположена чекистская застава, у заставы — конечно, собаки, и черезъ минуть 15-20 эти собаки будутъ спущены по нашему слѣду. И, конечно, будетъ устроена облава. Какъ устраивались облавы — объ этомъ мы въ Динамо выудили самыя исчерпывающія свѣдѣнія. На крики таинственной фигуры кто-то отвѣчалъ криками изъ деревни, и послышался разноголосый собачій лай.
Я очень плохой бѣгунъ на длинныя дистанціи. Полтора километра по бѣговой дорожкѣ для меня — мука мученическая. А тутъ мы бѣжали около трехъ часовъ, да еще съ трехпудовыми рюкзаками, по сумасшедшему хаосу камней, ямъ, корней, поваленныхъ стволовъ и, чортъ его знаетъ, чего еще. Правда, мы три раза останавливались, но не для отдыха. Въ первый разъ мы смазывали наши подошвы коркой отъ копченаго сала, второй — настойкой изъ махорки, третій — нашатырнымъ спиртомъ. Самая геніальная ищейка не могла бы вообразить, что первичный запахъ нашихъ сапогъ, потомъ соблазнительный ароматъ копченаго сала, потомъ махорочная вонь, потомъ ѣдкія испареніи нашатырнаго спирта — что все это относится къ одному и тому же слѣду.
Мы бѣжали три часа — дистанція, такъ сказать, марафонскаго бѣга. И — ничего. Сердце не разорвалось: нервы — великая вещь. Когда нужно, человѣкъ способенъ на самый неправдоподобныя вещи...
Плохо было то, что мы попали въ ловушку. Конечнымъ пунктомъ нашего пробѣга оказалось какое-то озеро, къ востоку переходившее въ широкое и со всѣхъ сторонъ открытое болото. Мы вернулись полверсты назадъ, взобрались на какую-то горку, сняли рюкзаки. Юра посмотрѣлъ на часы и сказалъ:
— Протрепали, оказывается, три часа: въ жизни бы не повѣрилъ...
Откуда-то отъ дороги несся собачій лай. Собакъ, видимо, было много. Раздались три выстрѣла: одинъ изъ винтовки — сухой и рѣзкій, два — изъ охотничьихъ ружей — гулкіе и раскатистые... Линія всѣхъ этихъ упоительныхъ звуковъ растянулась примѣрно отъ береговъ озера, на которомъ стояла деревушка, до вѣроятной оконечности болота. Стало ясно, что для нашей поимки мобилизовали и деревенскихъ собакъ (ГПУ-скіе ищейки не лаютъ), и деревенскихъ комсомольцевъ, которымъ до насъ, въ сущности, никакого дѣла нѣтъ, но которые, войдя въ лѣсъ, будутъ охвачены инстинктомъ охоты за самымъ благороднымъ звѣремъ — за человѣкомъ.
Итакъ, мы находились въ треугольникѣ, одна сторона котораго — юго-западная — была закрыта цѣпью озеръ, другая — юго-восточная — была охвачена облавой и третья — сѣверо восточная — была заперта озеромъ и болотомъ. Оставалось идти на сѣверо-востокъ въ надеждѣ найти тамъ, въ вершинѣ треугольника, какой-нибудь болѣе или менѣе доступный выходъ — перешеекъ, узкій протокъ между озерами или что-нибудь въ этомъ родѣ... Пошли. Я шелъ, уже еле волоча ноги и въ тысячный разъ проклиная свою совѣстливость или свое слабодушіе. Нѣтъ, тамъ, въ Медгорѣ, нужно было свернуть шею Левину и добыть оружіе... Если бы у насъ теперь — по двухстволкѣ и, скажемъ, по нагану — мы бы имъ показали облаву... Мы бы показали этимъ комсомольцамъ — что это за охота за человѣкомъ... лучше отъ такой охоты воздержаться... Конечно, и я, и Юра — стрѣлки не Богъ вѣсть какіе, но одно дѣло умѣть стрѣлять — совсѣмъ другое дѣло умѣть использовать огнестрѣльное оружіе. Я-то еще туда-сюда, нервы не тѣ, а съ Юрой по этому дѣлу лучше и не связываться... Да, мы бы имъ показали облаву... А теперь — оружія нѣтъ и жизнь виситъ совсѣмъ на волоскѣ... Въ слѣдующій разъ — если, не дай Богъ, онъ случится — я переломаю кому нужно кости безо всякой оглядки на высокія матеріи... Словомъ — былъ очень золъ.
На наше счастье уже начало темнѣть. Мы уткнулись въ еще какое-то озеро, прошли надъ его берегомъ еще версты двѣ; ноги подгибались окончательно, рюкзакъ опять сползъ внизъ и снова ободралъ мою рану, — передъ нами разстилалось все то же озеро — версты полторы двѣ водной глади, уже начинавшей затягиваться сумерками. Облава все приближалась, собачій лай и выстрѣлы слышны были все яснѣе. Наконецъ, мы добрели до мѣста, гдѣ озеро — или протокъ — слегка суживалось и до противоположнаго берега было, во всякомъ случаѣ, не больше версты. Рѣшили плыть.
Спустились къ берегу, связали изъ бурелома нелѣпый и шаткій плотикъ, грузоподъемности, примѣрно, достаточной для обоихъ нашихъ рюкзаковъ. За это время стемнѣло уже совсѣмъ. Раздѣлись, полѣзли въ воду. Комары облѣпили насъ — какъ всегда при переправахъ; было мелко и топко, мы побрели по тинистому, вязкому, слизкому тѣсту топкаго дна, дошли до пояса и начали плыть... Только что отплыли метровъ на десять — пятнадцать — слышу: гдѣ-то вдали какой-то мѣрный стукъ.
— Вѣроятно — грузовикъ по ту сторону озера, — сказалъ Юра. — Плывемъ дальше.
— Нѣтъ, давай подождемъ.
Остановились. Вода оказалась еще неглубокой — до плечъ. Подождали. Минуты черезъ двѣ-три стало совсѣмъ ясно: съ сѣвера, съ верховьевъ рѣки или озера, съ большой скоростью идетъ какая-то моторная лодка. Стукъ мотора становился все слышнѣе и слышнѣе, гдѣ-то за поворотомъ берега мелькнуло что-то очень похожее на лучъ прожектора. Мы панически бросились назадъ къ берегу.
Разбирать плотикъ и багажъ было некогда. Мы схватили плотикъ, какъ носилки, но онъ сразу развалился. Лихорадочно и ощупью мы подобрали его обломки, собрали наши вещи, рюкзаки и одежду... Моторка была совсѣмъ ужъ близко, и лучъ ея прожектора тщательно ощупывалъ прибрежные кусты. Мы нырнули въ мокрую траву за какими-то кустиками, прижались къ землѣ и смотрѣли, какъ моторка съ истинно сволочной медленностью шла мимо нашего берега, и щупальцы прожектора обыскивали каждый кустъ. Потомъ мокрыя вѣтки прикрывавшаго насъ куста загорѣлись бѣлымъ электрическимъ свѣтомъ — мы уткнули лица въ траву, и я думалъ о томъ, что наше присутствіе не такъ ужъ хитро обнаружить, хотя бы по тѣмъ тучамъ комаровъ, которые вились надъ нашими голыми спинами.
Но лучъ равнодушно скользнулъ надъ нашими головами. Моторка торжественно прослѣдовала внизъ. Мы подняли головы. Изъ мокрой тьмы въ лучѣ прожектора возникали упавшіе въ воду стволы деревьевъ, камышъ, каменныя осыпи берега. Потомъ моторка завернула за какой-то полуостровъ, и стукъ ея мотора постепенно затихъ вдали.
Стояла кромѣшная тьма. О томъ, чтобы въ этой тьмѣ сколотить плотикъ, и думать было нечего. Мы, дрожа отъ холода, натянули наше промокшее одѣяніе, ощупью поднялись на нѣсколько метровъ выше изъ прибрежнаго болота, нащупали какую-то щель въ скалѣ и усѣлись тамъ. Просидѣли почти всю ночь молча, неподвижно, чувствуя, какъ отъ холода начинаютъ нѣмѣть внутренности...
Передъ разсвѣтомъ мы двинулись дальше. Ноги ныли. У Юры лицо мертвецки посинѣло. Моя рана на спинѣ прилипла къ рубашкѣ, и первымъ же движеніемъ я снова сорвалъ какой-то поджившій слой. Съ юго востока, съ линіи облавы, снова стали доноситься звуки собачьяго лая и выстрѣловъ. Въ кого они тамъ стрѣляли — понятія не имѣю.
Мы прошли въ предразсвѣтной тьмѣ еще версты полторы двѣ вдоль берега и обнаружили какой-то полуостровокъ, совершенно заросшій лѣсомъ и кустарниками и вдававшійся въ озеро метровъ на двѣсти. Съ берегомъ полуостровокъ соединяла заливаемая водой песчаная коса. Свѣтало, и надъ водой плыли пронизывающіе утренніе туманы. Гдѣ-то, совсѣмъ ужъ недалеко отъ насъ, прогрохоталъ выстрѣлъ и залаяла собака...
Ни я, ни Юра не говорили почти ничего: все и такъ было ясно. Пробрались на полуостровокъ, срѣзали ножами нѣсколько сухихъ елокъ, связали длинный, достаточно грузоподъемный, но въ общемъ весьма малоустойчивый плотикъ, подтянули его къ водѣ, нагрузили рюкзаки и одежду. И опять стукъ моторки. Опять залѣзли въ кусты.
На этотъ разъ моторка прошла къ сѣверу, то скрываясь въ пеленахъ тумана, то показываясь во всемъ своемъ великолѣпіи: небольшая, изящная лодочка съ прицѣпнымъ моторомъ, съ прожекторомъ, съ пулеметомъ и съ четырьмя человѣками команды. Я сказалъ Юрѣ: если захватятъ насъ на переправѣ — капитулировать безъ никакихъ и, когда насъ станутъ подымать на бортъ (никакому чекисту не придетъ въ голову тыкать наганомъ въ голаго человѣка) — схватиться въ обнимку съ ближайшимъ изъ чекистовъ, всей своей удвоенной тяжестью плюхнуться на бортъ: моторка, конечно, перевернется. А тамъ въ водѣ дѣйствовать по обстоятельствамъ... Спросилъ Юру, помнитъ ли онъ одинъ изъ подходящихъ пріемовъ джіу-джитсу, который могъ бы быть примѣненъ въ такихъ не совсѣмъ обычныхъ условіяхъ. Юра помнилъ. Стукъ моторки затихъ. Едва ли она успѣетъ вернуться обратно за полчаса — черезъ полчаса мы будемъ уже на томъ берегу.
Никогда ни въ одномъ состязаніи я не развивалъ такого количества плавательной энергіи. Приходилось работать только лѣвой рукой, правая буксировала плотикъ. Юра сдѣлалъ остроумнѣе: взялъ въ зубы конецъ веревки, которою былъ привязанъ къ плотику нашъ багажъ, и плылъ классическимъ брассомъ.
Когда мы вплывали въ полосу тумана — я начиналъ бояться, какъ бы намъ не потерять направленія. Когда туманъ уходилъ — подымался страхъ, что насъ замѣтятъ съ берега и начнутъ стрѣлять. Но метрахъ въ двухстахъ опасенія насчетъ стрѣльбы болѣе или менѣе улеглись. По роду своей дѣятельности я сталкивался со стрѣлковымъ дѣломъ и зналъ, что на разстояніи двухсотъ метровъ совѣтской трехлинейки можно не очень опасаться: даетъ такое разсѣяніе, что на двѣсти метровъ попасть въ головную мишень можно только случайно — отчего стрѣлковые рекорды ставятся преимущественно винтовками Росса.
Камыши противоположнаго берега приближались съ ужасающей медленностью. Наконецъ, ноги почувствовали топкое и вязкое дно. Идти было еще нельзя, но на душѣ стало спокойнѣе. Еще черезъ полсотни метровъ мы стали на ноги, выволокли плотикъ на берегъ, разобрали его, веревки захватили съ собой, а бревнышки разсовали по камышу, чтобы не оставлять слѣдовъ нашей переправы.
То-ли отъ холода, то-ли отъ пережитаго волненія я дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ. Пробѣжали полсотни метровъ до ближайшаго лѣса. Юра съ безпокойствомъ растеръ меня своей рубашкой, мы одѣлись и поднялись на обрывистый берегъ. Было уже совсѣмъ свѣтло. По серебряной поверхности озера скользила все та же моторка. Изъ лѣсу, съ той стороны озера, слышались собачьи голоса и ружейные выстрѣлы.
— Видимо, они тамъ другъ по другу шпарятъ, — сказалъ Юра. — Хоть бы только не мазали! Эхъ, если бы намъ по винтовкѣ. Мы бы... поразговаривали...
Долженъ сознаться, что "поразговаривать" и у меня руки чесались... И въ такой степени, что если бы было оружіе, то я не столько былъ бы озабоченъ спасеніемъ собственной жизни, сколько показомъ этимъ неизвѣстнымъ мнѣ комсомольцамъ всѣхъ неудобствъ азарта охоты за человѣкомъ. Но оружія не было. Въ конечномъ счетѣ, это вышло не такъ плохо. Будь оружіе, мы, вѣроятно, ввязались бы въ перепалку. Кое-кого ухлопали бы, но едва-ли выскочили бы изъ этой перепалки живьемъ...
Была и такая переправа... Днемъ мы подошли къ какой-то рѣкѣ, разлившейся неширокими затонами и озерками. Прошли версты двѣ вдоль берега — и на противоположномъ берегу увидѣли рыбачью лодку. Лодка, повидимому, была "на ходу" — въ ней лежали весла, багоръ и что-то еще... Въ сущности, это было большою неосторожностью, но мы рѣшили воспользоваться этой лодкой для переправы. Юра молніеносно раздѣлся, переплылъ рѣку, доставилъ лодку къ нашему берегу, и мы въ двѣ-три минуты очутились на той сторонѣ. Отъ мѣста нашего причала, круто подымаясь въ гору, шло нѣчто вродѣ дорожки. До гребня горы было метровъ пятьдесятъ. Юра, какъ былъ въ голомъ видѣ, быстро поползъ къ гребню, заглянулъ по другую его сторону — и стремительно скатился внизъ, дѣлая мнѣ тревожные знаки. Я подхватилъ уже выгруженное изъ лодки все наше имущество, и мы оба бросились вправо, въ чащу лѣса. Пробѣжавъ сотни двѣ метровъ, я остановился. Юры не было. Кругомъ стояла непроницаемая для глазъ чаща, и въ ней не было слышно ни Юриныхъ шаговъ, ни Юринаго голоса — да подавать голоса и нельзя было: очевидно, Юра за этимъ гребнемъ кого-то увидалъ, можетъ быть, патруль... И какъ это мы съ нимъ ухитрились разъединиться? Я постоялъ еще минуты двѣ. Юры не было видно... Вдругъ онъ какъ-то проскочить мимо меня — вотъ пойдемъ оба мы играть въ жмурки въ этой чащѣ — подъ самымъ носомъ у какой-то — мнѣ еще неизвѣстной — опасности?... И съ рискомъ такъ и не найти другъ друга... Въ душу заползъ холодный ужасъ. Юра — совсѣмъ голый, какъ онъ станетъ пробираться черезъ эти кустарники, что онъ будетъ дѣлать, если мы запутаемся — вѣдь у него ничего, кромѣ очковъ, — ни ножа, ни спичекъ, ничего... Но этотъ ужасъ длился недолго... Еще черезъ минуту я услышалъ легкій хрустъ вѣтвей гдѣ-то въ сторонѣ и тихонько свистнулъ. Изъ-за кустовъ показалась исцарапанная вѣтками фигура Юры и его поблѣднѣвшее лицо...
Юра наскоро одѣлся. Руки его слегка дрожали. Мы снова всползли на гребень и заглянули по ту сторону: тамъ, внизу, разстилалось озеро, на берегу его двое рыбаковъ ковырялись съ сѣтями. Рядомъ сидѣло трое пограничниковъ съ винтовками и съ собакой — до нихъ было около трехсотъ метровъ... Мы сползли обратно.
— Сказано въ Писаніи — не искушай Господа Бога твоего всуе: на Миколу Угодника мы переправъ больше устраивать не будемъ.
— Не стоитъ, — согласился Юра, — ну его...
Въ этотъ день мы постарались сдѣлать очень много верстъ... Вотъ такъ и шли дни за днями... Десятый, одиннадцатый, двѣнадцатый. Ночь — въ холодной сырости или подъ дождемъ, днемъ — безмѣрная усталость отъ переходовъ черезъ болота и засѣки, все время — звѣриная настороженность къ каждому шороху и ощущеніе абсолютной отрѣзанности всякихъ путей назадъ... И — ничего похожаго на границу... Мы пересѣкали многочисленныя просѣки, прорубленныя большевиками сквозь карельскую тайгу, осматривали вкопанные то тамъ, то здѣсь столбики, натыкались на таинственныя палки, вбитыя въ землю: одна сторона палки отесана и на ней химическимъ карандашомъ таинственная надпись: "команда помвзвода Иванова семь человѣкъ прошла 8/8 7 ч. 40 м. Держимъ С.-З., слѣдовъ нѣтъ"...
Чьихъ слѣдовъ искала эта команда? Мы круто сворачивали съ нашего маршрута и усиленными переходами выбирались изъ района, оцѣпленнаго этими таинственными палками... Раза четыре намъ уже казалось, что мы перешли границу: натыкались на столбы, на одной сторонѣ которыхъ давно уже заросъ мхомъ грубо вырѣзанный русскій двуглавый орелъ, на другой — финскій левъ. Я предполагалъ, что это — старая граница Россіи и Финляндіи, новая же граница повторяетъ почти всѣ очертанія старой... Но проходилъ день-другой — снова шли столбики съ буквами П К или съ таинственными письменами какого-то очередного комвзвода...
Началось нѣчто вродѣ галлюцинацій... Однажды вечеромъ, когда мы укладывались спать подъ срѣзанное одѣяло изъ влажнаго мха, Юра приподнялся, прислушался и сказалъ:
— Послушай, Ва, по моему — поѣздъ...
Я прислушался. Откуда-то издалека, съ запада, доносился совершенно отчетливый стукъ колесъ по стыкамъ рельсъ: та-та-та, та-та-та... Откуда здѣсь можетъ быть желѣзная дорога? Если бы стукъ доносился съ востока, мы могли бы предположить почти невѣроятную, но все же теоретически возможную вещь, что мы путали, путали и возвращаемся все къ той же Мурманской желѣзной дорогѣ: со многими бѣглецами это случалось. Но съ запада? Ближайшая финляндская дорога отстояла на 150 километровъ отъ границы — такого пространства мы не могли пройти по финской территоріи, не замѣтивъ этого. Но, можетъ быть, за послѣдніе годы тамъ построена какая-нибудь новая вѣтка?
Стоило сдѣлать надъ собой усиліе воли, и стукъ колесъ превращался въ своеобразно ритмическій шумъ сосенъ. Стоило на минуту ослабить это усиліе, и стукъ колесъ доносился такъ ясно, такъ соблазнительно и такъ убѣдительно.
Эти полугаллюцинаціи преслѣдовали насъ до самой Финляндіи. И съ каждой ночью все навязчивѣе и навязчивѣе...
Когда я разрабатывалъ нашъ маршрутъ, я расчитывалъ въ среднемъ восемь дней ходьбы: по воздушной линіи намъ нужно было покрыть 125 километровъ. При нашей тренировкѣ по хорошей дорогѣ мы могли бы продѣлать эту дистанцію въ двое сутокъ. О "хорошей дорогѣ" и рѣчи быть не могло — я взялъ восемь сутокъ. Юра велъ дневникъ нашего перехода, безъ дневника мы совсѣмъ сбились бы со счета времени. И вотъ: прошло восемь дней и десять и двѣнадцать — все тотъ же перепутанный сухими вѣтвями буреломъ на вершинахъ хребтовъ, все тѣ же болота, озера и протоки... Мысль о томъ, что мы запутались, все назойливѣе и назойливѣе лѣзла въ голову. Сильно сбиться съ направленія мы не могли. Но мы могли завернуть на сѣверъ, въ обходъ Поросозера, и тогда, значитъ, мы идемъ приблизительно параллельно границѣ, которая въ этомъ мѣстѣ заворачиваетъ на сѣверо западъ... И тогда мы рискуемъ очень непріятными встрѣчами... Утѣшалъ нашъ огромный запасъ продовольствія: съ такимъ запасомъ мы долго еще могли идти, не страшась голода. Утѣшало и оптимистическое настроеніе Юры, которое портилось развѣ только подъ очень сильнымъ дождемъ и то, когда этотъ дождь лилъ ночью... Мы все продолжали идти по пустынѣ, лишь два раза натолкнувшись на близость населенныхъ пунктовъ и одинъ разъ натолкнувшись на пунктъ уже ненаселенный...
Нашъ дневной привалъ мы провели на берегу совсѣмъ очаровательнаго озера, въ камышахъ. Отойдя съ привала, мы увидѣли на берегу озера развалившіеся деревянные мостки и привязанную къ этимъ мосткамъ полузатонувшую и полуистлѣвшую лодку. Въ лодкѣ были весла — какъ будто кто-то бросилъ ее только вчера... Никакихъ путныхъ теорій мы на этотъ счетъ изобрѣсти не смогли. И вотъ въ пяти минутахъ ходьбы отъ озера, продираясь сквозь чащу молодого кустарника, березокъ и прочаго, я натолкнулся лицомъ къ лицу на какую-то бревенчатую стѣну. Стѣна оказалась избой. Мы обошли ее кругомъ. Изба еще стояла прочно, но все кругомъ заросло буйной лѣсной порослью. Вошли въ дверь. Изба была пуста, на полкахъ стояли какіе-то горшки. Все было покрыто пылью и плѣсенью, сквозь щели пола проросла трава. Отъ избы вѣяло сыростью и могилой. Мы вышли обратно. Оказалось, что изба эта не одна. Въ нѣсколькихъ десяткахъ метровъ, надъ зеленью поросли, виднѣлись еще полдесятка крышъ. Я сказалъ Юрѣ, что это, повидимому, раскулаченная деревня. Юра подалъ совѣтъ обойти ее — можетъ быть, найдемъ что-нибудь вродѣ оружія. Мы прошли по избамъ, такимъ же запустѣлымъ, какъ и первая. Въ нихъ не было ничего, кромѣ заплѣсневѣлыхъ горшковъ, переломанной деревенской мебели, полусгнившихъ остатковъ одежды и постелей. Въ одной избѣ мы, правда, нашли человѣческій скелетъ, и это отбило всякую охоту къ дальнѣйшимъ поискамъ...
Подавленные и нѣсколько растерянные, мы вышли изъ этой заново отвоеванной лѣсомъ деревни... Метрахъ въ ста отъ нея подымался гранитный обрывъ хребта, на который намъ предстояло взбираться. Пошли вдоль обрыва въ поискахъ наиболѣе подходящаго мѣста для подъема. У подножья обрыва стлались каменныя розсыпи, на которыхъ даже травка не росла — только чахлый карельскій мохъ покрывалъ камни своимъ сѣро-зеленымъ узоромъ. Юра шелъ впереди. Какъ-то неожиданно онъ сталъ, какъ вкопанный, и тихо выругался. У подножья обрыва лежала куча костей, среди которыхъ скалили свои зубы восемь человѣческихъ череповъ.
— А вотъ тебѣ и слѣды отъ пуль, — сказалъ Юра.
На высотѣ человѣческой головы въ скалѣ было около десятка глубокихъ щербинъ... Картина раскулаченной карельской деревушки получила свой заключительный штрихъ... Мы обошли груду костей и молча двинулись дальше. Часа черезъ два ходьбы Юра сказалъ:
— Давно уже нужно было драпануть...
— Давно уже и пробуемъ...
Юра передернулъ плечами...
___
Границу мы, повидимому, перешли яснымъ августовскимъ утромъ. Довольно высокій хребетъ обрывался на сѣверѣ крутымъ спускомъ къ озеру, по гребню хребта шла, довольно основательно протоптанная тропинка. Натолкнувшись на нее, мы быстро свернули въ кусты. Въ концѣ тропинки Юра успѣлъ замѣтить массивный каменный столбъ; я этого столба не замѣтилъ. Внизу, на западъ отъ хребта, разстилалось поросшее мелкимъ кустарникомъ болотце, и по болотцу протекала обычная рѣчушка, въ плывучихъ берегахъ, метровъ восемь ширины. Принимая во вниманіе наличіе тропинки и, вѣроятно, пограничныхъ патрулей, нужно было дѣйствовать стремительно и быстро. Я почти на ходу раздѣлся, переплылъ; Юра сталъ перекидывать наши вещи, завернулъ мои сапоги въ рубаху и брюки и во что-то еще и этакимъ дискоболомъ метнулъ этотъ узелокъ ко мнѣ. Свертокъ на лету раскрылся парашютомъ, и все содержимое его плюхнулось въ воду. Все, кромѣ сапогъ, мы успѣли вытащить. Сапоги пошли ко дну. Ругался я сильно. Хорошо еще, что были запасные футбольные ботинки...
Откуда-то съ юга, съ вершины гребня, хлопнулъ выстрѣлъ, и мы, недоодѣвшись и недоругавшись, въ полуголомъ видѣ бросились по болоту на западъ. Хлопнуло еще два выстрѣла, но лѣсистый берегъ былъ близко, и мы кинулись въ чащу. Тамъ закончили нашъ туалетъ, сообразили, что преслѣдованіе можетъ быть не такъ скоро, и пошли дальше, опять перемазывая подошвы нашими снадобьями.
Никакого преслѣдованія мы не замѣтили — вѣроятно, мы уже были по буржуазную сторону границы.
Часа черезъ три ходьбы я замѣтилъ въ травѣ кусокъ какой-то рыжей бумаги. Поднялъ. Бумага оказалась кулькомъ — двойнымъ кулькомъ изъ крѣпкой проклеенной бумаги, какой въ совѣтской Россіи и въ заводѣ нѣтъ. Кулекъ былъ подвергнуть изслѣдованію по методу Шерлока Хольмса. Изъ него были извлечены крошки бѣлаго хлѣба — явственно буржуазнаго. Края кулька были когда-то склеены полоской бѣлой бумаги. На кулькѣ виднѣлся слѣдъ когда-то перевязывавшаго его шпагата — въ буржуазномъ происхожденіи этого кулька не было никакого сомнѣнія.
Юра торжественно поднялся, торжественно облапилъ меня, и такъ мы стояли, тыкая другъ въ друга кулаками, и говорили всякія хорошія слова, непереводимыя ни на какой языкъ въ мірѣ. Когда всѣ слова были сказаны, Юра снялъ свой рваный шлемъ, сдѣланный по образцу красноармейскаго изъ куска стараго одѣяла, и, несмотря на все свое свободомысліе, широко перекрестился.
Однако, я не былъ вполнѣ увѣренъ, что мы уже на финской территоріи. Кулекъ могъ быть брошенъ какимъ-нибудь контрабандистомъ, какимъ-нибудь тихимъ идіотикомъ изъ финскихъ коммунистовъ, стремившимся въ соціалистическій рай, наконецъ, просто пограничникомъ: у нихъ, кто ихъ знаетъ, какія отношенія со всякимъ пограничнымъ народомъ.
Наконецъ, я зналъ и такіе случаи, когда бѣглецы изъ лагеря захватывались пограничниками и на финской территоріи — съ международнымъ правомъ "товарищи" не очень стѣсняются...
Вечеромъ мы расположились на ночлегъ на какой-то горѣ. Погода все портилась. Рѣзкій вѣтеръ шумѣлъ соснами, моросилъ мелкій, холодный дождь. Юра устраивалъ какое-то логово подъ мохнатыми вѣтвями елей, я спустился внизъ добыть воды. Внизу разстилалось озеро, задернутое пеленой дождя, на противоположномъ берегу озера, нѣсколько наискосокъ отъ меня, виднѣлось какое-то большое строеніе. Больше ничего нельзя было разобрать!
Дождь усиливался. Вѣтеръ превращался въ бурю. Мы дрогли всю ночь. На утро спустились къ озеру. Погода прояснилась. Строеніе на той сторонѣ было видно довольно ясно: что-то вродѣ огромной избы съ какими-то пристройками и съ открытой настежь дверью. Мы прошли полверсты къ сѣверу, усѣлись въ кустахъ прямо противъ этого строенія и стали выжидать. Никакого движенія. Дверь оставалась открытой, въ ея черной дырѣ не появлялся никто. Рѣшили идти къ строенію.
Обошли озеро, подошли метровъ на пятьдесятъ и стали ползти — вслушиваясь въ каждый лѣсной шорохъ. Юра ползъ нѣсколько въ сторонкѣ отъ меня, и вотъ слышу его восторженный голосъ:
— Никакихъ гвоздей — Финляндія.
Оказывается, Юра наползъ на какую-то мусорную кучу. Тамъ валялись обрывки газетъ на финскомъ языкѣ — правда, газеты могли быть и карельскими (мы не знали ни того, ни другого языка), — но здѣсь были консервныя, папиросныя, кофейныя и прочія банки, на которыхъ были надписи и на шведскомъ языкѣ. Сомнѣній быть не могло.
ВЪ ФИНЛЯНДІИ
Да, конечно, никакихъ сомнѣній уже быть не могло: мы въ Финляндіи. Оставалось неизвѣстнымъ, какъ далеко прошли мы вглубь ея территоріи, въ какихъ мѣстахъ мы находимся и какъ долго придется еще блуждать по тайгѣ въ поискахъ человѣческаго жилья. По нашей бѣглецкой теоріи — намъ полагалось бы попасться на глаза любымъ иностраннымъ властямъ возможно дальше отъ границы: кто его знаетъ, какіе тамъ неписанные договоры могутъ существовать между двумя сосѣдствующими пограничными заставами. Политика — политикой, а бытъ — бытомъ. Въ порядкѣ сосѣдской любезности — могутъ и выдать обратно... Правда, финская граница была въ свое время выбрана, въ частности, и потому, что изъ всѣхъ границъ СССР — тутъ можно было расчитывать на наиболѣе корректное отношеніе и наиболѣе культурную обстановку, но опять-таки, кто его знаетъ, какое "обычное право" существуетъ въ этой таежной глуши? Пока я путано размышлялъ обо всемъ этомъ — Юра уже устремился къ строенію. Я его попридержалъ, и мы съ ненужной осторожностью и съ бьющимися сердцами вошли внутрь. Это, очевидно, былъ баракъ лѣсорубовъ, обитаемый только зимой и пустующій лѣтомъ. Баракъ — какъ баракъ, не на много лучше нашего медгорскаго — только посерединѣ стояли развалины какого-то гигантскаго очага или печи, а полъ, нары, столы были завалены всякими буржуазными отбросами. Тутъ Юра разыскалъ сапоги, которые, по буржуазнымъ масштабамъ, видимо, никуда уже не годились, но которые могли бы сойти за предметъ роскоши въ СССР, валялись банки отъ консервовъ, какао, кофе, сгущеннаго молока и пустыя папиросныя коробки. Я не курилъ уже пять или шесть дней и устремился къ этимъ коробкамъ. На полъ папиросы наскребъ. Юра разыскалъ нѣчто, похожее на топленое сало и нѣсколько изсохшихъ въ камень хлѣбовъ — хлѣба у насъ не было тоже уже дней шесть.
— Сейчасъ устрою буттербродъ со смальцемъ, — сказалъ онъ. Я попытался было протестовать — но слишкомъ былъ занятъ поисками табаку. Юра намазалъ саломъ кусокъ сухаря и отправилъ все это въ ротъ. Лицо его стало задумчивымъ и взглядъ устремился, такъ сказать, внутрь.
— Ну, какъ?
Юра сталъ старательно выплевывать свой буттербродъ.
— Ну, что? — переспросилъ я еще разъ — не безъ нѣкотораго педагогическаго злорадства.
— Лыжная мазь, — сказалъ Юра дѣланно безразличнымъ тономъ... и скромно отошелъ въ уголокъ.
Мы вышли изъ барака. Небо казалось вымытымъ какъ-то особенно тщательно, а таежный вѣтерокъ — особенно ароматнымъ. У барака оказался столбъ съ надписью, которая была намъ непонятна, и со стрѣлой, указывавшей на западъ. Въ направленіи стрѣлы шла полузаросшая травой тропинка. Юра подтянулъ свой рюкзакъ и даже запѣлъ: "эхъ, полнымъ полна коробушка, плечъ не давитъ ремешокъ" — ремешокъ, дѣйствительно, не давилъ: во-первыхъ, потому, что наши рюкзаки за шестнадцать сутокъ пути были основательно облегчены и, во-вторыхъ, потому, что послѣ таежныхъ болотъ, заваловъ, каменныхъ осыпей — такъ легко было идти по человѣческой дорогѣ и, наконецъ, потому, что на душѣ было, дѣйствительно, очень весело.
Но это настроеніе было перебито мыслью о Борисѣ: какъ онъ дошелъ?
— Nobiscum Deus, — оптимистически сказалъ Юра. — Борисъ насъ уже въ Гельсингфорсѣ дожидается.
Юра приблизительно оказался правъ.
Часа черезъ два ходьбы мы вышли къ какому-то холмику, огороженному типичнымъ карельскимъ заборомъ: косо уставленныя еловыя жерди. За заборомъ былъ тщательно обработанный огородикъ, за огородикомъ, на верхушкѣ холма, стояла небольшая чистенькая изба. На стѣнѣ избы я сразу замѣтилъ бляху страхового общества, разсѣявшую послѣднія притаившіяся гдѣ-то въ глубинѣ души сомнѣнія и страхи. У избы стояло два сарая. Мы заглянули въ одинъ изъ нихъ.
Тамъ за какой-то работой ковырялась дѣвочка лѣтъ этакъ 10-11-ти. Юра просунулъ въ дверь свою взлохмаченную голову и попытался изъясняться на всѣхъ извѣстныхъ ему діалектахъ. Его попытки произвели нѣсколько неожиданное впечатлѣніе. Дѣвочка ринулась къ стѣнкѣ, прислонилась къ ней спиной, въ ужасѣ прижала руки къ груди и стала судорожно и беззвучно хватать воздухъ широко раскрытымъ ртомъ. Юра продолжалъ свои лингвинистическія упражненія. Я вытащилъ его изъ сарая: нужно подождать.
Мы сѣли на бревно у стѣны сарая и предались ожиданію. Минуты черезъ полторы-двѣ дѣвочка стрѣлой выскочила изъ сарая, шарахнулась въ сторону отъ насъ, какимъ-то фантастическимъ "стилемъ" перемахнула черезъ заборъ и, только подбѣгая къ крыльцу избы, подняла неистовый вопль. Дверь избы раскрылась, оттуда выглянуло перепуганное женское лицо, дѣвочка исчезла въ избѣ. Дверь снова закрылась, вопли дѣвочки стали раздаваться глуше и потомъ утихли.
Юра осмотрѣлъ меня внимательнымъ окомъ и сказалъ:
— Собственно говоря, есть чего испугаться — посмотрѣлъ бы ты на себя въ зеркало.
Зеркала не было. Но вмѣсто зеркала, мнѣ достаточно было посмотрѣть на Юру: грязная и опухшая отъ комариныхъ укусовъ физіономія, рваное лагерное одѣяніе, на поясѣ — разбойничій ножъ, а на носу — угрожающе черныя очки. Да, съ такой внѣшностью къ десятилѣтнимъ дѣвочкамъ нужно бы подходить нѣсколько осторожнѣе.
Прошло еще минутъ десять-пятнадцать. Мы терпѣливо сидѣли на бревнѣ въ ожиданіи дальнѣйшихъ событій. Эти событія наступили. Дѣвочка съ панической стремительностью выскочила изъ избы, снова перемахнула черезъ заборъ и бросилась въ лѣсъ, поднимая пронзительный и, судя по тону, призывной крикъ. Черезъ четверть часа изъ лѣсу вышелъ степенный финскій мужичекъ, въ такихъ немыслимо желтыхъ сапогахъ, изъ за какихъ когда-то въ далекомъ Конотопѣ покончилъ свои дни незабвенной памяти Хуліо Хуренито, въ добротной кожанкѣ и съ трубкой во рту. Но меня поразили не сапоги и не кожанка. Меня поразило то, отсутствующее въ совѣтской Россіи вообще, а въ совѣтской деревнѣ, въ частности и въ особенности, исходившее отъ этого мужиченки впечатлѣніе полной и абсолютной увѣренности въ самомъ себѣ, въ завтрашнемъ днѣ, въ неприкосновенности его буржуазной личности и его буржуазнаго клочка земли.
Мужичекъ неторопливо подошелъ къ намъ, осматривая насъ внимательнымъ и подозрительнымъ взоромъ. Я всталъ и спросилъ, понимаетъ ли онъ по русски. Къ моей великой радости, мужичекъ на очень ломанномъ, но все же внятномъ русскомъ языкѣ отвѣтилъ, что немного понимаетъ. Я коротко объяснилъ, въ чемъ дѣло. Подозрительныя морщины въ уголкахъ его глазъ разгладились, мужичекъ сочувственно закивалъ головой и даже трубку изо рта вынулъ. "Да, да, онъ понимаетъ... очень хорошо понимаетъ... тамъ, по ту сторону границы, остались два его брата — оба погибли... да, онъ очень хорошо понимаетъ..."
Мужичекъ вытеръ свою ладонь о штаны и торжественно пожалъ наши руки. Изъ за его спины выглядывала рожица дѣвочки: страхъ еще боролся съ любопытствомъ — со всѣми шансами на сторонѣ послѣдняго...
Обстановка прояснилась. Мужичекъ повелъ насъ въ избу. Очень большая комната съ низкими потолками, съ огромной печью и плитой, на плитѣ и надъ плитой смачно сіяла ярко начищенная мѣдная посуда, у плиты стояла женщина лѣтъ тридцати, бѣлотѣлая и хозяйственная, смотрѣла на насъ недовѣрчивымъ и настороженнымъ взглядомъ. Изъ дверей сосѣдней комнаты выглядывали какія-то дѣтскія рожицы. Чтобы не было слишкомъ страшно, эти рожицы высовывались надъ самымъ поломъ и смотрѣли на насъ своими льняными глазенками. Во всемъ былъ достатокъ, уютъ, увѣренность... Вспомнились наши раскулаченный деревни, и снова стало больно...
Мужичекъ принялся обстоятельно докладывать своей хозяйкѣ сущность переживаемаго момента. Онъ наговорилъ раза въ три больше, чѣмъ я успѣлъ ему разсказать. Настороженное выраженіе лица хозяйки смѣнилось сочувственными охами и вздохами, и затѣмъ послѣдовала стремительная хозяйственная дѣятельность. Пока мы сидѣли на лавкѣ, пока Юра оглядывалъ комнату, подмигивая высовывавшимся изъ дверей ребятишкамъ, и строилъ имъ рожи — ребятишки тоже начали заигрывать, пока я съ наслажденіемъ курилъ крѣпчайшій мужицкій табакъ и разсказывалъ мужичку о томъ, что и какъ дѣлается по ту сторону границы, огромный обѣденный столъ началъ обрастать невиданнымъ не только для совѣтской деревни, но и для совѣтскихъ столицъ, обиліемъ всякихъ яствъ. Въ послѣдовательномъ порядкѣ появился кофе со сливками — какъ оказалось впослѣдствіи, здѣсь пьютъ кофе передъ обѣдомъ, — потомъ уха, потомъ жареный налимъ, потомъ какой-то пирогъ, потомъ творогъ со сметаной, потомъ какая-то каша со сладкимъ черничнымъ сиропомъ, потомъ что-то еще; на все это мы смотрѣли недоумѣнно и даже нѣсколько растерянно. Юра предусмотрительно передвинулъ пряжку своего пояса и принялся за дѣло "всерьезъ и надолго"... Послѣ обѣда мужичекъ предложилъ намъ проводить насъ или къ "уряднику", до котораго было верстъ двадцать, или на пограничный пунктъ, до котораго было верстъ десять. "Да мы и сами дойдемъ". — "Не дойдете, заблудитесь".
Послѣ обѣда мы съ часъ отдохнули. Дѣвочка за это время куда-то исчезла. Долго жали руку хозяйкѣ и двинулись на пограничный пунктъ. По дорогѣ мужичекъ объяснялъ намъ систему и результаты своего хозяйства: съ нечеловѣческимъ трудомъ расчищенная въ лѣсу полянка подъ крохотное поле и огородъ, невода на озерѣ, зимой лѣсныя работы... "А сколько платятъ за лѣсныя работы?" — "Да 1200-1500 марокъ въ мѣсяцъ"... Я уже послѣ подсчиталъ: финская марка по ея покупательной способности чуть больше совѣтскаго рубля — значитъ, въ среднемъ полторы тысячи рублей... Да... А по ту сторону такой же мужичекъ получаетъ тридцать пять... Гдѣ же тутъ буржуазной Финляндіи конкурировать съ пролетарскимъ лѣснымъ экспортомъ?
Мужичекъ былъ правъ: безъ него мы бы къ пограничному пункту не добрались. Тропинка развѣтвлялась, путалась между болотъ, извивалась между каменными грядами, пропадала на розсыпяхъ булыжниковъ. На полдорогѣ изъ-за кустовъ выскочилъ огромный песъ и сразу кинулся къ Юринымъ штанамъ. Юра стремительно отскочилъ въ сторону, защищаясь своей палкой, а я своей уже совсѣмъ собрался было перешибить псу позвоночникъ, когда изъ-за поворота тропинки послышались какіе-то голоса и выбѣжали два финскихъ пограничника: одинъ маленькій голубоглазый и необычайно подвижной, другой постарше, посерьезнѣе и потемнѣе. Они отогнали пса и стали о чемъ-то говорить съ мужичкомъ. Мужичекъ спросилъ, есть ли у насъ оружіе. Мы показали на наши ножи. Маленькій пограничникъ сдѣлалъ видъ, что ему полагается насъ обыскать — похлопалъ Юру по карману и этимъ и удовлетворился...
Не нужно было быть великимъ психологомъ, чтобы понять — оба парня чрезвычайно довольны встрѣчей съ нами: это, во-первыхъ, великое событіе въ ихъ, вѣроятно, не очень разнообразной жизни и, во вторыхъ, нѣкая сенсація. Маленькій все время что-то болталъ съ мужичкомъ, потомъ завелъ съ Юрой оживленный разговоръ, состоявшій изъ жестовъ, междометій и попытокъ выразить мимикой лица такія, напримѣръ, вещи, какъ міровая революція. Не знаю, что понялъ пограничникъ. Юра не понялъ ничего.
Такъ, болтая и кое-какъ объясняясь при помощи мужичка, мы подошли къ неширокому озеру, на другой сторонѣ котораго виднѣлось большое деревянное зданіе. Переправились на лодкѣ черезъ озеро. Зданіе оказалось пограничной заставой. Насъ встрѣтилъ начальникъ заставы — такой же маленькій благодушный и спокойный финнъ, какъ нашъ мужичекъ. Степенно пожалъ намъ руки. Мы вошли въ просторную чистую комнату — казарму пограничниковъ. Здѣсь стояла дюжина коекъ и у стѣны — стойка съ винтовками...
Мы сняли наши рюкзаки. Начальникъ заставы протянулъ намъ коробку съ финскими папиросами. Закурили, усѣлись у стола передъ окномъ. Мужичекъ о чемъ-то вдумчиво докладывалъ, начальникъ такъ же вдумчиво и сочувственно кивалъ головой. Пограничники стояли около и о чемъ-то многозначительно перемигивались. Откуда-то вышла и стала въ рамкѣ двери какая-то женщина, по всѣмъ внѣшнимъ признакамъ жена начальника заставы. Какія-то льняныя, бѣлобрысыя дѣтишки выглядывали изъ-за косяковъ.
Разговоръ клеился очень плохо. Нашъ мужичекъ исчерпалъ свой весьма немноготомный запасъ русскихъ словъ, мнѣ говорить просто не хотѣлось... Вотъ вѣдь, мечталъ объ этомъ днѣ — первомъ днѣ на волѣ — лѣтъ пятнадцать-семнадцать планировалъ, добивался, ставилъ свою, и не свою голову на попа — а сейчасъ, когда, наконецъ, добился, просто какая-то растерянность...
Женщина исчезла. Потомъ снова появилась и что-то сказала. Начальникъ заставы всталъ и жестомъ, не лишеннымъ нѣкоторой церемонности, пригласилъ насъ въ сосѣднюю комнату. Это была чистенькая, словно по всѣмъ угламъ вылизанная, комнатка, посерединѣ стоялъ столъ, накрытый бѣлоснѣжной скатертью, на столѣ стояли чашки и дымился кофейникъ... Такъ, значитъ, "приглашены на чашку кофе". Не ожидалъ.
Мы были такими грязными, опухшими, оборванными, что было какъ-то неловко сидѣть за этимъ нехитрымъ столомъ, который мнѣ, послѣ свиной жизни лагеря, казался чѣмъ-то въ высокой степени великосвѣтскимъ. Какъ-то было неловко накладывать въ чашку не свой сахаръ. Неловко было смотрѣть въ глаза этой женщины, которой я никогда не видалъ и, вѣроятно, никогда больше не увижу и которая съ такимъ чисто женскимъ инстинктомъ старалась насъ накормить и напоить, хотя мы послѣ обѣда у нашего мужичка и такъ были сыты до отвала.
Посидѣли, вродѣ какъ поговорили. Я почувствовалъ какую-то смертельную усталость — реакція послѣ напряженія этихъ лѣтъ и этихъ дней. Поднялся. Вышли въ комнату пограничниковъ. Тамъ на зеркально натертомъ полу былъ разостланъ какой-то коверъ, на коврѣ лежали двѣ постели: для меня и для Юры. Настоящія постели, человѣческія, а мы уже годъ спали, Богъ его знаетъ, на чемъ. Юра бокомъ посмотрѣлъ на эти постели и сказалъ: "простыни, чортъ его дери!.."
Ужъ вечерѣло. Я вышелъ во дворъ. Жена начальника заставы стояла на колѣняхъ у крыльца, и въ ея засученныхъ рукахъ была наша многострадальная кастрюля, изъ которой когда-то какая-то неизвѣстная мнѣ подпорожская дѣвочка пыталась тепломъ своего голоднаго тѣльца извлечь полпуда замороженныхъ лагерныхъ щей, которая прошла нашъ первый побѣгъ, лагерь и шестнадцать сутокъ скитаній по карельской тайгѣ. Жена начальника заставы явственно пыталась привести эту кастрюлю въ христіанскій видъ. Женщина была вооружена какими-то тряпками, щетками и порошками и старалась честно. Въ дорогѣ мы эту кастрюлю, конечно, не чистили. Копоть костровъ въѣлась въ мельчайшія поры аллюминія. Исходная цилиндрическая форма отъ ударовъ о камни, о стволы деревьевъ и отъ многаго другого превратилась во что-то, не имѣющее никакого адэкватнаго термина даже въ геометріи Лобачевскаго, а вотъ стоитъ женщина на колѣняхъ и треть этотъ аллюминіевый обломокъ крушенія. Я сталъ объяснять ей, что этого дѣлать не стоитъ, что эта кастрюля уже отжила свой, исполненный приключеніями, вѣкъ. Женщина понимала плохо. На крыльцо вышелъ Юра, и мы соединенными усиліями какъ-то договорились. Женщина оставила кастрюлю и оглядѣла насъ взглядомъ, въ которомъ ясно чувствовалась непреоборимая женская тенденція поступить съ нами приблизительно такъ же, какъ и съ этой кастрюлей: оттереть, вымыть, заштопать, пришить пуговицы и уложить спать. Я не удержался: взялъ грязную руку женщины и поцѣловалъ ее. А на душѣ — было очень плохо...
Видимо, какъ-то плохо было и Юрѣ. Мы постояли подъ потемнѣвшимъ уже небомъ и потомъ пошли къ склону холма надъ озеромъ. Конечно, этого дѣлать не слѣдовало бы. Конечно, мы, какъ бы тамъ ни обращались съ нами, были арестованными, и не надо было давать повода хотя бы тѣмъ же пограничникамъ подчеркивать этотъ оффиціальный фактъ. Но никто его не подчеркнулъ.
Мы усѣлись на склонѣ холма. Передъ нами разстилалась свѣтло-свинцовая гладь озера, дальше, къ востоку отъ него, дремучей и черной щетиной поднималась тайга, по которой, Богъ дастъ, намъ никогда больше не придется бродить. Еще дальше къ востоку шли безконечные просторы нашей родины, въ которую, Богъ знаетъ, удастся-ли намъ вернуться.
Я досталъ изъ кармана коробку папиросъ, которой насъ снабдилъ начальникъ заставы. Юра протянулъ руку: "Дай и мнѣ"...
— "Съ чего ты это?"
— "Да, такъ"...
Я чиркнулъ спичку. Юра неумѣло закурилъ и поморщился. Сидѣли и молчали. Надъ небомъ востока появились первыя звѣзды онѣ гдѣ-то тамъ свѣтилась и надъ Салтыковкой, и надъ Москвой, и надъ Медвѣжьей Горой, и надъ Магнитогорскомъ, только, пожалуй, въ Магнитогорскѣ на нихъ и смотрѣть-то некому — не до того... А на душѣ было неожиданно и замѣчательно паршиво...
У ПОГРАНИЧНИКОВЪ
Повидимому, мы оба чувствовали себя какими-то обломками крушенія — the derelicts. Пока боролись за жизнь, за свободу, за какое-то человѣчье житье, за право чувствовать себя не удобреніемъ для грядущихъ озимей соціализма, а людьми — я, въ частности, по въѣвшимся въ душу журнальнымъ инстинктамъ — за право говорить о томъ, что я видѣлъ и чувствовалъ; пока мы, выражаясь поэтически, напрягали свои бицепсы въ борьбѣ съ разъяренными волнами соціалистическаго кабака, — все было какъ-то просто и прямо... Странно: самое простое время было въ тайгѣ. Никакихъ проблемъ. Нужно было только одно — идти на западъ. Вотъ и шли. Пришли.
И, словно вылившись изъ шторма, сидѣли мы на неизвѣстномъ намъ берегу и смотрѣли туда, на востокъ, гдѣ въ волнахъ коммунистическаго террора и соціалистическаго кабака гибнетъ столько родныхъ намъ людей... Много запоздалыхъ мыслей и чувствъ лѣзло въ голову... Да, проворонили нашу родину. Въ частности, проворонилъ и я — что ужъ тутъ грѣха таить. Патріотизмъ? Любовь къ родинѣ? Кто боролся просто за это? Боролись: за усадьбу, за программу, за партію, за церковь, за демократію, за самодержавіе... Я боролся за семью. Борисъ боролся за скаутизмъ. Нужно было, давно нужно было понять, что внѣ родины — нѣтъ ни черта: ни усадьбы, ни семьи, ни скаутизма, ни карьеры, ни демократіи, ни самодержавія — ничего нѣтъ. Родина — какъ кантовскія категоріи времени и пространства; внѣ этихъ категорій — пустота, Urnichts. И вотъ — проворонили...
И эти финны... Таежный мужичекъ, пограничные солдаты, жена начальника заставы. Я вспомнилъ финскихъ идеалистическихъ и коммунистическихъ карасей, пріѣхавшихъ въ СССР изъ Америки, ограбленныхъ, какъ липки, и голодавшихъ на Уралѣ и на Алтаѣ, вспомнилъ лица финскихъ "бѣженцевъ" въ ленинградской пересылкѣ — лица, въ которыхъ отъ голода глаза ушли куда-то въ глубину черепа и губы ссохлись, обнажая кости челюстей... Вспомнился грузовикъ съ финскими бѣженцами въ Кареліи, въ селѣ Койкоры... Да, ихъ принимали не такъ, какъ принимаютъ здѣсь насъ... На чашку кофе ихъ не приглашали и кастрюль имъ не пытались чистить... Очень ли мы правы, говоря о русской общечеловѣчности и дружественности?.. Очень ли ужъ мы правы, противопоставляя "матеріалистическій Западъ" идеалистической русской душѣ?
Юра сидѣлъ съ потухшей папиросой въ зубахъ и глядя, какъ и я, на востокъ, поверхъ озера и тайги... Замѣтивъ мой взглядъ, онъ посмотрѣлъ на меня и кисло улыбнулся, вѣроятно, ему тоже пришла въ голову какая-то параллель между тѣмъ, какъ встрѣчаютъ людей тамъ и какъ встрѣчаютъ ихъ здѣсь... Да, объяснить можно, но дать почувствовать — нельзя. Юра, собственно, Россіи не видалъ. Онъ видѣлъ соціализмъ, Москву, Салтыковку, людей, умирающихъ отъ маляріи на улицахъ Дербента, снесенныя артиллеріей села Украины, лагерь въ Чустроѣ, одиночку ГПУ, лагерь ББК. Можетъ быть, не слѣдовало ему всего этого показывать?.. А — какъ не показать?
Юра попросилъ у меня спички. Снова зажегъ папиросу, руки слегка дрожали. Онъ ухмыльнулся еще разъ, совсѣмъ уже дѣланно и кисло, и спросилъ: "Помнишь, какъ мы за керосиномъ ѣздили?"... Меня передернуло...
Это было въ декабрѣ 1931 года. Юра только что пріѣхалъ изъ буржуазнаго Берлина. Въ нашей Салтыковкѣ мы сидѣли безъ свѣта — керосина не было. Поѣхали въ Москву за керосиномъ. Стали въ очередь въ четыре часа утра. Мерзли до десяти. Я принялъ на себя административныя обязанности и сталъ выстраивать очередь, вслѣдствіе чего, когда лавченка открылась, я наполнилъ два пятилитровыхъ бидона внѣ очереди и сверхъ нормы. Кое-кто сталъ протестовать. Кое-кто полѣзъ драться. Изъ за десяти литровъ керосина, изъ-за пятіалтыннаго по "нормамъ" "проклятаго царскаго режима", были пущены въ ходъ кулаки... Что это? Россія? А какую иную Россію видалъ Юра?
Конечно, можно бы утѣшаться тѣмъ, что путемъ этакой "прививки" съ соціализмомъ въ Россіи покончено навсегда. Можно бы найти еще нѣсколько столь же утѣшительныхъ точекъ зрѣнія, но въ тотъ вечеръ утѣшенія какъ-то въ голову не лѣзли. Сзади насъ догоралъ поздній лѣтній закатъ. Съ крыльца раздался веселый голосъ маленькаго пограничника, голосъ явственно звалъ насъ. Мы поднялись. На востокѣ багровѣли, точно облитыя кровью красныя знамена, освѣщенныя уже невиднымъ намъ солнцемъ, облака и глухо шумѣла тайга...
Маленькій пограничникъ, дѣйствительно, звалъ насъ. Въ небольшой чистенькой кухнѣ стоялъ столъ, уставленный всякими съѣстными благами, на которыя Юра посмотрѣлъ съ великимъ сожалѣніемъ: ѣсть было больше некуда. Жена начальника заставы, которая, видимо, въ этой маленькой "семейной" казармѣ была полной хозяйкой, думаю, болѣе самодержавной, чѣмъ и самъ начальникъ, пыталась было уговорить Юру и меня съѣсть что-нибудь еще — это было безнадежное предпріятіе. Мы отнекивались и отказывались, пограничники о чемъ-то весело пересмѣивались, изъ спутанныхъ ихъ жестовъ я понялъ, что они спрашиваютъ, есть ли въ Россіи такое обиліе. Въ Россіи его не было, но говорить объ этомъ не хотѣлось. Юра попытался было объяснить: Россія это — одно, а коммунизмъ это — другое. Для вящей понятливости онъ въ русскій языкъ вставлялъ нѣмецкія, французскія и англійскія слова, которыя пограничникамъ были не на много понятнѣе русскихъ. Потомъ перешли на рисунки. Путемъ очень сложной и путанной символики намъ, повидимому, все же удалось объяснить нѣкоторую разницу между русскимъ и большевикомъ. Не знаю, впрочемъ, стоило ли ее объяснять. Насъ, во всякомъ случаѣ, встрѣчали не какъ большевиковъ. Нашъ маленькій пограничникъ тоже взялся за карандашъ. Изъ его жестовъ и рисунковъ мы поняли, что онъ имѣетъ медаль за отличную стрѣльбу — медаль эта висѣла у него на штанахъ — и что на озерѣ они ловятъ форелей и стрѣляютъ дикихъ утокъ. Начальникъ заставы къ этимъ уткамъ дорисовалъ еще что-то, слегка похожее на тетерева. Житье здѣсь, видимо, было совсѣмъ спокойное... Жена начальника заставы погнала насъ всѣхъ спать: и меня съ Юрой, и пограничниковъ, и начальника заставы. Для насъ были уже уготованы двѣ постели: настоящія, всамдѣлишныя, человѣческія постели. Какъ-то неудобно было лѣзть со своими грязными ногами подъ грубыя, но бѣлоснѣжно-чистыя простыни, какъ-то неловко было за нашу лагерную рвань, какъ-то обидно было, что эту рвань наши пограничники считаютъ не большевицкой, а русской рванью.
Жена начальника заставы что-то накричала на пограничниковъ, которые все пересмѣивались весело о чемъ-то, и они, слегка поторговавшись, улеглись спать. Я не безъ наслажденія вытянулся на постели — первый разъ послѣ одиночки ГПУ, гдѣ постель все-таки была. Въ лагерѣ были только голыя доски наръ, потомъ мохъ и еловыя вѣтки карельской тайги. Нѣтъ, что томъ ни говорить, а комфортъ — великая вещь...
Однако, комфортъ не помогалъ. И вмѣсто того ощущенія, которое я ожидалъ, вмѣсто ощущенія достигнутой, наконецъ, цѣли, ощущенія безопасности, свободы и прочаго и прочаго, въ мозгу кружились обрывки тяжелыхъ моихъ мыслей и о прошломъ, и о будущемъ, а на душѣ было отвратительно скверно... Чистота и уютъ этой маленькой семейной казармы, жалостливое гостепріимство жены начальника заставы, дружественное зубоскальство пограничниковъ, покой, сытость, налаженность этой жизни ощущались, какъ нѣкое національное оскорбленіе: почему же у насъ такъ гнусно, такъ голодно, такъ жестоко? Почему совѣтскіе пограничники (совѣтскіе, но все же русскіе) встрѣчаютъ бѣглецовъ изъ Финляндіи совсѣмъ не такъ, какъ вотъ эти финны встрѣтили насъ, бѣглецовъ изъ Россіи? Такъ ли ужъ много у насъ правъ на ту монополію "всечеловѣчности" и дружественности, которую мы утверждаемъ за русской душой? Не знаю, какъ будетъ дальше. По ходу событій насъ, конечно, должны арестовать, куда-то посадить, пока наши личности не будутъ болѣе или менѣе выяснены. Но, вотъ, пока что никто къ намъ не относится, какъ къ арестантамъ, какъ къ подозрительнымъ. Всѣ эти люди принимаютъ насъ, какъ гостей, какъ усталыхъ, очень усталыхъ, путниковъ, которыхъ прежде всего надо накормить и подбодрить. Развѣ, если бы я былъ финскимъ коммунистомъ, прорвавшимся въ "отечество всѣхъ трудящихся", со мною такъ обращались бы? Я вспомнилъ финновъ-перебѣжчиковъ, отосланныхъ въ качествѣ заключенныхъ на стройку Магнитогорскаго завода — они тамъ вымирали сплошь; вспомнилъ "знатныхъ иностранцевъ" въ ленинградской пересыльной тюрьмѣ, вспомнилъ группы финновъ-перебѣжчиковъ въ деревнѣ Койкоры, голодныхъ, обезкураженныхъ, растерянныхъ, а въ глазахъ — плохо скрытый ужасъ полной катастрофы, жестокой обманутости, провала всѣхъ надеждъ... Да, ихъ такъ не встрѣчали, какъ встрѣчаютъ насъ съ Юрой. Странно, но если бы вотъ на этой финской пограничной заставѣ къ намъ отнеслись грубѣе, оффиціальнѣе, мнѣ было бы какъ-то легче. Но отнеслись такъ по человѣчески, какъ я — при всемъ моемъ оптимизмѣ, не ожидалъ. И контрастъ съ безчеловѣчностью всего того, что я видалъ на территоріи бывшей Россійской имперіи, навалился на душу тяжелымъ національнымъ оскорбленіемъ. Мучительнымъ оскорбленіемъ, безвылазностью, безысходностью. И вотъ еще — стойка съ винтовками.
Я, какъ большинство мужчинъ, питаю къ оружію "влеченіе, родъ недуга". Не то, чтобы я былъ очень кровожаднымъ или воинственнымъ, но всякое оружіе, начиная съ лука и кончая пулеметомъ, какъ-то притягиваетъ. И всякое хочется примѣрить, пристрѣлять, почувствовать свою власть надъ нимъ. И такъ какъ я — отъ Господа Бога — человѣкъ, настроенный безусловно пацифистски, безусловно антимилитаристически, такъ какъ я питаю безусловное отвращеніе ко всякому убійству и что въ нелѣпой моей біографіи есть два убійства — да и то оба раза кулакомъ, — то свое влеченіе къ оружію я всегда разсматривалъ, какъ своего рода тихое, но совершенно безвредное помѣшательство — вотъ вродѣ собиранія почтовыхъ марокъ: платятъ же люди деньги за такую ерунду.
Около моей койки была стойка съ оружіемъ: штукъ восемь трехлинеекъ русскаго образца (финская армія вооружена русскими трехлинейками), двѣ двухстволки и какая-то мнѣ еще неизвѣстная малокалиберная винтовочка: завтра надо будетъ пощупать... Вотъ, тоже, чудаки люди! Мы, конечно, арестованные. Но ежели мы находимся подъ арестомъ, не слѣдуетъ укладывать насъ спать у стойки съ оружіемъ. Казарма спитъ, я — не сплю. Подъ рукой у меня оружіе, достаточное для того, чтобы всю эту казарму ликвидировать въ два счета, буде мнѣ это понадобится. Надъ стойкой виситъ заряженный парабеллюмъ маленькаго пограничника. Въ этомъ парабеллюмѣ — полная обойма: маленькій пограничникъ демонстрировалъ Юрѣ механизмъ этого пистолета... Тоже — чудаки-ребята...
И вотъ, я поймалъ себя на ощущеніи — ощущеніи, которое стоитъ внѣ политики, внѣ "пораженчества" или "оборончества", можетъ быть, даже вообще внѣ сознательнаго "я": что первый разъ за 15-16 лѣтъ своей жизни — винтовки, стоящія въ стойкѣ у стѣны я почувствовалъ, какъ винтовки дружественныя. Не оружіе насилія, а оружіе защиты отъ насилія. Совѣтская винтовка всегда ощущалась, какъ оружіе насилія — насилія надо мной, Юрой, Борисомъ, Авдѣевымъ, Акульшинымъ, Батюшковымъ и такъ далѣе по алфавиту. Совершенно точно такъ же она ощущалась и всѣми ими... Сейчасъ вотъ эти финскія винтовки, стоящія у стѣны, защищаютъ меня и Юру отъ совѣтскихъ винтовокъ. Это очень тяжело, но это все-таки фактъ: финскія винтовки насъ защищаютъ; изъ русскихъ винтовокъ мы были бы разстрѣляны, какъ были разстрѣляны милліоны другихъ русскихъ людей — помѣщиковъ и мужиковъ, священниковъ и рабочихъ, банкировъ и безпризорниковъ... Какъ, вѣроятно, уже разстрѣляны тѣ инженеры, которые пытались было бѣжать изъ Туломскаго отдѣленія соціалистическаго рая и въ моментъ нашего побѣга еще досиживали свои послѣдніе дни въ Медгорской тюрьмѣ, какъ разстрѣлянъ Акульшинъ, ежели ему не удалось прорваться въ заонѣжскую тайгу... Какъ были бы разстрѣляны сотни тысячъ русскихъ эмигрантовъ, если бы они появились на родной своей землѣ.
Мнѣ захотѣлось встать и погладить эту финскую винтовку. Я понимаю: очень плохая иллюстрація для патріотизма. Я не думаю, чтобы я былъ патріотомъ хуже всякаго другого русскаго — плохимъ былъ патріотомъ: плохими патріотами были всѣ мы — хвастаться намъ нечѣмъ. И мнѣ тутъ хвастаться нечѣмъ. Но вотъ: при всей моей подсознательной, фрейдовской тягѣ ко всякому оружію, меня отъ всякаго совѣтскаго оружіи пробирала дрожь отвращенія и страха и ненависти. Совѣтское оружіе — это, въ основномъ, орудіе разстрѣла. А самое страшное въ нашей жизни заключается въ томъ, что совѣтская винтовка — одновременно и русская винтовка. Эту вещь я понялъ только на финской пограничной заставѣ. Раньше я ея не понималъ. Для меня, какъ и для Юры, Бориса, Авдѣева, Акульшина, Батюшкова и такъ далѣе по алфавиту, совѣтская винтовка — была только совѣтской винтовкой. О ея русскомъ происхожденіи — тамъ не было и рѣчи. Сейчасъ, когда эта эта винтовка не грозить головѣ моего сына, я этакъ могу разсуждать, такъ сказать, "объективно". Когда эта винтовка, совѣтская-ли, русская-ли, будетъ направлена въ голову моего сына, моего брата — то ни о какомъ тамъ патріотизмѣ и территоріяхъ я разговаривать не буду. И Акульшинъ не будетъ... И ни о какомъ "объективизмѣ" не будетъ и рѣчи. Но лично я, находясь въ почти полной безопасности отъ совѣтской винтовки, удравъ отъ всѣхъ прелестей соціалистическаго строительства, уже начинаю ловить себя на подленькой мысли: я-то удралъ, а ежели тамъ еще милліонъ людей будетъ разстрѣляно, что-жъ, можно будетъ по этому поводу написать негодующую статью и посовѣтовать товарищу Сталину согласиться съ моими безспорными доводами о вредѣ диктатуры, объ утопичности соціализма, объ угашеніи духа и о прочихъ подходящихъ вещахъ. И, написавъ статью, мирно и съ чувствомъ исполненнаго моральнаго и патріотическаго долга пойти въ кафэ, выпить чашку кофе со сливками, закурить за двѣ марки сигару и "объективно" философствовать о той дѣвочкѣ, которая пыталась изсохшимъ своимъ тѣльцемъ растаять кастрюлю замороженныхъ помоевъ, о тѣхъ четырехъ тысячахъ ни въ чемъ неповинныхъ русскихъ ребятъ, которые догниваютъ страшные дни свои въ "трудовой" колоніи Водораздѣльскаго отдѣленія ББК ОГПУ, и о многомъ другомъ, что я видалъ "своима очима". Господа Бога молю своего, чтобы хоть эта ужъ чаша меня миновала...
Никогда въ своей жизни — а жизнь у меня была путаная — не переживалъ я такой страшной ночи, какъ эта первая ночь подъ гостепріимной и дружественной крышей финской пограничной заставы. Дошло до великаго соблазна: взять парабеллюмъ маленькаго пограничника и ликвидировать всѣ вопросы "на корню". Вотъ это дружественное человѣчье отношеніе къ намъ, двумъ рванымъ, голоднымъ, опухшимъ и, конечно, подозрительнымъ иностранцамъ, — оно для меня было, какъ пощечина.
Почему же здѣсь, въ Финляндіи, такая дружественность, да еще ко мнѣ, къ представителю народа, когда-то "угнетавшаго" Финляндію? Почему же тамъ, на моей родинѣ, безъ которой мнѣ все равно никотораго житья нѣтъ и не можетъ быть, такой безвылазный, жестокій, кровавый кабакъ? Какъ это все вышло? Какъ это я — Иванъ Лукьяновичъ Солоневичъ, ростъ выше-средній, глаза обыкновенные, носъ картошкой, вѣсъ семь пудовъ, особыхъ примѣтъ не имѣется, — какъ это я, мужчина и все прочее, могъ допустить весь этотъ кабакъ? Почему это я — не такъ, чтобы трусъ, и не такъ, чтобы совсѣмъ дуракъ — на практикѣ оказался и трусомъ, и дуракомъ?
Надъ стойкой съ винтовками мирно висѣлъ парабеллюмъ. Мнѣ было такъ мучительно и этотъ парабеллюмъ такъ меня тянулъ, что мнѣ стало жутко — что это, съ ума я схожу? Юра мирно похрапывалъ. Но Юра за весь этотъ кабакъ не отвѣтчикъ. И мой сынъ, Юра, могъ бы, имѣлъ право меня спросить: "Такъ какъ же ты все это допустилъ?"
Но Юра не спрашивалъ. Я всталъ, чтобы уйти отъ парабеллюма, и вышелъ во дворъ. Это было нѣсколько неудобно. Конечно, мы были арестованными и, конечно, не надо было ставить нашихъ хозяевъ въ непріятную необходимость сказать мнѣ: "ужъ вы, пожалуйста, не разгуливайте". Въ сѣнцахъ спалъ песъ и сразу на меня окрысился. Маленькій пограничникъ сонно вскочилъ, попридержалъ пса, посмотрѣлъ на меня сочувственнымъ взглядомъ — я думаю, видъ у меня былъ совсѣмъ сумасшедшій — и снова улегся спать. Я сѣлъ на пригоркѣ надъ озеромъ и неистово курилъ всю ночь. Блѣдная сѣверная заря поднялась надъ тайгой. Съ того мѣста, на которомъ я сидѣлъ, еще видны были лѣса русской земли, въ которыхъ гибли десятки тысячъ русскихъ — невольныхъ насельниковъ Бѣломорско-Балтійскаго комбината и прочихъ въ этомъ же родѣ.
Было уже совсѣмъ свѣтло. Изъ какого-то обхода вернулся патруль, посмотрѣлъ на меня, ничего не сказалъ и прошелъ въ домъ. Черезъ полчаса вышелъ начальникъ заставы, оглядѣлъ меня сочувственнымъ взглядомъ, вздохнулъ и пошелъ мыться къ колодцу. Потомъ появился и Юра; онъ подошелъ ко мнѣ и осмотрѣлъ меня критически:
— Какъ-то не вѣрится, что все это уже сзади. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, драпнули?
И потомъ, замѣтивъ мой кислый видъ, утѣшительно добавилъ:
— Знаешь, у тебя сейчасъ просто нервная реакція... Отдохнешь — пройдетъ.
— А у тебя?
Юра пожалъ плечами.
— Да какъ-то, дѣйствительно, думалъ, что будетъ иначе. Нѣмцы говорятъ: Bleibe im Lande und naehre dich redlich.
— Такъ что же? Можетъ быть, лучше было оставаться?
— Э, нѣтъ, ко всѣмъ чертямъ. Когда вспоминаю подпорожскій УРЧ, БАМ, дѣтишекъ — и сейчасъ еще словно за шиворотъ холодную воду льютъ... Ничего, не раскисай, Ва...
Насъ снова накормили до отвала. Потомъ все населеніе заставы жало намъ руки, и подъ конвоемъ тѣхъ же двухъ пограничниковъ, которые встрѣтили насъ въ лѣсу, мы двинулись куда-то пѣшкомъ. Въ верстѣ отъ заставы, на какомъ-то другомъ озерѣ, оказалась моторная лодка, въ которую мы и усѣлись всѣ четверо.
Снова лабиринты озеръ, протоковъ, рѣченокъ. Снова берега, покрытые тайгой, болотами, каменныя осыпи, завалы бурелома на вершинахъ хребтовъ. Юра посмотрѣлъ и сказалъ: "бр-ръ, больше я по такимъ мѣстамъ не ходокъ, даже смотрѣть не хочется"...
Но все-таки сталъ смотрѣть. Сейчасъ изъ этой моторки своеобразный карельскій пейзажъ былъ такимъ живописнымъ, отъ него вѣяло миромъ лѣсной пустыни, въ которой скрываются не заставы ГПУ, а Божьи отшельники. Моторка вспугивала стаи дикихъ утокъ, маленькій пограничникъ пытался было стрѣлять въ нихъ изъ парабеллюма. По Юриному лицу было видно, что и у него руки чесались. Пограничникъ протянулъ парабеллюмъ и Юрѣ — въ Медгорѣ этого бы не сдѣлали. Раза три и Юра промазалъ по стайкѣ плававшихъ у камышей утокъ. Утки снялись и улетѣли.
Солнце подымалось къ полудню. На душѣ становилось какъ-то яснѣе и спокойнѣе. Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ Юра правъ: это было только нервной реакціей. Около часу дня моторка пристала къ какой-то спрятанной въ лѣсныхъ заросляхъ крохотной деревушкѣ. Наши пограничники побѣжали въ деревенскую лавченку и принесли папиросъ, лимонаду и чего-то еще въ этомъ родѣ. Собравшіеся у моторки молчаливые финны сочувственно выслушивали оживленное повѣствованіе нашего маленькаго конвоира и задумчиво кивали своими трубками. Маленькій конвоиръ размахивалъ руками такъ, какъ если бы онъ былъ не финномъ, а итальянцемъ, и, подозрѣваю, вралъ много и сильно. Но, видимо, вралъ достаточно живописно.
Къ вечеру добрались до какого-то пограничнаго пункта, въ которомъ обиталъ патруль изъ трехъ солдатъ. Снова живописные разсказы пограничника — ихъ размѣръ увеличивался съ каждымъ новымъ опытомъ и, повидимому, обогащался новыми подробностями и образами. Наши хозяева наварили намъ полный котелъ ухи, и послѣ ужина мы улеглись спать на сѣнѣ. На этотъ разъ я спалъ, какъ убитый.
Рано утромъ мы пришли въ крохотный городокъ — сотня деревянныхъ домиковъ, раскинутыхъ среди вырубленныхъ въ лѣсу полянокъ. Какъ оказалось впослѣдствіи, городокъ назывался Илломантси, и въ немъ находился штабъ какой-то пограничной части. Но было еще рано, и штабъ еще спалъ. Наши конвоиры съ чего-то стали водить насъ по какимъ-то знакомымъ своимъ домамъ. Все шло, такъ сказать, по ритуалу. Маленькій пограничникъ размахивалъ руками и повѣствовалъ; хозяйки, охая и ахая, устремлялись къ плитамъ — черезъ десять минутъ на столѣ появлялись кофе, сливки, масло и прочее. Мы съ любопытствомъ и не безъ горечи разглядывали эти крохотныя комнатки, вѣроятно, очень бѣдныхъ людей, занавѣсочки, скатерти, наивныя олеографіи на стѣнахъ, пухленькихъ и чистенькихъ хозяекъ — такой слаженный, такой ясный и увѣренный бытъ... Да, сюда бы пустить нашихъ раскулачивателей, на эту нищую землю — не то, что наша Украина, — на которой люди все-таки строятъ человѣческое житье, а не коллективизированный бедламъ...
Въ третьемъ по очереди домѣ мы уже не могли ни выпить, ни съѣсть ни капли и ни крошки. Хожденія эти были закончены передъ объективомъ какого-то мѣстнаго фотографа, который увѣковѣчилъ насъ всѣхъ четырехъ. Наши пограничники чувствовали себя соучастниками небывалой въ этихъ мѣстахъ сенсаціи. Потомъ пошли къ штабу. Передъ вышедшимъ къ намъ офицеромъ нашъ маленькій пограничникъ пѣтушкомъ вытянулся въ струнку и сталъ о чемъ-то оживленно разсказывать. Но такъ какъ разсказывать, да еще и оживленно, безъ жестикуляціи онъ, очевидно, не могъ, то отъ его субординаціи скоро не осталось ничего: нравы въ финской арміи, видимо, достаточно демократичны.
Съ офицеромъ мы, наконецъ, смогли объясниться по-нѣмецки. Съ насъ сняли допросъ — первый допросъ на буржуазной территоріи — несложный допросъ: кто мы, что мы, откуда и прочее. А послѣ допроса снова стали кормить. Такъ какъ въ моемъ лагерномъ удостовѣреніи моя профессія была указана: "инструкторы физкультуры", то къ вечеру собралась группа солдатъ — одинъ изъ нихъ неплохо говорилъ по-англійски — и мы занялись швыряніемъ диска и ядра. Финскія "нейти" (что соотвѣтствуетъ французскому mademoiselle) стояли кругомъ, пересмѣивались и шушукались. Небольшая казарма и штабъ обслуживались женской прислугой. Всѣ эти "нейти" были такими чистенькими, такими новенькими, какъ будто ихъ только что выпустили изъ магазина самой лучшей, самой добросовѣстной фирмы. Еще какія-то "нейти" принесли намъ апельсиновъ и банановъ, потомъ насъ уложили спать на сѣнѣ — конечно, съ простынями и прочимъ. Утромъ жали руки, хлопали по плечу и говорили какія-то, вѣроятно, очень хорошія вещи. Но изъ этихъ очень хорошихъ вещей мы не поняли ни слова.
ВЪ КАТАЛАЖКѢ
Въ Илломантси мы были переданы, такъ сказать, въ руки гражданскихъ властей. Какой-то равнодушнаго вида парень повезъ насъ на автобусѣ въ какой-то городокъ, съ населеніемъ, вѣроятно, тысячъ въ десять, оставилъ насъ на тротуарѣ и куда-то исчезъ. Прохожая публика смотрѣла на насъ взорами, въ которыхъ сдержанность тщетно боролась съ любопытствомъ и изумленіемъ. Потомъ подъѣхалъ какой-то дядя на мотоциклеткѣ, отвезъ насъ на окраину города, и тамъ мы попали въ каталажку. Намъ впослѣдствіи изъ вѣжливости объяснили, что это не каталажка, то-есть не арестъ, а просто карантинъ. Ну, карантинъ, такъ карантинъ. Каталажка была домашняя, и при нашемъ опытѣ удрать изъ нея не стоило рѣшительно ничего. Но не стоило и удирать. Дядя, который насъ привезъ, сдѣлалъ было видъ что ему по закону полагается устроить обыскъ въ нашихъ вещахъ, подумалъ, махнулъ рукой и уѣхалъ куда-то восвояси. Часа черезъ два вернулся съ тѣмъ же мотоцикломъ и повезъ насъ куда-то въ городъ, какъ оказалось, въ политическую полицію.
Я не очень ясно представляю себѣ, чѣмъ и какъ занята финская политическая полиція... Какой-то высокій, среднихъ лѣтъ, господинъ ошарашилъ меня вопросомъ:
— Ви членъ векапебе?
Слѣдующій вопросъ, заданный по шпаргалкѣ, звучалъ приблизительно такъ:
— Ви членъ мопръ, ви членъ оптете? — Подъ послѣднимъ, вѣроятно, подразумѣвалось "Общество пролетарскаго туризма", ОПТЭ.
Мы перешли на нѣмецкій языкъ, и вопросъ о моихъ многочисленныхъ членствахъ какъ-то отпалъ. Заполнили нѣчто вродѣ анкеты. Я попросилъ своего слѣдователя о двухъ услугахъ: узнать, что стало съ Борисомъ — онъ долженъ былъ перейти границу приблизительно вмѣстѣ съ нами — и одолжить мнѣ денегъ для телеграммы моей женѣ въ Берлинъ... На этомъ допросъ и закончился: На другой день въ каталажку прибылъ нашъ постоянный перевозчикъ на мотоциклѣ въ сопровожденіи какой-то очень дѣлового вида "нейти", такой же чистенькой и новенькой, какъ и всѣ прочія. "Нейти", оказывается, привезла мнѣ деньги: телеграфный переводъ изъ Берлина и телеграмму съ поздравленіемъ. Еще черезъ часъ меня вызвали къ телефону, гдѣ слѣдователь, дружески поздравивъ меня, сообщилъ, что нѣкто, именующій себя Борисомъ Солоневичемъ, перешелъ 12 августа финскую границу въ районѣ Сердоболя... Юра, стоявшій рядомъ, по выраженію моего лица понялъ, въ чемъ дѣло.
— Значитъ, и съ Бобомъ все въ порядкѣ... Значитъ, всѣ курилки живы. Вотъ это классъ! — Юра хотѣлъ было ткнуть меня кулакомъ въ животъ, но запутался въ телефонномъ проводѣ. У меня перехватило дыханіе: неужели все это — не сонъ?..
9-го сентября 1934 года, около 11 часовъ утра, мы въѣзжали на автомобилѣ на свою первую буржуазную квартиру... Присутствіе г-жи М., представительницы русской колоніи, на попеченіе и иждивеніе которой мы были, такъ сказать, сданы финскими властями, не могло остановить ни дружескихъ изліяній, ни безпокойныхъ вопросовъ: какъ бѣжали мы, какъ бѣжалъ Борисъ, и какъ это все невѣроятно, неправдоподобно, что вотъ ѣдемъ мы по вольной землѣ и нѣтъ ни ГПУ, ни лагеря, ни Девятнадцатаго квартала, нѣтъ багровой тѣни Сталина и позорной необходимости славить геніальность тупицъ и гуманность палачей...
БОРИСЪ СОЛОНЕВИЧЪ. Мой побѣгъ изъ "рая"
Въ той массѣ писемъ, которыми бомбардируютъ насъ читатели со всѣхъ концовъ міра, все чаще повторяется запросъ къ брату: а что-же сталось съ третьимъ "совѣтскимъ мушкетеромъ" — Борисомъ, то-есть со мной... Мой братъ Иванъ, авторъ книги "Россія въ концлагерѣ", рѣшилъ не излагать самъ исторію моего побѣга, а такъ сказать, просто передалъ перо мнѣ.
Предлагаемый читателямъ разсказъ является заключительной главой моей книги "Молодежь и ГПУ" и печатается здѣсь почти безъ измѣненій.
Въ качествѣ нѣкотораго предисловія, я въ нѣсколькихъ словахъ сообщу, какъ проходила моя "единоличная" эпопея послѣ разставанія съ братомъ въ Подпорожьи.
Санитарный городокъ прожилъ недолго. Прежде всего ГУЛАГ не слишкомъ ласково отнесся къ мысли концентрировать "отбросы лагеря" — инвалидовъ и слабосильныхъ — въ одномъ мѣстѣ, вдобавокъ недалеко отъ желѣзной дороги и судоходной рѣки. Къ тому же академикъ Графтіо, строитель гидростанціи № 2, предъявилъ претензіи на бараки Погры для своихъ рабочихъ. Словомъ, сангородокъ, не безъ содѣйствія лирической mademoiselle Шацъ, былъ раскассированъ, а я переброшенъ въ столицу "королевства Свирьлага" — Лодейное Поле.
Съ тѣхъ поръ, какъ Императоръ Петръ строилъ тамъ свои ладьи — сирѣчь, флотъ — этотъ городокъ мало выросъ: въ немъ была не больше 10.000 жителей, и назвать его городомъ можно было лишь при сильномъ напряженіи фантазіи.
На окраинѣ этого городка былъ расположенъ лагерный пунктъ съ 3.000 "невольныхъ" жителей.
И вотъ туда-то начальникомъ санитарной части и былъ назначенъ я, и вотъ оттуда-то въ одинъ день съ братомъ я и бѣжалъ изъ "счастливѣйшей родины самыхъ счастливыхъ людей во всемъ мірѣ и его окрестностяхъ"...
Въ своей медицинской дѣятельности много мнѣ пришлось видѣть такихъ оборотныхъ сторонъ лагерной жизни, которыя лучше бы никому не видѣть... Если удастся — я разскажу объ этихъ сторонахъ... Здѣсь же моя тема — это только побѣгъ, historia drapandi — тотъ самый "драпежъ", о которомъ сейчасъ снится съ холоднымъ потомъ, а вспоминается съ гордостью и смѣхомъ...
ИСТОРИЧЕСКІЙ ДЕНЬ — 28 ІЮЛЯ 1934 ГОДА
Третій разъ... Неужели судьба не улыбнется мнѣ и на этотъ разъ?..
И я обводилъ "послѣднимъ взглядомъ" проволочные заборы лагеря, вооруженную охрану, толпы голодныхъ, измученныхъ заключенныхъ, а въ головѣ все трепетала и билась мысль:
— Неужели и этотъ побѣгъ не удастся?
Хорошо запомнился мнѣ этотъ день... Ночью меня будили "только" два раза — къ самоубійцѣ и тяжело больному. Рано утромъ привели маленькаго воришку — почти мальчика, лѣтъ 14, который пытался бѣжать въ сторону Ленинграда и былъ пойманъ собаками ищейками: тѣло и кожа висѣли клочьями... Ну, что-жъ, можетъ быть, завтра и меня приведутъ въ такомъ видѣ... Б-р-р-ръ...
День проходилъ какъ во снѣ. Къ побѣгу все было готово, и нужно было ждать вечера. Изъ самой ограды лагеря я долженъ былъ выйти налегкѣ. Всѣ свои запасы для длительнаго похода я хранилъ въ аптечкѣ спортивнаго стадіона, въ мѣшечкахъ и пакетахъ съ надписями: "Venena" съ черепомъ и скрещенными костями. А свои запасы я собиралъ нѣсколько мѣсяцевъ, урывая отъ скуднаго пайка, требуя для "медицинскаго анализа" продукты изъ складовъ и столовыхъ. И для 2-3 недѣль тяжелаго пути у меня было килограмма 4 макаронъ, кило три сахару, кусокъ сала и нѣсколько сушеныхъ рыбъ... Какъ-нибудь дойду!..
ПЕРВАЯ ЗАДАЧА
Прежде всего нужно было выйти изъ ограды лагеря такъ, чтобы не возбудить подозрѣній. Я, какъ докторъ, пользовался нѣкоторыми возможностями покидать лагерь на нѣсколько часовъ, но для успѣшности побѣга нужно было обезпечить себѣ большую свободу дѣйствій. Нужно было, чтобы меня не начали искать въ этотъ вечеръ.
Случай помогъ этому.
— Вамъ телеграмма, докторъ, — сказалъ, догнавъ меня, санитаръ, когда я по досчатому мостку черезъ болото шелъ въ амбулаторію.
Я безпокойно развернулъ листокъ. Телефонограмма за нѣсколько часовъ до побѣга не можетъ не безпокоить...
"Начальнику Санитарной Части, д-ру Солоневичу. Предлагается явиться сегодня, къ 17 часамъ на стадіонъ Динамо.
Начальникъ Административнаго Отдѣла Скороскоковъ".
На душѣ посвѣтлѣло, ибо это вполнѣ совпадало съ моими планами.
Въ 4 часа съ санитарной сумкой, спокойный съ виду, но съ сильно бьющимся сердцемъ, я торопливо направлялся къ пропускнымъ воротамъ лагеря.
— Вамъ куда, докторъ? — лѣниво спросилъ сидѣвшій въ дежурной комнатѣ комендантъ.
Увидавъ его знакомое лицо, я облегченно вздохнулъ: этотъ не станетъ придираться. Не разъ, когда ему нужно было вступать въ дежурство, а изо рта широкой струей несло виннымъ перегаромъ, я выручалъ его ароматическими средствами изъ аптеки. Этотъ изъ простой благодарности не будетъ ни задерживать, ни торопиться доносить, что такой-то заключенный не прибылъ во время. А для меня и каждая задержка, и каждый лишній часъ — вопросъ, можетъ быть, жизни и смерти...
— Да, вотъ, вызываютъ въ Динамо, а потомъ на операцію. Вотъ — телефонограмма, — ворчливо отвѣтилъ я. — Тутъ цѣлую ночь не спалъ, и теперь, вѣрно, опять на всю ночь. Жизнь собачья...
— Ну, что-жъ, дѣло служебное, — философски замѣтилъ комендантъ, сонно покачивая головой. — А на Динамо-то что сегодня?
— Да наши съ Петрозаводскомъ играютъ.
— Ишь ты! — оживился чекистъ. — Наше Динамо, что-ль?
— Да.
— Ну, ну... Послѣ разскажете, какъ тамъ и что. Наши-то, небось, должны наклепать... Пропускъ-то вы взяли, докторъ?
— Не въ первый разъ. Взялъ, конечно.
— Ладно, проходите. А когда обратно?
— Да, вѣрно, только утромъ. Я черезъ сѣверныя ворота пройду — тамъ къ лазарету ближе. Больные ждутъ...
— Ладно, идите. — И сонное лицо коменданта опустилось къ газетѣ.
Выйдя изъ ограды лагеря, я облегченно перевелъ духъ. Первая задача была выполнена. Второй задачей было — уйти въ лѣсъ, а третьей — уйти изъ СССР.
Ладно...
"Безумство смѣлыхъ — вотъ мудрость жизни"...
Рискнемъ!
МОЙ ПОСЛѢДНІЙ СОВѢТСКІЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧЪ
На стадіонѣ Динамо предматчевая лихорадка. Команда Петрозаводска уже тренируется на полѣ. Два ряда скамей, окружающихъ небольшую площадку съ громкимъ названіемъ "стадіонъ", уже полны зрителями.
Изъ своего маленькаго врачебнаго кабинета я слышу взволнованные голоса мѣстныхъ футболистовъ. Видимо, что-то не клеится, кого-то не хватаетъ.
Приготовивъ сумку скорой помощи, я уже собирался выйти на площадку, какъ неожиданно въ корридорѣ раздѣвалки я столкнулся съ капитаномъ команды, онъ же начальникъ адмотдѣла мѣстнаго ГПУ... Толстое, откормленное лицо чекиста встревожено.
— Докторъ, идите-ка сюда. Только тихонько, чтобы петрозаводцы не услыхали. Тутъ нашъ игрокъ одинъ въ дымину пьянъ. Нельзя-ли что сдѣлать, чтобы онъ, стервецъ, очухался?
На скамейкѣ въ раздѣвалкѣ игроковъ, дѣйствительно, лежалъ и что-то мычалъ человѣкъ въ формѣ войскъ ОГПУ. Когда я наклонился надъ нимъ и тронулъ его за плечо, всклокоченная голова пьянаго качнулась, повела мутными глазами и снова тяжело легла на лавку.
— Нѣтъ, товарищъ Скороскоковъ. Ничего тутъ не выйдетъ. Чтобы онъ очухался, кое-что, конечно, можно устроить. Но играть онъ все равно не сможетъ. Это — категорически. Лучше ужъ и не трогать. А то онъ еще скандаловъ надѣлаетъ.
— Вотъ сукинъ сынъ! И этакъ подвести всю команду! Посажу я его на недѣльку подъ арестъ. Будетъ знать!.. Чортъ побери... Лучшій бекъ!..
Черезъ нѣсколько минутъ изъ раздѣвалки опять съ озабоченнымъ лицомъ вышелъ Скороскоковъ и съ таинственнымъ видомъ поманилъ меня въ кабинетъ.
— Слушайте, докторъ, — взволнованно сказалъ онъ тихимъ голосомъ, когда мы остались одни. — Вотъ какая штукенція. Ребята предлагаютъ, чтобы вы сегодня за насъ сыграли.
— Я? За Динамо?
— Ну, да. Игрокъ вы, кажись, подходящій. Есть ребята, которые васъ еще по Питеру и по Москвѣ помнятъ, вы тогда въ сборной флота играли... Такъ, какъ — сыграете? А?
— Да я вѣдь заключенный.
— Ни хрѣна! Ребята наши не выдадутъ. А петрозаводцы не знаютъ. Видъ у васъ знатный... Выручайте, докторъ. Не будьте сволочью... Какъ это говорится: "чѣмъ чортъ не шутитъ, когда Богъ спитъ"... А для насъ безъ хорошаго бека — зарѣзъ.
Волна задора взмыла въ моей душѣ. Чортъ побери! Дѣйствительно, "если погибать, такъ ужъ погибать съ музыкой"... Сыграть развѣ въ самомъ дѣлѣ въ послѣдній разочекъ передъ побѣгомъ, передъ ставкой на смерть или побѣду?.. Эхъ, куда ни шло!..
— Ладно, давайте форму...
— Вотъ это дѣло, — одобрительно хлопнулъ меня по плечу капитанъ. — Компанейскій вы парень, товарищъ Солоневичъ. Сразу видать — свой въ доску...
Каково было ему узнать на слѣдующій день, что этотъ "свой парень" удралъ изъ лагеря сразу же послѣ футбольнаго матча. Иная гримаса мелькнула у него на лицѣ, когда онъ, вѣроятно, отдавалъ приказаніе:
"Поймать обязательно. Въ случаѣ сопротивленія — пристрѣлить, какъ собаку...
МАТЧЪ
"Футболъ — это такая игра, гдѣ 22 большихъ, большихъ
дурака гоняютъ маленькій, маленькій мячикъ... и всѣ
довольны"... (Шутка).
Я не берусь описывать ощущенія футболиста въ горячемъ серьезномъ матчѣ... Радостная автоматичность привычныхъ движеній, стремительный темпъ смѣнящихся впечатлѣній, крайняя психическая сосредоточенность, напряженіе всѣхъ мышцъ и нервовъ, біенье жизни и силы въ каждой клѣточкѣ здороваго тѣла — все это создаетъ такой пестрый клубокъ яркихъ переживаній, что еще не родился тотъ поэтъ или писатель, который справился бы съ такой темой...
Да и никто изъ "артистовъ пера", кромѣ, кажется, Конанъ-Дойля, не "возвышался" до искусства хорошо играть въ футболъ. А это искусство, батеньки мои, хотя и менѣе уважаемое, чѣмъ искусство писать романы, но никакъ не менѣе трудное... Не вѣрите? Ну, такъ попробуйте... Тяжелая задача... Не зря вѣдь говоритъ народная мудрость: "У отца было три сына: двое умныхъ, а третій футболистъ". А если разговоръ дошелъ ужъ до такихъ интимныхъ нотокъ, такъ ужъ позвольте мнѣ признаться, что у моего отца какъ разъ было три сына и — о, несчастный! — всѣ трое футболисты. А я, мимоходомъ будь сказано, третій-то и есть...
Ну, словомъ, минутъ за пять до конца матча счетъ былъ 2:2. Толпа зрителей гудѣла въ волненіи. Взрывы нервнаго смѣха и апплодисментовъ то и дѣло прокатывались по стадіону, и все растущее напряженіе игроковъ проявлялось въ бѣшенномъ темпѣ игры и въ рѣзкости.
Вотъ, недалеко отъ воротъ противника нашъ центръ-форвардъ удачно послалъ мячъ "на вырывъ" — и худощавая фигура инсайда метнулась къ воротамъ... Прорывъ... Не только зрители, но и всѣ мы, стоящіе сзади линіи нападенія, замираемъ. Дойдетъ ли до воротъ нашъ игрокъ?.. Но наперерѣзъ ему уже бросаются два защитника. Свалка, "коробочка" — и нашъ игрокъ лежитъ на землѣ, грубо сбитый съ ногъ. Свистокъ... Секунда громаднаго напряженія. Судья медленно дѣлаетъ шагъ къ воротамъ, и мгновенно всѣ понимаютъ причину свистка:
Penalty kick!
Волна шума проносится по толпѣ. А наши нервы, нервы игроковъ, напрягаются еще сильнѣй... Какъ-то сложится штрафной ударъ? Пропустить удачный моментъ въ горячкѣ игры — не такъ ужъ обидно. Но промазать penalty kick, да еще на послѣднихъ минутахъ матча — дьявольски обидно... Кому поручать отвѣтственную задачу — бить этотъ штрафной ударъ?
У мяча кучкой собрались наши игроки. Я отхожу къ своимъ воротамъ. Нашъ голкиперъ, на совѣсти котораго сегодня одинъ легкій мячъ, не отрываетъ глазъ отъ того мѣста, гдѣ уже установленный судьей мячъ ждетъ "рокового" удара.
— Мать моя родная! Неужто смажутъ?
— Ни черта, — успокаиваю я. — Пробьемъ, какъ въ бубенъ..
— Ну, а кто бьетъ-то?..
Въ этотъ моментъ черезъ все поле проносится крикъ нашего капитана:
— Эй, товарищъ Солоневичъ. Кати сюда!
"Что за притча. Зачѣмъ я имъ нуженъ? Неужели мнѣ поручать бить?.. Бѣгу. Взволнованныя лица окружаютъ меня. Скороскоковъ вполголоса говоритъ:
— А, ну ка, докторъ, ударь-ка ты. Наши ребята такъ нервничаютъ, что я прямо боюсь... А вы у насъ дядя хладнокровный. Людей рѣзать привыкли, такъ тутъ вамъ пустякъ... Двиньте-ка...
Господи!.. И бываютъ же такія положенія!.. Черезъ нѣсколько часовъ я буду въ бѣгахъ, а теперь я рѣшаю судьбу матча между чекистами, которые завтра будутъ ловить меня, а потомъ, можетъ быть, и разстрѣливать... Чудеса жизни...
Не торопясь, методически, я устанавливаю мячъ и медленно отхожу для разбѣга. Кажется, что во всемъ мірѣ остаются только двое: я и вражескій голкиперъ, согнувшійся и замершій въ воротахъ.
По старому опыту я знаю, что въ такія минуты игра на нервахъ — первое дѣло. Поэтому я увѣренно и насмѣшливо улыбаюсь ему въ лицо и, не спѣша, засучиваю рукава футбольной майки. Я знаю, что каждая секунда, выигранная мною до удара, ложится тяжкимъ бременемъ на психику голкипера. Не хотѣлъ бы я теперь быть на его мѣстѣ...
Все замерло. На полѣ и среди зрителей есть только одна двигающаяся фигура — это я. Но я двигаюсь неторопливо и увѣренно. Мячъ стоитъ хорошо. Бутца плотно облегаетъ ногу. Въ нервахъ — приподнятая увѣренность...
Вотъ, наконецъ, и свистокъ. Бѣдный голкиперъ! Если всѣ въ лихорадкѣ ожиданія, то каково-то ему?..
Нѣсколько секундъ я напряженно всматриваюсь въ его глаза, опредѣляю въ какой уголъ воротъ бить и плавно дѣлаю первые шаги разбѣга. Потомъ мои глаза опускаются на мячъ и — странное дѣло — продолжаютъ видѣть ворота. Послѣдній стремительный рывокъ, ступня ноги пристаетъ къ мячу и въ сознаніи наступаетъ перерывъ въ нѣсколько сотыхъ секунды. Я не вижу полета мяча и не вижу рывка голкипера. Эти кадры словно вырѣзываются изъ фильма. Но въ слѣдующихъ кадрахъ я уже вижу, какъ трепыхается сѣтка надъ прыгающимъ въ глубинѣ воротъ мячемъ и слышу какой-то общій вздохъ игроковъ и зрителей...
Свистокъ, и ощущеніе небытія прекращается... Голъ!..
Гулъ апплодисментовъ сопровождаетъ насъ, отбѣгающихъ на свои мѣста. Еще нѣсколько секундъ игры и конецъ...3:2...
ЗАДАЧА № 2
Затихло футбольное поле. Шумящимъ потокомъ вылились за ворота зрители. Одѣлись и ушли взволнованные матчемъ игроки...
Я задержался въ кабинетѣ, собралъ въ сумку свои запасы и черезъ заднюю калитку вышелъ со стадіона.
Чтобы уйти въ карельскіе лѣса, мнѣ нужно было перебраться черезъ большую полноводную рѣку Свирь. А весь городъ, рѣка, паромъ на ней, всѣ переправы — были окружены плотной цѣпью сторожевыхъ постовъ... Мало кому изъ бѣглецовъ удавалось прорваться даже черезъ эту первую цѣпь охраны... И для переправы черезъ рѣку я прибѣгъ къ цѣлой инсценировкѣ.
Въ своемъ бѣломъ медицинскомъ халатѣ, съ украшенными красными крестами сумками, я торопливо сбѣжалъ къ берегу, изображая страшную спѣшку. У воды нѣсколько бабъ стирали бѣлье, рыбаки чинили сѣти, а двое ребятишекъ съ лодочки удили рыбу. Регулярно обходящаго берегъ красноармейскаго патруля не было видно.
— Товарищи, — возбужденно сказалъ я рыбакамъ. — Дайте лодку поскорѣе! Тамъ, на другомъ берегу, человѣкъ умираетъ. Лошадь ему грудь копытомъ пробила... Каждая минута дорога...
— Ахъ, ты, Господи, несчастье-то какое!.. Что-жъ его сюда не привезли?
— Да трогаться съ мѣста нельзя. На дорогѣ помереть можетъ. Шутка сказать: грудная клѣтка вся сломана. Нужно на мѣстѣ операцію дѣлать. Вотъ у меня съ собой и всѣ инструменты и перевязки... Можетъ, Богъ дастъ, еще успѣю...
— Да, да... Вѣрно... Эй, ребята, — зычно закричалъ старше рыбакъ. — Греби сюда. Вотъ доктора отвезите на ту сторону. Да что-бъ живо...
Малыши посадили меня въ свою лодочку и подъ соболѣзнующія замѣчанія повѣрившихъ моему разсказу рыбаковъ я отъѣхалъ отъ берега.
Вечерѣло. Солнце уже опускалось къ горизонту, и его косые лучи, отражаясь отъ зеркальной поверхности рѣки, озаряли все золотымъ сіяніемъ... Гдѣ-то тамъ, на западѣ, лежалъ свободный миръ, къ которому я такъ жадно стремился. И я вспомнилъ слова поэта:
Вотъ, наконецъ, и сѣверный берегъ. Толчекъ — и лодка стала. Я наградилъ ребятъ и направился къ отдаленнымъ домикамъ этого пустыннаго берега, гдѣ находился воображаемый паціентъ... Зная, что за мной могутъ слѣдить съ другого берега, я шелъ медленно и не скрываясь. Зайдя за холмикъ, я пригнулся и скользнулъ въ кусты. Тамъ, выбравъ укромное мѣстечко, я прилегъ и сталъ ждать наступленія темноты.
Итакъ, двѣ задачи уже выполнены успѣшно: я выбрался изъ лагеря и переправился черезъ рѣку. Какъ будто немедленной погони не должно быть. А къ утра я буду уже въ глубинѣ карельскихъ лѣсовъ и болотъ... Ищи иголку въ стогѣ сѣна!
На мнѣ плащъ, сапоги, рюкзакъ. Есть немного продуктовъ и котелокъ. Компаса, правда, нѣтъ, но есть компасная стрѣлка, зашитая въ рукавѣ. Карты тоже нѣтъ, но какъ-то на аудіенціи у начальника лагеря я присмотрѣлся къ висѣвшей на стѣнѣ картѣ — идти сперва 100 километровъ прямо на сѣверъ, потомъ еще 100 на сѣверо-западъ и потомъ свернуть прямо на западъ, пока, если Богъ дастъ, не удастся перейти границы между волей и тюрьмой...
Темнѣло все сильнѣе. Гдѣ-то вдали гудѣли паровозы, смутно слышался городской шумъ и лай собакъ. На моемъ берегу было тихо.
Я перевелъ свое снаряженіе на походный ладъ, снялъ медицинскій халатъ, досталъ свою драгоцѣнную компасную стрѣлку, надѣвъ ее на булавку, намѣтилъ направленіе на N и провѣрилъ свою боевую готовность.
Теперь, если не будетъ роковыхъ случайностей, успѣхъ моего похода зависитъ отъ моей воли, силъ и опытности. Мосты къ отступленію уже сожжены. Я уже находился въ "бѣгахъ". Сзади меня уже ждала пуля, а впереди, если повезетъ, — свобода.
Въ торжественномъ молчаніи наступившей ночи я снялъ шапку и перекрестился.
Съ Богомъ! Впередъ!
СРЕДИ ЛѢСОВЪ И БОЛОТЪ
Теперь возьмите, другъ-читатель, карту "старушки-Европы". Тамъ къ сѣверо-востоку отъ Ленинграда вы легко найдете большую область Карелію, на территоріи которой живетъ 150.000 "вольныхъ" людей и 350.000 заключенныхъ въ лагери ГПУ... Если вы всмотритесь болѣе пристально и карта хороша, вы между величайшими въ Европѣ озерами — Ладожскимъ и Онѣжскимъ — замѣтите тоненькую ниточку рѣки и на ней маленькій кружокъ, обозначающій городокъ. Вотъ изъ этого-то городка, Лодейное Поле, на окраинѣ котораго расположенъ одинъ изъ лагерей, я и бѣжалъ 28 іюля 1934 года.
Какимъ маленькимъ кажется это разстояніе на картѣ! А въ жизни — это настоящій "крестный путь"...
Впереди передо мной былъ трудный походъ — километровъ 250 по прямой линіи. А какая можетъ быть "прямая линія", когда на пути лежатъ болота, считающіяся непроходимыми, когда впереди дикіе, заглохшіе лѣса, гдѣ сѣть озеръ переплелась съ рѣками, гдѣ каждый клочекъ удобной земли заселенъ, когда мѣстное населеніе обязано ловить меня, какъ дикаго звѣря, когда мнѣ нельзя пользоваться не только дорогами, но и лѣсными тропинками изъ-за опасности встрѣчъ, когда у меня нѣтъ карты и свой путь я знаю только оріентировочно, когда посты чекистовъ со сторожевыми собаками могутъ ждать меня за любымъ кустомъ...
Легко говорить — "прямой путь!"
И все это одному, отрываясь отъ всего, что дорого человѣческому сердцу — отъ Родины, отъ родныхъ и любимыхъ.
Тяжело было у меня на душѣ въ этотъ тихій іюльскій вечеръ...
ВПЕРЕДЪ!
Идти ночью съ грузомъ по дикому лѣсу... Кто изъ охотниковъ, военныхъ, скаутовъ не знаетъ всѣхъ опасностей такого похода? Буреломъ и ямы, корни и суки, стволы упавшихъ деревьевъ и острые обломки скалъ — все это угрозы не меньше, чѣмъ пуля сторожевого поста... А вѣдь болѣе нелѣпаго и обиднаго положенія нельзя было и придумать — сломать или вывихнуть себѣ ногу въ нѣсколькихъ шагахъ отъ мѣста побѣга...
При призрачномъ свѣтѣ луны (полнолуніе тоже было принято во вниманіе при назначеніи дня побѣга) я благополучно прошелъ нѣсколько километровъ и съ громадной радостью вышелъ на обширное болото. Идти по нему было очень трудно: ноги вязли до колѣнъ въ мокрой травѣ и мхѣ. Кочки не давали упора, и не разъ я кувыркался лицомъ въ холодную воду болота. Но скоро удалось приноровиться, и въ мягкой тишинѣ слышалось только чавканье мокраго мха подъ моими ногами, каждый шагъ которыхъ удалялъ меня отъ ненавистной неволи.
Пройдя 3-4 километра по болоту, я дошелъ до лѣса и обернулся, чтобы взглянуть въ послѣдній разъ на далекій уже городъ. Чуть замѣтные огоньки мелькали за темнымъ лѣсомъ на высокомъ берегу Свири, да по-прежнему паровозные гудки изрѣдка своимъ мягкимъ, протяжнымъ звукомъ нарушали мрачную тишину и лѣса, и болота.
Невольное чувство печали и одиночества охватило меня.
ГОРЬКІЯ МЫСЛИ
Боже мой! Какъ могло случиться, что я очутился въ дебряхъ карельскихъ лѣсовъ въ положеніи бѣглеца, человѣка "внѣ закона", котораго каждый долженъ преслѣдовать и каждый можетъ убить?
За что разбита и смята моя жизнь? И неужели нѣтъ идей жизни, какъ только по тюрьмамъ, этапамъ, концлагерямъ, ссылкамъ, въ побѣгахъ, опасностяхъ, подъ постояннымъ гнетомъ, не зная дома и семьи, никогда не будучи увѣреннымъ въ кускѣ хлѣба и свободѣ на завтра?
Неужели не дико то, что только изъ любви и преданности скаутскому братству, только за то, что я старался помочь молодежи въ ея горячемъ стремленіи служить Родинѣ по великимъ законамъ скаутизма, — моя жизнь можетъ быть такъ исковеркана?
И неужели не было иного пути, какъ только, рискуя жизнью, уйти изъ родной страны, ставшей мнѣ не матерью, а мачехой?
Такъ, можетъ быть, смириться? Признать несуществующую вину, стать соціалистическимъ рабомъ, надъ которымъ можно дѣлать любые опыты фанатикамъ?
Нѣтъ! Ужъ лучше погибнуть въ лѣсахъ, чѣмъ задыхаться и гнить душой въ странѣ рабства. И пока я еще не сломанъ, пока есть еще силы и воля, надо бѣжать въ другой міръ, гдѣ человѣкъ можетъ жить свободно и спокойно, не испытывая гнета и насилія.
Вопросъ поставленъ правильно. Смерть или свобода? Третьяго пути не дано... Ну, что-жъ!
Я сжалъ зубы, тряхнулъ головой и вошелъ во мракъ лѣсной чащи.
ПЕРВАЯ ОПАСНОСТЬ
Сѣверная лѣтняя ночь коротка. Уже часа черезъ два стало свѣтать, и я шелъ все увѣреннѣе и быстрѣе, торопясь какъ можно дальше уйти отъ проволоки концентраціоннаго лагеря.
На пути къ сѣверу лежали болота, лѣса и кустарники. Идти пока было легко. Ноги, какъ говорятъ, сами собой двигались, какъ у вырвавшагося на свободу дикаго звѣря. И я все ускорялъ шагъ, забывъ объ отдыхѣ и пищѣ.
Но вотъ почва стала повышаться, и въ серединѣ дня я услышалъ невдалекѣ удары топора. Вслушавшись, я замѣтилъ, что удары раздаются и сбоку. Очевидно, я попалъ на участокъ лѣсозаготовокъ, гдѣ работаютъ заключенные, подъ соотвѣтствующей охраной. Отступать назадъ было опасно, сзади все-таки могла быть погоня съ собаками изъ города. Нужно было прорываться впередъ.
Я поднялъ капюшонъ моего плаща, прикрѣпилъ впереди для камуфляжа большую еловую вѣтку, которая закрывала лицо, и медленно двинулся впередъ, сожалѣя, что у меня теперь нѣтъ морского бинокля и провѣренной дальнобойной малокалиберной винтовки, отобранной въ прошломъ году при арестѣ. Съ ними было бы много спокойнѣй.
Думалъ ли я, что навыки веселыхъ скаутскихъ лѣсныхъ игръ окажутся для меня спасительными въ этомъ опасномъ походѣ?
И я медленно крался впередъ, пригибаясь къ землѣ, скользя отъ дерева къ дереву и притаиваясь у кустовъ.
Вотъ что-то мелькнуло впереди. Я замираю за кустомъ. Говоръ, шумъ шаговъ... Темныя человѣческія фигуры показались и скрылись за деревьями. Опять ползкомъ впередъ... Неуклюжій плащъ, тяжелая сумка, еловая вѣтка — мѣшаютъ и давятъ. Горячее солнце печетъ и сіяетъ, потъ заливаетъ глаза, рой комаровъ гудитъ у лица, руки исцарапаны при ползаніи, но напряженіе таково, что все это не замѣчается.
Все дальше и дальше, зигзагами обходя опасныя мѣста, гдѣ рубили лѣсъ, выжидая и прячась, бѣгомъ и ползкомъ, почти теряя надежду и опять ободряясь, я счастливо прорвался черезъ опасную зону и опять вышелъ къ болоту.
Первое лѣсное препятствіе было обойдено. Правда, мои слѣды могла еще почуять сторожевая собака и догнать меня, но, на мое счастье, къ вечеру небо покрылось тучами и началъ накрапывать дождикъ — другъ всякой пугливой и преслѣдуемой лѣсной твари. Дождь уничтожилъ запахъ моего слѣда, и теперь я уже не боялся погони изъ города или лѣсозаготовительнаго пункта.
Этотъ дождикъ порвалъ послѣднюю нитку моей связи со старымъ міромъ. Теперь я былъ заброшенъ совсѣмъ одинъ въ дебри тайги и болотъ и предоставленъ только своимъ силамъ и своему счастью...
"Теоретически" плохо было мнѣ спать въ эту ночь: дождевыя капли монотонно барабанили по моему плащу, пробираясь сквозь вѣтки ели, снизу просачивалась влага почвы, въ бокъ кололи всякіе сучки и шишки — костра я, конечно, не рѣшался разводить. Но вопреки всему этому спалъ я превосходно. Первый сонъ на свободѣ — это ли не лучшее условіе для крѣпкаго сна?
Часа черезъ 3-4 стало разсвѣтать и, несмотря на дождь, я бодро выступилъ въ походъ. Тяжелый, набухшій плащъ, оттягивающая плечи сумка, мокрая одежда, насосавшіеся влаги сапоги — все это отнюдь не дѣлало уютной моей прогулки, но, несмотря на все это, километры откладывались за спиной вполнѣ успѣшно.
НА ВОЛОСОКЪ ОТЪ ОБИДНОЙ ГИБЕЛИ.
Днемъ впереди меня развернулось широкое — въ полкилометра и длинное, безъ конца, болото. Дождь прекратился, проглянуло солнышко, и высокая зеленая трава болота заискрилась въ лучахъ солнца милліонами разноцвѣтныхъ капель. Отъ солнечной теплоты дали стали закрываться бѣлой дымкой испареній, и я смѣло, не боясь быть увидѣннымъ, сталъ пересѣкать это болото.
Ноги увязали чуть ли не по колѣно. При ихъ вытаскиваніи болото фыркало, чавкало и свистѣло, словно смѣялось надъ моими усиліями. Идти было очень трудно. Потъ градомъ катился съ лица и заливалъ очки. Платье все давно было мокро, и мускулы ногъ начинали тупо ныть отъ усталости.
Скоро появились кочки — идти стало легче. Кочки пружинили подъ ногами, но все-таки давали какую-то опору. Скоро глаза научились по цвѣту узнавать наиболѣе прочныя кочки и, только изрѣдка спотыкаясь, я успѣшно шелъ впередъ.
Уже болѣе половины болота было пройдено, когда почва приняла другой характеръ. Заблестѣли небольшія водныя пространства, окруженныя желтыми болотными цвѣтами, и зеленый коверъ подъ моими ногами сталъ колебаться. Болото превращалось въ трясину. Стараясь нащупать палкой наиболѣе твердыя мѣста съ болѣе темнымъ цвѣтомъ травы, я пытался продолжать продвигаться впередъ, какъ вдругъ моя лѣвая нога, прорвавъ верхнюю растительную пленку болота, сразу ушла въ трясину выше колѣна. Я пошатнулся и — о, ужасъ! — и другая нога стала уходить въ глубину болота... Подъ обѣими ногами перестала ощущаться сколько-нибудь твердая почва. Онѣ были схвачены словно какимъ-то невидимымъ мягкимъ капканомъ, и непонятная зловѣщая сила потянула меня вглубь медленно и неумолимо...
Я сразу понялъ трагичность своего положенія. Конечно, звать на помощь въ этомъ безлюдномъ болотѣ было безполезно. Да и помощь все равно не успѣла-бы: болото вѣдь не ждетъ, а торжествующе засасываетъ свою жертву...
Боже мой! Но неужели гибнуть такъ безславно, такъ тоскливо? Неужели сіяющее солнце и искрящіеся зеленые луга будутъ равнодушно смотрѣть на то, какъ коричневая жижа болота поднимется до груди, до лица, зальетъ глаза... Б-рррръ... Почему-то не такъ страшно, какъ безмѣрно обидно стало при мысли о такой смерти...
Эти мысли мелькнули въ головѣ съ быстротой электрической искры. Не успѣла моя правая нога уйти въ болото до средины бедра, какъ я рванулся впередъ, распласталъ руки и легъ всѣмъ туловищемъ на поверхность болота... Струйки холодной зеленой воды потекли за ухо, за воротникъ, въ рукава.
Спинная сумка была приторочена со всей скаутской опытностью, и, отстегнувъ только одинъ крючокъ, я черезъ голову сбросилъ впередъ эту лишнюю тяжесть.
Распредѣливъ вѣсъ тѣла на большую поверхность, я этимъ облегчилъ давленіе своей тяжести на ноги и черезъ полъ минуты съ облегченіемъ почувствовалъ, что дальнѣйшее засасываніе прекратилось. Упоръ всего тѣла и рукъ на травянистую поверхность болота преодолѣлъ силу засасыванія, но отъ этой неустойчивой стабильности до спасенія было еще далеко. Удержитъ ли коверъ изъ корней растеній давленіе моего туловища, когда я буду вытаскивать ноги, или оборвется вмѣстѣ съ послѣдними надеждами на спасеніе?..
Зная, что чѣмъ отчаяннѣй будутъ рывки и движенія — тѣмъ ближе будетъ гибель, я медленно и постепенно, анализируя каждый трепетъ и колебаніе спасительной корочки, отдѣлявшей меня отъ жадной болотной массы, сталъ выручать ноги изъ капкана. Сантиметръ за сантиметромъ, осторожно и плавно я вытаскивалъ свои ноги изъ трясины, и минутъ черезъ десять, показавшихся мнѣ цѣлымъ столѣтіемъ, я могъ, наконецъ, распластать ихъ, какъ и руки, въ стороны. Изъ окна, продѣланнаго моими ногами въ зеленомъ коврѣ болота, широкой струей съ противнымъ фырканьемъ и пузырьками выливалась на зеленую траву коричневая жижа трясины, словно стараясь не выпустить меня изъ своей власти.
Отплюнувшись отъ этой жижицы, залившей мнѣ лицо, я поползъ обратно, не рѣшаясь сразу встать на ноги. Бросивъ впередъ палку и зацѣпивъ зубами сумку, мнѣ удалось удачно проползти метровъ 20 къ первымъ кочкамъ и, нащупавъ тамъ самую прочную, встать. Инстинктивное стремленіе уйти подальше отъ этого "гиблаго мѣста" не позволило мнѣ даже передохнуть, и по своимъ старымъ слѣдамъ я быстро пошелъ обратно, съ замираніемъ сердца ощущая подъ ногами каждое колебаніе почвы... На второе спасеніе уже не хватило бы силъ...
Все ближе и ближе зеленая полоса лѣса. Ноги заплетаются отъ усталости, сердце бьется въ груди, какъ молотъ, потъ течетъ, смѣшиваясь съ зелеными струйками болотной воды, мозгъ еще не можетъ осознать всей глубины пережитой опасности, и только инстинктъ жизни поетъ торжествующую пѣсню бытія...
Вотъ, наконецъ, и край лѣса. Еще нѣсколько десятковъ шаговъ, и я валюсь въ полуобморокѣ къ стволу сосны, на желтый слой хвои, на настоящую твердую землю...
ВЪ ТУПИКѢ
Къ концу дня утомительной развѣдки я пришелъ къ печальному выводу: путь на сѣверъ былъ прегражденъ длинными полосами непроходимыхъ болотъ... Только теперь я понялъ, почему охрана лагеря не боялась побѣговъ на сѣверъ: болота ловили бѣглецовъ не хуже, чѣмъ солдаты...
Боясь заблудиться и потерять много времени на отыскиваніе обходныхъ путей, на слѣдующій день я еще разъ пытался форсировать переходъ черезъ трясину и едва унесъ ноги, оставивъ въ даръ болотнымъ чертямъ длинную жердь, спасшую меня при очередномъ погруженіи.
Выбора не было. Мнѣ приходилось двигаться на западъ, рискуя выйти къ городу Олонцу или къ совѣтскому берегу Ладожскаго озера. И болѣе двухъ сутокъ я лавировалъ въ лабиринтѣ болотъ, пользуясь всякой возможностью продвинуться на сѣверъ, но уже не рѣшаясь пересѣкать широкія предательски пространства топей.
Во время этихъ моихъ странствованій какъ-то днемъ вѣтеръ донесъ до меня какіе-то тарахтящіе звуки. Странное дѣло! Эти звуки напоминали грохотъ колесъ по мостовой. Но откуда здѣсь взяться мостовой? Что это — галлюцинація... Осторожно пройдя впередъ, я съ удивленіемъ и радостью увидѣлъ, что поперекъ болотистаго района на сѣверъ ведетъ деревянная дорога изъ круглыхъ короткихъ бревенъ, уложенныхъ въ видѣ своеобразной насыпи, возвышавшейся на метръ надъ поверхностью болота. Такъ вотъ откуда звуки колесъ по мостовой!
Въ моемъ положеніи всякіе признаки человѣческой жизни были не слишкомъ пріятны, но эта дорога — была спасительницей для бѣглеца, застрявшаго среди непроходимыхъ топей.
Остатокъ дня я провелъ въ глухомъ уголкѣ лѣса, наслаждаясь отдыхомъ и покоемъ, и поздно ночью вышелъ на дорогу.
НОЧЬЮ
Рискъ былъ великъ. Любая встрѣча на этой узкой дорогѣ среди болотъ могла бы окончиться моей поимкой и гибелью. Трудно было представить, чтобы такая дорога не охранялась. Разумѣется, встрѣчи съ крестьянами я не боялся, но кто изъ крестьянъ ночью ходитъ по такимъ дорогамъ?...
Но другого выхода не было, и съ напряженными нервами я вышелъ изъ темнаго лѣса на бревенчатую дорогу.
Туманная, лунная ночь, бѣлыя полосы болотныхъ испареній, угрюмый, молчаливый лѣсъ сзади, сѣро-зеленыя пространства холоднаго болота, мокрая отъ росы и поблескивающая въ лунномъ свѣтѣ дорога — вся опасность этого похода со странной яркостью напомнила мнѣ исторію "Собаки Баскервилей" Конанъ-Дойля и полныя жуткаго смысла слова:
— "Если вамъ дорога жизнь и разсудокъ, не ходите одинъ на пустошь, когда наступаетъ мракъ и властвуютъ злыя силы"...
Идя съ напряженнымъ до послѣдней степени зрѣніемъ и слухомъ по этой узкой дорогѣ, протянутой среди пустынныхъ топей и лѣсовъ, окруженный, словно привидѣніями, волнами тумана и почти беззвучныхъ шороховъ этого "великаго молчанія", я невольно вздрагивалъ, и мнѣ все чудилось, что вотъ-вотъ — сзади раздастся вдругъ топотъ страшныхъ лапъ и огненная пасть дьявольской собаки вынырнетъ изъ призрачнаго мрака... И страшно было оглянуться...
И вдругъ... Чу... Гдѣ-то сзади, еще далеко, далеко, раздался смутный шумъ. Неужели это галлюцинація? Я наклонился къ дорогѣ, прильнулъ ухомъ къ бревнамъ и ясно услышалъ шумъ ѣдущей телѣги... Опасность!..
Ужъ, конечно, не мирные крестьяне ночью ѣздятъ по такимъ пустыннымъ и гиблымъ мѣстамъ!..
Нужно было добраться до лѣса впереди — въ полукилометрѣ, и я бросился впередъ, стремясь спрятаться въ лѣсу до того, какъ меня замѣтятъ съ телѣги.
Задыхаясь и скользя по мокрымъ бревнамъ, я добѣжалъ со своимъ тяжелымъ грузомъ до опушки лѣса, соскочилъ съ дороги и, раза два провалившись въ какія-то ямы, наполненныя водой, залегъ въ кусты.
Скоро телѣга, дребезжа, пронеслась мимо, и въ туманѣ надъ силуэтами нѣсколькихъ людей при свѣтѣ луны блеснули штыки винтовокъ...
Остатокъ моего пути прошелъ благополучно, и только при проблескахъ утра я съ сожалѣніемъ свернулъ въ лѣсъ, радуясь что пройденные 20 километровъ помогли мнѣ преодолѣть самую тяжелую часть пути.
Забравшись въ глушь лѣса, я разостлалъ плащъ и, не успѣвъ отъ усталости даже поѣсть, мгновенно уснулъ.
Проснулся я отъ странныхъ звуковъ и, открывъ глаза, увидѣлъ славную рыжую бѣлочку, прыгавшую въ 2-3 метрахъ надъ моей головой. Ея забавная острая мордочка, ловкія движенія, блестящіе глазки, пушистый хвостикъ, комичная смѣсь страшнаго любопытства и боязливости заставили меня неожиданно для себя самого весело разсмѣяться. Испуганная бѣлочка съ тревожными чоканьемъ мгновенно взвилась кверху и тамъ, въ безопасной, по ея мнѣнію, вышинѣ, перепрыгивала съ вѣтки на вѣтку, поблескивая на солнышкѣ своей рыжей шерстью, ворча и наблюдая за незваннымъ гостемъ.
Почему-то эта встрѣча съ бѣлочкой сильно ободрила меня и смягчила мою напряженность. "Вотъ живетъ же такая животина — и горюшка ей мало", подумалъ я, опять засмѣялся и почувствовалъ себя не загнаннымъ и затравленнымъ, а молодымъ, полнымъ жизни дикимъ звѣремъ, наслаждающимся чудеснымъ, опаснымъ спортомъ въ родномъ лѣсу, смѣясь надъ погоней охотниковъ.
И съ новымъ приливомъ бодрости я опять пошелъ впередъ... Когда-нибудь, сидя въ своемъ cottage'ѣ при уютномъ свѣтѣ и теплѣ массивнаго камина, послѣ хорошаго ужина, я не безъ удовольствія разскажу парѣ дюжинъ своихъ внучатъ о всѣхъ подробностяхъ, приключеніяхъ и ощущеніяхъ этихъ 12 дней, которые, какъ въ сказкѣ, перенесли меня въ иной міръ — міръ свободы и человѣчности...
А пока на этихъ страницахъ я опишу только нѣкоторые кадры того многодневнаго яркаго фильма, которые запечатлѣлись въ моей памяти...
ВПЛАВЬ
Предразсвѣтный часъ на берегу озера... Дрожа отъ холода послѣ ночи, проведенной на болотѣ, я собираю суки и хворостъ для плота. Обходить озеро — и долго, и рискованно. Оно — длинное, и на обоихъ концахъ видны какіе-то домики. Идти безъ карты въ обходъ — это, можетъ быть, значитъ попасть въ еще болѣе худшую передѣлку...
Три связки хворосту, перевязанныя шпагатомъ и поясами, уже на водѣ. Раздѣвшись и завернувъ все свое имущество въ одинъ тюкъ, скользя по илистому берегу, я спускаюсь въ воду озера и, укрѣпивъ свой тюкъ на плотикѣ, толкаю его впередъ сквозь стѣну камыша.
Подъ ногами расползаются стебли и корневища болотныхъ растеніи, вокругъ булькаютъ, всплывая, пузырьки болотнаго газа, коричневая жижа, поднятая моими ногами со дна, расплывается въ чистой водѣ, и желтыя лиліи укоризненно качаютъ своими чашечками отъ поднятыхъ моими движеніями волнъ.
Линія камыша кончается, и мой ковчегъ выплываетъ на просторъ озерныхъ волнъ. Толкая впередъ свой плотикъ, я не спѣша плыву за нимъ, мѣняя руки и оберегая отъ толчковъ. Для меня почти каждая неудача можетъ быть роковой: вотъ, если расползется мой плотикъ и вещи утонутъ, куда пойду я безъ одежды и пищи?
Метръ за метромъ, минута за минутой — все ближе противоположный берегъ. Не трудно одолѣть 300-400 метровъ налегкѣ, днемъ, при свѣтѣ солнца, въ компаніи беззаботныхъ товарищей-пловцовъ. Значительно менѣе уютно быть одному въ серединѣ холоднаго карельскаго озера, въ сыромъ туманѣ утра, съ качающимся впереди плотикомъ и... далеко неяснымъ будущимъ...
Вотъ, наконецъ, опять стѣна камыша. Ноги находятъ илистый грунтъ, и я, окутанный, какъ озерный богъ, зелеными травами и стеблями, выхожу на берегъ. Подъ немолчный пискъ тучи комаровъ, жалящихъ мое обнаженное тѣло, окоченѣвъ отъ холода, я спѣшу одѣться и иду по холму, окружающему озеро, торопясь разогрѣться быстрой ходьбой.
Чу... Странный ритмичный шумъ... Стукъ мотора... Все ближе...
Притаившись за елью, я наблюдаю, какъ мимо, по озеру, проходитъ сторожевой катеръ съ пулеметомъ на носу. Часомъ раньше онъ засталъ бы меня на серединѣ озера... И тутъ моя фантазія отказывается рисовать невеселыя картины того, что было бы дальше...
ЛАЙ СЗАДИ
"Отъ людей — уйдутъ, отъ собакъ — не уйдутъ", увѣренно говорили про бѣглецовъ солдаты лагерной охраны. Дѣйствительно, для бѣглецовъ самой страшной угрозой были громадныя ищейки, спеціально дрессированныя для поимки заключенныхъ, бѣжавшихъ изъ лагеря. Патрули съ такой собакой ходили по тропинкамъ, и собака, почуявшая слѣдъ въ лѣсу, спускалась съ цѣпи и догоняла человѣка. Если послѣдній не имѣлъ причинъ скрываться, онъ останавливался и ждалъ прихода патруля. Если онъ убѣгалъ — собака рвала его и не давала уйти.
Встрѣчи съ собаками я боялся болѣе всего, ибо у меня не было огнестрѣльнаго оружія, а идти задомъ, отмахиваясь палкой отъ нападенія громаднаго звѣря — не выходъ изъ положенія.
Готовясь къ побѣгу, я досталъ изъ дезинфекціонной камеры бутылку спеціальной жидкости — хлоръ-пикрина, испаряющей удушливый газъ, надѣясь, что это средства можетъ обезопасить меня отъ погони патруля съ собакой.
И вотъ, какъ-то въ срединѣ своего труднаго пути мнѣ пришлось пересѣчь какую-то просѣку въ лѣсу со слабо обозначенной тропинкой. Углубившись въ лѣсъ дальше, я черезъ полчаса услышалъ сзади себя звуки собачьяго лая. Эти звуки, какъ морозъ, пробѣжали у меня по кожѣ... Погоня!...
Обогнать собаку — безнадежно... Ну-ка, хлоръ-пикринъ, дружище, выручай, не дай погибнуть... Я добѣжалъ до небольшой прогалины и, дойдя до средины, гдѣ росло нѣсколько кустиковъ, залилъ свои слѣды доброй порціей ядовитой жидкости. Потомъ я побѣжалъ дальше, сдѣлалъ большой крюкъ и подошелъ къ полянкѣ сбоку, метрахъ въ 300. Сзади меня была небольшая рѣчка, которая на всякій случай была мнѣ послѣдней надеждой — текучая вода заметаетъ всякій слѣдъ...
Притаившись за кустомъ, я минутъ черезъ 20 увидалъ, какъ изъ лѣсу по направленію моего слѣда выбѣжала большая сторожевая собака и, опустивъ голову, направилась по моему слѣду прямо къ кустамъ. Сердце у меня замерло. Неужели мой хлоръ-пикринъ не будетъ дѣйствовать? Но вѣдь тогда я безпомощенъ передъ любой собакой, почуявшей мой слѣдъ. А въ приграничной полосѣ на каждой просѣкѣ налажены постоянные обходы солдатъ съ собаками...
Собака бѣжитъ прямо къ кустамъ... Все ближе... Вотъ она ткнулась носомъ во что-то и вдругъ, какъ бы отброшенная невидимой пружиной, отскакиваетъ назадъ. По ея суетливымъ, порывистымъ движеніямъ видно, что она ошеломлена этимъ запахомъ. Изъ кустовъ неслышно выходитъ солдатъ и съ удивленіемъ смотритъ, какъ собака третъ морду о траву и мечется во всѣ стороны. Попытки заставить ее идти впередъ — тщетны, и красноармеецъ, внимательно осмотрѣвъ мѣстность и поставивъ вѣху, торопливо уходитъ назадъ, сопровождаемый собакой. Несмотря на явную опасность положенія и возможность организованной погони, я въ восторгѣ. Мой хлоръ-пикринъ дѣйствуетъ! "Собачья угроза" перестаетъ тѣнью висѣть надъ моей головой!
ВСТРѢЧА
Я застрялъ. Впереди — цѣпь озеръ, связанныхъ протоками и болотами... Съ одной и съ другой стороны видны деревни. Обойти трудно и опасно: время жатвы, и весь крестьянскій народъ на поляхъ. А путь на сѣверъ лежитъ черезъ озера...
Ну, что-жъ! Значитъ, опять и опять вплавь! Я осторожно выхожу изъ лѣса на лугъ, покрытый кустами, чтобы высмотрѣть мѣсто переправы на утро. Подхожу къ берегу и — о, ужасъ! — вижу, какъ изъ прибрежныхъ кустовъ на меня удивленно и испуганно смотритъ... человѣческое лицо... "Попался", мелькаетъ у меня въ головѣ. "Конецъ"...
Въ этой приграничной мѣстности каждый житель обязанъ немедленно донести на ближайшій постъ ГПУ о всякомъ незнакомомъ человѣкѣ. Сейчасъ же облава, погоня и... аминь... Я мгновенно соображаю, что въ такомъ положеніи бѣжать — худшій выходъ. Поэтому я нахожу въ себѣ силы привѣтливо улыбнуться и сказать:
— Здорово, товарищъ!
Испугъ на лицѣ человѣка смѣняется недовѣріемъ и настороженностью, но я ободряюсь все больше: человѣкъ одинъ и въ крестьянскомъ костюмѣ... На крайній случай придется ему полежать связаннымъ и съ заткнутымъ ртомъ пару дней.
— Не знаете-ли, далеко еще до деревни Видлино?
— Не... Не знаю, — отвѣчаетъ крестьянинъ, сорокалѣтній, обросшій бородой, босой человѣкъ въ рваной одеждѣ, опоясанный веревкой.
— А вы кто такой будете?
— Я-то — спокойно отвѣчалъ я. — А я землемѣръ съ Олонца. Въ вашей деревнѣ землеустроительная комиссіи была уже?
— Не. Не знаю, — мрачно и по-прежнему недовѣрчиво отвѣчаетъ крестьянинъ.
— Ахъ, чортъ возьми — сержусь я. — Неужели еще не пришли? А я-то отъ нихъ отбился, думалъ, что они здѣсь. Хотѣлъ вотъ осмотрѣть погорѣвшій лѣсъ, да заблудился...
Я знаю, какъ тяжело приходится теперь крестьянству при новыхъ порядкахъ, когда ихъ почти силой заставили коллективизировать свое хозяйство. Знаю, что вопросъ о своей землѣ, о своемъ хозяйствѣ для каждаго крестьянина — самый жгучій и назрѣвшій. Поэтому я стараюсь отвлечь его подозрѣнія въ томъ, что я бѣглецъ, и спрашиваю:
— Да развѣ вамъ въ деревнѣ еще не объявили насчетъ передѣла земли?
— Какого передѣла? — оживляется крестьянинъ. — Неужто опять въ колхозы всѣхъ загонять будутъ?
— Да нѣтъ. Землю по старому, по справедливому, распредѣлять будутъ... Вотъ у меня тутъ и инструменты съ собой, — указываю я на свою сумку...
Разговоръ принимаетъ нужное мнѣ направленіе. Подогрѣвъ вопросы крестьянина нѣсколькими фантастическими, но розовыми сообщеніями объ улучшеніи деревенской жизни, я говорю съ досадой:
— Вотъ, вотъ... Дѣло нужное и спѣшное... Тамъ меня ждутъ, а я вотъ черезъ эту дурацкую рѣку перебраться не могу...
— Такъ вамъ въ Ипполитово, значитъ? — переспрашиваетъ мой собесѣдникъ. — А у меня тутъ лодка. Я васъ перевезу.
Вотъ это называется удача!
Во время переѣзда крестьянинъ, захлебываясь отъ волненія и путаясь въ словахъ, разсказываетъ о голодной жизни деревни, о несправедливости, террорѣ... Я утѣшаю его своими фантазіями, и къ берегу мы подъѣзжаемъ почти друзьями. Онъ беретъ съ меня обѣщаніе остановиться у него въ хатѣ и на прощанье крѣпко пожимаетъ мнѣ руку.
Скрывшись въ лѣсу, я облегченно вздыхаю. Могло бы быть много хуже...
СТОЙ!
Солнце бьетъ своими лучами прямо въ лицо. Я иду уже на западъ. По моимъ приблизительнымъ расчетамъ граница должна быть не дальше 20-30 клм. Теперь передо мной самая опасная зона — пустынная, перерѣзанная страшными для меня просѣками, тропинками, дорогами и телефонными столбами... Ни одно государство въ мірѣ не охраняетъ такъ свои границы, какъ СССР...
Тяжело достаются послѣдніе десятки километровъ! Ноги изранены и опухли. Тѣло ноетъ отъ усталости. На плечахъ ремни сумки давно уже растерли кровавыя полосы. Лицо опухло отъ укусовъ комаровъ. Черезъ всю щеку идетъ шрамъ отъ остраго сука, распоровшаго мнѣ лицо при паденіи въ лѣсныхъ заросляхъ...
250 километровъ! Какъ это легко написать и выговорить. Какой маленькой выглядитъ эта дистанція на картѣ! А какъ тяжела она въ жизни, въ карельской тайгѣ и болотахъ, когда километръ лѣсныхъ зарослей приходится часто преодолѣвать нѣсколько часовъ, а топкое болото обходить нѣсколько сутокъ...
Но несмотря на всѣ тяжести пути, испытанія и опасности, на душѣ все звучнѣе пѣло ощущеніе силы, бодрости и жизнерадостности. Чортъ возьми, неужели, мнѣ старому скауту, "сѣрому волку", охотнику и спортсмену, не выдержать этого похода?..
Вотъ перехожу широкую, длинную болотистую поляну. Еще свѣтло. Лучи солнца пронизываютъ гущу высокаго лѣса, до котораго осталось уже немного.
Комары роемъ вьются около лица, порой заглушая всѣ остальные звуки. Увязающія ноги тяжело переступаютъ въ густой мокрой травѣ. И вдругъ крикъ:
— Эй, стой!
Этотъ крикъ не только не остановилъ меня, но какъ электрическимъ разрядомъ рванулъ къ лѣсу... 30 метровъ... Успѣю ли?
Еще крикъ, и гулкій выстрѣлъ прорѣзываетъ тишину... По старому опыту стрѣлка я мгновенно опредѣляю, что стрѣляетъ военная винтовка не ближе, чѣмъ въ 200 метрахъ... Ладно... Богъ не выдастъ — Чека не съѣстъ!.. Ходу!
Лѣсъ уже близко. Надъ головой знакомымъ звукомъ щелкнула по стволамъ пуля. Гулъ выстрѣла еще катился по лѣсу, когда я нырнулъ въ сумракъ деревьевъ. Бѣгомъ я одолѣлъ еще полкилометра, окропилъ свои слѣды хлоръ-пикриномъ и самымъ форсированнымъ маршемъ пошелъ дальше...
На сердцѣ было неспокойно. Разумѣется, за мной будетъ послана погоня. Хуже всего то, что ночь застала меня въ дикомъ лѣсу, по которому въ темнотѣ идти было невозможно. А до утра сторожевые посты времени терять не будутъ.
Очевидно, приказаніе объ облавѣ было передано по телефону во всѣ деревни, лежавшія между мѣстомъ нашей встрѣчи и границей, ибо днемъ съ вершины холма я замѣтилъ кучку разсыпавшихся въ цѣпь людей, медленно идущихъ мнѣ навстрѣчу. Спрятаться? Это сдѣлать было бы нетрудно въ такихъ густыхъ лѣсахъ и обломкахъ скалъ... Но собаки?.. Онѣ вѣдь почуютъ меня вездѣ...
Назадъ хода тоже не было. И съ той стороны могла бы быть погоня... Надо было изворачиваться... Недалеко влѣво текла рѣчка съ болотистыми берегами. Судя по медленному передвиженію людей, у меня было еще полчаса времени. Если бы мнѣ удалось переправиться черезъ рѣчку, я поставилъ бы между собой и преслѣдователями такой барьеръ, который имъ не скоро удалось бы перешагнуть...
Я бросился къ рѣкѣ. Къ моей радости, на берегу валялось дерево, очевидно, вывернутое и принесенное сюда половодьемъ. Съ громаднымъ напряженіемъ я стащилъ его въ воду, на его вѣтви уложилъ все то, что боялось воды: продовольствіе, часы, компасъ и, не раздѣваясь, вошелъ въ воду.
Въ сапоги хлынула вода. Все глубже. До пояса, до плечъ, до шеи... Б-р-р-ръ... Плыть пришлось немного — метровъ 20, но плыть, таща за собой дерево и не теряя ни минуты. Подплывъ къ берегу, я снялъ вещи, оттолкнулъ дерево на средину рѣки и бѣгомъ пустился въ лѣсъ... И было пора. Черезъ минуту показались люди — шеренга крестьянъ подъ командой солдата. На мое счастье, собаки въ этой группѣ не было, и съ замирающимъ сердцемъ я слѣдилъ, какъ послѣдніе люди облавы скрылись въ лѣсу...
Еще одна опасность осталась позади... А сколько ихъ впереди? ..
Къ вечеру налетѣли тучи и полилъ дождь. Опять струи воды залили мои слѣды, и я почувствовалъ себя во временной безопасности отъ погони.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГАЗЪ
Послѣдніе десятки километровъ... Все ближе...
Какъ разъ передъ границей полосами, вперемѣшку съ болотистыми мѣстами, пошли крупные хвойные лѣса, загроможденные буреломомъ. Стволы, сучья, пни, кустарникъ, молодая поросль — все это дѣлало путь очень труднымъ. То ползкомъ подъ упавшими деревьями, то обходя, то перелѣзая черезъ баррикады наваленныхъ стволовъ, я медленно двигался впередъ, будучи въ такомъ лѣсу въ безопасности, но рискуя сломать ногу въ любой моментъ.
Бѣда пришла совсѣмъ неожиданно. Перебираясь черезъ кучу поваленныхъ бурей стволовъ, я почувствовалъ, что гнилое дерево поддается подъ ногой и, качнувшись въ сторону, ударился бокомъ о стволъ сосенки. Внезапно изъ кармана раздался хрустъ раздавленнаго стекла.
Молніей мелькнула мысль — бутылка хлоръ-пикрина... Боже мой! Меня начинаетъ обливать та жидкость, быть около которой можно только въ противогазѣ. Черезъ нѣсколько секундъ ядовитый газъ охватитъ меня своимъ зловѣщимъ объятіемъ. Два-три вздоха, обморокъ, и черезъ минутудвѣ —смерть... И это въ дикомъ лѣсу, когда я въ плащѣ, связанномъ снаряженіемъ...
Я отчаяннымъ вздохомъ захватилъ въ легкія запасъ воздуха, мгновенно отстегнулъ и отбросилъ назадъ спинную сумку, отрывая пуговицы, сорвалъ съ себя злополучный плащъ и рванулся впередъ съ колотящимся сердцемъ и разрывающимися легкими.
Какъ я не сломалъ себѣ ногъ въ своихъ безумныхъ прыжкахъ черезъ буреломъ — не могу понять... Помню только, какъ въ полуообморокѣ я бросился на землю метрахъ въ 30-ти, задыхаясь и хватая воздухъ открытымъ ртомъ...
Эта быстрота бѣгства, да еще плотность брезента плаща, не позволившая жидкости смочить платье, — спасли меня.
Отдышавшись, я выбралъ длинную жердь и осторожно сталъ подкрадываться къ своимъ вещамъ, заходя со стороны вѣтра. Увидѣвъ плащъ, опять задержалъ воздухъ въ легкихъ, подбѣжалъ къ нему, зацѣпилъ жердью, забросилъ на стволъ поваленнаго дерева и убѣжалъ. Черезъ пять минутъ я такимъ же способомъ перевернулъ его такъ, чтобы хлоръ-пикринъ вылился изъ кармана, потомъ выудилъ сумку и провелъ цѣлую ночь безъ плаща, дрожа отъ сырого холода болотнаго лѣса.
Почти весь слѣдующій день я не рискнулъ одѣть плащъ и тащилъ его за собой на веревкѣ. Только къ вечеру, провѣтривъ его на вѣтру и на солнышкѣ, я смогъ одѣть его.
И вотъ теперь этотъ плащъ, едва не сдѣлавшійся для меня саваномъ, — со мной. И когда пережитое кажется сномъ, я разворачиваю его съ изнанки, осматриваю пятно отъ ядовитой жидкости и съ понятной гордостью вглядываюсь въ слова казеннаго штампа: "Свирьлагъ ОГПУ".
ГРАНИЦА
Не могу сказать, когда я перешелъ границу. Просѣкъ пришлось пересѣкать много. На каждой изъ нихъ таились опасности, и мнѣ не было времени вглядываться, имѣются ли на нихъ пограничные столбы, разставленные на километръ другъ отъ друга.
Но все-таки стали замѣчаться признаки чего-то новаго. Вотъ черезъ болото осушительныя канавы. Ихъ раньше не было. Но развѣ эти канавы не могли быть прокопаны на какомъ-нибудь "образцовомъ совхозѣ ОГПУ"?
Вотъ на тропинкѣ обрывокъ газеты. Языкъ незнакомый. Финскій? Но вѣдь, можетъ быть, это совѣтская газета, изданная въ Петрозаводскѣ на карельскомъ языкѣ.
Вотъ вдали небольшое стадо овецъ. Можно ли сказать съ увѣренностью, что это — финское хозяйство только потому, что въ Кареліи я нигдѣ не видалъ ни одной овцы?
Или, вотъ — старая коробка отъ папиросъ съ финской маркой. Но развѣ не могъ пройти здѣсь совѣтскій пограничникъ, куря контрабандныя папиросы?
Словомъ, я не зналъ точно, гдѣ я нахожусь, и рѣшилъ идти впередъ до тѣхъ поръ, пока есть силы и продовольствіе и пока я не получу безспорныхъ свѣдѣній, что я уже въ Финляндіи.
Помню, свою послѣднюю ночь въ лѣсу я провелъ совсѣмъ безъ сна — настолько были напряжены нервы. Близился моментъ, котораго я такъ страстно ждалъ столько лѣтъ...
СПАСЕНЪ
Къ вечеру слѣдующаго дня, пересѣкая узелъ проселочныхъ дорогъ, я наткнулся на финскаго пограничника. Моментъ, когда я ясно увидѣлъ его нерусскую военную форму — былъ для меня однимъ изъ счастливѣйшихъ въ моей жизни...
Я радостно бросился впередъ, совсѣмъ забывъ, что представляю отнюдь не внушающую довѣрія картину: рослый парень съ измученнымъ, обросшимъ бородой лицомъ, въ набухшемъ и измятомъ плащѣ, обвѣшанный сумками, съ толстенной палкой въ рукѣ. Не мудрено, что пограничникъ не понялъ изъявленія моего дружелюбія, и ощетинился своей винтовкой. Маленькій и щуплый, онъ все пытался сперва словами, а потомъ движеніями винтовки заставить меня поднять руки вверхъ. Славный парень!.. Онъ, вѣроятно, и до сихъ поръ не понимаетъ, почему я и не подумалъ выполнить его распоряженія и весело смѣялся, глядя на его суетливо угрожающую винтовку. Наконецъ, онъ сталъ стрѣлять вверхъ, и черезъ полчаса я уже шелъ, окруженный солдатами и крестьянами, въ финскую деревню.
СРЕДИ ЛЮДЕЙ
Я не вѣрилъ въ то, что Финляндія можетъ меня выдать по требованію совѣтской власти. Я вѣдь не бандитъ, не убійца и не воръ. Я политическій эмигрантъ, ищущій покровительства въ странѣ, гдѣ есть свобода и право.
Но я ожидалъ недовѣрія, тюремъ, допросовъ, этаповъ — всего того, къ чему я такъ привыкъ въ СССР. И я вѣрилъ — что это неизбѣжныя, но послѣднія испытанія въ моей жизни.
Въ маленькой чистенькой деревушкѣ меня отвели въ баню, гдѣ я съ громаднымъ облегченіемъ разгрузился, вымылся и сталъ ждать очередныхъ событій.
Много я ждалъ, но того, что со мной произошло — я никакъ не могъ ожидать.
Въ раздѣвалку бани вошелъ какой-то благодушный финнъ, потрепалъ меня по плечу, весело улыбнулся и пригласилъ жестомъ за собой.
"Въ тюрьму переводятъ. Но почему безъ вещей?" — мелькнуло у меня въ головѣ.
На верандѣ уютнаго домика начальника охраны уже стоялъ накрытый столъ, и мои голодные глаза сразу же замѣтили, какъ много вкуснаго на этомъ столѣ. А послѣдніе дни я шелъ уже на половинномъ пайкѣ — пайкѣ "бѣглеца".
Я отвернулся и вздохнулъ...
Къ моему искреннему удивленію, меня повели именно къ этому столу и любезно пригласили сѣсть. Хозяйка дома, говорившая по русски, принялась угощать меня невиданно вкусными вещами. За столомъ сидѣло нисколько мужчинъ, дамъ и дѣтей. Всѣ улыбались мнѣ, пожимали руку, говорили непонятныя уму, но такія понятныя сердцу ласковыя слова, и никто не намекнулъ ни интонаціей, ни движеніемъ, что я арестантъ, неизвѣстный, подозрительный бѣглецъ, можетъ быть, преступникъ...
Все это хорошее человѣческое отношеніе, все это вниманіе, тепло и ласка потрясло меня. Какой контрастъ съ тѣмъ, къ чему я привыкъ тамъ, въ СССР, гдѣ homo homini lupus est.
А вотъ здѣсь я — человѣкъ внѣ закона, нарушившій неприкосновенность чужой границы, подозрительный незнакомецъ съ опухшимъ, исцарапаннымъ лицомъ, въ рваномъ платьѣ — я вотъ нахожусь не въ тюрьмѣ, подъ охраной штыковъ, а въ домѣ начальника охраны, среди его семьи... Я для нихъ прежде всего — человѣкъ...
Сотрясенный этими мыслями и растроганный атмосферой вниманія и ласки, я почувствовалъ всѣмъ сердцемъ, что я, дѣйствительно, попалъ въ иной міръ, не только географически и политически отличающійся отъ совѣтскаго, но и духовно діаметрально противоположный — міръ человѣчности и покоя... Хорошо, что мои очки не дали хозяевамъ замѣтить влажность моихъ глазъ. Какъ бы смогъ объяснить имъ я это чувство растроганнаго сердца, отогрѣвающагося отъ своего ожесточенія въ этой атмосферѣ ласки?
За непринужденной веселой бесѣдой, охотно отвѣчая на всѣ вопросы любознательныхъ хозяевъ, я скоро совсѣмъ пересталъ чувствовать себя загнаннымъ звѣремъ, бѣглецомъ и преступникомъ и впервые за много, много лѣтъ почувствовалъ себя человѣкомъ, находящимся среди людей.
Какія чудесно радостныя понятія — человѣчность и свобода, и какъ безпросвѣтна и горька жизнь тѣхъ, чей путь пересталъ освѣщаться сіяніемъ этихъ великихъ маяковъ человѣчества...
___
Къ концу вечера, послѣ обѣда, показавшагося мнѣ необыкновенно вкуснымъ, моя милая хозяйка съ сердечной настойчивостью предлагала мнѣ уже пятую чашку кофе.
Замѣтивъ, что я немного стѣсняюсь, она, наклонившись ко мнѣ, неожиданно тихо и ласково спросила:
— Пейте, голубчикъ. Вѣдь вы, вѣроятно, давно уже не пили кофе съ булочками?
— Четырнадцать лѣтъ, — отвѣтилъ я.
ЭПИЛОГЪ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЮРЬМА.
Ко мнѣ входитъ спокойный, вѣжливый надзиратель въ пиджакѣ и съ галстукомъ, безъ револьвера, сжатыхъ челюстей и настороженнаго взгляда. Улыбаясь, онъ знаками показываетъ, что нужно взять сумку и выйти. Очевидно, куда-то переводятъ... Я оглядываю свою камеру, въ которой я мирно провелъ двѣ недѣли (Богъ дастъ — послѣднія тюремныя недѣли въ моей жизни) и выхожу. Мягкій автомобиль мчитъ меня по наряднымъ, чистымъ улицамъ города... Да... Это тебѣ не "Черный Воронъ" и ОГПУ... Большое зданіе. "Etsiva Keskus Poliisi" — Центральная Политическая Полиція.
Въ комнатѣ ожиданія меня просятъ присѣсть. Нигдѣ нѣтъ рѣшетокъ, оружія, часовыхъ... Чудеса!... Проходитъ нѣсколько минутъ, и въ дверяхъ показывается низенькая, толстенькая фигура начальника русскаго отдѣла политической полиціи, а за нимъ... Боже мой!... за нимъ... массивъ плечъ брата, а еще дальше смѣющееся лицо Юры...
Обычно строгое и хмурое лицо нашего политическаго патрона сейчасъ мягко улыбается. Онъ сочувственно смотритъ на наши объятія и, когда наступаетъ секунда перерыва въ нашихъ вопросахъ и восклицаніяхъ, спокойно говоритъ:
— О васъ получены лучшіе отзывы, и правильность вашихъ показаній подтверждена... Господа, вы свободны...
НА НАСТОЯЩЕЙ ВОЛѢ
Мы идемъ втроемъ, тѣсно подхвативъ другъ друга подъ руки, по широкимъ улицамъ Гельсингфорса и съ удивленіемъ и любопытствомъ засматриваемся на полныя товаромъ витрины магазиновъ, на бѣлыя булки хлѣба, на чистые костюмы прохожихъ, на улыбающіяся губы хорошо одѣтыхъ женщинъ, на спокойныя лица мужчинъ... Все такъ ново и такъ чудесно...
Многіе оборачиваются намъ вслѣдъ и съ улыбкой смотрятъ — не пьяна ли эта тройка здоровяковъ? Они, видимо, не изъ деревни — всѣ въ очкахъ. Такъ что же такъ изумляетъ и поражаетъ ихъ?
Внезапно Юра просить:
— Ватикъ, а ну-ка дай-ка мнѣ, какъ слѣдуетъ, кулакомъ въ спину, а то кажется — я сплю въ лагерномъ баракѣ и все это во снѣ вижу.
И идущіе сзади солидные европейцы шокированы гулкимъ ударомъ кулака по спинѣ, веселымъ смѣхомъ и радостнымъ возгласомъ:
— Ну, слава Богу, больно! Значитъ — на яву!...
КОНЕЦЪ
ИЗДАНІЯ "ГОЛОСА РОССІИ":
ИВАНЪ СОЛОНЕВИЧЪ — "РОССІЯ ВЪ КОНЦЛАГЕРѢ"
Первое и второе изданія распроданы. Третье изданіе — цѣна 2 ам. доллара; имѣется на складѣ и у представителей "Голоса Россіи".
Та-же книга на иностранныхъ языкахъ:
На нѣмецкомъ языкѣ:
"Die Verlorenen" — Essener-Verlag. Essen. 1937. — Пятое изданіе.
На англійскомъ языкѣ:
"The soviet Paradise Lost" — The Paisley Press, Inc. New York. 1938.
"Russia in Chains" — Williams and Norgate Ltd. — London. 1938.
На голландскомъ языкѣ:
"Het "proletarische" paradijs Russland een concentratiekampf" — W. P. Van Stockum & Zoon N. V. Den Haag. 1937
На польскомъ языкѣ:
"Rosja w obozie koncentracyjnym" — Nakladem Sekretariatu Porozumiewawczego Polsckich Organizacyi Spolecznych we Lwowie. 1938. Skld glovni: Ksiegarnia "Ksiazka" Alexander Mazzucato, Lwow, Czarneckiego 12.
На чешскомъ языкѣ:
"Rosko za mrizemi" — издательство "Prapor Ruska", Praha II, Krakovska 8
(первое и второе изданія распроданы, имѣется третье)
На хорватскомъ языкѣ:
"Russija u konclogoru" — Izdala Knjiznica dobrich romana. Urednik dr. J. Adric. Zagreb. 1937
Готовится къ печати: на французскомъ, японскомъ, испанскомъ словацкомъ, сербскомъ, итальянскомъ и венгерскомъ языкахъ. О выходѣ каждаго новаго изданія будетъ объявляться особо въ "Голосѣ Россіи".
"ПАМИРЪ"
Первое изданіе распродано. Второе изданіе — цѣна 1 ам. доллара, имѣется на складѣ и у представителей "Голоса Россіи".
"ТАМАРА СОЛОНЕВИЧЪ "ЗАПИСКИ СОВѢТСКОЙ ПЕРЕВОДЧИЦЫ"
Распродано.
Та же книга на иностранныхъ языкахъ:
На нѣмецкомъ языкѣ:
"Hinter den Kulissen der Soviet-Propaganda", издательство Essener Verlaganstalt, Essen.
На польскомъ языкѣ:
"Wspomnienia tlumaczki "Inturista" — Instijtut wydawn. "Biblioteka Polska" Warszawa. 1938
Готовится къ печати: на голландскомъ, датскомъ, англійскомъ и французскомъ языкахъ.
"ТРИ ГОДА ВЪ БЕРЛИНСКОМЪ ТОРГПРЕДСТВЪ"
Въ печати.
БОРИСЪ СОЛОНЕВИЧЪ — "МОЛОДЕЖЬ И ГПУ"
Первое изданіе распродано. Второе — готовится къ печати. Готовится къ печати на нѣмецкомъ и шведскомъ яз.
ЮРІЙ СОЛОНЕВИЧЪ — "22 НЕСЧАСТЬЯ"
Въ печати. Еженедѣльная газета ГОЛОСЪ РОССІИ
Издатель: И. Л. Солоневичъ
"Голосъ Россіи" — газета нѣсколько необычнаго для эмиграціи типа. Она говоритъ только о Россіи и больше рѣшительно ни о чемъ. Она исходитъ изъ того предположенія, что сотнямъ тысячъ, а можетъ быть, и милліонамъ разсѣянныхъ по бѣлу свѣту русскихъ "штабсъ-капитановъ" придется вернуться на свою родину и снова взвалить на свои плечи очень тяжелую роль культурнаго отбора русскаго народа. Поэтому нашимъ штабсъ-капитанамъ и штабсъ-капитаншамъ необходимо съ возможной точностью знать все то, что произошло и происходитъ за кровавымъ совѣтскимъ рубежомъ.
"Голосъ Россіи" стоитъ на точкѣ зрѣнія абсолютной непримиримости къ большевизму. Онъ не связанъ ни съ какой изъ существующихъ въ зарубежьи организацій и партій. Это даетъ возможность говорить правду такъ, какъ понимаемъ ее мы, такъ недавно еще бывшіе подсовѣтскими.
Если Вы еще не читали "Голоса Россіи" — выпишите открыткой пробный номеръ. Это Вамъ ничего не будетъ стоить и ни къ чему не обязываетъ. Чрезвычайно мало вѣроятно, чтобы послѣ перваго номера Вы отъ этой газеты отказались.
Еще одно замѣчаніе: "Голосъ Россіи" газета правая и безусловно "контръ-революціонная". Людямъ, обладающимъ революціонными симпатіями, выписывать ее не стоитъ.
Адресъ редакціи: I. Solonevich. Sofia, Bulgaria, Boi^te postale 296.