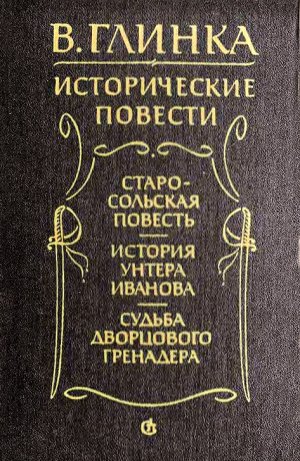
Об авторе этой книги
Владислав Михайлович Глинка родился 6 (19) февраля 1903 года в городе Старая Русса в семье врача. Отец его, Михаил Павлович, за четыре года до того окончил Военно-медицинскую академию. Впрочем, начинать молодость с военной службы было для мужчин из этой семьи давней традицией — дед Владислава служил на военном флоте, плавал на паро-парусных клиперах вместе с К. М. Станюковичем, прадед служил в гвардейских саперах, прапрадед и прапрапрадед — в драгунах. Может быть, отсюда, от сознания давности военного звания в своей семье, у будущего историка всю жизнь была такая приверженность к истории именно военной…
Семья родителей не была богатой, жили на заработки отца. «Отец был врачом идейного типа, — писал В. М. Глинка впоследствии, — он шел на призыв больного в любой час суток, часто неся с собой не только лекарства и пищу, если мог предположить, что они нужны, но порой и деньги. Это совсем не значит, что отец при частной практике не получал гонораров от состоятельных пациентов, но у него никогда не было «таксы», а при выходе из его кабинета стоял глубокий керамический ковш, в который и опускали любую сумму, какую считали сообразной своим средствам. Мама моя была доброй помощницей отцу всегда и во всем».
Собственный дом Михаил Павлович смог построить только после двенадцати лет непрерывной врачебной практики. А практика была разнообразная: Свеаборгская военная крепость, деревня Будомицы Старорусского уезда, земская больница в Старой Руссе, казачья батарея на русско-японской войне, вновь старорусское земство, передовой перевязочный отряд на германском фронте. Отец возвращался с фронтов, снимал френч, но долго еще трое маленьких сыновей доктора играли маньчжурскими открытками, австрийской каской, шнуром, снятым с револьвера. Осязание в собственных пальцах подлинных предметов другого, далекого быта — может быть, и отсюда протягивается ниточка к будущему работнику музея…
Был в доме и свой «литературный архив». «Бабушка (мать матери В. М.) была вдовой довольно известного в 1880–1900-х годах публициста Сергея Николаевича Кривенко, редактора «Русского богатства», — писал позже В. М. Глинка в одном из писем. — Хранившийся у нее архив деда из сотен записочек и писем Тургенева, Салтыкова, Гаршина, Михайловского, Шелгунова, Плещеева, Короленко и многих других был для меня первым благоговейным чтением ненапечатанных историко-литературных документов».
Старая Русса в начале нашего века представляла собой очень своеобразный город. Центр его составлял курорт, солевые грязи которого пользовались громкой известностью не только из-за их целебности, но и потому, что находились они всего в двухстах верстах от столицы. Каждое лето в Старую Руссу наезжали тысячи людей из Петербурга и Москвы, и среди них художники, артисты, ученые. Михаил Павлович Глинка пользовался в городе репутацией опытнейшего врача, доброго и умного собеседника, гостеприимного хозяина. В разные годы его пациентами были А. Г. Достоевская, художник Б. М. Кустодиев, известный путешественник П. К. Козлов, академик Н. С. Курнаков, профессор В. П. Семенов-Тян-Шанский, будущий маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин, артисты театра Незлобина, приезжавшего в Старую Руссу много сезонов подряд.
Бревенчатый дом на тихой набережной реки Перерытицы (а в трехстах метрах от него по той же набережной дом, где Достоевский писал «Братьев Карамазовых»), за открытой верандой огромный сад, повсюду по переулкам заросшего яблонями и сливами уездного города кирпичные кладки древнейших в России церквей, неторопливый, чуть насмешливый, никогда не повышающий голоса отец, с отцом здоровается весь город, субботним вечером гости на веранде, и книги, книги, книги — вот атмосфера детских лет Владислава. Через тридцать лет, узнав в блокадном Ленинграде, что родительский дом сгорел от артиллерийского обстрела, музейный работник В. М. Глинка по памяти составляет список сгоревших в Старой Руссе книг. Кроме энциклопедий, многотомных классиков и четырехсот томов медицинских сочинений в этой домашней библиотеке были, оказывается, сочинения Спенсера, Ренана, Бокля, Смита, Гумбольдта, Бюффона…
В 1919 году шестнадцатилетний Владислав Глинка уходит добровольцем в Красную Армию. В таком решении своей судьбы не было у него никакой идейной натяжки — оба деда были горячими сторонниками освобождения крестьян, гласного суда, уравнения всех сословий в правах и обязанностях, родители с раннего детства внушали своим сыновьям самые демократические идеалы, старший брат Владислава Сергей уже служил в Красной Армии. Было, впрочем, и еще одно немаловажное обстоятельство. «Большое значение в моем детстве и отрочестве, — писал В. М. Глинка уже на склоне своей жизни, — сыграла няня Елизавета Матвеевна — крестьянка приильменской деревни Буреги, умершая в 1970 году за 90 лет от роду и похороненная рядом с моим отцом и бабушкой в Старой Руссе. Ее вера в высшее начало добра и справедливости, вековое крестьянское поклонение любому труду, своеобразные афоризмы и поговорки, сама деревенская очень выразительная речь вошли в меня вместе с ее заботами о здоровье, сне, физической и нравственной чистоте и прилежании в ученье. Впрочем, речь и идеология красноармейцев, в среду которых я вступил в 1919 году, были также очень мало тронуты городским налетом. Все эти за малым исключением недавние крестьяне думали и говорили очень близко к моей няне, хотя многие из них прошли войну с немцами и в различной форме участвовали в революции…»
Владислав Глинка попадает на Южный фронт, где идет борьба с Деникиным, затем участвует во взятии мятежного Кронштадта, вместе с братом учится в кавалерийской школе в Петрограде. После окончания войны он уходит из армии в запас. Затем недолгое посещение Старой Руссы, но после фронтов восемнадцатилетнему юноше уже тесно в провинциальном городке, манит Петроград. Надо получать образование. К 1927 году В. М. Глинка оканчивает юридический факультет Ленинградского университета, но работа юриста не привлекает его. Он становится экскурсоводом, а затем и научным сотрудником во дворцах-музеях. Петергоф, аракчеевское Грузино, Царское Село, Центральный исторический архив, Фонтанный дом Шереметевых (где размещался тогда музей дворянско-помещичьего быта), Русский музей, Эрмитаж — вот многочисленные места службы В. М. Глинки в 1927–41 годах. По существу же адрес один — русская история. И. А. Орбели, Е. В. Тарле, В. Ф. Левинсон-Лессинг, С. Н. Тройницкий, М. В. Доброклонский — вот те люди, рядом с которыми В. М. Глинка теперь работает изо дня в день. Пока еще он только внимает, впитывает, копит. Возможно, это напоминает ему отчасти его роль молчаливого слушателя, когда в детстве появлялись на отцовской веранде А. Г. Достоевская, художник Кустодиев или профессор Тян-Шанский. Наступают годы скрупулезного, неустанного, ежедневного труда в музейных фондах, кладовых, библиотеках, архивах. «Около трех лет, — писал В. М. Глинка в письме к академику Д. С. Лихачеву в 1970-х годах, — я работал научным сотрудником Центрального исторического архива (в бывшем Сенате), заведуя фондами министерства двора и уделов… Пишу здесь об этом потому, что возня с документами тоже дала мне кое-что как писателю, — дух и стиль времени в росчерках гусиных перьев, в следах песка на коричневых строках… А главное, ясные очертания социальной системы от Павла I до 1917 года, и вереницы чиновных людей — лжецов, льстецов, лицемеров и казнокрадов, работавших рядом с трудолюбивыми и честными, сберегавшими казне каждую копейку. За документами вставали живые люди; каждый со своим характером, биографией, уровнем образованности, кругозором. Мы, трое сотрудников архива, даже составили сборник документов по удельному хозяйству с большим комментарием и вступительными статьями. Где-то он почиет в пыли того же архива. А там есть не главы, а романы, несмотря на казалось бы чисто экономическую тематику заглавия».
К концу тридцатых годов имя В. М. Глинки становится в одном ряду с именами самых знающих музейных работников Ленинграда. Театры и киностудии начинают приглашать В. М. Глинку для историко-бытовой консультации своих постановок. К этим же годам относится дружеское сближение Владислава Михайловича с Е. Л. Шварцем, Н. П. Акимовым, Л. Л. Раковым — будущим директором Публичной библиотеки и основателем Музея обороны Ленинграда.
Начиная с конца тридцатых годов в ленинградских журналах появляется проза В. М. Глинки. Пока это небольшие рассказы и очерки из военного прошлого России. Публикация этих очерков продолжается в осажденном городе. Журналы «Костер», «Звезда», «Ленинград» помещают очерки В. М. Глинки о Суворове, Кутузове, Денисе Давыдове.
Всю блокаду В. М. Глинка, не взятый в действующую армию из-за болезни сосудов ног, проводит в Ленинграде, в самые страшные месяцы 1942 года работая санитаром в эвакогоспитале, затем до 1944 года сохраняя коллекции музея Института русской литературы АН СССР. В 1944 году он окончательно переходит в Государственный Эрмитаж, где становится главным хранителем Отдела истории русской культуры.
Центром и сердцем этого отдела в Эрмитаже является Военная галерея, со стен которой на посетителя смотрит, кажется, сам 1812 год.
Книга В. М. Глинки «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» вышла в 1949 году в издательстве Государственного Эрмитажа. По поводу нее известный историк академик Е. В. Тарле так писал директору Эрмитажа И. А. Орбели: «Дорогой Иосиф Абгарович! Какую прекрасную, прекрасную, прекрасную книгу Вы издали! Книга В. Глинки и написана и издана превосходно! Честь и слава автору и Вам. Это настольная, вдохновляющая, перечитываемая книга!»
Многие годы Владислав Михайлович Глинка может писать лишь вечерами и ночами. Во время войны им и его женой усыновлены малолетние дети погибшего на войне брата Сергея (один из них — автор этих строк), — денег постоянно не хватает, и потому нельзя даже помыслить изменить твердой службе: В. М. Глинка работает в музее, и как работник музея он весь рабочий день должен участвовать в инвентаризации экспонатов, разборке архивов, подготовке научных сообщений. Однако ни научный, ни научно-популярный жанр вскоре уже не могут удовлетворить историка. Его влечет художественная, свободная ткань повествования. Разведанный в архивах пунктир интересной человеческой судьбы, штрихи жизни, отразившиеся в немногих строках тех самых, написанных гусиными перьями казенных бумаг, беглое упоминание в чьих-нибудь мемуарах требуют затем огромной работы по реконструкции вероятных событий… Только художественное произведение — рассказ, повесть, роман — может дать достаточную свободу для того, чтобы из ушедшего в небытие прошлого возродились дышащие, живые фигуры. Так, из небольшой гравюры, изображавшей офицера с боевыми орденами на мундире и прислонившего к плечу костыли, и из найденного через много лет после гравюры чертежа протеза ампутированной ноги, сконструированного изобретателем И. П. Кулибиным, родилась книга. Имя, стоявшее под изображением на гравюре, и имя того, для кого сконструировал искусственную ногу Кулибин, совпадали. На поиски подробностей жизни офицера ушли годы, но затем появилась «Повесть о Сергее Непейцыне», а за ней и продолжение — повесть «Дорогой чести».
«Домик магистра», «Старосольская повесть», «Жизнь Лаврентия Серякова», «История унтера Иванова», «Судьба дворцового гренадера», — все эти книги являются образцом точности автора во всем, что касается истории, деталей прошлого, ушедшего навсегда быта. Но кому нужны такие скрупулезные, такие неподкупные строгость и точность? Так ли уж они обязательны? Ответ на это дают люди, связанные с необходимостью воссоздавать атмосферу ушедших времен. В послевоенные годы еще более упрочился авторитет Владислава Михайловича Глинки как консультанта по историко-бытовым вопросам. Когда ставился спектакль или снималась картина, действие которых происходило в российском прошлом, Н. П. Акимов, Г. М. Козинцев, С. Ф. Бондарчук, Г. А. Товстоногов, И. Е. Хейфиц приглашали В. М. Глинку для участия в работе над своими постановками. 34 театральных спектакля и 19 кинокартин проконсультировано историком за послевоенные годы, в том числе и киноэпопея «Война и мир». Но так же как работу в музеях Владислав Михайлович всегда стремился дополнить трудом писательским, так и труд романиста он до самого конца жизни подкреплял чисто научной работой. На восьмидесятом, последнем году своей жизни он готовил к изданию обширный труд о русских военных формах, он заинтересованно рецензировал присылаемые ему из издательств на отзыв рукописи, принимал участие в горячих полемиках в излюбленной своей области — распознавании неизвестных лиц на старых портретах. Историк А. Г. Тартаковский, сам глубокий знаток быта и истории старой России, предварял одну из подобных работ такими словами: «На чем же покоился свойственный В. М. Глинке дар «прочтения» портретов неизвестных лиц? В немалой мере, естественно, — на незаурядной искусствоведческой эрудиции, но более всего — на глубочайшем знании быта эпохи в его вещно-материализованных проявлениях… Особенно впечатляли познания в области военного быта и военной истории — здесь он был энциклопедистом, и здесь, пожалуй, ему не было равных. Обмундирование множества полков различных родов войск, оружие, ордена всех степеней и иные знаки отличия — русские и иностранные, правила их ношения, прически, чины, звания (не только военные, но гражданские и придворные) — все это входило в сферу пристального и, можно сказать, стереоскопического внимания В. М. Глинки. Он опирался, однако, не на какие-либо отдельные из этих признаков, а на всю их систему… Тщательно учитывалась и сложная эволюция элементов форменной одежды и наградных знаков, мельчайшие, трудноуловимые изменения в их реальном бытовании. При таком всеохватывающем, синтетическом взгляде не только наличие определенных признаков, но и — как это ни парадоксально — отсутствие хотя бы одного из них, особенно типичного для эпохи, оказывалось порой достаточным для атрибуции».
Историк. Музейщик. Писатель… Казалось бы, достаточно уже самих названий этих профессий, чтобы определить место человека в нашей культуре, но если говорить о В. М. Глинке, то слов этих явно не хватает. В. М. Глинке было свойственно еще одно, может быть самое главное и ценное, качество насыщенного редкостными знаниями специалиста — дар щедрой, бескорыстной, радостной их отдачи. И художники, писатели, артисты, режиссеры, музейные работники, наконец просто читатели (знакомые и незнакомые), которым хотелось что-либо из прошлого узнать или уточнить, многие десятки лет писали, звонили, приходили к Владиславу Михайловичу Глинке. Число людей, которые пользовались его знаниями, как пользуются справочниками, книгами, архивами, — огромно. Однако справки эти никогда не были сухими. Получавший их всегда и очень точно знал, как сам Владислав Михайлович относится к тому, что сообщает. Узнавая об ордене на каком-либо портрете, интересующийся узнавал не только об ордене, он непременно узнавал и о награжденном. Человеческое величие и низость, корыстолюбие и честь, льстивость и достоинство, ложь и правда — вот те полюса нравственного магнита, в которые заключал Владислав Михайлович любую из своих бесчисленных исторических справок…
Владислава Михайловича уже не было, а письма с вопросами, благодарностями, просьбами все шли и шли на его имя: как найти? Куда обратиться? Где узнать?..
М. Глинка
В произведениях Владислава Михайловича Глинки я больше всего ценю их талантливую достоверность. Исторические произведения непременно должны быть достоверны в мелочах и в главном: в изображении быта и обычаев, интерьеров и всей окружающей обстановки, в изображении событий и расстановки исторических лиц. Но более всего они должны обладать достоверностью в изображении натуры людей той или иной эпохи — их характерной сути. Люди меняются больше, чем костюмы и формы, и для изображения достоверных людей той или иной эпохи еще недостаточно знаний, которыми обладал историк Владислав Михайлович Глинка, — к знаниям понадобилось приложить его большой талант понимания людей иного времени и различных социальных положений.
Владиславу Михайловичу Глинке веришь, как свидетелю, как мемуаристу, как человеку описываемой им эпохи. Он был старомоден в хорошем понимании этого слова: весь его облик, его манеры внушали совершенное доверие к его произведениям, невозможно себе вообразить, что он в чем-то мог недодумать или недоисследовать (извините за такое монструозное слово) изображенное им. Он был талантлив и добросовестен, не жертвовал одним в угоду другому.
Настоящий исторический писатель, писатель, которому веришь, — большая редкость и большая ценность в наши дни. Мы ведь годами стремились очернить наше прошлое и очень осовременить характеры своих исторических героев. Но тем ценнее, что и в те годы в нашем городе работал историк и писатель таких знаний и с такой совестью.
Д. Лихачев
Владислав Михайлович Глинка был одним из последних петербуржцев, которых я знал. Слово «петербуржец» для меня означает очень многое. Это культура России, ее литературные, академические и научные традиции, это отношение к жемчужине нашей страны — городу Петра, это, наконец, безукоризненное знание всего петербуржского — старого быта, нравов, истории и участие в ней. Владислав Михайлович был одним из немногих, кто мог ответить мне на самые разнообразные вопросы, если эти вопросы были связаны с прошлым. Написанное Владиславом Михайловичем Глинкой, в том числе и его исторические повести, отличается безукоризненной точностью всех подробностей быта, жизни и описываемых событий. Для него это было не вычитанное и выписанное из старых книг и журналов, а как бы нажитое за время его долгой работы в архивах и музеях. Он знал XIX, а отчасти и XVIII век так, как будто жил в те времена. И его рассказы, разъяснения, справки поражали не как набор книжных знаний, а просто как впечатление очевидца. Не случайно со всей страны к нему обращались люди, которым надо было что-то узнать, проверить о старой России…
Д. Гранин
С Владиславом Михайловичем Глинкой меня связала моя работа. Ставя тот или иной классический спектакль, я непременно приглашал в качестве консультанта именно его, так как он был единственным в своем роде специалистом по быту и культуре прошлого во всех его деталях. Его удивительная эрудиция поражала. Он мог на память описать пуговицу мундира какого-нибудь особого полка и, никуда не заглядывая, тут же нарисовать ее на бумажке. Помимо такого рода консультаций, он помогал в репетициях, подсказывая детали, которые могли придать театральному действию атмосферу того или иного времени, и детали эти мог знать только он. Владислав Михайлович консультировал в Большом Драматическом театре целый ряд постановок классического репертуара, и эти встречи нас очень сблизили, так что в дальнейшем мне посчастливилось встречаться с ним не только по делу и по работе. Даже просто беседовать с ним всегда доставляло мне особую радость, он был добрый, глубокий, интересный собеседник. Я горжусь своими отношениями с ним, и он всегда останется в моей памяти как высокий образец русского интеллигента, что проявлялось не только в его культуре и образовании, но и во всей его душевной структуре.
Г. Товстоногов
Мое знакомство с Владиславом Михайловичем состоялось в конце 1958 года, когда я готовился к постановке «Дамы с собачкой». На редкость простой и скромный в общении, он сразу же меня очаровал. Вот, подумал я, образец Интеллигентного человека — во всем: в облике, в общении, в чувстве такта, в полноте знаний предмета, которым он занимался многие годы. И, конечно же, в увлеченности.
По собственной практике знаю, что режиссеры обычно побаиваются консультантов. Вот, мол, сейчас начнет придираться к мелочам, к несущественным пустякам. Подумаешь — не там пуговица пришита. Кому до этого дело? Среди зрителей двадцатого века, да еще второй его половины, едва ли найдутся люди, которые заметят эту самую пуговицу на мундире сановника века девятнадцатого и обратят на нее внимание.
Первая наша беседа полностью рассеяла мои опасения и сразу же сделала меня внимательным слушателем и единомышленником Владислава Михайловича. Слушая советы и замечания его, я вдруг ловил себя на мысли совершенно фантастической. Передо мной сидел, разговаривал, шутил человек, не изучавший по книгам и архивам XIX век, а живший в нем. Мне казалось, что он в свои пятьдесят лет мог встречать Гурова в Ялте, бывать в гостях у Гуровых в Москве, интересоваться «новым лицом», появившимся на набережной Ялты, дамой с собачкой. И, находясь рядом с ними, в то же время с удивительной зоркостью наблюдать за их поведением, костюмом, привычками, манерами, мельчайшими деталями окружающей их обстановки. Это был удивительный дар — умение вживаться в эпоху, как бы поселяясь в ней, чувствовать ее всеми пятью чувствами. И тогда пресловутая пуговица оказывалась не такой уж мелочью, а обязательной для художника точностью не только в главном, но и в деталях.
Когда я вижу в наших фильмах нестриженых военных или высасывающих лимонный ломтик после выпитого чая «джентльменов», я вспоминаю Владислава Михайловича и представляю, как мучительно напряглось бы его лицо и последовала бы негромко сказанная фраза — «какое невежество».
Беседы наши обогатили меня гораздо больше, чем это диктовалось темой консультаций. Каждое «вторжение» в эпоху становилось удивительно осязаемым, вещным, так сказать, материализованным. Он даже Чехова «поправлял», не стесняясь. «У Чехова написано, — говорил он, — «за нею бежал белый шпиц». И у вас в сценарии так же. Полагаю, что у Чехова это не точно. Хорошо выученная собака, а шпиц особенно, всегда бежит впереди или рядом с хозяином».
Я посмеялся, но позже решил проверить у известной в Ленинграде дрессировщицы: она сказала то же самое. А на съемках шпиц Джим окончательно подтвердил это своим собачьим поведением.
Вспоминаю, как мы беседовали с Владиславом Михайловичем по поводу тайной переписки Гурова и Анны Сергеевны.
«Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке». Про этого человека Владислав Михайлович рассказал мне так обстоятельно и подробно, будто сам носил красную шапку посыльного. И про возраст, и про костюм, и про профессиональное умение и особую дипломатию при выполнении поручений «секретного» свойства, даже про походку — полубег.
Я, помню, озадачил его вопросом: как же переписывались Анна Сергеевна и Гуров в периоды их разлуки? Очевидно, она писала ему «до востребования». Меня интересовало это и потому, что хотелось показать Гурова часто наведывающимся на почту, в надежде получить письмо. Наконец, я убедил своего консультанта в правомерности такой версии. Согласившись, он с хитрым прищуром спросил меня: «А вы-то знаете, как получали письма до востребования в то время?» — «Предъявляли паспорт», — не задумываясь ответил я. «А вот и нет! — возразил мне Владислав Михайлович. — Паспорт мог раскрыть тайну переписки. Предъявляли почтовому чиновнику ассигнацию, а на ней был номер. Единственный и не повторяющийся. Получатель предъявлял ассигнацию, к тому времени уже аннулированную законом и, следовательно, ставшую редкостью». И сразу обычное действие как бы окуналось в эпоху, становилось ее характерным штрихом, частицей ее неповторимой атмосферы.
Я бережно храню запись наших бесед, как память о человеке, который в своей области был примером честности и высокой профессиональной ответственности, о человеке интеллигентном в самом высоком смысле этого понятия.
И. Хейфиц
Каждый вспоминающий о Владиславе Михайловиче Глинке приводит примеры его феноменальных познаний. Так оно и было — познания его были необыкновенны, а то, что о них помнят, говорит, слава богу, не только о наших малых знаниях, но и о том, что мы хотели бы знать побольше, а раз так, то традиция будет продолжена.
Владислав Михайлович Глинка был одним из самых интересных людей, которых я встречал. Он был писателем, автором прекрасных сочинений о людях конца XVIII — начала XIX века («Повесть о Сергее Непейцыне», «Повесть об унтере Иванове» и другие). Кроме того, что они написаны умно, благородно, художественно, — кроме этого, их отличает щедрость точного знания. Если речь идет, например, об эполетах или о ступеньках Зимнего дворца, о жалованье инвалида, состоящего при шлагбауме, или деталях конской сбруи 1810-х годов, — все точно, все так и было, и ничуть не иначе.
Удивляться этому не следует, ибо писатель В. М. Глинка — это и крупный ученый В. М. Глинка, работавший во многих музеях, являвшийся главным хранителем Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и великолепно знавший прошлое…
Приносят ему, например, предполагаемый портрет молодого декабриста-гвардейца, — Глинка с нежностью глянет на юношу прадедовских времен и вздохнет:
— Да, как приятно, декабрист-гвардеец; правда, шитья на воротнике нет, значит, не гвардеец, но ничего… Какой славный улан (уж не тот ли, кто обвенчался с Ольгой Лариной, — «улан умел ее пленить»); хороший мальчик, уланский корнет, одна звездочка на эполете — звездочка, правда, была введена только в 1827 году, то есть через два года после восстания декабристов, — значит, этот молодец не был офицером в момент восстания. Конечно, бывало, что кое-кто из осужденных возвращал себе солдатскою службою на Кавказе офицерские чины — но эдак годам к тридцати пяти — сорока, а ваш мальчик лет двадцати… да и прическа лермонтовская, такого зачеса в 1820–30-х еще не носили… Ах, жаль, пуговицы на портрете неразборчивы, а то бы мы определили и полк и год.
Так что не получается декабрист никак — а вообще славный мальчик…
Говорят, будто Владислав Михайлович осердился на одного автора, упомянувшего в своем вообще талантливом романе, что Лермонтов «расстегнул доломан на два костылька», в то время как («кто ж не знает!») «костыльки» — особые застежки на гусарском жилете-доломане — были введены в 1846 году, через пять лет после гибели Лермонтова: «Мы с женой целый вечер смеялись…»
Вот такому удивительному человеку автор этих строк поведал свои сомнения и рассуждения по поводу одной небольшой детали из биографии прадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала. Дело в том, что известный историк Дмитрий Бантыш-Каменский записал о Ганнибале со слов Пушкина, что тот в опальном уединении занялся описанием истории своей жизни, но однажды, услышав звук колокольчика, вообразил, что за ним приехал нарочный из Петербурга, и поспешил сжечь интересную рукопись.
— Не слышу колокольчика, — сказал Владислав Михайлович.
— То есть где не слышите?
— В восемнадцатом веке не слышу и не вижу: на рисунках и картинах той поры не помню колокольчиков под дугою, да и в литературе, по-моему, раньше Пушкина и его современника Федора Глинки никто колокольчик, «дар Валдая», не воспевал…
Не помнил Владислав Михайлович в XVIII столетии колокольчика и предложил справиться точнее у лучшего специалиста по всем колоколам и колокольчикам Юрия Васильевича Пухначева. Отыскиваю Юрия Васильевича, он очень любезен и тут же присоединяется к Глинке — не слышит, не видит колокольчика в Ганнибаловы времена: «Часто на колокольчике стоит год изготовления… Самый старый из всех известных — 1802-й, в начале XIX столетия…»
Оказалось, что по разным воспоминаниям и косвенным данным время появления ямщицкого колокольчика под дугою относится к 1770−80-м годам, при Екатерине II.
Выходит, Ганнибал если и мог услышать пугавший его звон, то лишь в самые поздние годы, когда был очень стар, находился в высшем генеральском чине и жил при совсем не страшном для него правлении «матушки Екатерины II».
Но вот — колокольчик…
Колокольчика боялся, конечно, сам Пушкин!
Не зная точно, когда его ввели, он невольно подставляет в биографию прадеда свои собственные переживания.
Но даже не об этих удивительных познаниях Владислава Михайловича хочется сказать, когда его вспоминаешь… Не только о них… Владислав Михайлович был красивый, стройный, добрый человек с огромным положительным полем. Я считаю его существенной, если можно так выразиться, достопримечательностью Ленинграда. Это не просто комплимент и не только уважение к личности. Я считаю, что именно это обстоятельство — особенность его личности — позволяло ему быть на «ты» с прошлым. Прошлое не всякому открывается. Я помню, как об одном специалисте сказали: «все знает — ничего не понимает». Знания большие, а чувства духа нет — и прошлое не дает себя явить, — это лишь склад знаний. Все знания Владислава Михайловича были оживлены его личностью, его духом, его улыбкой, его сарказмом, его добротой, и он был конгениален своим положительным героям, во всяком случае таким, как декабристы, Пушкин, герои 1812 года, и вполне на уровне многознающих мудрецов XVIII и XIX столетий даже при обсуждении общих с ними вопросов. Благодаря особенностям своей личности он вступал в разговор с прошлым, и прошлое ему отвечало. Я думаю, что одним из главных заветов Владислава Михайловича может считаться мысль о значении хорошего человека в истории и в изучении истории. Мы не всегда об этом вспоминаем, а ведь надо быть хорошим человеком, чтобы разговориться с историей. Плохой человек, даже вводя в обиход новые факты, окрашивает их своей дурной личностью — и эти факты почти погибают. У меня есть ощущение, что Владислав Михайлович, разумеется объективно передавая факты 1812 года, занимаясь атрибуцией старинных портретов, размышляя о декабристах, в то же время давал тому, о чем писал и говорил, некоторую окраску своей личности, — казалось бы, что тут хорошего, и как это инородное явление, привнесенное из нашего столетия, может быть полезно сведениям о старине? Но вот странный химический эффект: еле заметное прикосновение личности Владислава Михайловича — и эти давно ушедшие люди как будто особо и заново освещались, становились виднее, ярче, реальнее как люди именно XIX века, а отнюдь не как выдуманные люди ХХ-го. Хороший, прекрасный человек, Владислав Михайлович знакомил нас с ними, представлял нам целую галерею лиц, ситуаций, персонажей того века, и мы, читая его романы, читая его книжки для детей и юношей, читая его строгие научные исследования, не только познаем, а познаем, одновременно получая эмоциональный заряд. При этом мы, я надеюсь, становимся лучше, а это, может быть, даже главнее, важнее, чем некая сумма знаний…
Н. Эйдельман
— СТАРОСОЛЬСКАЯ ПОВЕСТЬ —
1
Вырос я в уездном городке Старосольске. Отец был земским врачом, и жили мы вблизи больницы во флигеле, стоявшем в глубине мощеного двора за большим каменным домом.
Имя Старосольска тесно связалось с многовековой историей северо-западной Руси. Не раз татары, литовцы, шведы разоряли и выжигали город, не раз отбивали их русские ратники, чтобы вновь выросли на пепелище избы, лавки, монастыри. Мало что осталось от тех далеких времен — две-три церквушки да названия некоторых улиц. Но в начале XIX века Старосольск стал одним из центров военных поселений, с десяток лет был на глазах самого Аракчеева, и это заметно сказалось в его планировке и архитектуре. Вдоль прямых улиц стояли похожие друг на друга дома с простенькими фронтонами, лепными карнизами и чердачными полуовальными окнами. Старые липовые бульвары обрамляли укрепленные позеленелыми сваями берега реки, и шеренги чугунных тумб выстроились вдоль тротуаров. И через сто лет городок сохранил казенное, скучноватое, но опрятное обличив, похожее на старомодный, потускневший мундир.
Большой дом, заслонявший от наших окон улицу, сам выглядел гордо и осанисто. Он был двухэтажный с мезонином. Посредине фасада на широком выступе раскинулся балкон с толстыми колоннами. Строились эти хоромы более ста лет назад для дивизионного генерала поселенных войск, а во времена моего детства в верхнем этаже находилась лучшая в городке барская квартира с паркетными полами и залой в пять окон. Внизу, в сводчатых невысоких комнатах, размещались раньше канцелярии и людские, теперь же в маленькой квартирке жила вдова землемера Грызунова с сыном Юркой, моим приятелем, и рядом находилась пряничная-пекарня с лавкой и жильем хозяев. Всякий поймет, какое это волнующее соседство для мальчишек.
Городок был самый провинциальный, не шумный и не пыльный, поэтому о поездках летом на дачу, в деревню, на чистый воздух, никогда и не думали.
Но когда мне шел седьмой год, в начале лета, я заболел коклюшем в тяжелой форме. Помню, какие встревоженные лица были у отца, матери и бабки и как приходили смотреть меня чуть не все врачи города. Потом они подолгу сидели у отца, пили чай, курили на крыльце и толковали о лечении. Было решено, что мне необходим воздух, особенно богатый кислородом, и еще что-то, что может дать хвойный лес. Поэтому отец снял у земства пустовавшую летом школу в двадцати пяти верстах от Старосольска и полуверсте от ближней к городу железнодорожной станции Смолово.
Помню, как, сильно за полдень, мы выехали на городском извозчике из Старосольска, долго катили шоссейной дорогой, минуя луга, деревни и перелески. Наконец свернули на проселок. Тут по одну сторону за канавой стояли непрерывной стеной красноватые сосны, а по другую лежало ровное золото хлебных полей, а за ним нет-нет сверкала, открываясь и вновь пропадая, широкая река.
— Скоро теперь и твоя санатория, — сказал отец.
В рекламных проспектах, которые ему иногда присылали, я видел изображения санаторий и живо представил себе нарядное здание со шпилями, флагами, галерейками и парусиновыми зонтами на окнах. Но меня ждало разочарование.
Дрожки остановились. Справа были тесовые ворота, от них бежал заборчик из редких планок, и за ним — низкое серое бревенчатое здание в пять или шесть окон. Оно стояло вдоль дороги, безмолвное, неказистое. Близ дома виднелся плохонький сарайчик, и со всех сторон небольшой двор обступили темные сосны. Солнце склонялось за лес, и красные лучи озаряли контуры незнакомого места.
Через темноватый коридор мы вошли в большую, почти пустую комнату. Дня за два до нашего приезда больничный сторож привез на подводе из города самую необходимую мебель, и теперь у бревенчатых стен сиротливо жались кровать матери, моя кроватка, столик, табуретки.
Я не отходил от матери, пока отец распаковывал приехавшую с нами поклажу и вынимал одеяла, подушки, одежду. Появление знакомых вещей сделало комнату более уютной.
Пришла поздороваться и помочь школьная сторожиха Арефьевна, донельзя говорливая и услужливая старуха. Она же вскоре внесла кипящий самовар и очень заняла меня рассказом, как ставить его сухими еловыми шишками.
— А Якова Александровича что не видно? — спросил отец.
— В Борки пошел, в лавку, да, видно, зашел куды, — отвечала Арефьевна. — За рекой у его тоже ученики везде. Залучат, так не скоро отпущают…
Так я впервые услышал об учителе Вербове, жившем при школе круглый год.
От перемены ли воздуха, или от усталости, но в эту ночь я кашлял меньше, чем в городе, и утром проснулся бодрее. Окна были не занавешены, и комната залита солнцем.
Отец не спал. Тихонько, чтобы не разбудить маму, он встал, оделся, одел меня, взял купальную простыню, и мы вышли из дому.
Сквозь растворенные ворота, через мягкую пыль проселка, по тропке между хлебных полей пошли мы к реке. Все кругом было безмолвно, мирно и пусто. Только жаворонки заливались высоко над рожью. Широкая и полноводная река, блестя на солнце буроватой, медленно текущей водой, лежала в песчаных берегах, осененных ивовыми кустами.
Отец начал купаться, а я сел на сухой, чистый песок и с увлечением принялся рыть пещеру и окружать ее забором из сорванных травинок.
Когда мы двинулись назад, навстречу нам показался широко шагающий мужчина.
— Вон Яков Александрович идет, — сказал отец. — Надо тебе с новым соседом познакомиться.
Я знал, что Яков Александрович учитель, а мои представления об этом типе людей опирались на наблюдения за отцовским пациентом, инспектором городского училища, который смотрел сердито, тяжело дышал и плевал в платок, хрипло чертыхаясь.
Кроме того, когда я плохо вел себя, бабка грозилась:
— Погоди, голубчик, вот пойдешь в гимназию, там учителя тебя приструнят…
Поэтому я без особой приветливости смотрел на приближавшегося человека. Он бодро шел, по-солдатски помахивая руками. Над загорелым лицом хохлились густые седые волосы. Одет в белую косоворотку, черные штаны. Ноги босы, через плечо — полотенце.
Когда он приблизился, я увидел, что учитель очень высок. Он остановился, улыбнулся, показав крепкие зубы под усами, и обменялся с отцом рукопожатием. Потом, поглядев на меня, сказал: «Здорово, брат»— и пожал мою руку. А я в это время думал, как мало похож он на учителя — босой и без шапки.
Отец в тот же вечер уехал, новизна впечатлений сгладилась. С утра до вечера мы с матерью проводили на опушке леса рядом со школьным двором. Тут вешался веревочный гамак — мне было велено поменьше двигаться. А мать садилась около на табуретке с шитьем или книгой, читая мне вслух.
Я боялся леса. В скрытой частыми стволами глубине мне мерещилось невесть что. И поэтому, не желая оставаться один в гамаке, я ревел и цеплялся за мать, когда она собиралась уйти хоть на минутку.
Помню ощущение бессилия и успокоения, когда после кашля и тошноты, проглотив что-нибудь, я задремывал в гамаке. Под журчание материнского чтения я смотрел на красную шершавую кору, блестевшую пятнами смолы. А сверху, не переставая, мощно, на единой ноте, гудела колебавшаяся под ветром хвоя. Иногда доплывали до нас звуки скрипки. Это играл Яков Александрович в своей комнате на дальнем конце школы.
Однажды, после ночи, когда мать очень мало спала из-за моего кашля, а потому, с трудом превозмогая дремоту, невнятно читала что-то, Яков Александрович появился на школьном дворе, за заборчиком, шагах в десяти от нас.
— Не отпустить ли вас отдохнуть, Надежда Владимировна? — спросил он. — Дайте я с Володькой посижу…
Мать отказалась, сомневаясь, как я отнесусь к приближению малознакомого человека, но учитель пошел в обход к воротам и через несколько минут стоял у гамака, показывая две книги:
— Выбирай-ка, которую почитать?
Это были «Айвенго» и сборник рассказов «Подвиги русских солдат». В словах и движениях Якова Александровича была спокойная и ласковая уверенность. Мне и в голову не пришло отказаться от его предложения.
Чтение повторилось через день, а там еще и еще.
Для матери это было огромным облегчением. Она расстилала тут же поблизости плед и засыпала на все время чтения совершенно спокойно.
Так началась моя дружба с Яковом Александровичем. А когда через месяц приступы кашля заметно утихли и я стал больше двигаться, — он повел меня к себе.
Квартира учителя состояла из одной довольно большой комнаты и кухоньки с особым крыльцом, выходившим прямо на опушку леса. Другая дверь вела в коридор к классам, — их в школе было только два — в одном жили мы, в другом громоздились друг на друге парты.
В комнате, очень светлой и чистой, оказалось несколько преинтересных вещей. Сразу же мое внимание привлекла большая проволочная клетка с хромоногой галкой.
— Тут разные больные сиживали, — сказал Яков Александрович, когда я смотрел на нее. — И зайцы подстреленные, и ежи, косой подрезанные, и птицы подбитые. Их мне ребята несут… Ничего — выправляются. Вроде как ты сейчас.
Потом я рассмотрел довольно большую картину, изображавшую солдата в белых штанах и черном мундире, который несет молоденького окровавленного офицера. По заднему плану скакали какие-то всадники и густо клубился дым. На той же стене висели две большие желтоватые фотографии, принятые мною за родственников Якова Александровича, на самом же деле — портреты Ушинского и Некрасова. Они меня не заинтересовали, но зато напротив, над простым деревянным диваном, горизонтально висела старинная шпага. И, взобравшись коленями на сиденье, я долго разглядывал золоченый эфес, галунный потускневший темляк и порыжелую кожу ножен.
— Интересное-то, брат, внутри, — сказал стоявший за моей спиной Яков Александрович. — Уж так и быть — покажу. Только, гляди, конец отпущен.
Он снял шпагу с гвоздиков и обнажил клинок, покрытый узорами. Начиная от самой рукоятки и почти до острия размещались лавровые венки, скрепленные тонким орнаментом. В каждом венке были подпись и дата. Начиная с Бородина шли Тарутино, Малоярославец, Смоленск, Красный, Березина, Дрезден, Лейпциг, Бриенн и кончалось Фер-Шампенуазом и Парижем. А на другой стороне стояло: «Златоуст 1817» и широко распласталась богатая арматура из оружия, касок, знамен и ядер.
— Чье же это? — спросил я.
— Деда моего, — отвечал учитель. — Он во всех боях, что здесь записаны, участвовал.
И так постепенно подымавшийся в моем представлении все выше Яков Александрович взлетел в этот миг на недосягаемую высоту и как владелец такого оружия, и как внук боевого дедушки.
Когда шпага водворилась на место, я обратился к развешанным над нею нескольким небольшим портретам. Но внимание мое привлек тогда только один из них. Это была акварель, изображавшая военного, в высоком кивере с прямым султаном и в мундире, расшитом по всем направлениям желтой тесьмой. На плечах торчали густейшие эполеты, в руке — трость, обвитая галуном с кистями. А поперек груди — целый ряд крестов и медалей.
— Кто же это? — спросил я. — Не тот ли, что офицера-то вон несет? Или это его самого спасают?
— Нет, то другое. А это — дедушка мой.
— Значит, он в сражениях все эти ордена заслужил! — сказал я восхищенно.
— Да, и он всю Отечественную войну вплоть до Парижа прошагал… — отозвался старый учитель.
— А кто же он был? Форма-то какая красивая!
— Форма действительно заметная, — согласился Яков Александрович. — А был он гренадерский тамбурмажор. Слыхал такой чин?
— Нет, не слыхал еще.
— Теперь-то их нету уже. Лет сорок никак вовсе должность упразднили.
— А что же он делал? — не унимался я.
— Делал? А вот в этаком мундире впереди полка маршировал, — сказал учитель, улыбаясь и любовно смотря на портрет.
Мне представилось что-то повыше командира полка, но пониже генерала. На том объяснение и окончилось, а вслед за тем кончился и мой первый визит к Якову Александровичу.
Родители мои тоже подружились с учителем. Приезжавший по воскресеньям отец подолгу с ним разговаривал о земских делах, о Государственной думе и играл на крылечке в шахматы. А мать, приглядевшись к Якову Александровичу, доверилась ему совершенно. И, надо сказать, вполне основательно. Особенно проявилось это, когда мы с учителем стали вместо чтения ходить на реку. Он никогда не одергивал меня, не учил, как вести себя, не приказывал, а просто разговаривал на всякие интересные нам обоим темы без тени превосходства, лишь изредка замечая: «Знаешь, брат, там песок сырой, ты бы повыше сел. Вон на траву-то…», или: «Ты бы, Володя, не прыгал. От этого задохнешься и станешь кашлять». И слушался я его беспрекословно.
Иногда, выкупавшись, учитель ложился рядом со мной на песок, рассказывал о ракушках, рыбах, водяных жуках, ивняке, из которого плетут корзины, показывал, как это делают. А то ловко строил из песка и щепок, которых всегда было много у берегов этой сплавной реки, домики, замки или окопы с крытыми блиндажами.
— Вот и мы так-то на Балканах из снега делывали, — сказал он однажды.
И тут я узнал, что когда-то Яков Александрович участвовал в войне с турками и дошел до самого Константинополя.
Но этак обмолвился он уже совсем к концу лета, и порасспросить толком мне его не удалось.
Учителя часто навещали ребята. Школа была построена в лесу, у дороги, с тем чтобы обслуживать пять деревень, ближняя из которых находилась в полутора верстах. И летом ребята прибегали, чтобы принести учителю грибов, зеленых мелких яблок, переменить книжки в школьной библиотечке.
Когда детские голоса раздавались у крылечка учителя, меня очень туда тянуло, но мать напоминала, что я еще кашляю и могу заразить посетителей Якова Александровича.
2
В середине августа пошли дожди, и мы уехали в город, а к началу сентября коклюш мой прошел окончательно.
Еще одну зиму я, как говорится, «бил баклуши», хоть и занимался ежедневно арифметикой и письмом с бабушкой, которая была построже матери. А следующей весной поступил в приготовительный класс гимназии. Приятель мой Юрка Грызунов выдержал экзамены в один день со мной, и с середины августа мы вместе начали бегать в класс, путаясь в полах длинных, шитых «на рост» шинелей и не без труда неся в ранцах и в головах выраставший груз премудрости. Новый мир тревог и обязанностей открылся перед нами. Свободные минуты поглощали Майн Рид и Купер. В индейцев играли на дворе, несмотря на неподходящие к прериям морозы и сугробы. Но весной перья, луки и томагавки сменило новое увлечение. Шел 1912 год, и Россия готовилась праздновать сотую годовщину победы над Наполеоном. Календари, многочисленные юбилейные издания, открытки, обертки конфет, папиросные коробки и даже выставленные в магазинах духи, мыла, бабьи головные платки и ситцы пестрели изображениями Кутузова, Наполеона, пожара Москвы, Бородинского боя. Мы с Юркой были патриотами. Багратион и Платов, Ермолов и Раевский скоро стали нам хорошо известны, так же как имена наполеоновских маршалов и названия мест, где разбили их русские полководцы. В играх «краснокожих братьев» сменили бесстрашные Давыдов и Сеславин. Так прошло лето.
В последние дни каникул, когда как-то особенно весело и жадно играется, на нашем дворе разгласилась новость. В верхний этаж большого дома въезжали жильцы. Квартира там пустовала все лето, и теперь ее нанял вновь назначенный в наш город товарищ прокурора. По слухам, чиновник этот, приехав уже с неделю, жил в гостинице у станции, ожидая прибытия обстановки из Петербурга.
И вот однажды утром к дому подъехало два нагруженных воза, и с них стали снимать укупоренные в ящики, рогожи или холсты предметы разнообразной формы и тяжести. Несколько соседских ребят и мы с Юркой, собравшись у ворот, наблюдали, как ставили на землю рояль, диваны, столы, зеркала, очертания которых мы угадывали под скрывавшими их покровами. Распоряжался всем маленький старичок с седыми бакенами, как мы узнали позже, камердинер товарища прокурора.
Первые возы разгрузили, и сразу внесли вещи в дом по широкой парадной лестнице, а когда часа через три приехали новые, то старичок велел перенести поклажу на двор под навес сарая и тотчас ехать снова, чтобы поспеть вывезти все до закрытия пакгауза.
Теперь мы с Юркой сели на крылечко нашего флигеля и не спеша все рассматривали. Должен сознаться, что немало было предметов, в назначении которых мы сомневались. Таковы были арфа в чехле и сверх того в массивной дощатой клетке, мольберт с массой винтов и дырок, и, наконец, комнатный домик-будка, обитая бархатом с бахромой и обернутая поперек ковровой дорожкой. О ней мы долго спорили, для детей она или для кого другого.
— А может, для белок или для медвежонка, — предположил Юрка.
— Болонкин дом, то есть собачий, — снисходительно пояснил старичок, стоявший неподалеку.
Потом появились штук десять картин, их поставили у стенки сарая.
Наконец ломовики с дворником уехали, а старичок, вежливо приподняв плюшевую шляпу и назвав нас «любезными молодыми людьми», попросил приглянуть за багажом. После чего, покряхтывая и позванивая связкой ключей, скрылся на черной лестнице большого дома.
Мы, конечно, тотчас начали «приглядывать», то есть подошли к картинам. Они стояли двумя стопами, и сквозь редкие планки клеток хорошо были видны холсты передних. На одной изображался босой мальчик, одетый в мохнатую шкурку и обнимающий барана, а на другой — более чем по пояс виднелся генерал с массой орденов и двумя звездами на темном с золотым шитьем мундире. Локтем левой руки он опирался на колонку, по мрамору которой пролегала надпись: «8 кампаний, 100 сражений». А в правой руке держал обнаженную шпагу. Непокрытая голова с взлохмаченными волосами и бакенбардами смотрела грозно и внушительно. Красные губы большого рта решительно сжаты, брови над темными глазами насуплены. Синеватый, выставленный вперед подбородок опирался на расшитый воротник.
Я весь отдался созерцанию этого очень живого лица, а Юрка, присев на корточки, рассматривал в это время что-то в нижней части холста.
— А на шашке у него что-то написано, — сказал он. — Отступи-ка, мешаешь…
Я присел с ним рядом и вдруг увидел те же лавровые венки и надписи, что на шпаге Якова Александровича.
— А ведь я видел эту самую шпагу, — заявил я, пораженный.
— Ну, врешь! Где? — усомнился Юрка.
Я рассказал ему, и мы долго обсуждали, так ли это. Но под конец решили, что, наверное, таких шпаг после войны с Наполеоном делали не одну.
К нашему сожалению, когда приехали новые возы, нас кликнули по домам.
Целую неделю наверху распаковывались и устраивались. Старичок с дворником понемногу таскали в сарай доски, рогожи и ящики. Им помогала кухарка новых жильцов. Потом приехали хозяева. Их было трое: «сам», его жена и дочка, и при них бонна-девица, горничная и белая собачка в попонке.
Товарища прокурора мы наблюдали мало. Случалось, когда возвращались из гимназии, он ехал в суд после завтрака. Или, рассматривая ожидавшую его у подъезда ямскую тройку, мы мельком видели, как он выходил из парадной, отправляясь в уезд. Жена его, высокая дама, всегда почему-то в вуали и пышных мехах, редко показывалась на улице, так же как и собачка, боявшаяся холода. Но часто мы встречали девочку лет пяти, которая ежедневно прогуливалась в сопровождении бонны-немки с голубыми кукольными глазами. Девочка была живая, болтливая, как воробей. Все время порывалась она пробежаться, схватить листок, прутик, а зимой сосульку или снежок. И бонна непрерывно не то шипела, не то жужжала на нее, тряся головой и тараща глаза:
— О Lise, Schande!.. О Lise!
Так мы с Юркой и прозвали девочку: «Олизшанде».
Из разговоров бабушки, Юркиной матери, дворника и почтальона мы постепенно узнали, что товарищ прокурора — петербургский аристократ, сын сенатора, держится гордо, ни с кем почти в городе не познакомился, что с женой он говорит по-французски, много получает газет и писем, курит только сигары.
Наконец я услышал, как отец говорил матери: — Встретился нынче у больного следователя Стрелковского с нашим соседом. Очень красивый господин, держится любезно. Стрелковскому принес какие-то журналы для развлечения. Но в десятиминутном разговоре обмолвился, что владеет хорошими имениями, мог бы не служить, если бы не семейная традиция; что здесь ужасно скучает и пребывание в нашем городе трактует как случайный эпизод на служебном пути. Какая-то неумная уверенность в своем высшем назначении и в то же время несерьезное отношение к этому назначению…
Однажды, — это было совсем незадолго до святок, — вечером, часов в десять, когда я уже укладывался спать, в прихожей раздался резкий звонок. Мать пошла отворять, и из передней донесся чей-то неясный голос.
— Это не папа? — спросил я, когда она вернулась. Отец был еще у пациентов.
— Нет, приходили звать его из каменного дома. Там девочка заболела.
Потом я заснул и сквозь сон слышал два или три звонка, скрип дверей, тихие шаги в кабинете, в столовой, раз на несколько минут даже проснулся от стука поспешно открываемого отцовского инструментального шкафа.
Утром за чаем бабушка сказала мне, что отцу удалось горячей ванной в самую критическую минуту спасти девочку от острой и, казалось, безнадежной формы крупа.
Днем, когда я был в гимназии, к нам заходил товарищ прокурора и, узнав, что отец в больнице, оставил визитную карточку.
Нас распустили на каникулы. До святок оставалось четыре дня. Было воскресенье, и отец против обыкновения долго спал. Я пошел к Юрке, потом мы вместе бегали на базарную площадь смотреть елки, а когда вернулся домой, то бабушка на кухне сказала:
— Не кричи, не шуми, а сейчас же мой руки и обдерни куртку…
— А что случилось? — спросил я.
— Ничего не случилось, а у папы сидит прокурор, — пояснила внушительно бабушка. — Вдруг отец тебя позовет, а ты этаким чучелом. Пояс-то поправь…
Я тотчас «навел красоту» и, едва отерев красные, «как у гуся», по бабкиному выражению, руки, прямиком отправился в кабинет. Там напротив папы сидел отец Олизшанде, и они о чем-то разговаривали. Между небольшой, очень скромной комнатой, с дешевым письменным столом, с клеенчатым диваном отца, и этим господином положительно был какой-то контраст.
Представьте себе крупного барина с аккуратно причесанной головой и золотистой, слегка раздвоенной бородой, правильным лицом и небольшими белыми руками. От его визитки, белья, переливчатого галстука, полосатых штанов исходил легкий аромат духов, довольства, самоуверенности. Все было самое дорогое, свежее, лучшее.
— А, молодой человек, здравствуйте! — радушно приветствовал меня гость. Я шаркнул ногой, как меня учили, и подал ему свою «гусиную лапу», после чего отретировался на другую сторону стола, где, прислонившись к отцу, продолжал наблюдать.
«Да ведь он похож на генерала с портрета, тот, верно, его предок», — вдруг сообразил я.
А прокурор между тем продолжал что-то рассказывать и засмеялся раскатисто, заразительно. При этом открылись ровные белые зубы. Он показался мне очень красив, и я смотрел на него во все глаза.
Однако вскоре я заметил, что папа в ответ только сдержанно улыбался.
Через несколько минут визитер стал прощаться. Крепко пожимая отцовскую руку, он говорил:
— Верьте, доктор, мы никогда не забудем этой страшной ночи и вашей удивительной отзывчивости и искусства. Право, вы великолепно всем командовали. Если бы я мог быть вам полезен… Может быть, в Петербурге?.. По вашему ведомству, через отца или старшего брата. Уверяю вас — это не слова… Если вы только позволите и укажете, куда хотели бы, например, перевода…
Но отец перебил его:
— Полноте, я делал только то, что мог и должен был сделать любой врач на моем месте… — И опять в его голосе, в котором столько раз я слышал ноты доброты и ласки к пациентам, прозвучали сухость и сдержанность.
Когда товарищ прокурора ушел, мы стали обедать. Сначала папа ел молча и хмурился, но, заметив вопросительный взгляд матери, заговорил:
— Вот ведь только двое суток прошло — успокоился человек и опять прежним стал. А в ту-то ночь, когда девочка умирала, вся спесь мигом с него соскочила. И говорил, и метался, и радовался естественно. А нынче опять и грассирует слегка, и мизинец с полированным ногтем оттопыривает, и пошлости радостно говорит… Даже обидно как-то, ведь не глуп, кажется… Или это воспитание такое…
— Опять скучает? — спросила мать.
— Нет, но, по мне, лучше бы уж скучал. А то вздумал делиться впечатлениями, которые накопил здесь за три месяца. Заметил, например, что у письмоводителя судебного съезда Сорина ноги длинные и тощие, а нос красен и тоже длинен, и называл его аистом, благо у того детей куча. Вот и вся острота. А что Сорин честен и с детьми бьется в бедности, — об этом с удивлением от меня только что узнал… Или говорит, что судья Балторович косноязычен, как Демосфен, и, по точному подсчету, шестнадцати букв не произносит… Ей-богу, сам, говорит, на заседаниях считать не ленился… А что Балторович алкоголик и невежда — об этом ни слова… Но ведь это чиновники его ведомства… Что же он способен вообще-то в жизни рассмотреть?..
— А ты не обратил внимания, что он на кого-то из знакомых похож?.. Или показалось мне? Я ведь его только мельком видела… — спросила мать.
— Нет… А впрочем, действительно что-то мелькает как будто знакомое…
— Он похож на своего дедушку — генерала Отечественной войны, — выпалил я.
Отец, мать и бабка посмотрели на меня, как на помешанного.
— А ты почему знаешь его дедушку? — высоко поднял брови папа.
Я рассказал ему про портрет.
— Это, конечно, возможно, — согласился он. — Только ведь мама-то никогда портрета этого не видала, а сходство заметила. Да и я тоже.
— Ты-то, наверно, его видел ночью, когда у них был, — пытался я обосновать свою гипотезу.
— Ну, брат, мне там не до портретов было, — засмеялся отец.
Я стал в тупик. И вдруг меня осенило. Шпага! Вот где был ключ.
— А я знаю на кого! — возгласил я почти торжественно. И на вопросительные взгляды отвечал: — На учителя Якова Александровича!
Наступила пауза. Взрослые переглянулись. Потом отец сказал:
— А ведь, ей-богу, верно, молодец Володька… — И, помолчав, добавил: — Да, похожи несомненно и лицом и чем-то в движениях, хоть и совсем разные. Совсем как родственники похожи… — Он подумал и спросил: — А как товарища прокурора полная фамилия? У него ведь двойная?
— Денисович обычно зовут, — отвечала бабушка. — Там, правда, и еще что-то есть.
Мать встала и через минуту принесла визитную карточку.
— «Павел Дмитриевич Вербо-Денисович», — прочла она.
— Вот так история, — сказал отец. — Похоже, что и верно родственники… Этот Вербо, а тот Вербов, — одной буквы недостает, да ударение не там. Навряд ли это случайное совпадение.
— Но такое различие общественных положений, — заметила мать. — Лицеист, сын сановника, аристократ, а Яков Александрович наш — скромный сельский учитель.
— Да, но между тем… — отец покачал головой. — «Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам». А коли они и в родстве, то мне Яков Александрович во сто раз милее… — И он встал из-за стола.
А я схитрил, ничего не сказал про шпагу. Будто бы просто так догадался, по наблюдательности. Но в несомненность родства верил, должно быть, крепче всех.
Прошел еще один день, наступило 23 декабря.
Ежемесячно около 20 числа бабушка получала пенсию от Петербургского Литературного фонда. Давно умерший мамин отец был небольшой журналист шестидесятых-восьмидесятых годов, и потому вдова его пользовалась пожизненной поддержкой рублей в двадцать в месяц. Когда почтальон приносил эти деньги, я тотчас получал из них свой узаконенный процент в размере двугривенного, который так же незамедлительно переносился мною через двор на прилавок пряничной лавки.
Только два раза за год, перед рождеством и перед пасхой, случалось, что бабушка несколько задерживала выплату моего дохода. Несмотря на молодость ярой шестидесятницы, она к старости стала религиозна и сомневалась, хорошо ли давать мне сладости в рождественский и великий посты. Но всякий раз, поразмыслив над этим вопросом, решала его положительно и только наказывала покупать не какие-нибудь другие пряники, а мятные. Я торопливо облачался и летел в пряничную.
Это было удивительное заведение. В лавку вела низенькая дверь, по сторонам которой стояли, сложенные из узких дощечек, ярко-зеленые створки ночных ставен. Справа от двери было квадратное окошко, за зеленоватыми стеклами которого, широко расставив ноги, стойл гипсовый гном с желтоватой бородой и красным носом. Перед круглым животом он держал подносик, и на нем лежало по экземпляру всего, что производилось пекарней: миндальные, шоколадные и мятные круглые пряники, фигурные — коньки и рыбки и тут же карамели грушевые и «гадательные», с пророческими стихами и изображениями карт. Наконец, у ног гнома, блистая полосками золотой бумаги и зигзагами застывшего разноцветного сахара, неподвижно ехал пряничный всадник на богато изукрашенном коне.
Такова была выставка. А внутри… Во-первых, запах — теплый, мучной, мятный, ванильный, пригорело-сахарный. Что может быть приветливее? О вступлении покупателя в лавку возвещал дверной колокольчик, звонко брякавший над вашей головой, и не успевал он еще смолкнуть, а вы полной грудью вдохнуть ароматы, хлынувшие вам навстречу, как из двери в задней стенке низкой сводчатой лавки показывался хозяин, он же пекарь Порохов.
Это был бодрый старичок в белом фартуке. Весь он, от седого бобрика волос над розовым лбом до присыпанных мучной пылью мягких туфель, был похож на в меру подрумяненный мятный пряник.
Вот сюда-то ясным предрождественским днем и двинулся я, зажав в кулаке двугривенный, предвкушая, как мы с Юркой будем есть пряники, а главное, обдумывая на ходу важный вопрос: мятные или миндальные…
Я не решился еще ни на что, когда, открывая заветную дверь, понял, что мне придется подождать. Высокий человек в романовском полушубке и валенках, стоя ко мне спиной, укладывал в мешок пакеты с пряниками и конфетами, которые подавал ему стоявший за прилавком Порохов.
— А, оптовый покупатель! — приветствовал меня пряничник.
Человек в полушубке обернулся, и я узнал Якова Александровича. Он ласково со мной поздоровался. А я не сводил глаз с его лица, вспоминая недавний разговор. Да, сходство с прокурором было!
— Сейчас, Яков Александрович, я шпагат принесу мешок перевязать, — сказал Порохов и ушел в заднее помещение.
— Что ты меня так рассматриваешь? — спросил учитель. — Уж не поморозился ли я? — И он поспешно ощупал нос, щеки и уши.
— Нет, — отвечал я. — А хочу вас спросить, не брат ли вам прокурор Вербо-Денисович или не родственник ли?
— Как? — медленно выговорил старый учитель, застыв с поднятой к лицу рукой. — Как ты сказал?
Я, хотя и менее уверенно, повторил вопрос.
— Да где же ты слыхал про такого? — спросил он, и я заметил, как лицо его заливает краска.
— А вот тут же, в этом доме он и живет наверху. Папа недавно его девочку от смерти вылечил, — сказал я.
— Неужто тут? — как-то странно глянул вокруг и вверх Яков Александрович. — В этом самом доме?
Вернулся Порохов с веревкой.
— Подойдет ли? — спросил он. — Настоящий английский.
Но учитель едва взглянул на шпагат.
— Завяжи, пожалуйста, сам, Николай Федорович, — сказал он поспешно и опять обратился ко мне: — А ты, Володя, купи что надо, а потом я хотел бы к вам зайти, и ты мне толком все расскажешь.
Отца не было дома, бабушка возилась на кухне, мама тоже. Она вышла на минутку, поздоровалась, обещала скоро прийти и просила гостя остаться обедать.
Мы сели с Яковом Александровичем у окна в столовой, и я рассказал все. И, опять покачивая головой, он сказал:
— Да, странное совпадение… В этом самом доме…
Я только хотел спросить разъяснения этих слов, как пришел отец. Мне кажется, он тотчас понял все, строго посмотрел на меня и, уведя Якова Александровича в кабинет, плотно запер за собой двери.
Я был несколько обижен таким оборотом дела, но, прикинув, нет ли за мной каких грехов, и не найдя ничего особенного, решил подождать, что будет дальше. А пока, отделив по-братски Юркину долю, стал помаленьку уничтожать пряники, — благо ни мать, ни бабка не обращали на меня внимания.
Говорили в кабинете не менее часу. Но когда мама сказала через дверь, что обед готов, отец тотчас отозвался:
— Подавайте, сейчас идем…
Выйдя, они молча сели за стол. Есть мне после пряников решительно не хотелось, и я внимательно вглядывался в обоих. Лицо отца было грустно-задумчивое, а учителя — спокойное и ясное.
В конце обеда разговор приобрел общий характер и оживился. Потом Яков Александрович стал собираться на вечерний поезд и, хотя родители уговаривали его переночевать, сказал, что обещал нынче вернуться и Арефьевна обеспокоится.
— Но ведь зимой у вас так глухо, — сказала мать. — И дорога-то от станции все лесом, может, даже волки есть…
— Э, Надежда Владимировна, — засмеялся учитель, — да там и звери мне все знакомы, авось помилуют ради святок.
Проводив гостя, отец возвратился в столовую.
— Где встретился с Яковом Александровичем? — спросил он меня.
— У Порохова в лавке, — сказал я. — Этот весь мешок, что он понес, — все конфеты и пряники…
Отец прошелся по комнате. Потом обратился к матери:
— Ты знаешь, он из своего грошового жалованья целый год откладывает, чтобы к рождеству сделать елку с угощением. Говорят, кроме школьников, чуть не сто человек набивается — и бородатые мужики, и бабы с младенцами — все его бывшие ученики. Ведь он лет двадцать пять все в тех же стенах.
Тут отец вдруг как бы что-то вспомнил, остановился и, взглянув на меня, сказал:
— Пойдем-ка, мне надо с тобой поговорить.
Сердце у меня сжалось. Отец никогда не драл меня. Даже не бранил крепко, но так умел объяснить какое-нибудь мое непослушание или хулиганство, что уж лучше наказал бы… Я поплелся за ним.
Войдя в кабинет, он указал мне на стул у стола против своего места, сел сам и на мгновение как бы задумался, верно подбирая выражения.
— Видишь ли, я хочу поговорить с тобой как со взрослым мужчиной, — начал он. — Ты, конечно, уже догадался, что речь будет о Якове Александровиче и о том господине, — он кивнул в сторону каменного дома. — Да, мы, и в частности ты, были правы — они родственники, и притом не дальние. И как я узнал сейчас, Яков Александрович имеет особые основания с этим родством не считаться. Не то чтобы он желал его скрывать, но вспоминать о нем не хочет, а равно не хочет, чтобы вспоминали другие и, прежде всего, сам этот барин… А раз так, то мы, случайно догадавшиеся, обязаны забыть то, что нам известно. Ты меня понял?
— Понял, — отозвался я.
— И никому не будешь об этом говорить, даже Юрке твоему. Хорошо?
— Хорошо.
— Так дай мне, пожалуйста, честное слово, что это исполнишь.
— Даю.
— Ну, спасибо. А теперь иди и попроси маму зайти ко мне.
С матерью разговор шел много дольше. Ей отец пересказал, должно быть, все, что узнал от Якова Александровича и не почел возможным сообщить мне.
Сознаюсь, несколько дней я сгорал от любопытства. Еще бы! Тут была настоящая тайна, да притом связанная с 1812 годом, генералом, шпагой, прокурором…
Но слово я сдержал, никому ничего не говорил и ни о чем не спрашивал.
А в начале лета товарища прокурора перевели в какой-то большой город. Опять вытаскивали из сарая ящики, дощатые клетки, рогожи. В доме стучали молотки и яростно лаяла собачка. Потом господин Вербо-Денисович заходил к отцу с прощальным визитом, и через день мы видели, как он с женой и Олизшанде сели в одну извозчичью пролетку, бонна с болонкой и горничной в другую, а в третью кухарка с узлами и картонками. Старичок еще целый день распоряжался погрузкой и отправкой вещей и наконец, побрякивая связкой ключей и вежливо раскланявшись со зрителями, засеменил к вокзалу.
Но так интересовавшую меня историю я все же услышал. Только не скоро — через семь лет.
3
Великая буря Октября прошла над нашей Родиной. Наш городок оказался вне фронтов гражданской войны.
Я учился в средней школе, в которой, казалось, от прежней мужской гимназии остались только старые, толстые стены. Бывший директор, вдруг потеряв всю величественность, преподавал арифметику в младших классах, строжайший инспектор исчез куда-то из Старосольска, а большинство преподавателей заговорили с нами совсем другим языком — дружеским, живым и свободным.
Весной 1919 года я окончил среднюю школу. Надо было выбирать дальнейшую дорогу, но еще до поступления в вуз, то есть до осени, предстояло подумать о работе в летние месяцы. Не такая была обстановка, чтобы взрослому парню сидеть на родительской шее.
Случай пришел на выручку. На улице меня окликнул заведующий уездным наробразом Теплов, человек живой и энергичный, знавший многих из нас, выпускных школьников, в лицо.
— Постойте, юноша! — воскликнул он. — Правильно ли мне сообщили, что вы ищете летних занятий по библиотекам и книжным лавкам?
Я подтвердил, что действительно наведывался туда, но безуспешно.
— Превосходно! А хотите, я поручу вам дело большого культурного значения и животрепещущего интереса?
— А какое именно? — осведомился я.
— И для ума и для сердца, — ответил завнаробразом и вслед за тем рассказал, что в тридцати верстах от Старосольска, в бывшем имении графини Пшедпельской хранится до сих пор богатейшая коллекция русских костюмов, украшений, утвари. Что в усадьбе теперь совхоз, собираются устраивать еще контору сплава, и поэтому надо оттуда вывезти все собрание, предварительно проверив его по описям и уложив как следует.
— Вам дадут паек из совхоза, будете жить, как на даче, — сказал он. — А так как одному этакое дело не по силам, да и неловко, — там ведь и серебро есть и другие ценности, — то будет с вами вместе работать местный учитель, хотя и древний, но замечательный старичина.
— А где это имение?
— В пяти верстах от станции Смолово.
— Так это не Вербов ли — учитель-то? — догадался я.
— Именно. А вы его знаете?
— Немного знаю.
— Ну так как же? Вещей каких насмотритесь! По секрету скажу — боюсь, вспомнят про коллекцию в Питере или в Москве да и потянут к себе. А так мы ее в своем музее покажем, а потом коли что: «Дайте-ка в обмен картин, древностей, ископаемых и еще чего надумаем…» Поняли?.. Ну, согласны, что ли?
— Пожалуй, — сказал я. — Только с отцом посоветуюсь.
И через три дня я с саквояжем в руке шагал по проселку вдоль лесной опушки.
Я не был здесь десять лет и одновременно и узнавал и не узнавал местность. Конечно, она изменилась — деревья выросли или повалились, канавы заплыли, появился новый мостик… Но, кроме того, переменился я сам, и все мне казалось не только мельче и обыденнее, но вообще иным, чем я представлял.
Вот показалась серая крыша школы, вот заборчик. Входя во двор, я услышал резкие пиликающие звуки скрипки и, обогнув строение, подошел к учительскому крыльцу.
— Свободнее, легче смычок-то!.. Это тебе не палкой по волку… — услышал я голос Якова Александровича, подымаясь на ступеньки.
Встретились мы очень сердечно, обнялись, расцеловались. За те три или четыре года, что я и мельком не видел учителя, он сильно сдал. Сгорбился, как-то посветлели, выцвели глаза. По-стариковски растрогался, здороваясь со мной. Но зубы по-прежнему белели в улыбке, и пышные седины лежали над загорелым лбом.
За Яковом Александровичем со скрипкой в руке стоял рыженький мальчик лет двенадцати, босой, в застиранной рубашке и таких же порточках повыше щиколоток. Он сочувственно смотрел на нашу встречу.
— Друг-приятель мой, Матвей Иваныч, — указал на него учитель и добавил: — Положи скрипку, «мужественный старик», да беги. — И вновь отнесся ко мне: — Садитесь, гостем будете…
Я рассказал, зачем приехал, показал отношение наробраза к заведующему совхозом.
— Ну вот и отлично, потрудимся вместе. Завтра же туда и пойдем, — решил учитель. — У вас как — склонность-то есть в старине копаться? — И на мой утвердительный ответ принялся рассказывать о коллекции графини. Долгие годы хранилась она в Петербурге, хотя и собиралась в значительной части в окрестных местах, но в 1913 году, когда погиб на дуэли единственный сын владелицы и она навсегда поселилась в имении, сюда перевезла и коллекцию. А потом, летом 1917 года, графиня скрылась за границу, и он сам, Яков Александрович, озаботился прежде всего опечатать помещение, где хранилась вся эта ценная старина, и регулярно напоминал о ней в городе.
Когда мы сели пить чай из самовара, принесенного незнакомой мне безгласной женщиной, я спросил, где же Арефьевна.
— Померла… Простыла в прошлом году осенью да и отдала богу душу, — грустно сказал учитель, — Что же, все там будем… Вот и мне скоро небось ранец надевать…
Я запротестовал.
— Ну, чего там, ведь осенью семьдесят четыре стукнет, — надо и честь знать, — усмехнулся он и, меняя тему разговора, добавил: — А парнишка давешний, «мужественный старик» — то мой, тоже здешний жилец, сын женщины этой…
— Способный к музыке? — спросил я.
— Он ко всему способный… Так и ловит, что можно… Только не свернул бы шею как-нибудь, больно уж смел…
— Смел? — не понял я. — Матери, что ли, не боится или вас?
— Нет, это что же, — чего ему нас бояться? А действительно, мальчишка геройский… В прошлом году купались как-то ребята, — ну один и попал в быстрину, стал тонуть… Тут и парни были лет по шестнадцати, да все только «ох» да «ах». Один Матюшка — скок да за вихры и подтащил к берегу. А весной нынче от волка отбился.
— Как это?
— Да шел из Борков в Крекшино, там у него тетка живет. Дело под вечер, дорога лесом. Вдруг на него зверь. Небольшой, правда, тощий с зимней-то голодовки, но от этого еще злей. Другой бы что? «Мамка!» или: «Ах-ай-ай». А этот схватил палку или сук какой-то да того по морде. Волк опять на него, а он его — торк! Да, видно, в глаз, потому, говорит, взвыл и башкой замотал, но опять лезет. А Матвей мой изловчился да палку в самое горло ему и всадил. Хорошо, крепкая попалась. Тут парней двое из-за повертки вышли, увидели да на подмогу… А уж волк-то в лес утекает и кровью следит… Так вот малец-то каков!
— Да, молодчина, — согласился я, вспоминая рыженького героя. — Недаром вы его мужественным зовете. Только почему стариком?
— Да за тезку его, атамана Платова, помните у Лескова в «Левше»? И мальчишке лестно, а мне веселей.
— Ах вот что… А отец его где же? — спросил я.
— Убили на Карпатах в пятнадцатом году. А до того в имении у графини батрачил. Тоже ученик мой когда-то был…
На следующее утро мы отправились в совхоз, до которого было версты три. «Мужественный старик» шел с нами. Яков Александрович вручил ему папку с бумагой, пенал с карандашом и пером, окрестив при этом «делопроизводителем комиссии». Я внимательно поглядывал на смельчака. Но рассмотрел только худенького рыжего мальчика с простым, усыпанным веснушками широкоскулым лицом, на котором привлекали внимание ясные серые глаза да широкая улыбка, забавно изменявшая контуры щек и курносого носа.
Приняли нас в совхозе очень радушно. Чуть не все здесь оказывались учениками Якова Александровича, начиная с коровниц и инвалида-сторожа, встреченных на дворе, и кончая счетоводом и директором в конторе, расположенной во флигеле. Все улыбались ему, спрашивали о здоровье, пеняли, что давно не бывал. Прочтя бумажку из наробраза, директор распорядился отвести мне комнату и выдать четверть молока, полпуда картошки и пять фунтов хлеба.
— На обед вашей артели, — сказал он, — чтоб спорей работали, нам место освобождали…
Потом мы пошли в барский дом.
Коллекция располагалась в пристройке, которую для нее специально возвели и оборудовали. Заглушая тоску по сыну, графиня тщательно устраивала свой музей. Теперь нам предстояло подготовить возвращение в мир того, что старая собирательница хотела сделать предметом своего единоличного любования.
Директор дошел с нами до металлической двери, взломал сургучную печать, отомкнул замок, толкнул плечом тяжелую створку, заглянул за нее и ушел.
Перед нами был полутемный зал метров в сто. Окна замыкались решетчатыми ставнями. По стене тянулись толстые стекла глубоких шкафов. За ними, перемежая темные и яркие пятна, висели какие-то одежды. Перпендикулярно шкафам стояли горизонтальные витрины под чехлами. В проходах до десятка ящиков и сундуков с прикрытыми крышками. Такие же, должно быть пустые, стояли близ входа один на другом.
Пока мы с Матюшкой осматривались, Яков Александрович уверенно прошел в дальний угол и вытащил из единственного деревянного шкафа толстую книгу и связку ключей с костяными бирками.
— Приступим, — сказал он не без торжественности.
Поверка коллекции оказалась делом несложным. По каталогам читали описание предмета, искали подходящий в шкафах и витринах, сверяли номер и, удостоверившись в тождественности, укладывали в ящик. Отметив в каталоге, отправлялись искать новый. Нумерация была в порядке, ключи открывали замки — все шло как по маслу.
Конечно, поначалу всему поучал нас Яков Александрович. Нам с Матюшкой слова: «кика», «гречушник», «рефядь», «шугай», «лестовка»— были совсем малопонятны, но мы внимательно слушали объяснения старика, который с любовью поворачивал, встряхивал и поглаживал все эти, главным образом, женские принадлежности и одеяния. Незаметно проработали мы часа четыре и решили на первый раз «зашабашить».
Комната, мне отведенная, оказалась чистой, но совершенно пустой. Обещали нынче же дать сенник, стул и еще что-то, но я не захватил своего саквояжа и потому решил пока ночевать у учителя.
В следующие дни мы продолжали работу. Коллекция была действительно богатая. Одних предметов одежды оказалось до четырехсот, головных уборов, поясов, вышивок до тысячи, а мелких украшений, то есть серег, перстеньков, филигранных пуговиц, тульских пряжек и т. п., — целые витрины. Часто появлялись вещи действительно очень красивые и нарядные, с тканым цветным рисунком по парче, с затейливыми фасонами мелких сборок на талиях и рукавах. Таковы были праздничные одежды крестьянок Новгородской, Псковской и Тверской губерний, многие десятилетия передававшиеся из поколения в поколение, от матери к дочери, от свекрови к невестке. Потускневшими позументами и шелками они рассказывали правдивые повести о бесконечных днях тяжелого труда, когда висели они бережно обернутые в холстину, и о коротких часах отдыха и веселья, когда горели под праздничным солнцем сельской улицы, вспыхивали в отблесках церковных свеч, мелькали, развевались и манили в девичьем хороводе. Удивителен был контраст парчи, шелка, бархата, жемчуга и бирюзы внешних покровов с почти неизменной небеленой грубой холстиной или масляной набойкой подкладок.
На мое замечание об этом Яков Александрович ответил:
— Вот такова-то и жизнь бабья была… Нижнее-то — настоящее, природное, свое, какое всю жизнь носилось… А верхнее — хоть и ее же вкус, да из чужого слажено, — только в праздник, и то с великим бережением одевано. Вроде как пустые щи и медовые белые пряники… Тех ведра за жизнь выхлебала, а этих пяток, любуясь, ссосала…
Иногда старик задерживался на какой-нибудь вещи и, вертя ее в руках, говорил:
— А эту я, кажись, сторговал у бабки Натальи в Скрипкове… Хороша повязка…
И простодушно прикладывал к своему морщинистому лбу обшитую золотым кружевом и позументами штуку, похожую на верхушку античного фронтона.
— А коли коса русая через плечо вот этак, да ясным лучом ударит! — приговаривал он. — Сколько плачено-то? Никак рублей семь я с графини взял?
Не раз смотрел я в каталог, где имелась графа с указанием места приобретения, прежнего владельца и цены, и убеждался, что Яков Александрович помнит все совершенно точно. При этом выходило, что почти все местные предметы куплены при посредстве учителя, и цены за них даны много выше тех, что платились за подобные в других местах. Я сказал ему об этом.
— Понятно, я своих в обиду не давал, — согласился он. — Народ и все, бывало, старину не к графине, а ко мне несет. Авось выторгую лишний целковый…
Проверенные вещи мы укладывали в ящики, заколачивали и ставили в угол.
Я по-прежнему жил в школе, так мне не хотелось расставаться с моими товарищами, и только раза два в дождливые дни мы все вместе оставались ночевать в моей уже обставленной комнате.
Однажды, недели через две, в руки Якову Александровичу попался нарядный шугай голубого бархата с лисьей оторочкой и тонкого рисунка серебряными пуговицами-бомбочками.
Держа его перед собой, старик как-то особенно глубоко задумался.
— Яков Александрович, — сказал я, подождав немного. — Нам, кажется, нужен сейчас зеленый с позументом и без меха. Или вы хотите сначала этот отметить?
— Нет, не хочу, — отозвался он. — А знаете ли, чья одежда-то эта? — И, не ожидая моих слов, сказал: — Матушки моей, Анастасьи Яковлевны.
— И вы на ней этот шугайчик помните? — спросил я, думая, что его охватили воспоминания детства.
— Нет, она его, как отца не стало, ни разу не нашивала, — отвечал учитель. — А умер он, когда я еще младенцем был. Но на портретике, что у меня в комнате висит, она в нем самом нарисована. Видели?
— Должно быть, видел, да давно ведь, и не помню сейчас, — сказал я. — Но теперь его там нет. Вы, верно, сами убрали?
— Да, заметил весной еще, что рамка маленько рассохлась, решил заклеить, да все вот не соберусь.
— А к графине-то как шугайчик попал? Вы пожертвовали?
— Не жертвовал, а продал, — ответил Яков Александрович. — Случилось, знаете, такое обстоятельство, что вот как деньги нужны, а взять неоткуда было. И туда и сюда вертелся — да нет ничего… Вот и продал графине. Она только еще начинала это все собирать… Давно… С тех пор и не виделись.
Старик потупился и медленно гладил своей большой рукой голубой бархат, блиставший кое-где крупинками нафталина.
В тот же вечер, уже в школе, я напомнил учителю о материнском портрете. Он тотчас извлек из ящика стола небольшую гладкую, красного дерева рамочку с акварельным рисунком и подал мне. Рассматривать я отошел к окну, где было светлее.
Девушка в знакомом мне голубом шугае, накинутом на одно плечо, и синем сарафане смотрела из отворенного окна с белым резным наличником. Ряды желтоватых бревен отходили в обе стороны и были лишь слегка тронуты кистью.
Подпертое ладонью лицо правильного овала, с плавными дугами бровей, прямым носом и чуть крупноватым свежим ртом, было повернуто в три четверти, что позволяло рассмотреть тонкие ноздри и легкую горбинку переносья. Но лучше всего в нем были глаза — большие, миндалевидные, зелено-голубые, прозрачные какие-то, они живо блестели из-под темных ресниц, и цвет их вместе с легкой тенью под нижними веками и горячим румянцем щек создавал необычайно свежее и яркое сочетание. Средней высоты чистый лоб был охвачен с обеих сторон симметричными гладкими прядями темно-русых волос, плотно обрисовывавших голову. От этой прически лицо казалось, может быть, более широким, но зато простота ее подчеркивала чистоту девичьего облика и усиливала в нем русское и народное. Лицо дышало такой задумчивой и мягкой прелестью, что я глаз не мог оторвать. Рисунок был уверен и тонок, краски смелы и живописны.
— Хороша? — спросил Яков Александрович, подошедший ко мне сзади, как когда-то, давно, в первый раз моего любования дедовской шпагой. — А похожа как!.. — продолжал он. — Я ее почти что такой в детстве своем помню… Вот так в окошке ее отец мой впервые увидел.
— А его портрета нет у вас? — спросил я.
— Как же, вот он… — и старый учитель указал на стену, где рядом с памятным мне тамбурмажором висел рисунок в рамке, одинаковой с той, что я держал в руках.
Это было уже на днях мною рассмотренное изображение очень молодого мужчины с приятным, задумчивым темноглазым лицом, опушенным небольшими бачками. Он был в белой рубашке с широко отложенным воротом и полулежал на подушках, опираясь на руку.
В чертах молодого человека было заметно сходство с Яковом Александровичем. Впрочем, общим выражением лица старый учитель напоминал, пожалуй, также тамбурмажора, а цветом и разрезом глаз — мать.
— Что это он лежит? Болен? — спросил я. — Вы говорили, он рано скончался, — так, верно, во время последней болезни его и рисовали? Потому портрет и не окончен… — высказал я пришедшую догадку.
— Нет, тут болезнь не последняя, — отвечал Яков Александрович. — Впрочем, это длинная история, так сразу не рассказать.
Я не стал расспрашивать и, должен сознаться, потому не стал, что в эти минуты меня неотступно приковывал портрет девушки. Хотелось еще и еще на него смотреть.
Вероятно, со многими бывало, особенно в юности, что нарисованное лицо привлечет к себе внимание и взволнует, как живое. Или даже больше живого, потому что черты его острым глазом художника и его мастерской рукой остановлены в самом характерном для них выражении, в котором раскрыта сущность данного человека. В лицах пожилых людей запечатлелись владевшие ими страсти и мысли, добродетели и пороки, пережитое горе, труды, обретенная мудрость или разбитые надежды, умение подчинять себе или привычка повиноваться. А если лицо молодое, без следов прошлого, то в нем читаешь вероятное будущее. Энергия или пассивность, характер свежего ума и направление мечтаний, пробуждавшаяся жажда наслаждений и различно понятого счастья, воля к созиданию или приключениям, и много еще другого, чего не перечтешь. Поэтому так интересно бывает сравнить два хороших изображения одного и того же лица. Вот чем он был и что с ним сталось…
И для меня, восемнадцатилетнего мальчика, оказался непобедимо приковывающим этот пленительный женский образ, прямо и доверчиво глянувший на меня через много разделявших нас десятилетий…
Не проходило вечера, чтобы я не простаивал перед стенкой, где водворился портрет, хоть пять-десять минут. И при этом делал вид, что изучаю всех родичей Якова Александровича, но по-настоящему смотрел только на одну девушку.
Мне сначала было достаточно просто глядеть на нее, изучать черты лица и оттенки румянца, а потом захотелось знать и то, где она жила, среди каких людей, что чувствовала, кого любила, что сталось с нею… Я только ждал удобного случая навести старого учителя на рассказ обо всем этом.
Мы продолжали проверять коллекцию, каждый день совершая путь в шесть-семь верст. Интересно было работать с Яковом Александровичем, но и прогулки он умел делать полезными и занятными. Идем, бывало, вдоль леса утром, по холодку, и учитель обязательно что-нибудь рассказывает… Вспоминая теперь, как это делалось, я думаю, что у него выработался особый профессиональный навык в изложении всего, что он знал.
Тут бывало и немного ботаники, что-нибудь из местной зоологии, и кусочки археологии и истории, а за ними космография или еще что-нибудь. И все спокойно и непринужденно льется одно за другим.
Я хоть и многое уже знал из того, что рассказывалось, но слушал с неослабевающим интересом. А Матюшка просто ел глазами учителя и только изредка задавал вопросы или делал замечания.
Иногда вечером, вспомнив что-нибудь особенно удачное из сказанного мальчиком, Яков Александрович говорил:
— Слыхали нынче? Ей-богу, вострый парнишка Платов-то наш! И скажу вам, сколько в деревнях наших этаких способных, в которых «бежит поток живой и чистый проснувшихся народных сил». Сколько их хотя бы через самые эти школьные стены прошло! Только раньше оно зачастую и совсем грустно выходило. Кончает, бывало, у меня этакий способный малец, вроде Матюшки, и думаешь: а впереди у него что? Коли по честному пути пойдет, дальше крестьянства или рядового рабочего на фанерном заводе, что у станции, никуда не денется. А коли изворотлив окажется да в путях неразборчив, так в кулаки, в лавочники выберется и своего же брата обирать начнет. А нынче? — Старик сделал паузу. — Да вы представляете ли, Володя, что я за эти годы пережил?.. Ведь все, о чем мечтал десятки лет, все это новая власть действительностью сделала! Ведь эти-то самые Колюшки, Гаврюшки да Матюшки, начавшие у меня, — в университеты, в институты прямым путем могут попасть. И никто их там мужицкой кровью укорять не станет, а наоборот: с почетом — честь и место!..
Между прочим, я скоро заметил, что учитель как бы не слышит местных выражений, которых в языке мальчика было много. Например, Матюшка говорил не «муравей», а «сикаха», не «обогнать», а «упрыгать», не «палец», а «копок», не «вот», а «эвона» и т. д.
— Почему вы не поправляете его? Ведь привыкнет неправильно говорить, — сказал я как-то.
— А зачем? Ведь от частых поправок у него создастся чувство, что родной язык плох. Не станет любить его или, еще хуже, начнет стесняться со мной говорить… А ведь язык-то народный самый что ни есть лучший, чистейший. Что же до исправления, то оно идет само собой. Поглядите, сколько он читает по вечерам, как нас слушает. И речь его уже изменилась. Слова-то еще чисто деревенские, а конструкция фраз зачастую вполне грамотная. Верно?
Но образовательные разговоры шли только утром, а при возвращении повелось у нас петь. Заводил всегда Яков Александрович, негромким, чуть дребезжащим голосом, я подпевал его же партию, а «атаман Платов», бывший душою «хора», шел в терции и постоянно еще разделывал какие-то вдохновенные и смелые вариации. При этом он, как бы совестясь нас, смотрел только в землю или в сторону, но загорелые быстрые ноги его, иногда помимо его воли, слегка пританцовывали в такт напеву.
Думаю, что со стороны Якова Александровича это пение являлось маленькой хитростью. Он к вечеру уставал, говорить ему становилось трудновато, а под песенный ритм идти было незаметнее и легче. Потому, должно быть, и запевал он чаще походные солдатские песни да марши, которые и нам нравились.
Особенно здорово выходил у нас один очень простенький марш, который старый учитель, видно, любил больше других.
Раз вечером, сидя в его комнате, я услышал, как продолжавший учиться на скрипке Матюшка не громко, но уверенно наигрывает его на крылечке.
— Что это за марш, Яков Александрович? — спросил я. — До чего же несложно, а все-таки чем-то за душу берет…
— Нравится? — отозвался учитель.
Мы прослушали весь мотив. Вот он повторился еще и еще, как всегда у Матюшки, варьируясь и украшаясь оттенками.
В марше было всего две части. Первая — бодрая, резвая, вся на коротких энергичных звуках, и вторая, наоборот, — с певучестью, с грустинкой какой-то, идущая мягко и приглушенно, не сбавляя, однако, темпа.
— Что ж, законно, что за душу берет, — сказал учитель задумчиво, когда скрипка замолкла. — Это кровь в нас говорит. Ведь под эти самые звуки многие наши предки к победам шли и под них же в боях умирали… А что прост он, так это оттого, что сто лет назад военные оркестры много беднее инструментами были… И сама-то тогдашняя война какая?.. Больше штыком, да грудь с грудью… А для меня этот мотив еще особое, единственное, можно сказать, значение имеет. С ним, видите ли, история всего моего детства, да и сиротства, крепко связалась. И ее жизнь тоже…
Он кивнул головой в сторону портрета над диваном.
— Расскажите же как-нибудь все это, Яков Александрович! — попросил я.
— Что ж, пожалуйста, хоть завтра… Будет суббота, придем из совхоза пораньше, поставим самоварчик, да и слушайте по порядку…
Я передам повесть старого учителя не совсем так, как услышали ее мы с Матюшкой в следующий вечер. Мой рассказ будет несколько полнее. Это потому, что много лет спустя, работая в Центрархиве, я натолкнулся на два старых пухлых дела, повествовавших о тех же событиях. Они оживили в памяти когда-то слышанное, дали узнать новые подробности, из-за пожелтевших листов глянули полузабытые портреты. А вслед за этим как-то сами собой между многословных и бесстрастных строчек явились представления и черточки, дополнившие то, чего не знал я о действующих лицах, их мыслях и чувствах.
4
Поздней осенью 1811 года, в одном из уездных городов Тверской губернии, были сданы по набору два молодых рекрута. Одного звали Яков Подтягин, другого — Егор Жаркий.
Когда лбы были обриты, квитанции владельцам выписаны, писаря составили реестр людям и офицер-приемщик на славу угостился в трактире с дворянами-сдатчиками, настало время новым служивым выступать в Москву — в рекрутское депо. На рассвете холодного серого дня партию окружили конвойными и вывели на большую дорогу. Заскрипели телеги с рекрутской поклажей; завыли, причитая, старухи и молодки, провожавшие близких, заругались, отгоняя их, солдаты. Партия тронулась в путь.
Трудно представить себе, что переживал тогдашний новобранец. Навеки отрывали его от жизни, в которой все было хоть и бедно и темно, проникнуто подневольным трудом и произволом, однако же родное, привычное, знакомое с детства. И разом переносили в новый мир, чуждый, непонятный и еще более жестокий.
Солдаты, которых видывал парень до службы, представлялись ему странными существами с наголо обритыми бородами, в чудном куцем платьишке, с избитым капральской палкой, по команде дергающимся телом. И таким-то надо стать самому.
Уж на что крестьянская жизнь была неказиста, а эта, особенно издали, казалась еще страшнее.
И хоть впереди где-то только маячила еще первая муштра, а сейчас всего и надо было, что исправно идти куда приказывают, но именно эти первые дни рекрутчины с ожиданием подлинного солдатского житья и были самые тяжкие. Все оставшееся позади подернулось сладкой тоской, а будущее мрачно и неумолимо приближалось.
На первом своем марше рекруты приглядывались друг к другу, выбирали подходящего человека, чтобы перекинуться словом, поделиться тем, что особенно рвалось наружу.
В такие-то дни, на дороге к Москве, сдружились Яков Подтягин и Егор Жаркий. А казалось, трудно сыскать более несхожих людей. Яков был крестьянин, Егор — дворовый человек. Яков сам выпросился у бурмистра в солдаты в замену младшего, только что женившегося брата; Егора сдали господа за провинность. Яков, тихий и смирный парень, ничего дальше своего прихода не видывал; Егор — говорун, задира и грамотей — езжал с господами в губернию и в Питер. Оба они были красивы, но совсем по-разному. Яков — русый, белолицый, сероглазый, с доброй улыбкой, а Егор — смуглый, похожий на цыгана, в ухе золоченая серьга, с недоверчивым, насмешливым взглядом далеко расставленных карих глаз из-под широкого, выпуклого лба. Сближало их то, что шли они в набор из одной волости, из соседних деревень, сдали их в один день, в ранжир поставили рядом по хорошему росту. И, идя плечо к плечу, видели они, как бежали за партией их голосящие матери. А на походе обнаружилось еще, что оба любили петь.
И когда захрустела под лаптями утренняя осенняя изморозь и с каждым шагом стали уходить из глаз родные места, Яков затянул вполголоса что-то заунывное чистым тенором, Егор подтянул густо и мягко, и пошла у них песня за песней, печаля или веселя соседей. А между песнями разговор про себя да про оставшихся сзади в морозном тумане короткого дня. Только всегда, когда заводил песню Яков, была она не громкая, не быстрая, не плясовая, хотя порой и веселая. А когда запевал Егор, так и рвались из него удалые переборы, с уханьем, присвистом, дерзкими разгульными словечками, а коли уж грустное, то с тоской, хватающей за сердце. Да и в разговоре у Якова было все гладко, спокойно, миролюбиво, а у Егора — со страстью, со злобой, с напором и молодечеством. И в солдаты-то сдали его за то, что, будучи барским егерем, загорячась на охоте, вкатил половину картечного заряда в любимую барскую суку, другой половиной ранив медведя, которого она рвала. А на господскую ругань отвечал, что благодарите, мол, бога, сами не подвернулись…
Случилось так, что в Москве при разбивке по полкам — рост решил судьбу молодцов — обоих назначили в Киевский гренадерский полк, стоявший тут же, близ Белокаменной.
Когда-то, лет за сто до того, гренадерами назывались отважные солдаты, метавшие во врага ручные гранаты, а потом этим именем стали именовать части, формированные из рослых и сильных людей, назначение которых составлял прежде всего штыковой удар в сомкнутом строю.
Киевские гренадеры были из самых старых и заслуженных, вели свою историю с петровского времени и еще за взятие Берлина в Семилетнюю войну награждены серебряными трубами. Люди в полку подбирались рослые и видные.
Новые приятели попали в один батальон, в одну роту, только в разные капральства, по-теперешнему — взводы. Яков — в гренадерское, где требовались бравость, внушительность, плавность поступи, а Егор — в стрелковое, — сюда брали самых ловких, смышленых, подвижных солдат.
Началось ученье. А было оно в те времена сложное и мучительное. Во-первых, одежда самая неудобная. Мундир короткий, только до пояса, с узкими фалдочками сзади на отлет, очень везде тесный, как облитый, да с высоченным воротником о трех крючках. Штаны в обтяжку, от земли до колена на пуговках, так что и ногу согнуть трудно. Сапоги тоже узки — на одну холодную подвертку. А на голове высоченный кожаный кивер вроде опрокинутого ведра, с прямым волосяным султаном на железном длинном пруте, который при каждом шаге крепко встряхивает голову. Шинель позволяли надевать, когда мороз больше десяти градусов, а то носи в скатке. Амуниция тоже сложная и тяжелая. Сума на ремне через плечо, через другое — тесак, за спиной ранец до пуда весом, с разным солдатским добром, а в руках ружье, тоже не перышко — больше двенадцати фунтов. Повернись-ка проворно в этаком виде!
А вертеться приходилось много. Всех ружейных приемов было до тридцати, и чтоб они делались ясно, четко, у всех единообразно, исполнение разделялось на темпы, а то еще на подтемпы. И сотни раз проделывали каждый подтемп, пока не достигали нужной быстроты, точности и лихости движений. Кроме приемов учили еще шагу, которого различалось несколько родов по быстроте и по ширине, да еще общему строю, где требовалось совершенное совпадение движений десятков и сотен людей, штыков, султанов, при полном равнении. А после этого чистка амуниции, отбелка всех ее ремней, ежедневное бритье подбородка и усов с подравнением, фабрением и подкраской бакенов. И много еще разнообразных дел — от варки ваксы до уборки казарм. И все при скудном пайке и коротком сне.
Но при всем том многосложная премудрость военной выучки давалась нашим приятелям сравнительно легко. Оба они были парни молодые, очень здоровые, сильные и ни о чем, кроме службы, не думавшие. Однако и тут почти тотчас обнаружилась разница характеров. Подтягин учился всему старательно, без дальних расчетов, просто по врожденной честности. Раз пришлось, мол, в солдаты попасть, значит, что велят, все постичь надо, — вот и стараюсь. А Жаркий, как маленько огляделся да понял полковые порядки, твердо решил не оставаться долго рядовым, а выслужиться во что бы то ни стало. И все способности, чувства и мысли сосредоточил на стойке, ружейных приемах, ровности шага, вытяжке носков и прочем. И добился того, что через три месяца его в пример ставили служившим два и три года, а весной 1812-го начали на ученьях высылать перед строем за флигельмана. Такое звание носил самый ловкий в ружейных приемах унтер-офицер. Стоя перед фронтом, он отчетливо и точно отделывал все движения приема, а глядя на него, то же выполняли все в обучаемом взводе или роте. Начальство его отличало и сулило нашить ефрейторские галуны на рукава. Зато товарищи не больно жаловали. Никому не помог Жаркий в ученье по своей воле, не сказал веселого слова, а в свободные минуты, став в стороне от людей, без конца отделывал «артикулы» ружьем — «полировался», по выражению ротного командира.
К одному только Якову подсаживался он иногда вечером на нары, да и то не для разговора, а чтобы прокашляться и сказать: «Ну, Яш, споем, что ли?» И, не дождавшись, чтобы тот запел свое, затянет какую-нибудь «Лучинушку», от которой еще темнее и горше станет в солдатских душах.
Зато Под тяги на в роте любили. Этот и другого послушает, и сам расскажет, охотно научит тому, что постиг, и амуницию почистит соседу, коли больно замаялся или ему неможется. Одно слово — человек как человек.
Яков замечал, что приятель его не в чести у гренадер, и не раз говорил ему:
— Что ты, брат, как волк какой, ни с кем не водишься? Гляди, с народом надо ладно жить…
А Егор усмехался:
— Чего мне с ними лясы точить? Тут, видишь, порядки каки — за лясы на ученье-то бьют, а за молчок сладкий хрящик дают…
Но раз как-то, должно быть, и сам почувствовал правду в укорах Якова и сказал:
— Что же, тебе, вестимо, легше с народом… А меня в дворне-то с самого начала били да колотили, как белье баба вальком бьет. Только тем и выжил, что волком стал. Теперь в телята не переделаешь…
В апреле месяце размеренной казарменной жизни пришел конец: гренадерская дивизия, в которую входил Киевский полк, получила приказ выступить к западной границе. О войне с французом заговорили как о деле решенном. На походе во время дневок не учились больше шагу и ружейным приемам, а занялись стрельбой. Старослужащие гренадеры, отдыхавшие на походе от постылой муштры, охотно поминали былые кампании.
Но только дошли к месту назначения да отдохнули недели две близ Волковыска, как французы перешли Неман и началось отступление в глубь России. За полтора месяца движения до Смоленска, когда Багратион искусно уходил от гнавшихся по пятам за его маленькой армией корпусов Даву, Понятовского, Мюрата и Жерома Бонапарта, и после, до самого Бородина, гренадерская дивизия не бывала в больших делах. Люди, истомленные непрерывными маршами, видом выжженных поселений и затоптанных полей, роптали на отступление, мечтали и молились, чтобы скорее досталось им схватиться с врагом не в арьергардной стычке, а в генеральном сражении. И либо умереть, либо остановить француза.
Одним из первых молодых солдат Киевского полка Егор Жаркий получил кровавое крещение. Но отделался легко. В стрелковой цепи, под Слонимом, ему французской пулей сорвало мочку уха, вместе с серьгой, да ободрало скулу и шею. Рану присыпали порохом, и она в две недели начисто зажила. Сильно похудевший, еще более черный от загара и пыли, мрачный и злой, Егор даже с Яковом не заговаривал, не пел и только норовил, коли случалась хоть малейшая возможность, выпроситься в огонь, в стрелки.
— У Егорки-то вместе с бабьей красой, видно, и язык отстрелило, — говорили солдаты. — Чисто волк стал лобастый.
Наконец наступил день Бородинского боя. Сначала гренадеры были в резерве за селом Семеновским. Неподвижно стоя в батальонных колоннах, слышали грохот артиллерии, перекаты ружейных залпов да смотрели, сколько ковыляет раненых из дымной пелены, застлавшей местность перед ними, сколько несут оттуда ополченцы тяжких носилок. Но вот, около восьми часов утра, когда защищавшие земляные укрепления у Семеновского дивизии Воронцова и Неверовского были почти начисто уничтожены натиском французов, Багратион двинул гренадер в атаку.
Скорым шагом, а потом бегом, устремились вперед все шесть отборных полков. Молодец к молодцу, красавец к красавцу, одетые в полную парадную форму, шли они в бой, одушевленные и стремительные. Страшен был их дружный штыковой удар, и французы, выбитые в поле с только что было занятых насыпей, начали отступление. Гренадеры преследовали врага, кололи, брали в плен. Потом их сменила посланная Багратионом конница, сошедшаяся в поле с французской, скакавшей на выручку пехоте.
Спеша вернуться к своим, Егор Жаркий, далеко зарвавшийся вперед, набежал в поле на прапорщика своей роты Акличеева. Весь залитый кровью от шести штыковых ран, лежал он без памяти в куче русских и неприятельских тел. Офицер этот, доводившийся сродни батальонному, прибыл в полк уже на походе, прямо из кадетского корпуса. Было ему не больше как лет шестнадцать, но отважно вел он на французов свой взвод. Егор, еще по прежнему охотницкому делу знавший, как важно не дать истечь кровью раненому животному, тут же наскоро перетянул раненые руку и ногу прапорщика кусками его же длинного офицерского кушака, туго повязал платком голову, поднял, как дитя, на руки и донес до ближних ополченцев с носилками. Но в этот день никому ничего не сказал, и Акличеева считали убитым.
Прошло полчаса, и французы снова выбили наших из Семеновских укреплений. Уже сильно поредели полки гренадер, многих старослужащих и молодых не досчитались соседи. Но, отойдя и перестроившись, они снова рванулись вперед, и, как в прошлый раз, солдаты Нея и Даву не выдержали натиска. Опять гнала их по полю наша пехота, пока не вырвались вперед кирасиры, чтобы рубить и преследовать бегущего врага.
И еще через час опять было то же. Только теперь гренадер подкрепляла свежая дивизия, присланная Кутузовым из резерва.
Возвращаясь из этой, третьей по счету, атаки, Яков Подтягин увидел лежавшего вниз лицом Егора. Кивер его был сбит набок, султан на нем сломан, около головы на примятой траве — лужа крови.
— Эх, земляк! — сказал Яков, приостановившись. — Дай хоть глаза-то закрою… — и, наклонясь, перевернул Жаркого на бок. Тут стало видно, что земляк еще жив, и хоть крепко раскроены у него скула и висок, должно быть французским прикладом, но глаза очумело ворочаются и хлопают веками, а язык что-то бормочет, — не то стонет, не то ругается.
Отстегнул Подтягин приятелю кивер, взялся под мышки, взвалил на плечо и потащил к своим, а потом, спросившись у ротного, отнес до ближнего перевязочного. Там сложил на землю среди других раненых, отдышался и побежал обратно к своему месту.
Какой это был день — рассказывать нечего. Не посрамили русские родины и своих знамен. Устлали французскими синими мундирами широкое поле, щедро облили его вражеской кровью. Но и сами густо ложились вперемешку с врагом на сырую землю.
В этот день Россия потеряла Багратиона и еще многих славных. 8-й пехотный корпус, в котором была 2-я гренадерская дивизия, поредел едва ли не более всех русских корпусов. К сумеркам, когда начали разбираться по полкам, в редкой роте насчитали тридцать человек.
Среди уцелевших был Яков Подтягин. Шесть раз ходил он в штыки, немало французов узнали, какая тяжелая у него рука, весь будто прокоптился кислым пороховым дымом, но ни одной царапины не было на богатырском теле. И когда уже через месяц, в Тарутинском лагере, ротный командир спросил солдат, кто за Бородино заслужил знак отличия военного ордена, то один из старых гренадер сказал:
— Подтягину б первому следовало, ваше благородие…
— Подтягин-то никак впереди всех «на ура» бёг, а последним назад шел, — добавил другой.
— Он Жаркого с поля вытащил, — напомнил третий.
И вскоре грудь Якова украсил серебряный крестик на оранжевой с черным ленточке.
Тут же, под Тарутином, в полк вернулся Егор. Крепкий был парень, — совсем выправился, только широкий и свежий красный шрам со скулы протянулся на висок и уходил в курчавые волосы. Но и помимо этого в лице появилось что-то новое. Нет-нет да и улыбнется без насмешки, в глаза глянет без вызова, и хоть по-прежнему на разговоры был скуп, но отвечать товарищам стал по-человечески.
«Жаркий-то наш ровно тепленький стал», — говорили солдаты.
«Не одним господам кровь пущать помогает», — посмеивались шутники.
Через день-другой после возвращения Егор вызвал Якова из шалаша, где тот жил со своим капральством, отвел в нелюдное место и, расстегивая шинель (на походе ее часто вместо мундира носили), сказал:
— Ну, давай, что ли, крестами сменяемся… Небось, каб не ты, не жить мне… Сам бы не помер, конница б затоптала…
Так они побратались, связались по старому русскому обычаю на живот и на смерть.
За пять недель стоянки под Тарутином войска отдохнули, пополнились свежими людьми, обмундировались заново. Все только и ждали, когда же поведут их опять на французов.
А тут Наполеон вышел из сгоревшей Москвы и двинулся на Калугу, но у Малоярославца путь ему преградил Дохтуров с корпусом, потом подоспел Раевский, а там сам Кутузов с главной армией. Вечером этого дня киевские гренадеры два раза ходили в атаку, и Яков с Егором, оказавшиеся рядом, вывели из жаркой свалки на окраине горевшего городка пленного офицера итальянской гвардии, как оказалось при опросе, полковника. За это оба они вскоре получили по кресту, присланному от самого Кутузова.
— А все не догнать, — говорил Жаркий, тыча пальцем в грудь приятеля, — у тебя-то уж пара заслужена…
— Ничего, твои впереди, — отвечал Подтягин уверенно, — парень грамотный, далече пойдешь, мной ужо командовать станешь…
И точно, через неделю, за убылью старослужащих, Егора произвели в ефрейторы, а еще через месяц в младшие унтер-офицеры. Только галуны пришивать на мундир было некогда. Французская армия, напрягая последние силы, спешила уйти из России, и Кутузов преследовал ее по пятам. Полчища, перед которыми так недавно рабски сгибала спины вся Европа, таяли под ударами русских.
Много тяжелого испытали в это время и наши войска. Обозы не поспевали за полками, а шли по местности, разоренной еще французским наступлением. Жили впроголодь, обносились до лохмотьев, обросли грязью, болели тифом, и чесоткой, и жестокими поносами. Но Яков с Егором вынесли все лишения и труды и, перевалив через границу, весной 1813 года стали с полком на квартиры в Пруссии.
Радостное это было время. Всякий понимал, что сделано великое дело, врагов начисто вымели, отстояли Россию. И кто в этом участвовал, тот заслужил и отдых, и крепкий сон на сухой соломе, и котелок каши с салом… Армия, стоя на широких спокойных квартирах, опять обмундировалась, получала новую амуницию, вбирала в себя пришедших из тыла людей, обучала их и готовилась к новому походу.
А потом двинулась навстречу Наполеону, шедшему из Франции с новыми войсками. И, глядя на русские полки, трудно было поверить, что это те же части, что меньше года назад мрачно и молчаливо шли по Смоленскому большаку к Москве. Смех, прибаутки, молодцеватая поступь. Хоры песенников заливаются чуть не перед каждым батальоном.
Тогдашняя солдатская песня совсем не то, что нынешняя, общая. Пел ее именно хор из отборных голосов, с лучшими свистунами и плясунами.
Полковые оркестры того времени были очень малы и слабы по звуку — всего по два гобоя, фагота, флейты, трубы-валторны и по одному барабану. Оркестр этот берегли для смотров, парадов и других торжеств, шел он на походе с полковым штабом. Правда, была еще сильная полковая барабанная команда в двадцать человек и в каждой роте, сверх того, по четыре барабанщика и столько же флейтщиков. Они на марше отбивали ритмическую дробь и свистали несложные шаговые мотивы. Но когда уставали, на смены им приходил хор. Он сам подбирался на биваках, у вечерних костров. И когда ротные командовали: «Песельники вперед!»— то из разных взводов, с веселым напутствием соседей, выскакивали за строй и бежали к голове колонны голосистые усачи. Разровнявшись в две шеренги за конем батальонного командира, они по знаку запевали, разом хватали какую-нибудь родную, российскую, залихватскую песню, вроде: «Выйду ль я на реченьку», «Дуня» или «Ах вы сени, мои сени»… А впереди хора уже вертелся, притопывая и откидывая коленца, бойкий плясун, прищелкивая пальцами, а то и рассыпая сухую дробь деревянных ложек.
Запевалой первого батальона киевских гренадер был Яков Подтягин, лучшим плясуном Егор Жаркий.
Занятно и весело было смотреть, как рослый и широкоплечий унтер-офицер, подоткнув спереди за пояс полы шинели, с пудовым ранцем на спине, в высоченном кивере, с ружьем в откинутой руке, пускался откалывать на радость товарищам лихую присядку по неровным камням дороги. И в то же время, ухитряясь идти шага на три перед хором, так забористо ухает и присвистывает, что встречные пруссаки и саксонцы только рты разевают, глаза таращат да толкают друг друга под зажиревшие бока.
— Ух, эти русские!.. Такие могли и Наполеона побить…
Проявленное Егором на походе мастерство в пляске и то еще, что, став унтером, не заважничал — по-прежнему дружил с Яковом, — много улучшило отношение к нему гренадер.
— Отошел, видать, парень, приручился малость волк-то… — говорили в роте.
А вскоре подошло событие, еще больше расположившее всех к Жаркому.
Незадолго до Лейпцигского сражения полк догнал прапорщик Акличеев, которого давно уже включили в список убитых под Бородином, потому что солдаты видели в схватке у Семеновского, как кололи его французы.
Тотчас по приезде прапорщик отнес полковому командиру ранее заготовленный рапорт, в котором кроме сообщения о прибытии в полк писал еще, что из боя его вынес и перевязал, спасши от смертельного кровоистечения, стрелок Егор Жаркий, какового он просит за то наградить, буде еще жив.
А узнал об этом прапорщик так. Когда ополченцы принесли раненого на перевязочный пункт и стали снимать с носилок, он очнулся и начал благодарить, что вынесли из огня и остановили кровь. Но ополченцы отозвались, что принес к ним раненого на руках высоченный солдат, у которого будто что уха нет и собой черен. Акличеев понял, что это Жаркий, которого он знал в лицо.
Отнеся рапорт полковнику, юноша тотчас отыскал Егора, благодарил его, обнимал, подарил пятьдесят рублей и золотой крестик на такой же цепочке.
— Это матушка моя просила тебя носить, — сказал он. — Только дай-ка я сам на тебя надену, так она непременно наказывала.
Егор стал было расстегиваться, но вдруг приостановился. Ведь у него висел уже крест, которым он поменялся с Яковом и которого потому снимать не хотел. Помявшись, он должен был, однако, объяснить все как было, чтобы прапорщик не обиделся.
— Ну так что ж, — решил Акличеев. — Носи на здоровье два.
А на первой же дневке батальон построили, Жаркого вызвали перед строем, и полковой адъютант громко прочел приказ о подвиге. Потом полковник прицепил Жаркому на грудь крест из тех, что были недавно присланы в полк от нового союзника — австрийского императора, произвел в старшие унтера и хвалил за молодецкую службу.
Оглядев ладную стать вытянувшегося в струнку Егора, полковник спросил:
— Какого звания до набора?
— Дворовый человек господ Полторацких, ваше высокоблагородие…
— Грамотный?
— Так точно…
— Хорошо, я тебя не забуду… — сказал полковник и скомандовал распустить роты для отдыха.
— Что ж ты молчал-то? — укорил в тот же день Егора один из стариков гренадер. — Прапора без малого год за упокой поминали — грех ведь…
— А чего зря звонить, я и сам за верное его не иначе как в земле числил, — усмехнулся Жаркий.
— Вот скольки вперед меня выслужили, господин старший унтер-офицер, — сказал Яков приятелю.
— Ты теперь важней генерала будешь, — острили солдаты, — сверху два креста геройских висят да споднизу еще два божеских…
А между собой говорили: «Не козырился, что барчонка спас, не для наград, выходит, в пекле-то с ним копался… Лоб-то волчий, а душа вроде как человечья».
После сражения под Лейпцигом разбитый Наполеон отступил к границе Франции. Наша армия неотступно двигалась за ним. Настала новая зима, но ни морозу, ни снегу настоящего, — одно название…
В сражении под Ларотьером убили в Киевском полку батальонного знаменщика, и на эту почетную должность полковник выбрал Егора. Произведенного за тот же бой в ефрейторы Якова назначили в ассистенты к знамени. Теперь всегда рядом шли они по французской земле. Бок о бок в атаку, к котлу и на отдых. И хоть не могли больше выбегать с песенниками вперед, но зато согласно подтягивали со своего места в самой голове колонны.
Все ближе и ближе грозная туча русского войска подвигалась к столице Франции. Один за другим проваливались задуманные Наполеоном планы ее защиты. И 17 марта в утреннем тумане открылись нашему авангарду опушенные первой нежной зеленью сады за каменными оградами, домики, церкви и мощеные дороги предместий. То там, то сям маячили всадники, блестели штыки, на возвышенностях виднелись пушки.
— Дожили и мы до праздничка! Придется нонче дядюшке Парижу расплачиваться за матушку Москву, — говорили солдаты, ожидая приказа об атаке.
И вот заговорили орудия. Наступающие армии широким полукругом от Сены до Марны сжимали с северо-востока предместья Парижа. Тысячи барабанов ударили поход, и колонны двинулись на назначенные места.
Гренадерам 2-й дивизии довелось штурмовать высоты Бельвиля. Ядра, картечь и ружейный огонь вырывали целые шеренги из строя. Французы с мужеством отчаяния старались задержать стремительную атаку. Но через два часа холмы были взяты, французские батареи смолкли, и у ног победителей развернулся Париж, залитый весенним солнцем, — башни, деревья, крыши домов.
Видя невозможность защищаться долее, маршалы Мармон и Мортье — тот самый Мортье, что в 1812 году был с месяц комендантом Москвы и, уходя, взрывал Кремль, — прислали просить о перемирии. А на другой день подписали капитуляцию Парижа.
Вскоре стало известно, что утром 19-го состоится торжественное вступление победителей в столицу Франции. В эту ночь мало кто спал в русском лагере. Все думали о пережитых двух годах великой борьбы, потерь, страданий, пролитой крови, которым пришел теперь достойный и желанный конец.
Толпы парижан выходили смотреть на тысячи костров, горевших на высотах вокруг города, и слушать доносившиеся оттуда чужие напевы.
А наутро, облекшись в полную парадную форму, полки в строгом порядке двинулись к Монмартрскому предместью.
Свежий утренний ветерок шевелил полотнища знамен, развевал флюгера кавалерийских пик и перья султанов на генеральских шляпах. Яркое солнце горело на стройных иглах штыков, на клинках обнаженных сабель. Теплыми бликами ложилось оно на жерла бронзовых пушек и отчищенные крупы коней. Несметные толпы горожан встречали победителей. Разодетые в лучшие платья, оживленные и крикливые, парижане непритворно радовались, что опасность штурма, еще вчера угрожавшая городу, миновала. И, запрудив улицы, высовываясь из окон многоэтажных домов, стоя на балконах и примостившись на кровлях, они бросали русским цветы, махали платками и шляпами, оглашая воздух приветственными криками.
«Так вот каковы они, победители «непобедимого»…» — думали французы, вглядываясь в шедших мимо русских героев.
Твердо и мерно звучал солдатский шаг по камням парижской мостовой. Тот самый молодецкий шаг, которым прошли они от Тарутина до Монмартра.
«Да, мы те самые русские, которые сожгли свою столицу, чтобы не отдать ее вам…»— говорили мужественные, обветренные и оживленные лица.
Киевские гренадеры были первым полком своей дивизии и двигались во главе ее, а в первой строевой шеренге первого батальона киевцев, под мерно колебавшимся георгиевским знаменем, шли Егор и Яков.
Как и все участники этого великого торжества, они навсегда запомнили незнакомые и, казалось, бесконечные, залитые солнцем улицы, ветки свежей зелени, украшавшие кивера и каски победителей, шумливую и пеструю, глазевшую на них толпу, а главное, чувства гордости и радости, наполнявшие их души.
На интервале в пять шагов перед ними перебойно цокали по булыжнику копыта лошадей батальонного командира и его адъютанта. А еще дальше впереди двигались красные султаны и черные спины музыкантов. Их густо расшитые белой тесьмой рукава видны были только от плеча до локтя, а невидимые гренадерам пальцы бойко перебирали клапаны инструментов.
В этот день во всей русской пехоте играли один и тот же Преображенский марш. Его четкий и простой мотив несся над стройными рядами. Сколько раз под эти знакомые звуки, то бодро-подъемные, то певуче-грустные, ходили в бой гренадеры, видели смерть товарищей и врагов, чувствовали и свою, казалось, близкую смерть, и победа осеняла их трепещущими крыльями. И не одни губы, шевелясь под нафабренными усами, подпевали в этот день знакомые слова старого марша:
Над Яковом и Егором ласково шелестело доверенное их защите боевое, не раз простреленное, знамя, за ними и перед ними грозным потоком шло русское войско, лучшее войско мира, освободившее от поработителей не только свою родину, но и Европу.
Парад на Елисейских полях кончился только часов в пять дня. Войска разошлись по казармам и бивачным местам. И когда наступила ночь, первая ночь русских в Париже, когда померкли костры и, утомленные трудами и впечатлениями, люди заснули, а кони медленно пережевывали золотистый овес с полей Шампани и сонно переступали копытами, — тогда по затихшим улицам послышались громкие шаги русских патрулей, их оклик встречным: «Кто идет?» И отзыв, отданный приказом на эту ночь: «Москва!»
Немало диковин видели солдаты в прославленном городе. Как и в строю, плечом к плечу, всегда вместе, обошли Егор с Яковом, гуляючи, аллеи Тюильрийского сада, набережные Сены, галереи Пале-Ройяля и пестрые многолюдные рынки. Вместе, наблюдая беззаботную парижскую толпу, сиживали в кабачках и пили сладкий лимонад у говорливых уличных торговок. От спокойной, сытой жизни приятели раздались, разрумянились, отдохнули после двухлетнего похода. Не одна парижанка заглядывалась на рослых красавцев, увешанных крестами и медалями, не зная, которого предпочесть — русого или черноволосого.
Но это были последние недели их солдатского товарищества. Однажды Якова кликнули к полковому адъютанту.
— Вот что, Подтягин, — сказал он, внимательно оглядывая застывшую у дверей канцелярии богатырскую фигуру, — полковник велел тебя сделать нашим тамбурмажором. Слыхал ли когда про такую должность?
— Никак нет, ваше благородие, — отвечал Яков.
И тогда адъютант рассказал ему, что в гвардейских частях впереди строя барабанщиков марширует особый чин — тамбурмажор, все дело которого состоит в том, чтобы подавать знаки, когда начинать и кончать барабанить «поход», «встречу» или другой «бой». Но командует тамбурмажор не голосом, а особой разукрашенной палкой — жезлом. Да притом одет в одному ему присвоенный мундир, весь в нашивках. В прочее же время состоит начальником команды барабанщиков, ведет их обучение и списки, распределяет по нарядам, и жалование ему положено как ротному фельдфебелю. А теперь вышло приказание завести таких же тамбурмажоров и в армейских полках…
— Ваше благородие, явите милость, — осмелился сказать Яков. — Я ведь барабанной музыки вовсе не разумею… То есть на слух-то знаю, который бой что обозначает, да руками-то где же этакое?.. Годами ведь обучаются…
— Знаю, братец, — отвечал адъютант. — То же и я докладывал полковнику, но их высокоблагородие так рассудили, что всего, мол, важнее, чтоб парень был из полка самый видный и чтоб в такт всегда попадал отменно, с шагу не сбивался, как по нему строй весь ногу берет… Ну а ты-то, сам генерал не раз хвалил, — лучший у нас запевала, — значит, суметь должен… Так что через час пойдем со мной в Семеновский полк, будут там всех вас, молодых тамбурмажоров, делу обучать.
Так началась новая полоса жизни Якова Подтягина. Каждый день учился он делать новые штуки своим жезлом. Надо было, оказывается, не только давать им знак барабанщикам, но еще во время «музыки» непрерывно ловко вертеть в воздухе, подбрасывать, ловить и делать различные замысловатые приемы. Все это давалось Якову легко, но на душе было не весело. Приходилось расставаться с привычной фронтовой службой, с ротой, со знаменем, с Егором. Боязно казалось приниматься за фельдфебельское дело, когда едва знал он азбуку. А главное — душа не лежала к новой должности, которую сам не уважал, понимая, что нет в ней боевого значения.
Но раз начальство велит, дело солдатское — слушаться.
А через недели две переменилась и Егорова доля. Убыль в офицерах была большая, и полковник за отличие при взятии Монмартрских высот представил его в прапорщики. Теперь вышло производство, и Жаркий, в два с половиной года шагнувший из рекрутов в офицеры, принял полуроту в 3-ем батальоне.
Яков не завидовал товарищу. «Вот бы мне-то и стать знаменщиком, — грустно думал он. — А то этакое дело дурацкое досталось — верти палку, ровно тронутый… Да нарядили еще петухом…»
Действительно, ему сшили новый мундир, весь в галунах и кисточках, с эполетами, обшитыми густейшей бахромой. Да еще приказали отпустить длинные усы и бакенбарды, — таков, мол, тамбурмажорский обычай…
5
Кончились походы. Гренадерский корпус вернулся в Россию, и 2-ю дивизию расквартировали в Орловской губернии. Прошло восемь лет на мирных стоянках. Но спокойными для служивших в армии те годы не были. «Аракчеевщиной» звали это время в нашем народе. Более чем когда-либо пошла в войсках муштра, вытяжка носков, обучение приемам по темпам, плавному шагу и всему прочему. А главное, наказания за каждую малейшую провинность стали еще щедрее. За неточный поворот, за ошибку в движении ружьем забивали заслуженных солдат до смерти.
Егор и Яков продолжали служить в Киевском полку. Только пути их совсем разошлись. Яков по-прежнему был тамбурмажором, но теперь уже настоящим. Выучился бить на барабане и дробь, и поход, и сбор, и повестку, и тревогу, и другие многочисленные сигналы, так что самолично обучал молодежь этому искусству. Постиг как следует и грамоту и счет — целый год штабному писарю платил за науку по целковому в месяц. Потому — без этого нельзя, раз команда на руках, хоть и барабанная. И довольствие, и амуниция, и инструмент, и ежедневный наряд — известно, фельдфебельская обязанность. Но по-прежнему делал он все спокойно, терпеливо, без большой ругани и вовсе почти без битья.
А Егор, великий мастер всех фрунтовых штук, которые вошли в такую моду, выдвинулся на них до того, что, в 1817 году произведенный в подпоручики, а в 1820-м — в поручики, с отличием командовал ротой, после каждого смотра получая благодарности, награды и прославляясь на всю дивизию. Гренадерам под его начальством жилось тяжело. Не был он жесточе многих офицеров, но то, что, сам недавний солдат, хладнокровно приказывал теперь «влепить» двадцать пять или пятьдесят палок за мелкую неисправность или бил по уху тех самых людей, с которыми рядом прошел походом Европу, — делало эти побои во много раз больнее и обиднее.
— Волк был — волком и остался, — говорили солдаты.
И в самом деле Жаркий не изменился. Он, как и прежде, делал только то, что твердой дорогой вело его к намеченной цели. Ведь будь он помягче — не создал бы себе такой блестящей строевой репутации, хоть бы рота его была и еще лучше вымуштрована. «Солдат солдату мирволит», — сказали бы многие.
От Якова поручик давно отошел. Ему стало теперь сподручнее водить компанию с офицерами. Хотя большинство из них не очень-то считали его за своего, все же — недавний солдат, дворовый чей-то, крепостной. Выходило: «От этих отстал, и к тем не пристал». Но Жаркого не смущало такое отношение. Он полагал будущее свое всецело зависящим от успехов служебных. «Ничего, господа, буду я еще вами командовать. Тогда поклонитесь, поди, низко», — думал он. Так и жил, занятый только службой, предаваясь ей с рвением. Впрочем, иногда заходил все же к крестовому братцу в барабанную команду, чтобы перекинуться несколькими словами. Но все больше и больше чувствовал, что как-то не говорится и не шутится по-прежнему. «Ну что же, понятное дело, разошлись наши дороги-то», — сказал он себе как-то и стал еще реже заглядывать к Подтягину.
Понимал и Яков неизбежность отчуждения, но все же грустно было терять многолетнего приятеля. Впрочем, с 1821 года жизнь тамбурмажора просветлела и украсилась.
Раз зимним вечером, проходя по окраине города, где стоял их полк, он встретил бежавшую куда-то девушку. По бледному лицу с полудетскими чертами текли обильные слезы. Яков пожалел ее, остановил и стал расспрашивать. Обличив у тамбурмажора было добродушное, голос участливый. Между всхлипываниями девушка кое-как рассказала, что она здешняя мещанская дочь, отца давно нет на свете, мать после смерти подростка-брата тронулась в уме и живут они вдвоем в избенке. Что ходит она к чиновнику нянчить дите, стирать и услуживать, за что кормится и матери чего-нибудь носит. А сейчас пришла домой — двери изнутри заложены, никто не откликнулся… Побежала скорей за три дома к плотнику попросить, нельзя ли как открыть двери. Тут-то служивый ее и остановил. А плачет оттого, что боится, не случилось ли что с матерью, да еще что вот какая сама-то слабая, всех-то обо всем надо просить, а все такие злые — мужчины пристают, бабы бранятся…
Яков пошел с девушкой к ее домишку, без труда высадил богатырским плечом хилую дверь, и, войдя вместе, они нашли помешанную в петле и уже холодной.
Потоптавшись над плачущей Дуней, — так звали девушку, — тамбурмажор зашел к соседям, послал к покойнице бабу, давши ей двугривенный и приказав не спускать глаз с горевавшей Дуни.
Придя в свою комнатку при команде, Яков зажег сальный огарок, присел на постель и крепко задумался. Сидел долго, пока свеча не нагорела. Когда же стало совсем почти темно, встрепенулся, снял нагар, выдвинул из-под койки сундучок, достал кожаный мешочек и счел сбережения. За десять лет накопил он 98 рублей с копейками. Отложил золотой, остальное спрятал, лег и заснул. Все было у него уже решено.
Наутро, наказав, что следовало, старшему барабанщику, отпросился у адъютанта на три дня, чего не бывало за всю службу, зашел поговорить с полковым священником и помаршировал в город. Двое суток только ночевал в казармах, а на третьи утром надел парадную форму и пошел на похороны. Когда все окончилось и они, с еще одной только соседкой, выходили с кладбища, он сказал:
— Ну, Дуня, хочешь за меня замуж?
Та сначала охнула, а маленько погодя спросила, подняв на него испуганные глаза:
— Да когда же?
— А вот нонче, сейчас и в церковь, — отвечал он.
— Да как же, с похорон-то?
— Ничего, можно, — сказал он. — Я спрашивал — обвенчают… Туда-то тебе дороги нет… — И махнул рукой в сторону, где стояла ее хибарка.
Может, они и еще что говорили, но только через два часа, в нанятой накануне близ полкового штаба обывательской комнатке, шел их скромный свадебный пир.
Дуня не раскаялась в своем согласии. Жить с Яковом было легко, просто и чисто. Хозяйка она оказалась хорошая, а скоро так раздобрела на сытых харчах, что стала хоть куда тамбурмажорша. А еще, как отошла от горя да пригляделась к мужу, так и запела и засмеялась. Яков души в ней не чаял. Только подумает о ней, хоть и не видит, а уж счастливая улыбка усы шевелит. Но ребят в первые годы у них не было.
С середины 1823 года пошел по дивизии слух, что скоро двинут ее из обжитых мест на северо-запад, в новгородские военные поселения. Учреждение это, незадолго до того появившееся, имело уже громкую и темную славу. Во главе его стояло лицо всесильное, прославленное жестокостью, — граф Аракчеев. И известие о предстоящем подчинении графу вызвало сильное движение умов, толки и опасения. Для солдат выбора не было — куда прикажут, туда и пойдешь. А из офицеров многие стали хлопотать о переводе из гренадерского корпуса, но успели в этом едва ли несколько человек. Получен был приказ из Петербурга никого никуда не переводить. И почти тотчас — другой, по которому в начале 1824 года 2-я и 3-я гренадерские дивизии двинулись к месту нового квартирования. Тотчас по прибытии развели полки по волостям Старосольского уезда, и началась для них новая жизнь.
Экономическая цель устройства военных поселений состояла в том, чтобы снять содержание армии с казны. Для этого войска расквартировали по деревням и заставляли нести сельскохозяйственные работы вместе с крестьянами, забритыми поголовно в солдаты. А политическая цель заключалась в сохранении большой армии.
Понятно, что местные жители не могли радоваться своей новой доле, обращавшей их из сравнительно сносного по тому времени положения государственных крестьян в потомственных солдат. Поселенский порядок разрушал привычное хозяйство и сажал на шею им тысячи начальников, которые от генерала до последнего гренадера все командовали, все грозились и без исключения все били мужика. Жестокие армейские порядки здесь, в царстве графа Аракчеева, доводились до невиданного еще предела. Били за все. За невыметенную избу, за то, что с лучиной, а не с казенным фонарем вышел во двор, за то, что не так отвечал, не так встал… А работать приказывали и день и ночь, и в будни и в праздники. Работали и свое прежнее крестьянское, и совершенно новое: рубили лес на казенного образца избы, возили камни и кирпичи на постройки огромных зданий цейхгаузов, штабов, гауптвахт, манежей. А сверх всего еще тяжелая, ненавистная ежедневная муштра.
Поначалу кое-где под Новгородом мужики пробовали было протестовать, писать жалобные прошения, «доходить до царя» ходоками, открыто оказывать неповиновение. Но на все это новое начальство отвечало такими экзекуциями, что к 1824 году все притихло и затаилось, готовое, однако, на вспышки при первом удобном случае.
Вот в этот-то край насильственного бритья бород и переобмундирования воющих с горя и страху крестьян, непривычного для солдат сельского труда и обширных строительных работ и попали вновь пришедшие гренадеры.
Для Якова Подтягина время это было самое тяжелое из всего, что пережил он до тех пор. И не потому, что много стало хлопот по тамбурмажорской службе. Этого не было. Но здесь, при почти непрерывных наказаниях, на его подчиненных легла постоянная обязанность палачей. Конечно, и раньше по общему армейскому положению считалось, что коли надо посечь, то дело это ротных барабанщиков. Но таких случаев встречалось не больно много. Коли по суду, то гнали беднягу сквозь строй. Тогда вынуждены были бить все солдаты по очереди. А когда без суда, то чаще оборачивалось все мордобоем. Теперь же здесь завели обыкновение пороть за всякую малость, особенно мужиков-поселян, и то и дело приказывали наряжать по два, четыре, шесть человек из полковой команды барабанщиков, а часто и самому тамбурмажору надзирать за наказанием. Якова так с души воротило, что ходил он мрачнее тучи и проклинал свою должность как никогда.
Тяжело ему было еще и то, что добросердечная Дуня от всего, что доводилось ежедневно слышать и видеть, перестала петь и смеяться, а иной день просто исходила слезами и не раз принималась ему жаловаться, как все тут худо и несправедливо… Он и сам это знал, но что же мог сделать? И еще больше стал тревожиться, узнав, что жена его тяжела. Постоянно думал, как вредно носить в частых слезах, тоске и печалях.
А Егор, правильнее теперь Егор Герасимович, попал вполне на свое место. К этому времени то человеческое, что заставило его в свое время пожалеть прапорщика, побрататься из благодарности с Яковом, — все заглохло, постепенно заглушенное службой. Все поручения начальства исполнял он рьяно и успешно. И в быстроте бритья крестьянских бород, и в обучении их фрунту, и в любых хозяйственных делах — везде и всегда отличался Егор Герасимович. После первого смотра сам Аракчеев знал его в лицо, по фамилии, и ставил в пример другим ротным командирам. Зато офицеры-товарищи и гренадеры еще пуще невзлюбили поручика, а подчиненные, недавние мужики, просто возненавидели.
Весной 1825 года Дуня родила крепкую девочку, названную Анастасией, но сама стала заметно хиреть. По совету полкового лекаря, Яков переселил жену с дочкой из середины города, от штаба, в окраинную слободу. Здесь Дуня стала заметно поправляться. Ее квартирной хозяйкой была тридцатилетняя девушка Лизаветушка, или Лизавета Матвеевна, существо некрасивое, одинокое, молчаливое, но до крайности доброе и жалостливое. Жила она неустанной работой на своем хозяйстве, состоявшем из покосившегося домика о двух горенках, строенного когда-то отцом ее, давно умершим дьячком, да еще огорода, маленького садишки и восьми овец и коз. Главной статьей скудного денежного прихода были искусно вязанные из шерсти чулки, перчатки и напульсники, продаваемые городскому духовенству и чиновникам. Квартирантов Лизаветушка решилась держать впервые.
В этом мирке, ограниченном покосившимся забором, все было до крайности бедно и чисто. Дуня отдыхала здесь от полковой жизни, целые дни проводила в саду, сбегавшем к самой речке, и много пила козьего молока, особенно рекомендованного ей лекарем.
Лето выдалось для Якова хлопотливое. Аракчеев побывал в городке несколько раз, ждали царского смотра, дела барабанщикам было много и по строевой части, и с экзекуциями. Тамбурмажор очень уставал, спал едва по пять часов в сутки, на душе было темно, и единственная радость заключалась в сознании, что с женой и девочкой все пошло на лад.
Но раз, в октябре, с неделю не бывавший в слободке Яков застал Дуню снова совсем больной. Полоскала белье, оступилась с мостков в воду, простыла и теперь глухо кашляла, а вечерами и ночью горела. Забросив скотину и недокопанный огород, Лизавета возилась с жилицей и ее девочкой.
Несмотря на разные аптекарские и домашние снадобья, за следующие полмесяца Дуня еще ослабела и слегла.
Как-то вечером, когда тамбурмажор сидел у ее постели, она сказала:
— Яков Федрыч, спасибо вам за доброту… А меня простите, много слезами досаждала вам…
— Ну чего ты, Дуня… — отвечал он взволнованный, вглядываясь в ее обострившееся лицо, охваченный чувством щемящей жалости и бессилия перед надвигающимся горем.
— Что ж, ведь и сам знаешь… — продолжала она. — А еще я хочу попросить… Пока не женишься, девочку от Лизаветушки никуда не бери… Я уж с ней говорила… Она дите не бросит, худому не выучит… Обещаешь? Я спокойней помру…
Он пообещал. И когда через неделю Дуня скончалась, тамбурмажор по-прежнему каждую неделю шагал в слободку, только оттуда теперь заходил на кладбище.
«Весточку про дочку понес», — говорила про себя Лизавета, закрывая за ним калитку и возвращаясь к Насте.
Вступление на престол Николая I и последовавшая за ним отставка Аракчеева должны были, казалось, изменить судьбу поселений. Но хотя они явно перестали быть любимым царским детищем и о дальнейшем их расширении не говорилось, они продолжали жить по заведенному порядку.
Жил по-прежнему и Яков. Не раз предлагали сосватать ему невесту, но он неизменно отказывался. Тоска по покойной еще не отлетела.
«Ради девочки разве когда…»— неопределенно думал он о новой женитьбе.
Но Настенька росла у Лизаветы, и тамбурмажор видел, что навряд ли найдет кого заботливей.
А Егор Герасимович тоже жил, как раньше. Бил в зубы гренадер и поселян, отличался на всех смотрах, и в 1827 году произвели его в штабс-капитаны. Теперь командовал он ротой, стоявшей в двадцати верстах от города, так что Яков, бывший неизменно при штабе, видел его зимой очень редко. А летом в лагерях у обоих было дел по горло, да и о чем говорить-то?
Осенью 1830 года слышно стало о войне с поляками. В ноябре дивизия получила приказ выступать. В поход шли только кадровые гренадеры, поселяне оставались по своим деревням.
Притащив к Лизавете свой сундучок и отдав ей сбережения, Яков простился с нею и благословил пятилетнюю Настеньку. Выходя из города впереди своих дробно гремевших барабанщиков, тамбурмажор даже с ноги сбился на миг, так защемило сердце воспоминание о припавшей давеча к коленям круглой беловолосой головке с зелено-голубыми Дуниными глазами. И об одинокой могиле на окраине кладбища. Эх, Дунюшка!..
Осенний холодный дождь мочил высокие гренадерские кивера, собираясь в большие капли на широких козырьках, и брызгал на солдатские груди. Только у одного тамбурмажора две какие-то странные капли проползли по крепким скулам до самых бакенбард.
Тринадцатого февраля 1831 года в сражении под Гроховом, в штыковой атаке на занятую неприятелем рощу, особенно из всей бригады отличилась рота Жаркого. Сам он был ранен картечинами в руку, но остался в строю. Фельдмаршал Дибич, бывший поблизости, благодарил храброго штабс-капитана, а через неделю прислал ему орден Владимира 4-й степени. Исполнилась заветная мечта бывшего дворового человека, — этот орден давал потомственное дворянство. Теперь, встречаясь на биваках с тамбурмажором, Егор Герасимович небрежно кивал на его приветствие и равнодушно проходил мимо.
«Крестик-то мой братский, поди, и выкинул давно…» — думал не раз с горечью Яков.
И почти угадал. Как раз в это время, весной, купаясь в пруду с другими офицерами, Егор Герасимович устыдился медного маленького крестика, отцепил его от золотого и засунул в походный чемодан в угол, на самое дно…
Кампания шла вяло и медленно. Только к концу августа новый главнокомандующий Паскевич стянул войска для решительного штурма Варшавы.
В этот памятный день Яков Подтягин, как в былые годы, был в первых рядах Киевского полка. В атаку шли с музыкой и барабанным боем. Поляки упорно дрались, защищая сильные редуты и городской вал. Огонь мало чем уступал бородинскому.
Вбегая на откос одной из насыпей, Яков почувствовал такой сильный удар в правую икру, что мигом присел на землю. Попробовал встать — в глазах потемнело от боли. Пуля раздробила кости.
В тот же день в дивизионном лазарете знакомый лекарь поднес тамбурмажору стакан водки для храбрости и отмахнул ногу по колено. Следующие дни прошли в непрерывных страданиях. Потом стало легчать. Появился аппетит, потянуло к трубке и разговору. От этого же лекаря Яков узнал, что среди тяжелораненых был и Жаркий. Осколком гранаты ему разворотило все плечо.
Три месяца варшавского лечения обдумывал Яков дальнейшую жизнь. Теперь дадут «чистую», надо будет к чему-то пристраиваться. И впервые пожалел он, что не знает никакого ремесла, Соха, ружье да барабан… И все три ни к чему теперь.
В декабре выписали Подтягина из госпиталя и выправили законные документы. За двадцать лет беспорочной службы и пролитую кровь положили полную пенсию по фельдфебельскому окладу, десять рублей в треть — по два с полтиной в месяц. Не густо… В эти же дни от чиновников в канцелярии услышал Яков, что полк его передвинут на постоянную стоянку под Москву и что летом в Старосольске было возмущение поселян, перебивших несколько сот начальников, а сейчас идут там суд и наказания.
«Как-то Настя моя с Лизаветой?.. — с беспокойством думал он, пускаясь в путь. — Будто в стороне они, да только за мои-то подневольные расправы не обидел бы кто…»
Дальняя дорога безногому дело не легкое. Непривычная деревяшка за час-другой ходьбы до крови натирала Якову его обрубок. Но, где подсаживаясь на телеги казенных обозов, где с порожними ямщиками или с пожалевшими заслуженного инвалида проезжими, в полтора месяца добрался он до места.
Лизаветушка с девочкой были живы и целы, но, как и все старосольские жители, крепко напуганы днями восстания, а пуще того страшными казнями, что происходили теперь почти ежедневно на площадях. Приговоренных поселян тысячами били кнутом или палками, чтобы сослать потом в арестантские роты.
Пока не кончилось все это, Яков отсиживался дома, в Лизаветиной избушке, набирался сил, привыкал к своей новой ноге. Наконец городок затих. Казармы и острог опустели. Над заваленными снегом улицами плыл медленный великопостный звон. Днями Яков учился вязать чулки и варежки, вечерами грел спину о жарко протопленную утром печку, рассказывал Лизаветушке и заходившим соседям про войну, про Париж и Варшаву…
Наступило лето. По случаю, дешево, прикупили еще двух коз. Вдвоем с дочкой гнал Яков ранним утром все стадо в поле и почти целый день просиживал где-нибудь на пригорочке, в полуверсте за последними домами слободки. Хорошее было время… Поглядит на играющую поблизости Настю, на желтые одуванчики, которые она рвет и сплетает в корзиночки и веночки, на овец и коз, щиплющих траву, и опять заблестит на солнце проворными спицами. Тут же и поедят что-нибудь увязанное Лизаветой в узелок… До чего же тихо, спокойно… А тут еще стало доподлинно известно, что поселений в Новгородской губернии больше не будет, поселян многострадальных превратили в каких-то новых «пахотных солдат», совсем, однако, вроде как и не военных… Тоже душе приятно. О недавней службе напоминали Якову только мундир со споротыми тамбурмажорскими нашивками, деревянная нога да еще что навертываются на язык за работой не старые крестьянские песни, а все больше марши. Под их напевы вечером, бывало, и с поля идут. Мелкие козьи да овечьи шаги, конечно, не в лад, а они с Настей на трех ногах маршируют как полагается.
В город инвалид наш ходил редко. Что там делать? Полка нет, а горожан он знал мало. К осени, однако, стал подумывать, не поискать ли какой должности. Все ведь кавалер, грамотный и счет знает. Не век же коз пасти да чулки вязать.
Но место пришло само. Однажды в августе, к вечеру, сидя дома, Яков услышал, как за воротами продребезжал и остановился экипаж. Через минуту кто-то застучал в низкое оконце. Выглянув, Подтягин увидел наклонившегося офицера и не сразу узнал Егора Герасимовича. Бледный и худой, с рукой на черной косынке через шею, он весело покрикивал, чтоб отворили калитку. А войдя в избу, крепко обнял Якова и сказал, усмехаясь на его деревянную ногу:
— Ну, брат-камрад, знать, одна судьба нам написана. Как ты в инвалиды, так и я следом… Рука-то, вишь, хоть и есть, да вроде для виду одного…
Усевшись под образа, Жаркий рассказал, что в строю больше служить не может, а назначен окружным начальником пахотных солдат в село Высокое, в тридцати верстах от города, что нужен там смотритель запасного хлебного магазина и вот приехал он к Якову звать его на такую должность…
— Дело тебе как раз подходящее… А нам, видно, до смерти вместе служить, — закончил он.
Подумав и разузнав что следовало, Яков согласился и недели через две поехал к новому месту. Село ему понравилось. Недаром так зовется, кругом холмы, между ними речка небольшая бежит, за версту — лес. И не скучно, стоит село на Псковском тракту, нет-нет да и мелькнет проезжий какой. Тут же почтовая станция.
Под жилье Подтягин сразу же приглядел большую избу-пятистенку на чистом месте, у самой околицы. Строил ее для себя ротный фельдшер при поселениях и только что покрыл, как пришлось уходить на войну. Теперь он прислал новому сельскому начальству письмо, прося продать за сколько бы ни дали… Яков купил избу по цене сруба — за двадцать рублей.
Должность оказалась самая простая. Принять в магазин — большой кирпичный амбар на другом конце села — зерно, что по раскладке следует с каждого хозяина — пахотного солдата, выдавать им же, когда начальство велит. Конечно, все точным весом и с записью в книге, да следить, чтобы в магазине зерно не сырело. Правда, Жаркий взвалил на Якова часть письменных немудреных дел в канцелярии округа, но все времени оставалось довольно.
То, что увидел в селе Яков, очень ему понравилось.
От военно-поселенских жестоких порядков мало что осталось. Жили теперешние пахотные солдаты почти как все государственные крестьяне, даже бороды позволили им отпускать и строю более не учили нисколько. Только что носили одинаковые серые кафтаны, бескозырки да в поле выходили по барабану, со старыми унтерами за командиров. Так это ничего — порядку будто больше. Начальства стало не много. Егор Герасимович после раны присмирел, дрался редко и не сильно. Может, оттого, что левой рукой несподручно. А может, помнил недавно здесь случившееся и побаивался.
С помощью соседа, которому по воскресеньям ставил полштофа, Яков принялся устраивать свое будущее жилье. Обвел место двора и сада жердевым забором, смастерил кой-как и вставил рамы. Потом, отпросившись у начальства, поехал в город за гвоздями, петлями к дверям, стеклами и прочим.
И, трясясь полдня на казенной телеге, раздумался не спеша про то, что между делом не раз мельком прикидывал, как не ладно будто селиться в новом месте с чужой женщиной, хоть и под сорок лет и не больно видной собой… Что народ-то станет про нее болтать?.. Опять же, захочет ли и Лизавета сама бросить домишко в слободке — место, давно насиженное… А и пожалеет Настю да согласится ехать в село, то хорошо ли человека за его доброту выставлять не то нянькой, не то батрачкой?.. Как же быть?.. Выходит, время пришло жениться. Положим, девку сыскать — только свистни… Да будет ли по душе-то? И коли откладывать, то рождественский пост недалече. Или в Высоком до весны одному жить? Тоска… Привык к Насте, к дому… да и к Лизавете этой… Порядок у нее, чистота, почтение, все как надо… Опять же и Дуня-покойница перед смертью что говорила… А вторую такую, как сама-то Дуня, разве сыщешь?..
Одним словом, приехав, он под вечер завел с Лизаветой разговор, от которого та растерялась, закраснелась, начисто онемела, потом заплакала и не спала всю ночь. А наутро отправились они в ближнюю церковь и вернулись оттуда законными супругами.
В ноябре в Высокое перевезены были Лизавета с Настей, кой-какой скарб и все козы и овцы. А домик в слободке продали.
Яков не ошибся в той, которую выбрал. В новом положении, в новом месте Лизаветушка показала, какая она хозяйка. Все, что знала и умела, но что до сих пор, до тридцати восьми лет, не к чему было приложить в своем бедном хозяйстве, здесь, в большой избе, при хорошем достатке, — все пошло в дело. С утра до ночи без устали и отдыха она, неусыпно приглядывая за Настей, варила, пекла, стирала, шила, мыла, убирала, солила, квасила впрок, ходила за козами, чесала шерсть, пряла. Да разве перечтешь все нужное, на чем держался дом у расторопной женщины? И все это с каким-то новым, радостным, но немного удивленным лицом, как бы не веря, что ей, старой, некрасивой, не бойкой на язык девке, выпало этакое счастье. Ведь с самого прихода Якова с войны она со страхом ждала, что вот-вот он куда-нибудь уедет, возьмет от нее девочку и останется она опять одна со своими козами, клубками шерсти и одинокой надвигающейся старостью. А тут — на-ко!.. Теперь ее переполняла бесконечная благодарность к судьбе, к Якову, к Насте, и она рьяно и любовно устраивала их новую жизнь. Никогда никого не звала она на помощь и все и всюду успевала сама. Яков только весело на нее поглядывал да похваливал:
— Ай да Матвеевна, ай да герой!..
В Высоком было больше ста дворов, находилось управление Округом пахотных солдат, то есть канцелярия или «штаб», и квартировало начальство — три офицера. Здесь стояла каменная церковь и жил ее причт, помещались гауптвахта и хлебный магазин. И как во всяком тогдашнем населенном пункте, жители делились на несколько обособленных групп. Офицеры и священники составляли «высший свет», писаря, каптенармус, фельдфебель, фельдшер, дьякон — второй или средний круг, и, наконец, обыватели, то есть «пахотные солдаты», — третий, самый обширный и деятельный.
Яков не спешил тесно войти в свое среднее общество, хотя и поддерживал с ним нужные добропорядочные отношения. Ближе сходиться как-то все было недосуг.
На новом месте он как бы заново родился. Сзади остались двадцать лет службы, когда вовсе не принадлежал себе, делал, что велят. И здесь, вдруг, проснулись в нем задавленные солдатчиной коренные крестьянские инстинкты труда и созидания. Приковыляв в должность и выполнив все, что в ней полагалось, он, не мешкая, возвращался домой, скидывал мундир и, наскоро поев, хватался за косу, топор или заступ. Ему доставляло новое и полное удовольствие устраивать свое хозяйство. Все было занятно и хоть порой не сразу, но неминуемо спорилось. Отставной тамбурмажор оказался, что называется, «великий человек на малые дела». Как раньше быстро выучивался он бить в барабан, считать амуницию своей команды или вязать чулки, а при постройке дома тесать бревна, ладить дверь или крыльцо, так теперь то брался за посадку смородины и яблонь в саду, то расширял теплый козлятник, то мазал глиной пазы на чердаке.
Но хотя все это шло хорошо и было нужно, однако уже в первый год своего сельского житья Яков особенно пристрастился плотничать. Конечно, немалую роль сыграло тут, что двигался он на деревянной ноге все же не как на своей, оставленной под Варшавой. Поначалу мастерил все самое простое, нужное для своего обихода: полки, лавки, лари, кормушки. А потом помаленьку взялся и за столярные поделки. Сделал стол, табуретки, шкафчик для посуды. Сперва выходило топорно, грубо, неуклюже, но глаз и охота делали каждую следующую вещь лучше и лучше. Появился кой-какой инструмент, на дворе в сарае пристроился верстачок, окруженный горками свежих пахучих стружек. А потом, на третий уж год, глядишь, и соседи стали просить сделать улей, лавку или сундучок. Да еще, окрасив для прочности и щегольства рамы, наличники, двери и полы в новом жилье, начал Яков и малевать свои поделки. Сначала в один тон, а потом завлекся, стал выводить по ним разводы — цветы, травы, птиц и зверей.
В новом доме, между двумя деятельными, согласными между собой людьми, росла Настя. Не мешая играть и бегать с соседними ребятами, Лизавета исподволь приучала ее к домашнему женскому делу. Девочка с каждым годом больше помогала ей в шитье, в ческе шерсти, в уборке по дому, в стряпне, в соленьях, в полке на огороде. Лизавета же выучила Настю читать и писать.
Рано осиротевшая Матвеевна в первой юности лет пять прожила в доме дяди, бездетного консисторского чиновника. Потом дядя помер, вскоре за ним померла и жена его, оставив Лизавете какие-то мелкие деньги, на которые и купила она коз, перебравшись в свой домишко в слободке. Эти годы, проведенные в грамотной и достаточной семье, навсегда остались для Лизаветы золотым сном.
И теперь она старалась воплотить в Настиной жизни все лучшее, о чем когда-то сама мечтала. А вершиной этого лучшего представлялось Лизавете чтение для отдыха занятных и «благородных» книжек, какие были у дяди, о каких он говорил с любовью, вспоминая свое учение в петербургской семинарии.
Поэтому вслед за букварем и лубочными сказками Матвеевна через дьячиху, а потом через самое мать-попадью, которой делала приношения натурой, ухитрялась постоянно доставать разные затрепанные и замасленные книги. В долгие зимние вечера, не жалея сальной свечи — запретной роскоши для других занятий, радостно слушала неустанная рукодельница Лизавета детский голосок, бойко выводивший слово за словом. Так раза по три прочли они стихи Ломоносова и Державина, кровавые и возвышенные трагедии Княжнина, басни Крылова, несколько растрепанных книг «Сына Отечества», какой-то учебник всеобщей географии, указатель съедобных грибов, баллады Жуковского, от которых с неделю обе плохо спали и боялись выходить в сени, и, наконец, надолго очаровавших их «Милославского» и «Рославлева».
Яков порой сомневался, нужно ли этакое занятие его дочери, но в пользу грамотности говорила неколебимая уверенность Матвеевны и то, что книжки идут из поповского дома, да еще, пожалуй, и ему самому занятно бывало послушать чтение. Видел он, что при этом Настя и в хозяйстве не отстает.
Прошло десять лет жизни в Высоком. Егор Герасимович давно был переведен в Старосольск, где в майорском чине состоял помощником начальника округов целого уезда, обзавелся каменным домом, чернобровой экономкой и умел, как говорили, без шуму наживать на казенных делах немалые деньги. Яков и Лизавета изменились мало. Он был все тот же исправный служака, хороший хозяин, красавец и молодец, которым любовалось все село, когда в праздник, навесив на мундир все кресты и медали, шел он в церковь или по начальству, мерно постукивая свежевычерненной и натертой воском деревяшкой. Только в своем магазине для письма стал он надевать на переносье очки да русые бакенбарды подернула заметная седина. Матвеевна осталась все такой же сухой и высокой, только на людях стала медлительнее в движениях, приобрела спокойное достоинство в лице и в походке да побольше говорила теперь — исполнилась сознанием, что нашла место в жизни, уверилась, что нужна двум людям, ставшим для нее всем. А Настя?.. Настя, которой подходило к восемнадцати годам, расцвела так, что и описать не берусь. Впрочем, я уже пытался это сделать, когда рассказывал про портрет девушки в голубом шугае у отворенного окна. Ведь это была она.
6
Шел 1843 год. Этой весной половодье снесло мост на большой реке в трех верстах от Высокого. А по нему постоянно ездила почта, двигались казенные обозы и ежегодно проходили в лагерь и обратно квартировавшие недалеко конница и артиллерия. Летом приезжало начальство из Старосольска осматривать повреждения, потом инженеры из Новгорода тоже смотрели, обмеряли, вертелись по реке в лодках, пробуя шестами дно, ездили в лес, копали песок. Положено было капитально перестроить мост, сильно подняв против прежнего его полотно, и с осени начать возку на берег камня и бревен.
Среди офицеров из города был Егор Герасимович, не заглядывавший в Высокое лет пять. В первый раз он тотчас же и укатил обратно со всей комиссией, а после осмотра инженеров приехал на несколько дней, и уже один. Остановившись у начальника округа, майор отправился с ним на дрожках к реке, потом к месту, где решили брать песок, и в лес, где валили деревья. К Якову он зашел в магазин, поговорил минут пять, похвастал своими удачами и милостиво, но неопределенно посулил побывать в гостях, коли выберет часок в один из ближних приездов.
Но уже через день, в воскресенье под вечер, Жаркий молодцевато взбежал на крепкое тесовое крылечко своего крестового брата. Обрадованный Яков поначалу чувствовал себя стесненно с важным гостем, но хитрый Егор Герасимович скоро сумел рассеять неловкость, начав самым простодушным тоном вспоминать прошлое — их общую рекрутскую молодость, походы, Бородино, Париж. Часа три просидели они под яблонями за давно заглохнувшим самоваром и опустевшим графинчиком, перебирая имена старых товарищей, им одним дорогие мелочи полковой жизни, подсказывая друг другу, посмеиваясь в усы или разом смолкая перед тенями ушедшего.
И когда гость простился и женщины снесли посуду и скатерть в дом, Яков долго сидел один, опершись локтями о чисто струганные доски садового столика, а потом на пороге сарайчика, где летом ночевал. И, попыхивая в полутьме трубкой, думал о Егоре, о себе, о столь различной судьбе человеческой, удивлялся и радовался нынешнему, за столько лет первому простому, живому и душевному разговору. Когда же наконец улегся на покрытую рядном гору стружек, то тотчас, со второго глубокого вздоха, ясно и радостно увидел то, о чем вспоминал нынче, — легкую в шаге целую ногу, георгиевское знамя, победно шелестящее над головой, резвые звуки любимого марша и нарядные улицы многолюдного чужестранного города.
А Лизавета Матвеевна долго ворочалась с боку на бок, без сна, в ту жаркую летнюю ночь. Она одна поняла, почему такой важный начальник, прославленный в народе сухим и жестоким, прикинулся вдруг простым и ласковым, почему засиделся и заговорился. Твердо знала, что гость этот придет, и еще не раз.
Утром этого дня она, входя в церковь к обедне с Настей, видела майора, стоявшего на паперти с другими офицерами, а потом, уже в середине службы, он оказался вдруг почти что рядом. Прислонясь к стене, впился в девушку жадным взглядом и не отрывался больше, не крестился даже… От огня свеч или от чего еще, но как уголья горели его глаза на смуглом лице, с белым шрамом по щеке и виску. Чистый разбойник… Волчище корноухий…
Глядя в недвижную темноту, Лизавета вспоминала все недоброе, что слышала про майора, высчитывала его года, и сердце ее замирало от тревоги за свое детище.
Только Настенька заснула в свое время и вполне спокойно. Правда, при сельском безлюдье Жаркий привлек и ее внимание. Прислуживая отцу и гостю, она хоть урывками, но с интересом слушала самоуверенную и живую речь майора, вспоминала рассказы о его храбрости, о том, как они побратались, и поглядывала на смуглое лицо с седеющими курчавыми волосами и сверкающими крепкими зубами. Но наутро забыла вчерашнего гостя.
А Егор Герасимович неотступно думал о ней. Лизавета была права — яркая красота девушки поразила и привлекла майора с первой минуты, как Настя промелькнула мимо него на паперти. А потом, войдя в церковь, он увидел ее совсем близко и приостановился. На слишком громкие и бесцеремонные шаги Настя оглянулась. Сверкнули на миг зелено-голубые глаза и тотчас скрылись под опустившимися темными ресницами. И Егор Герасимович, вместо того чтобы идти в первые ряды молящихся, шагнул только немного в сторону да встал там, откуда удобнее было смотреть на красавицу. Почти тотчас почувствовал что-то знакомое в поразивших его чертах — то было сходство с Яковом. Потом узнал стоявшую рядом Лизавету и, сообразив, кто перед ним, вспомнил босоногую девочку, которую видел когда-то столько раз. Уж на что был равнодушен к детям, а ведь и тогда, бывало, на нее засматривался… Но теперь-то какова выросла!
Всю обедню смотрел майор на Настю и не мог насмотреться. А после службы пошел к выходу через расступавшуюся толпу, опять встал на паперти, дождался выхода девушки и долго следил, как шла она через двор среди разряженных, праздничных богомольцев, стройная и легкая, в синем с золотым позументом сарафане, весело разговаривая и смеясь чему-то со степенной Лизаветой.
Поздно вечером, медленно шагая от Якова по заснувшей сельской улице, Егор Герасимович то улыбался, то хмурился. И не от воспоминаний, поднятых беседой со старым товарищем. Он думал только о своем настоящем и будущем. Думал, что дочка Подтягина так ему по сердцу и лицом, и станом, и ловкими ухватками, и звонким голосом, что он, пятидесятилетний холостяк, никогда до этого дня не думавший о законном браке, — на ней-то, пожалуй, и женится. Девки лучше не найти, да и годы, что говорить, пришли ему, майору, подходящие… Видел мало?.. Зато как присушило сразу! И больше ли невесту узнаешь да видишь, когда сваха сватает? А здесь семья знакомая, известная…
Направляясь на следующее утро в город, Егор Герасимович обдумывал, как лучше повести намеченную кампанию. Тут торопиться нечего — девка не убежит. А от небольшой отсрочки станет только слаще и желаннее. Да и не до сватовства будет в ближние месяцы. В эту осень майор решился заняться делом, требующим много времени, ловкости и расчета, а именно поставкой материалов на постройку моста близ Высокого. Но так как местным должностным лицам и офицерам действительной службы такие комиссии не разрешались, то совершать все надо было секретно, через доверенное лицо. И такое имелось наготове. Это был прожившийся купчик, уже не раз исполнявший разные майорские щекотливые поручения. А в течение того же времени, уже по прямой своей должности, Егору Герасимовичу предстояло для приемки работ не раз наезжать в Высокое. Тут-то между делом и можно будет повести нужный разговор с Яковом. Но опять же не спеша, потому что к законной-то женитьбе надо удалить от себя чернобровую экономку, притом полюбовно, без шуму и молвы. Наконец, была и еще задержка. Майор считал, что негоже ему, заслуженному штаб-офицеру, жениться на дочке какого-то отставного тамбурмажора. Нужно, чтобы Якова произвели в первый классный чин, сделали чиновником, «вашим благородием». Уже несколько лет имел он на это право по выслуге лет, прежним наградам, беспорочному поведению и должности смотрителя магазина. Да не напоминал сам. А «дитя не плачет, мать не разумеет». Так и с начальством. Надо, значит, только кому следует доложить да подтолкнуть. И майору сделать это очень легко и удобно. Подтягин за то будет ему благодарен по гроб жизни и еще охотнее дочку отдаст благодетелю. Впрочем, и без того кто же от чести да выгоды откажется?.. О Настиной воле Жаркий не подумал ни на миг. План был ясный и несомненный.
В первый доклад по приезде в Старосольск Егор Герасимович представил генералу, начальнику уезда, рапорт о производстве Якова, рекомендуя его как давнего боевого товарища и подчиненного, получил согласие и поторопил отправку нужных бумаг в Петербург.
Лето проходило в хлопотах по подряду и в устройстве домашнего дела. Экономка, которая считала положение свое прочным и надеялась со временем женить на себе Жаркого, заупрямилась, при каждом слове об отъезде подымала вопль, понося майора «кровопийцей», «девичьим загубителем» и грозясь прославить на весь город, жаловаться генералу и высшим чинам. Однако поняв, что рано или поздно все же расставаться придется, практическая дама согласилась отбыть к брату в Новгород, поставив условием, чтобы Егор Герасимович лично с ним сговорился и выплатил ей чистоганом две тысячи рублей «на новое обзаведение». А после долгого торга уступила только четверть объявленной суммы.
В августе Жаркий съездил в Новгород и уладил все дело, приплатив, правда, еще и гостеприимному братцу триста рублей за «семейное бесчестие».
Высчитывая и прикидывая, как бы на том же подряде оправдать новый расход, а для отдыха от этих мыслей вспоминая Настин взгляд, походку, стройный стан и грудной мягкий голос, Егор Герасимович возвращался в Старосольск. На предпоследней почтовой станции он догнал молодого инженерного поручика. Юноша уже сутки сидел здесь, тщетно ожидая лошадей. Обрадованный появлением майора, местного начальственного лица, он просил посодействовать его выезду.
Не имея обыкновения делать что-либо без расчета и выгоды, Егор Герасимович, ничего не обещая, заказал самовар и вступил с офицером в беседу. А сам, задавая вопросы новому знакомцу, опытным глазом расценивал его потертый, но обитый аглицкой кожей дорожный сундучок, погребец красного дерева и иностранную открытую книжку. Между тем поручик учтиво и охотно рассказал, что назначен младшим инженером на постройку моста близ села Высокого и что только весною окончил полный курс Института путей сообщения.
Увидя, что такая встреча может быть ему не без пользы, Егор Герасимович пригласил молодого человека ехать с ним до города и приказал закладывать. Для майора, который шутить не любил, лошади тотчас нашлись, и через полчаса они тронулись в путь.
Из дальнейшего разговора Жаркий узнал, что поручик — сын боевого, ныне уже умершего генерала, что старший брат его — гвардии ротмистр и служит в Варшаве при князе Паскевиче, а мать живет с замужней сестрой в Петербурге. Услышал и двойную, не то украинскую, не то польскую фамилию поручика — Вербо-Денисович, — с пояснением, что отец его был киевский помещик. И много еще другого, вплоть до того, что поручик, несмотря на свои двадцать один год, не пьет и не курит.
Среди этой молодой дружелюбной и простосердечной болтовни инженер вставлял и дельные замечания о мостах, канавах, о дороге, видных из экипажа постройках, расспрашивал о пахотных солдатах и исчезнувших военных поселениях.
Но, несмотря на юношескую доверчивость и разговорчивость, он твердо отказался от предложенного майором гостеприимства в городе и попросил только довезти до трактира, где можно найти комнату для суточного постоя.
«Что ж, — подумал Жаркий. — Пожалуй, оно и спокойней. А он и так уж мной одолжен. Авось пригодится на что…»
Однажды в начале сентября под вечер, когда Яков шел домой из своего магазина мимо окружной канцелярии, несколько писарей наперебой закричали ему из окошек, чтобы сейчас шел к капитану.
Яков вошел в комнату начальника округа и вытянулся у притолоки.
— Здорово, брат!.. То есть мое вам почтение… — отвечал капитан на его приветствие и, сделав короткую паузу, гаркнул улыбающимся в дверях писарям: — Ну, чего заснули? Стул, живо, их благородию!.. — и после этого сообщил ошеломленному Якову, что нынче с почтой получена бумага о производстве его в коллежские регистраторы за долголетнюю беспорочную службу.
Оправившись от изумления, Подтягин стал благодарить капитана, но тот отрицательно затряс головой:
— Нет, брат Яков Федорович, не на чем, я тут вовсе не причастен. А полагаю, что не иначе как Егор Герасимович к делу руку приложил…
Идя домой из канцелярии, Яков соображал, как нежданное производство отзовется на дальнейшей жизни. И первое пришло ему в голову — можно ли теперь будет чиновнику-то по-прежнему брать на заказ столярную работу?.. А следом заворочалась и вторая забота — придется ведь, поди, всю новую одежу строить, и денег немало и жаль как-то с солдатским мундиром расставаться. Ведь шутка ли — тридцать четыре года относил. Да и чин штатский, полупочтенный какой-то — регистратор…
«Будто и радости во мне нет, — усмехнулся он. — А что еще Лизавета скажет — чиновница-то новая…»
Под вечер следующего дня к избе Якова подходил молодой офицер. Поручик Вербо-Денисович жил с неделю в селе, встав на квартиру у одного из пахотных солдат, представившись по начальству и постепенно входя в курс службы и жизни. Теперь он шел к столяру заказать полку для книг, составлявших едва ли не половину его багажа.
Над воротами последнего к околице дома поручик прочел красную надпись, намалеванную на голубой дощечке: «Фелдвебеля Яков Потягина».
В ожидании коровы с поля калитка была приоткрыта, и Денисович увидел на чисто выметенном дворе ящик, полный опилками, и две обструганные тесины, прислоненные к сарайчику, подтвердившие, что он пришел куда следует. Где-то поблизости звучный мужской голос бойко выводил мотив Преображенского марша со старыми словами:
Поручик ступил через дощатый порожек, и в ту же секунду откуда-то слева и сверху упал клубок белой шерсти и прокатился перед его ногами, преградив путь тонкой натянутой ниткой. Он поднял голову. У выходившего на двор довольно высокого оконца с белым резным наличником стояла молодая девушка и растерянно, по-детски чуть приоткрыв от неожиданности рот, смотрела на него и на свой скатившийся с подоконника клубок. У груди она держала какое-то вязанье. Поручик с минуту смотрел на прелестное лицо, темно-русые волосы, ясные зелено-голубые глаза, ровные белые зубы. Нежные черты оттенялись накинутым на плечи голубым шугаем, отороченным рыжей лисой. За эту минуту взаимного созерцания девушка залилась яркой краской смущения и стала еще лучше.
Наконец Денисович опомнился — нагнулся, поднял клубок, отряхнул от пыли и, привстав на земляную завалинку, подал его хозяйке.
— Вам, верно, папеньку? — проговорила девушка. И по легкому, но стремительному движению стана поручик понял, что она готова скрыться и едва принудила себя выговорить этот вопрос.
— Да, мне бы полочку заказать, — ответил он и соскочил на землю.
При звуке голоса девушки напев марша оборвался, а после фразы поручика из отворенной дверцы сарая против дома высунулась сначала черная нога-деревяшка, а за нею показался высокий человек в холщовых штанах и нижней рубахе. В руках у него была стамеска и какая-то палочка.
— Виноват, ваше благородие, — сказал он, увидев офицера. — Сей момент мундир вздену, — и вновь нырнул в дверь.
— Да нет, зачем же, не трудитесь… — поспешно проговорил Денисович и подошел к сарайчику.
Ему очень хотелось обернуться, чтобы еще раз увидеть девушку, но он не решился на это и дождался, пока инвалид, уже в мундире, с затертой тесьмой сверхсрочных шевронов на рукаве, вылез на двор.
Выслушав заказ, Подтягин на миг задумался, разглаживая пышные седеющие бакенбарды, и потом вымолвил:
— Что же, можно… Отчего не сделать?..
А на вопрос о цене отвечал:
— Да дорого не возьмем, не извольте тревожиться.
— Нет, уж ты скажи теперь, пожалуйста, — настаивал поручик. — Я так не люблю.
— Копеек тридцать-то взять надо, ваше благородие, — сказал Яков и поторопился пояснить: — Доску возьмем чистую, сухую, опять же подпорки вырезать фигурные да повощить все как полагается… Дня через два аль три, в пятницу, что ли, и пожалуйте, готова будет…
Поручик согласился и повернул уходить. Тут он взглянул на окошко. Оно было пусто, но Денисовичу показалось, что в глубине комнаты мелькнуло что-то голубое и желтое.
Заказчик не пришел в пятницу. С начальником постройки инженер-капитаном ему пришлось проводить на реке целые дни вплоть до субботы. Но в воскресенье после обедни он собрался за своей полкой. Уже несколько дней от хозяина квартиры поручик знал занимавшую все село новость о производстве Якова. Даже подумал накануне, не лучше ли послать за заказом кого-нибудь, а то неловко как-то платить три гривенника чиновнику. Но воспоминание о девушке с клубком, постоянно к нему возвращавшееся, заставило пренебречь этим соображением, пристегнуть к сюртуку эполеты, тщательно причесаться и в бодром, но тревожном настроении двинуться в недальний путь.
Знакомая калитка оказалась запертой. Поручик брякнул железной щеколдой разок, подождал и опять брякнул. Послышался стук деревяшки на крыльце, быстрые ковыляющие шаги и голос инвалида, в такт шагу припевающего какую-то замысловатую дробь.
— Пожалуйте, ваше благородие, давно готова, — сказал он, пропуская во двор офицера. — Извольте подождать, сей момент вынесу. — И скрылся в сарайчике.
Из отворенного, как и в прошлый раз, окна, под которым стоял Денисович, раздавался чей-то басистый смех, звон посуды, а потом вдруг и несколько знакомый густой голос, сказавший: «А, Александр Дмитриевич! Здравствуйте, батенька!»
Поручик обернулся. На подоконник уперся грудью, облаченной в мундир, помощник начальника округа, седой штабс-капитан, который в первые дни приезда в Высокое отечески наставлял молодого инженера по части выбора квартиры и прочего устройства.
Поручик поклонился.
— А мы тут нового чиновника празднуем, — пояснил штабс-капитан свое присутствие.
— Пожалуйте-с, — сказал подошедший между тем Яков, держа в руке блестящую белую полку.
Заказчик нерешительно сжимал в кулаке приготовленные тридцать копеек.
— Поздравляю вас, — поспешно сказал он.
— Покорнейше благодарим, ваше благородие, — отвечал Яков. — Может, не побрезгуете, зайдете откушать?
— Что ж, конечно, идите, — поддержал бас из окна. — Тут, батенька, и компания хоть куда, да и пирог такой, и рыбина в полтора аршина, что в Питере вашем не стыдно камергерам подать…
Поручик заколебался было, но ему показалось неудобным отказываться; в то же время он сообразил, что увидит сейчас зеленоглазую девушку, и, слегка покраснев, согласился.
В чистой горнице у стола сидели гости: штабс-капитан, какой-то чиновник из соседнего села, давно знавший Якова, и батюшка. Перед ними стояли грибки, огурцы, моченые яблоки, пироги трех сортов, действительно огромная, но уже сильно оголившая ребра рыба и несколько графинов с разноцветными настойками и наливками. Хозяйка — пожилая женщина с длинным востроносым лицом — и девушка в синем шелковом с позументом сарафане, по которому вилась темно-русая коса, услуживали гостям не садясь.
Впрочем, и Якова усаживали почти насильно. При каждом обращенном к нему слове он порывался вскочить.
Разговор вертелся вокруг местных дел, искусных солений и печений хозяйки да новой экипировки Якова Федоровича. Все исправно и не спеша ели и пили, а поручик, кроме того, не упускал случая глянуть на девушку, стараясь, однако, делать это незаметно.
Гости ушли только в десятом часу, и Александр Дмитриевич должен был про водить до квартиры грузно налегавшего на него, совершенно умолкнувшего штабс-капитана и говорливого, но нетвердого на ногах чиновника. Один батюшка шествовал твердо и говорил хотя чрезмерно громко, но здраво.
И когда наконец поручик, исполнив долг дружбы, остался один, он не направился домой, а вышел за село, в поле, снял фуражку, расстегнул сюртук и, подставив прохладному ветру разгоревшееся лицо и грудь, долго стоял на краю далеко убегавшей пустой дороги. Он смотрел на звездное небо и слушал тишину, нарушаемую перекличкой каких-то далеких голосов и лаем собак на селе. Ему было хорошо так, как, кажется, никогда еще не бывало. Легко и немного как будто грустно.
Он послушал еще ночные звуки, счастливо улыбнулся и пошел домой.
За своей полкой он сходил через день, опять видел девушку, которую про себя называл с того вечера Настенькой, поклонился ей, и хотя заранее очень обдумывал слова для возможного разговора, но смутился, заспешил и ничего не сказал.
Наступила осень.
Поручик Денисович жил в Высоком, работал в чертежной, часто ходил на реку к постройке, где выкатывали на берег сплавленный лес, а с наступлением холодов должны были начать бить сваи для въездов на мост и по санному пути подвозить камень и песок.
По вечерам он писал письма матери, дяде и двум товарищам по институту, читал и рисовал. В то же время он приглядывался к жизни села, к своему начальнику инженер-капитану и двум сослуживцам-кондукторам. Капитан был типичный путеец своего времени — франт, циник и делец. Он искал в жизни только наживы и неутомимо обворовывал казну в полном единодушии с купчиком из Старосольска, подрядчиком по поставке материалов на постройку. Оба кондуктора, происходившие из петербургских ремесленных немцев, были ребята старательные, но недальнего ума, ни о чем, кроме своих чертежей, капитанского благоволения, будущего производства в офицеры да разве еще «посиделок», не думавшие. Поручик, которому все это пришлось не по душе, вне службы держался особняком, и капитана вполне устраивал такой подчиненный, исправный работник, не требовавший доли в барышах. Он относился к Александру Дмитриевичу благожелательно, слегка подтрунивал и называл «красной девицей».
Но самым значительным событием в жизни молодого инженера за эти месяцы все же была встреча с Настей. Никогда не забывал он, проходя мимо подтягинского дома, покоситься на окно или даже заглянуть в непритворенную калитку — не мелькнет ли там знакомый шугайчик. Никогда не опаздывал по воскресеньям к обедне, зная, что там увидит ее хоть издали. Несколько раз встречал Настю на улице, и эти дни были лучше прочих. Александр Дмитриевич кланялся ей, как барышне, снимая фуражку, и она отвечала: «Здравствуйте» — и тотчас потупляла глаза. Но все это длилось мгновенья, и ему было их мало. Хотелось опять пойти заказать что-нибудь Якову, чтобы подольше поглядеть на зеленые глаза, увидеть улыбку, услышать голос. Думалось, что можно бы и так просто зайти после того вечера, нежданно проведенного в гостях. Ведь звали тогда, наверное позовут еще. А там с ней поближе познакомиться, разговориться о чем-нибудь… Но что-то удерживало поручика, казалось неловко, претила хитрость приема. И все же слишком часто вспоминал он об этой девушке.
«Да что же это? Чего она меня так занимает? — спросил себя наконец Александр Дмитриевич. — Неужто влюбился с двух-трех встреч в какую-то простую, почти что крестьянскую девицу? Быть не может… Что я знаю о ней? Что хороша лицом, умеет вязать, не дерзка с родителями, ненавязчива… Так ведь, наверное, и знать нечего больше… Таких цветут по всей России тысячи. О чем я мог бы поговорить с ней?.. Просто целовать да тискать, как кондуктора своих девок на посиделках?.. Нет, уж лучше пусть все так останется, пока не уеду отсюда. Будет хоть ничем не испорченное воспоминание о ее красоте. Засиделся. Надо рассеиваться…»
И в ноябре он несколько раз ходил вечерами к капитану — начальнику округа, жившему с женой и детьми. Но среди собиравшегося там «высшего круга» говорили исключительно о выгодах службы, о неизвестных ему городских чиновниках, много играли в карты «по маленькой», пили, ели, и было очень скучно. Тогда поручик налег на чтение, стал рисовать акварелью вид, открывавшийся из окна, учил со словарем английский язык, написал в Петербург, чтобы выслали еще книг. Работы на постройке становилось больше, вечера бежали, наступила зима. Раза два проспал он обедню и прорисовал все светлые часы воскресенья и все чаще думал, что летом поедет в отпуск к брату в Варшаву, и там устроят ему перевод куда-нибудь на большую постройку, где будут иные люди и иная жизнь.
Еще ранней осенью Егор Герасимович дважды заезжал в Высокое. В первый раз — один вечер, во второй — два провел он у Якова, как и летом выказывая себя добродушным старым сотоварищем, красноречивым рассказчиком, нечванливым гостем. И при этом почти не кривил душой — как-то само собой все выходило просто. Настя сидела тут же за работой, слушала разговор отца с майором, и он впервые во всю жизнь почувствовал, как от присутствия этого скромного существа что-то смягчающее и радостное поднимается у него на душе, делая речь глаже и занимательнее, смех мягче, движения ловчее. Ничего не сказал он Якову о своих планах и только, когда тот поблагодарил за производство, вскользь многозначительно промолвил, что придет, мол, вскорости время, когда и он кой о чем попросит. Да еще когда стал в третий вечер прощаться и Яков накинул ему на плечи шинель, то, обернувшись к Насте, майор сказал:
— Ну а тебе-то, красавица, скучны, поди, показались наши стародавние россказни?
— Нет, — отвечала она тотчас. — Я слушать люблю, не заметила, как и вечер пробежал. Спасибо вам… — Она улыбнулась, плутовски глянув на довольного Якова. — И тятеньке ваш приезд в праздник.
Несколько дней грело майора тепло этих приветливых слов, унесенное из избы Подтягина, только и думал, как бы скорее вновь побывать в Высоком да поговорить уже о сватовстве. Новое чувство всколыхнуло его, все силы порывистой, страстной души пришли в движение. Видеть, слушать, любоваться Настей, ощущать, что приближается время обладания ею, казалось ему единственно важным.
Но дела одно другого серьезней задерживали Жаркого в городе неделю за неделей. Сначала не урезонить было экономку уехать к брату, опять уперлась чертова баба, грозилась разнести по городу все ставшее ей известным, по близости к майору, о подрядах, о том да о сем. Пришлось снова торговаться, дать полтысячи лишку и, наконец, выпроводить окончательно. Только отошел от злобы, собрался ехать повидать Настю, а может, и посвататься сразу же по всей форме, да и на постройку взглянуть — не обмазуривает ли его все это время предоставленный себе купчик, — как начальника уезда разбил паралич. Пришлось по должности старшего помощника взяться за управление делами всех округов и опять отложить поездку. Единственно утешался, когда обдумывал, какие сделает жениховские подарки. Но потом явились новые мысли, новые планы. Жадность и гордыня обуяли Егора Герасимовича. Стал думать, как бы хорошо подольше остаться в этаком служебном качестве. Кроме почета, немало и выгод от управления десятью-то округами. Там постройки идут, там дороги проводят, там заливные луга с торгов сдают — от всего ему процент, в один год сумма кругленькая очистится… Конечно, начальником не назначат, место это генеральское, но пока старик жив еще, числится больным, в отставку не подает, майор, как старший после него, будет законно всем делом заправлять и уж всласть покомандует теми господчиками, что нос перед ним задирали, «мужиком в эполетах» величали, к себе не приглашали, над манерами посмеивались…
Без труда объяснил Жаркий рассудительной супруге своего начальника, как выгодно не торопиться с отставкой. Ведь что такое пенсия? Здесь же и жалованье полное, и квартира, и прочее. А сам со всем знанием служебных пружин вникал в дела, побывал в Новгороде у начальства; умело действуя языком и кошельком, заручился сочувствием и поддержкой разных нужных лиц. Потом объездил те округа, где ранее мало бывал, круто подтянул двух начальников из «столбовых» и мог уже прикидывать, как изобразить свое управление в отчете за этот год да и то, сколько доходу можно полагать для себя в будущем. А отсюда — какой еще более обширный и богатый дом себе заведет, и в нем мысленно видел уже Настю, окруженную всяким добром, разряженную, еще более красивую…
«Небось хоть и воротите от меня рыло-то, — злорадно думал Егор Герасимович, — а рады бы теперь многие девицу благородную, развоспитанную за меня отдать… Ан нет, женюсь вот на своей, на простой, на недавней солдатской дочке, за все мне благодарной да покорной. И будете у нее ручки чмокать, когда без малого генеральшей вашей станет… Небось немало найдется охотников на закуску да выпивку, коли звать стану… Шаромыжники благородные…»
Таковы были скрытые мечты, а дело шло своим чередом. Майор успешно и твердо вел свою выгодную и, казалось, верную игру.
В городке это скоро почувствовали. Еще ниже стали кланяться Жаркому чиновники и купцы, любезнее и слаще улыбаться дамы. Многие заговорили о том, что, мол, кто его знает, генерал-то и несколько лет пролежит до следующего удара, а между тем майор, который уже выслужил подполковника, схватит и полковничий чин да как раз и останется в генеральской-то должности. С начальством он в ладу, кого следует и в Петербурге подмажет.
В ноябре Егор Герасимович ходил уже совсем гоголем.
Как вдруг в середине месяца скоропостижно скончался параличный генерал. Помедлив три дня, Жаркий должен был послать о том рапорт по команде. Однако еще надеялся, что, может, не сразу придет конец его царству и он успеет пожать кой-какие плоды. Но через две недели, без предупреждения, приехал новый назначенный из Петербурга начальник, с женой, адъютантом и чиновником вроде секретаря. Был это не старый еще генерал-майор из остзейских баронов, служивший до того в гвардии и теперь через хорошее столичное знакомство легко схлопотавший себе тепленькое и спокойное место. Он принял Егора Герасимовича ласково, просил руководствовать собою как новичком, наговорил много лестного и приступил к делу с помощью жены, адъютанта и чиновника.
А Егор Герасимович сказался больным, залег дома и с досады три дня курил трубку, пил водку стаканами не хмелея, валялся без сна на сбитой постели, плевал с остервенением на пол и крепко ругался. На четвертый он выпил подряд чуть не четверть, проспал часов двадцать, потом окатился холодной водой, выбрился, опохмелился, приказал денщикам и стряпухе прибрать начисто дом и около полудня выехал в Высокое на лихой ямской тройке.
Проезжая городом, майор не глядел по сторонам. Ему казалось, что встречные смеются над его неудавшимся расчетом, радуются, что кончилось его кратковременное главенство над всем уездом.
И, выехав за заставу, он проворчал в поднятый воротник:
— Ан врешь… Не барчонок муаровый, не раскисну…
Осунувшееся от пьянства волчье лицо его оскалилось в жесткую и мрачную усмешку.
Дорога была легка, лошади прытки, и через час Егор Герасимович почувствовал себя настолько лучше от свежего воздуха и мыслей о Насте, что даже затянул что-то вполголоса.
— К погорельцам изволишь ехать, ваше высокоблагородие? — спросил, отважившись на разговор, ямщик.
— К каким погорельцам? — удивился майор.
— А в Высокое-то?..
— Что ты врешь, когда же оно сгорело?
— Да в тую среду, неделя вчерась была, — невозмутимо подтвердил ямщик.
7
Шестого декабря, в престольный праздник, в Высоком много лишнего было выпито, и после полуночи, когда все крепко спали, в избе одного из многочисленных Николаев вспыхнул пожар.
Загорелось изб за десять от той, где жил поручик Денисович. Проснулся он от пронзительного бабьего крика на улице и, открыв глаза, увидел розовый квадрат окна с переливчатыми морозными узорами. Свет, вздрагивая, делался все сильнее, а голоса на улице громче и многочисленнее. Разбудив хозяев, одевшись и выйдя на улицу, Александр Дмитриевич увидел, что горят уже два дома. Один был весь в пламени, кругом метались люди, на дороге напротив складывали какие-то пожитки. В воздух взлетали снопы искр и целые головешки. На соседнем, ближе к поручику, доме только что занялась соломенная кровля. Слышались нестройные крики сбегавшегося народа, мычание коров и визг поросенка. Ударили в набат на колокольне.
Александр Дмитриевич поспешно вернулся к себе, кое-как запихал в сундучок мундирное платье, несколько любимых книг, портфель с бумагами, краски. И, как был в старом сюртуке поверх ночной рубахи, снова бросился на улицу.
С полчаса рубил он какие-то балки топором, поливал их, орудовал багром. Но потом, увидев, что проснувшееся начальство деятельно руководит тушением, отчего порядку не прибавилось, а ведер для подачи воды явно не хватает, он принялся носить из загоравшихся изб какие-то армяки, иконы, корыта, лавки, узлы, помогал выкатывать со дворов телеги, таскать сохи, выводил дыбящихся коней. Все делалось быстро, на все хватало сил. Рядом непрерывно метались проворные, дюжие, закоптелые люди, в любую минуту готовые помочь друг другу. И поручику, в прожженных до дыр сапогах и сюртуке, с опаленными бровями и бачками, было радостно тащить тяжелые вещи вместе с бородатыми, сосредоточенными мужиками, очевидно верившими в эти минуты, что он так же прост, силен и хочет помогать в общем деле, как они сами.
А пожар все приближался к его жилью. Ветер крутил и разбрасывал искры. Было светло и жарко. Набат гудел. Приостановясь и вытирая рукавом вспотевший лоб, Александр Дмитриевич подумал, что пора, пожалуй, и о своем добре позаботиться. Но в эту минуту откуда-то метнулась и повалилась перед ним на колени полуодетая старуха в сбившемся темном повойнике.
— Батюшка барин! — заголосила она, хватая его за полу. — Спаси Христа ради коровенку, нашу с детями кормилицу. Горит она, батюшка, живая скотина горит!..
Поручик узнал бабку, жившую в третьей от него избе с сыном-вдовцом и тремя внуками. Вспомнил и корову, черно-бурую, с обломанными рогами. И, не расспрашивая больше, побежал на старухин двор.
Изба горела вовсю, и пламя стлалось по навесу хлева. Двое солдат разбивали топором ворота, по которым огонь грозил переброситься на соседнюю усадьбу.
В хлеву коровы не было, верно старая проглядела, как ее вывели. Александр Дмитриевич устремился назад. Верхний брус ворот, покрытый в скат двумя тесинами, уже дымился, но его поддели снизу баграми, толкали оглоблей, и он вот-вот готов был отделиться от стоек.
— Проскочу ли? — приостановился поручик.
Но сзади рухнули обгорелые венцы избы, груды угольев, как вытряхнутые из совка, покатились ему под ноги, обдавая палящим жаром. Не раздумывая больше, он бросился вперед. И вдруг услышал бабий визг, почувствовал сильный толчок в спину, а через мгновение удар по ноге выше пятки. Он повалился в растаявшую, размякшую землю и, почти коснувшись ее, встретил лбом что-то острое…
Когда Денисович пришел в себя, боль в ноге и голове была очень сильна и отдавалась толчками. А сам он как-то странно покачивался вперед и назад, чувствуя притом резкий холод от мокрой рубашки, стывшей на расстегнутой груди. Фуражки не было, голову также прохватывал холод. Под щекой шерстил пахучий мех. Он понял, что его несут на растянутом тулупе.
Над ним было окрашенное заревом небо, откуда-то сзади доносились нестройные крики.
«Куда же это?»— подумал Александр Дмитриевич и, пересиливая боль, собрался подать голос.
Но вдруг один из несших споткнулся, дернул тулуп, выругался и, должно быть подлаживаясь к шагу, толкнул бедром больную ногу поручика. Тот застонал громко и жалобно.
— Легше, черти, — сказал кто-то сердито.
— Вишь, как склизко-то, — виновато отозвался толкнувший.
— Очнулся, кажись, слава тебе господи! — произнес третий и продолжал после короткой паузы: — Терпите, ваше благородие, сейчас фершала приведут… Зашиблись-то, должно, крепко, об укладку окованную головкой хватились…
— Да, больно, — отвечал поручик, помимо воли дрожащим голосом и стуча зубами. И вдруг различил ковыляющую походку шедшего рядом только что говорившего человека, услышал мерный стук деревяшки.
«Неужто к нему… К ней в дом меня несут…»— подумал он, и радость на мгновенье заставила почти забыть о боли. — «Может, и мои хозяева погорели уже, тогда проведу у них несколько дней…»— соображал он. — «А вещи?..»
— Послушайте, — с усилием обратился он к Якову. — Там в избе сундучок мой, книги, шинель, нельзя ли вытащить…
— А вы, значит, все о чужом, а свое и забыли? — ласково сказал инвалид и добавил несшим: — Ступайте, ребята, сдайте их благородие хозяйкам моим, а я побегу на ихнюю квартеру…
— Судьба… — прошептал Александр Дмитриевич, кривя лицо и кряхтя от все возраставшей боли в ноге. Она наливалась тяжестью и нестерпимо ныла.
Когда протаскивали его сквозь сени у Подтягина, он мельком увидел в пляшущем свете лучины взволнованные лица Насти и Лизаветы.
Его принесли в чистую горницу. Тут, суетливо топоча и советуясь, выдвинули на середину две лавки, составили, накрыли пуховиком и наконец положили поручика.
Оставшись один, он решил было лечь поудобнее. Но лишь двинулся, как от прикосновения пяткой к твердому краю лавки острая боль заставила застонать, зажмуриться и сжать зубы… А когда он открыл глаза, то увидел, что Настя стоит подле, держа лучину, и с выражением испуга и сострадания смотрит ему в лицо.
«А ведь у меня лоб-то разбит, — подумал он. — И весь я в крови и грязи…»
— Очень больно вам? — спросила Настя, и поручик увидел, как дрогнули ее губы и глаза блеснули навернувшимися слезами.
— Нет… ничего… — отвечал он, силясь придать голосу твердость. И вдруг почти неожиданно для себя добавил: — Дайте руку!..
Она тотчас, но слегка прикоснулась к его пальцам своими. Другой рукой он прикрыл ее кисть и приблизил к груди.
Настя неловко повернула нагоревшую лучину, и та погасла. Только красный глазок колебался в темноте.
— Пустите, — сказала девушка шепотом и потянула чуть-чуть руку. Он дал выскользнуть дрогнувшим пальцам, она шагнула от лавки. И почти тотчас вошла Лизавета со свечой и глиняной чашкой.
— Очень мается? — спросила она вполголоса Настю, но тут же заметила, что Александр Дмитриевич, сжав на груди опустевшие ладони, смотрит на них, и проговорила: — А вот мы маленько до фершала лобик-то вам обмоем… Настя, держи свечу ровней, не капни…
Приятно было осторожное прикосновение к коже тряпочки, смоченной в воде с чем-то пахучим, но еще лучше стало, когда Лизавета подкладывала ему подушку, а Настя одной рукой поддерживала затылок… Если бы не так больно было ноге!..
Вскоре пришел фельдшер. От него несло дымом и водкой, но действовал он быстро и ловко. Распорол штанину, сапог, срезал чулок, осмотрел ногу и заявил, что переломлена одна из костей, а кроме того, сильно обожжена кожа. Спросил у Лизаветы конопляного масла, тряпок и послал пришедшего с ним паренька куда-то за лубком. А пока занялся головой. Обстриг ножницами волосы около небольшой, просеченной вверху лба раны, еще обмыл, присыпал каким-то порошком и завязал тонким полотенцем. А через двадцать минут уложил неподвижно и ногу, прибинтовав ее накрепко к принесенному лубку. Выпил поднесенный хозяйкой стаканчик, крякнул, пожелал счастливого поправления и ушел.
Во всех лечебных процедурах помогала Лизавета. Насти не было видно и слышно. Но Александр Дмитриевич, зная с совершенной несомненностью, что она где-то близко и прислушивается, сжимал челюсти до боли в скулах, чтобы не застонать. Пот лил по лицу его градом.
Лизавета убрала все после перевязок, засветила в углу лампадку синего стекла и вышла.
Горница, где лежал поручик, была та самая, где три месяца назад праздновали производство Якова. И он, несмотря на боль, вспомнил теперь об этом.
«Какие странные штуки бывают… Думал ли я тогда, что здесь буду лежать?.. А какие у нее пальцы, от них сразу сделалось легче… Вот бы сейчас опять… О, нога проклятая!.. Добрая, милая девушка…»
Брякнула за окном калитка, простучала, приближаясь, деревяшка, осторожно приоткрылась дверь, и хозяин вошел в комнату. Стараясь меньше шуметь, приблизился он к поручику и вгляделся, не спит ли. Пахнуло гарью, от одежды, должно быть.
— Ну вот, ваше благородие, — сказал Яков. — Сундучок ваш вытащен и к надежным людям поставлен. Также и другое кой-какое имущество, хоть и не все. Поздно сказать изволили, а мне самому невдомек… Изба-то, как я добежал, уже занявши была… Так что завтрея я вещи ваши и доставлю куда прикажете. Может, к кому из господ офицеров, куда перебраться пожелаете, где удобства больше. Я-то ведь, простите, вас к себе прямо несть решился потому только, как двор мой самый крайний, от огня далее других…
Как только он замолк, Александр Дмитриевич поспешно ответил:
— Нет уж, пожалуйста, коли я вам не так мешаю, то никуда меня не носите, хоть первые-то дни… — И добавил, запнувшись от сознания, что хитрит: — Боюсь, чтобы ногу больше не растревожили, как понесут… Фельдшер говорил — нужна неподвижность полная.
— Как захотите, так и делать станем, — отозвался Яков Федорович. — А покудова извольте уснуть постараться, а я еще на пожар сбегану… Хоть магазея-то моя и каменного строения и в стороне, а все погляжу за ей до конца, так спокойнее будет.
— Ну, а как там? — через силу спросил поручик.
— Стихает, — отозвался успокоительно Яков. — И хватит уж, ваше благородие, — домов двадцати пяти недочет… Шутка ли зимой-то?..
И он вышел.
Близко где-то звонко кричал сверчок, за перегородкой тихо-тихо переговаривались Лизавета с Настей, издалека с пожара иногда доносились неясные голоса, а Александр Дмитриевич лежал, покряхтывая от боли, смотрел на вздрагивающий за синим стеклом огонек лампадки, на окно, за которым постепенно пропадал розовый отблеск, и думал о том, что произошло в последние часы, и о том, что же будет дальше.
Несмотря на сильную, ни на миг не прекращающуюся боль, он непрерывно прислушивался к тому, что делалось в доме, слышал два раза, как кто-то, легко ступая босыми ногами, подходил к двери его горенки и останавливался, видимо прислушиваясь.
«Настя?» — думал он. И хотелось громче застонать, заставить ее войти.
Но он удерживался, шаги удалялись. Тогда он говорил себе: «Нет, верно, это та, старая…»
И начинал думать, что завтра, несомненно, ее увидит, что ведь она устраивала ту постель, на которой он лежит, что, может статься, на этой самой подушке покоилась всего часа два назад ее голова… Вспоминал ласковый, сочувственный взгляд, блеск влажных зубов за приоткрывшимися губами…
Потом незаметно задремал, часто вздрагивая от боли.
Навещать больного приходили инженер-капитан, пахотные офицеры и оба кондуктора. Все лестно отзывались о его смелости, и все, хоть и по-разному, порицали чрезмерную горячность. Раз в три дня появлялся фельдшер и делал перевязку ожогов, каждый раз слегка тревожа перелом. Так что после его ухода Александр Дмитриевич усиленно ерзал головой по подушке и утешал себя тем, что теперь предстоят три дня покоя и что с каждым разом будет все легче.
Самыми частыми посетителями поручика были Лизавета и Яков. Она заходила раз десять на дню, приносила еду, питье, оправляла постель — словом, заботливо ухаживала. А он появлялся обычно в сумерках, начиная с вопросов: покойно ли нонче спалось, не надо ли помочь повернуться и т. п.; дождавшись приглашения, присаживался на стул у печки и опять же после просьбы рассказывал что-нибудь из «бывалошного», то есть войн, походов, пребывания за границей. Александру Дмитриевичу очень нравились толковые, часто забавные и занимательные повествования добродушного и неглупого инвалида. Главное же, ведь он был отцом Насти!
А Яков охотно сиживал часок-другой у своего нежданного постояльца, который пришелся ему по душе молодецким поведением на пожаре, а теперь утверждал хорошее о себе мнение уважительным разговором, терпением в боли и тем, что был всем доволен. Он охотно оказывал поручику разные мелкие услуги, достал из сундучка и принес больному многие его книги, альбом для рисования, сладил заранее прочный костыль к тем дням, когда начнет вставать.
Но в то же время Яков частенько думал, что напрасно он тогда, в ночь пожара, велел нести к себе этого офицера. Не очень ладно, когда в доме дочка-невеста, держать молодого жильца… Не стали бы чего люди болтать? Ну да подправится маленько, так и съедет… А Насти-то он вовсе не видит… Обойдется…
Действительно, с той первой ночи девушка ни разу не входила к Александру Дмитриевичу. Незачем было.
А он думал о ней почти постоянно. И не только когда бывал один, но, даже когда говорил с кем-нибудь из посетителей, безошибочно ловил ухом ее легкие шаги за стеной, смех, голос, пение. В избе, хоть и пятистенке, все насквозь ведь слышно. А когда она уходила из дому, окружающее как-то тускнело и нога начинала сильнее ныть.
Поручик постоянно ждал, что как-нибудь она все-таки войдет хоть на минутку, покажется ему, скажет опять ласковое слово. Но дни проходили, и он говорил себе, что, конечно, так должно быть, — не полагается девушке прислуживать чужому, хоть и больному, мужчине. Или принимался упрекать себя за то смелое пожатие руки, которое, наверное, ее испугало, оттолкнуло от него. Но в то же время ни за что бы не отказался от воспоминания о ее милом лице, в то мгновение полном сострадания, о ее руке, такой доверчивой, ласковой и облегчающей. И он неустанно придумывал предлог, чтобы увидеть ее, но все приходившее на ум казалось натянутым, глупым. Он завидовал ловким героям читанных романов и опять принимался думать о том же. Наконец нашелся.
Сам же Яков однажды обмолвился, что Настя грамотейка, любит читать, постоянно норовит доставать книги, которые и они с женой не прочь послушать. На следующее утро Александр Дмитриевич попросил Лизавету подать ему на постель все книги, что принес ему Яков, и выбрал из них «Милославского», «Героя нашего времени» и «Муллу-Нура». После этого спросил горячей воды, свое зеркальце и, кое-как приподнявшись, выбрился в первый раз после пожара. Наконец получше повязал полотенце на манер чалмы, чтобы не видно было выстриженной проплешины, и стал ждать.
Через час легкие шаги раздались в соседней горенке. Ну, дай бог храбрости!..
— Настасья Яковлевна! — сказал он не своим, каким-то сдавленным голосом.
— Что вам? — не тотчас отозвалась она.
— Пожалуйте сюда, я хочу вам книги хорошие предложить…
Через миг она вошла. В домашнем сереньком сарафане, обшитом желтой тесьмой, с вопросительным, серьезным взглядом она показалась Александру Дмитриевичу еще лучше. Или оттого, может, что давно не видел.
Подойдя, взяла протянутые книги, сказала: «Спасибо» — и тотчас повернулась уходить.
«Неужто все? — подумал он растерянно. — Даже и не улыбнулась…»
— Да вы посмотрите, может, читали раньше, — поспешно сказал он.
Но Настя уже вышла. Поручик откинулся на подушку.
— Вот и кончилось… — прошептал он и стал слушать, как она задержалась за переборкой, должно быть у окошка, вот перелистывает страницы, вот как будто вздохнула или, может, дух перевела… Шагнула!
Настя стояла в дверях.
— «Юрия Милославского» мы и вправду читали уже, — промолвила она. Подошла, положила книгу на табурет у его изголовья. Остановилась и спросила: — А вам получше теперь? Фельдшер говорит, что скоро уж… — И вдруг, встретив его взгляд, оборвала речь, потупилась, вспыхнула и поспешно вышла.
А вечером поручик услышал Настин голос, читавший вслух где-то за двумя переборками, верно у русской печки. Слов разобрать было невозможно, но он вслушивался в интонации, в короткие паузы, когда перевертывала страницу, и иногда перебивавшую чтение разговорную речь, в которой чередовались три голоса.
Задув свечу, Александр Дмитриевич лежал на спине, смотрел на мирный огонек лампады, улыбался и думал: «Вот она сейчас держит мою книгу… И я слышу ее голос… Но только зачем я дал сразу две… Она скорее пришла бы за новой…»
На другой день, задремав после обеда, поручик проснулся оттого, что кто-то с колокольцем подъехал к воротам. На дворе послышались голоса. Вот они уже в доме. Что-то сказала Лизавета.
— Пусть никуда не отъезжает, — отвечал громкий хрипловатый бас.
Уверенные, твердые шаги уже в соседней горенке, за ними следом стучит деревяшка хозяина.
— Вот сюда, на лавочку пожалуйте, ваше высокоблагородие, — пригласил он.
«Из начальства кто-то», — соображал поручик.
— Ладно, наше дело солдатское, везде хорошо, — ответил гость, и голос его показался Александру Дмитриевичу знакомым. — Да чего ты меня величаешь? — продолжал приезжий. — Сам ведь теперь благородие. — Он звучно хлопнул Якова по колену или по плечу. — Ну, так как же дельце-то мое? Нравится тебе или нет?
— Больно скоро ответа хотите, ваше высокоблагородие, — отвечал инвалид. — И пяти минут, почитай, нету, как сказали-то… А не шутки, путем обдумать надо, с женой поговорить…
— Ну а ты-то сам как? — настаивал гость.
— Я-то премного за честь благодарен. Мне, как отцу, куда как лестно… Но только не одному такое дело решать. Надо саму Настю спросить, я ее неволить не стану, а ее сейчас и дома нет.
«Господи, да ведь это сватают ее, — сообразил поручик. — Что же это, где я слышал его?»— Он порывисто сел, дернул неосторожно ногу, сморщился, но не охнул и замер, прислушиваясь.
— Вот как ты рассуждаешь? — сказал хрипловатый голос с насмешливой интонацией. — Я-то полагал, что в доме своем ты голова, а выходит, бабы у тебя своей волей живут да тобой еще командуют… — Он засмеялся резко и неприятно.
И при этих лающих звуках поручик мгновенно вспомнил майора, с которым ехал летом две станции, и все то, что услышал позже об этом офицере, уже работая на постройке.
«Так вот кто Настю сватает! — чуть не закричал он. — Старик безрукий, с изуродованным лицом, грубиян, казнокрад!..»
— Ну мною-то они, Егор Герасимович, еще не командовали, — возразил между тем за стеной спокойный голос Якова. — А коль до сей поры худого не делывали, то мне и лишать их своей воли не за что… Вот коль проштрафятся — тогда дело иное…
— Не так небось ты с барабанщиками своими разделывался? — опять насмешливо сказал майор.
— Нет, и с теми иначе не было, — так же твердо отозвался Настин отец. — А за восемнадцать лет ни разу не подвели.
— Ну эти-то, гляди, подведут… — Снова короткий смешок. — Да, впрочем, дело твое. Мне ты только скажи, когда ответа от королевны твоей дожидаться?
— Что ж, полагаю, что к завтрашнему утру я вам ответ доставлю. Верно, у их благородия — начальника округа заночуете?
— У него… Там и буду тебя ждать. А не придешь, сам в твою магазею, как нынче, наведаюсь — жениховское дело не гордое.
Стукнула отодвинутая скамейка, раздались удаляющиеся шаги, заглушая чьи-то слова, хлопнула дверь, заскрипел снег под окнами, дрогнул и залился колокольчик.
И вскоре уже опять в доме раздался голос Якова.
— Лизаветушка, подь-ка сюды… — и вслед за тем негромкий разговор.
А поручик беспокойно вертелся на сбитой постели, повторяя вполголоса растерянно и взволнованно:
— Ах ты господи!.. Вот история-то!
В этот вечер никто долго не заглядывал к Александру Дмитриевичу. Уже совсем стемнело, когда Лизавета принесла свечу и осведомилась, не надо ли чего. Он только поспел ответить, что спасибо, у него все есть, как стукнула калитка, потом дверь — пришла домой Настя. Лизавета вышла. При ней поручик взялся было за книгу, но потом тотчас отложил ее и замер, прислушиваясь. Чего он ждал? Резких голосов? Плача Насти?.. Нет, пожалуй. Но ему так хотелось знать, что же произойдет, не должен ли он вмешаться… Если ее будут принуждать к этому замужеству, то не прямой ли его долг заговорить с Яковом, растолковать ему, как он заблуждается, напомнить, что майор в три раза старше его дочери, что он жестокий и грубый человек, что нельзя губить ее молодость, душу, красоту… И ведь Яков разумный человек, он при настоящем объяснении не может не понять этого… Но если вдруг, а это тоже, пожалуй, вполне возможно, Яков, выслушавши его, спросит: «Ну, а вашему благородию до этого какое же дело? Тут ведь наше семейное происшествие. Нам на дальнюю дистанцию надо жизнь свою рассчитывать, девушку за верного человека пристраивать. А другого такого жениха поищи-кась. Молодость-то, на что она в муже? А насчет грубости, так где же другие? Или вы, например, господин поручик? Нынче — здесь, завтра — там, и кроме вздохов да взглядов, да еще, может, рукопожатий, коли не похуже чего, тайком от родителей, — что от вас ожидать? Этакие-то, вроде вас, генеральские сыновья, столбовые дворяне, благородные, на простых девках не женятся…» — «Нет, почему же?» — отвечает он тогда. Но тут же останавливается и замолкает. А вправду, что же сказать? Ведь ни разу еще за свои двадцать один год не думал он не то что практически, а даже и сколько-нибудь серьезно о женитьбе. Она представлялась ему где-то далеко-далеко, почти как старость или как чин генерала. Но теперь, сегодня… да нет, не сегодня только… все стало иным. В первый раз в жизни так взволновало и потянуло к себе женское существо, прекрасное, доброе, разумное. И вот кто-то возьмет эту девушку навсегда, да еще как-то нехорошо возьмет, старый, чужой, грубый… Да, так, наверно, и будет… А если другой такой Насти за всю жизнь не встретишь? Станешь из года в год локти грызть и проклинать, что упустил свое великое счастье?.. Ну, а что скажут ему те, с чьим мнением должно считаться? Брат, сестра с мужем и мать. Главное, мать… Смогут ли они понять его? Навряд ли… Все будут говорить, что это мезальянс, юношеская блажь, что портит карьеру… Но что они знают? Разве они ее видели?.. Ведь мать-то, по крайней мере, должна понять, сколько счастья может дать ему эта девушка. И он будет просить ее, объяснит, умолит согласиться… Ведь любила же она сама когда-то? Должна была любить. Пусть же вспомнит…
8
Отец поручика был небогатый армейский офицер, сделавший хорошую служебную карьеру. За десять лет, с 1805 по 1815 год, он дважды воевал с французами, а в промежутке со шведами и турками. Был храбр, рвался, где только мог, в огонь и, шесть раз раненный, не потерял ни рук, ни ног. А за большой убылью менее счастливых товарищей, в те же десять лет прошел немалый путь от прапорщика до генерал-майора и был увешан заслуженными орденами.
Еще капитаном, в одну из кратких мирных стоянок, женился он на девушке пятью годами старше себя, довольно некрасивой и слабого здоровья. Но она доводилась корпусному командиру племянницей, имела кое-какие связи да собственное небольшое имение. Впрочем, в этом случае капитан был чужд расчета. И почин и напор исходили не от него, а от житейски искушенной девицы, отчаявшейся найти жениха более завидного. К тому же офицер был статен, ловок, красив, почитал в ней многие достоинства ума, светских талантов и обещал сделаться мужем легким и послушным. Надо сказать еще, что барышня эта, бывшая последней в некоем шляхетском польско-украинском роде, сильно чванилась своей будто бы высококровной родословной, сумела внушить те же понятия счастливому избраннику и непременным условием соединения поставила, чтобы он просил высочайшего разрешения присоединить к своей фамилии ее родовитое имя. Так из скромного Вербо родилось звучное именование Вербо-Денисовичей.
С войны 1812–1814 годов Вербо-Денисович возвратился бригадным генералом, вскоре же получил и дивизию, с которой исправно кочевал по квартирам в среднерусских губерниях. А генеральша, постоянно прихварывая зубами, почками, нервами, женскими болезнями, не переставала деятельно принимать, выезжать, наряжаться, читать модные романы и играть первенствующую роль в военном, чиновничьем и дворянском обществах. Между этими делами она родила двух мальчиков и девочку. Старший — Николай и девочка Лили родились через год друг за другом, а Александр был моложе сестры на целых семь лет.
После обычных гувернеров и мамзелей Николая отвезли в Петербург в Пажеский корпус, а Лили в Смольный институт. Младшего же генеральша решила растить при себе. Она любила повторять, что его «обожает», что он ее «Вениамин» и гордость. Это подтверждалось тем, что, как комнатную собачку, она всюду таскала мальчика за собой, одевала по парижской картинке, завивала, душила, обкармливала конфетами, пирожными и заставляла с выражением читать французские стишки в своей и чужих гостиных. При этом очень много противно пахнувших, по мнению Саши, девиц и дам тискали его о свои корсеты и бюсты, мусолили поцелуями, называли «ангелочком», «цветочком», «душенькой» и также пичкали сластями. Такая жизнь мало нравилась живому мальчику, которого тянуло поиграть со сверстниками, выкупаться, сбегать на конюшню, повозиться с собаками.
Отца он видел редко. Утром и днем генерал был занят, уезжал по полкам, принимал у себя по службе, занимался с адъютантами. А если вечером и бывал дома, разговаривал с гостями или играл в карты, то Сашу уже укладывали спать. Лишь за обедом он наблюдал бравого громкогласного здоровяка с ловко прилаженной на лысеющей голове волосяной накладкой, облаченного в блестящий мундир и окруженного почетом. Отец иногда ласкал Сашу и тоже тискал, но по-своему, крепко, ловко, с армейской шуткой царапая бритым подбородком его щеки.
Потом генерала перевели в Москву, где назначили, кроме командования дивизией, еще председателем комитета по постройке каких-то казарм, складов, манежа. Больше прежнего стало бывать в доме гостей, чаще выезжала генеральша, богаче сделались обеды, балы, важнее и чиновнее партнеры генерала за вистом, еще громче звучал его смех и выше поднимались плечи в густых эполетах. Саше шел уже десятый год, у него появились знакомые дети того же круга, учителя ходили к нему на дом, за манерами следил новый гувернер — парижанин. Мать многозначительно повторяла, что надеется увидеть его посланником…
И тут-то все неожиданно лопнуло. В отцовском комитете оказалась растрата на очень большую сумму. Началось следствие. Генерала отстранили не только от комитета, но и от командования. К ним все перестали ездить, мать плакала, нюхала соли и ежедневно падала в обморок, гувернер забросил Сашу и шушукался с дворовыми девушками, а генерал, пожелтевший, постаревший, злой, сидел, не вылезая из халата, в своем кабинете с каким-то вертлявым подьячим, строча бесконечные ответы на бесчисленные запросы аудиториата.
Скоро по следствию открылось, что главный вор — правитель дел комитета, который уже пять лет присваивал большие суммы и ловко проводил ревизоров. Что, следовательно, начал он свои хищения задолго до назначения председателем Сашиного отца и что тот о них ничего не знал. Но попутно выяснилось также, что генерал кое-чем чрезмерно попользовался при сдаче последних подрядов на постройках. И тут же всплыло, что у него была уже лет десять вторая семья, какая-то обер-офицерская вдова с двумя детьми, привезенная также в Москву и требовавшая теперь средств на содержание. А средств не было никаких. Материнское приданое прожили давно, в первые годы генеральства, на подобающее обзаведение, после же, при широкой жизни, отложить ничего не сумели, а теперь генерал получал лишь четверть жалования «впредь до полного окончания следствия». Конца же ему не предвиделось.
Так прошел год, потянулся второй. Давно переехали в маленький домик на Замоскворечье, продали прежнюю обстановку, экипажи, заложили серебро и фарфор. Генеральша хныкала, хворала, без устали упрекала мужа и жаловалась, если были слушатели. Генерал рычал, запирался у себя и тратил последние деньги на сменявшихся подьячих. Саша сначала с ужасом наблюдал, потом обтерпелся и привык. Гувернера давно рассчитали, и «будущий посланник» жил в забросе на своей воле, воевал с дворовыми ребятами, пускал с ними змея и гонял кубарь, ничему не учился и читал что попало.
Трудно сказать, что бы с ним сталось дальше, если бы не заехал к его родителям путейский подполковник, двоюродный брат отца. В годы благоденствия Вербо-Денисовичей этот просто Вербо только раз посетил своего преуспевающего родственника, но был крайне пренебрежительно принят его супругой. Причина заключалась в том, что отец его, служа когда-то на Кавказской линии, женился на простой казачке и тем навеки унизил себя и свое потомство в глазах генеральши. С тех пор более десяти лет путеец не показывался, но теперь, будучи проездом в Москве, он явился к опальному генералу, чтобы спросить — не надо ли отвезти в Питер какие-нибудь бумаги. Конечно, такие нашлись в генеральской переписке, но первым, кого встретил подполковник в доме, полном хныкания, запаха лекарств, генеральской ругани и шелеста кляузных бумаг, был краснощекий и резвый мальчик, уплетавший вместо завтрака краюху черного хлеба с луком. Порасспросив племянника о его жизни, путеец предложил генералу взять Сашу с собой для определения в учебное заведение. И через полтора месяца мальчик стал кадетом младшего класса Института путей сообщения.
В институте порядки были военные, строгая дисциплина, — все на манер кадетских корпусов. Способности у Саши оказались хорошие, но он сильно отстал от своих сверстников и первый год должен был заниматься неутомимо. Много помог ему все тот же дядя. Закоренелый холостяк, живший при Министерстве путей сообщения в небольшой казенной квартире, полной книг, канареек и моделей построенных им мостов, он брал Сашу к себе в праздники. Интересными рассказами о своих прошлых работах, о местах, которые видел, о широком будущем инженерского дела он сумел возбудить в племяннике охоту к занятиям и поощрить юношеское честолюбие. Поначалу подполковником двигало только свойственное ему чувство деловой ответственности. Привез, мол, определил, — надо, значит, добиться толку. Но вскоре он привязался к одинокому мальчику и, зная в институте все и всех, не упускал случая на неделе зайти справиться, каковы его успехи, мельком взглянуть на своего питомца и напомнить, чтобы в воскресенье, коли не проштрафится и будет отпущен, приходил есть пироги и репетироваться в чем отстанет. А между пирогами и математикой дядя внушал кадету, что истинное счастье инженера в создании полезных сооружений.
— Вот я настроил их семнадцать штук своей головой, — говорил он, показывая на окружавшие его модели. — Да каждая следующая лучше, прочнее прежних. И мне приятно, что по ним сейчас тысячи народа идут да едут, броду не ищут, в половодье не тонут, про паромы да лодки забыли, никому денег за перевоз не платят.
По части служебных отличий Сашин дядя добыл не так много. За тридцать лет непрерывной, безукоризненно честной службы он был всего подполковник с Анной на шее, хотя и почитался знатоком своего дела и состоял теперь при министерстве для просмотра чужих проектов.
— Зато уж что ношу — все головой, не спиной заслужено! — с гордостью говаривал он.
Когда через год племянник выровнялся в занятиях и вышел в первые ученики, подполковник решил послать его с визитом к материнской родне. Обдумывая этот шаг, он сожалел, что, верно, не будет впредь видеть мальчика каждое воскресенье.
— Следует тебе, брат, в обществе бывать. Офицеру и инженеру надобно себя в гостиной не хуже, чем на постройке, чувствовать. Не в ущерб делу и не для паркетной шаркотни, конечно, а чтобы звание свое поддержать и вести себя уметь в любом круге… От тебя же еще и родня матушкина вправе почтения требовать…
Речь шла о кузине генеральши, жене довольно значительного сановника.
Саша послушно начистил пуговки и рукоять тесака, наваксил сапоги, натянул белые перчатки и пошел. Почтительного племянника приняли ласково-снисходительно, но ему не полюбился этот дом. Здесь надо было чинно и бездельно сидеть часами в гостиной, отвечать по многу раз на одни и те же пустые вопросы, все время вскакивать перед старшими, тянуться, кланяться, говорить по-французски, подбирая особо изящные выражения, а главное, постоянно слушать гнусавый голос сановитой тетки, объяснявшей гостям его присутствие:
— Да, да, это младший моей бедняжки Aline… Ах, она так ужасно страдает от его бессердечного отца…
В доме особенно хорошо знали историю генерала, потому что к этой бездетной тетке в отпуск из Смольного и из Пажеского корпуса много лет подряд привозили Сашиных старшего брата и сестру. Здесь за только что окончившей институт Лили ухаживал богатый и блестящий молодой человек, а потом, услышав об отцовском несчастье, спешно уехал за границу. Это, впрочем, не помешало девице вскоре же выйти замуж за немолодого, незнатного, но бывшего на отличном счету у министра чиновника, только что назначенного вице-губернатором в одну из центральных губерний. Брат же, за год до семейного краха произведенный в корнеты, служил в Варшаве сначала в полку, потом был взят в адъютанты и делал хорошую карьеру. Всего раз пять приезжал он за эти годы в Петербург со своим патроном. И Саша, вызываемый в таких случаях записками к тетке для свидания с братом, гордился им, юношески обожая этого блестящего, остроумного и красивого офицера, не сказавшего с ним путем и десяти слов. «А, это ты? Очень рад, — говорил Николай Дмитриевич. — Ну как? Все учишься?»
И тотчас отвлекался чем-нибудь.
Но, кроме таких особых поводов, Александр, несмотря на дядины постоянные напоминания, ходил к тетке не чаще раза в месяц. И подполковник про себя не роптал на это.
Жизнь в институте текла однообразная и размеренная. Занятия в классах, чертежных и лабораториях чередовались с фронтовыми учениями, уроками фехтования, гимнастики, танцев. Сон и еда следовали в привычное, точно означенное время. За толстыми каменными стенами шумела столица с полумиллионным населением, а здесь триста пятьдесят юношей, одетых в темно-зеленое сукно, жили в своем особенном замкнутом мире, занятые для них одних важными делами. Даже тогда, когда в последних двух классах учащиеся получали офицерский чин, надевали более нарядный мундир, эполеты и шпоры, и тогда существование их мало менялось.
Так же как кадеты, жили они в институте, так же отлучались только по субботам, так же следило за каждым их шагом и словом начальство. Только летом этот издавна заведенный порядок несколько нарушался. Партии кадет и офицеров-старшеклассников отправлялись на съемки близ столицы, на практику по дорожным или мостовым работам.
Так жил и Саша. Резкая грань лежала между двумя периодами детства, но не менее резкая отделяла от детства его отрочество и юность. В институте он начал совершенно новую жизнь, здесь сложились его понятия и вкусы, здесь научился он думать и работать.
За шесть лет ни разу не ездил он в Москву к родителям, раз в месяц писал им и раза два в год получал ответы. Товарищи и дядя заменили ему семью. Занятия поглощали все внимание и силы. Шел он все время одним из лучших, и начальство к нему благоволило.
При открытом и добродушном характере юноша мог, однако, вспылить, наговорить или сделать бог знает что, и два раза это едва не привело его к последствиям самым неприятным.
Однажды, еще кадетом, собираясь в отпуск, он услышал, как один из товарищей жаловался окружающим, что у него болен отец, а его не пускают со двора за какую-то провинность. Саша тотчас передал ему свой увольнительный билет и остался в институте, прося только вернуться в назначенный срок и никуда не ходить, кроме как к отцу, чтобы не попасться на глаза кому не следует. Однако товарищ опоздал, чем изобличил проступок Вербо-Денисовича, и обоих посадили вместе в карцер на две недели. Но здесь в разговоре выяснилось, что опоздавший, ненадолго зайдя к больному отцу, отправился затем в веселую компанию, где пил и резался в карты целые сутки. Саша так вскипел, услыша это, что дал кадету пощечину и, вызвав к окошку карцера дежурного офицера, потребовал, чтобы его тотчас перевели в другое помещение, так как «с подлецом» он сидеть не желает. За строптивость ему прибавили еще неделю и действительно в отдельной камере.
Другой раз, уже в младшем офицерском классе, Александр Дмитриевич оказался случайным свидетелем доклада командиру роты одного из его помощников. Речь шла о неповиновении некоего прапорщика, не пожелавшего, будто бы по злостному капризу, идти в институтскую баню. Между тем малокровный юноша этот страдал жестокими головными болями и, услышав, что в бане угарно, весьма вежливо и с объяснением причин просил разрешить ему вымыться в отпускной день у родственников. Зная все это, Александр Дмитриевич тут же рапортовал ротному о действительном поведении обвиняемого. А на вопрос рассерженного офицера: «Что ж, я лгу, что ли, по-вашему?»— не сморгнув глазом, ответил: «Так точно, лжете, господин штабс-капитан».
При строгих порядках института за этакие слова, выпаленные прямому строевому начальству, не миновать бы Саше исключения, а может, и чего похуже. Но разговор происходил без свидетелей, командир роты недолюбливал докучавшего ему постоянными доносами штабс-капитана, Сашу же любил, как превосходного строевика, а главное, был старым приятелем его дяди. И, проверив истину, он посоветовал оскорбленному офицеру молчать о компрометирующем прежде всего его же случае, а Вербо-Денисовича, после жестокой головомойки, посадил под арест на целый месяц.
Но таких крупных «историй» было всего две, и они только укрепили уважение товарищей к Саше. В обычное время он был ровен и дружелюбен ко всем, исправно учился, а свободные часы отдавал чтению, смутным мечтам о будущем и, главное, рисованию. Любовь и способности к этому занятию появились у него еще с детства, а в институте, где много рисовали и чертили под руководством опытных преподавателей, развились особенно. Он рисовал и недурно писал акварелью все, что видел: товарищей, профессоров, дядю, его канареек, улицы, раскрывавшиеся из окон, «ванек» и сбитенщиков, аудитории и ротные помещения.
В последний год пребывания в институте Саша стал проводить праздничные дни несколько иначе.
В Петербург перевели мужа сестры, и она, поселившись на Литейной, зажила довольно открыто, давая ежемесячно один-два званых обеда и танцевальный вечер, на которых Александр Дмитриевич стал бывать в обществе, состоявшем не из одних стариков, как у тетки. Хотя общий тон был почти тот же и ничего его сюда особенно не привлекало.
А через полгода вышло наконец решение отцовскому делу, тянувшемуся восемь с половиной лет. И, как говорили знатоки, решилось оно еще скоро! Генерала признали виновным лишь в недосмотре за действиями правителя дел комитета и вновь разрешили принять на службу.
Старик, а он и точно стал стариком за эти годы нужды и волнений, возликовал и в первое же воскресенье, одевшись в полную парадную форму, поехал на прием к генерал-губернатору. Но когда караул, вызванный при его приближении, выстроился у подъезда и раздалось протяжное: «См-и-ир-но!»— генерал, молодцевато выпрыгнув из саней, крикнул: «Здорово, ребята!»— и вдруг без стона повалился на плечо кучеру. Слишком велико оказалось волнение для старого служаки, — он был мертв.
Генеральша, взлетевшая мечтами за несколько дней в заоблачные выси, поспевшая заказать кучу новых платьев, корсетов, башмаков и шиньонов из молодых волос, — вновь оказалась на земле. Но зато теперь у нее было, как она говорила вновь обретенным знакомым, «незапятнанное имя». А главное — полный вдовий пенсион, которым могла располагать сама. И потому немедля, сшив новые траурные туалеты и отбыв сорок дней в Москве, генеральша по последнему санному пути отправилась в Петербург, где, поселившись у дочери, потребовала себе великого почета, особого штата, карету для прогулок и еще многого, сообразного ее положению и претензиям.
Теперь Саша каждое воскресенье приходил на Литейную. Здесь двадцатилетний подпоручик заново познакомился с матерью, которую не видел шесть лет. Она оказалась тощей, белесой старухой, чувствительно-сентиментальной, слезливой, упрямой и чванной. Генеральша осталась довольна своим красивым, стройным и почтительным сыном, говорила ему те же сладко-нежные слова, что в детстве, ласково трепала по опушенным молодыми бачками щекам и заставляла сопровождать себя на прогулках. Он непрерывно слушал горестные вздохи о покойном генерале, который все же не сумел-де вполне оценить ее, о зяте, который хотя и почтителен и с «будущим», но все же «не то, чего заслуживала Лили», и, наконец, о себе самом, что он вот не паж, а какой-то там «по постройкам», как выражалась она, презрительно оттопыривая губы.
Саша, по простоте душевной считавший, что мать много и долго страдала и что уже по одному этому он должен любить и почитать ее, терпеливо сносил воркотню, предупредительно ухаживал за ней, но часто с сожалением вспоминал воскресенья у дяди за пирогами и книгами. А по утрам хоть на час забегал к подполковнику. Однако мысли его в это время были заняты больше всего приближавшимися выпускными экзаменами, да и продолжалось такое воскресное времяпрепровождение всего два-три месяца.
А в июне он окончил институт с отличием, был произведен в поручики и, по совету дяди, считавшего, что «молодой инженер должен строить», выбрал место в ближней к столице губернии. В Новгороде просидел он без дела два месяца, после чего получил назначение в село Высокое.
И вот теперь, в тишине зимней ночи, он думал о матери. После полугодовой разлуки, а главное, под влиянием собственного радостного, любовного озарения, она казалась ему и доброй, и умной. Впрочем, кто же мог не понять того, что он чувствовал?.. Только бы не отдали Настю этому майору. Только бы не упустить свое счастье!
Сна не было, постель казалась жесткой, неудобной и жаркой, нога, растревоженная неосторожными движениями, побаливала, лампадка давно погасла.
«Вот они в двух саженях от меня спят и знают то, что меня так беспокоит и что для меня сейчас все, — думал Александр Дмитриевич. — Как странно, что не могу узнать это сейчас же… И как тихо… Только сторож бьет где-то в доску, да от мороза, должно быть, потрескивают стены… И мне никуда не хочется, ничего не нужно, если она останется здесь… Верно, никогда не захочу я в Петербург. На что он мне? Всю жизнь проживу тут или где-нибудь в ином месте, где буду строить. Но только бы с нею… Книги, карандаши, краски, постройка… Ах, как я глуп, что вчера же не спросил Якова Федоровича, не дал понять свои мысли… Когда еще утро? А на постели какие-то комья, прямо камни… И нога ноет…»
Медленно тянулись минуты, мерно тикали карманные часы, лежавшие в изголовье, и, казалось, не будет конца январской ночи.
Но вот кто-то зашевелился, должно быть одеваясь, скрипнула половица, плеснула вода, стукнула заслонка у печки, треснула сломленная лучина. Поручик тихонько кашлянул, чтобы привлечь внимание, потом еще и еще. Чьи-то мягкие шаги в валенках приблизились к двери.
— Аль не спите, Александр Дмитриевич? Неужто нога опять мучит? — спросила с порога шепотом Лизавета.
— Нет, ничего, так не спалось, — отозвался он так же тихо.
— А вот я лампадочку заправлю, все веселей станет.
Она медленно прошла мимо, на ощупь взяла лампадку у образов и двинулась было обратно.
«Уйдет, замешкается у печки, а я опять лежи… Да в темноте и легче как-то спросить», — подумал он.
— Лизавета Матвеевна!
— Что, батюшка?
— Я вас спросить хочу… Насчет вчерашнего-то…
— Что же такое? Про белье свое, что ли?
— Да нет… — Он замолк от волнения и лишь через полминуты с усилием выговорил: — Насчет Настеньки-то… — «Вот сейчас и скажет: «А тебе-то что, чего не в свое дело суешься?»— смятенно думал Александр Дмитриевич. — Неужто сейчас и дальше сказать…»
Но Лизавета спокойно ответила:
— А вы, знать, слышали? Так порешили мы с Яковом Федоровичем, ей и вовсе не сказывая, поблагодарить Егора Герасимовича. — Она помолчала, но поручик ничего не говорил, и она добавила, как показалось ему, с легкой улыбкой: — А вы как думали? Отдать надобно?
— Что вы, что вы!.. — чуть не закричал он. — Именно вы очень умно поступили.
— Ну уж не знаю, — отозвалась Лизавета. — Может, по уму-то оно как раз не больно… А только вовсе против совести дите свое этакому волку отдавать.
— Вот именно против совести, — радостно подтвердил Александр Дмитриевич.
— Не принести ли вам чего пока, до чаю-то? — спросила она с порога.
— Да, знаете, пожалуй… Я как-то проголодался даже…
— Что ж, оно бывает, с бессонницы-то, — согласилась, выходя, Лизавета.
9
Чернее тучи возвращался в город майор Жаркий. Крепкой занозой ныла мысль, что не будет Настя его женой, что не для него цветет ее краса, не для него ласковым словом звучит ее голос… А лишь отвлекался — тотчас вспоминал оскорбительный отказ недавнего подчиненного, которому предложением своим сделал великую честь. Бесило, наконец, что, схлопотав чин Якову, тем самым открыл Насте возможность в будущем «выскочить» за «благородного».
«Тестюшке угодить старался, — злобно бурчал себе под нос Егор Герасимович. — Ну и получите-ка шиш, а мы теперь и сами чиновники… Однако погоди еще, голубчик, вот дожду случая да и прижму тебя за неблагодарность-то…»
Он не думал, что никто не просил его ходатайства, и не сомневался, что Яков без памяти рад своему новому званию.
Въезжая в город, он вспомнил еще свою экономку, которая, бывало, встречала его приветом, почтением и готовым изобильным столом. Вспомнил ее черные брови и пышные плечи, вспомнил две с половиной тысячи, совсем зря выкинутые, и вовсе потемнел.
Плохо, верно, пришлось бы денщикам и стряпухе, если бы у самого дома, когда уже вылезал из саней, не окликнул Жаркого по имени-отчеству высокий барин в шинели с большими бобрами и в военной фуражке.
— Неужто не узнаете? — воскликнул он, в ответ на мрачный взгляд Егора Герасимовича расцветая добродушной улыбкой на краснощеком, одутловатом, но благообразном лице.
— Нет, не помню, — отвечал тот.
— Да вы вглядитесь хорошенько, — продолжал барин, протягивая майору обе руки. — Вспомните славный день бородинский и прапорщика Акличеева, коего столь самоотверженно спасали в сей день… А, припомнили?! Так обнимите же его через тридцать лет!!
И Егор Герасимович почувствовал хлынувшую на него волну винного перегара, духов, порывистого дыхания и целую стаю влажных поцелуев. Бывший прапорщик, так и не нащупав безжизненно висевшей руки майора, чтобы пожать ее, тормошил и трепал по плечам и бокам его дорожную шубу.
— Прошу пожаловать в дом, — сказал Жаркий, ощутив наконец возможность двинуться с места.
А в следующие полчаса, ожидая обеда, за принесенной из майорского погреба бутылкой, Акличеев успел рассказать свою жизнь во все долгие годы, что они не видались.
Выходило, что с восемнадцати до сорока восьми лет занимался он только двумя важными дворянскими делами. Служил в гвардейском полку, куда перешел тотчас после заграничного похода, а в свободное от караулов, учений и лагерей время — тратил деньги. И в столицу перевелся потому, что после умершей матери осталось порядочное состояние. Чем же и блеснуть молодому человеку, как не нарядным мундиром, который есть чем достойно поддержать?
Лет через пять как-то незаметно покончил с матушкиным наследством и влез, по привычке щедро тратить, в такие долги, что подумывал — не пора ли проситься на Кавказ. Но вдруг умер дядюшка, человек богатый, бездетный, и опять пошло то же, только уж с настоящим вкусом и размахом по двадцатипятилетнему возрасту. Кутежи, цыганки, беговые лошади, карты, открытый стол для приятелей, отсидки на гауптвахте за дикие «молодецкие» выходки, две-три благополучно сошедшие дуэли, на которых умеренно пустили ему кровь, подарки балеринам, увоз какой-то итальянки от мужа-тирана, а потом дорогой откуп от нее же, оказавшейся алчной и ревнивой. Наконец, когда за десяток лет начисто «разобрался», как выразился рассказчик, с дядиными деревнями, каменным домом и каким-то неизвестным ему заводом на Урале, тогда-то счастливо женился на богатой девушке. Тут было совсем остепенился, бросил прежние привычки, стал даже мечтать о детях, но через год жена умерла от холеры. И тогда, уже с горя, пустился по старому пути…
Очень живо, с широкими жестами человека, привыкшего, что его слушают, рассказывал Акличеев. По-домашнему развалясь на диване против Егора Герасимовича и расстегнув гвардейский сюртук без эполет, он поглаживал рукой с двумя дорогими перстнями заметный животик под белоснежным пикейным жилетом. И закончил свое повествование так:
— Бывает, душа моя, немало и весьма порядочных людей, которым, при умеренности да расчетах самых точных, все бог не дает концы с концами свести. То у них семья велика, то неурожай, то тяжба… Может, зато они в чем ином взысканы? А мне вот всю жизнь — своя фортуна. Ведь и в службе особенно не блеснул, и с семьей, как видишь, не повезло… Но зато — на тебе средства, проживай! Ну, я и пользовался, чем удавалось…
— А теперь как же? Почему к нам пожаловали? На службу? — спросил Жаркий, соображавший, какое же место может занять этакий человек в Старосольске.
— Нет, брат Егор Герасимович, кончил я свою службу, довольно. Отдыхать решил и хозяйством заняться, — отвечал Акличеев. — Из полка вышел по размолвке с начальством. Не сошлись по части довольствия нижних чинов. Во многих грехах Платон Акличеев повинен, а солдат никогда не обворовывал. Да и надоело, признаться, носки тянуть. Вышел в отставку полковником с мундиром. И как подсчитал, что от жены покойной осталось, — глядь, село одно только, правда порядочное, в триста душ, здесь поблизости, да деревенек пяток в Норовичском уезде, — во всех еще столько же будет… Зачем, думаю, дольше судьбу искушать? Родственников богаче да старше меня нет никаких, жениться из одного расчета совесть не велит, надо, значит, остепениться наконец… Да уж и не тот стал — брюхо вот, одышка. Решил ехать помещиком зажить, а если обществу дворян приглянусь, может и в уездные предводители баллотироваться. Побывал уже в своем новом углу, — ничего себе, и дом не плох; сделал распоряжение приказчику о перевозе кого да чего следует из Питера, а сам вчера приехал сюда. Кое с кем познакомился, и от барона — начальника уезда, старого знакомца по гвардии, слышу вдруг, душа моя, твою фамилию и разные похвалы. Такой сюрприз! Расспрашиваю про то, про это, про шрам, про ухо — он! Я к тебе, — в отъезде, но ждут. Другой раз нынче зашел наобум — и вот встреча! Однако теперь слушаю твою историю…
В это время доложили, что кушать подано, и Егор Герасимович, перейдя с гостем за другой стол, в череде с кушаньями и рюмками вкратце рассказал о своей службе. Акличеев слушал, расспрашивал, ел за двоих, пил за троих, похваливал и дом, и стол, и видно было — вполне доволен своим собеседником.
Жаркому тоже нравился вновь обретенный знакомец. Прикинул уже, как появление такого приятеля будет полезно для поднятия пошатнувшегося престижа в уездном обществе. «Вот ведь и гвардии полковник, и барин богатый, а не забыл моего добра», — думал он, с горечью и злобой вспоминая Якова. Покоробило было майора, что Акличеев с первых же слов стал звать его на «ты», но и тут скоро увидел, что это от добродушия. Полковник к концу обеда предложил по всей форме выпить на брудершафт и с чувством расцеловал Егора Герасимовича.
— Я, знаешь ли, Егорушка, теперь вот как мечтаю, — говорил пуще прежнего раскрасневшийся гость, перешедши после обеда опять на диван и расстегнув все пуговки на жилете. — Устроюсь у себя на новоселье, как следует. Буду жить, людей в гости звать, тебя например. Охотиться станем. И выпишу из Питера художника, закажу твой портрет в рост, у себя повешу… Платон Акличеев никогда своего спасителя не забывал! Нет, в этом меня не обвинишь… У меня, знаешь ли, и сейчас там, в Питере, в кабинете картина висит, еще поручиком заказал — ты меня по полю раненого несешь. А кругом золоченой рамы оружия разные развешены. Оно, конечно, заглазно рисованное не больно схоже. Но теперь дело иное… Да, такой, брат, сюрприз — тебя найти!.. Жаль, жена, бедная, не дожила, я ей ведь про тебя рассказывал… Однако отчего же ты до сих пор не женат? Экий молодец! Но ты не монах — я по лицу вижу… Не скромничай со старым товарищем!.. И вот теперь-то мы тебя, знаешь ли, и женим. Ей-богу, женим! У меня на этот счет рука самая легкая…
«Да, как же, женишь… — мрачно подумал Жаркий. — Разве рассказать ему про Яшкину подлость? Да нет, не стоит. Вон он как набрался уже… И болтун, — всем разнесет…»
Акличеев остался ночевать у майора, и поутру они расстались очень довольные друг другом, уговорившись постоянно видеться.
А в Высоком события шли своим чередом. Особенно радостными и значительными стали для поручика дни с тех пор, как фельдшер позволил ему через две недели после перелома одеваться, присаживаться и даже перескакивать несколько шагов на здоровой ноге. Поручик не злоупотреблял этим разрешением. Он хорошо помнил первый ночной разговор с Яковом Федоровичем и отнюдь не хотел прежде времени показаться совсем здоровым, чтобы его не попросили подыскать ДРУГУЮ квартиру. Впрочем, он решил при первом же подобном намеке прямо заговорить о своих чувствах к Настеньке, в которых больше не сомневался. Чтобы отдалить возможное объяснение и менее стеснить квартирных хозяев, особенно в наступавшие на днях рождественские праздники, он убедил их перевести его в соседнюю маленькую горницу, из которой недавно доносился до него памятный разговор Якова с Жарким.
Перебравшись на новое место, Александр Дмитриевич чутко прислушивался к предпраздничной уборке, в которой Настенька, весело напевая, принимала деятельное участие. В сочельник, с темна еще хозяйки хлопотали около печки, а вечером все отправились в церковь. Утром в праздник, только поспел побриться и одеться по-парадному, пришли поздравить его Яков в новом регистраторском мундире и Лизавета в шелковом сарафане, тут же пригласившие «пожаловать нынче откушать». Вскоре навестили поручика сослуживцы, потом был обед, накрытый празднично в большой горнице. За стол сели вчетвером. Александр Дмитриевич, увидев в этом как бы предзнаменование своего семейного будущего, сумел сделать беседу веселой и оживленной. Сам вспоминал смешные происшествия из институтской жизни, вызывал Якова на рассказы и шутки. Видел, что Настя смеется не меньше родителей и почти уже не дичится его.
Вечером этого счастливого дня поручик, у которого от непривычного движения разболелась нога, лежал у себя, мечтал, вспоминал оживленное лицо девушки и слушал, как весело болтали за стеной собравшиеся Настины подруги, громко щелкали орехи, смеялись да шептались, может быть, и о нем.
На другой день хозяева всей семьей ушли куда-то в гости, на третий опять ушла, но ненадолго, одна Настя. На четвертый же, когда Яков, как в будни, побывал в должности, все трое вечером собрались в соседней комнате, и часа три поручик, лежа у себя, слушал чтение знакомых страниц «Муллы-Нура». А на следующий вечер он, заранее одевшись, дождался, когда все сошлись, тихо доковылял до двери и на вопросительные взгляды обернувшихся к нему хозяев попросил разрешения присесть послушать. Его пригласили к столу, но он остался на стуле у своей двери. Отсюда удобнее было смотреть на Настю. Сначала она заробела, несколько раз, краснея, запнулась на незнакомых словах, но потом справилась, продолжала чтение и благополучно окончила повесть Марлинского. Александр Дмитриевич тотчас предложил заранее приготовленные томики «Стрельцов» Массальского.
В следующий вечер, еще до начала чтения, поручик занял свое место у двери. А в перерыве между главами любознательный Яков обратился к нему с каким-то вопросом о времени Софьи, и Александр Дмитриевич пустился в рассказы о детстве Петра, о начале его правления, о стрелецких бунтах. Говорил, вспоминая все, что читал об этом в детские годы и в институте. Его одушевляло присутствие Насти. Она лишь изредка взглядывала на рассказчика, но слушала очень внимательно. Назавтра повторилось то же. Приключения сироты Наташи и влюбленного в нее стрелецкого сотника Бурмистрова сменились новой беседой из русской истории, после которой Александр Дмитриевич подвинулся ближе к столу и взялся за карандаш. В этот и два еще вечера нарисовал он лицо Якова с натуры, помолодил немного, приделал к нему фигуру, на двух цельных ногах, одел в полную тамбурмажорскую форму, прописал днем акварелью и подарил оригиналу. Потом стал набрасывать Настю, жадно вглядываясь в ее нежное лицо, ловя минуты, когда поднимала она от книги ласковые, зелено-голубые глаза. Прорисовав голову, занялся остальным уже в одиночестве при дневном свете. На его портрете девушка не читала, а задумчиво сидела у того самого окна, где впервые ее увидел. В том же шугае, только не с клубком, а опершись на руку, как над книгой. Верно, любовь водила его карандашом и кистью, ни один портрет из сотни прежних так не удавался ему. Очень уж похожа да хороша вышла. Начиная рисовать, Александр Дмитриевич думал и это изображение подарить Якову или Настеньке, но, окончив, положительно не мог с ним расстаться. По двадцать раз на дню смотрел он на дорогое лицо. И утро начинал с того, что, только проснувшись, тихонько тянулся за папкой, открывал ее и шепотом здоровался с нарисованной Настей.
В таком-то положении и застала его однажды Лизавета, вошедшая в валенках, неся утренний чай. Она явно рассмотрела, чем любовался Александр Дмитриевич, как поспешно захлопнул папку и как сконфузился. Но сделала вид, будто ничего не заметила.
Еще с разговора о сватовстве Лизавета стала подозревать чувства поручика, а уж тут подумала — не пора ли поговорить с Яковом Федоровичем. Вечером того же дня перед чтением она услышала через стенку, как постоялец подсел в горнице к вышивавшей что-то Насте. Нехорошо подслушивать, а вот иногда как же иначе поступить? Поручик расспрашивал Настеньку про ее детство, с кем да во что играла, что ей больше нравилось из прочитанного, хотела бы путешествовать? Девушка отвечала доверчиво и охотно. И по тому, как она отвечала, а он спрашивал о самых, казалось, никому-то не нужных мелочах, Лизавета поняла, что и верно пришло время сказать отцу о своих наблюдениях. Услышав доношение жены, герой Бородина и Праги растерялся совершенно.
— Неужто? — сказал он, испуганно глядя на Лизавету. — Что же делать-то станем?
— А вы-то как же ничего не заметили, Яков Федорович? — укоризненно сказала она, забывая, что только нынче сама дошла до этих мыслей.
— Ей-богу, не видел… Да и где же? Вот притча какая… Делать-то что же, ты скажи? — растерянно переминался он с ноги на деревяшку.
— Да лучше всего бы ему от нас съехать… — отвечала обдумавшая нужные меры Лизавета. — Надо пожар тушить, покамест и ее не забрало.
— А не забрало? — спросил Яков с сомнением. — Тебе-то виднее…
— Будто, что нет еще, да ведь кто знает? Тесто и то поначалу не заметишь, как в квашне здымается…
На другой день, выбрав время, когда Настя ушла со двора, а Лизавета возилась по хозяйству, Яков вошел к поручику и сказал, что как он получил известие от жениной родни из города, что скоро будет в гости недели на две, а у Александра Дмитриевича, слава богу, дело на поправку пошло, то не могли бы его благородие куда переехать. Вот хоть к господину инженер-капитану, у них на одного три горницы.
От такого предложения поручик взволновался. Он раньше не раз слышал, что родни у Подтягиных никакой нигде нету, и по учащенному морганию век при сбивчивой речи инвалида понял, что дело тут неспроста. Но тотчас пообещал послать капитану записку и, как бы тот ни ответил, съехать при надобности немедля.
У Якова отлегло от сердца. «Вот как легко соглашается… Как же, думает он об ней очень… Невесть что бабы наврут…»— рассудил он. Попросил еще раз прощения за беспокойство и повернул было уходить, как постоялец сказал:
— Яков Федорович!
— Я, ваше благородие.
— А вы не насчет ли Настасьи Яковлевны?
Подтягин опустил глаза и взволнованно засопел. «Ох, права Лизавета-то, что я ему скажу?»
Но Якову и рта раскрыть не пришлось. Заговорил опять Александр Дмитриевич. Начал как бы чужими губами, с натугой выговаривая первую фразу:
— С тех самых пор, как я ее впервые на дворе вашем увидел, так и… полюбил… — И вслед за этим, таким трудным словом его как прорвало. Понеслось все, что думал в эти дни, вперемежку с тем, что тут же впервые приходило на ум и язык. Тут было и то, что Настя душой и лицом лучше всех девушек, которых он встречал, что она много умнее самых светских барышень, что, видно, сама судьба привела его в их дом и что оба они будут несчастны и даже, наверное, погибнут, если ее не отдадут ему.
Этот последний оборот показался Якову уж вовсе несообразным. Было, впрочем, и много еще вроде этого. Однако удивляться было некогда. Поручик стоял уже вплотную и, крепко держа его заскорузлую ладонь в своих горячих руках, закончил:
— Так отдайте же ее за меня замуж… Конечно, ежели она пойдет, согласится навек меня осчастливить…
— Да что вы, батюшка, да помилуйте… — лепетал Яков, весь вспотев от волнения, не зная, как собраться с мыслями, и прежде всего жалея, что вместо него нету здесь Лизаветы. Она-то, верно, знала бы, как отвечать.
И вдруг, слава богу, она оказалась тут как тут… На голоса подошла к двери, все слышала и, как резерв из укрытия, выступила на поле брани.
Начала с того, что степенно поблагодарила Александра Дмитриевича за честь, сказала, что, может, он и точно сейчас так думает, но, не в обиду будет ему сказано, все оттого, что оченно молод, да по неопытности еще. А придет в возраст, то и поймет, что этакий брак дело нестаточное, и сам станет жалеть и удивляться, как это женился на простой, необразованной. Браниться даже будет, что никто его не остановил. И еще столичные его родственники никак до того не допустят, как они с Настей и точно неровня. А без согласия родительского уж и совсем ничего путного выйти не может.
Хорошо говорила. Яков, слушая, только головой кивал да глаза прижмуривал от согласия. Однако не поспела еще и окончить все, что хотела, как неизменно дотоле тихий и смирный поручик на полуслове перебил ее, горячее прежнего уверяя, что жалеть не станет никогда, что без Насти жить никак не может, что из родни важна ему только мать. И как станет немного на ногу, то тотчас поедет в Петербург и, наверное, получит ее разрешение. Что, наконец, он совершеннолетний, он офицер, вольный жениться на ком сам выберет. Что богатства и карьеры ему никогда не было надобно, а теперь и подавно. И так далее, и так далее. Не перебить, не остановить. Откуда прыть взялась!
На том они и разошлись, одинаково смущенные и взволнованные.
Но горячность Александра Дмитриевича не изменила мыслей Якова и Лизаветы. Вечером, посовещавшись, они решили подойти к делу с иного конца — услать куда-нибудь дочку. Авось поручик-то без нее одумается, а потом куда и переедет.
На другой день решено было Лизавете и Насте ехать в Новгород недели на две, а то и больше, к чудотворным мощам и прочим святителям на поклон. Посчитали даже расходы, обдумали, где пристать и что с собой возьмут нужное в зимнюю дорогу.
Но случилось, что в разгар сборов Яков, спеша домой из магазина, поскользнулся на своей деревяшке, упал и сильно зашиб спину. Дошел сам кое-как, но наутро не мог разогнуться, кряхтел, лежа на печи, а Лизавета натирала его медвежьим салом с дегтем. Поездку приходилось отложить по крайности на неделю.
Между тем поручик ежедневно разговаривал подолгу с Настей, читал ей из тетрадки свои любимые, списанные туда стихи или молча наблюдал, как она шила и вязала, сам делая вид, что рисует. Он украдкой смотрел в ее бесконечно милое ему лицо, слушал голос, смех и был совершенно счастлив. Александр Дмитриевич ни словом не намекал девушке на свое объяснение с родителями. Ему представлялось, что использовать время болезни Якова для признания было бы неблагородным действием, как бы предпринятым за его спиной. Но эти мысли не мешали поручику продолжать сближаться с Настей и как бы забыть о просьбе съехать с квартиры. В оправдание он говорил себе, что только ждет случая еще раз объясниться с Яковом, убедить его и получить согласие.
А Лизавета незаметно, но внимательно следила за молодой парой. Несмотря на кажущуюся ровность и спокойствие их разговоров, она не могла не чувствовать, каким ярким пламенем горит Александр Дмитриевич. Не могла не видеть, как весело, легко и интересно с ним Насте. Недавние убежденные слова поручика о судьбе разбудили романтические представления Лизаветы. Не раз за эти дни она думала, что и вправду все как будто нечаянно, а складно вышло. Зашел полку заказать — ее увидел, потом на пироги нежданно попал, а особенно пожар этот… Так и вправду, справедливо ли разлучать суженых? Да и поручик-то такой простой да скромный, совсем не похож на многих господ, которых раньше видывала.
На третий день к вечеру, когда жена натерла Якову спину, он, перед тем как лезть на печку, мотнул головой в сторону горницы и спросил:
— Ну что? Больше ничего не сказывал?
— Нет покудова.
— А с Настей?
— И с ней, должно, речи не было… Все по-прежнему, книжки читают аль говорят про разное да смеются. Смирно так, вроде как ребята. Только светются оба, ровно свечки внутри горят…
Она помолчала, пока он влез на печь, потом добавила:
— А еще, Федрыч, я что думаю…
— Что же? — отозвался он.
— Бывало ведь, и не только что офицеры, а графы да князья на простых женивались. Может, такое…
Но Яков не дал ей кончить.
— Где бывало-то? — спросил он сурово. — Разве в сказках бабьих. — Однако, повозившись с минуту, сказал раздумчиво: — Хоть бы постарее был… А то… не обстоятельно…
В это время в передней горнице происходило следующее.
— Вот вы и хорошо ходить стали, — сказала Настенька, глядя, как Александр Дмитриевич проковылял к себе в комнату и тотчас вернулся с рисовальным альбомом и карандашом.
— Да, фельдшер вчера сказал, что через дня три и на улицу можно, — отвечал он, садясь возле нее.
— Не упадите только, глядите, как папенька, — сказала она. А сама думала в это время, останется ли он тогда жить у них или куда переедет? Но прямо спросить не решилась и повернула вопрос иначе: — Вам, что же, надо будет теперь на реку ездить? Или больше где чертят? Тут хоть дойти недалеко.
— Нет, — отвечал поручик. — Я собираюсь, Настасья Яковлевна, в Петербург ехать.
— В Петербург?! — ахнула она и, не поспев одуматься, добавила почти испуганно: — Совсем?
Да тотчас же спохватилась, смешалась и, краснея, потупилась.
От этих восклицаний лицо поручика засияло.
— Нет, — сказал он, глядя на нее пристально. — То есть не знаю еще… Это от вас зависеть будет да от Якова Федоровича… Вы двое все мое счастье будущее решите.
Он ждал ответа, но Настя молчала. Совсем потерялась, не смела даже глаз поднять.
Так и застала их вошедшая в горницу Лизавета. Настя поспешно встала и ушла, почти убежала, едва не погасив оплывшую свечу, а поручик склонился к альбому и зачертил быстро карандашом.
«Кажись, не по-детски что-то… — подумала Лизавета. — Видать, дошло-таки…»
Через полчаса Настя пересказала ей все слово в слово и расплакалась в колени мачехе. А на вопрос, люб ли ей Александр Дмитриевич, проговорила, всхлипывая: «Будто что люб… Да как вы с папенькой…»
На другое утро Вербо-Денисович отослал к своему инженер-капитану написанный в ночь рапорт об отпуске в Петербург для совета со столичными медиками и лечения сломанной ноги. Капитан приложил от себя ходатайство, обосновав его тем, что хотя поручик и не выслужил еще положенных по закону сроков для увольнения в отпуск, но к службе быть сейчас по болезни употреблен не может впредь до совершенного выздоровления. С почтой в тот же день рапорт пошел в Старосольск, оттуда в инженерную дистанцию в Новгород, и через неделю получено было согласованное с уездным начальством разрешение Александру Дмитриевичу отбыть в столицу на двадцать шесть дней. К официальной бумаге приложена была любезная записка от нового начальника уезда, просившего поручика при проезде через город заехать к нему познакомиться, так как он знает брата его — адъютанта, а недавно в Петербурге был представлен их почтенной матушке.
В день получения разрешения на отпуск Яков слез с печи и вместе с Лизаветой вновь был атакован поручиком. Упрямый постоялец, выслушав от них те же возражения, опять повторил, что, кроме Насти, ничего ему не надо, что сам он помимо жалованья ничем не располагает, следственно вовсе не богат, что из-за связей да денег ему жениться мерзко, значит, с их дочкой он почти ровня, что лучших тестя и тещи себе не желает, и, наконец, как они, мол, хотят, а он через два дня едет в Петербург просить благословения матери.
С Настей Александр Дмитриевич вел себя по-прежнему. Читал ей, слушал ее, смотрел на нее и ничего не говорил о будущем.
Однако, когда пришел час отъезда и подряженные до города лошади должны были вот-вот подъехать, поручик выбрал минутку с глазу на глаз, взял в первый раз с той памятной ночи обе руки девушки в свои, сжал их крепко и спросил:
— А вы, Настенька, очень будете ждать меня?
— Очень, — ответила она, не задумываясь.
— И пойдете за меня?
— Пойду, — прошептала она. И не отвернулась, когда он привлек ее к себе, чтобы осторожно поцеловать.
Через день после отъезда Александра Дмитриевича в Высокое приехал майор Жаркий. За прошедший месяц он успокоился и все обдумал. Положение его в городском обществе и на службе вновь утвердилось благодаря полковнику Акличееву. Перезнакомившись со всеми в городе, этот веселый и общительный барин, ставший местным богатым помещиком, везде и всем рассказывал о своем спасении и теперешней дружбе с Егором Герасимовичем. Новому начальнику уезда он рекомендовал майора с наилучшей стороны, а Жаркий постарался поддержать такое представление, удвоив рвение к службе и внешнее почтение к генералу.
В то же время и дома, и в управлении, и в гостях майора не покидали мысли о Насте. Он упрекал себя, что погорячился, требуя скорого ответа. Лучше бы повыждать, пока Яков как следует разберет всю выгоду такого брака, а тем временем не скупиться на подарки ему, невесте и Лизавете да на ласковые слова. Еще в Высоком мельком услышал Егор Герасимович, что поручик Денисович как-то пострадал на пожаре, а в городе уже через недели две с лишком от приехавшего к нему по делам начальника округа узнал, что офицер этот, оказывается, весь месяц лежит у Якова в доме.
«Значит, он постоянно видит Настю, может, влюбился, может, и она по нем сохнет… — думал майор. И ревность сжимала сердце и мутила душу. — Ну и черт с ними, пускай любятся», — говорил он себе. Но через час-два те же мысли приходили снова и не давали покоя.
Наконец однажды в канцелярии Жаркому, шедшему на доклад к генералу, подали среди других бумаг отношение инженерной дистанции, сообщавшей начальнику уезда об отпуске поручика.
«Что ж, генеральским-то сынкам и служба легче, — злобно усмехнулся майор, прочтя строки о невыслуженном сроке отпуска. — Или, может, испортил уже девку-то да и бежать?..»
В своей обиде на Якова Егор Герасимович на мгновение даже будто пожелал, чтобы последнее предположение было правдой. Но потом плюнул и выругал себя, что бывало с ним до чрезвычайности редко. Наконец решил, что надо не откладывая съездить самому поглядеть — не раскаялся ли Яков, не станет ли бить «отбой», да подлинно понять, как и что.
Узнав, что поручик проехал через город, Жаркий взял лошадей и отправился в Высокое. По приезде занялся час-другой делами с начальником округа, потом вышел из канцелярии и направился в «магазею».
Яков Федорович работал в маленькой комнатушке об одном окне, отгороженной для письменных занятий в углу просторного здания. В кирпичной беленой печке исправно потрескивали дрова. Инвалид, сидя за конторкой, бодро щелкал счетами, мусолил карандаш и выводил на клочке бумаги столбцы цифр. На стенах стройными рядами висели косы, серпы, грабли, топоры и вилы, хранившиеся также в магазине.
— Здоров, старина! — приветствовал с порога майор.
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — отозвался, вставая, Яков. — Милости просим, — приветливо улыбаясь, он снял очки.
Весь прошедший месяц Подтягин постоянно вспоминал о сватовстве Егора Герасимовича. И хоть всегда говорил себе, что никак иначе поступить не мог, но все же жалел, что отказом, поди, вот как обидел старого товарища и крестового брата. Поэтому приходу майора он очень обрадовался. «Видно, не больно сердит, все-таки прошлое помнит, да и годы свои, должно, счел», — подумал он. И после нескольких незначительных слов собрался с духом и вымолвил:
— Слава богу, вы, видать, не гневаетесь на меня, Егор Герасимович?
— Ну, чего там… — криво усмехнулся Жаркий. — Раз не по душе пришелся — что сделаешь…
— К чему этак и говорить-то, — укоризненно покачал головой Яков. — Сами знаете, не было у меня дружка дороже, как вы… в те-то, давние годы…
— Так чего же закинулся тогда? — спросил майор. — Или нынче одумался? Говори, не осерчаю…
— Не закинулся я тогда и нынче одуматься не могу, — сказал понявший свою ошибку инвалид. — Потому, как прикину, что мы-то с вашим высокоблагородием на тридцать годов ее старе, то и вижу отчетисто, что не след…
— Дело твое… — Жаркий всмотрелся в открытое лицо собеседника и добавил: — А теперь за молодого, что ли, ладишь?
«Сказать? Не сказать? — подумал Яков. — Будто что не след… Может, уж пронюхал как, а то сам Александр Дмитрич капитану своему или в городе кому сболтнул… Никак сказать надо…» — и промолвил:
— Не то чтоб ладить, а сватал тут один офицер.
— Не постоялец ли?
— Он.
— А родня его как? Они ведь господа благородные, не нам с тобой чета.
— Поехал к матери благословение просить. Получит, так уж и перечить не стану, — отвечал простодушный Подтягин.
— Так, так… Ну, совет да любовь… — по-волчьи оскалился Егор Герасимович и поднялся уходить.
Поздно вечером, уже въехав в город, майор вдруг приказал ямщику везти его не домой, а к Акличееву.
Собираясь баллотироваться в уездные предводители, полковник снял квартиру в одном из лучших городских домов и поговаривал, как вскоре ее заново отделает и какой даст в ней обед дворянству. Пока же проводил здесь дня два в неделю «для рассеяния от деревни».
Жаркий застал приятеля дома, в одиночестве раскладывающим перед сном пасьянс.
— А, здорово, брат… — сказал полковник, мельком взглянув на вошедшего, подставил ему круглую щеку для поцелуя и вновь обратил глаза к картам. — Откуда бог несет?
— Прямо из округа. Замучила служба проклятая.
— Закусить не хочешь ли? Эй! Кто там есть?!
— Нет, спасибо, домой сейчас поеду, устал… Но у меня к тебе дело, просьба даже.
— Слушаю с превеликим вниманием, — проговорил Акличеев, все не поднимая глаз от неподвижных карт в «заевшем» пасьянсе.
— Скажи, не знавал ли ты в Питере семью генерала Вербо-Денисовича? — спросил майор.
— Денисович… Денисович… — повторил Акличеев, перекладывая карты. — Денисовича, говоришь, не знавал ли? — Он с видимым сожалением оторвался наконец от пасьянса. — Как же, знаю одного, кутили как-то вместе, даже на «ты», кажется… Но тот, помнится, в Варшаве служит, адъютант чей-то… Хлыщеват, знаешь ли, и без размаха — души русской не видать. Впрочем, говорят, человек ничего себе. Так что же с ним?
— С ним-то ничего пока, но как ты полагаешь, понравится ему, если брат его родной на солдатской дочке женится?
— Нет, натурально, не понравится, — сказал полковник, не задумываясь.
— А ты не мог бы ему от себя написать, чтобы этакое дело предупредить? — продолжал майор.
— Да где же это? Ты толком разъясни. Что за брат? — спросил Акличеев.
Он в последний раз взглянул на пасьянс и решительно отодвинулся от него, чтобы внимательно слушать.
И Егор Герасимович рассказал, что у его ближнего друга и старого боевого товарища, который так и остался в нижних чинах, есть дочка-невеста, которую он, майор, знает с малых лет. Что товарищ его служит поблизости в округе, в дочке души не чает и вот нынче просил совета да помощи по такому делу. Стал к нему на квартиру поручик Вербо-Денисович, из инженеров, начал за дочкой увиваться, недавно же и жениться обещал. Между тем родители, люди простые, очень опасаются, что выйдет из этого для девушки одна срамота, а если и женится поручик по молодости да с жару, то потом от чиновной его родни неприятностей не оберешься, и сам он, обдумавшись, никакого счастья дочке их не доставит, а верно, бросит ее так или этак, и останется она ни при чем. А потому отец с матерью будто и просили майора, как старого друга, нельзя ли придумать такие меры, чтобы перевести поскорее поручика в иное место или хоть задержать его подольше в Петербурге, куда он сейчас поехал на три недели. Они же за это время дочку образумят и тем предотвратят неминуемое для нее несчастье.
— Гм… Дело действительно глупое, — сказал Акличеев раздумчиво, выслушав всю историю. — Но коли этот поручик на брата похож, то навряд он на девушке простой женится, не таковский… Тогда, выходит, мне и писать этому-то варшавскому нечего… Разве только Стариков твоих пожалеть…
— Вот именно, — поддержал Жаркий. — Ты только напиши, что, мол, слышал стороной, но от верных людей, что братец ваш сбирается на простой девке, солдатской дочке, жениться, так чтобы ваша семья свои меры взяла, подольше его в Питере задержала, пока не одумается… Больше ведь ничего и не надобно.
— Что ж, это можно, — согласился Акличеев. — Завтра же и напишу.
Егор Герасимович стал прощаться, приятели расцеловались.
— Вот я и говорю, Егорушка, что у тебя душа самая благородная, — прочувственно сказал Акличеев. — Видишь, и в штаб-офицеры вышел, и обществом почитаем, и имуществом порядочным владеешь, а все старых товарищей не забыл… Одно тебе посоветую, для полного совершенства выучись-ка пасьянс раскладывать. Не поверишь, как это успокаивает… И для пищеварения отменно хорошо…
«Ладно, — усмехнулся про себя майор, выходя на улицу. — Мне мой-то пасьянс поважнее, и ты в нем, того не подозревая, сам не больно-то за важную карту нынче пошел… Авось коли мать генеральский сынок умолит, то уж братец да сестрица семейного бесчестья не попустят… А я, выждавши, чтоб он на попятный пошел или вовсе сгинул, снова свое дело поведу, да уж поумнее теперь, с подарками да ласковыми словами… Будет моя Настя-то…»
10
А поручик между тем был уже в Петербурге. Ранним утром, обдумав дорогой план действий, проехал он прямо на Садовую к дяде. Тут все было по-прежнему: канарейки, книги, модели мостов. И сам хозяин, уже вставший, выбритый и одетый, встретил племянника радостно и гостеприимно. Впрочем, Александр Дмитриевич оговорился сразу же, что если мать и Лили обидятся, зачем он не у них остановился, то надо будет сегодня же перебраться на Литейную.
Но сестра, к которой он отправился в тот же день после полудня, хоть и попеняла немного, почему не к ним приехал, сделала это скорее для проформы, позвала завтракать и обедать, когда пожелает, и тотчас ушла одеваться, чтобы ехать к кому-то с визитом. Бывший тут же муж ее тоже сказал несколько любезных слов. Он по-прежнему хорошо шел по службе, был уже директором департамента и с явным удовольствием сообщил, что получил недавно вторую звезду и к пасхе ждет чина тайного советника.
Мать, слегка простуженная и потому с неделю не выезжавшая, прослезилась при появлении сына, усадила у своих кресел и тотчас стала рассказывать, как и через кого она думает вскоре устроить ему перевод в Петербург, а также, что Nicolas писал ей о своем намерении жениться на графине Флигельдорф, какая у нее «порядочная» родня и богатое майоратное имение близ Гродно.
Речь свою генеральша прерывала только затем, чтобы выбранить старого лакея, вставившего свечи не в тот канделябр, который она приказывала себе подавать, и во второй раз, чтобы послать неотлучно находившуюся около приживалку из чиновничьих вдов за лекарством и мантильей в свою спальню.
Сын молча наблюдал ее — разодетую, завитую, надушенную, говорливую и самоуверенную. За полтора часа, проведенные около матери, Александр Дмитриевич получил еще беглый укор за сломанную ногу, которая помешает ему некоторое время танцевать и вообще быть «приятным кавалером», да услышал перечень всех новых лиц, кто ездит к его сестре и к самой генеральше. Но за те же полтора часа он с горечью понял, как несбыточны и смешны были его надежды, что мать поймет его любовь к Насте. Он ничего не сказал ей и ушел задолго до обеда, сославшись на дорожную усталость.
Медленно, чуть прихрамывая, проходил он по Литейной, Владимирской, Чернышову, через каменный мост с будками и цепями, по узкому Апраксину, поминутно подымая руку к киверу и рассеянно вглядываясь в мелькавшую мимо городскую жизнь.
Смеркалось. Фонарщики, влезши на лесенки и накрывшись рогожами, зажигали тусклые фонари, в лавках и домах освещались окна. По посыпанным песком панелям шли люди. По гладко укатанным мостовым неслись блестевшие лаком и стеклом кареты, летели, закидывая прохожих снегом, окутанные паром рысаки, трусили убогие «ваньки», тянулись обозы с кладью. Город был полон гомона, визга полозьев, крика торговок, разносчиков и кучеров. Но все это не казалось поручику ни привлекательным, ни красивым, ни радостным.
«Неужто я откажусь от нее?.. И ради чего?.. Ради такой жизни, как у сестры, у старшего брата с его графиней, или ради одинокой старости, как у дяди? — думал Александр Дмитриевич. — Упустить единственный выход, достойный человека чувствительного и бескорыстного, а гнаться за чинами, за новой каретой, за именитыми знакомыми… Не решиться на настоящее счастье, которое сама судьба предложила?..»
И перед ним вставало занесенное снегом село, сугробы, наметенные перед домами, мерцающие кой-где огоньки, дым, вздымающийся из труб в морозное розовое небо. А в крайней избе, в знакомой горнице, Настя за шитьем. Ее внимательный взгляд, ласковая улыбка, теплые, милые, чуть огрубевшие от работы руки…
В тот же вечер поручик рассказал дяде все свои дела. Тот несколько опешил от такого вороха новостей, подумал потупясь, крепко понюхал табаку, чихнул так, что спавшие канарейки испуганно чирикнули, и, утершись фуляром, сказал неопределенно:
— Ну, брат, надивил… Быстро у тебя.
— Пусть быстро. Но вы мне прямо скажите, как мне поступить? Что бы вы, например, сделали?
— Что сделал? — отозвался подполковник. — Я-то, видишь, в жизни ничего такого не сделал… — и в голосе его вдруг прозвучали грустные нотки. Но тотчас он стал расспрашивать про Настю — грамотна ли, что умеет делать, каковы отец и мачеха.
Александр Дмитриевич отвечал пространно и с жаром, однако под конец опять вернулся к вопросу, как же, по дядиному мнению, надо ему поступить.
Подполковник встал, прошелся по комнате, постоял в раздумье, глядя на полки с книгами и свои мосты, потом повернулся к племяннику и сказал очень спокойно:
— Как поступить? Да безо всякого сомнения более туда не возвращаться, сказаться по службе больным, бывать у сестрицы и в свете… Поторопить, чтобы тетушка и матушка скорее переводили тебя в здешние паркетные инженеры… Ну, а о девушке-то натурально забыть и думать. Мало ли ты их встретишь еще?
— Как мало ли?! Что вы, дядя! — закричал поручик, вскакивая. — Да неужто не поняли, что я без нее жить не могу! Как я допущу, чтобы какой-то старый майор или другой кто…
— Ну, а коли не можешь допустить, — хладнокровно остановил его дядя, — то чего же меня-то спрашиваешь? Инженер, а рассуждаешь разве гусару под стать… Хочешь, может, чтобы я удивился, как это при столь пылкой любви ты до сих пор не женат? Нет уж, того я не скажу, голубчик. И вполне уж серьезно тебе посоветую пожить здесь, обдумать все в отдалении, срок отпуска продлить, да, подождавши месяца два или три, и решиться зрело… коли не остынут твои чувства или здесь в кого не влюбишься… А ежели денег мало, изволь, на новый мундир, на кондитерские да на театры и я дам рублей триста.
— Нет, я вижу, дядя, что вы сами просто никогда не любили, — сказал возмущенно Александр Дмитриевич.
— Что ж, может статься, — бесстрастно отозвался подполковник.
— Ну вот и скажите по совести — не жалеете теперь? Не горюете постоянно, что упустили свое счастье? Отложили, верно, сами на месяцы, когда надо было спешить! — продолжал азартно племянник.
— Может статься… — повторил дядя и добавил: — Впрочем, потому и мог, должно быть, откладывать, что не было у меня твоего легковерного да спешного характера. Или оттого, может, что не встретил такой девушки.
— Ага, значит, допускаете, что коли бы встретили такую, то не откладывали бы?
— Глядя на тебя, чего не допустишь… Однако, право, не советую, лучше послушай меня, повремени с решением…
В этот вечер поручик, спавший в одной комнате с дядей и улегшийся раньше его, проснулся далеко за полночь от легких шуршащих звуков и сдержанного кашля.
Подполковник в халате и ермолке сидел за открытым бюро. Перед ним лежали, как показалось Александру Дмитриевичу, какие-то письма. Но дядя не читал их, а в глубоком раздумье смотрел на огонек одинокой свечи, озарявшей его добродушное лицо, такое грустное и спокойное.
Три дня ходил Вербо-Денисович к сестре, матери и тетке, высиживал часы в гостиной и столовой, участвовал в пустых разговорах, был представлен многим новым людям, раз сопровождал сестру по магазинам, а позже в чиновный дом на вечер с танцами и ужином, получил несколько приглашений на будущую неделю. И все это время томился и скучал беспрерывно.
Единственные приятные, но не лишенные грустных ощущений минуты пережил поручик, когда вызвался отыскать для матери начатую ею во время оно вышивку на пяльцах. Ища ее, он рылся в чулане, где было свалено все ненужное, привезенное из Москвы. Среди многих вещей, которые он помнил с детства, встретились отцовская накладка на лысину и старая шпага генерала с нарядным клинком, покрытым датами и именами сражений 1812–1814 годов. Накладку он, повертев в руках и ласково погладив, положил в какую-то коробку, а шпагу взял себе на память.
«Жаль, — подумал поручик, — что теперь другие по форме положены, носил бы я ее с честью».
А на четвертый день, застав мать одну в гостиной за утренним кофеем, Александр Дмитриевич заговорил о своем деле.
Когда он вымолвил, что думает жениться, генеральша снисходительно улыбнулась и заметила, что, пожалуй, рановато, но так как она твердо верит, что браки заключаются в небесах, то не станет мешать его счастию, тем более что теперь дети не спрашивают уже родителей, как в ее время. А главное, она знает его за разумного юношу и полагает, что он не сделает дурной партии. Хотя, верно, думает только о хорошеньком лице да о происхождении, но при расстроенном «их бедным отцом» состоянии не мешает знать, какое за его избранницей состоит приданое…
Дослушав мать до конца, поручик, уже внутренне накаленный, напрямик заявил, что партия, верно, по ее мнению, окажется не хороша, что выбранная им особа — дочь коллежского регистратора из солдат, но лучшей девушки нет и быть не может…
На генеральшу напал столбняк. Она изменилась в лице, и глаза ее закатились. Сын бросился за водой, но она, закусив тонкую губу, оттолкнула его руку со стаканом и сдавленным голосом выговорила:
— Как звать?
— Анастасия, — ответил он.
— А по отцу?
— Яковлевна.
— А прозвищем?
— Подтягина. Но к чему это? — спросил он, бледнея так же, как мать.
— Очень даже к чему, — процедила генеральша. — Значит, жена моего сына была бы Настасья, рожденная Подтягина… nee Podtiagin! Прелестно! Charmant! Дочка солдата, недавнего поротого мужика, за воровство или другое отменное качество сданного в рекруты… Достойным новым родством ты хочешь почтить свою семью! Есть чем всем нам гордиться! — Она перевела дух и продолжала: — Что же, если ты хочешь опозорить имя своего отца и мое, женившись на девке, которую тебе, без сомнения, ловко подсунули, пользуясь твоей неопытностью и глупостью…
— Матушка! — перебил умоляюще и вместе гневно Александр Дмитриевич.
— Что, батюшка?! — отозвалась она в тон. — Я очень узнаю здесь влияние твоего беспородного дяди! И советую тебе скорее одуматься, ужаснуться и понять, от какого дикого шага тебя спасает мать, которую ты не жалеешь и не почитаешь. Приказываю выбросить всю эту дурь из головы и навсегда забыть эту девку, которую следовало бы просто пороть…
— Матушка, перестаньте! — закричал он уже вне себя.
— Да, да, голубчик! И я никак не допущу этого позора. И муж Лили, и твой брат сделают все, чтобы вырвать тебя из лап этой деревенской распутницы.
Трудно сказать, что бы ответил и сделал исступленный Александр Дмитриевич, если бы на их повышенные голоса не вышла в гостиную Лили. Генеральша тотчас обратилась к ней с язвительным повествованием о «блистательных матримониальных планах» сына, налегая на «Настасью», «девку», «солдатскую дочку»…
Он бросился вон, накинул шинель и, весь дрожа, выскочил на улицу. Пройдя несколько шагов, подозвал извозчика и поехал на Садовую.
Если бы мать заплакала, опечалилась, принялась его уговаривать, оказалась бы просто жалкой, неумной старухой, поручик мог бы еще колебаться, думать, что обязан с нею считаться, что она по-своему несчастна его решением. Но теперь он видел, что она просто чужая, властная эгоистка, не только не понявшая того, что должна была понять и разделить, но еще оскорбившая Настю и грозившая ему.
Дяди не было дома. Александр Дмитриевич тотчас вышел, вскочил в сани не отъехавшего еще от дома извозчика и через десять минут был на Почтамтской, в конторе дилижансов. Там он узнал, что нынче в пять часов уходит на Новгород карета, потом отправки не будет три дня, и на сегодня есть только одно место. Посмотрел на часы — оставалось два с лишним часа до отъезда. Он взял билет, поспешив домой, уложил кое-как вещи и побежал к дяде в министерство.
Увидев племянника с чемоданом, подполковник выслал из кабинета докладывавшего ему офицера, выслушал сбивчивый рассказ, хотел было что-то сказать, но потом только покачал головой, понюхал табаку и вышел, не произнесши ни слова. Он вернулся через пять минут, показавшиеся поручику бесконечными. Подошел, обнял и перекрестил своего Сашу.
— Что ж, может, ты и прав, с такими жить трудно… И одному тоже не легко, — сказал он с большим волнением. — Но помни — обрубишь с ними всякую связь, уж не склеишь, — не возьмут. А там свяжешь — потом не разрубишь. Это не шутка, на всю жизнь… Понимаешь ты это?.. Но коли решил — то с богом! А это на новое хозяйство, — и дядя сунул в руку поручику пачку ассигнаций.
Александр Дмитриевич попытался возражать.
— Полно, полно, честные, не ворованные! — закричал подполковник и прибавил поспешно: — Ну, ступай теперь, — опоздаешь…
Они еще раз крепко обнялись и расстались.
Прождав двое суток прихода раскаявшегося сына, генеральша отправила лакея на Садовую, чтобы потребовать его к себе. Ее удивление и гнев при известии, что поручик уже уехал, были безмерны.
Пригласив знакомого помощника обер-полицмейстера, она с ним, зятем и дочерью устроила совещание о мерах, которые следует принять. Генеральша начала с требования, чтобы Александра как можно скорее разыскали, арестовали и содержали на гауптвахте, пока не одумается. И была возмущена, узнав, что это невозможно, так как он, по-видимому, не совершил никакого проступка по службе, а просто возвратился до срока из отпуска.
— Как же, полковник? — возражала она изложившему все это помощнику полицмейстера. — Ведь он собирается сделать шаг, недостойный порядочного человека, вышел уже из повиновения матери, так неужели нету у вас законов, охраняющих честь благородных семей?
— Нет, почему же, ваше превосходительство? — отвечал полковник. — Есть правила, по которым молодые чином и годами офицеры обязаны испрашивать разрешение на брак у своего начальства. Но в сем случае девушка, смею доложить, как явствует из слов вашего же превосходительства, не принадлежит к податному сословию, дочь коллежского регистратора — как-никак чиновника, а потому, увы, таковое разрешение вполне может быть дано. Так что я вам посоветую, не откладывая, обратиться к здешнему инженерному начальству, от коего все будет зависеть, чтобы задержать сколько-нибудь выдачу разрешения. А тем временем извольте хлопотать о скорейшем переводе вашего сына в иное место, чем опасные его стремления будут прерваны. Поверьте, средь новых лиц поручик весьма скоро охладится в чувствах, внушенных особой столь низкого происхождения.
Дав такой совет, помощник полицмейстера откланялся, а генеральша продолжала разговор с дочерью и зятем, обсуждая, к кому ей завтра же следует ехать, а затем написала старшему сыну весьма решительное письмо, требуя его немедленного приезда и вмешательства во все хлопоты. В письме этом густо пестрели перемежаемые восклицательными знаками слова: «девка», «Подтягина», «несмываемый позор семьи»…
А Александр Дмитриевич тем временем в дилижансе доехал до Новгорода, почтовой парой до Старосольска и тут, ни часу не медля, пересел на казенные сани, шедшие порожняком до соседней с Высоким деревни. Так что в исходе четвертых суток пути, промаршировав еще две версты со своим чемоданчиком и отцовской шпагой под мышкой, он, усталый от бессонных ночей и тягостных воспоминаний о Петербурге, но все же счастливый при мысли, что сейчас увидит Настю, добрался до подтягинской избы.
Его не ждали, и, может статься, поэтому он особенно ясно увидел, как все обрадовались его приезду. Лизавета кинулась собирать на стол, Яков засиял улыбкой и, стуча деревяшкой, полез в подполье за капустой и мочеными яблоками, а Настя, пришедшая домой несколькими минутами позже поручика, увидев с порога его стоящим в кухне у рукомойника, ахнула и, один только миг помедлив, кинулась в его раскрывшиеся мокрые объятия, да так и приникла, и замерла.
Наскоро закусив, поручик усадил всех троих, коротко пересказал разговор с матерью и заявил о своем твердом желании все же жениться на Насте, а к родне, за исключением дяди, никогда ни за чем более не обращаться.
На начавшиеся было возражения старших он сказал решительно:
— Все это я слышал и знаю, но ведь я не дитя, имею право жениться по своему выбору. Настя хочет за меня идти. — Он лишь на миг взглянул на нее, и радостное согласие отразилось во всех чертах девушки. — Чего же вам больше? Знайте, что всегда буду почитать вас, что как бы ни было, хоть и со службы уйду, а двоим на жизнь заработаю… Или и вы, как моя родня, скажете, что я другого сословия, а потому и не отдадите мне ее?.. Может, лучше захотите видеть за купцом каким-нибудь?
Яков и Лизавета молчали. Они видели, что Александр Дмитриевич точно решился и будет упорно настаивать на своем.
— А не станут ли и взаправду ваши сродственники вас с нею разлучить стараться? Ведь они люди сильные, все могут… — сказал инвалид, вспомнив пересказанные только что угрозы генеральши.
— Что ж, может, и будут… — отвечал поручик. — Но чтоб они ничего совершенно сделать нам не могли, я предвижу одно лишь средство, но зато самое верное.
— Какое же? — спросила трепещущая Настенька.
— Немедленно обвенчаться, — сказал Александр Дмитриевич, глядя в ее расширенные радостным страхом глаза. И продолжал: — Да тотчас же матери и брату отписать, что так, мол, и так, — поздно уже обо мне вам стараться. Ведь не могут же они нас развенчать? Так навсегда с ними разрубим, да зато здесь тоже навеки свяжем… — почти повторил он дядины слова.
И поручик убедил всех в этот же вечер. Убедил Лизавету, возражавшую, что в приданом кое-что не готово и что оглашения не было. Убедил Якова, говорившего, что без разрешения от начальства не станут венчать. Ей отвечал, что не в приданом Настина цена и пусть после свадьбы дошивают тишком что надо, а ему — что рад будет отсидеть после под арестом, но что какой-нибудь священник авось не устоит за сто рублей окрутить проезжего офицера.
Через два дня в ночь они трое выехали за сорок верст по Псковскому тракту, где в занесенной снегом деревушке, уже вне округов пахотных солдат, служил сговорчивый иерей. Сто рублей ему с причтом, пятерка соседу за коня и возок, одолженные будто для поездки в Старосольск, а еще десять рублей за кольца, купленные предусмотрительным поручиком проездом в Новгороде, составили все расходы на эту, до поры скрытую свадьбу.
В пути Яков частенько покряхтывал и в сомнении крутил головой, но твердая и радостная уверенность поручика постепенно передалась ему, и почтенный инвалид решил положиться во всем на волю божию.
В Петербург и Варшаву отправлены были короткие извещения о происшедшем, а «молодые» счастливо проживали в подтягинском домике оставшиеся две недели отпуска Александра Дмитриевича.
11
Известие, отправленное в Петербург, дошло по назначению менее чем в неделю и повергло генеральшу в ужас и гнев. С нею сделался нервический припадок, она бессвязно кричала и грозилась, потом упала в обморок, а придя в себя, объявила, что Александр более не сын ей и она знать о нем ничего не хочет.
А сообщение, посланное в Варшаву, шло дольше и опоздало. Ротмистр Вербо-Денисович накануне выехал в Старосольск. Получив дней за пятнадцать до того письмо Акличеева, Николай Дмитриевич, помня неосновательный характер этого известного всей столице кутилы, не придал сообщенным им слухам большого значения. Тем более что через день пришло другое письмо, от сестры, в котором говорилось, что Александр уже в Петербурге, очень мил, бывает у них с матерью ежедневно и его собираются переводить в столицу. Но когда в руках у ротмистра оказалось паническое послание генеральши, он понял, что действительно пришла пора вмешаться.
Никак не менее матери Николай Дмитриевич пребывал в уверенности, что настоящие люди — только «люди хорошего круга». Ведь лишь они могли дать то, что он ценил в жизни: чины, связи, богатство. Так научили его мать, Пажеский корпус и светское общество. И он твердо шел по этой дороге в личной жизни и на службе, не задумываясь отбросить все, что шло вразрез с «хорошим тоном» и успешной карьерой.
Не понимая иных взглядов, ротмистр твердо верил, что Александр неминуемо горько пожалеет когда-нибудь о сделанной глупости, но, главное, ему самому глубоко претила мысль о таком родстве, пусть и не признаваемом «в доме», но все же существующем, о каких-нибудь детях, рожденных от этого брака. К тому же он совсем недавно сделал предложение девушке, как нельзя лучше подходившей к его планам на жизнь, и был благосклонно принят. А теперь кто-нибудь скажет ее родне: «Как же, как же, у него еще брат где-то провинциальным инженером, женат на простой девке…» Черт знает какая гадость!.. Надо было бросать все и спешить спасти фамильную родословную от пятна, от солдатской дочери.
Испросив отпуск и заручившись рекомендательными письмами к петербургскому инженерному начальству от своего влиятельного патрона, Николай Дмитриевич простился с невестой и ее значительной родней, сказав, что едет к заболевшему брату, — как же этакое и назовешь, если не болезнью?! — и на курьерской тройке поскакал прямо в Старосольск.
Обдумав заранее все, что предстояло сделать, он решил не двигаться дальше городка и так или иначе вызвать к себе Александра, тем самым вырвав его на время объяснений из-под опасного влияния околдовавшей его особы.
Явившись по приезде к генералу, ротмистр с удовольствием узнал в нем петербургского, хоть и не близкого, знакомого, но главное, человека «своего круга», которому тотчас же рассказал все напрямик. Барон принял Николая Дмитриевича по-дружески, предвидя возможную пользу от услуги, оказанной адъютанту столь высокого лица, проникся сочувствием к семейным интересам Вербо-Денисовичей и обещал всякое содействие. Пригласив ротмистра остановиться у него, так как сейчас он живет «по-холостяцки»— баронесса гостила в Петербурге у родных, — начальник уезда после некоторого колебания распорядился вызвать к себе поручика.
— Мне кажется, что помимо чисто «отеческого» разговора с вами, дорогой господин барон, и братского со мной, — заметил в тот же день за ужином Николай Дмитриевич, — хорошо бы, если он вздумает упорствовать в своем заблуждении, арестовать молодца за что-нибудь недельки на две. А я тем временем съездил бы в Петербург и схлопотал немедленный перевод его куда-нибудь подальше. Таковы очень резонные планы дорогой maman.
— Но, однако, — возразил барон, — за что же его арестовать? Он, может статье я, по службе исправен.
— Да хоть бы за опоздание по вашему вызову.
— Ежели официально говорить, то брат ваш мне по службе ведь и не подчиняется, он только временно в округе у меня строит, — сказал начальник уезда. — Я не имею права его и вызывать, а должен бы сноситься через начальника постройки, некоего капитана. Однако сделаю это для вас, мой милый друг, и зная, чье высокое влияние помогает вам. И уж если правду сказать, он навряд ли приедет, потому что я писал ему самую любезную записку однажды, чтобы прибыл познакомиться, но он даже представиться не заходил, хоть проезжал дважды через мой город.
— Что вы? Неужели? Вот неслыханная невоспитанность! — воскликнул Николай Дмитриевич. — Да ведь за это одно надо его под арест! А уж насчет подчиненности вы беспокоиться не извольте, — пусть потом жалуется куда хочет, я это без труда улажу, у меня от князя письма есть к его начальству. К тому же, в городе и во всем уезде вы, господин барон, высшее военное лицо, как бы начальник гарнизона, — следовательно, можете всем носящим мундир приказывать.
Генерал самодовольно усмехнулся. Но когда после ужина остался один, вновь почувствовал себя не вполне уверенно. Он принадлежал к довольно распространенному в то время типу служилых «русских немцев», которые почти в каждом ведомстве, разместившись тут и там на служебной лестнице, крепко помогали друг другу. Отличительными особенностями этих офицеров и чиновников была крайняя аккуратность и точность в исполнении правил и предписаний свыше, проистекавшая не из убеждения в нужности и полезности творимого, а из угодливости перед начальством, из стремления быть на «хорошем счету» и полного отсутствия инициативы. Особая, чисто немецкая ровность их характеров, благопристойность манер и выражений принимались многими за признаки нравственности и образования, а осторожность и расчетливость в казнокрадстве — за честность.
Начальник Старосольских округов пахотных солдат к перечисленным выше типовым качествам присоединял еще баронский титул и ограниченность ума. Наличие одного и недохватка другого уравновесили друг друга, и он сделал не блестящую и не видную, но спокойную и выгодную карьеру.
Итак, вечером этого дня барон испытывал беспокойство. Сделав в первую минуту то, что просил ротмистр, под влиянием мысли о могуществе его покровителя, он теперь не мог отделаться от опасения, что наживет какие-нибудь неприятности с дерзким поручиком, который вон какие позволяет себе уклонения от законных обычаев и порядков. Что сделать, например, если он, несмотря на приказ, не приедет вовсе? Или что отвечать, если после запросят, на каком основании вызывался чужой подчиненный для неслужебного разговора?
На другой день барон после утреннего доклада рассказал майору Жаркому о своих сомнениях и выразил желание услышать, что думает об этом его «правая рука». Егор Герасимович знал уже о приезде старшего Вербо-Денисовича и, внутренне возликовав от услышанного, предвкушал унижение, а вероятно, и удаление навсегда своего молодого соперника. Он посоветовал дождаться приезда поручика, дав на то сроку дня три. Тогда и посмотреть, — какая-нибудь вина, верно, уж найдется. А коли не приедет — еще хуже, за ослушание взять под конвой и прямо на гауптвахту. Насчет же неподчиненности инженерных офицеров отозвался, что это, мол, сущие пустяки, при такой поддержке особенно.
А молодые в Высоком и не подозревали, какие собираются над ними тучи.
На второй день после конца отпуска, когда Александр Дмитриевич, проведя часов пять на берегу, вернулся домой усталый, замерзший, голодный, но радостный от мысли, что сейчас увидит свою Настеньку, Яков сказал, что недавно приходили звать его в окружную канцелярию. Поручик поморщился, отогрелся немного и пошел. Начальник округа передал ему приказ генерала немедленно явиться в Старосольск по служебной надобности. И когда поручик возразил, что, принадлежа к иному ведомству, он не подчинен здесь никому, кроме своего инженер-капитана да полковника в Новгороде, начальник округа посоветовал все же съездить и объясниться. То же сказал и инженер-капитан, к которому зашел за советом Александр Дмитриевич, только прибавив, чтобы при объяснении не давал в обиду их общий мундир.
Назавтра было воскресенье — неприсутственный день, а в понедельник на заре ясного, крепко морозного дня поручик выехал в город. Как не хотелось ему на целые сутки отрываться от Настеньки! Как он просил ее беречься! Лизавета напекла ему целую корзину пирогов. Яков заставил надеть Лизаветины валенки и поверх тонкой шинели огромную баранью шубу — ехать-то тридцать верст.
Все вышли на крыльцо и смотрели, как Александр Дмитриевич усаживался в сани. Настя в любимом, памятном обоим голубом шугайчике стояла на нижней ступеньке.
— Все ли взято по форме-то для представления? — спросил бывалый Яков.
— Будто что все… — отвечал поручик, ощупывая сено вокруг своих ног. — Кивер вот и сапоги тут… А сабля где же?.. Ах я, разиня! Забыл в комнате…
Настя стрелой взлетела на крыльцо, через минуту вернулась с оружием и сунула его в сено. На миг коснулась лица Александра Дмитриевича легкая прядь, прильнула холодной щекой, губами… И уже опять стояла на крыльце.
— Уходите, застудитесь! — крикнул поручик. Лошади тронулись.
Скоро изба Якова скрылась из виду. Чистый, озаренный еще низким красноватым солнцем снег широко развернулся на полях за селом.
«До чего же здесь и с ними лучше, чем в Питере. Никогда отсюда не уеду», — подумал Александр Дмитриевич, плотнее запахиваясь в шубу.
Было около полудня, когда поручик подъехал к каменному дому с белыми колоннами, занятому канцелярией и квартирой генерала. Ямщик помог ему вылезти и понес сзади поклажу. В нижнем этаже, в комнате, где сидели писаря, Александр Дмитриевич скинул шубу и шинель, натянул сапоги, достал из футляра кивер, начал подтягивать шарф и тут только увидел, что Настя по ошибке вынесла ему отцовскую шпагу. Да где ей и распознать? Ножны у обеих лаковые, наконечники на них и эфесы золоченые, и впопыхах ведь…
Вошедший адъютант генерала, молодой офицер с добродушным лицом, увидя затруднение поручика, сбегал к себе в комнату и принес свою запасную саблю. Через три минуты все было готово к представлению.
В зале наверху ожидали приема несколько офицеров, чиновников и статских. Адъютант прошел вперед и, почти тотчас вернувшись, попросил Александра Дмитриевича в кабинет.
Нестарый, бледнолицый и рыжеватый генерал, тощего, но жилистого сложения, выслушав официальную фразу явки по начальству, вежливо просил садиться. С достоинством, помолчав минуту-две, он, негромко и тщательно произнося слова, сказал, что желал бы объясниться с поручиком не как высший начальник с обер-офицером, а как истинный друг почтенного семейства его матушки, желающий ему, поручику, добра. Далее последовало повторение всего, что говорила Александру три недели назад мать, только в смягченной форме. Но тут были и честь семьи, и фамильная гордость, и чистота дворянской крови, и спокойствие достойнейшей генеральши, а в заключение — совет одуматься, вспомнить о дальнейшей карьере и отказаться от странного и неподобающего брака с недавней солдатской дочкой.
Во время этой ровной и гладкой речи, которой барон, видимо, сам был весьма доволен, в кабинет без стука и доклада вошел майор Жаркий, положил на стол какие-то бумаги, постоял с минуту, слушая, мельком взглянул исподлобья на поручика и, чуть усмехнувшись, вышел.
Когда генерал высказал все, что хотел, Александр Дмитриевич встал и, поклонясь, ответил, что очень благодарен его превосходительству за внимание к его делам, но они уже никак не могут быть изменены, ибо семнадцать дней назад он повенчан именно с той девушкой, которую его превосходительству только что угодно было назвать «солдатской дочкой».
Генерал удивленно заморгал веками и откинулся в кресле.
— Как повенчан? — спросил он через минуту.
— А вот, извольте взглянуть. — И поручик достал из-за борта мундира бумажник, а из него церковную выпись о браке, которую положил перед бароном.
Тот прочел, поднял глаза на довольное лицо Александра Дмитриевича, и румянец пятнами покрыл его щеки.
— А начальство разрешаль? — грозно повысил он голос. И немецкий акцент прозвучал отчетливее, чем в спокойной речи. — Службы не знаваль?
— Именно зная службу, но не имея счастья быть подчиненным вашему превосходительству, я не почел себя обязанным испрашивать вашего разрешения по вопросам, не касающимся вверенного вашему превосходительству ведомства пахотных солдат, — ровно и быстро отвечал поручик.
— Что-о? Как не касающие? — закричал генерал. — Я старший из воинских чинов в сем городе и на целый уезд, и оттого до меня все касающе, что здесь ни имеет происходить… Поняль?
— До сей минуты я иначе понимал это, ваше превосходительство, — смиренно возразил Александр Дмитриевич, едва удерживая пробивавшуюся на лице улыбку, и спросил: — Но кто же осмелился потревожить ваше превосходительство моими семейными делами, притом, как изволите видеть, совершенно уж попусту.
— Это к делу не ходит! — оборвал его генерал. — И еще надобно проверить, имеете ли вы законного разрешения инженерного начальства.
— Но ведь все равно развенчать нас невозможно, ваше превосходительство.
— Если начальство посчитает за нужное — оно все может, — наставительно сказал генерал. Помолчав и, недоуменно подняв брови, закончил: — И ступайте!
Поручик сунул за борт свою бумагу, откланялся и вышел.
Не поспел он еще закрыть дверь, как быстро шагнул в кабинет майор Жаркий. Видно, тут же в зале ждал его выхода. И на мелькнувшем мимо смуглом лобастом лице опять играла злорадная усмешка.
«Вот кто тут все мутит-то! — закипая злобой, подумал, приостановясь, Александр Дмитриевич. Но, вспомнив, что услышит сейчас Жаркий от генерала, мигом успокоился: — Ну и черт с вами! Что, взяли?.. Теперь скорее домой!»
Кто-то подхватил его под локоть. Это был давешний адъютант.
— Сюда пожалуйте! — сказал он, ведя Александра Дмитриевича через залу к двери напротив кабинета.
— Что это? Другой выход? — спросил тот.
Но адъютант с любезной улыбкой, пропустив его вперед, распахнул уже обе дверные створки и сам, оставшись за порогом, тотчас закрыл их.
Перед поручиком была довольно большая комната, обставленная как гостиная, и в кресле за столиком сидел его старший брат. Они не виделись около полутора лет, и Николай почти не изменился. То же красивое, но малоподвижное и, пожалуй, теперь более округлившееся лицо. Тот же безупречный адъютантский мундир и туго натянутые штрипками рейтузы на длинных, согнутых ногах. Перед ротмистром стояли бутылка, два бокала и на блюде кусок сыру. Вставая, он отложил открытую книгу и, улыбаясь брату, стряхнул с груди крошки. Они обнялись и поцеловались.
— Откуда ты? Когда приехал? — спросил младший.
— Сейчас все объясню, — отвечал Николай Дмитриевич, садясь и одобрительно оглядывая брата. — А ты возмужал, похорошел, и хромоты незаметно… Только плоха эта форма ваша. Что за нелепое сочетание: зеленое с серебром?.. Никакого вкуса… Да садись же, — он подвинул Александру сыр и налил вина. — Выпей, ведь ты с дороги, а обед еще не скоро… Тебя генерал, надеюсь, позвал нынче обедать?
— Нет, — улыбнулся поручик и отпил вина. — Ему не до того было.
— Ты, может быть, наговорил ему лишнего?
— Нет, кажется.
— Но о чем же вы толковали? — спросил с шутливым лукавством Николай, сбитый с толку веселой улыбкой брата.
— Да, верно, о том же, о чем и ты хочешь говорить со мной… Для чего, должно быть, и приехал.
— И он не убедил тебя?
— Нет.
— Но, воля твоя, ведь ты, если maman не преувеличивает, — чему я только, конечно, обрадуюсь, — хотел, кажется, нанести себе непоправимое зло.
— Что же делать, когда оно представляется мне самым большим добром.
Неизвестно, как развивался бы дальше этот разговор, но в дверь постучали, и вслед за тем показалась голова адъютанта.
— Господин ротмистр, пожалуйте к генералу.
Николай Дмитриевич вышел, и Александр старался представить себе, что происходит сейчас в кабинете. Ему было и грустно от мысли, как далеки они с братом, и в то же время смешно — как он ловко провел их всех. Попивая вино, поручик представлял себе, как Николай возвратится сейчас и начнет упрекать его за проступок против фамильной чести.
Но он ошибся. Ротмистр вошел стремительно и круто остановился перед креслом, на котором сидел брат, меряя его жестким взглядом сузившихся глаз. Лицо его заметно побледнело, меж бровей залегли две складки, на скулах ходили бугры мышц.
— Покажи эту бумагу, — отрывисто и глухо сказал он, наконец овладев собой.
Поручик не спеша достал и подал выпись о браке. Николай Дмитриевич прочел внимательно и положил ее в карман.
— Что это значит? — спросил Александр, вставая.
— А то, что я, как старший брат, должен навести справки об этом мальчишеском поступке и сделать все возможное, чтобы уничтожить его нелепые последствия.
— То есть как это уничтожить? — шагнул к нему вплотную поручик.
— А так, — холодно сказал Николай Дмитриевич. — Я надеюсь, что коли не соблюдены все законные требования и правила, которых немало, — вот хотя бы тут нет ни одного свидетеля, — то можно будет начать дело о расторжении… Впрочем, я сам сейчас не знаю как, но, уж поверь, постараюсь это сделать, и ты сам будешь мне со временем весьма благодарен.
— А я прошу тебя, — все более теряя самообладание, заговорил Александр, — во-первых, понять, что брак этот самый законный и действительный, что я от него никогда не откажусь и еще не только не прошу вмешательства в мои дела, но требую, чтобы ты оставил меня в покое, раз мои действия возбуждают в тебе такое возмущение.
— Твои действия говорят только о твоей молодости, — все так же уничтожающе-холодно возразил старший брат. — И о том еще, что ты, как должно бы порядочному человеку, не посчитался с покоем обожавшей тебя матери, собственным будущим, с моей карьерой, наконец…
— Ах вот как?.. — закричал вне себя поручик. И, едва выговаривая слова от охватившего его волнения, продолжал: — Уж лучше бы ты не поднимал разговора о порядочности… Я считаю, что с твоей стороны не очень порядочно вмешиваться в мою жизнь потому только, что это может повредить твоей карьере, или прятать в карман не принадлежащую тебе бумагу, которую я дал тебе для прочтения…
Николай Дмитриевич закусил губу, передернул бледной щекой, достал из кармана выпись о браке, еще раз пробежал ее глазами и протянул брату.
— Но отсутствие этого не остановит меня от тех действий, которые я почту сообразными со своей честью, — сказал он.
— А твое поведение убеждает меня, что наши понятия о чести никогда не окажутся схожими, — выговорил Александр. И поспешно вышел из комнаты, едва сдержавшись, чтобы не наговорить старшему брату просившихся на язык еще более грубых и страшных слов.
«Вон, вон отсюда», — думал он, почти бегом пересекая залу.
— Куда так скоро, поручик? — раздалось сзади. И, обернувшись, он увидел приближавшихся Жаркого и генеральского адъютанта.
— Вас не велено отпускать, — продолжал майор. — Позвольте-ка саблю.
— Что такое? Арест? — спросил оторопевший Александр Дмитриевич. — За что?
— За дерзости его превосходительству, — отвечал Жаркий.
Все бывшие в зале замолчали и обратились в их сторону. Поручик шагнул было к двери кабинета, но майор и адъютант заступили ему дорогу.
— Я хочу к генералу… Тут недоразумение… Я ничего не сказал ему дерзкого… Надо объясниться… — громко, горячо и несвязно говорил Александр Дмитриевич.
— Нечего там объясняться, — оборвал его Жаркий. — Ежели каждый фендрик грубить станет да еще с объяснением зачнет соваться к его превосходительству… — Он с нескрываемой злобой смотрел на поручика. — Ну, давайте саблю.
«Вот он, самый страшный мой враг», — напрягая всю волю, чтобы удержаться от чего-нибудь лишнего, подумал поручик.
Он отступил на шаг и стал расстегивать поясную портупею. Все в зале вздохнули облегченно.
Сняв саблю, арестованный протянул ее не майору, а адъютанту.
— Мне, говорю, подать! — рявкнул Жаркий.
— Она не их, Егор Герасимович, — заговорил адъютант, спеша уладить дело. — У них по ошибке в санях не форменная сабля случилась, я им и одолжил.
— Ах, вот чего, — сказал майор, злобно осклабясь. — Ну так и еще две недели аресту возьмет за несоблюдение формы…
— А вас, я вижу, это весьма радует, — не выдержал Александр Дмитриевич.
— Да, не больно печалит, — отозвался Жаркий.
Адъютант взял поручика под руку и поспешно повлек его к двери.
— Ничего, ничего, — говорил он. — Авось все устроится. Я генералу доложу, как все было, он ведь очень мягок… Но когда вы погорячились, да еще при свидетелях, каково его положение?
Они были уже в дверях.
— Как при свидетелях? — остановился как вкопанный Александр. — Кто свидетель?
— Да вот же господин майор там были… — удивленно уставился на него адъютант.
В два прыжка поручик был опять лицом к лицу с Жарким.
— И вы утверждаете, что я при вас хоть слово сказал генералу? — звонко прозвучало в замершем зале.
— Потише, молодчик, не забываться! — загремел, багровея, майор. — Тут не фельдфебельская семейка! На молодую жену кричи!..
Поручик плохо помнил, что случилось дальше. Позже ему сказали, что с криком «лгун и подлец» он ударил Жаркого по лицу. Тогда единственной действующей рукой майор схватил оскорбителя за горло и сжал как клещами. Однако молодой человек еще раз ударил его по щеке, уже задыхаясь нащупал эполет и сорвал его, но тут, прижатый к стене, захрипел и почти потерял сознание.
Бывшие в зале и растерявшиеся было господа бросились наконец растаскивать дерущихся.
Но только когда на крики прибежали барон с Николаем Дмитриевичем и схватили майора с двух сторон, им удалось оторвать его от посиневшего поручика.
Повалившегося было юношу подхватили под руки и повели, почти понесли в гостиную. А Егор Герасимович, дико озираясь вокруг, не отвечая на вопросы и вертя в руке услужливо поданный кем-то эполет, простоял на месте еще несколько минут. Наконец как бы очнулся, скрипнул зубами так, что все от него отшатнулись, и вышел из зала. В эти мгновения, вобрав в плечи широколобую голову, поводя остекленелым взором на опасливо глядевших на него людей, он более чем когда-нибудь был похож на матерого волка.
Придя домой, майор заперся, достал полштофа водки, налил стакан, залпом выпил и заметался из угла в угол.
«Мальчишка, щенок барский… Ну погоди же… Все равно доберусь… — бормотал он исступленно. — По лицу, при народе… эполет… он мне кровью достался…» — и потрясал тяжким, похожим на молот, кулаком.
Вскоре бутылка была пуста, Жаркий крикнул подать новую и тут же послал денщика в присутствие к окружному аудитору, передать, чтобы пришел сейчас же.
Через полчаса позванный, кланяясь и потирая зябкие руки, вошел в комнату. Это был старый чиновник, весь век просидевший за военно-судными кляузами. Он успел уже прослышать о случившемся в приемной генерала и начал с изъявлений соболезнования и возмущения.
— Ладно, Петрович, — оборвал его майор. — Говори толком, подо что подвесть его можешь… Пей вот да пиши… А мной доволен будешь.
Аудитор без закуски пить отказался и, пока ее подавали, стал расспрашивать об обстоятельствах дела, возмущенно охая и сочувственно качая головой. Дослушав до конца, он переспросил только, точно ли Жаркому поручил генерал арестовать Вербо-Денисовича, и, получив безоговорочно утвердительный ответ, расплылся в улыбку.
— Вот тут-то, почтеннейший Егор Герасимович, наиглавнейшее и есть, — сказал он, подымая значительно вверх вилку с нацепленным на нее соленым грибом. — В лице вашем при сем случае оскорблен не только что заслуженный штаб-офицер, а еще и посланный высшим чином к низшему со служебным, так сказать, поручением. Вот за это-то мы его и пришьем… — И аудитор, прищурившись от удовольствия, опрокинул в широкий рот рюмку.
— А крепко пришьешь? — спросил Жаркий.
— Да самое малое — серой шинели не миновать…
— Так валяй, — и майор стал переставлять водку и все к ней принадлежащее на свой письменный стол.
— Да уж лучше бы мне дома вечерком, на досуге составить, — возразил было Петрович.
— Нет, сейчас, немедля пиши, — приказал майор. — Чтоб утром в ход пустить, чтобы скорее щенка этого… — Да так глянул куда-то мимо аудитора, что тот поспешно встал и, просеменив через комнату, взялся за перо.
Утром подписанный майором рапорт о происшествии был подан, внесен во входящий журнал и пошел на доклад к начальнику уезда.
Докладывал не Жаркий, сказавшийся больным, а другой помощник, и генерал, пред тем как наложить резолюцию, приказал попросить к себе Николая Дмитриевича.
— Вот видите, мой друг, — сказал он. — Я не могу не принимать этот рапорт после того прискорбного, что вчера происходило… Но, быть может, вы захотите сами поговорить с майором, как-нибудь заминать дело, углаживать… Пусть он будет лучше изображать все как частное столкновение, не замешивать мое имя. Так будут иные, помягче последствия… Фуй, как все это неприятно… И что еще скажется в Петербурге?! Помните, как я не хотел его арестовать, — закончил барон укоризненно.
Дело в том, что вчера, когда поручик оставался в гостиной, а ротмистр, придя к генералу, узнал о совершенном уже венчании, именно он, после первой вспышки гнева, просил арестовать брата хоть на несколько дней. Такой срок был нужен, как тут же пояснил Николай Дмитриевич, чтобы съездить к совершавшему обряд священнику и в Высокое, где он без помехи надеялся припугнуть, а может, подкупить, кого сочтет нужным, и таким образом найти выход из казавшегося ему столь возмутительным положения.
Просьбу ротмистра поддержал и находившийся тут же майор Жаркий, решительно заверивший, что, входя в кабинет во время недавнего разговора, он будто бы слышал весьма непочтительный тон поручика. Еще не остывший от провала своей миссии доброго советчика, барон дал себя убедить и возложил на предложившего свои услуги майора это поручение. Но потом, после всего случившегося, ужасно расстроился, пил капли и даже плохо спал ночь. Как же, вместо благородного улаживания семейного дела получился такой скандал, о котором и в Петербурге станут говорить! Начнется переписка с инженерным начальством, обязательно будут спрашивать, зачем он вызывал этого бешеного мальчишку… Могут быть недовольны им, бароном… Надо стараться все как-нибудь уладить…
Но Николай Дмитриевич, накануне очень взволнованный случившимся, вошел сегодня к генералу совершенно таким же спокойным, как был во все предыдущие дни. Он уже обрел присущую ему уверенность в том, как надо поступить. Рано утром побывал он на гауптвахте, куда перевели поручика еще вчера, после того как оказали ему первую помощь, и убедился, что он невредим. Ротмистр ходил туда именно за тем, чтобы узнать, не одумался ли Александр, и в этом случае предложить переговорить с майором. Но арестованный, лежа в офицерской комнате на диване, даже не повернулся на слова брата и только произнес: «Уйди, я тебя знать не хочу…»
И теперь, выслушав слова генерала, мельком взглянув на лежащий перед ним рапорт, старший Вербо-Денисович сказал:
— Нет, зачем же вмешиваться, дорогой барон? Я полагаю, что Александру именно нужно большое испытание. Майор имеет право требовать законного наказания за нанесенное ему оскорбление. Пусть дело идет своим чередом. Что грозит моему брату? Разжалование? Так, может статься, это лучшее, что следует ему пожелать… Год-два, прожитые в солдатской среде, навсегда отобьют у него охоту якшаться с мужиками. А мы тем временем сумеем и судьбу его смягчить, если образумится, и нелепый брак этот сам по себе расстроится…
Генерал не нашел что возражать, уверенность собеседника всегда на него очень действовала, и он написал на рапорте Жаркого: «Давать движение сообразно законам».
12
Прошло полгода. Стояло жаркое лето. Над Старосольском тянуло удушливым дымом — горели окрестные леса.
Поручик все еще сидел на гауптвахте. Дело его давно передано было в Новгород, а оттуда в Петербург. Ждали приговора генерал-аудиториата, утвержденного царем. Говорили, что родня хлопочет о смягчении участи.
В городе, где с месяц только и речи было, что про историю в приемной генерала, занялись новыми важными толками: о самоубийстве одного чиновника, о том, как бык забодал сидельца из мясных рядов, и ходили смотреть на быстро двигавшуюся постройку огромного нового дома купцов Дерглецовых.
Не забыли о деле поручика только те, для кого оно было вопросом дальнейшей жизни.
Яков и Настя уже пять месяцев жили в Старосольске. Верно, много лет еще исправно служил бы инвалид в своей «магазее», если бы не такое происшествие. Но тут, поняв, что Насте надо быть около мужа, а коли отправить ее в город с Лизаветой, то как еще управятся, он немедля подал прошение об отставке и вскоре сдал должность вновь назначенному смотрителю. Теперь ежедневно ходили они к гауптвахте и благодаря нестрогому караулу видели через окошко Александра Дмитриевича. Еще зимой арестованного перевели в комнату, выходившую на задний фасад здания, и туда на солдатский огород шли навещать его жена и тесть. Если никого не было видно в невысоком оконце, то Яков бросал снежком в стекло, и поручик тотчас садился на подоконник. Пока было холодно, он через двойные рамы только смотрел на них, улыбался да угадывал, что они говорят, по движению губ, по глухим доходившим до него звукам. Но когда весной их разделил только один ряд стекол, свидания стали значительнее. Теперь, когда они только подходили, Яков начинал насвистывать свой любимый парижский марш, Александр Дмитриевич тихонько отворял раму и просовывал между прутьев решетки свою руку, чтобы поздороваться с инвалидом, после чего завладевал на все время свидания рукой Насти. Яков вскоре уходил, будто по делам, и они часами то говорили, то молчали, радостно смотря друг на друга. Для обоих давно прошел уже первый острый период отчаяния. Тогда поручик несколько дней валялся на прорванном, засаленном диване своей камеры, почти не спал, не ел и, глядя на грязную стену, думал с удивлением и тоской: как все это вышло и что же будет дальше? А Настя металась по дому в Высоком, тоже не спала, тоже не ела и торопила отца скорее ехать в город.
Теперь, вместе, они никогда не грустили, каждый тосковал в одиночку. А стоя у окошка, старались отвлечься от темного будущего. Случалось, что молча подолгу смотрели они на зеленевший перед окном огород, на садившихся поблизости птиц, на далекую колокольню за деревьями садов, неизменно держа друг друга за руку.
С июня Насте стало трудно подолгу стоять, — она была беременна. Тогда Яков сделал для нее складной стульчик, который ночевал у Александра в камере, дважды в день, а то и четыре раза пролезая между ржавых железных прутьев решетки.
Яков жил около молодых. Вздыхая и кряхтя по ночам, днем бодро ковылял по городку, сопровождая Настю на гауптвахту или покупая на базаре разную снедь, чтобы полакомить Александра Дмитриевича. А в свободное время направлялся к одному из городских столяров, с которым уже давно свел дружбу, кое в чем помогал ему, кой-чему учился. Жить без дела Якову было невмоготу. Часто ходил он с Настей в церковь и там молился, чтобы все как-нибудь получше устроилось. Но умом в хорошее будущее не верил.
А Егор Герасимович жил тут же, совсем рядом с этими тремя людьми, и, можно сказать, почти все время думал о них.
Внешне жизнь его шла по-прежнему. Он исправно служил, часто разъезжал по округам, а в городе вечерами хаживал к кой-кому в гости, играл, не проигрываясь, в карты, пил не напиваясь, сидя же дома, сводил свои и казенные счеты.
Но внутренне майор не знал прежнего многолетнего равновесия. Первые дни после подачи рапорта ежечасно, при одном воспоминании о случившемся, поднималась в душе его злоба на оскорбителя и радость, что тому долго не выбраться теперь из глубокой колеи несчастий. Но только первые часы, первые сутки наполняла она все без остатка, застилала глаза и мутила ум. Потом проснулись опасливые мысли о том, какое же влияние окажет происшествие на его, майора, дальнейшую службу.
«Битый офицер… Ведь все же он мне пощечину дал, да и эполет сорвал, проклятый, — думал Егор Герасимович. — На прочих-то мне наплевать, а вот как барон взглянет? Хотя он видел, что я чуть не задушил щенка… Эх, кабы не отняли!.. Однако, как ни верти, — зазорно».
Но при первой же встрече начальник уезда выразил Жаркому сожаление о происшедшем, сказавши:
— Ужасная история… И вы вызвать даже его не можете… Пусть же понесет заслуженную кару. Военная служба — это не школьные игрища…
С этой стороны, значит, все обстояло благополучно.
Майор не знал, что в то же время барон, которому он нужен был как опытнейший из помощников, говорил кое-кому из доверенных офицеров:
— Ну, подумайть, что ему еще одна пощечина? Я полагаю, сколько их получаль, когда солдатом состояль. А юношу очень жалко. Такое испытание в молодые годы. И жена эта, говорят, очень красавица…
Но Егор Герасимович не слышал таких отзывов начальника. Внешне все было гладко — генерал благожелателен, эполет пришит заново к мундиру, обидчик сидел под караулом. На несколько дней все будто встало на место, пока не произошла размолвка с Акличеевым.
Во время происшествия полковника не было в городе. Он жил у себя в деревне, пока городской дом заново отделывали к близким дворянским выборам. Приехав через неделю, он решил остановиться у Жаркого, но уже по пути, на улице был остановлен одним из знакомых, спешившим рассказать необычайную новость. Воспоминание о написанном письме-доносе больно щипнуло Акличеева за душу. Что-то тут будто неладно. Похоже, что майор сводил с поручиком какие-то счеты… Или зря этакое на ум пришло? Насупленный и молчаливый, приехал он к приятелю. Как всегда, обнялись, поцеловались, и тотчас почти полковник вызвал Егора Герасимовича на рассказ. Охотно, но не многословно передал тот официальную версию столкновения, опустив свое участие в решении об аресте и как-то инстинктивно воздерживаясь от особо сильных выражений злобы к поручику.
— Видать, он в бешенстве-то себя вовсе не помнил, вот и наделал этакого… — сказал Акличеев. — Да и вы-то все хороши, на одного фендрика навалились… А я еще письмо это дурацкое написал. Эх, жалко его, ей-богу, жалко… Надо будет вина, что ли, под караул послать. — Он не представлял иного утешения во всех несчастьях, кроме бутылки.
Вечер приятели провели дружно, о происшествии вспоминали вскользь, — нет-нет полковник и вздохнет между рюмками об арестованном. Но Егор Герасимович сдерживался, хоть его и крепко задевала такая несправедливость. «Вот она, барская-то кость, — за своего и душа болит», — мрачно думал он.
Изрядно нагрузившись, легли спать, а утром, опохмеляясь, условились вместе после обеда поехать смотреть, как идет ремонт.
Но потом Акличеев зашел к генералу и остался у него завтракать. Тут, конечно, речь опять зашла о недавней истории. Барон подробно рассказал о том, как поручик был в Петербурге, об отказе ему в материнском благословении, о письме генеральши к старшему брату и о самовольном браке. Упомянул сокрушенно о своих стараниях все уладить и о том, как согласился на просьбы Николая Дмитриевича и майора.
«Слава богу, не в моем письме тут штука, — подумал полковник. — А об счетах Егоровых я, выходит, похоже что прав. Надо адъютанта еще расспросить, да, может, и до поручика добраться… Чего они не поделили? Верно, с подрядами на постройке этой… Недаром люди говорят: зол Егор да алчен».
Простившись с генералом, он вышел и, спускаясь по лестнице в канцелярию, почти столкнулся с адъютантом, бежавшим наверх с бумагами.
— Хочу тебя, голубчик, кое о чем расспросить, — сказал Акличеев. — Про скверную историю, что у вас тут случилась.
— Сей момент, господин полковник, я вниз вернусь, — ответил адъютант, — только на подпись его превосходительству спешную почту подам. А там-то в канцелярии, — добавил он, — вы сейчас увидеть изволите, по этому самому случаю, тесть поручиков пришел свиданья с ним просить…
Внизу, у адъютантского стола, переминался высокий чиновник на деревянной ноге.
«Эх, и тут Егорка наврал, — с сердцем подумал полковник. — Я ведь про солдата какого-то отставного писал».
— А скажите, это не вы ли с майором Жарким давние сослуживцы были? — обратился он напрямик к чиновнику.
— Так точно, двадцать лет ровно в Киевском гренадерском полку отслужили, — отвечал тот, и в лице его что-то дрогнуло, веки моргнули и на миг прикрылись, как от боли. Потом двинулись было губы, видно, хотел еще что-то сказать, да сдержался.
— В Киевском? — воскликнул Акличеев. — Так ведь и я в Киевском три первые года служил… Как фамилия ваша?
— Подтягин.
— Подтягин?! Да никак помню! Запевала еще был! Верно?! Ей-богу, рад встрече! — И Акличеев потрепал инвалида по плечу. — Только вот горе-то у тебя, брат, какое, — сказал он через минуту. — И скажи ты мне прямо, не было ли у майора против зятя твоего какой злобы? Мне все что-то такое сдается.
Яков молчал.
— Да ты не бойся, не выдам, — настаивал полковник.
— Выходит, что была злоба-то… — сказал Яков. — Дочку мою майор сватал, а она, вишь, за поручика вышла.
— Ах вот что?! — воскликнул Акличеев.
Дождавшись адъютанта и обещав побывать у него еще, он вместе с Подтягиным вышел из канцелярии.
Через час, придя к Жаркому, полковник приказал своему человеку скорее укладываться, а кучеру запрягать.
— Это куда же? — удивился, входя в комнату, Егор Герасимович.
— Домой, — отвечал, не глядя на него, нахмуренный Акличеев.
— Ведь будто хотел не один день пробыть? Ремонт-то видел ли?
— Черт с ним, с ремонтом!
Жаркий пожал плечом.
— Или случилось что?
— Случилось, — отозвался его приятель. — Хорошие дела у вас тут случились, — и накинул шинель.
— Это про что же? — насторожился Жаркий.
— А про то, что поручика под арест ты подвел, да еще сам арестовывать вызвался, оказывается, не без личностей.
— А хоть бы и так? Ты, что ли, мне судья? — оскалил зубы Егор Герасимович.
— Понятно — судья, — отвечал Акличеев. — И коли ты такой низкий человек, то не хочу с тобой и знаться.
— Ну и черт с тобой, — закричал вне себя Жаркий. — Я к тебе в дружбу не навязывался!
Полковник был уже у двери. Услышав последние слова, он остановился.
— Что же, верно, — сказал он. — Зато и хорошо ты за мою дружбу заплатил, когда врал, что Подтягин от поручика избавиться хочет, и письмо дурацкое меня писать упрашивал… Да что тебе?! Я-то ведь помню, как ты на походе да в Париже с Подтягиным первым приятелем был, — а нынче его, и дочь, и зятя разом по низкой злобе несчастными сделал… Глуп я был — в твое благородство верил!..
— Ну и не верь… — прохрипел майор. — Авось и так проживу.
Акличеев вышел. Жаркий рванул ворот сюртука, ударил об пол тяжелым стулом, потом сел на него и, опустив голову на руку, замотал ею… Непрошеные, как бы чужие мысли, которые нет-нет да и всплывали все эти дни, нахлынули разом. Деться от них было некуда…
«Как Настя-то меня клянет?! Солдатка, коли бог даст, а то и женка арестантская горемычная… А Яков? Не этому барину чета, — «знать тебя не хочу…». Свой брат, солдат, все по правде, начистоту всегда. Один дружок за всю жизнь и верно был. От смерти спас, ласковые слова говорил, шинелью своей покрывал, последней коркой делился, пели вместе».
Егор Герасимович поднялся, постоял, запустив пальцы в курчавые волосы, потом стремительно шагнул к шкафу и достал штоф.
С этого дня мучительные, настойчивые мысли о Насте и Якове не покидали майора. Днем, на людях, за делами, все шло по-прежнему, но вечером, когда оставался один, а чаще ночью, если не засыпал сразу, выступали непрошеные упрямые образы и мутили и заставляли метаться по постели, по комнате, хвататься за спасительный штоф.
Несколько раз видел Егор Герасимович Под тяги на на улице, одного или с дочкой, и всякий раз сворачивал.
Но в мае они столкнулись лицом к лицу. Дело было днем, на почти пустой боковой улице. Лишь несколько ребят с криком бегали по немощеной ее середине, да вдали шла баба, качая бедрами под коромыслом.
Егор Герасимович вышел из-за угла и прямо перед собой, шагах в двадцати, увидел идущего навстречу Якова. Глубоко задумавшись и понурив голову, ковылял тот на своей деревяшке, и в опущенной руке его мерно колебался узелок с тарелкой, обвязанной платком.
«На гауптвахту поручику что-то несет, — сообразил Жаркий. — В ворота, что ли, зайти?.. Нет, не ладно. Может, не заметит, пройдет…»
Но за два или три шага Подтягин поднял голову. Лицо его, осунувшееся, с впалыми глазами и заметно поседевшими усами, изобразило на мгновение растерянность, но вслед за этим застыло в суровом, напряженном выражении. Остановясь, он прямо обратился к майору:
— Дозвольте задержать ненадолго, ваше высокоблагородие.
— Чего тебе? — спросил Егор Герасимович.
Подтягин бережно поставил на ступеньку случившегося рядом крыльца свою ношу и полез за борт мундира.
— Давно встречи ждал, — сказал он и, достав маленький бумажный пакет, аккуратно обвязанный ниткой, протянул Жаркому.
— Это что? — спросил тот удивленно, поворачивая в пальцах сверток.
— А крест, что со мною тридцать лет тому сменялись… — отвечал Яков. — Отблагодарил, значит, меня-то брат крестовый. Спасибо вашему высокоблагородию.
Наклонясь, поддел ладонь под узелок платка и, не оглядываясь, пошел прочь.
А Егор Герасимович долго стоял, смотрел на удаляющуюся широкую спину, на которой под сукном мундира двигались худые лопатки, на потертые штаны с приставшей кудрявой стружкой и слушал мерный стук деревяшки по утоптанной земле.
Потом поглядел на пакетик, сжал в кулаке так, что хрустнуло что-то, и с бешенством швырнул в канаву, где журчала весенняя вода.
В начале июля пришел приговор: поручика Вербо-Денисовича, не лишая дворянского достоинства, разжаловать в рядовые с определением в один из действующих полков Отдельного Кавказского корпуса, впредь до выслуги.
В тот же день Александру Дмитриевичу стала известна его судьба. Ожидавший сдачи в арестантские роты или, в лучшем случае, лишения прав состояния и службы лет на двадцать без выслуги, он очень обрадовался. Молодому воображению уже рисовался поэтически освещенный Лермонтовым и Марлинским Кавказ, подвиги, солдатский «Георгий» и через полгода производство в офицеры. А там своя воля, горе кончилось — соединился с Настей и счастливо жить…
Истомленный почти полугодовым бездействием, молодой инженер желал скорее пуститься в путь и, сидя на своем окошке, ласково утешал и ободрял горько расплакавшуюся при известии Настеньку, печалившуюся именно потому, что он скоро уедет так далеко.
Неприятно было Александру Дмитриевичу только то, что смягчение его участи, несомненно, зависело от хлопот той самой родни, с которой он навсегда решил покончить всякие отношения. Но с этим ведь он ничего не мог сделать. Тяжело ему было также думать о самой процедуре разжалования… Толпа, барабаны, Жаркий обязательно придет смотреть — подлая душа.
Прошла еще неделя без изменений. Но вот однажды утром, в то время, когда арестованный ждал обычного прихода Настеньки и то и дело, отрываясь от книги, поглядывал за решетчатое окошко, в коридоре раздались шаги нескольких человек. Щелкнул отворяемый замок, и в камеру вошли адъютант начальника уезда, караульный офицер и аудитор. Сзади с объемистым узлом в руках показался унтер гарнизонной команды.
— Его превосходительство находит возможным избавить вас от публичности, — сказал адъютант, подходя к вставшему с дивана Александру Дмитриевичу и беря его ласково за руку. — Мужайтесь и надейтесь на лучшее… Начинайте, господин аудитор.
Адъютант умолчал о том, что барон решился на такое отступление от законного порядка только после письма от весьма значительного лица из столицы.
Аудитор прочел приговор. Наступила минута тягостного молчания. Адъютант кивнул унтеру. Из угла показалась серая шинель, фуражка-бескозырка и с грохотом упали на пол тяжелые сапоги с рыжими голенищами.
— Это к чему же? — сказал адъютант. — Они, верно, в своих останутся. — И добавил: — Сымите мундир, Александр Дмитриевич.
Но тот смотрел на приготовления к своему превращению и не двигался. Эти столь знакомые атрибуты новой жизни взволновали его чрезвычайно.
«Солдат — бесправное серое существо, которому может приказывать почти всякий… Бессловесная тварь, которую будет бить, ругать, заставлять работать и умирать любой казнокрад и живодер вроде Жаркого… И может, это на всю жизнь…» — смятенно думал он.
И вдруг за окном бодро и отчетливо зазвучал мотив старого Преображенского марша. Его насвистывал Яков, подходя с Настей по огороду к гауптвахте. Знакомые горделивые и простые звуки, на которые никто, кроме Александра Дмитриевича, не обратил внимания, повернули ход его мыслей.
«Э, что там, можно прожить с честью и солдатом, — сказал он себе. — Вот идет человек, которого я назвал отцом, и разве он стал хуже от тридцати лет солдатского звания?.. И потом добрый знак: тогда этот марш на дворе, когда я ее впервые увидел, и теперь то же…»
Он решительно сбросил мундир и вдел руки в ворсистые серые рукава на грубой холщовой подкладке.
Семнадцатого июля бок о бок с жандармским унтер-офицером Александр Дмитриевич выехал из Старосольска.
Настя и Яков ждали его на первой станции. Пока меняли лошадей, они сидели во дворе на завалинке. Разговор поминутно обрывался. Настя, не отводя глаз, смотрела в серьезное, казавшееся таким бледным на солнце лицо мужа. Он ласково и крепко обнимал ее за плечо и держал в своей ладони ее трепещущие руки. Яков, сидя с другой стороны от зятя, отворотясь, ковырял ногтем не раз потухавшую трубку.
Когда перекладка тройки подходила к концу, Александр Дмитриевич взял за локоть Якова и притянул его к себе.
— Слушайте и, прошу вас, крепко запомните, — сказал он. — Бог даст, все будет хорошо и я скоро к вам возвращусь живой и здоровый… Но ежели что со мной случится, то одно вам завещаю — воспитайте сами моего ребенка… И еще — пусть хоть землю пашет, но от тех… — он думал о своей родне, и Яков с Настей тотчас его поняли, — от тех никогда ничего не берет и в самой крайности.
— Будьте спокойны, Александр Дмитриевич, — сказал твердо Яков.
А Настенька еще крепче прижалась к серому колючему плечу.
— Ну, барин, прощайся, ехать пора, — сказал, подходя, жандарм.
13
В апреле следующего года из Петербурга был получен приказ прислать в департамент пахотных солдат опытного чиновника для ознакомления с новыми формами годовых отчетов по расходу казенного леса, камня, песку и других материалов на постройках, производимых в округах.
Как наиболее знающего в хозяйственных вопросах, генерал решил командировать в столицу Егора Герасимовича. Майор охотно согласился, предвидя в будущем пользу от таких знаний, хотя сознавал свою малую ученость и побаивался — сумеет ли все «постичь». Не спеша он стал готовиться к отъезду.
За протекшее с «истории» время Жаркий пришел в равновесие и как будто успокоился.
«Ладно, чего там слюни распускать, — говорил он себе, вспоминая Александра Дмитриевича. — Много меня-то господа жалели… Выслужится, вернется — все у них образуется… Небось ему — не нам лямку тянуть — будет бабушка в Питере ворожить. И пороху не понюхает, как в прапоры произведут».
Но за этими мыслями неизменно копошились другие, упрямо тянулись к Высокому, заставляли прислушиваться к доходившим оттуда сведеньям. Майор знал, что Яков исправно столярничает, что Лизавета много болеет, что Настя в сентябре родила мальчика. И только то немногое, что узнавал о ней, занимало по-настоящему Егора Герасимовича. Чего бы не дал Жаркий, чтобы хоть издали поглядеть на нее! Но понимал, что после случившегося может увидеть ее только мельком. И все же он упорно откладывал даже деловую поездку в Высокое.
Однако перед командировкой в Питер настоятельно понадобилось осмотреть работы в округах, в числе которых было шоссе, вновь проложенное к достроенному уже без Александра Дмитриевича мосту.
Приехав днем в Высокое, он, как всегда, занялся делами с начальником округа, а часов в восемь накинул шинель, сказал, что прогуляется перед ужином, и вышел на крыльцо.
Солнце только что село, светлые весенние сумерки мягко стлались над прямой улицей, поблескивавшей кое-где широкими лужами. На голых еще деревьях церковного сада устраивались на ночь крикливые галки. С полей тянуло холодком последнего снега и сыростью оттаивающей земли.
Отвечая на поклоны редких встречных, майор медленно пошел в тот конец, где стоял дом Якова. С каждым шагом глаза его все напряженнее всматривались в полутьму, сердце учащеннее билось.
Вдруг совсем близко от него из проулка показался высокий человек в тулупе с жердью на плече и, мельком взглянув на офицера, шедшего по другой стороне улицы, заковылял в одном с ним направлении. «Вот, скажет, чего около его дома брожу? — подумал майор. — Заговорить, что ли?..»
— Яков! — позвал он и ступил на неровную колею дороги.
— Ась! — откликнулся тот и остановился.
— Постой, поговорить надо.
Яков только теперь узнал подошедшего Егора Герасимовича и выжидательно смотрел на него, ничего не отвечая.
— Пройдем маленько, — сказал Жаркий. — Вот туда хоть, к околице.
Идя рядом, миновали неосвещенный и безмолвный дом Якова, вышли за плетень и остановились.
Уже заметно стемнело. Майор снял фуражку и провел рукой по лицу.
— Яков… — как бы с трудом выговорил он. И, помедлив, продолжал не то, что просилось на язык: — С Кавказа-то есть ли что?
— Есть, — отозвался Подтягин. — Все там ладно. Определили в Тенгинский полк, ефрейтором за отличие произвели.
— Внук-то растет?
— Гренадер, — прозвучало гордо в полутьме.
— Окрестили как?
— Яковом… Отец в письме наказал.
— А Настя?.. Настасья Яковлевна? — решился наконец спросить майор.
— Дожидается… Только тем и живет…
И они разошлись.
Яков Федорович сказал правду — Настя жила ожиданием.
Всем существом ее нераздельно владело напряженное и неколебимое ощущение, что Александр Дмитриевич вот-вот вернется. Каждый звон колокольчика на тракте заставлял встрепенуться и прислушаться. Несчетное число раз выбегала она к воротам и, стоя за ними на дворе, слушала, опечаленная и взволнованная, как проносится мимо безучастный проезжий. А ночью, когда вставала кормить маленького Яшу, каждый далекий стук телеги или звуки голосов наполняли надеждой и волнением.
Она хорошо понимала, что так скоро он навряд ли приедет, меньше года прошло… И все-таки… Вдруг?.. Ведь она так ждала и хотела этого…
А пока не было его живого и любящего, она видела его во всех уголках дома. Вот тут он сидел, тут лежал больной, вот этот стул стоял у его двери, это платье он видел на ней. Вот его краски, книги, вот подушка, на которой он спал. Он был в ней самой, в ее сердце, в ее душе, в крови, в каждом дыхании. Она и без писем знала, что там, далеко, он тоскует и рвется сюда, думает о ней. И сама тосковала, рвалась и думала, тянулась к нему через неведомые пространства. Но представить его могла только здесь, рядом с собой.
Каждый день начинался с мысли, что, может, он уже приближается, может сегодня приедет, что с каждым часом, с каждым отзвучавшим словом и сделанной работой желанная минута все ближе.
Это была ее первая любовь, нежданно пришедшая и безраздельно захватившая, удивительная и прекрасная, осветившая весь мир счастьем и так нежданно и жестоко оборванная. Жизнь без Александра Дмитриевича была лишена смысла и цвета, пуста и неестественна. Настенька как бы шла теперь в серой полутьме, но видела яркий свет позади и впереди. С нежностью и благодарностью оглядывалась назад, с надеждой и уверенностью смотрела вперед.
Он был жив, он любил ее, он стремился к ней, она чувствовала это постоянно всем своим существом. Значит, надо только ждать конца испытаний, вынести разлуку.
Ожидание скрашивал маленький Яша. В его крошечном ротике, уставленных на нее глазах, в расположении родинок на шее и щеке, в смешном хохолке над атласным лбом она видела Александра Дмитриевича. Но все-таки это был только отблеск, только дорогое напоминание того желанного, ежечасно ожидаемого.
И она ждала все радостнее и увереннее. Ведь минута встречи приближалась.
В Петербурге Егор Герасимович исправно ходил в департамент и «постигал». Подтвердилось, что «не боги горшки обжигают», — без большого труда майор усваивал необходимые сведения.
В воскресные дни и вечерами он степенно гулял по городу, съездил по железной дороге в Павловск, побывал на гулянии и фейерверке в Петергофе. Познакомился с несколькими чиновниками, так что было с кем в трактир зайти пообедать или вечером в карты перекинуться. Одним словом, время прошло приятно и с пользой. Завелись нужные в будущем знакомства, если не с высшими чинами, то со столоначальниками и делопроизводителями, от которых тоже зависит немало.
В первых числах июня, окончив все дела и уже начав укладываться, майор получил письмо от своего генерала. Барон писал, что по его неоднократному представлению петербургское начальство разрешило наконец ремонт казенного дома, где помещались его квартира и канцелярия, а также богадельни, госпиталя и гауптвахты в Старосольске. Что он велел приступить к работам немедля, дабы не упустить летнего времени, но через неделю выяснилось вдруг, что уездное казначейство не имеет должных сумм на эти расходы, идущие по новой смете. И оттого всему грозит полная остановка. Начальник уезда просил Егора Герасимовича употребить все усилия, чтобы исхлопотать немедленный отпуск денег, и прилагал письма к видным чиновникам департамента. Оканчивалось же генеральское послание просьбой, буде дело устроится, получить хоть половину нужных средств и лично привезти их, за что обещалась вечная и вещественная благодарность.
Пришлось отложить отъезд и вновь начать ходить в департамент. Благодаря генеральским и своим связям майор в две недели получил все просимое и наконец выехал из Петербурга. От конвоя он отказался, предпочитая положенные на таковые случаи двойные прогоны и харчевые обратить в свою пользу. А деньги — сорок три тысячи крупными ассигнациями — самолично зашил в холщовый набрюшник, которым опоясался под рубаху.
И в самом деле, какой там конвой! Егор Герасимович ехал по самым что ни на есть людным местам. Строилась Николаевская железная дорога. Почти до самого Колпина бегали уже, стуча и свистя, паровики с длинными, коптящими небо трубами, таща платформы с песком, рельсами, камнем. А дальше хоть и не было еще чугунной колеи, но уже высились земляные насыпи, вырастали мосты, подвозился материал и тысячи лапотного люда копошились около нового дела. Глухо стучали «бабы», ударяя по сваям, согласно и заунывно раздавалась «Дубинушка».
Целые городки временных дощатых балаганов и землянок видели проезжие на болотах по бокам старой шоссейной дороги. Много встречалось путейских офицеров, подрядчиков, заводчиков и иностранцев. Бойчее, чем всегда, торговали кабаки. Тяжело вздыхали смотрители почтовых станций, предвидя недальнее переселение с насиженных за десятки лет мест или увольнение за штат. Было на что посмотреть и чего послушать проезжему.
Почти без задержки доехал Жаркий до Чудова. Отсюда надо было сворачивать на Новгород. Но станционный смотритель, крепкий мужчина с плутовским взглядом, стоявший на широком крыльце станции, на вопрос о лошадях отчаянно замахал руками:
— Что вы, что вы, ваше высокоблагородие, какие лошади! Вчерась великий князь в Москву проехать изволили, нынче утром сами Петр Андреевич в Тверь проскакали, днем двух генералов в Петербург повезли. Да у меня и так полно господ… Полковник свитский вторые сутки сидят и те ничего, видят сами, какова оказия.
Действительно, в отворенных окнах торчало несколько господских голов, глазевших на вновь прибывшего. Слышался говор и звон гитары. А за растворенными настежь воротами на дворе виднелись незаложенные дорожные экипажи.
Однако Егор Герасимович, выслушав все и осмотревшись, сунул в руки смотрителю подорожную и внушительно сказал:
— Те все господа как желают, а мне чтобы через час лошади были. А пока — самовар.
Станционный дом был большой, каменный, со многими комнатами. Из сеней Егор Герасимович попал в большую залу. Смотритель не соврал — она была полна. Человек до пятнадцати проезжих ели, спали, курили, разговаривали. Здесь было неопрятно и, несмотря на открытые окна, чадно и дымно. Два огромных зеленоватых самовара стояли на застланных грязными скатертями столах, окруженные чашками и едой на тарелках и бумаге. На длинных, обитых потертой клеенкой диванах спали несколько человек, обложенные дорожной поклажей.
В противоположной входу стене была широкая дверь с закрашенными белым стеклами в верхней части. Над ней стояла надпись: «Дамская половина». Около этой двери, когда майор вошел в залу, топтались два молодых человека и, посмеиваясь, старались что-то рассмотреть за стеклами. Третий, сидя близко от них верхом на стуле, тоже смеялся и говорил:
— Да ты, Базиль, перстнем выигранным поцарапай, лучше увидишь…
В стене против окон было еще две двери, одна из них полуотворенная. И Егор Герасимович, лавируя между багажом, стульями и людьми, прошел, чтобы заглянуть в нее. Человек шесть или семь толпились около стола, заслоняя его и сидевших за ним. По нескольким долетевшим до него словам Жаркий понял, что там играют. Но и здесь на диване у стены храпел какой-то толстяк.
Майор повернул в общую залу. В это время к нему подошел смотритель.
— Хочу ваше высокоблагородие в «генеральскую» пригласить, — сказал он. — Потому, хоть что вы со мной ни делайте, лошадей-то ведь точно нет, а тут будет вам беспокойно. — И он с поклоном отворил вторую дверь.
В сопровождении смотрителя Егор Герасимович вошел в большую и чистую комнату, с портьерами на окнах, паркетным полом, письменным столом красного дерева у окна, другим круглым, обставленным стульями, посередине и двумя крытыми сафьяном диванами.
На одном из диванов лежал молодой человек с лысеющей рыжеватой головой и крупными чертами одутловатого лица. Он был облачен в пестрый шелковый архалук, из-под которого виднелось тонкое белье.
На полу стояли щегольские кожаные чемоданы, на столе виднелись щетки, ножницы, туалетные флаконы, на стуле висел вицмундир с полковничьими эполетами и аксельбантами, а на вешалке в углу шинель и фуражка с белым верхом.
Молодой человек оторвался от книги, которую читал, мельком взглянул на майора, поднял вопросительно брови и перевел глаза на смотрителя.
— Не посетуйте, ваш сиятельство, — заговорил тот, приниженно кланяясь, — но, ей же богу, совершенно некуда господина майора поместить. А уж вам-то нынче в ночь, как бог свят, тройку таких зверей предоставлю, что мигом домчат…
«Сиятельство» промычал что-то невнятное и вновь уставился в книгу.
Егор Герасимович расположился на другом диване, потом, присев к столу, обстоятельно закусил и напился чаю. Представительный лакей в дорожной ливрее вошел, повозился с чемоданами, звонко щелкнул ключом, доложил что-то барину по-французски и вышел. Тот все так же безмолвно читал.
— А позвольте спросить, давно ли изволите тут находиться? — обратился майор к молодому человеку.
— Что-с? — скосил глаза, не опуская книги, лежавший.
Жаркий повторил вопрос.
— Со вчерашнего полудня, — последовал ответ, причем прозвучало: «со вчеашнего поудня». Барин не выговаривал «р» и «л».
«Ну, с этим не поговоришь, — подумал майор. — А коли такой сутки ждет, видно, придется и мне не меньше сидеть… Пойти, что ли, карточку поставить? Да нет — высплюсь лучше».
Он расстегнул сюртук, лег на диван, укрылся шинелью, ощупал свой набрюшник и почти тотчас заснул.
Не более как часа через два или три его разбудили шаги, звон шпор и стук какой-то поклажи о дверь в головах его дивана.
«Уезжает гунявый-то», — подумал он в полусне.
Но тотчас услышал оживленный голос с прежнего места:
— Николя? Ты-и?
— А, Стройновский! Вот мило! — отвечал новый голос, послышался звук поцелуя, и второй сказал потише: — А тут кто же спит?
— Так, армия, майор какой-то…
— Да диван-то занял, — сказал вновь прибывший.
— Ну, это смотритель мигом устроит… Куда-нибудь переведет. Он мне, впрочем, клялся лошадей ночью дать… Ты куда же, в Петербург?
— Да.
— Может, к нам в полк желаешь? Я это для тебя сделаю.
— Нет, мой милый, мне при князе отлично, очень тебе благодарен.
— Ну, ну… А откуда?
— Из Старосольска.
Егор Герасимович насторожился и открыл глаза. Перед ним был зеленый сафьян диванной спинки, слабо озаренный свечой с другого конца комнаты.
— Зачем тебя носило? Это же дыра…
— Неприятное дело, граф, и говорить не хочется.
— Ну, однако? По службе?
— Да нет, все из-за брата.
— Которого? Что разжалован?
— Да… У меня один.
«А это ведь Денисовича брат никак», — сообразил Жаркий.
— Ну и что же? Я очень помню. У него там ведь что-то вышло с крестьянской девой… Нет, ты расскажи, я слушать люблю… Все равно о чем-нибудь говорить надо.
— Ну что рассказывать? — отозвался Николай Дмитриевич. — Впрочем, если ты хочешь… Только это не весело — предупреждаю.
«Вот и услышу сейчас все семейные дела», — подумал майор.
— Э, все равно, ужасная тут скука… Да ты не хочешь ли закусить?
— Нет, благодарствуй, я так поздно не ем…
— Ну, тогда говори. Но a propos, — ты, вижу, получил полковника?
— Да, два месяца уж!
«Вот как в гвардии-то да при князьях служить — в тридцать лет без войны полковник», — позавидовал Егор Герасимович.
— Видишь, и догнал меня, — протянул приятель Николая Дмитриевича.
— Где же догнать? Это, дорогой граф, невозможно. Ты в свите, да с твоими способностями…
— Ну, ну, ты мне льстишь… Но, однако, твоя история?
— Да что история… Поехал я, видишь ли, туда вот почему. Получил от Мишеля Друцкого из Тифлиса месяц назад письмо, что брат так себя в полку поставил, что уже унтер-офицер, представлен к «Георгию», вот-вот может быть произведен в прапорщики… А надо тебе сказать, я хоть, конечно, этого хотел, но, с другой стороны, ты понимаешь, его производство возвратило бы вопрос в исходное положение… То есть он получил бы право выйти в отставку, вернуться в Россию и устроить семью по своему вкусу. Но вовсе не по-нашему. Иметь в виде belle soeur малограмотную солдатскую дочку, ты понимаешь?
— Да — вот идея… — сочувственно сказал граф. — Но ведь можно же устроить без хлопот, чтобы ему не давали пока ни отпуска, ни перевода с Кавказа, сколько вам понадобится…
— Конечно, можно. Но, став офицером, он уже, несомненно, выписал бы к себе жену, — возразил Николай Дмитриевич. — Получился бы тот же кислый соус… И так ведь мне эта его блажь едва свадьбу не расстроила, — ты же знаешь, какая родня у моей жены… Конечно, я их вполне понимаю, кому охота этакую родственницу получить? Поэтому, видишь, я и решил, едучи в Петербург, заехать туда и предложить жене брата и ее отцу, так сказать, полюбовную сделку. Но чтобы они сами написали Александру, что более к нему претензий не имеют, что, мол, брак этот подстроен был ими из расчета, что о нем никогда и нигде не будет заявлено… А в объяснение такого отказа — что женщина эта, ну, хотя бы сошлась теперь с кем-то и будто прижила уже второго ребенка… Да, забыл сказать, еще трудность — от брата-то родился осенью сын, который, во всяком случае, носит наше имя… Не угодно ли?
— Да, ужасная скверность, — поддакнул слушатель.
— Ну вот я и рассчитывал, что брат, конечно, сильно все это примет, побеснуется, поплачет там из чувствительности… Но не в этом дело. Потом время свое возьмет, одумается наконец и женится на приличной девушке… А мне одно важно — чтобы этого дикого брака, который вполне нелеп и как игла в глазу у всей моей семьи, — чтобы его скорее не стало. Ты понимаешь?
— О да, разумеется… Ну и что же? Согласились?
— Да нет же… А я сделал все очень пристойно, мягко, объяснил им причину, предложил тотчас на руки — по написании нужного письма, разумеется, — пятнадцать тысяч и еще десять, когда все будет устроено. Кажется, не мало для них? Но ни она, ни отец ее — регистратор какой-то из солдат — не слушали меня даже. Только и повторяли: «Нам от вас ни сейчас, ни после ничего не надобно. Оставьте нас, и так нам много горя сделали…» Тогда-то, прошлой зимой, когда брат в Старосольске майоришке одному, за дело правда, оплеуху дал, тогда и я там тоже был, пытался его урезонить, да поздно уже оказалось…
— Да, я слышал что-то… Ведь за то его и разжаловали? Вот глупо… Так ты зря и съездил? Не удалось?
— Нет, удалось, и самым простым, но трагическим образом.
— Трагическим? Как же это?
— Да, представь себе, уже вечером, когда я их в последний раз уломать старался и лошади меня ждали, старик до того дошел, что мне и говорит: «Уезжайте, ваше высокоблагородие, вы против всех законов божеских и человеческих идете и нас то же делать заставить желаете…» Как тебе нравится? Просто выгонял меня, да еще с нравоучением. Того же дурень не понимает, что есть еще законы общества. А ведь многие и простые люди это отлично сознают…
— Ну, этого я, право, не знаю. Но где же трагедия-то?
— Конечно, не в этом еще. Слушай дальше. Увидев, что такого упрямства мне не сломить, я пошел было от них, но в это самое время рассыльный от тамошнего начальника приносит какой-то конверт. Старик вскрыл, глянул, побледнел и хотел спрятать. Но дочка к нему — вырвала, прочла и вдруг повалилась… Мать с отцом ее в чувство приводят — а я взял бумагу. Ну, извещение из полка: «Унтер-офицер Вербо-Денисович убит третьего сего мая в деле с горцами…» Вот и все. Развязался узел… Вели-ка вина подать… Рискну отступить от правил…
Егор Герасимович повернулся на спину. Ему стало так душно, что он громко охнул. Разговаривавшие было прислушались, но в это время вошел смотритель.
— Ваше сиятельство, — сказал он. — Лошадей закладывают, прикажите лакею вашему сбираться, через пять минут ехать пожалуйте.
— Вот и хорошо, — сказал граф. — Выпьем вина и поедем. Ведь ты со мной?
— Что ж, пожалуй, вдвоем веселее. Только человек мой…
— Э, поместится сзади с Шарлем…
Майор слышал, как кто-то входил и выходил, — выносили багаж. Шарль одевал своего барина, булькало лившееся вино, звенело стекло бокалов.
— Да, жаль твоего брата, — сказал граф, видимо желая покончить с грустным разговором. — Но зато ты совершенно спокоен теперь…
— Нет, все же не совершенно, — отозвался Николай Дмитриевич. — Ведь там мальчишка остался еще. Не знаю, что с ним делать… Не годится оставлять его у этого старика фельдфебеля.
— Ну, заплати матери, пусть фамилию сменят… Будет Вербовский — вот и все… — И граф отодвинул стул, должно быть вставая.
— Матери? — возразил Вербо-Денисович. — Да ведь я и забыл тебе сказать, мать-то, то есть жена эта брата моего, взяла да и отправилась вслед за ним.
— О-о-о! Вот пылкие страсти! Что же, самоубийство?
— Ну да, с горя, должно быть. Уж когда я в тарантас у квартиры начальника садился, чтобы уезжать, — бежит какая-то девка и кричит, чтобы скорее фельдшера. Старики как-то отвернулись, — она и повесилась.
Егор Герасимович заворочался, заскрипел зубами и застонал.
— Это что же? — сказал Вербо-Денисович.
— Страшное снится или живот болит, — отвечал его приятель. — Пойдем, нам пора.
— Вот я теперь все думаю, не надо ли сразу мне было и ребенка с собой увезти… — продолжал Николай Дмитриевич. — Но уж мал очень.
— Успеешь сто раз. Ты не забыл чего? — спросил граф. И они пошли к двери.
Шарль щелкнул еще одним замком, должно быть на погребце, и тоже вышел.
Огонек свечи от движения воздуха, всколыхнутого закрывшейся дверью, метнулся в сторону и погас… Но в комнате не стало темнее — белесая, светлая ночь глядела в окно.
Проводив важных проезжих и поужинав, смотритель перед сном пошел осмотреть «генеральскую». Аккуратный служака всегда делал это сам, желая удостовериться, что комната в порядке и готова к приему новых гостей.
Он вошел на цыпочках, разгладил на круглом столе скатерть, внимательно оглядел место, где лежал граф, — не забыто ли что, после чего, намереваясь уйти, повернулся к дивану, на котором спал Егор Герасимович. И обмер, — такое страшное, белое лицо с неподвижными глазами смотрело на него из полутьмы.
Майор сидел на диване, шинель его валялась на полу, под распахнутым сюртуком виднелся расстегнутый или разорванный ворот рубахи.
— Что вы, батюшка? — спросил смотритель. — Или больны сделались? Испить, может?.. — Он попятился к двери.
— Лошадей! — хрипло, как бы с трудом разжимая челюсти, сказал Жаркий. — На похороны поспеть… Денег не пожалею… Хоть мертвую увидеть…
— Ей-богу, нету, ваше высокоблагородие. Вот крест — нету ни одной. Я бы истинно рад.
— Водки! — выговорил майор.
— Это можно-с, для вас своей подам. И свечу сейчас принесу-с… — заторопился смотритель, боком пробираясь к выходу.
— Водки, — повторил майор, не двигаясь.
«Припадочный, что ли? — рассуждал про себя смотритель. — Может, не давать?»
Он посоветовался с женой, но бывалая женщина сказала, что обязательно надо дать, раз болен да просит; может, водка ему всегда помогает, а что коли забуянит или что, то много свидетелей, можно и связать, — сам же будет отвечать, что теперь с этим строго и прочее…
За следующие полчаса Егор Герасимович выпил без малого штофный графин водки, потом встал и, пошатываясь, вышел на крыльцо.
Набежали тучки, сеял мелкий дождь. Жаркий опустился на грязные ступени лестницы и долго сидел, склонив низко голову.
— Замочишься, ваше благородие, — приостановился перед ним старый хмельной ямщик, проходивший мимо крыльца. — Аль занедужал?
— Лошадей, — прохрипел Егор Герасимович.
— И-и, барин, раньше утра и не думай… Тебе б в тепло да в сухость, — посоветовал ямщик, перекрестил сладкий зевок и двинулся дальше.
Когда мелкие капли собрались в складках около воротника сюртука и вдруг струйкой сбежали на голую грудь, майор поежился, встал и пошел в дом.
В полутьме большой комнаты он ошибся дверью и отворил ту, за которой вечером играли. Игра шла и сейчас. Только народу стало поменьше. Метал полуседой красавец в бухарском халате из золотой парчи, переливавшейся в огне свеч.
Его руки двигались как будто небрежно, но уверенно. Еще трое сидели по сторонам стола, разложив около себя деньги. Двое стояли рядом и, видно, ставили по мелочи. В банке были крупные ассигнации и стопка червонцев.
Егор Герасимович подошел почти вплотную к столу и остановившимся, напряженным взглядом смотрел, как ложились направо и налево чистые, твердые карты. Полированные ногти банкомета, белый атлас на отворотах его рукавов, парча халата, золотые монеты, начищенная медь шандалов — все блестело и больно резало глаза. Но он упорно всматривался в этот мучительный мелькающий блеск.
Талия кончилась, выигравший подвинул к себе банк, и банкомет, обернувшись к Жаркому, любезно спросил:
— Угодно попытать счастье, милостивый государь?
Майор молчал. Банкомет вгляделся в него внимательнее.
— Угодно будет ставить? — Он сделал бровями знак соседу справа.
Не меняя выражения одеревенелого лица, Егор Герасимович, покачнувшись, сел на уступленное ему место, достал из-за пазухи бумажник, вынул ассигнацию и взял карту из колоды.
К рассвету он проиграл барину в парчовом халате тысячу сто рублей своих и сорок три тысячи казенных.
14
Проснувшись утром и узнав о том, что случилось, смотритель всполошился. Особенно обеспокоило его известие о вспоротом при всех набрюшнике с деньгами.
— Ведь он не в себе играл, — говорил он жене. — Надо по начальству донесть, — пусть разберут, верно, деньги-то казенные… Хорошо, никто не выехал еще…
— А твое какое дело? — возражала смотрительша. — Хочешь, чтоб следствие тут у нас неделю пило да ело? Дай ему первую тройку, да и пусть едет сам расхлебывать. Не маленький, чай. А коли свернул с ума, то все одно взять с него нечего.
Перед полуднем Егор Герасимович выехал из Чудова на курьерской тройке и на другой день к ночи был уже в Старосольске. Приехав прямо к генералу, поднял его с постели, доложил о проигрыше и был взят под караул. В следующее утро дом его был опечатан. Началось следствие.
От известия о случившемся весь городок пришел в движение. Толкам и пересудам не было конца.
«Казне-то убытку не станет. Как имущество его с торгов пойдет да кубышку растрясут — денег не меньше очистится», — говорили почти все знавшие майора.
Но у зависти глаза велики, и счет в чужом кармане редко бывает верен. Когда дом, обстановка и все, что нашлось к продаже, было примерно оценено и денежный капитал в железной шкатулке, найденной в спальне Жаркого, подсчитан, — набралось всего тысяч до двадцати, никак не более. Общество было разочаровано и вознегодовало пуще прежнего, как будто и впрямь ожидало, что злосчастный майор мог проиграть лишь ту сумму, которую, став арестантом, оплатит своим имуществом.
И с точки зрения городских моралистов, а главное, по юридическим нормам, положение Жаркого крайне отягчалось тем, что большая часть проигранных им денег предназначалась на ремонт богадельни и госпиталя. А это каралось законом особенно строго, как растрата сумм, принадлежащих больным, раненым и престарелым воинам.
Однако кое-что для смягчения участи майора можно бы еще сделать искусным ведением дела, и аудитор Макар Петрович, памятуя прежнюю хлеб-соль и рассчитывая, что не останется без благодарности, на второй же день заключения Жаркого отправился на гауптвахту.
Но арестованный, лежа на диване, в той самой камере, где полтора года назад помещался покойный Александр Дмитриевич, едва взглянул на вошедшего и сказал только:
— Ступай к генералу, он все знает.
А на настойчивые предложения аудитора помочь ему отвечал:
— Уйди, не буду с тобой говорить. Пиши что хочешь.
Только Акличеев мог бы еще помочь майору своим влиянием и деньгами, если бы захотел, разумеется. Но, как и во время несчастья с поручиком, его не случилось в городе. По своим и дворянским делам он, теперь уездный предводитель, был в Петербурге.
Возвратившись в Старосольск недели через две после событий и узнав обо всем, полковник тотчас поехал к начальнику уезда и предложил внести недостающие двадцать с лишним тысяч для покрытия растраченной майором суммы, а арестованного взять до суда на поруки.
Хотя Платон Павлович по-прежнему чувствовал к Жаркому неприязнь и брезгливость, но самый проступок майора представлялся ему сущим пустяком. По личному опыту Акличеев хорошо знал, как легко случаются карточные проигрыши. Поэтому все фарисейские разглагольствования городской публики только раздражали его. Кроме того, после известия о случившемся полковнику положительно стало казаться, будто все старосольские знакомые, которым он когда-то расхваливал напропалую своего спасителя, поглядывают на него теперь иронически, — что, мол, забыл небось, как о вечной благодарности болтал? Да еще как раз случилось, что Платон Павлович только что получил в Петербурге порядочные деньги под заклад последних своих деревень, и они, как говорится, жгли ему карман. Хотелось хоть часть пустить на ветер, как-нибудь особенно всем на удивление, как делывал в былые годы. А внести выкуп за человека, которого, вызволив, он и знать-то не захочет, — представлялось Акличееву вполне подходящим, настоящим барским поступком.
Но оказалось, что он опоздал. Дело не только вполне разгласилось, так что замять его было бы невозможно, но и обиженный приемом Жаркого аудитор, закончив короткие формальности, уже отправил все производство в Петербург.
Акличеев решил было немедленно снова ехать туда хлопотать, но все же почел нужным поговорить до отъезда с майором. Так же, как аудитор, он застал арестованного лежащим на диване, застланном смятой, нечистой постелью. И когда после нескольких сочувственных и дружественных фраз посетителя Егор Герасимович наконец повернулся к нему и сел, Акличеев был поражен, как изменился этот недавно еще такой бравый и самоуверенный человек. На желтые ввалившиеся щеки легли глубокие морщины, давно небритая борода торчала ровной седой щетиной, запавшие и потухшие глаза смотрели невидяще-пусто и прямо.
На все расспросы предводителя он отвечал односложно и безучастно. Услышав, что тот хочет ехать в Петербург, сказал:
— Не надо, пусть так будет… Все равно мне конец…
— Да полно, вот отхлопочем, и выправишься… Ну в отставку уволят, так место найдем тебе какое-нибудь, хотя бы управлять чьим имением.
— Нет, не надо… Пусть так будет, — повторил майор.
— Вот заладил, — подумаешь, преступление — растрата! А с кем промашки быть не может? Выпил, верно, лишнее, а тут шулеришки и воспользовались. Ведь выпил? Да?
— Не то… — качнул головой Егор Герасимович. — Я и напился и ставить стал оттого, что жгло меня… разговор я там на станции услышал, брат Александра Денисовича проезжал…
— Ну?
— Так он другому проезжему рассказывал, что Александр-то убит… а Настя с горя повесилась.
— Вот так история! — воскликнул Акличеев.
— И кругом мой грех… — добавил глухо майор.
— М-м-да… Однако и судьба, — слабо промямлил Платон Павлович.
— Оставь ты меня, — сказал Жаркий и лег по-прежнему.
Предводитель встал и взялся за фуражку.
— Не прислать ли тебе чего? Вина, может? — спросил он, стоя уже у двери.
— Пришли водки… — послышалось в ответ.
«Забыться хочет, — подумал Акличеев. — Что ж, пожалуй, верно, другого лекарства не сыщется…»
В тот же день он распорядился отправить арестованному корзину водки, вина и закусок, а сам поехал к себе в деревню.
Но через несколько дней он вновь был в Старосольске и опять зашел на гауптвахту. Знакомый офицер пропустил его без затруднений.
Жаркий по-прежнему лежал на диване. На полу в головах стояла полупустая бутылка, а обернувшееся к вошедшему лицо майора стало еще желтее и старее.
Выслушав обнадеживания Акличеева, он сказал:
— Брось ты все это. А коли хочешь долг свой отдать, — он криво усмехнулся, — не так, как я Якову… то пошли к нему передать, чтобы ко мне побывал. Прошу, мол, в последний раз… А не захочет, то пусть посланный твой разузнает в подробности, как все случилось, — с Настей-то… дите живо ли…
— Нынче нарочного отправлю, — сказал Платон Павлович.
Не прошло и суток, как голос предводителя опять раздался в коридоре около камеры.
— Скорей, братец, — торопил он отворявшего дверь солдата, — экий ты копуша! — И еще с порога закричал: — Егор, вставай! Ведь Настя-то живехонька!..
Майор вскочил с дивана, но зашатался и сел.
— Как же? — спросил он упавшим голосом. — Тот-то на станции?..
— Ну да, повесилась было, да полотенце с балки соскользнуло, — видно, завязала плохо, — она и упала… Тут шум услыхали, кинулись, закричали, девчонка за фельдшером и бросилась… А Настю тут же оттерли. Ей-богу, человек мой сам видел — жива, и мальчонка на руках…
Егор Герасимович закрыл своей единственной действующей рукой глаза и заплакал. При этом Акличеев увидел, как под мятой, засалившейся рубахой двигались острые лопатки, резко вздымались и опадали ребра.
«Эк иссушило его», — думал Платон Павлович.
Он не рассказал Жаркому, как утром этого дня в Высоком, на просьбу навестить арестованного, Яков отвечал нарочному:
— Не поеду я к душегубцу… Поделом вору и мука.
Не спросил о судьбе своей просьбы и Егор Герасимович. Только когда Акличеев собрался уходить, он сказал:
— А про Якова-то что сказывал? Сильно подался?
— Поседел будто, — ответил полковник. — Кружится кругом день по хозяйству. Да еще дочку с глаз не спускает. Напугались больно со старухой в тот-то раз.
С этого дня Жаркий переменился. Он начисто перестал пить, выбрился, попросил Акличеева прислать белья, — имущество его все было описано. Вместо прежнего лежания на диване он по многу часов подряд ходил теперь из угла в угол. Иногда останавливался у окна и смотрел на огород и начинавшие краснеть и желтеть деревья ближних садов. От старого солдата, служившего при гауптвахте, узнал он, что именно в этой камере содержался Александр Дмитриевич, услышал рассказ, как ежедневно к этому окну приходили Настя с Яковом. По внешности Егор Герасимович стал спокоен и сосредоточен; очевидно, пришел к каким-то решениям о своем будущем. Он стал теперь есть, но как-то механически, без вкуса и удовольствия, притом только казенную пищу, хотя Акличеев часто присылал ему прежде любимые блюда. И оставался все так же худ и бледен. Железное здоровье его надломилось.
Наконец уже в октябре пришло решение аудиториата с царской конфирмацией: «Майора Егора Герасимова сына, Жаркого, за содеянное преступление лишить чинов, орденов, дворянского достоинства и сослать в каторжную работу на десять лет, обратив после того на поселение. Но, снисходя к увечию, последовавшему от раны, и к долгой беспорочной доселе службе, заменить каторгу бессрочной ссылкой в Восточную Сибирь».
В дождливый и мозглый день на городской площади возвели дощатый — помост. Зеваки глазели на спорую работу плотников из острожных арестантов и заговаривали с конвойными солдатами.
Ранним утром две роты окружили эшафот с четырех сторон. Толпа, в которой почти все знали майора и меньше полугода назад низко ему кланялись, тесно сгрудилась за солдатскими спинами.
На помост взошли чиновник и офицер. На дрожках с конвоирами, стоявшими на подножках, привезли преступника. Ропот прошел по толпе, головы задвигались, высматривая, глаза близстоящих впились в него. Худой и бледный майор держался по-прежнему прямо. Твердой поступью прошел он к эшафоту, поднялся по трем ступеням и остановился, хорошо видный теперь всему собравшемуся народу. Лицо его было недвижно и спокойно. На заношенном сюртуке, единственной оставленной ему одежде, странно сверкали густые штаб-офицерские эполеты, глубоко надвинутая фуражка низко сидела над резко выступавшими скулами. Когда чиновник громко начал читать приговор, Жаркий обнажил голову, — она была совершенно седая. Голос чтеца смолк. Ударили барабаны. Офицер шагнул к осужденному, сорвал с плеч эполеты и сказал громко: «Стань на колени». Ему подали шпагу, и он сломал заранее подпиленный клинок над головой преступника. Этот обряд символизировал лишение чина и дворянского достоинства.
Офицер и чиновник отошли на угол помоста. По ступенькам взбежали два солдата, подняли с колен Егора Герасимовича и, быстро расстегнув пуговицы, стащили с него сюртук. Показались тощие плечи под сорочкой, одно ровное и прямое, другое впалое, искалеченное пражской гранатой. Те же солдаты набросили на осужденного арестантский халат с черным бубновым тузом на спине. Потом кто-то подал на помост табуретку. Жаркий сел на нее, и один из солдат, взяв стоявший тут же на краю эшафота котелок с жидким мылом, взбил его кистью и в несколько широких мазков смочил седую понуренную голову. Тускло блеснула бритва, и через три минуты половина волос была снята начисто. Другой солдат надел на эту странную голову серую шапку блином, подхватил за локоть Егора Герасимовича, поднял его и повел с лестницы.
Те же конвоиры, что давеча ехали на подножках экипажа, встали по бокам арестанта. Строй разомкнулся, они вышли в отхлынувшую толпу и зашагали по улице, но не к гауптвахте, а в другую сторону, за город, к острогу.
Раздалась команда, роты перестроились и, звучно отбивая шаг, двинулись по казармам. Толпа начала расходиться.
— Шкелет шкелетом, а был-то — чисто орел, — сказал кто-то.
— Легко ли этакий срам принять… — отозвалась пожилая женщина в салопе.
— Вот редкий случай, когда за полтора года одному прохвосту дважды эполеты срывали, — заметил, усмехаясь, один из присутствующих господ.
— Его бы при народе и заковать следовало — для поучительности, — отвечал его спутник.
15
Через полмесяца отправлялась партия арестантов, и Жаркий назначен был идти с ней. Но за неделю до срока среди заключенных в остроге появились заболевания горячкой, и в двое суток четверо умерло.
Акличеев, приехавший навестить осужденного, увидел его спящим на грязных нарах, рядом с тяжело дышавшим, трясущимся колодником.
Через острожный двор полковник прошел к смотрителю на квартиру, дал ему десять рублей и просил перевести куда-нибудь Жаркого. Но услышал в ответ, что переводить совершенно некуда. Старый деревянный острог был переполнен и везде равно грязен. Однако, подумав, смотритель посоветовал:
— Разве коли ваше высокоблагородие доктора городского сюда привезут, — только они к нам ездить больно не любят. Дохтор-то, изволите видеть, может бумагу написать, чтоб от меня любого в больницу взяли… Сейчас, погоди, не видишь — у меня барин! — крикнул он сунувшейся в дверь простоволосой женщине. — Жена с детям, ваше высокоблагородие, в город нонче перебираются, заразы спугались, — пояснил смотритель, провожая посетителя к воротам. — А нашему брату никак никуды не сбечь, тут, видно, и подохнешь с каторжными…
Из острога Акличеев поехал к городскому лекарю, не нашел того дома, наведался через час — опять не застал и наконец перехватил на улице уже под вечер.
— Рад бы услужить вам, господин полковник, — сказал лекарь, выслушав просьбу, — только, право, оно трудновато, в больнице ни одной койки свободной нет, и заразу туда заносить не годится…
— Да ведь он не болен еще, слаб только очень. Его бы подкормить и до следующей отправки задержать, — отвечал Акличеев, суя в карман пальто своего собеседника крупную ассигнацию.
— Ну, коли не болен — тогда дело иное, — согласился лекарь. — Вот заезжайте за мной завтра пораньше, поедем вместе, посмотрим…
Но когда на другое утро они вошли в острог, Егор Герасимович лежал пластом на месте уже умершего соседа, лицо его горело, широко открытые глаза блестели.
— Ты кто? — спросил он, всматриваясь в наклонившегося над ним Акличеева. — Чего надо?.. Нету у меня больше денег…
Лекарь рукой в перчатке пощупал лоб Егора Герасимовича, дотронулся на миг до запястья, пожал плечами и вместе с Акличеевым вышел в вонючий коридор.
— А вы говорили — не болен? — сказал он укоризненно. — Вот как бы я не глядя дал распоряжение?
— Да ей-богу, он вчера еще совсем здоров был, — оправдывался полковник.
— Вчера здоров, нынче болен, а завтра мертв, — такова история каждого, — наставительно молвил лекарь и пошел к выходу.
— Неужели же сделать ничего нельзя? — спросил Акличеев, когда они уже сели на дрожки и отъезжали от острога.
— Здесь — ничего. Но если бы его сейчас же вон из этой грязи, на легкую пищу, в чистую постель, в иной воздух, чтобы за ним ходили, — тогда, может, и вытянул бы. А так, без пророчества скажу — его песенка спета. Да и к чему такому жить?.. Однако я должен о здешнем остроге нынче же в губернию отписать. Двенадцать покойников за пять дней — это уж слишком!
— А какие лекарства? — спросил Платон Павлович, когда дрожки уже въехали в город.
— Что лекарства? Надо бы водкой его натереть всего, на мягкое уложить, бульон, молотое мясо, вино давать… Но здесь-то это все зря окажется. Я вам говорю — песенка спета… Ну, я приехал, вот тут и сойду… Мое почтение! — И лекарь соскочил с дрожек.
Полковник поехал домой.
«Неужто я так ничего для него не сделаю? — думал он. — Я — Платон Акличеев, прославленная на всю гвардию когда-то бесшабашная голова, дам помереть в мерзком остроге человеку, что меня от смерти спас?.. Попробовать, что ли, как увезти его? Часовых, смотрителя подкупить… Вон у него и баба уехала — свидетелей меньше…»
Случилось так, что, против обыкновения, никто не пришел к обеду и полковник один сел за стол. Кушанья чередой сменяли друг друга, любимое токайское исправно наполняло большой бокал, а мысли Акличеева неотступно обращались к судьбе Жаркого. «Да ведь бегут же люди и не из таких тюрем, — рассуждал он. — Монте-Кристо хотя бы… Или это только в книгах? Так ведь тут не остров, а только что гнилой заборишко перелезть. Вот и деньги как раз есть, и ребята самые верные из дворовых найдутся… Может, тын этот ночью подпилить?.. Пожар устроить и его выкрасть? Неужели ничего не придумаю? Или удаль моя пропала?..»
И подвиги один другого хлеще вставали в памяти Акличеева. Вспомнил, как глубокой ночью похищал свою итальянку, взломав дверь, запертую ее мужем, и то, как голый, но в кивере и шпорах проскакал мимо дам, гулявших в Новой Деревне, и как на пари ночевал в кладбищенском склепе, и как лез на третий этаж по водосточной трубе, чтобы явиться неожиданно в будуаре некоей дамы… Да разве все перечтешь?
За последним блюдом полковник приказал кликнуть кучера и егеря, доверенных спутников прежних приключений, велел им запрягать дорожную коляску четверней да уложить в нее, кроме погребца с закусками и питьем, еще топор, пилу, веревки и одеяла.
Начало смеркаться, когда, положив в один карман деньги, а в другой на всякий случай заряженный пистолет, предводитель выехал со двора. Несмотря на выпитые две бутылки, он чувствовал себя бодро, держался молодцевато и задача рисовалась ему вполне разрешимой.
Когда проехали мимо последних городских домов и отстала наконец упорнее других лаявшая на коляску собака, он велел остановиться и ждать, а сам пошел пешком к острогу.
Сделав шагов сто по песчаной дороге, полковник запыхался, остановился и стал оглядываться. Место было пустынное и самое унылое. Впереди виднелся острог с его высоким частоколом и серыми тесовыми крышами. По одну сторону дороги далеко уходили ровные пустые поля, по другую — в полуверсте, группой оголенных деревьев с торчащей из-за них колокольней и куполом церкви, обозначалось городское кладбище.
«А коли и удастся, так вынесет ли он дорогу? Ведь всю ночь проедем. Может, это убьет его, а так бы выжил… — раздумывал Акличеев, вновь направляясь к острогу. — Но все равно, лекарь-то говорит: тут помрет обязательно… А коли откроется? Суд, черт знает что… Предводитель дворянства, гвардии полковник и такое дело устраивает… Э, что там трусить! Рискну в последний раз!»
У самых ворот острога он встретил смотрителя, шедшего куда-то с фонарем в руке.
— Надо мне, любезный, с тобой о важном деле потолковать, — сказал Платон Павлович.
— Рад служить вашей милости, да вот сейчас спешу больно.
— Куда же?
— На кладбище, могилы начальство велело к ночи рыть, трое еще у меня кончаются.
— Как же без отпевания, словно собак каких, зарывать?
Собеседники шли рядом по тропинке вокруг острожного тына и дальше полем.
— Заочно отпоют… А чтоб зараза не расходилась, приказано сряду и хоронить…
— Слушай, приятель, — сказал, разом решившись, Акличеев, — хочешь нынче же три тысячи рублей в руки?
— Шутить изволите, сударь, — приостановился смотритель острога.
— Зачем, вот деньги-то… — И полковник поднес к фонарю пачку ассигнаций. — Три тысячи, копеечка в копеечку. С ними и службу острожную побоку пустишь. Уедешь в другой город, своим домком заживешь…
— А что делать-то надо, ваше высокоблагородие? — спросил смотритель с явным волнением. И так посмотрел на Акличеева, точно сказал: «Грех ведь, коли смеетесь надо мной…»
— Есть, братец, у тебя арестант Жаркий. Он теперь помирает…
— Да, плох.
— Так вот, устрой ты так, чтобы я мог его нынче же в ночь отсюдова увезти…
— Как же увезти? Он арестант ведь… — сказал смотритель растерянно.
— Кабы не арестант, я б тебя и не спрашивал, и денег бы не давал… А какой тебе, сообрази, доход будет, коли он в ночь помрет, а утром ты его закопаешь?
Смотритель молчал. Они подходили к кладбищу.
— А вам он на что? Все равно не нынче — завтра помрет. Что ж вы с телом делать станете? — спросил наконец спутник Акличеева, искоса на него поглядевши.
— Похороню, как надобно, не то что у вас тут.
— А коли выходите, тогда что?
— Как что?
— Да жить-то как он будет? Когда все откроется, и мне самому каторги не миновать, — сказал смотритель.
— Я думал, ты человек умный, — отвечал внушительно Платон Павлович. — Ты вот что сообрази: ежели я на этакое дело иду, то вровень с тобой отвечаю или еще сильней, раз колодника укрывать берусь. А мне, будто что, терять придется побольше твоего. Так что твое дело какое? Нынче ночью выдать его мне, получить свои три тысячи, а в бумагах показать, что был, мол, такой арестант, да помер от горячки и похоронен с другими. Только сам-то ты никогда, гляди, не обмолвись, ни пьяный, ни трезвый, ни жене, ни кому другому. А то и себя и меня сгубишь навеки. Понял?.. Тогда получай задаток. — И деньги опять вынырнули из кармана полковника.
Они подошли к первым могилам кладбища. Смотритель остановился.
— Да ведь не выживет, — сказал он, как бы из последних сил отгоняя от себя соблазн.
— Не твоя печаль, — возразил Акличеев, понявший, что дело уже решено. — А ты вот мне что скажи, есть ли у тебя такой верный человек, чтобы вместе с тобой его мне вынести?
— Человек-то как раз есть, — отвечал смотритель, более не колеблясь. — Немой тут один, да придурковатый, при остроге дрова колет, воду носит, полы метет. С ним мы и покойников нынче таскали. Солдаты заразы боятся. Так мы, когда все заснут, как бы мертвого на носилках его вынесем и около готовой могилы оставим, а вы тут уж сами берите. Я будто ничего и знать не знаю…
— Вот это так, — сказал довольный полковник. — Ну, бери пока что пятьсот рублей задатку.
Глухой ночью у земляного вала, окружавшего старосольское кладбище, в дорожную коляску Акличеева с мертвецких носилок было переложено бесчувственное тело Егора Герасимовича. Экипаж осторожно выехал на дорогу, пересек город и к рассвету со своей странной поклажей достиг деревни предводителя.
Выспавшись и сообразив все дело, Платон Павлович и сам несколько опешил от того, что выкинул. Он крепко почесывал в затылке, думая, что случится, если дело откроется, и о том, как же теперь поступить с умиравшим во флигеле человеком. Но было и утешение — к списку былых подвигов прибавилась еще одна такая штука, которой истинно могли бы позавидовать самые прославленные гвардейские повесы. Из давнишней, всем на удивление не забытой благодарности выкрасть колодника с края могилы — это действительно как в самом невероятном романе. Одно было жаль — рассказывать об этом никому нельзя, по крайней мере несколько лет.
А в донесении смотрителя, поданном по начальству, значилось, что арестант Егор Жаркий, 52 лет от роду, помер 2 ноября 1845 года и похоронен на погосте при церкви Покрова пресвятой Богородицы.
16
Вот какую длинную историю пересказал нам с Матюшкой старый учитель на своем крылечке в тот теплый летний вечер.
Мы не заметили, как совсем стемнело, и при второй половине повествования лица Якова Александровича почти не было видно. Пожалуй, от этого ему легче говорилось, под конец он сильно волновался, и голос старика несколько раз дрогнул.
Когда прозвучали последние слова, все долго сидели неподвижно и молча. Я даже подумал, не заснул ли «атаман Платов», притулившись в ногах учителя, и о том, как это было бы неприятно рассказчику. Но в это время мальчик завозился, громко втянул в себя воздух и спросил:
— Что ж, Яков Александрович, потом-то видали вы каких сродственников, из тех-то, из гордых?
— Видал и дядю самого, и братьев двоюродных, — отвечал Вербов.
— Сынов, значит, полковниковых?
— Где полковниковых! Дядя до полного генерала дошел, — сказал старик. — Но только, ребята, эта история тоже не маленькая и не такая… ну, что ли, занимательная… Да потом и спать давно пора… Сбегай-ка, Матвей Иванович, глянь на часы, знаешь — над кроватью на гвоздике. Вот спички. Да осторожно, чашки тут не задень.
Матюшка легко взбежал по ступенькам и юркнул в дверь. Посуда у давно остывшего самовара чуть зазвенела от движения досок под его босыми ногами. Слышно было, как он чиркает спичку.
— Половина второго, — раздалось из комнаты.
— Батюшки! — всполошился Яков Александрович. — Да ведь это что же такое? Живо все по местам!
После влажной сырости, тянувшейся из лесу, в комнате приятно охватывал теплый сухой воздух. Учитель засветил лампочку, а мы внесли и расставили по местам самовар и прочее. «Мужественный старик» помедлил, собираясь еще что-то спросить, но по твердому приказу Якова Александровича убежал к матери, а мы стали готовиться ко сну. Я нарочно не торопился, устраивая свою постель на диване, и дал учителю раздеться, после чего пошел умываться в сени. Мне хотелось завладеть лампочкой, чтобы потом без помехи взглянуть на портреты. Когда я вернулся, старик лежал на спине, накрывшись простыней. Он бегло взглянул на меня и поднял глаза к потолку.
Я прошел к дивану, повесил полотенце и осветил портреты. По-новому смотрели на меня теперь эти три лица, когда я столько знал об их жизни. Еще задумчивее и прелестнее показалась девушка в голубом шугае, грустнее и трагичнее юноша с открытой шеей, прямее и яснее взгляд тамбурмажора. Да, от всех их, несомненно, было что-то в Якове Александровиче.
Не одну минуту смотрел я на портреты. И теперь уже не знаю, на который больше. Как жаль, что не было хорошего изображения Жаркого… Но все же взглянул на другую стену, на солдата, несущего юного прапорщика.
— А эта картина как же к вам попала? — спросил я учителя.
— У старьевщика в городе купил уже в восьмидесятых годах, когда наследник, племянник акличеевский, всю как есть обстановку его именья с молотка пустил.
— А матушка ваша потом была замужем?
— Была, — сказал старик, и по краткости реплики мне показалось, что сейчас он не хочет говорить об этом.
Я начал раздеваться. Но все-таки не мог промолчать о том, что несколько раз приходило мне на ум в последние полчаса.
— Вам непременно надо всю эту историю записать… вы никогда об этом не думали?
— Думал, пожалуй… — отвечал Яков Александрович. — Да как-то не собрался… И рассказывать так подробно довелось за всю жизнь всего второй раз. А написать ведь много труднее.
Я лег, дунул на лампу, мы замолчали. Но заснуть я не мог.
— Яков Александрович, — сказал я негромко.
— Да? — отозвался совершенно бодрый голос.
— А деда вы хорошо помните?
— Ну еще бы, ведь он до глубокой старости дожил.
— И встречал потом Егора Герасимовича? Ведь тот, верно, не умер у Акличеева-то?
— Эк вас разобрало! Да ведь, право, спать-то пора… Уж лучше я вам с Матвеем в другой раз дальнейшее расскажу… Что ж так-то, без толку…
— Не как-нибудь, а завтра же. Ведь завтра воскресенье. Хорошо?
— Ну, там посмотрим, а теперь спите.
Когда я вновь открыл глаза, в комнату смотрело солнце, постель Якова Александровича стояла пустая и аккуратно застланная, в доме было тихо. Первым делом, положив голову на край подушки, я посмотрел на портреты. «Не повезло же вам!..» Поглядел на часы. Одиннадцать. Надо поскорее вставать.
Матюшкина мать, Анисья Васильевна, сказала мне, что за учителем часов в семь зашли ребята из Крекшина и они с «атаманом» отправились по грибы, а меня будить не велели. Напившись чаю, я сел на крылечко с книгой, но ни о чем толком не мог думать, кроме услышанного вчера. Наконец далеко за полдень по лесу послышалась приближающаяся перекличка детских голосов, и вскоре показался Яков Александрович в сопровождении полдюжины мальчиков. У всех лукошки были полны грибов. Простившись со своими спутниками, учитель подсел ко мне, а «мужественный старик» понес свою добычу на кухню. Потом мы пошли купаться, пообедали, а когда кончили, то без сговора в два голоса с Матюшкой начали просить «рассказать дальше».
— Что ж, если так хотите — извольте, — сказал Яков Александрович. — Только, я думаю, лучше попозже начать, а то коли придет кто — перебьет да помешает…
Но мы уверили его, что авось никто не придет, и усадили по-вчерашнему на крыльцо.
17
Детство Яшино проходило в селе Высоком в известном нам доме, рядом с дедом, бабушкой и матерью. Об отце мальчик знал только, что был он молодой офицер да убит на Кавказе. Но Яша никогда его не видел и не думал о нем много.
Жили безбедно, но почти что по-крестьянски. Якова Федоровича внук начал помнить, когда деду было лет пятьдесят пять. Был он совершенно крепок, хотя с сильной проседью, все зубы на месте, ходил прямо, бодро стуча деревяшкой. Состоя в отставке, он получал какую-то маленькую пенсию за выслугу лет да за кресты и не покладая рук столярничал, а лучшие свои поделки старательно расписывал. Работа у него не переводилась. Заказчики приезжали порой издалека, верст за тридцать — сорок, потому что изделия «подтягинские» славились добротностью. Доходами с этого мастерства, со скотины да с огорода и жили. Трудился дед летом в своем сарайчике, а зимой в доме, на маленьком верстачке наискось от русской печки. Яшины мать и бабушка не любили, когда много было мусора и несло клеем и краской, а мальчику этот дух вместе с запахом воска и сосновых стружек очень нравился. Да еще от всего существа Якова Федоровича, от одежды его, от бакенбард пахло всегда очень хорошо и вкусно — будто свежим воздухом и ржаным хлебом, — чисто и бодро. За работой дед любил напевать марши и солдатские песни. Так что первые выученные Яшей стихи были слова к Преображенскому маршу:
Лет с семи мальчик стал своей охотой понемногу приучаться к столярному делу. «Что с им будет, то неизвестно, а в этаком понятии вреда нету», — говаривал дед, наставляя его, как держать стамеску или рубанок. Когда же внук начал ходить в школу, он со вниманием слушал склады или, вздевши очки, поглядывал, как на грифельной доске Яша складывает и вычитает числа. Конечно, рассказы дедовские про Бородино и Париж мальчик очень любил и готов был слушать без конца.
Лет до двенадцати дед представлялся ему человеком самым умным, самым бывалым и знающим. И навсегда остался самым добрым. Если, бывало, внук что сделает плохое, заленится или скажет грубо, дед только головой покачает да скажет: «Эх, брат тезка, не по-гренадерски…» Да еще был он для мальчика и самым искусным, потому что резал из дерева коньков, коров с рогами, собак с открытой пастью и даже солдат, таких бравых, каких ни у кого на селе не бывало.
А бабка Лизавета Матвеевна на Яшиной памяти выглядела, в противоположность деду, совсем старухой. В тот год, когда мать с дедом жили около Александра Дмитриевича в городе, она весной, полоща белье в проруби, крепко застудилась, запустила простуду, и сделался у нее ревматизм. Руки и ноги покрылись страшными твердыми волдырями, искривившими пальцы и мешавшими двигаться, да притом чувствительными к холоду. Так что держалась она в тепле, жалась к печке. Немало вздыхала бабка, что зимой болезнь мешала ей ходить в церковь, где пол был каменный и вообще холодно.
На добром, худом, востроносом лице ее лежала печать страданий, и часто, просыпаясь ночью, Яша слышал, как бабка за перегородкой вздыхает, охает и ворочается на печке. Не могла она ни стирать, ни хлебы месить, ни двигать ухватом в печи, а все только шила, вязала на спицах да горевала вполголоса, что, мол, вот от нее тягость одна, бог ни поправки, ни смерти не дает, а за грехи ее Настенька работает, она же сама дармоедкой сидит.
Раз как-то дед, рассердясь на такие слова, сказал, что в ближнюю субботу сам погонит в город корову, коз и овец да прихватит заодно и кур и всех там продаст, чтобы матери меньше дела осталось, а бабка реже плакалась бы на свои немощи.
— Так, что ли, не проживем? — сказал он. — Шерсти у вас запасено лет поди на сто, а я своим рубанком авось и на молоко настругаю. Маета, и верно, одна…
Бабка притихла. Яша хотел было распустить нюни, вообразив, что не будет больше ягнят и цыплят, но тут заговорила мать, слышавшая дедовы слова, да так резко и решительно, как он никогда не слыхивал:
— Нет, батюшка, вы такого не делайте… — И когда Яков Федорович к ней повернулся, продолжала: — Коли скотины не будет, чем я себя-то займу?.. Как весь день за делом, к ночи ног не слышишь, то и мыслей меньше, и засну сряду… Грешно так говорить, но только легче мне, что матушка не может, а я все одна. Без того бы, кажется… — Она не договорила и ушла поспешно к себе в комнатку. Дед и бабка переглянулись, покачали головами и молча взялись за свои дела.
И точно, Настасья Яковлевна как бы старалась замучить себя работой. Вставала первая, шла в хлев, на речку, топила печь, а там и пошло и пошло, без остановки и передышки, одно дело вплотную к другому, до самого вечера.
И при таком труде была красавица писаная. По сравнению с известным нам портретом, она в двадцать пять лет, когда начал ее помнить Яша, стала, пожалуй, еще лучше. Но только выражение лица всегда оставалось печальное, а лучше сказать — безрадостное. Именно радости жизни, столь свойственной здоровому и молодому существу, никогда не бывало в этом красивом и ярком лице. Даже когда она гладила по голове сына, рубашку новую ему мерила или, скажем, мыла в корытце, — одним словом, возилась с ним и улыбалась ласково, то и тогда не видел он: в ее чертах истинной веселости. Потухло в ней что-то навсегда, когда узнала про смерть Александра Дмитриевича и решилась на себя наложить руки.
Иногда по воскресеньям Анастасия Яковлевна читала какую-нибудь книгу, оставшуюся после Яшиного отца. Но, должно быть, не для развлеченья, а именно для горестных и вместе сладких воспоминаний. Читала она всегда про себя, и если Яша подвертывался близко, то не раз видел на глазах ее слезы и чувствовал, как прижимает к себе крепче обычного. Одна тетрадка, особенная, заветная, куда покойный поручик стихи любимые вписывал, много лет у нее под подушкой и днем и ночью лежала, и от частых перегибов сама открывалась на стихе Лермонтова «Памяти Одоевского». Как раз страница начиналась очень подходящими к судьбе Александра Дмитриевича строками:
Много лет спустя Яков Александрович понял, что почти все буквы в этих стихах расплылись от слез.
Никогда не ходила Яшина мать ни к кому в гости, хотя у себя принимала, если кто приходил, радушно. Одевалась просто, в неизменные домотканые сарафаны. Только по праздникам в церковь шла в шелковом, да не в тулупе, а в шубке. Но все было темное, по вдовьему положению.
Так и жили. На восьмом году мальчик стал ходить в школу на селе, для детей пахотных солдат. Учитель, старый унтер, исправно выучивал в две зимы читать, писать и счету до тысячи.
Летом 1854 года произошли два очень важных события.
Однажды, возвращаясь с ребятами с речки, Яша увидел у дедовского дома большую барскую коляску, запряженную тройкой. Обежав ее со всех сторон, поглядев на кучера в ярких рукавах из-под поддевки и на слугу в полувоенном сюртуке, он поспешил домой узнать, кто и зачем приехал.
В сенях и в проходной у печки никого не оказалось. Мальчик прошмыгнул в боковую комнатку, где спал с матерью, и неслышно, потому что был босиком, подошел к притворенной двери в большую переднюю комнату. Сквозь оставшуюся узкую щелку он ничего не увидел, кроме хорошо известных предметов, но тотчас услышал чей-то незнакомый, громкий мужской голос.
— Конечно, это дело ваше, — говорил он, как показалось Яше, сердясь и удивляясь. — Но я уверен, что, каких бы мыслей ни был покойный брат, однако ему не доставило бы радости, что сын его воспитывался мужиком…
Говоривший помедлил, как бы ожидая возражений, и продолжал:
— А какое же, согласитесь, можете вы дать ему другое воспитание? — Опять пауза с полминуты. — И наконец, уверены ли, что, когда это упрямство пройдет, не пожалеете, что так нелепо отказались от моей помощи?
— Зачем жалеть? — отозвался дед. — Я вашему превосходительству уже доложил, что ни нынче, ни после мы ничего от вас не попросим.
— Кроме чтоб оставили нас как мы есть… — не громко, но твердо добавила мать.
— О, об этом не тревожьтесь, не обеспокою больше, — ответил гость холодно. — Но еще хочу уж собственно вам… — он задержался на миг, как бы ища слово, — сударыня, вот что сказать. Ведь отец ваш не вечен, а вы легко можете вновь замуж выйти, — вон вы еще как молоды и, спору нет, красивы. И тогда судьба вашего сына еще более подвергнется разным деревенским случайностям и влияниям, в то время как я сейчас, и, поверьте, это не повторится, предлагаю сделать его счастье.
— Не надо нам вашего счастья, — резко оборвала мать.
— Это последнее слово?
— Как есть последнее, — ответил дед.
— Тогда говорить нечего. Пусть мальчик сам на вас в будущем пеняет. Жалею, что полагал в вас больше здравого смысла, чем оказалось… Прощайте.
Раздались быстрые шаги, звон шпор и стук двери в сенях. Яша устремился к окну. Его в этот момент вовсе не занимало, что приезжий предлагал деду и матери, хотя понимал, конечно, что речь шла о нем самом. Из рассказов деда мальчик знал, что только генералов величают «вашим превосходительством», и хотел скорее увидеть живого генерала.
А генерал прямо перед окошком садился в коляску. Красивый, с правильными чертами еще молодого лица и презрительно поджатыми губами, он белой рукой поправил прямо надетую фуражку, потом поставил между колен саблю в блестящих ножнах и расправил шнуры аксельбанта у борта вицмундира. Все это — глядя только перед собой, в спины кучера и слуги, сидевших рядом на козлах, не взглянув в сторону дома Якова Федоровича. Яша успел еще рассмотреть ярко-синее сукно рейтуз и лаковый сапог, упершийся в пестрое ковровое дно коляски. Лошади тронулись, генерал откинулся на подушку сиденья и скрылся из глаз.
Как Яша узнал значительно позже, это был его дядя Николай Дмитриевич. Приехав с инспекторскими целями в лагерь на Шелони, в сорока верстах от Высокого, он решил побывать у вдовы брата и увезти племянника навсегда в Петербург. Но ставил условием, чтобы Подтягин с дочерью не писали мальчику, не старались увидеть его до полного совершеннолетия, дали вжиться во все понятия, в обстановку нового круга. Дядина семья соглашалась признать Яшу родственником только с тем, чтобы он навсегда перешел в их, так сказать, «веру». Племяннику сулилась светская дрессировка и образование наравне с дядиными детьми, конечно, если он окажется «податлив и неиспорчен», как выразился Николай Дмитриевич.
Лишь через много лет Яков Александрович утратил иллюзию, что дядино предложение было следствием угрызений совести за судьбу его отца. Нет, просто генерал не мог забыть, что этот деревенский неуч носит одну с ним редкую фамилию. Впрочем, Николай Дмитриевич напрасно беспокоился — мать и дед так устроили, что Яша всегда именовался просто Вербов.
После этого происшествия мальчик заметил, что дед некоторое время ходил задумчивый, должно быть, все прикидывал, правильно ли они поступили. Но тут, кажется, недели всего через две или три случилось второе важное событие. Пришло известие, что Яша получил наследство. От кого? Да от того старого инженера, дяди Александра Дмитриевича. Умирая, он по завещанию оставил свои книги и модели мостов Институту путей сообщения, остальное же имущество поручил душеприказчикам продать и вырученную сумму переслать Анастасии Яковлевне на образование ее сына. Денег оказалось около двух тысяч.
— Видит бог сиротские слезы, — говорила бабка, утирая свои собственные концами головного платка и поглаживая внука по голове искривленной узловатой рукой.
— Не было у него слез, да, бог даст, и дале без них жить станет, — отозвался дед.
В ближайшее воскресенье позваны были гости. Или вернее — советчики для решения Яшиной дальнейшей судьбы. Сошлись отставной капитан, лет двадцать прослуживший в Высоком и доживавший тут же свой век, приходский священник и старший писарь из канцелярии округа. После настойки и пирога засели за самовар. Дед рассказал дело по порядку, хотя, конечно, все и так знали, о чем будет речь.
Яша был опять за перегородкой в горенке и все слышал.
— Что ж тут много-то толковать, — сказал капитан. — Сын дворянина, внук заслуженного воина, значит дорога прямая. Хлопотать надо о приеме в кадетский корпус, там все казенное. А деньги — на первое офицерское обзаведение, на поддержку в молодых чинах, пока жалованье мало.
Батюшка говорил обстоятельнее. Указал, что отрок принадлежит к благочестивой семье, что, несмотря на малый возраст и присущие ему шалости, оказывает успехи в науках и законе божием, что многие пастыри и даже святители церкви не были сыновьями церковнослужителей, а потому он охотно напишет в Новгородскую духовную семинарию, нельзя ли оставить за Яшей с осени место в младшем классе. Закончил же тем, что деньги всегда пригодятся, жизнь при них утрачивает немало терниев и всякая избранная отроком стезя углаживается и украшается.
Наконец, приглашенный высказаться писарь, ничего не советуя, пообещал только, что отпишет куда угодно прошение.
После ухода гостей дед с матерью и бабкой долго еще толковали. Их мнения тоже разделились. Дед хоть и не прямо от себя, но сказал, что как будто и точно военная служба Яше бы подошла, и «тем господам важно бы нос утерли», и вполне «по-гренадерски». Бабка, вздыхая, вставила, что хорошо бы иметь в семье своего молитвенника. Мать же решительно заявила, что о военной службе и слышать не хочет, раз у нее отец без ноги да муж убитый. А хотела бы, чтобы Яша стал, к примеру, лекарем порядочным, или лесничим, или учителем, да еще где-нибудь поближе место найти, где его к делу бы приготовили. Но потом все согласились, что мальчик мал, пусть еще год походит в школу на селе. Потом видно будет. С деньгами что-нибудь и придумается.
Яше исполнилось десять лет. В школе он твердил старое, но дома начал читать вслух деду и бабке. Во-первых, всякие известия о Крымской войне, о Севастополе. Деда они очень интересовали и тревожили. Мало что можно было понять из тогдашних газет, но и крохи ловились с жадностью. А из прочего они особенно полюбили «Конька-Горбунка» и так выучили, что с любого места с дедом взапуски наизусть говорили. Также сказки Пушкина. Да и почти все его сочинения, даже прозаические: «Повести Белкина», «Дубровский»…
А в следующую осень отвезли Яшу в Старосольск, в уездное училище. В программе значились и геометрия, и черчение, и история, и география, но учителями были два старика, которые задавали по допотопным, рваным книгам «отселева — доселева». В ходу были розги, линейка, в классах холодно и сыро. Хорошо еще, что квартира Яшина, то есть угол у вдовы-чиновницы, оказалась хороша — тепло, тихо, сытно. И тут он читал вовсю. Однако, по правде говоря, не менее увлекался и каруселью, которую впервые увидел на зимней Никольской ярмарке. Все на том же сером, в голубых яблоках, коне прокатился дня в три сорок (раз, пустив на ветер все свои капиталы — сорок копеек.
Едва ли не каждые две недели навещали мальчика то дед, то мать. Здесь бывала она так нежна, так ласкова, так заботлива, как никогда в Высоком. Видно, очень тосковала в разлуке. И ни мать, ни дед, оберегая Яшу, ничего не говорили о том, что пережил когда-то его отец и они сами в Старосольске. Так что очень равнодушно взирал он на гауптвахту и на дом с колоннами.
Конечно, на рождество, пасху и на все лето мальчик ездил к своим. А когда возвратился на вторую осень в училище, то там был новый учитель — Андрей Петрович. Человек еще молодой, лет двадцати пяти, бледный, сутулый, невзрачный. Но пылало в нем неугасимое стремление передать детям все, что знал.
Да и время подоспело особенное. После Крымской войны и смерти императора Николая будто свежим воздухом подуло. У многих появились надежды на реформы, которые сразу все преобразуют и поправят. Об уничтожении крепостного права рассуждали как о деле решенном. Между прочим, и в Высоком, да и вообще в уезде, была новость немалая — чудное сословие пахотных солдат уничтожили, переведя всех в государственных крестьян.
Андрей Петрович только что приехал из самого сердца всех этих новшеств — из Петербурга. Как в один год взбудоражил он уездное училище! Чего только не читал на уроках и не рассказывал! Услышали от него впервые мальчики о Белинском и Тургеневе, на картах появились вместо голубых и желтых красок настоящие моря и горы, реки и города, а в истории живые Мономах, Грозный и Петр Великий.
За толковые ответы Андрей Петрович заметил Яшу, стал давать свои книжки, хвалил за любознательность. А весной, встретив способного ученика, шедшего с дедом, на улице, тут же завел речь о дальнейшем образовании. Потом зашел к Яше на дом, когда узнал, что приехала мать, и опять заговорил о том же. При этом прямо советовал обоим определить мальчика туда, где сам воспитывался, — в Гатчинский сиротский институт. И учат, мол, добросовестно, и плата недорога — сто тридцать рублей в год на полном пансионе. После повторных разговоров Андрей Петрович добился согласия, заранее все письмами устроил и получил положительный ответ.
Лето прошло в играх, и вот уже Яшу с дедом собирают в дальнюю дорогу.
Долго ехали лошадьми и чугункой и наконец 14 августа 1857 года добрались до Гатчины. Институт с его огромными зданиями, с сотнями мальчиков в форме, высокими шкафами библиотеки и гулкими коридорами очень поразил Яшу, но не испугал. Яков Федорович пожил в Гатчине дней десяток, пока внука проэкзаменовали и назначили в четвертый класс.
В последний день перед его отъездом пошли погулять по дворцовому саду. Яков Александрович навсегда запомнил минуты, когда они сидели на скамейке, на Длинном острове. Смотрели, как сквозь зелень проглядывали дворцовые башни и отражались в изумрудной глади озера. Было жарко, солнце пекло, стрекотали в траве кузнечики, издали с лодок доносился чей-то смех, и дед говорил:
— Помни, брат тезка, в жизни надо так поступать, чтобы потом не краснеть, не каяться, не стыдиться того, что наделаешь… Теперь ты один остаешься и сам за себя отвечать начнешь. Так и приучись сряду же в каждом деле сомнительном — маленьком или большом — перво-наперво самого себя спрашивать: а коли я этак сделаю, как завтра на то погляжу? Не стыдно ль станет? И как оно опять же у близких людей отзовется — у товарищей всех, у матери, коли узнает, у Андрея Петровича, у нас с бабкой? И уж лучше пусть тебя иные дурачком назовут, только бы низким человеком никто назвать не мог…
Инвалид помолчал, глядя на желтый песок дорожки, на котором чуть колебалась узорная тень пронизанной солнцем листвы, и, вздохнув, продолжал:
— Крепко я надеюсь, Яшенька, что жизнь твоя легче нашей будет… Вспоминаю иногда разное, что было, и сам себе не верю — неужто выдержал этакое, битья сколько принял, ругани, обид всяких. А видел что — страсть! И многим еще солонее меня приходилось из товарищей моих. Прямо сказать, вроде каторги доля наша солдатская да мужицкая была… Неужто уж и дальше простой народ все мучить будут?.. Так и нашему терпению конец прийти может. — Старик вновь замолчал и потупился, потом сведенные брови его разошлись, он ободряюще улыбнулся внуку и закончил: — Так что ты, коли тяжело придется, не тужи, не вешай головы, — помни: деду-то и того много труднее бывало… Так-то, брат…
На другой день Яков Федорович уехал, и началась институтская жизнь. Для Яши она не была тяжелой. Держали мальчиков на полувоенный манер, однако не слишком строго. Взялся Вербов за занятия старательно, вел себя тихо, и товарищи к нему поначалу приглядывались, ожидая случая испытать. Такой случай представился скоро, недели через две после начала занятий.
В классе признанным заводилой и главарем был очень живой мальчишка Андрюшка Котин. О нем Яша в первые же дни узнал, что в конце прошлого учебного года за бесчисленные шалости педагогический совет решил было его исключить, но отстоял инспектор, уговоривший оставить до новой провинности. Поэтому в классе была установлена товарищеская порука — валить вину на любого ученика, но Котина не выдавать.
И вот однажды, перед большой переменой, когда учитель французского языка Дюфур, добрый, но сонный старик, только что вышел из класса, один из резвых мальчиков, Чернецов, подскочил к еще сидевшему за партой Котину и то ли сказал ему что-то обидное, то ли дал дружеского туза. Тот в ответ замахнулся подвернувшимся под руку учебником. Чернецов бросился наутек, и Котин пустил ему вдогонку увесистую книгу. Стоя уже в четырех-пяти шагах, Чернецов отбил ее кулаком, да так неудачно, что она, приобретя новую силу и направление, полетела прямехонько к входной двери. А в это время мосье Дюфур, забывший на кафедре карандаш или еще что-то, появился в дверях, и книга угодила ему в лицо, сбив очки, отлетевшие в сторону. Класс затих. Француз поник, схватился за косяк, потом закрыл лицо платком и вышел, пошатываясь.
Ученики присмирели, обсуждая, что будет дальше, и не расходились из класса.
А Яше как раз в это время неотложно понадобилось покинуть ненадолго класс, что он и сделал. Трусил по коридору и думал, что Котин совсем не виноват в происшедшем, а Чернецов хоть и виноват, да кто же мог знать, что француз подвернется?
И вдруг, когда почти поравнялся с дверью учительской, навстречу ему показался сам инспектор. Он шел быстро, с решительным и бледным лицом. Наверно, если бы Яша не попался ему на глаза, инспектор обратился бы к лучше известным ему ученикам. Но тут остановился.
— Скажите, Вербов, кто это сделал? — спросил он резко и быстро.
Переминаясь с ноги на ногу, Яша в смятении думал, что после экзамена это первый его разговор с инспектором и что тому не понравится, коли начать запираться. Но ведь и доносчиком стать нельзя…
Не зная, что ответить, мальчик молчал. А инспектор, заметив отразившееся на лице его волнение, продолжал:
— Вы, надеюсь, понимаете, что подобный поступок совершенно немыслим. Швырнуть книгой в лицо старику, да еще своему учителю, просто мерзко. А если бы разбились очки и осколок стекла ранил его в глаз?
— Даю вам честное слово, что это было сделано не нарочно! — выпалил Яша.
— То есть как это не нарочно?
— Книга была брошена в Чернецова, а он стоял недалеко от двери и отбил ее рукой… Она и полетела прямо в Генриха Генриховича, который нежданно вернулся и вдруг всунулся в дверь…
— Всунулся?! — иронически повторил инспектор и посмотрел на Яшу внимательно: — Честное слово так было?
— Честное слово! — горячо подтвердил тот, а сам только теперь сообразил, что уже назвал одного из товарищей да еще обнаружил роль второго, на участие которого никак нельзя было даже и намекать… И тут же увидел, что разговор его с инспектором слушают двое подошедших одноклассников, которые должны уже презирать его как доносчика.
Яша стоял ни жив ни мертв, совершенно растерявшись, даже забыв о том, куда бежал.
— Ну хорошо, — сказал инспектор. — Но кто же бросил в Чернецова книгой? От кого пришлось ему защищаться, отбивая ее? Наверное, от Котина?..
«Навел, прямиком навел», — подумал Яша, подавленный своей глупостью, которую товарищи неминуемо сочтут за подлость.
Не дождавшись ответа, инспектор повернулся к нему спиной и пошел к классу.
Яшу вдруг осенило.
— Константин Дмитриевич! Это я бросил книгу! — воскликнул он.
Высокая фигура стремительно обернулась.
— Вы? — недоверчиво переспросил инспектор и пытливо посмотрел мальчику прямо в глаза.
Но тот твердо встретил взгляд, уверенный, что поступил правильно, и радуясь, что не требуется вновь подтверждения честным словом.
— Хорошо же вы начинаете свое пребывание в институте! А еще рекомендованы мне Андреем Петровичем… — укоризненно качнув головой, сказал инспектор. — Ступайте ко мне в кабинет, я с вами после поговорю…
И вдруг Вербову показалось, что губы инспектора дрогнули, как бы готовые улыбнуться. Но он уже отвернулся и решительно пошел по коридору.
— Беги, передай Котину, чтобы не сознавался, — поспешно шепнул Яша одному из одноклассников. И, посмотрев, как в перспективе коридора его посланец ловко обогнал инспектора, двинулся по назначению, с волнением представляя себе, что произойдет в классе, и все же довольный собой.
В кабинете Вербов просидел один больше часу, ежеминутно ожидая, что войдет Константин Дмитриевич и примется отчитывать его за взведенный на себя проступок или за открывшуюся ложь. Потом представлял, что его могут исключить из института, и тогда вызовут за ним деда. Как будет старику неприятно!
Наконец инспектор вошел, не глядя на ученика встал за конторку и записал что-то, потом откинул назад свои длинные волосы, не торопясь заправил за уши боковые пряди и сказал:
— Я нахожу, что вам, как главному виновнику, — он сделал намеренное и заметное ударение на последних словах, — надобно прежде всего вместе с Чернецовым просить извинения у Генриха Генриховича, которому я уже объяснил, как все вышло. И пусть он решит, как вас следует наказать…
Яша почувствовал, как у него отлегло от сердца.
Между тем инспектор вышел из-за конторки, прошелся по комнате, остановился перед мальчиком и вдруг улыбнулся удивительно ясной, подкупающей улыбкой, вмиг преобразившей строгое, худощавое лицо.
— А все-таки вы ли это сделали? — спросил он, ласково потрепав Яшу по плечу. Но тут же отвернулся и добавил: — Ну, ладно, ладно, бог с вами, ничего больше не говорите…
Через несколько минут, в сопровождении Константина Дмитриевича, Яша вместе с приведенным Чернецовым отправился через двор в учительский флигель. Дюфур сидел в кресле, обложенный подушками, с холодным компрессом на глазу, и был очень жалок. Мальчики искренно просили у него прощения, согласно и гладко пересказав обстоятельства дела и раскаиваясь в нанесенном старику увечье. Француз милостиво простил их, произнеся длинную и нудную рацею, в которой особенно налегал на то, что если бы дети должным образом относились к памятникам человеческой мудрости — книгам, то ничего дурного бы не произошло. Инспектор поддержал старика и добавил несколько слов от себя, наложив на виновных взыскание в виде лишения прогулки на четыре воскресенья. Тем дело и окончилось.
После этого происшествия Яша сразу стал в классе своим человеком и первым приятелем Котина. В следующие дни некоторые учителя сочли нужным прочесть ему суровые нотации, которые он выслушал с покаянным лицом.
А через неделю, как-то вечером, когда мальчики учили уроки, инспектор вызвал Котина и увел его куда-то. Тотчас посланные «пластуны» донесли товарищам, что они рядком прогуливаются по пустому гимнастическому залу. И ребята тотчас отметили, что Константин Дмитриевич сделал это, когда все учителя разошлись уже по своим квартирам, — значит, хотел поговорить с Андрюшкой не начальственно, а «по душам».
Вернулся Котин серьезный, тихий и на вопросы товарищей отвечал:
— Догадался он, братцы, что я книгой-то в Чернецова запустил, и задал мне баню… Но обещался никому ничего не говорить и еще раз слово взял, что угомонюсь… — Он нашел глазами Вербова и протянул ему руку: — А тебе, Яшка, спасибо, все ж таки ты меня спас. Кабы тогда меня Константин Дмитриевич прямо спросил, я бы не запирался, а значит, и выгнали бы меня…
Таков был случай, впервые приблизивший Яшу к инспектору института Константину Дмитриевичу Ушинскому. А за следующие месяцы накопилось и еще немало впечатлений об этом замечательном человеке, успевшем, помимо преподавательской и воспитательской деятельности в институте, писать педагогические статьи, составлять проекты учительских семинарий, редактировать чужие работы. Имя его, сравнительно еще молодого человека, было уже широко известно. И ученики Гатчинского сиротского института гордились этой известностью. В старших классах читали его работы, а подростки со слов старших говорили друг другу:
«Слыхал? Наш-то опять замечательное что-то напечатал…» Или: «Вчера, говорят, наш в Питере лекцию всем учителям читал…»
Так и вали Ушинского гордо и фамильярно — «наш».
В первую весну, с приехавшим за ним дедом, Яша отправился в Высокое. Мать так ему обрадовалась, что стала на несколько дней какая-то светлая, праздничная, будто совсем другая. Скинув мундир и облачившись в прежнюю домотканую одежку, провел он среди родных и товарищей три месяца за рыбной ловлей, походами по грибы, игрой в рюхи да глазением на ученья расквартированной на селе роты солдат.
Под конец следующего учебного года Константина Дмитриевича перевели в Петербург. С уходом его началась для Яши невезучая полоса. Вскоре заболел скарлатиной, только стал поправляться — воспаление легких. К концу мая поднялся наконец на ноги, пропустив больше двух месяцев занятий. Приходилось либо оставаться на второй год, либо готовиться к экзаменам осенью. Решился на последнее — самолюбие заело, не хотел отставать от класса, да и лишние сто тридцать рублей из «капитала» представлялись не шуткой. Яков Федорович, как и в прошлый год, приехал в июне за внуком, но через неделю отправился обратно один, одобрив его решение.
Но вот и осенние экзамены прошли хорошо. Сдав последний, Яша весело бежал в столовую, когда его остановил дежурный воспитатель.
— Вербов, вас в приемной ожидает какая-то женщина, — сказал он.
Женщина?.. Женщина могла быть только одна — мать! Не помня себя, прыгая через три ступеньки, бросился Яша вниз, в приемную.
Высокая, стройная, в темном платье, шагнула к нему навстречу Анастасия Яковлевна.
— Яшенька, голубчик мой, родной!..
Дорогой, среди чужого мира, непохожего на привычное, деревенское, не раз думала она с тревогой, не застыдился бы сын полукрестьянского ее обличья, не сделался бы среди городских господских детей сам другим, чужим ей. И теперь, после первых минут радости, вспомнила свои опасения, оглядывая стройного, выросшего, почти юношу в нарядном мундирчике…
Десять дней, оставшихся до начала занятий, пронеслись незаметно. Анастасия Яковлевна сняла угол у отставного мелкого чиновника на Бомбардирской, недалеко от института. К ней ежедневно, после полудня, приходил сюда Яша. При домике был маленький садик, и они часами сидели в нем или ходили гулять в Приорат, в Зверинец. И все не могла мать насмотреться на сына, все гладила будто бархатную, коротко стриженную голову.
А он доверчиво открывал перед нею то, чем кипело его молодое сердце, чем жил и надеялся жить. Конечно, расспросил подробно о Высоком — о деде, бабке, соседях, сверстниках, но с настоящим жаром говорил только об институте, Ушинском, о своих планах. И каждый раз вечером, когда он уходил, она долго сидела одна в садике или ворочалась на постели, думая, как вырос, возмужал, развился он, тревожно гадая, что-то ждет его в жизни.
Начался новый институтский год. Помимо учебных занятий, Яша и его одноклассники много читали, преимущественно русских авторов: Тургенева, Писемского, Григоровича. Но самым любимым был Некрасов. В смелых, разом запоминающихся строках доносил он до подростков все, что занимало лучших русских людей, указывал на несправедливости окружающей жизни, требовал борьбы с ними. Немудрено, что институтское начальство не жаловало поэта; с тех пор как правительство запретило сборник его стихов, он считался настоящим крамольником. Любовь к Некрасову надо было скрывать, книги его прятать. И тем нетерпеливее ждали его новых стихов, их целиком выучивали наизусть, щеголяли цитатами из них, лучшие строфы делали жизненными девизами.
Не без влияния любимого поэта Яков Александрович стал задумываться о будущем. Гатчинский институт в эти годы был превращен в юридическое училище, в старших классах изучали законоведение, судопроизводство. Но стать судейским чиновником Вербову совсем не хотелось. Учитель, воспитатель — вот к чему влекли его собственные склонности и образы Андрея Петровича, Константина Дмитриевича и лучших институтских педагогов. После некоторого колебания Яша написал Ушинскому, прося совета. Тот ответил немедленно, рекомендуя продолжать учиться в Гатчине, потому что обсуждается открытие педагогического класса именно при их институте.
А весной от деда пришло письмо. Он сообщал, что Анастасия Яковлевна решила во второй раз выйти замуж.
О женихе говорилось кратко, что он военный фельдшер, вдовец с маленькой дочкой. Весть эта сильно взволновала Яшу, показалась почему-то обидной. Но, поразмыслив, он понял, что такое событие вполне естественно. Ведь ей было всего тридцать шесть лет.
Однако ехать на каникулы в Высокое Яше не захотелось. Думалось, что мать теперь уже не та, представлялся этот чужой человек в дедовском домике… Написал, как умел, поздравление, а в мае сообщил, что на каникулы опять останется в институте, потому что надо усиленно заниматься. И хоть скоро потом пожалел об этом письме и тосковал по своим, да делать было нечего.
Вот и еще зима минула. Во время экзаменов узнали, что действительно с будущего года в институте устраивается педагогическое отделение, из которого начнут выпускать учителей младших классов, Яша был зачислен в него одним из первых.
На лето поехал в Высокое, теперь уже передумав все заново и мечтая о встрече с матерью. Но ее не застал. Незадолго до этого ее мужа перевели в Нарву. Туда и она перебралась вместе с родившимся весной Яшиным братцем. Дед и бабка очень по ней грустили, и приезд внука оказался весьма кстати. Еще больше полюбил он своих милых стариков, и уже незадолго перед отъездом дед впервые рассказал ему историю родителей во всех подробностях, закончив ее так:
— Вот ты, брат тезка, какой большой вырос, науку скоро кончишь, на службу определишься… И, как в учителя выйдешь, от простого народа нос не вздумай воротить, за него крепко стой, а в бары не лезь, гляди… Много я разных господ на своем веку видывал, а правильный до конца человек, почитай что один из них, твой отец был… Да и того за правильность эту самую сгубили…
18
Весной 1863 года Вербов окончил учительский класс. Мечтал о поступлении в университет, но решил отложить это на год-другой. Время ведь не ушло — ему было неполных девятнадцать лет. Перед началом новой деятельности очень хотелось повидать мать, знать, как ей живется, а потом пожить в Высоком. Но затруднялся ехать с пустыми руками, нахлебником, которого деду пришлось бы содержать. Правда, существовали принадлежавшие ему около тысячи рублей из «образовательных» денег, но он твердо решил не тратить их иначе, как в университете.
В это время к директору института обратился один видный чиновник, прося рекомендовать репетитора в отъезд. Место было предложено Якову Александровичу. Условия выгодные — двести рублей за лето на всем готовом. Познакомился с семьей, двое мальчиков показались ему недурны, неглупы, и он согласился. Лето провели в богатой усадьбе в Орловской губернии.
Здесь, в помещичьем доме богатого столичного барина, считавшего себя передовым и метившего в сановники, очень часто собирался небольшой кружок петербургских и московских господ, отдыхавших по соседним усадьбам от зимних трудов в министерствах и департаментах. Учитель слушал их бесконечные разговоры о разнообразных намеченных или уже проводимых реформах, причем неизменно и безоговорочно восхвалялась деятельность правительства, пекущегося о «народе». Поначалу Якову Александровичу это было интересно, он все принимал за чистую монету — и благие дела министров, и восторги чиновников. К тому же такие рассуждения звучали много лучше тех, что он слышал почти ежедневно утром и вечером во флигеле, где была отведена ему комната. Там, отделенный от учителя только тонкой переборкой, жил дядя хозяина имения, пятидесятилетний отставной корнет, ярый крепостник, не скрывавший своего возмущения «проклятой эмансипацией». Прокутив в молодости собственные деревни, он уже много лет управлял владениями племянника. К нему в пропахшие конюшней и псарней низенькие комнаты постоянно наведывались соседи-единомышленники, чтобы вместе поохать над разорением помещиков, будто бы принесенным реформой, и попечалиться, что нельзя уже по старинке драть шкуру с мужика. Тут же, впрочем, в меру способностей они приноравливались, как драть ее по-новому.
Сначала простодушному Якову Александровичу казалось очень странным, как это почти под одной крышей, в одной семье мирно уживаются столь противоположные мнения, как может просвещенный человек, каким казался его наниматель, позволить хозяйничать такому грубому животному, как дядюшка. Но вскоре Вербов стал замечать, что родственники нисколько не расходятся в вопросах практического отношения к мужику, а в речах «благомыслящих либералов», как называли себя столичные господа, слишком часто высказывается сожаление, что «народ не все понимает как должно», «не все ценит как следует», иногда даже «недоволен правительством по свойственному ему невежеству». Одним словом, народ, о котором они так заботились, оказывался всегда до крайности глуп и нуждался в дворянском руководстве, чтобы окончательно не погибнуть. Наконец, за широкой рекой разглагольствований, служивших не более как репетицией того, что будут декламировать в столичных салонах зимой, Яков Александрович отчетливо рассмотрел и совершенное равнодушие к действительным переживаниям и нуждам народа, и удивительное, полное незнание всего, что касалось физического и духовного существования этого самого народа, который жил здесь же, буквально в трех шагах от наслаждавшихся своим красноречием ораторов. Да, дед мог не беспокоиться, эти изящные, лощеные господа были Вербову чужды нисколько не менее тех усатых хрипунов во флигеле.
Поняв это, учитель решил не тратить больше времени на выслушивание пышных тирад, а постараться самому стать поближе к крестьянам, о жизни которых и он знал, в сущности, не очень много. Ведь на родине его, в Высоком, у недавних пахотных солдат все было по-иному.
Всецело принадлежа себе только после того как мальчиков уводили спать, он начал под видом вечерних прогулок уходить из дому и приглядываться к тому, что творилось в усадьбе и в рядом лежавшей деревне. Общению с крестьянами и дворовыми — лакеями, кучерами, садовниками — очень мешало звание «учителя барчат», господское платье, то, что он ел за барским столом, — трудно было добиться откровенного разговора. Но все же крепко наболело у этих людей именно то, что интересовало Якова Александровича, — так и рвалось наружу. Тут-то учитель наконец понял, каким образом совершалось прославленное «освобождение» крестьян, которому они так радовались в институте. Узнал, как исчисляются раздутые выкупные платежи, как производится нарезка новых наделов, заведомо слишком малых для самостоятельного хозяйства, и как за малейшее возражение начальству непокорных мужиков порют, как и десять лет назад, невзирая на их «освобожденное» состояние. Увидел, что в радужных представлениях городского общества о новых деревенских порядках все преувеличено,
и что
Другим занятием, которому предавался Яков Александрович, главным образом в дождливую погоду, была начатая по просьбе хозяина разборка большой усадебной библиотеки. Впервые в жизни довелось ему свободно рыться в таком количестве книг, правда большей частью весьма устарелых. Ощущение ничтожности собственных знаний охватывало в первое время при виде стольких сочинений по истории, философии, политической экономии. Как мало во всех этих областях знал он после окончания своего института! Глаза разбегались, и Вербов хватался за три книги сразу, беспорядочно читая и часто не дочитывая. Но в августе ему попался в руки комплект «Современника» за 1858 и 1859 годы. Это были перевязанные бечевкой стопки тонких, свежих, даже не разрезанных книжек в бумажных обложках с названием журнала и оглавлением статей, в котором он сразу увидел знакомые имена: Некрасова, Тургенева, Плещеева, Михайлова, Щедрина. Не раз и раньше, в институте «Современник» бывал в руках у Якова Александровича, но тогда он старался скорее пробежать только беллетристику и стихи, чтобы передать книгу ожидавшему очереди товарищу. Теперь он взялся за публицистику, начал читать статьи Чернышевского по крестьянскому вопросу и не мог оторваться. Ему казалось, что он прозрел. Вот как должен думать и чувствовать честный человек! Все неясные ощущения, все расплывчатые мысли сразу облеклись в твердую и ясную форму. Теперь учитель знал настоящую цену либеральным разглагольствованиям, и на языке у него постоянно вертелись готовые возражения салонным ораторам. Но он понимал, как бессмысленно ввязываться в спор, понимал, что ему никогда не столковаться с этими господами.
И все-таки, когда однажды за ужином кто-то из гостей покровительственно спросил, какого он мнения о крестьянской реформе, Яков Александрович не выдержал и ответил, что, ему кажется, было бы крайне полезно в недалеком прошлом привлечь хоть небольшой процент крестьян к работе комиссии по выработке положения об их же освобождении, а теперь — к практическому участию в проведении в жизнь самого «освобождения». Ведь раз крестьяне становятся свободными, то надо приучать их к гражданским обязанностям, да и дело касается их насущных интересов. Так кому же, как не им, участвовать в его решении? И наконец — в народе будет больше доверия к реформе, если среди ее деятелей будет свой брат мужик, а не одни господа, прежние их владельцы.
Как удивленно и возмущенно зашикали на Вербова все эти благонамеренные чиновники! А один из них так закатился хохотом, что едва откашлялся. Когда же его спросили, чему он смеется, отвечал, утирая слезы:
— Да просто, господа, представил себе, как мой Митька-повар и Семен-бурмистр на заседании со мной спорят и особое мнение подают… Вот умора-то!!.
Яков Александрович едва заставил себя для приличия высидеть на месте, пока хозяин дома снисходительно и величественно пояснил ему, что об участии крестьян в гражданской жизни России еще рано думать, что они пока совершенно как дети, что за них думает правительство и дворянство, но что со временем, даже, может быть, вскоре, во вновь вводимых земских учреждениях наиболее разумные и состоятельные из крестьян получат право голоса.
А на другой день, застав учителя в библиотеке за чтением «Современника», барин сказал, постучав холеным ногтем по журналу: «Зря, мой милый, вы этим занимаетесь, ничего полезного отсюда не почерпнете. Имейте в виду, что на журнал этот уже наложен правительственный запрет. А господин Чернышевский заключен в крепость как лицо, изобличенное в революционной пропаганде, в подстрекательстве крестьян к бунту».
Яков Александрович еще в Петербурге знал все это, слышал и то, что Некрасову удалось добиться разрешения возобновить выход журнала, но только теперь понял, как много потеряла русская общественная жизнь с арестом Чернышевского и то, как должны ненавидеть этого смелого, великодушного человека вот такие болтуны либералы.
С трудом дотягивал Вербов последние недели своего репетиторства, так опротивели хозяева. Да еще к этому времени остро, как никогда, встали вопросы о дальнейшей жизни. Что предпринимать осенью? Поступать учиться дальше? Начать учить самому? Хотелось и того и другого. Но одно было ясно — нужно найти такой путь, чтобы приносить народу пользу, делать для него что-то подлинно нужное. А для этого прежде всего казалось необходимым узнать его жизнь, потребности, мысли. Не быть более полубарчонком, воспитанным институтом в стороне от действительности. Но как это лучше сделать? Наиболее правильным путем казалось стать учителем, да не в губернской гимназии — там все дети чиновников и дворян, даже не в уездном училище — там купчики и мещане, а в самой настоящей сельской школе. Проработать там года два-три, а там, может быть, махнуть и в университет.
В эти же дни пришло от деда письмо с грустным сообщением, что бабушка Елизавета Матвеевна в июне скончалась, долго перед тем прохворав, что он остался совсем один и очень бы хотел видеть внука. Жаль было Яше бедную бабку, вспомнил он ее доброту и ласку и вечное оханье.
Мальчиков Яков Александрович подготовил хорошо, они поступили, куда хотел отец. И в начале сентября, получив расчет, учитель выехал к деду.
В Старосольске он первым делом отправился повидать Андрея Петровича, хотелось о многом поговорить, посоветоваться, но узнал, что его перевели куда-то далеко. И в тот же день, встретив на постоялом дворе односельчанина, возвращавшегося в Высокое через сутки, Вербов сдал ему свой чемоданчик, а сам, пообедав в трактире, пустился пешком в дорогу. Что такое тридцативерстный переход для молодого человека?
19
Погода стояла прекрасная, было совершенно сухо. Желтеющие деревья, убранные поля, ясные дали. После двух лет отсутствия Вербов с радостью оглядывался по сторонам. Скудные и плоские родные пейзажи казались ему замечательными. Перегнал нескольких пешеходов и телег, с удовольствием прислушиваясь к местному говору.
Свечерело. На смену закатившемуся солнцу выплыла луна, идти было приятно. До Высокого оставалось верст десять. Вербов шел и думал о судьбе этих мест. Бывали здесь когда-то татарские баскаки, шведские латники, польская шляхта. И всех побили и выгнали. Мучило народ крепостное право, строили его же многострадальными руками военные поселения. И это прошло. Нет, что ни говори, но хоть медленно, а идет Россия вперед к чему-то хорошему. И в такт шагу он повторял слова любимого поэта:
Потом подумал, что часа через два увидит деда. Поди, лег уже… Ничего, подымется, обрадуется. Начал насвистывать его солдатские песни и марши.
А поблескивавшая в лунном свете дорога так и убегала назад под молодыми ногами… Наконец в голос запел дедовский любимый старый Преображенский марш:
И вдруг оборвал на полуслове. Ему показалось, что впереди, на обочине дороги, кто-то приподнялся с земли. Яков Александрович шагнул еще и увидел человека. Ярко освещенный луной, спустив ноги в придорожную канаву, сидел старик с длинной седой бородой. Палка и котомка лежали около. Он, не отрываясь, смотрел навстречу подходившему. Выражение лица Яков Александрович не мог рассмотреть, но общий вид был изможденный. Одежда простая, крестьянская. Странник.
— Эй, дедушка, или неможется? — спросил Вербов, поравнявшись.
Старик молчал и смотрел все так же неотрывно и пристально.
— Куда идешь-то? Вставай, доведу, — предложил учитель. — Не годится тут сидеть, ночью мороз прихватит…
Опять молчание. Яков Александрович шагнул еще ближе и продолжал:
— Мне-то далековато, а тебя вон до той деревни провожу.
— А сам в Высокое? — выговорил наконец странник слабым, хрипловатым голосом.
Яков Александрович не удивился, дедову семью многие в округе знали. И подтвердил:
— В Высокое… А ты здешний, значит, если меня признал?
— Нет, не здешний… — Старик тяжело перевел дыхание. — А признал по голосу, по напеву, по обличью всему…
— Что ж, раньше здесь бывал?
— Бывал.
— Давно?
— Скоро восемнадцать годов.
Яков Александрович удивился.
— Да ведь и мне-то всего девятнадцать лет, как же ты знать меня можешь? Или что на мать да на деда похож?
Старик ничего не ответил, но, будучи совсем близко, учитель увидел, как беззвучно задвигались его губы под седыми усами, потом рука поднялась к вороту и опять бессильно упала.
Якова Александровича охватила жалость — видать, болен старый. Он наклонился. Широко раскрытые глаза напряженно уставились в его лицо…
— А живы они? — спросил странник. И все морщинистое лицо его выразило крайнее, мучительное ожидание.
— Бабушка померла с год, а дед и мать живы… Только она не здесь теперь, замужем в Нарве живет, — сказал Яков Александрович. — А ты, почтеннейший, знал, что ли, их близко?
Старик, не отвечая, как-то весь сник, а потом и совсем прилег ничком на посеребренную луной редкую траву обочины.
«Что за человек? Откуда? — подумал учитель. — Надо разузнать. И бросать одного в поле не годится».
Он сел рядом со стариком на землю, подсунул руку ему под поясницу и, приподняв, прислонил к себе.
И вдруг старик отвел, почти оттолкнул его руку горячими трясущимися пальцами.
— Пусти, пусти, — услышал учитель прерывающийся взволнованный голос. — Не трогай меня, ведь я злодей твой… Знал бы, кто я, слова бы не сказал…
«Бредит», — решил Яков Александрович и спросил:
— Да что же вы мне такое сделали? Вспомните, ведь вы и видеть-то меня раньше не могли…
— Знаешь, кто отца твоего погубил? — спросил странник хрипловато, но неожиданно твердо.
— Майор Жаркий, — ответил Вербов. — Так ведь он уже помер давно.
— Не помер, — выговорил старик. — Скрыли неразумные люди…
Яков Александрович сидел как оглушенный, сразу поверив его словам. Он не знал, как это случилось, но, несомненно, рядом с ним был именно майор Жаркий, якобы умерший двадцать лет назад арестантом.
Довольно долго сидели они молча, и учитель чувствовал, что старик смотрит на него, ловит выражение лица, ждет, что он скажет и сделает…
Единственный звук, который слышал Вербов, было далекое постукивание телеги по щебню дороги.
— Вы куда же шли? — спросил он наконец.
— К Якову, к ней, к тебе, кого в живых найду… На места здешние взглянуть…
— А откуда?
— Из Сибири, второй год иду… Вот сил не стало…
Опять они замолчали. А Яков Александрович решал, что ему делать? Видел, что нет иного выхода, как помочь Жаркому увидеться с тем, к кому шел тот столько тысяч верст.
Стук телеги приближался. Она ехала в нужном направлении. Яков Александрович встал и пошел навстречу. Хотелось остаться одному, хоть ненадолго, собраться с мыслями.
Крестьянин-возчик, увидев одинокую фигуру на дороге, вытащил из-под поклажи ненасаженную косу и готовился встретить «лихого человека», но учитель скоро его успокоил, объяснив, что подобрал больного странника, которого надо довезти к деду. Оказалось, что мужик ехал тоже из города по Псковскому тракту за Высокое. Услышав имя Якова Федоровича, он охотно согласился помочь. Подъехали к старику и положили его на телегу. Он, видно, совсем ослабел.
И когда воз тронулся, Яков Александрович скорее угадал, чем услышал, вопрос:
— К Якову?
— Да, — сказал он.
Было близко к полуночи. Лошадь оказалась плоховата и плелась кое-как. А мужику еще в четырех верстах от Высокого надо было сдать куму городские покупки.
Долго ехали, долго стояли у избы, долго в окошко некая старуха ругала возчика, пока поняла, кто он и зачем. Долго они пререкались и торговались с проснувшимся кумом. Потом поили лошадь, мужичок тоже выпил и закусил малость. Наконец тронулись. Луна давно зашла, стало холодно. Яков Александрович приплясывал вокруг телеги в своем летнем пальтишке. Старик лежал неподвижно и молча, но когда во время стоянки учитель заглянул на него поближе, не помер ли, то встретил немигающий, напряженный взгляд.
Почти рассвело, когда показалось из-за поворота Высокое. Церковь, вышка «штабного» дома, а вон и дедова крыша выглянула. Кое-где из труб курился дымок. Было около шести часов. Наконец уже близко, едут по улице. Яков Александрович опередил воз и подошел к дедовым воротам.
Взявшись за щеколду, он услышал с детства знакомый звук топора, тешущего дерево, а также знакомый, негромко напевающий голос. Открыл калитку.
Дед стоял посреди двора, по-прежнему бодро и прямо. Одной рукой он держал доску, другой подтесывал ее. Новая белая деревяшка была у него на ноге. Очки на лбу.
С минуту он смотрел на внука, показавшегося в калитке. Но вот опустил топор, вот бросил доску.
— Яша! — воскликнул он. — Яшенька!
— Дедушка, — сказал Яков Александрович в волнении, — я не один…
— Не один? Неужто женился? — спросил дед.
— Нет, не женился еще… А нынче на дороге я странника подобрал, он к вам шел…
— Странник? Ко мне? — Дед поднял брови.
— К вам… Но вы только не волнуйтесь, вы его давно мертвым считали… А теперь он совсем болен… Может, не следовало к вам везти?.. — поспешно говорил Яков Александрович.
— Мертвым?.. Что ты несешь?.. Где же он?
Дед отстранил внука и распахнул калитку.
Старик стоял за нею, прислонясь к косяку. Длинная седая борода, худое морщинистое лицо, пыльное, порыжелое от солнца платье, грязные, разбитые сапоги — все ярко выступало в раме калитки.
Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга.
— Яков, — прозвучало чуть слышно.
— Свят, свят… — выговорил дед, отступая. — Егор Герасимович… Господи! — Голос изменил ему и прозвучал надтреснуто. Он пошатнулся.
Яков Александрович хотел поддержать деда, но тот уже стоял крепко и спросил:
— Ты ли?
— Я… — послышалось в ответ.
— Отколь?
— Из Сибири… Перед смертью тебя повидать…
— Перед смертью?.. А тогда-то, в остроге, что же?..
Странник ничего не ответил, но еще сильнее налег на косяк, видно было — едва держится.
— Дедушка, там мужик с подводой, — сказал вполголоса Яков Александрович.
Дед посмотрел на него, как бы не сразу поняв смысл этих слов. Но потом решительно шагнул вперед и произнес громко:
— Входи, божий человек… А ты, Яша, неси, коли есть какая кладь…
Яков Александрович вышел к возчику и прикрыл калитку. Мужик копался, перекладывая что-то в телеге, и ничего, должно быть, не заметил. Взяв котомку Егора Герасимовича и расплатившись, учитель вошел во двор.
На верхней площадке крыльца стояли оба старика. Дед одной рукой поддерживал странника, а другой отворял дверь в избу. Стукнула о порог его деревяшка.
Яков Александрович остался на дворе: показалось, что входить сейчас не следует. Пусть поговорят сколько надо.
Присев на ступеньки крыльца, накинул свой плед; было зябко, сказалась бессонная ночь. Думал о том, при каких странных обстоятельствах возвратился домой, о том, как хорошо, что матери нет здесь сейчас.
Смотрел на освещенный красноватым, только что вставшим солнцем двор, как всегда на его памяти, начисто подметенный и опрятный, на брошенную дедом доску и щепки около нее, на блестящее лезвие топора, лежавшего у самой калитки. И подумал: вот как поразила деда встреча — уронил топор и забыл про него…
Потом, незаметно, Яков Александрович задремал… Очнулся оттого, что кто-то ласково тормошит и потряхивает его, охватив за плечи. И еще не открывая глаз, узнал деда по старому вкусному запаху смолы, воска, а главное, ржаного хлеба, которыми отдавало близкое, теплое дыхание. Так, еще до конца не проснувшись, почувствовал, что он дома, что хорошо ему и спокойно…
— Яша… Яшенька… Что-й ты тут биваком-то стал? Разве можно на крыльцах спать? — говорил дед, присевши около и продолжая тормошить его и гладить по волосам.
Яков Александрович сразу вспомнил все.
— А тот где?
— На печку поклал… Да, брат, дела… Вот чудеса-то… И смерть помиловала, да что от его осталось? Память одная, подкладка линялая… А ведь богатырь был, я к ему в рекрутах пристраивался… Жизнь-то вроде сказки выходит… Ну, пойдем, закусим чем бог послал. Хоть у меня без Матвеевны плохо хозяйство стало…
Они встали и пошли в избу.
— Ты, Яшенька, не греми, — сказал дед у двери. — Пусть погреется да поспит, хоть навряд жилец. Духу у его настоящего к жизни не видать…
Но дед ошибся. Егор Герасимович не умер. С неделю лежал на печи тихо-тихо, только иногда кашлем закатывался.
Вообще, жизнь в дедовском домике шла как будто совершенно по порядку. Хозяин работал не покладая рук по теплому еще времени в своем сарайчике, исполняя какой-то спешный столярный заказ, а Яша занялся перекопкой огорода, чтением томика Писарева да повидался несколько раз с приятелем детских лет Кирюшкой, жившим через пять домов.
Но больной старик, лежавший на печи, занимал мысли деда и внука, хотя, как бы по безмолвному уговору, о нем почти ничего не говорили. Яша замечал, что первые дни после его появления дед часто задумывался, замолкал среди разговора, хмурился, крутил головой и даже, оставаясь один у верстака, что-то порой приговаривал. Видно, решал что-то про себя. А потом ничего, успокоился, опять лицо просветлело. И, считавший себя совершенно взрослым человеком, Яша, все эти дни тоже напряженно думавший, как ему отнестись к страннику, почувствовал, глядя на деда, облегчение и уверенность, что теперь и он найдет нужную линию.
Занимала Якова Александровича и необычайная судьба майора Жаркого. Ждал от деда пересказа того, что услышит он от старика.
— А что, дедушка, коли соседи спросят, что ж про него говорить? — осведомился учитель дня через два после приезда.
— Отвечай, что зашел странник неизвестного звания да захворал, — отвечал дед. — Сказать можно, что Егором кличут. Кто его здесь попомнит, коль и увидят?
Но спустя несколько дней, когда кто-то из заказчиков столярных поделок зашел в дом, Яков Александрович услышал, как дед назвал Егора Герасимовича Яковом Семенычем. Он хотел было поправить, но дед подмигнул — молчи, мол. А потом на дворе пояснил:
— Дал он мне нонче пачпорт свой в волостное правление на показ снесть, — так ведь, оказывается, он-то и впрямь помершим числится, а бумаги выправлены на дворового человека предводителя Акличеева, Якова Семенова. Уж такое стечение вышло, что и тут ему бог напоминание по вся дни дал, про меня да про тебя… Видать, полный ковшик горя хватил. Ужо, может, и расскажет еще что… А пока пущай отлежится, да в себе самом, коли сумеет, сыщет, чем ему дальше дышать…
— Как это «дышать», дедушка? — не понял Яков Александрович.
— Да видишь ты, шел он, шел, никак два года, только, поди, и гадал, что тут да как? Ну вот и доплелся — увидел. Да не просто, а претерпел души смятенье. Перво там, на дороге-то с тобой, а потом и со мной встреча, тоже не легко. Ну, ладно — дошел. Будто всему и конец, умереть думал. Ан — нет, живуч человек. А чем жить-то? К чему руки да сердце приложить. Это еще сыскать надо… Кабы я его лаской да любовью, как дружка прежнего, встретить мог, вспомянуть вместе что хорошее, вот бы и было тут ему настоящее место. А у меня нету ему ничего. Улеглось за двадцать-то лет сердце, но хоть и жив он остался, да истинно помер для меня и не воскреснуть ему вовек. Жаль, как скотину, как пса, прости господи, какого старого, замерзлого, а больше и нет ничего. За порог не погоню, а захочет уйтить — держать не стану. Только куда иттить-то ему? Особенно на зиму глядучи. Не в Сибирь же обратно? Акличеев-полковник помер давно, а окромя того у него ни души тут не было… Ну, да как подправится, то сам покажет, что делать надумает.
И вот, как-то утром, Яков Александрович увидел странника уже не на печи, а около нее, пекущим ржаные лепешки к завтраку. Поклонился вошедшему юноше и продолжал свое дело. Сев на лавку и украдкой на него поглядывая, учитель рассмотрел сухое, сосредоточенно и бесконечно усталое лицо.
И тело, за дни болезни еще похудевшее, совершенно один: остов, под дедовской широкой рубахой.
Так и зажили они втроем — три Якова. Яков Семенович ничего почти не говорил и, часто, глухо покашливая, или лежал на печи, или чем-нибудь занимался по дому. То со стряпней возился или горницы убирал, то лучину щепал и сушить раскладывал, а то и двор одной рукою пытался подмести, хотя был еще очень слаб. Видно, любил он чистоту, порядок, деятельность и старался принести пользу. Но само его присутствие вносило в быт дедовского дома какую-то, неизвестную здесь доселе мрачную напряженность.
«Конечно, жалкий старик и, очевидно, очень несчастный. Но ведь совсем нам чужой, словно призрак какой-то между нами движется», — думал, глядя на безмолвного странника, Яков Александрович. Коробило учителя и то, что он не мог свободно обо всем говорить с дедом, например о матери. При страннике вообще многих тем они оба избегали и отводили душу в сарайчике или на огороде. Однако Яков Александрович все же заметил, что при малейшем упоминании об Анастасии Яковлевне странник замирал, настораживался. Глядя на двух стариков, бывавших теперь часто рядом, Яков Александрович не раз думал о том, как не похожи друг на друга эти два ровесника, былые товарищи, инвалиды одной войны. Яков Семенович на вид деду в отцы годился. Хилый, сгорбленный, с потупленным или исподлобья смотрящим взором, не то мрачным, не то страдальческим, с бесчисленными глубокими морщинами, с беззубым ртом, часто что-то будто шепчущим или жующим и никогда не улыбающимся. И рядом дед — прямой, ясный, чистый какой-то… «Вот они, пошедшие разными путями люди, — думал учитель. — Вот какова старость, коли в жизни все было «по-гренадерски».
Оставаясь одни, старики, должно быть, кое о чем все-таки разговаривали, потому что однажды, когда Яша с дедом пошли к бабушке на могилку, инвалид сказал:
— Вот, брат Яша, уж истинно чудная доля Егору Герасимовичу, то бишь Якову Семеновичу, выдалась. Много он людям горя доставил, да и самому крепко отлилось. Прямо, можно сказать, с того света вытащили да заново пустили лямку тянуть. Выстрадал один раз все, что судьба положила, и наказание земное принял, и помер было с полной смертной мукой, — ан нет, сжалился добрый человек да и заставил еще двадцать лет маяться.
И вслед за таким вступлением дед рассказал, как Акличеев увез умирающего Егора Герасимовича из острога, как выходили его и отправили из старосольских мест в дальние края с видом на чужое имя. Но последующих событий этой второй жизни своего нежданного гостя Яков Федорович пока не знал.
— Ну, а все-таки, что же он дальше-то делать думает? — спросил Яша.
— А кто же его знает? — развел руками дед. — Сбирается в город, на Акличееву могилку сходить, а потом будто на богомолье куда-то… Выпадет, говорит, снежок, и пойду. Только слышишь, как ночами его кашель-то бьет…
Но Яше по ночам так сладко и крепко спалось, что он ничего не слышал.
20
Прожив в Высоком недели три, Яков Александрович решил поехать в Нарву повидаться с матерью. И еще надо было похлопотать в Новгороде об определении на учительское место в своей губернии. Ехал без приключений, но очень волновался последнюю часть пути. Шутка сказать, столько лет не видались!
Встреча с матерью вышла самая счастливая. В первый день они почти не разлучались. Яков Александрович всюду ходил за нею следом, присаживался в кухоньке, пока стряпали, увязывался сопровождать в лавку, помогал снимать с веревок на дворе просохшее стираное белье. Ему радостно было слышать ее голос, глядеть в дорогое лицо, хоть и замечал, как постарела.
Ребята, — падчерица матери Анюта, семи лет, и сынишка Никитка, трех, — оказались ласковыми и смышлеными. Муж, Семен Никитич, встретил Якова Александровича очень радушно. Невысокий, но плотный, с простецким добродушным лицом, украшенным лихими усами, он пришел со службы только часов в шесть, усталый, но со смехом и шутками. И по тому, как тотчас же доверчиво завозились с ним ребята, приезжий понял, что иным они его никогда не видят.
Яков Александрович приехал утром в субботу, а вечером мать позвала его ко всенощной в собор.
Когда возвращались по темным незнакомым улицам, она говорила мало. Но, подходя к дому, замедлила шаг, потом присела на скамеечку у ворот и сына посадила рядом. Он понял: хочет поговорить прежде, чем войдут в дом.
— Спасибо, Яшенька, что приехал, — начала она. — Ведь все годы эти думала, может, обидно тебе, что я опять замуж пошла… Сколько раз письмо отписать собиралась. Да про такое не просто объяснить, не сумела… Все хотела, чтобы знал, как сомневалась, как за тебя молилась, когда решилась-то… Сам знаешь, вся моя радость в тебе была. В одном тебе души его память живую видела… А в ученье далече уехал, и вовсе жизнь никчемная стала. Такая тоска — пешком бы к тебе пошла… Не раз на ум приходило — зачем бог из петли вынул, прожил бы ты без меня не хуже. Роптала, ночами маялась… А тут Семен Никитич после покойницы своей на квартиру к нам попросился. Вдовый, грустный, он тогда и не смеялся совсем. Анютка грудная почти, хворенькая. Стала я с ней возиться, тебя вспоминала. Увидела, каково младенцу без матери… Год отказывала ему, как замуж стал звать. Поехала к тебе в Гатчину, на свое дитя посмотреть. И увидела — взрослый ты, своим путем идешь… А этим двум, вижу, нужна истинно… И решилась. Да никак не гадала тогда, что из наших мест переведут его, полк-то три года стоял там. Думала, глупая, и все буду при родителях жить.
Она замолчала и, видно, ждала, что скажет сын.
— Матушка, милая, были бы вы счастливы, — заторопился Яков Александрович.
— Что ж, так-то жить мне куда легче… — отозвалась она. — А теперь тебя повидала, и совсем хорошо будет… Только вот батюшка там совсем один. Как тебе должность выйдет, уговори его к нам перебраться.
На этом разговор и кончился, потому что почти над их головами открылась форточка, и Семен Никитич, услышавший из комнаты голоса, спросил:
— Эй, богомольцы, вы, что ли?
— Мы, — отозвался Яков Александрович.
— Так полно любезничать, самовар давно ждет.
В следующие дни Вербов ближе пригляделся к Семену Никитичу. Был это, несомненно, хороший, но заурядный человек. Исправно нес он свои обязанности, вполне удовлетворенный полученным за десять лет службы званием лекарского помощника, именованием «ваше благородие» и воскресным пирогом, запитым перцовкой. В общежитии был обходителен, к матери относился ровно и с уважением. С утра уходил в свой госпиталь, возвращался часов в пять и, пообедав, усаживался писать для приработка кудреватым почерком длинные списки лекарств, белья и еще чего-то. Потом ужинал и после недолгого разговора заваливался спать. Держаться норовил Семен Никитич молодцевато, по-военному, грудь вперед, часто наивно горделивым движением разглаживал усы, причем как-то забавно дергал шеей, как бы стараясь показаться выше, чем был.
Вскоре Яков Александрович понял, что жизнь матери если не счастливая, как он представлял тогда семейное счастье, то все же полнее, лучше, чем прежняя. С утра до ночи была она занята воспитанием и опеканием детей и непрерывной, равномерной, необходимой работой. Те печальные, одинокие годы, когда заглушала тоску по Александру Дмитриевичу, приучили ее к домашнему труду, сделали этот труд необходимым. И теперь она жила тою же жизнью, но в собственной семье, державшейся на ее заботе и нравственном авторитете.
Яков Александрович постоянно чувствовал, что его, своего первенца, мать очень любит, но за эти годы он вышел из ее повседневной жизни, стал как бы дорогим прошлым, о котором вспоминают с нежностью, но которое заслонено настоящим. Мать привыкла к мыслям, что ему больше не нужна, что он человек взрослый, самостоятельный. Он был не членом этой семьи, но гостем, хотя и самым дорогим, которому мать очень радовалась, внешним видом, образованием, любовью которого гордилась.
Только через несколько дней после приезда решился он рассказать матери о появлении Якова Семеныча. Она очень взволновалась, услышав о разговоре на дороге и представляя первую встречу деда со странником. Видно, задел этот рассказ в душе ее какие-то струнки, разбередил воспоминания…
Но вот, прогостив в Нарве две с лишним недели, осмотрев любопытную ее старину, Вербов собрался ехать домой. Да, он твердо чувствовал, что здесь все-таки в гостях, а там, у деда, в Высоком — единственное место на земле, где его родной дом.
Вечером накануне отъезда Яков Александрович с матерью засиделись дольше, чем всегда. Семен Никитич был на ночном дежурстве. Мать, молчаливая и печальная, часто опускала шитье, — видно, не работалось. Сын понимал, что она думает о завтрашней разлуке, самому было грустно, но старался ее занять и развеселить. Рассказывал про свое будущее учительство, хвалил ее ребят, мужа, дом…
Наконец взглянул на часы — половина двенадцатого. Мать встала.
— Пора, Яшенька, ложиться. — И добавила упавшим голосом: — Завтра в такое же время ты уже далече будешь…
Она ушла в кухню убирать еще что-то, а он улегся в постель на жестком диванчике, где спал все эти ночи. Потушив свечу, слышал шаги матери, осторожный звон посуды и думал, как завтра перед отъездом поднесет всем подарки, которые накануне купил и спрятал пока на полке в холодных сенях.
Свет в кухне погас. Мать с порога спросила, тепло ли ему. Он сказал, что очень хорошо. Она постояла в темноте, потом подошла к дивану, ощупью оправила одеяло у плеч, провела рукой по волосам, вздохнула, еще раз провела. И вдруг опустилась на колени у сыновнего изголовья, охватила за шею, склонилась к груди, и он тотчас почувствовал у себя на губах, на подбородке, на ключицах ее беззвучные слезы.
— Матушка, что вы? — спросил Яков Александрович, выпрастывая руки и обнимая ее. — Полно, ведь я опять приеду. О чем вы?
— Ах, все о том же, Яшенька, все о том, — выговорила она, и как будто еще сильнее побежали слезы. — Все о том, что двадцать лет назад сталось… Все дни на тебя глядела да его вспоминала…
Он крепче ее обнял, и на несколько мгновений она смолкла, замерла.
— И как же ты на него-то похож, — вновь заговорила она. — И ходишь-то так же легонько, и смеешься, как он, и волосики те же, хохолочек вот тут… Все-то крошечки обобрал, сыночек его… — Она не билась, не всхлипывала, а тихо-тихо плакала и приговаривала: — Не забыла я его и вовек не забуду… голубчик он мой, солнышко мое ясное… Вот уж сколько лет прошло, а нет мне настоящего облегченья… Ни ты, Яшенька, ни детки эти, ни Семен Никитич, никто, никто его не заслонит… Видно, урод я какой, глупая да горькая… Один на всю жизнь и был, светик мой…
Так в темноте дождливой ноябрьской ночи Яков Александрович единственный раз услышал от своей матери о любви ее к отцу, почувствовал с потрясшей молодое сердце силой, как велико и неизбывно было ее горе.
21
На обратном пути Вербов остановился в Новгороде. По тогдашним порядкам, учебным делом в губернии ведал директор гимназии, которому подчинены были все уездные училища и приходские школы. Явившись к нему на прием, Яков Александрович изложил свою просьбу. Бегло взглянув в документы молодого человека, директор выразил удивление, что при законченном образовании, дающем право учить в городских заведениях, он желает занять столь мизерное место, обрекая себя на жизнь в деревне среди безграмотных мужиков. Вербов горячо заверил, что желает именно этого, и в ответ услышал, что в начале учебного года все места уже укомплектованы, но надо оставить прошение, и если что освободится, то канцелярия директора «тотчас» уведомит «господина Вербова». Очевидно, о нем желали навести справки. Так ни с чем и уехал в Высокое.
В дни переезда из Нарвы к деду Яков Александрович обдумывал открывшееся ему за последние полтора месяца. Знал он отцовскую историю и раньше, но теперь все так сложилось, что вдруг как бы вплотную она придвинулась. Размышлял, как по приезде отнесется к страннику, который, верно, живет еще в Высоком. Какое горе принес этот человек матери! А отец-то, должно быть, как его ненавидел!..
Но все эти мысли оказались излишними. Подойдя к дедовскому дому, Яков Александрович опять застал хозяина на дворе за делом — мастерил крестовому брату последнюю домовину. Яков Семенович помер накануне.
Вечером, после выноса тела в церковь, когда остались вдвоем, дед рассказал, что странник собрался-таки в Старосольск, на могилу Акличеева, и там, выполнив все как полагается, отслужив панихиду и уже идучи с кладбища, наткнулся на заросшую травой плиту, на которой прочел собственное имя с годом рождения и мнимой смерти. Должно быть, сам Акличеев, сразу после увоза из острога, приказал сделать и положить эту плиту, чтобы никому в голову не пришло, как же он, когда-то славивший Жаркого своим спасителем, даже в арестантскую возивший к нему лекаря, тут сразу как бы забыл о нем. На Якова Семеновича такая неожиданность сильно подействовала. Еще бы, свою могилу увидеть, это хоть кого взволнует. От кашля и одышки едва пришел он из города, а через несколько дней, несмотря на дедовы отговоры, собрался еще дальше, за сорок верст, в Рдейскую пустынь на богомолье. Но отошел только верст пять, и подобрали его в поле высоцкие мужики, совсем обессиленного и закоченелого.
— Уж мы с Кирюшкой, приятелем твоим, с час никак водкой его оттирали, — рассказывал Яков Федорович. — Потом на печку взмостили и укутали. Наутро стал он оттуда голос подавать. Я поначалу подумал было, что на поправку пошел. Ведь такой молчаливый был, а тут прямо без удержу то ли рассказывает, то ли бредит. Все про Сибирь. Смотрит на окна, — в аккурат первый снег полетел, — да и говорит про стужу тамошнюю, про птиц, что на лету мерзнут, про кушанья разные, замороженные, как на дорогу в мешках их берут да отогревают на станциях. Потом про тамошнюю почтовую гоньбу заговорил, как несутся по тракту, с солдатами на козлах да на запятках, сани, груженные золотом, добытым колодниками в рудниках. И сами эти колодники как в мороз идут, цепями бренчат. Меня аж озноб по коже подрал, когда начал рассказывать, как через любую одежду, хоть бы и через овчину, стынут кости от кандалов да как в острогах на пути стонут, отогреваясь, горемычные, плачут от лютой боли.
— Но как же он, дедушка, все-таки в Сибирь попал? Своей волей, или дознались в конце концов про прошлое и сослали? Рассказывал тебе? — спросил Яков Александрович.
— Рассказывал и про это, еще как из Старосольска пришел, — отозвался дед. — Только вовсе коротко. Переправил его, видишь ты, поначалу Акличеев на Волгу, в город Ярослав. Да встретился тут ему барин один, что раньше его майором знавал, и пришлось скорее от тех мест бежать, чтобы дело-то не открылось и тем Акличеева и людей, которые его выхаживали, под суд и каторгу не подвесть. Но и в новом месте, через год, что ли, приключилось то же, другой человек из старых знакомцев навернулся и узнал было. Тогда и решил он в самую дичь да глушь сибирскую забраться. Там лет пятнадцать никак и прожил.
— А что же делал там?
— Что калеке хворому делать? Писарем при остроге нанялся, благо писать да на счетах считать ловко левшой умел.
— И тут уж никто его не узнавал? — спросил Яша.
— Так нет же, узнал и тут один человек, — тряхнул головой дед. — Вот как про колодников он нарассказал, то вдруг и спрашивает меня: «А Курилина помнишь?» Нет, говорю. «Гренадером в моей роте служил». Это значит, когда он ротой-то в Киевском полку командовал. Оказывается, Курилина этого Егор-то Герасимович так наказанием да придирками донимал, что тот, бедняга, из полка сбежал да мало-помалу от бродяжничества да воровства к душегубству дошел и в вечную каторгу угодил. Вот там-то им опять встретиться и друг друга узнать довелось. Просил его Жаркий не выдавать, за Акличеева все тревожился, а тот над ним насмехался, куражился, «папенькой крестным» величал да деньги все, какие были, за молчание выцыганивал. Этакое-то тяжкое дело у них и шло, пока не сбег Курилин из острога, никак года через два, что ли… Вот только и рассказал про все двадцать лет… Видишь, вышло оно как: ни солдатом, ни офицером в сражении, ни арестантом в остроге, ни бродягой на тракту помереть ему не довелось, а как и родился — чисто по-крестьянски, на печи.
Дед и внук помолчали, думая о судьбе умершего вчера человека. Потом Яков Федорович заговорил снова:
— И все-то, Яшенька, я в эти дни прикидывал, зачем было ему сюда иттить. Что его гнало? Шутка ли, такой труд старому да хилому человеку принять. И как полагаю, что, значит, за двадцать годов ничего душевного там в Сибири нажить он не сумел, все к здешнему тянулся. Значит, и во второй раз жизнь начавши, по-прежнему жестким сердцем остался, разве что сам кусаться перестал, а тепла да добра, видно, ни от него, ни ему не далось… Знал бы ты, Яшенька, какой он смолоду жестокий и алчный человек был, как чужое горе ему за пустяки шло… И любовь у него злая и дикая, волчья какая-то вышла, а вот как крепка оказалась…
Дед помолчал, набил трубку, посмотрел на Якова Александровича и, как бы решившись, продолжал:
— Правду-то если тебе сказать, то про Настеньку он до последнего вздоха своего вот как крепко думал. Кремень был человек, ни разу словом о ней не обмолвился, но не иначе как иттить-то не в пустынь вовсе, а прямиком в Нарву собрался. Хоть издали думал на нее взглянуть, тут не нашедши… Чуял, должно, близкий конец и из последних сил пошел.
— Почему ты так думаешь, дедушка? — спросил взволнованный Яша.
— Да, видишь, подобрали его на Псковском тракту, а в Рдейскую-то пустынь на Холм ведь иттить надо, — ответил Яков Федорович. — А второе, в котомке его, нынче как вытряхивать ее стал, листок оказался — адрес Настенькин списан, у меня, видно, на косяке углядел да и переписал…
Недели через две по приезде из Нарвы дед сказал Якову Александровичу:
— Надо бы, тезка, переглядеть сундучок матери твоей, что в чулане стоит. Матвеевна, покойница, смотрела, так тому уже года два никак. А у меня все руки не доходят. Или весной, что ли, толком разобрать да на солнце вывесить?
«Вещи, которые с собой не взяла. Верно, то, что с отцом было связано», — подумал Яков Александрович.
И на другое же утро втащил сундучок в избу. Был он невелик, прочной дедовской работы, с плоской, удобной для сиденья крышкой. Тщательно обтер Яков Александрович тряпочкой пыль с крышки. Ярче выступили памятные с детства дедовские художества — красные перистые цветы, травы, птицы по лазоревому полю. Важно постарался для дочки, каждый листок да крылышко вывел… Открыл. Сверху было застлано чистым рядном. А под ним, аккуратно сложенные, лежали материнские платья. Но не темные, что знал Яша, а яркие, нарядные, молодые. Вот шелковый синий сарафан с широким золотым позументом от груди до полу, под ним другой — малиновый, с серебряными сквозными пуговками, еще третий — зеленый, опять с галуном. Вот парчовая рефядь, потускневшая и сплющенная. Как, верно, красиво было лицо матери под ее узорным краем с подзором из жемчуга. А того голубого с лисьим мехом шугая, что знал по портрету и ожидал здесь найти, — не было. Дальше, до самого низу, лежали бумаги, альбом с набросками, краски в полированной коробке, несколько книг. А это еще что? Куски лубка и скатанные бинты… Должно быть, те, которые отцовскую ногу покоили. И рядом, в холщовом мешочке, туго и аккуратно смотанные яркие ленты для кос. Наконец, на самом дне вкось, завернутая в холст шпага в лаковых ножнах, с золоченым эфесом. По клинку гравированные венки побед, а к темляку привязана картоночка с порыжелой надписью: «Поручик Вербо-Денисович, содержится с 18 января 1844 года». Видно, как хранилась в комнате караульного офицера, так ее матери с гауптвахты вместе с другими вещами и выдали… Шпага деда-генерала, которого Яков Александрович никогда не видел, о котором почти ничего не знал. Но нет, для него она была только отцовская, дед у него один — солдат, отставной тамбурмажор Яков Подтягин…
22
Среди товарищей Яшиного детства, с которыми теперь охотно он виделся, первое место занимал Кирюшка Березин. Вместе они в школе сидели и раков ловили, с горы катались и в лес ходили, страшные небылицы друг другу рассказывали и дедовские повествования про походы слушали. Считали их почти неразлучными и звали Верба да Береза. Расстались приятели, когда Яша уехал в город учиться. Но на каникулах опять дружба оживала. Береза был паренек совсем одинокий, отец и мать померли подряд, когда было ему лет десять. Жил он с тех пор у дяди, исправного мужика, не то за родню, не то за работника.
В эту осень встретились приятели душевно, вечерами часто виделись, и Кирюшка без устали расспрашивал Яшу о всякой всячине. Когда же совсем доверился, то поведал, что приглянулась ему девушка из соседней деревни, но жениться он не решается, потому что хоть и сохранил отцову избу и надел, да скотины и денег на обзаведение нету нисколько. Дядя ничего ему за работу не давал, кроме одежды да харчей. Дешевого батрака нашел. А девушка тоже из бедной семьи.
Видел Яков Александрович и ее, — ходил с Кириллом в ту деревню на «супрядки», — и очень она ему понравилась.
Это было до поездки в Нарву, а на обратном пути, под влиянием размышлений о жизни родителей, Яков Александрович решил, что надобно Березу женить. То есть, собственно, уговорить его взять денег, благо осталось у него еще из заработанных рублей сто. Потом, если сможет, отдаст когда-нибудь. А самому так или иначе скоро на новом месте начинать служить. Значит, и деньги будут. Нельзя же в самом деле допустить, чтобы хорошие люди из-за ста рублей каких-нибудь не могли соединиться, а сохли порознь.
Решил и сделал, уговорил Кирюшку. Условились, что свадьба будет после святок и Яков Александрович дружкой. Сказал Кирилл девушке, перетолковал с ее отцом. Все шло хорошо. Расцвел Береза. Продажного коня присмотрел, да дядя кое-что дать обещался… Радовался с ним и Яков Александрович.
Но вдруг, в средних числах декабря, приходит к приятелю Кирюшка днем, чего раньше никогда не случалось. И нету на нем лица. Учитель испугался.
— Не со Стешей ли что? — спросил он первое, что бросилось в голову.
— Нет, — говорит Кирюшка, — с нею пока ничего, а со мною худое случилось.
— Заболел, что ли?
— В солдаты мир сдает.
Оказывается, объявлен набор, и только что сход постановил его, как сироту и своего хозяйства не имеющего, сдать от села Высокого.
А в тогдашней деревне истинно:
Хоть сроки солдатчины стали уже не николаевские, служили только семь лет, да представления-то деревенские были еще старые, воспитанные двадцатипятилетней службой.
На сходе, может, и действительно думали, что выть по Кирюшке будет некому, но Яков Александрович знал, как все выходило скверно. Этакие радужные мечты, и вдруг…
Ничего не нашелся тогда сказать учитель, так был поражен.
Сунул Кирюшка приятелю в ладонь недавно взятые деньги.
— Пойду к Стеше прощаться, — говорит. — Послезавтра в город везут.
И как ушел, ужасно Якову Александровичу скверно стало. Места в избе не находит. Вышел во двор. Стал с остервенением дрова колоть. А в голове вопросы: что делать? Неужто никакой помощи нельзя ему оказать? Сначала ничего не придумывалось, потом вдруг осенило, даже колоть перестал: нанять кого-нибудь за Березу в солдаты!.. Это тогда делалось очень часто и разрешалось. Стал прикидывать, но увидел, что никого нет на селе подходящего. Разве в город с ним ехать да там искать? А если и там нет?.. Взялся снова за дрова. Так и ухает под колуном. Но вот опять остановился, выпрямился: «А что, если самому вместо Кирюшки служить пойти?! Ведь это, может статься, случай во всю жизнь единственный, чтобы полубарское обличье скинуть и по-настоящему в народную шкуру влезть. Не расспрашивать по-летнему, как, мол, живете да как страдаете, а самому испытать все, что на мужика в солдатчине ложится, бок о бок с ним года два-три прожить. Или ста рублей, легко заработанных, не жалко, а себя жалко? Да и что делать этой зимой? Места учительского нет, поступать учиться опоздал. Все равно надо от деда уезжать и где-то найти работу, в которой первым условием сам ставил близость к народу… Так вот она, близость-то… Ну и что же? Сробел? Дед небось не сробел за брата пойти. А его служба куда пострашнее была…»
И тут же, ни слова не говоря деду, — шасть в избу, хвать пальто, шапку да в волостное правление, прямо к писарю. А это ужасный был пройдоха и взяточник, но голова острая. Яков Александрович ему прямо — так и так, прошу мир сдать меня в солдаты за Кирилла Березина. Тот сначала удивился очень, стал отговаривать: вы, мол, человек образованный, зачем это вам, то да се… А Вербов опять свое: хочу так поступить, а миру все едино, кто пойдет. Чем я не рекрут?
Писарь задумался на минутку, и Яков Александрович уже решил, что сейчас согласится, но вдруг он сказал:
— Нет, это совершенно невозможно-с. И поступок ваш хорош, и служить бы вам по нынешним порядкам не столь трудно-с, как лицу с образованием, и очень я вас уважаю, но ведь вы сами должны понимать, что это невозможно…
И этак улыбнулся скверненько.
— Но почему же? — спросил Яков Александрович. — Раз мы ровесники и односельчане?
— А потому, что вы хоть и точно наш односельчанин, но как потомственный дворянин мирским рекрутом быть не можете.
Вербов опешил. Верно, ведь. И ответить нечего. Повернул и пошел из правления. И еще хуже стало на душе: «Дворянин! Вот где, брат, твое дворянство сказалось! Хоть и солдатка-мать тебя родила, а отец, ефрейтором на войне убитый, тебе это почетное звание оставил».
Шел и бесился. И конечно, немало оттого, что писарь-прохвост почел, наверное, что молодой учитель из дворянчиков покрасоваться благородными чувствами к нему явился, наперед зная, что ничего из этого выйти не может. Так ведь и сказал: «Сами должны понимать, что это невозможно…» А все горячка! Не подумавши почти, побежал, не посоветовался ни с кем…
Пришел домой, скинул пальто, сел на лавку. Входит дед. Посмотрел и спрашивает:
— Что такое, ты как из бани?
Яков Александрович было:
— Ничего, так.
А он:
— Нет, не ничего, а что-то с тобой стряслось, рассказывай толком.
Сел рядом да по голове его рукой, как бодливого козла. Не выдержал Яков Александрович, чуть не расплакался от обиды и все дело рассказал.
Выслушал дед и спрашивает:
— А сколько лет теперь служба?
— Если по набору солдатом — семь лет, — отвечал Вербов, — а если сокращенная по образованию, как я могу идти, то года два или три, кажется. И ты пойми, дедушка: Кирюшке-то ведь если на службу идти, то и невесту потерять, и в хозяйстве разорение полное. Разве не справедливей мне за него послужить?
Дед внимательно поглядел на внука:
— А каяться не будешь, коли солоно придется? Глупостей каких не наделаешь? Не забалуешь с тоски, пить не станешь?
— Нет, каяться не буду, это твердо. А насчет глупостей, наперед не знаю, только думаю, что не запью.
— Что ж, коли так, — сказал дед, — то и верно было бы тебе справедливо за него послужить. Ему вроде смерти, а ты два-то года как-нибудь прослужишь.
Наутро поехали они в город. Там пошли прямо в воинское присутствие. И окажись оно в том самом доме с колоннами, который по-прежнему военному ведомству принадлежал, но только в нижнем этаже, в темноватых сводчатых комнатах. Дед, много уже после, говорил, что сердце у него екнуло и представились разные тревожные предчувствия, — но тогда и виду не подал. Приемщик был молодой штабс-капитан. Яков Александрович объявил ему свое желание, что хочет, мол, за родственника женатого послужить, и хотя по бумагам дворянин, но нельзя ли как это обойти. Офицер был не без души, но неопытный. Романтика этакая ему понравилась, он порылся в каких-то инструкциях и, только разобравшись в «букве закона», отказал. Яков Александрович стал его упрашивать и уговаривать. Штабс-капитан кликнул на совет старшего писаря. Явился канцелярский волк из николаевских служак, с седыми щетинами по всему лицу и с гусиными перьями, торчащими за обоими ушами. Выслушал все объяснения учителя и говорит офицеру:
— Случай редкостный, ваше благородие, но помочь господину можно. Только вы на то извольте глаза закрыть, а службе ущерба не будет. Как бы ошибкой поставим их в рекруты с отметкой «из государственных крестьян», и они ничего сами говорить не станут. Нам, коли что, — ответ не велик. Ну, дадут мне за оплошку выговор. Но только им самим это не подойдет, потому должны тогда уж полную службу несть, все семь годков. Льготами по образованию им пользоваться нельзя, как в документе об окончании заведения настоящее сословие прописано.
Должно быть, писарь предполагал, что охоту у Якова Александровича сразу отобьет. Тот и точно призадумался было. Семь лет потерять, не шутка ведь. Но тут же опять мелькнуло: «Видно, Кирюшке-то легче твоего, коли семь лет? Наболтал, нахвастал, да обратно теперь?» И поспешно сказал:
— Прошу вас, так и сделайте.
В этот же день Якова Александровича забрили за десять рублей, сунутых старшему писарю. Простился он с Кирюшкой, который пришел на набор в город и, пораженный новостью, уговаривал приятеля отказаться от этой затеи. Простился с дедом и через день двинулся маршем с прочими рекрутами через Новгород на Чудово, а оттуда чугункой в Питер.
И только уже в пути разобрался, что в горячке об очень важных вещах не подумал. Не сообразил, что и его кто-то любит, что и он кому-то нужен… Ведь мать-то, а главное, дед имели полное право рассчитывать на его заботу и помощь. Трудно становилось Якову Александровичу, когда вспоминал расставание с дедом. Как крестил и обнимал, как сказал с улыбкой:
— Помни, Яша, чтобы все по-гренадерски. — А у самого в глазах стояли слезы.
Только тут, в пути, понял рекрут, что для деда были эти слова как бы последним прощанием, не чаял, верно, свидеться больше. И ведь слова жалкого не сказал, намеком даже не попросил с ним остаться. А на кого его бросил? Старого старика, хоть, положим, и крепкого, но все же семидесяти лет?
Скверно чувствовал себя Яков Александрович до чрезвычайности. Горячка! Мальчишка! Но вспомнит Березу да то, как Стеша его возвратившегося нежданно увидела, и отступит от сердца. Опять подумает про деда — защемит…
23
В Петербурге новобранцев разбили по росту на несколько групп. Якова Александровича назначили в гвардию, что считалось почетно. Со всей необъятной России отборные молодцы шли в эти полки.
Второго января построили в Михайловском манеже несколько сот лучших рекрутов, и сам Александр II смотрел их, размечая мелком на груди, как животных, кого зачислить в какой полк. Подбирал не только по росту, но и по сложению, по цвету глаз, волос, усов, по общему оттенку кожи.
Когда дошел до Вербова, на миг только остановился, взглянул, чиркнул на его тужурке какой-то значок и бросил:
— В гренадерский.
От этого слова сердце у Якова Александровича екнуло — как дедова воля!
Так и внук стал гренадером, да еще в самом заслуженном из гренадерских полков, в гвардейском.
Стоял полк этой зимой на Петербургской стороне, а летом, с 15 мая по 15 августа, выходил в лагерь под Красное Село и на маневры. Место казарменное оказалось самое приятное, на берегу Карповки. За узенькой речкой, на Аптекарском острове, густо зеленел Ботанический сад.
Служба давалась молодому гренадеру без труда. Привычка к строгому распорядку дня сложилась еще в институте, а что до строя, ружейных приемов, гимнастики, словесности и прочего, так все это тоже было отнюдь не мудрено. Дядька — обучающий унтер — попался ему и нескольким новобранцам старательный, да еще земляк из Старосольского уезда.
Как раз в эти годы русская армия переживала переломный период. Проигранная, несмотря на героизм севастопольцев, Крымская война заставила царское правительство пойти на реформы. Готовился переход от рекрутской системы ко всеобщей воинской повинности, и Яков Александрович был взят в один из последних наборов старого порядка. Телесные наказания в полках были отменены и налагались только по суду. В гвардии среди офицеров, особенно молодых, считалось хорошим тоном вести себя сдержанно и высказываться гуманно. Одевали гвардейцев хорошо, даже щегольски, содержали чисто, кормили сытно.
Но хотя сквозь строй больше не гоняли и палок в казармах не было видно, однако почти все старшее поколение офицеров принадлежало к прежней, николаевской школе, и с первых же дней службы Яков Александрович увидел щедрые зуботычины, раздаваемые на ученье, услышал крепкую начальственную ругань, в которой самыми ласковыми словами были: «морда», «скотина», «сукин сын». Та же пропасть, что лежала между офицером и солдатом в дни службы деда Якова Федоровича, существовала и теперь. По-прежнему офицер был всегда барин, дворянин, «белая кость», а солдат — мужик, крестьянин, хоть не крепостной, но «временнообязанный» и все так же забитый, бесправный, бессловесный.
То, чего хотел Вербов, идя в набор, — окунуться в народную жизнь, близко узнать ее, — этого он достиг. Был солдатом среди солдат, учился тому же, чему учились они, ел с ними из одного бачка, спал бок о бок. Но и здесь первое время товарищи явно его чуждались, по говору и манерам чувствуя не свое, «господское». Не скоро удалось преодолеть это вековое, законное недоверие. Но когда привыкли и заговорили, — тут и пошли рассказы об управителях и барах, о горьких, голодных деревенских днях и совсем недавние впечатления, как объявляли «волю», где с солдатским постоем «для успокоения», а где и с жестокой поркой. Зато в веселые минуты какие сыпались остроты и побасенки! Какие песни услышал Яков Александрович, какие предания о родных местах каждого! Тут впервые вполне почувствовал он красоту живого русского народного языка и стал записывать наиболее поразившие его выражения, целые повествования.
Впрочем, откровенно разговаривать и записывать услышанное надо было с оглядкой. За «благонадежностью» в роте 14 деятельно следил фельдфебель, пучеглазый, краснорожий ругатель и драчун, постоянно приговаривавший: «Я на вас ужо гвардейский глянец наведу», «Я вас, чертей, насквозь вижу». Действительно, его глаз проникал всюду, вплоть до содержимого солдатских сундучков. А взятому на замечание приходилось солоно. Поэтому и читать в роте можно было только «благонадежные книги», религиозно-нравственные или сказки — те, что рекомендовало само начальство.
В городе у Якова Александровича знакомых почти не было. Нашел он двух институтских однокашников, но только и побывал у них по разу. Они никак не могли понять, каким образом и зачем очутился он в солдатах, жалели его, но и заметно стыдились соседей-жильцов, что к ним пришел такой товарищ. Солдатская форма начисто закрывала Вербову доступ в читальни и библиотеки, на концерты и в театры. «Защитник родины» в дни редких увольнений из казарм имел право идти только по мостовой, где не ходит «чистая публика», непрерывно козыряя и становясь «во фронт», слыша презрительную кличку «кислая шерсть», не имел права ехать в извозчичьем экипаже, сидеть в общественных садах.
Но не только эта сторона казалась Вербову нелепой в солдатской жизни. Уже в первые месяцы строевого обучения он понял, как плохо велась боевая подготовка войск. Назначение гвардейских частей заключалось прежде всего в столичной показной службе, в постоянных парадах, разводах, караулах, то есть в умении безукоризненно равняться на церемониальном марше, выровнять штыки, вытянуть носки, «есть глазами» офицера. Начальство занималось исключительно внешней выправкой и ружейными приемами, не имеющими боевого значения. А штыковой бой и особенно стрельба стояли на последнем месте. Хотя метко стрелять из старых, заряжавшихся с дула, ружей, расхлябанных постоянной чисткой кирпичом, было просто невозможно. Рассыпному строю, умению применяться к местности не учили вовсе. Солдат, как и сто лет назад, оставался плац-парадным «механизмом, уставом предусмотренным».
А между тем очень скоро Яков Александрович понял, какой благодарный материал для обучения и воспитания представляли его товарищи, сколько было в них здравого смысла, смекалки, верности глаза. Как жадно схватывали они любые знания, как легко было бы привить им идеи патриотизма, воинской чести, боевого товарищества. И теперь они стояли друг за друга горой, отзывались на чужое горе, делились чем могли. Наряду с этим, наблюдая отношение к службе офицеров, слушая обрывки их разговоров, Вербов убеждался в их малом образовании, в пустоте духовной жизни, в том, что для большинства военное дело не было призванием, а только сословной традицией. Они совершенно не интересовались тем, что творилось в роте в их отсутствие, каковы отношения унтер-офицеров с рядовыми. Даже лучшие из них смотрели на занятия с людьми по-чиновничьи: отбыл положенные часы — и ладно. Но зато многие из начальства были закоренелыми казнокрадами. Воровали на солдатской пище, на сапожном товаре, дровах, на свечах, на ремонте казарм, на корме обозных лошадей, на варке ваксы, на смазке амуничных ремней — на всем большом и малом, что окружало солдата. До него доходила едва ли половина того, что выжимало правительство на содержание войск с нищего крестьянства, с солдатских же отцов и братьев.
Видеть все это, думать об этом было порой очень тяжело. И еще угнетало Вербова очень скоро пришедшее понимание, что здесь, так же как недавно в институте, оказался он опять в стороне от настоящей жизни, очень мало знает о том, что творится на свете. А иногда охватывала острая тоска по умственной работе, по систематическому чтению. Но переносить все помогала здоровая молодость, дружба с товарищами, занятия с ними грамотой и каждодневная усталость от физического движения, благодаря которой засыпал — как в воду падал. Да еще уверенность, что настоящая, нужная деятельность обязательно начнется после выхода со службы. Яков Александрович читал о создании земств, об открытии ими сельских школ и думал, что именно в этой новой системе народного образования найдет себе место.
Дни, похожие друг на друга, быстро бежали.
Как-то раз, уже в начале третьего года службы, проходил по ротному помещению батальонный командир, полковник князь Кугушев. Яков Александрович был дневальным и бойко рапортовал что полагается.
— Как фамилия? — спросил полковник.
— Вербов, ваше сиятельство.
— Какого сословия? — и князь очень внимательно посмотрел в лицо молодому солдату. — Дворянин?
— Никак нет, крестьянин Новгородской губернии, Старосольского уезда.
— А-а… Из бывших помещичьих?
— Никак нет, ваше сиятельство, из государственных.
Кивнув, полковник отнесся к шедшему с ним батальонному адъютанту:
— Полюбуйтесь, поручик, каков молодец. Я было подумал, не родственник ли Вербо-Денисовичам, что в варшавских уланах служат. Даже показалось, что на младшего лицом похож. — И они пошли дальше.
«Ну, — подумал Яков Александрович, провожая батальонного до двери, — видал бы ты деда Якова Федоровича, так понял бы, какие молодцы у нас в народе бывают. У тебя, природного князя, и в сорок лет брюхо, как у купчихи, а он в семьдесят стройнее меня».
Таким образом комплимент батальонного помог Вербову узнать, что у него есть родственники, вероятно дети Николая Дмитриевича, и что служат они в Варшаве. Приятно было, что не в Питере, потому что встречаться с ними ему не хотелось. Однако пришлось.
Через несколько месяцев Яков Александрович стоял как-то на Невском у Аничкова дворца, на наружном посту у главных ворот. Беспокойнее места для часового навряд ли сыщешь. Генералы да офицеры мимо шли почти беспрерывно. За два часа раз сто «на караул» брать приходилось. И плечи и руки болели потом, как избитые. Прием-то надо каждый раз отделать не как-нибудь, а «оторвать», как говорится, четко, щегольски, с пружиной.
Дело было в апреле, перед самой пасхой, днем. Солнце сияло и грело вовсю, последний снег бежал с крыш по водосточным трубам. Коляски и кареты летели по Невскому, кучера орали, кондуктора на медленно тянувшихся дилижансах дудили в трубы, разносчики надрывались, как оглашенные, старушки салопницы предлагали нараспев фиалки. А по панели мимо дворца валом шла публика, и то тут, то там гремели шпоры, сабельные ножны, мелькали цветные фуражки, кепи, серые офицерские пальто, а то и генеральские алые отвороты. Не зевай, часовой!
Вдруг в этом гуле кто-то совсем близко окликнул:
— Вербо!
Яков Александрович едва не обернулся, ведь и его в институте часто так звали. Да вовремя вспомнил, что нельзя шелохнуться на посту.
И через минуту, прямо перед ним, в полушаге всего встретились двое: офицерик молоденький с желтым околышем и статский — в зеркальном цилиндре и палевой крылатке.
— Надолго ли? — спросил статский.
— На две недели, — ответил офицер.
— Где же остановился?
— У тетки, Елизаветы Дмитриевны.
И, взявшись под руку, пошли по направлению к Адмиралтейству.
«Вот он, мой двоюродный брат, — думал часовой. — Небось никогда не узнает, что солдат, который ему «на караул» взял, такой же племянник этой самой Елизаветы Дмитриевны, как и он сам. Да полно, такой ли? Нет, совсем не такой. Не хочу я их родства…»
Через полчаса приятели опять прошли мимо Якова Александровича фланирующей походкой, опять он лихо приветствовал улана. И хорошо рассмотрел лицо своего кузена. Князь Кугушев был прав, они были, пожалуй, похожи. Только даже против молодого солдата этот был совсем юноша, лет девятнадцати, не более. Усики едва пробивались, а у часового отросли уже лихие, гренадерские.
Осенью этого же года в Петербург приехал дед Яков Федорович. Не выдержал старый одиночества, решился навестить дочку в Нарве, а на обратном пути и Яшу. Время было в полку самое тихое, после лагерного сбора. За небольшую «мзду» фельдфебелю Вербов почти каждый день получал увольнительную, и дед с внуком отправлялись в чайную на Петропавловской улице или на постоялый двор, где остановился инвалид. Но чаще Яков Федорович приходил в казармы, оба садились на травянистом берегу Карповки и часами беседовали.
На внука в гвардейской форме старик просто не мог насмотреться. Да и действительно Яков Александрович выглядел молодцом в черном мундире с красной грудью и в кепи с синим околышем. Без конца расспрашивал дед про порядки на службе, про снаряжение, казармы, музыку, сигналы, пищу, лагеря. Зорко приглядывался ко всему, что видел, приходя в полк. Очень забавно было Якову Александровичу видеть, как старый вояка хоть и радуется, что внуку все-таки легче служить, чем ему когда-то, но только свое время считает «настоящей службой». А теперешнее, мол, пустяки. И еще замечал в эти дни Вербов, как под влиянием окружающей полковой жизни нахлынули на деда воспоминания о далекой солдатской молодости, которую накрепко заслонила новая его ремесленная, полукрестьянская старость. То начнет, как в Яшином детстве, вспоминать Париж или случаи на аракчеевских смотрах, то губами изобразит рокочущий барабанный сигнал. Даже как будто распрямился немного и усы кверху подкрутил.
А однажды, гуляя, забрели они на берег Невки за полковыми огородами. Тут, прилегши под ивой, Яков Александрович не заметил, как задремал. И вдруг услышал, как верный дедовский голос тихонько выводит старую песню, которой давно, с детства не слыхивал:
А дальше еще красивее и живее шло, как «встрепенулися солдатушки», как, «словно вихрь-орел, взор окинули» и воскликнули «в один голос, как в злату трубу, клятву кровную, задушевную», не видать родных и домов своих, пока не побьют, не прогонят врага.
так, чтобы
Яков Александрович слушал не двигаясь, боясь спугнуть певца. Уж очень удивительно было думать, что так же пел этот самый человек пятьдесят лет назад, в дни пожара Москвы, под Лейпцигом и Парижем.
Охотно рассказывал дед про Настасью Яковлевну, про ее ребят, которые очень ему приглянулись, про все, что видел в Нарве. Между прочим, обмолвился, что Семен Никитич хоть не часто, но «зашибает». Говорил и про Высокое, куда с явным удовольствием возвращался после своего путешествия. Только на один вопрос инвалид отвечал уклончиво — о Кирюшке. Дважды спросил о нем Вербов и оба раза услышал:
— Хорошо живет, чего ему делается?.. Переехал в Глушицы к тестю. Дом новый ставит…
Больше ничего не добился Яков Александрович. Подивился, но объяснил себе тем, что не может старик все-таки простить Кирюшке, как это он дома живет, семьей, хозяйством обзавелся, а вот внук-то Яша за него солдатскую лямку тянет.
На четвертом году солдатчины произведенный в ефрейторы, Вербов начал, вместо любившего подгулять отделенного унтера, заниматься строем с молодыми солдатами. Сознание, что избавляет их от зуботычин и ругани, доставляло ему удовлетворение. С каждым годом все больше набиралось у него учеников и по грамоте. Обучение это шло настолько успешно, что даже начальство заметило, и на последние полтора года службы Якова Александровича перевели учителем в полковую школу солдатских детей. Здесь занималось до сорока ребят сверхсрочных нижних чинов, музыкантов, унтер-офицеров. С увлечением взялся Вербов за эту первую настоящую педагогическую практику. Тут окончательно убедился, что не ошибся в выборе дороги, — возня с ребятами его поглощала и радовала. К тому же жизнь в отдельной каморке при помещении школы давала возможность побыть одному без фельдфебельского глаза, а главное, читать сколько хочешь и что хочешь. Педагогические журналы, «Война и мир», «История» Соловьева, последние книги «Современника», ныне уже окончательно закрытого правительством, и все то новое, что мог достать у старика букиниста на Большом, сменяло друг друга. Немало вставало новых тревожных вопросов, но решение их откладывал до выхода со службы. К тому же школа с ее двумя классами, где приходилось заниматься одновременно, отнимала много сил и времени. К некоторым ребятам успел привязаться, даже жалко было передавать их другому учителю. Но когда начальство за несколько месяцев до конца службы предложило остаться на том же месте вольнонаемным еще на год, с повышенным жалованьем, с платными уроками в офицерских семьях, — Вербов отказался не задумываясь. Очень уж надоела полковая атмосфера — ругань, муштра, казнокрадство. Тянуло на родину, к деду, к Кирюшке, хотелось повидаться с матерью, начать настоящее дело.
24
Осенью 1870 года вышел наконец из полка в запас и по дороге в Высокое остановился в Новгороде, чтобы поскорее определиться учителем в народную школу, где-нибудь поближе к деду. В губернской земской управе некий холеный господин расспросил Якова Александровича, почему он в солдатской форме, отчего служил столько лет, не пользуясь льготой по образованию, зачем хочет учительствовать именно в сельской школе, и, очевидно не одобрив все рассказанное, кратко заявил, что «в настоящее время земству учителя не нужны».
Возмущенный и несколько растерянный вышел из управы Вербов. Что же делать? Вот тебе и земство! Вот и устроился!
Опять к деду на хлеба? Нет, это не годится. Надо искать какое ни на есть место, а там осмотреться и решить, как дальше поступать. Пошел в мужскую гимназию. Здесь повезло. Инспектором оказался один из бывших преподавателей Гатчинского института. Ласково расспросив, что делал эти годы, порассказав о некоторых общих знакомых, он предложил Якову Александровичу место учителя младших классов, советовал готовиться в университет, обещал помочь советом, книгами. Вербов согласился и поехал повидать деда.
И вот опять сухим осенним днем с солдатским сундучком за плечами он шел в Высокое. Бодро маршируя по дороге, думал о минувших семи годах, и казалось, что прошли они все-таки не совсем зря. Стал умнее, опытнее, сколько людей перевидал, учить сумеет теперь лучше, сам учится серьезнее. И еще, как ни говори, может, и сентиментально и взбалмошно, а все-таки хорошее дело сделал — человека семейного от солдатчины спас, приятеля из беды выручил.
Около деда было Якову Александровичу по-прежнему хорошо и спокойно, как нигде. Сходил за последними осенними грибами, покопался в огороде, перебрал старые книги, обдумывал, как заживет в Новгороде. Уговаривал деда ехать туда с ним, хоть на зиму. Инвалид возражал — как же ему без работы быть? А сам заметно сдал, — вывалились два передние зуба, голос оттого стал глуше, да спина согнулась, голова будто в плечи вросла. Но, как и раньше, бодро строгал он свои поделки и выводил на них цветы и травы.
Наконец, на четвертый день по приезде, Вербов решил сходить повидать Кирюшку. Но когда сказал деду, тот насупился.
— Чего торопишься?.. Поспеешь, — не убежит твой Кирюшка…
— Нельзя, дедушка, скоро неделю здесь, а лучшего дружка еще не видал.
— Ну, нельзя — так ступай…
В деревне Глушицы Яков Александрович был только один раз зимой, на посиделках вместе с Березой, ходил «смотреть» Стешу. И теперь, идя по большой дороге, вглядывался в живописно разбросанные вдоль нее десятка два-три изб, стараясь угадать, которая из них Кирюшкина, и предвкушая радостную встречу с приятелем.
Против первых построек два мужика копали канаву. Увидев «барина», — Яков Александрович был уже в статском, — они сняли шапки и низко поклонились.
— Где тут, почтенные, Кирилл Березин живет? — спросил учитель.
— Кирилла Дмитрич-то? — отозвался старший крестьянин. — А вона крыша тесовая видать, во-он за тополью-то…
Через пять минут Вербов стоял перед высокой избой с затейливо-вырезными наличниками и карнизами. Крепкие ворота, крытые тесом большие сараи — все было новое, не больше как года два или три поставленное.
«Ай да Береза, вот так важно обстроился», — думал Яков Александрович, готовясь стукнуть в окошко.
Но в это время на дворе, за воротами, фыркнула лошадь и послышался мужской голос:
— Так ты ступай к Мухину, скажи, коли нету денег, то пусть льну либо конопли везет. Уж неделя как долгу-то срок, а когда он почешется?.. Я, скажи, ждать больше не стану, на той неделе как есть становому доведу и про его, и про Петьку… Умели должать — умейте рассчитываться. Понял?
— Понял, Кирилла Дмитрич, так все и скажу, — отвечал другой мужской голос.
Ворота заскрипели, распахнулись, и сытая лоснящаяся лошадка вывезла на улицу двухколесную таратайку, в которой сидел сам Береза.
Если бы Яков Александрович встретил его не здесь, то навряд бы узнал. Синяя опрятная поддевка облегала плотные плечи. На воротник сзади, под завитками волос, наплывала, при толчках таратайки, жирная складка. А когда он повернулся к учителю, тот увидел румяные и какие-то масленые щеки, опушенные русой курчавой бородкой, и быстрые глаза, зорко его окинувшие, в то время как рука потянулась было к картузу.
Но вдруг Кирюшка узнал приятеля, расплылся в улыбке и мигом стал похож на прежнего смешливого, подвижного парнишку.
— Батюшки-святы! — закричал он, натягивая вожжи. — Никак Яша? Яков Александрович, благодетель!.. Эй, Мишка, иди коня держи! Мишка-а!
Из еще не закрывшихся ворот выбежал дюжий парень и бросился к лошади, а сам Береза, проворно вылезший из таратайки, обнимал уже Якова Александровича.
После первых вопросов, — когда приехал, как дедово здоровье, отчего раньше не пришел? — Кирюшка ввел гостя во двор и здесь, тыча пальцем в разные стороны, за пять минут самодовольно рассказал, что и где у него в хозяйстве делается, особенно напирая на величину и добротность льняного сарая.
— С твоей, Яша, с легкой руки льном-то я занялся, — говорил он. — Из денег, что на свадьбу мне пожаловал, половину тогда же в дело пустил. Вот покупаю теперь по окрестности да сам потом в город купцу Манюкову вожу. Есть кой-какой доходец, коли с умом. — Сияющий Кирюшка подхватил Вербова под локоть и с почетом повел к крыльцу. — Сейчас Степаниду кликнем, ребят наших посмотришь, закусим чего-нибудь… Мишка! Ступай, хозяйку с огорода зови, гость дорогой, скажи, приехал… — крикнул он, оборотясь к двору. И вдруг запнулся, лицо изобразило замешательство, рука всей пятерней влезла в бороду.
— Ну? — спросил все время внимательно смотревший на собеседника Яков Александрович. — Что вспомнил? — Они стояли уже в сенях.
— Да ничего, пустое.
— Нет, говори, — уперся Вербов. — Ты куда ехал? — Он придержал дверь в избу, которую хозяин хотел было перед ним распахнуть.
— Да вот незадача какая, — отвечал Береза. — Нынче в Рамушеве с торгов сруб идет, что прежние господа под хлигель ладили, да воля их сбила. Должен задешево пойтить. А мне, по правде говоря, вот как охота на будущий год торговлю мелочную завесть… Лен-то — главное дело осеннее да зимнее, а летом — что? На крестьянстве, сам знаешь, горбом не много наживешь… А сруб, видишь ты, мне мужики, которым кой-чего в долг давал, сюда задешево по зимнему пути перевезут. Они же и соберут на месте, да я с двумя работниками подсоблю… — Кирюшка смолк, потом решительно тряхнул волосами: — Ну, да ничего, поспею авось, вот закусим маленько, — он растворил дверь в избу и опять подхватил Якова Александровича под локоть. — Пожалуйте!
— Нет, ты сейчас же уезжай, — решительно сказал учитель, освобождаясь. — Такой сруб упустишь, вздыхать потом не один год, поди, станешь…
— Это точно, что жалко, — отвечал Кирюшка, не замечая насмешки в голосе Вербова. — Только как же не закусивши-то? — забеспокоился он. — Не обидишься?
— Ну вот еще! — И они вышли обратно на крыльцо.
Через пять минут Береза, подергивая вожжами и причмокивая, катил по большой дороге в одну сторону, а Яков Александрович быстро шел в другую. Лицо его горело, кулаки сжимались.
— Дурак! Сентиментальный, восторженный дурак! Дон-Кихот, идеалист безмозглый, — в бешенстве повторял он. — Семь лет отбухать под красной шапкой для того, чтобы Кирюха Березин лен задешево скупал, мужиков кабалил, барские флигеля под лавку приспосабливал, а потом в ней народ обвешивал… Было ради чего деда-старика бросать, с матерью семь лет не видеться… Ах, дурак, дурак!.. Стешу пожалел, счастье семейное устраивал! — Вербову представилась мельком виденная в Кирюшкиных сенях зыбка под домотканым пологом, которую покачивала какая-то старуха. — Который это у них? Сколько наследников наплодили?.. Я так словесность глупую долбил да в караулах мерз, а они тут… Да уж, надонкихотствовал!.. И небось сам-то Кирюшка с мужика за долг три шкуры рвет, а что я ему давал, того отдать не подумал? Ну, да черт с ним!.. Вот он, хозяин новой деревни! — Якову Александровичу вдруг припомнились давнишние слова богатого барина, у которого он когда-то репетировал сыновей, о том, что в земских учреждениях получат право голоса «наиболее разумные и состоятельные крестьяне». Ну вот он — «разумный и состоятельный»! Отчего этакому голоса не дать? Он за мужика, поди, слова не скажет…
Дня три Вербов не находил себе места. То хватался за заступ на огороде, то уходил в лес, то ложился в избе на лавку и думал, думал. Старался разобраться в том, что увидел, что накопилось в душе. Яков Федорович, видимо, понимал, что делается с внуком, не мешал ему, почти не разговаривал, даже не спросил, что так быстро воротился из Глушиц.
Но вот возбужденные мысли и чувства начали как бы отстаиваться. Отошло раздражение против себя, да и против Кирюшки. Положим, он и подлец, и хищник, да дело-то, в конце концов, не в нем. Больно плоха деревенская жизнь, в которой иначе никак, видно, не выбраться из бесправия и нищеты… Ну, а городская — хороша? Он, правда, знает ее мало, но там разве действуют иные законы? А умственная жизнь? И эту знает плохо. Впрочем, достаточно вспомнить судьбу Чернышевского, поэта Михайлова и других наиболее смелых… На что Ушинский скромен, только и призывает что учить крестьян грамоте да труд считать необходимым и не позорным, а и его, как новгородский инспектор рассказывал, правительство не больно жалует… Ну, а что видел недавно в военной службе?.. Выходит — все одно к одному.
Яков Александрович понимал, что для окончательных выводов надо еще многое додумать, изучить, прочесть, многие из своих старых представлений пересмотреть, изменить. Теперь наступало самое время этим заняться, чтобы не делать больше глупостей, подобных истории с Кирюшкой. Ведь жизнь — настоящая — только начиналась, несмотря на то что ему пошел уже двадцать седьмой год.
И похоже, что прав новгородский инспектор, когда советовал поступить не откладывая в университет. Именно знания помогут до конца разобраться во всех этих запутанных вопросах. Ну что же, на новом месте в самый раз и начинать готовиться… Только вот деда опять одного надолго бросить…
А Яков Федорович, глядя на озабоченного и молчаливого внука, решил ехать с ним на зиму в Новгород.
— Буду при тебе за пестуна, пока не женишься, — говорил он.
Но только стали всерьез собираться, пришло письмо из Нарвы.
Семен Никитич писал коротко и сбивчиво, что мать опасно занемогла и теряют надежду на ее выздоровление. Сказать правду деду Яков Александрович не решился, а соврал, что спешно требуют его в Новгород. Обещал, что приедет за ним еще до рождества, и спешно отправился в Нарву.
Добрался быстро, на пятый день, но матери в живых не застал. И не видел даже ее. Похоронили накануне его приезда. Оказалось, что заразилась она скарлатиной от своей падчерицы Анюты.
Семен Никитич встретил пасынка не совсем в себе от горя и от водки, за которую, видимо, крепко взялся. Улыбка пропала, он осунулся, усы поседели, обвисли, и хватался он за них, и шеей дергал уже без прежней горделивости, а как-то невпопад… Суетлив, растерян и все нет-нет — да и приложится.
Пусто и тихо было в маленьком домике. Мальчика переселили до дезинфекции к каким-то знакомым, а Анюта лежала еще в госпитале, где скончалась Анастасия Яковлевна.
В первый же вечер приезжий с хозяином долго сидели вдвоем. То молчали тягостно, то Семен Никитич рассказывал о ее последних днях. Наконец встал с такими словами:
— Ну, я пойду, прилягу, завтра ведь на службу мне… — И вдруг отчаяние зазвучало в его голосе… — Как только я там каждый день бывать смогу, где она умирала?.. — Потом справился с собой и указал на комод: — Там, во втором ящике, вещи ее какие-то лежат… Когда уж совсем стала плоха, вам передать велела.
Он ушел за перегородку, лег и затих, а Яков Александрович выдвинул ящик и нашел узел. В чистой холстине завернут был голубой шугайчик, в нем тетрадка со стихами, что отец когда-то переписывал, и еще в лоскутке шелковом обручальное кольцо. Вот, значит, с чем она расстаться не решилась и в новой своей жизни. О чем вспомнила в смертный час свой…
Как бранил себя в ту ночь Яков Александрович, что прямо из полка не поехал к матери. Чего бы не отдал за возможность еще раз увидеть ее, почувствовать ее ласку! Потом думал, как сообщит деду страшное известие. Наконец постарался сообразить, что должен предпринять с ребятами. Ясно видел, что Семену Никитичу не под силу следить за их развитием, направлять их. Выходило, надо отложить надолго, если не навсегда, планы об университете. Предстояло наладить жизнь совсем по-другому — на много лет осесть в городе около гимназии, искать заработков сверх жалованья, создавать прочное «гнездо», сразу, неожиданно став во главе семьи. Впереди была нешуточная задача — воспитать двух малолеток. И приступать к ней приходилось именно тогда, когда впервые собрался по-настоящему заняться самим собой…
Этим и кончил свой второй рассказ старый учитель. На верхушках сосен догорал закат, а у нас, внизу, заметно темнело. Из лесу тянуло прохладой. Далеко, должно быть за рекой, играла гармонь.
Первым нарушил молчание опять Матюшка, вопросом, очень похожим на тот, что задал накануне:
— Что ж, так и не видели вы больше тех-то, офицеров богатых, дядиных сыновей?
— Видел, довелось с ними еще не раз встретиться, — отвечал Яков Александрович. — Только пути наши — мысли и дела — оказались совсем разные. Я, думается мне, чем больше жил, тем теснее к мужику прилеплялся, а они народу всегда врагами были… Последний раз я двоюродного своего племянника, товарища прокурора, в нашем Старосольске мельком видел, если не ошибаюсь, в 1912 году. И хотя он был мне по крови самый ближайший родственник, но от всего, что тогда о нем стороной слышал, показалось мне, что и он по пути дядюшки Николая Дмитриевича пошел… Помните, Володя, ваш вопрос в пряничной у Порохова о нашем родстве?
— Конечно, помню, — сказал я. — А больше о нем вы ничего не знаете? Где он после Старосольска служил, куда теперь девался?
— Нет, ничего не знаю. Но полагаю, легко могло случиться, что вместе с графиней Пшедпельской он где-нибудь в эмиграции пребывает.
Наступила пауза. Ярко вспыхнул огонек папиросы Якова Александровича.
Я спросил:
— А когда же, Яков Александрович, вы из губернской гимназии сюда перебрались и почему?
— Когда? Да ровно тому тридцать пять лет, при, недоброй памяти, царе Александре Третьем и министрах его графах Толстом и Делянове. Ведь вы слыхали, должно быть, что при них прямо говорилось и писалось: «Кухаркиным и мужицким детям не место в гимназиях». Тогда уже воспитанники мои стали людьми взрослыми, жил я один и решил, что мне в городе тоже не место. Осуществил мечту юности, поехал сюда мужицких ребят учить. Шуму немало было, — как же, преподаватель гимназии демонстративно в сельские учителя ушел! Отдали беспокойного человека под надзор полиции. Да ничего, спасибо, место глухое, — чугунки-то еще не было, становому не по пути оказался, редко заезжал. И теперь вот вижу с радостью, что не зря столько лет в лесу просидел. Немало среди тех, кто новую жизнь строит, моих учеников оказалось… А в школу эту я пришел, когда она только срублена была, смолой вся пахла, да вместе со мной и состарилась… И ничего, ребята, мы с ней свое дело сделали, и в наробразе уже проект утвердили, новую вместо этой построят скоро, большущую, на десять классов. Только о месте спорят — здесь же, в лесу, или в Крекшине ставить ее. Да на фанерном заводе у станции тоже рубить уж начали хорошую двухэтажную, со мной не раз советовались, что да как сделать, и учительствовать к себе зовут… Одним словом, как бы мне лет полсотни или хоть тридцать с плеч, показал бы я вам, как работать надо в такое время счастливое, как ваше, теперешнее.
— А ребята Семена Никитича да Настасьи Яковлевны на кого выучились? — спросил Матюшка.
— И живы ли теперь? — добавил я.
— Ну, это — особь статья; так сказать, история следующего поколения, — отвечал Яков Александрович, вставая с крыльца. — А нынче, ребята, спать пора, завтра день рабочий. Ступай на боковую, «мужественный старик».
И опять, как накануне, после первой части рассказа, когда мы легли, мне очень хотелось спросить, как вышло, что остался он холостым, где и когда умер дед, почему продал учитель графине столь дорогой и памятный ему шугай… Но я не решился нарушить этими вопросами воцарившееся молчание, помешать воспоминаниям, как мне казалось, охватившим старика.
Однако мне суждено было узнать все это, суждено сохранить в памяти эту повесть, соединив ее с последующими событиями собственной жизни. Но об этом как-нибудь в другой раз.
Ленинград 1943–1946
— ИСТОРИЯ УНТЕРА ИВАНОВА —
Конная гвардия
1
Утром 10 марта 1818 года все чины канцелярии лейб-гвардии Конного полка особенно прилежно скрипели перьями, исподволь прислушиваясь к тому, что происходило в кабинете полкового командира. Сегодня генерал не направился, как часто бывало, взглянуть на занятия в эскадронах, а из своей квартиры прошел прямо сюда и тотчас приказал подать пакет, еще затемно привезенный из Главного штаба. Через несколько минут в кабинете неистово залился настольный колокольчик, и кинувшийся в кабинет старший писарь не переступил еще порога, как генерал загремел:
— Командира третьего эскадрона ко мне!
Опрометью перебежав канцелярию, писарь только поспел послать вестового, как, показавшись в дверях, красный и взъерошенный генерал отдал новый приказ:
— Созвать дивизионеров, адъютанта и штаб-лекаря! Коли спят, тащить из постелей!..
Да, этакого еще не бывало. Генерал Арсеньев всегда выражался о господах чиновниках со всей пристойностью. Впрочем, за последние месяцы подчиненные заметили, что командир полка стал много раздражительней. А ведь в какие трудные годы войн и походов бывал всегда добродушный, ровный, за своих верный заступник. И не стяжатель еще. Сыщи-ка подобного командира! Только у семеновцев, говорят, Потемкин таков же!..
Пока вестовые бегали по казармам, в кабинете раздавались нетерпеливые шаги, звяканье графина с водой, и канцеляристы поняли, что генерал вчера был в гостях. Отойдя в оконную нишу, аудитор и старший писарь порешили, что командир еще вчера узнал про пакет, в котором заключается некая «нахлобучка».
Они не ошиблись. Именно вчера, на балу у генерала Уварова, войдя перед ужином в кабинет хозяина, Арсеньев застал несколько высших чинов, окруживших дежурного генерала Главного штаба Закревского. Этот еще молодой, заметно располневший здоровяк, похожий, казалось Арсеньеву, на толстоногого и пузатого беспородного жеребчика, принадлежал к военным, которые делают карьеру более пером, чем шпагой. Заняв почетное место посредь дивана, Закревский повествовал, как внимательно ознакомился, находясь в Варшаве, император с годовыми отчетами по гвардии и сколь многим остался недоволен.
— Вот и Михайло Андреевич завтре утречком получит замечание его величества, — кивнул Закревский в сторону командира конногвардейцев.
Арсеньев не стал выспрашивать, каково то замечание, — что перед всеми срамиться? Но ужин и ночь были испорчены. С раздражением вспоминал, как глянули на него некоторые присутствующие, и перебирал прошлогодние происшествия, пытаясь догадаться, что бы могло не понравиться царю. Весенний пожар на фуражном дворе? Падеж коней после травяного довольствия? Плохая окраска манежа подрядчиком? Но все в должное время докладывал начальству, объяснял письменно… Впрочем, кто же знает, когда узнал о происшествиях в своей гвардии царь, с самого августа не бывавший в Петербурге. Эк его носило! По всей Малороссии делал смотры и принимал дворянство, в Москве закладывал храм на Воробьевых горах и очаровывал тамошних дураков и дур, а сейчас в Варшаве открыл Сейм, сказавши такую либеральную речь, что молодежь только о ней и болтает… Да не всех так легко провести. Кто постаре да поумней, тот знает цену его милостивой улыбке, его заботам о подданных… Но и царь накрепко запоминает тех, кто его раскусил…
Арсеньев припоминал явные признаки нерасположения, проявленные с тех самых пор, как в комитете по строевому кавалерийскому уставу резко отозвался о новых правилах обучения солдат церемониальному шагу по хронометру и прочей плацпарадной галиматье. Нашелся, видно, среди бывших при том генералов подлец, доложил наверху про такой крамольный образ мыслей.
И вот ядовитые строки продиктованной в Варшаве депеши:
«Милостивый государь мой Михайло Андреевич! Его императорское величество, ознакомившись с рапортами полковых командиров гвардейского корпуса о состоянии вверенных им войск за истекший 1817 год, приказать соизволил затребовать от вашего превосходительства самое подробное изъяснение причины столь значительной убыли нижним чинам лейб-гвардии в Конном полку, коих рапортом вашим показано умершими от болезней и через лишения себя живота 66 унтер-офицеров и кирасир.
Сообщая вашему превосходительству таковую монаршую волю, предлагаю незамедлительно представить в дежурство Главного штаба означенное изъяснение для доставления оного мне к докладу государю императору.
Начальник Главного штаба генерал-адъютант князь Волконский.»
Вертясь с боку на бок прошлой ночью, Арсеньев никак не мог предположить такого вопроса. Эту цифру и сам хорошо помнил, она гвоздем сидела в сердце. В мирное время, без походов и повальных болезней, похоронить за год 66 человек, в то время как под Бородином полк потерял убитыми всего 18 кирасир! Истинным позором ложилась бы на командира полка такая убыль, кабы не порядки, что повелись в гвардии после войны. Против них, идущих от самого царя, разве открыто восстанешь? А он все же боролся и будет бороться, пока ума и сил хватит, хотя чувствует себя, как некий гишпанский гидальго в бою с мельницей, крыло которой не остановить, а самого невесть куда забросит.
Но ужели не понимают, что запрос сей звучит как злая насмешка! Они — царь, Волконский, Закревский и прочие лицемеры — удивляются, видите ли, отчего столько солдат помирает! Ах, фарисеи, играющие в добрых отцов-командиров!.. Однако же нонешняя бумага, хотя дающая ему новый обидный щелчок, в то же время бессомненная ихняя промашка, потому что предоставляет законное право цыкнуть на полковых живодеров, на главного из них, которого до сих пор ничем пронять не удавалось… Только лучше без крика, раз уж остыл немного, а припугнуть поумней, чтобы осел в подлом рвении, придержал кулаки…
Дверь скрипнула, командир полка поднял голову. У порога вытянулась массивная фигура командира 3-го эскадрона барона Вейсмана. На генерала не мигая смотрели зеленоватые глаза под белесыми бровями.
Арсеньев указал на стул по другую сторону стола:
— Прошу садиться и ознакомиться с сим высочайшим замечанием.
Ровным шагом, кладя на пол разом всю ступню, но совсем неподвижный корпусом, к которому, строго по правилу, левая рука прижимала шляпу и шпагу, Вейсман подошел, коротким движением отвел фалды мундира, чтобы не смять их, сел неглубоко и совершенно прямо, взял протянутую бумагу.
«Кукла заводная!»— думал Арсеньев, глядя в неподвижное, ровно розовое лицо, на точно в уровень губ подбритые и зачесанные вперед баки, на большую, в белой замше кисть руки, держащую бумагу.
Окончив чтение, Вейсман поднял глаза на генерала.
— Коим образом вы полагаете, барон, я должен ответить на сей запрос? — осведомился Арсеньев.
— Нахожусь в затруднительности, ваше превосходительство. — Вейсман помолчал. — Опытность вашего превосходительства… — Он кашлянул в поднесенную ко рту ладонь.
«Здесь небось не то, что кирасир последними словами костить», — подумал генерал и сказал, глядя в пустые глаза барона:
— Однако как бы вы пояснили в сем ответе семнадцать покойников, кои ложатся на эскадрон, с начала прошлого года вами командуемый? Из оных, как помнится, шесть лишили себя жизни и еще пятеро скончались после учиненного вами наказания.
— То были самые нерадивые кирасиры, ваше превосходительство, — возразил Вейсман. — И почти при всяком наказании находились полковые медики.
— То-то, что «почти», — подчеркнул генерал. — А двое из них были кавалерами знака святые Анны, навсегда избавляющего нижних чинов от телесного наказания. Что же до медиков, с оных также возьмется ответ. Мной уж послано за старшим лекарем.
— Однако же, ваше превосходительство, эскадрон мой на все смотры, из коих один высочайший, аттестован как лучший даже в бригаде по выправке людей, в то время как в командование ротмистра Шарлемонта… — Барон заметно приосанился.
— Знаю, сколь лестно такое отличие, — кивнул Арсеньев, — но полагаю, что то же начальство, кое вам его делало, может, получив мое объяснение с разделением числа умерших нижних чинов между эскадронами, какового я раньше не сообщал, запомнить ваше имя уже с иной стороны. От меня, изволите видеть, требуют подробных пояснений, и я нахожусь обязанным отметить, что на шесть других эскадронов и фурштадтскую полуроту приходится по семь умерших, а на ваш эскадрон втрое больше… — Генерал сделал паузу и промолвил внушительно: — А государь наш человеколюбив и памятлив. Я при своей долгой службе могу назвать примеры, когда офицер, имевший несчастье с дурной стороны стать известным его величеству, немалое время находился в монаршей памяти…
Пока генерал говорил, лицо барона заметно изменялось — подбородок осел на воротник, веки растерянно мигали, краска приливала к щекам. А командир полка продолжал:
— И к цифрам сим я присовокупить должен, что уже имел с вашим благородием разговор в конце прошлого года и при оном предупреждал, что представлю к лишению командования эскадроном по причине возросшего числа покойников… — генерал опять помедлил, — но пока, мол, воздерживаюсь от сей крайней меры, коль скоро в новом году убыль ограничена одним кирасиром, да и тот, по лекарскому свидетельству, зашиблен конем.
— Истинно так, ваше превосходительство. На выводке жеребец Аякс его смертельно копытом зашибил, — поспешно закивал Вейсман; его невысокий лоб заблестел испариной.
«Испугался, подлая тварь! — злорадно думал Арсеньев. — А в прошлый-то раз небось и ухом не повел, будто праведник какой. Ну, сейчас я тебя доконаю…»
И он сказал:
— А ежели государь соизволит запомнить имя ваше по моему объяснению, то при будущем представлении к чину полковника может последовать обход сим производством. Мне же сказывали, будто вы полагаете при получении сего чина прочиться на вакансию полкового командира в армию.
— Истинно так, ваше превосходительство, — с готовностью закивал барон. — И его высочество цесаревич, как генерал-инспектор кавалерии, будучи всегда довольны моей службой, обещались при том слово свое говорить.
— Не сомневаясь в лестном содействии его высочества, — отпарировал Арсеньев, — замечу, однако, что, встретив противное мнение государя, цесаревич навряд станет ему перечить.
Вейсман молчал, потел и учащенно посапывал. Арсеньев послушал с минуту этот звук и закончил наставительно:
— Так что советую, ротмистр, строжайше сообразовать свои действия со смыслом сего высочайшего замечания. — Он постучал пальцем по бумаге, лежавшей на столе. — Наказывайте провинившихся так, чтобы не случалось отправки после сего в лазарет. А наложение на себя рук отнюдь не должно повториться. Как я слышал, таковое особенно тягостно человеколюбивой душе государя… Я более вас не задерживаю.
Барон встал, поклонился и направился к двери. А генерал смотрел ему вслед, с удовольствием отмечая, как в четверть часа изменилась вся повадка этого столь неприятного ему человека. Голова заметно втянулась в плечи, пропала четкая уверенность шага — он ступал на носки и много поспешней прежнего.
— Поджал хвост, пугало немецкое! — вполголоса выговорил, оставшись один, Арсеньев и взялся за настольный колокольчик.
В то время как адъютант читал собравшимся у командира полка лицам запрос начальника Главного штаба и затем генерал делал строгое внушение лекарю, барон Вейсман, пересекши полковой двор, взбирался по крутой лестнице главного здания казарм, в третьем этаже которого помещались офицерские квартиры. Он не пошел на пешее учение эскадрона, где с трепетом ждали его появления кирасиры и куда, уходя по вызову генерала, обещал вернуться. Тогда он был уверен, что услышит что-нибудь лестное, вроде недавнего отзыва великого князя Николая о дворцовом карауле от его эскадрона. Но теперь все вдруг повернулось иначе.
«Раз так, то и черт с этими их солдатами!» — злобно думал барон.
До сегодняшнего дня этот прибалтийский немец, зачисленный в полк в начале 1813 года, необычайно быстро продвигался по службе именно благодаря мастерству во всех тонкостях строя, для постижения коих и вколачивания их солдатам он так подходил узостью ума, исполнительностью и жестокостью. Служебный путь барона Вейсмана был исключительно мирный. К действующему полку он прибыл с запасным эскадроном весной 1814 года, перед возвращением из Франции в Петербург. Потом начались непрерывные успехи на смотрах и разводах. За пять лет барон продвинулся от корнета до ротмистра с отличием командующего эскадроном. Этот путь был пройден помимо воли генерала Арсеньева, по прямым указаниям высших начальников, неизменно отличавших и поощрявших превосходного, по их мнению, офицера.
И вдруг нынче барон почувствовал, что земля уходит из-под ног. Все, что казалось незыблемым, грозило рухнуть. Выйдя от генерала, он почувствовал полное смятение мыслей. Его облило холодным потом и мутило, чего не случалось, кажется, с юнкерских времен.
Барон был небогат и холост. Некоторые однополчане-немцы знали, что в Лифляндии его ожидает невеста, но он откладывает женитьбу до назначения командиром армейского полка, которое обеспечит двадцать тысяч рублей годового дохода и почетное положение в провинциальном обществе. А пока он нигде не бывал, занимался исключительно службой и приобретал по обдуманному списку хорошие, солидные вещи — столовое белье и серебро, дорожную коляску и другое, что будет нужно в будущем.
Приказав денщику снять с себя все форменное и облекшись в халат, что делал обычно только после вечерней зори, Вейсман выпил бокал декохта, лег на диван и укрылся одеялом. Часа через три он настолько пришел в себя, что пообедал, выпил чаю с ромом и приказал позвать из эскадрона вахмистра Жученкова.
За это время в полку стало известно о бумаге, полученной генералом, и ее последствиях. Младшие офицеры и чиновники узнавали новость от адъютанта, вахмистры и унтера — от писарей, слышавших все сквозь дверь командирского кабинета, а затем из ответа, данного в канцелярию для беловой переписки. Теперь все толковали об утренней «бане», полученной Вейсманом, и о том, откажут ли ему от командования эскадроном.
Но, конечно, больше всех тревожились подчиненные барона. Возвратясь в эскадронное помещение и пообедав, кирасиры, которым полагался час отдыха, употребляемый обычно на чистку амуниций, собирались кучками у нар или около бочки с водой за входной дверью, где позволялось курить, и вполголоса обсуждали дошедшие до них слухи. Не верилось, чтобы такое могло случиться, однако барон не пришел на учение и, как сказывал прибегавший за вахмистром денщик, залег дома явно «не в себе».
Поэтому, направляясь к командиру, вахмистр Жученков приготовился ко всему неожиданному и не растерялся, когда возлежавший на диване барон сказал с небывалой кротостью:
— Я заболел, вахмистр, так что нынче уже не приду в эскадрон. Ознобляет меня, и кашляю сильнейше.
— Видать, на манеже простыли, ваше высокоблагородие? — предположил Жученков.
— Все ли там благополучно? — осведомился Вейсман.
— Так что учение господин штаб-ротмистр Пилар до конца произвели и к вечерней уборке прийти обещались. Расчет полкового караула от нашего эскадрона на завтра они проверили, и в канцелярию я отнес.
— Ну, а люди как? Здоровы ли? — продолжал спрашивать барон.
— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие. Только, как изволите знать, Алевчук спать соседям вовсе не дает, перхает сильно. Не прикажете ли в лазарет послать? Да, осмелюсь доложить, по мне, опять же Иванов вовсе ненадежный.
— Алевчука неделю на учение не посылай, — распорядился барон. — Пусть три дня в эскадроне вылеживает, а потом дневалит тут же. — И, помолчав, осведомился: — Что же, Иванов тоже вдруг заболевший?
— По видимости, будто что здоров, ваше высокоблагородие, но только, как я на той неделе уж докладал, сильно тоска на него находит. Третьего дня ввечеру дежурный по конюшне от него петлю отобрал, котору из запасного трока сделал, а ноне утром на сеновале квартирмейстер Семенов его застал. Стоит, сказывал, в углу самом темном да на стропила смотрит, а в руке ремешок сыромятный. «Ты, — квартирмейстер ему, — чего тут?» А он молчком ремень за пазуху — да вниз…
Ротмистр завозился на диване, поправил подушку под плечом и, улегшись вновь, приказал:
— Таковую дурь ты из него тотчас выбивай.
— Слушаю, ваше высокоблагородие. Только, осмелюсь доложить, около его часовых не поставишь. Изволите помнить тех-то, прошлогодних, — Милова, Устинова аль Петушка, к примеру, который в самую светлую заутреню в нужнике задавился?
Вейсман рывком присел на диване и уперся в Жученкова таким взглядом, что у того при всей привычке обращения с начальством разом втянуло живот и по спине пошли холодные мураши.
— Такого больше бывать не должно! Слышал, вахмистр? — сказал барон грозно. — Ты мне за то отвечать станешь. Галуны спорю, ежели хоть один мерзавец что над собой сделает.
— Слушаю, ваше высокоблагородие! — ответил Жученков.
Барон взял со стола стакан, хлебнул несколько глотков, прилег и заговорил, глядя в потолок:
— Черт знает! Забирают в башку много дури, а потом отвечаешь за них перед начальство.
— И греха смертного не боятся! — поддакнул вахмистр, ободренный оборотом мыслей командира, подтверждавшим, что над ним нависла гроза.
— Лето бы уже наступало, то отсылал бы скота на огороды, — продолжал ротмистр. — А сейчас куда из эскадрона убрать?
— Осмелюсь доложить, есть одное средствие от его избавиться, — окончательно осмелел Жученков.
— Ну? — скосил глаза барон.
— Перво, из флигельманов уволить, а после в ремонтерскую команду сдать, там за лето, поди, от намереньев своих отойдет. Нонче на манеж господин поручик Гнездовский заходили да, вас не заставши, мне изволили сказывать, что ремонт нонче, почитай, двойной гнать надобно после прошлогоднего падежа, так не уступят ли ваше высокоблагородие одного, а то двух кирасир. Они завтра к вам прийти собирались.
Вейсман молчал, очевидно раздумывая.
— Они бы вашему высокоблагородию зато лошадок задешево из Лебедяни привели, — продолжал вахмистр, — под новую-то коляску.
— А на флигельмана кого поставить? — спросил барон.
— Мало ль у вашего высокоблагородия выученных? — польстил Жученков. — Можно Мосенку аль Соломина, а то Челюка еще. Вот поправитесь да пробу всем сделаете, — который чище покажется.
Наступило молчание. Барон думал, смотря в потолок. Вопрос был важный. Флигельманом назывался солдат, отчетливо, правильно и красиво делающий приемы ружьем, а в кавалерии еще и холодным оружием. Он ставился на учении перед строем как живой образец, с которого все копировали каждое движение.
— Хорошо, вахмистр, ступай, — кивнул наконец Вейсман.
— Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие! — вытянулся Жученков. И хотя очень хотел спросить, решилась ли судьба Иванова, но, зная нрав своего командира, воздержался и, повернувшись по форме, взялся за дверную ручку.
— Ты скажи тому болвану, что из флигельманов я его увольняю, — раздалось за спиной вахмистра. — Да смотри за ним в оба глаза: что случится — я тебе самому шкуру спускать начну.
Жученков стоял уже вновь лицом к ротмистру.
— Слушаю, ваше высокоблагородие, — отвечал он. — Да все бы верней ему и ремонтерскую команду объявить, а то не ровен час… Я к этаким во как приглядевшись. Что раньше веселей да крепче солдат был, то скорей задумавши свое…
— Ступай! — оборвал его Вейсман. — Я с поручиком завтра имею поговорить.
Выйдя из баронской передней, вахмистр перевел дух, перекрестился и накрылся фуражкой, после чего начал осторожно спускаться по крутым ступенькам чугунной лестницы, прилепленной архитектором Руска к стене казарменного здания. Держась за перила, Жученков ругал про себя смотрителя казарм, что, наживаясь на масле, поздно зажигает фонари. Но когда наконец ступил на твердую землю, то мысли его приняли иной оборот. Радовался, что, видать, точно нашлась угроза на ирода Вейсмана и тому, что сейчас же разыщет Иванова, которого отведет от греха.
По уходе вахмистра барон рассудил, что принял должные меры. Теперь он почувствовал себя только обиженным.
«Конечно, раз императору так стало угодно, то надо обходиться без самоубийц, — думал он, — хотя при том очень может дисциплина ослабнуть. Без большого страха разве доведешь этих мужланов до того, что требует высшее начальство?.. Однако теперь я окажусь уже ни при чем, когда эскадрон станет не так хорош. Имел рвение потрудиться для службы, но сами подрезали крылья соколу, как гласит поговорка. А Иванова отдать ремонтеру — небольшая потеря. Последнее время ничем его не заставишь точно исполнять приемы…»
Так случилось, что ефрейтор Александр Иванов, доведенный бранью и побоями барона Вейсмана до полного отчаяния и уже не раз пытавшийся наложить на себя руки, вдруг оказался не только избавленным от постылой обязанности флигельмана, но и переведенным не меньше как на полгода в ремонтерскую команду. А о такой завидной доле мечтали все строевые кирасиры полка.
Однако это счастье едва не прошло мимо Иванова. Просматривая список солдат, назначенных к откомандировке из эскадронов за ремонтом, генерал Арсеньев спросил адъютанта:
— Почему от всех по одному, а от Вейсмана двое? Люди ему не нужны стали? Одних в гроб вгоняет, а других хоть на год отдать готов? Вычеркнуть ефрейтора!
— Желание откомандировать сих людей, ваше превосходительство, исходит не от ротмистра Вейсмана, — доложил адъютант, бывший приятелем полкового ремонтера. — О том просит поручик Гнездовский, которому хорошо известны по прежней его службе в сем эскадроне, еще до барона Вейсмана. Последний же согласился на таковую просьбу, я полагаю, только в расчете, что ваше превосходительство сами вычеркнете одного.
— Еще хитрости немецкие! — возмутился генерал. — Он станет отдавать, а я буду радеть об его эскадроне? Черта с два!
И он подписал приказ.
2
Хотя одновременно с генералом Арсеньевым запросы такого же характера получили всего четверо командиров гвардейских полков, но и в остальных частях корпуса было немногим меньше солдат, умерших за 1817 год. Число их везде колебалось между восемью и десятью процентами списочного состава. Причины проявления монаршего человеколюбия заключались в том, что император Александр был удивлен означенным в рапортах количеством самоубийств. Всегда много умирало солдат от цинги, чахотки, лихорадки, поноса, немало кончалось в госпиталях после наказаний шпицрутенами и фухтелями, но самоубийцы в прежние годы считались единицами. Появление их во всех полках гвардии было чем-то странным, не свойственным солдату, каким представлялся он императору. Что за Вертеры такие в серых шинелях? Люди благородные, случается, кончают жизнь самоубийством от неразделенной любви, от разочарования в дружбе, от невозможности уплатить карточный долг. Но существам низшим — солдатам и мужикам — такие чувства не свойственны. Пусть-ка ответят господа полковые командиры, каковы причины сего поветрия. Видно, за солдатами нет должного присмотра, он недостаточно занят службой, раз может доходить до такой крайности…
Осенью предстоит ехать на конгресс в Аахен, встретиться там вновь с Меттернихом, а он неизменно, при каждом свидании, делает как бы вскользь замечания, по которым ясно, какая у него отменная агентура в Петербурге. Возьмет и скажет теперь: «Позвольте выразить вашему величеству сердечное сочувствие. Как я слышал, множество солдат вашей победоносной гвардии лишают себя жизни…» Или как-нибудь еще в этом роде. Бог знает что! Эти самоубийства положительно неприличны. В них есть нечто дерзкое, пахнущее бунтом против законных судеб своего сословия…
И, встревоженный такими размышлениями, император приказал запросить объяснения от командиров частей, где больше всего значилось самоубийств. Такими оказались прославленные жестокостью генералы Левашов, Желтухин 2-й и Арнольди. Но они же были лучшими знатоками строевых тонкостей, и деликатный Александр Павлович, чтобы не обидеть их, распорядился направить подобные же запросы генералам Арсеньеву и Бистрому 1-му. В их полках значилось меньше самоубийств, но император не жаловал этих генералов за вредную независимость мыслей и хотел увидеть, как оправдаются по такому щекотливому пункту.
Следует помнить, что всем цифрам, касавшимся умерших солдат, представляемым в то время по начальству, должно верить с некой оговоркой. Оборотистые командиры наживались между прочими статьями дохода и на покойниках, не сразу показывая их в рапортах и отчетах. Они предпочитали еще некоторое время получать следуемое живым казенное продовольствие, денежные и вещевые отпуски. Такие выгодные мертвецы назывались на языке чиновников «запасными душами», и документальная отметка их смерти задерживалась порой на целые годы.
Разумеется, этот прием обогащения, меняя отдельные цифры, не мог изменить общую картину. Если когда-нибудь будет написана правдивая история медицинского состояния русских войск в XIX веке, то исследователь неминуемо должен будет обратить внимание на то, что в 1816–1818 годах среди нижних чинов гвардии прошла настоящая эпидемия самоубийств, перекинувшаяся затем в армейские части. Она названа тогдашними военными лекарями «лишением себя живота в припадках меланхолии».
Чаще всего гвардейцы вешались на чердаках казенных построек, в конюшнях, в темных закоулках полковых дворов или топились, бросаясь среди бела дня на глазах у прохожих в серые воды Невы, Невки или каналов, если доводилось идти близ них в одиночку. А то просто пропадали без следа и слуха, махнув ночью в прорубь Фонтанки или Мойки, близ которых располагались многие казармы. Мелькнет мимо задремавшего часового у полковых ворот неясный силуэт в накинутой шинели и бескозырке блином, и не окажется на утренней поверке еще одного служивого.
Немедленная смерть была для этих несчастных единственным верным избавлением от мучительного и унизительного существования солдата царской гвардии, являвшегося неизбежным, но растянутым на несколько лет умиранием. Для самых терпеливых и выносливых, находившихся в расцвете физических сил, непосильной мукой было каждодневное чередование караулов и учений, во время которых по многу часов подряд они должны были выстаивать в полной неподвижности или делать разнообразные, но столь же неестественные движения, непрерывно напрягая все мускулы. От солдата требовали, чтобы грудь была постоянно выпячена, голова задрана, локти, колени и носки вывернуты. А пригоняемая в обрез одежда и амуниция заставляли страдать от тесноты нелепо узких, с высокими воротниками мундиров, от обтяжных брюк и тяжелых киверов, от многочисленных ремней, резавших плечи, грудь и поясницу. Форма эта почти не менялась во все времена года и была одинаково мучительна в жару и в мороз.
При этом за каждую действительную или показавшуюся начальнику малейшую ошибку в повороте, в равнении, в ширине шага, в положении рук и движении ног следовала оскорбительная ругань или избиение различной силы, начиная с командирской зуботычины до прогнания сквозь строй. Редкостью было учение, на котором «нижних чинов» не били бы кулаками, палками, обухами тесаков, шомполами, розгами или шпицрутенами. Недаром в тогдашней солдатской песне говорилось:
А в свободное от учений и караулов время солдат должен был непрерывно заботиться о чистоте и опрятности своего внешнего вида — усов, бакенбард, одежды, обуви, оружия, амуниции. Требуемого начальством щегольского состояния всего этого можно было достичь только часами полировки, побелки, вощения, фабренья, бритья, расчесывания. Их приходилось урывать от сна, всегда желанного, всегда недостаточного, а деньги на такое содержание своей наружности нужно было брать из грошового жалованья, из того, что зарабатывал каким-нибудь мастерством или работой на стороне. Ежегодно осенью, после маневров, солдат отпускали на два месяца, и они брали артелями ломку на дрова старых барок, вывоз строительного мусора с построек, мощение улиц или подгородных шоссе. Немалая часть заработанных этим тяжким трудом гривенников шла на покупку мела, клею, воска и мыла, хотя куда бы нужнее употребить их на улучшение пищи во взводных котлах.
Из продовольствия казна отпускала солдатам только крупу и муку да деньгами на полфунта мяса или рыбы в неделю. А жиры, овощи и соль должно было покупать на артельные суммы, составлявшиеся из жалованья, наградных за удачно проведенные парады да из оплаты артельных заработков. Следует ли удивляться, что при скудной пище, получаемой солдатами, они бывали постоянно голодны и преждевременно старели, что цинга и чахотка считались обычными болезнями в любом полку.
Таковы были условия жизни русских солдат вскоре после походов 1812–1814 годов. И для множества ветеранов страдания этой повседневной каторги усугублялись пониманием полной ненужности в боевой практике всего того, чему их теперь непрерывно учили на плацах и манежах. Они, отстоявшие родину от врага, пересекшие Европу, освобождая народы от ига Наполеона, привыкли в те годы уважать себя и боевых своих товарищей. Им невозможно было примириться с каждодневной руганью и побоями за недостаточно плавный шаг или недовернутый локоть при ружейном приеме. Этих героев, израненных под Бородином, Лейпцигом и Парижем, оскорбляло, когда образцом будто бы главнейшей, необходимой солдату науки становился вчерашний новобранец. Тяжко было им, совершавшим недавно подлинные подвиги, превращаться в вертящийся по команде манекен, не смеющий шевельнуться, когда ему на учении выбивают зубы. Вот почему среди самоубийц было особенно много старослужащих, участников недавних кампаний, кавалеров боевых орденов и медалей.
Такой же была служба и в лейб-гвардии Конном полку, о жизни которого мы еще долго будем рассказывать. Только, как во всякой кавалерийской части, здесь к пешей экзерсиции со всеми ее щегольскими тонкостями, то есть к стойке, поворотам, маршировке тихим и скорым шагом по метроному, прибавлялись еще приемы и рубка палашом, езда в одиночку и строем, уход за конем, которого не только корми и чисти, но еще выщипывай ему гриву, подрезай хвост, подпаливай щетки на ногах, добиваясь того же нелепого единообразия.
И в Конном полку, как в других, солдаты спали на двухъярусных нарах, в тесных, сырых и полутемных казармах, при недавней постройке которых много своровали подрядчик и принимавшие здание чиновники, а теперь на скудном освещении и отоплении богател смотритель. Правда, здесь благодаря честности Арсеньева, ничего не наживавшего от командования полком, в довольствии нижних чинов существовал несколько лучший порядок. Командиры эскадронов не смели запускать лапу в артельные деньги, что бывало нередко в других частях, казенный провиант доходил в котлы сполна, затхлых круп и муки не принимали, мясо и рыбу выборные артельщики покупали сами и в единственном из всех стоявших в Петербурге полков гвардии существовали огороды в Стрельне, урожай с которых квасили и солили впрок на зиму. Но и здесь по двенадцать часов в сутки шли тяжелые занятия, ничего не дававшие, кроме достижения единообразного движения сотен людей, тешившего взор царя, его братьев и наиболее приближенных к нему генералов. Деятельность этих носивших военные мундиры царедворцев состояла в непрестанном утверждении, что подлинное военное искусство, достойное монархов, заключается в совершенном познании всех тонкостей шагистики, всех темпов, на которые делились приемы военной экзерсиции, и всех деталей снаряжения и обмундирования.
И в Конном полку солдаты, или, как их именовали в тяжелой кавалерии, кирасиры, в каждые четвертые сутки ходили в караулы, при отправлении в самый ответственный из которых, во внутренний дворцовый, надевали полную парадную форму. Она состояла из узких сапог-ботфортов, такой твердой и толстой кожи, что ноги в них сгибались с трудом; из лосин, то есть замшевых рейтуз, для лучшего облегания натянутых на голые ноги сырыми, даже если предстояло идти в караул по морозу, и белого суконного мундира-колета, сидевшего как облитый, с высоким воротником на четырех крючках. На руки надевали замшевые перчатки с большими крагами, а на голову водружали кожаную каску с высоким гребнем конского волоса, застегнутую тугим подбородником из медной чешуи.
От такой парадной одежды, делавшей человека неповоротливым, через час по приходе в караул начинались неминуемые страдания, называвшиеся у современников «кирасирскими муками». Узкие сапоги, высыхавшие на ногах лосины, тесные перчатки и воротник настолько стесняли кровообращение, что, стоя на постах, люди только и думали, как бы дотянуть положенное время и, придя в караульное помещение, снять каску, перчатки, расстегнуть крючки воротника, ослабить поясную портупею палаша, сесть на лавку, опереться спиной о стену. Прилечь при белом цвете одежды нельзя было и подумать. Да к тому же в любую минуту караул могли вызвать в строй по тревоге, а всякое движение было замедлено и затруднено донельзя, — дай бог вовремя встать с лавки и застегнуться.
И в Конном полку десятки солдат — рослых красавцев, собранных из деревень и сел всей России, — лежали в лазарете с ознобленными на парадах и в караулах ногами и руками, с иссеченными спинами и отбитыми фухтелями (то есть обухами палашей) легкими, с нажитым на царской службе ревматизмом, почти с одинаковой тоской и страхом ожидая смерти или возвращения во фронт.
А в 3-м эскадроне, прославленном последний год как строевое совершенство, люди были еще забитей, еще несчастней, чем в других, от жестокой взыскательности командира, для которого они были только бессловесным материалом, предназначенным доставить ему благоволение начальства и чин полковника.
При этом репутации барона Вейсмана завидовали, на производимые им учения сходились молодые офицеры, желавшие постичь, как создавались «образцовые» кирасиры, ласкавшие глаз высшего начальства, кирасиры, на горькой судьбе которых целиком оправдывалось тогдашнее изречение: «Из трех рядовых сделай одного ефрейтора». Ведь по официальной статистике 1820-х годов, в Конный полк, где считалось 1150 нижних чинов, ежегодно поступало 115 отобранных в армии хорошо обученных молодцов, а в отставку за год уходило около пятидесяти. Значит, 60–70 умерших солдат в одном кавалерийском полку являлись годовой нормой.
Так жила русская гвардия после Отечественной войны и заграничных походов, прославивших на весь мир русского солдата и взрастивших в нем национальную гордость и человеческое достоинство.
Так жила русская гвардия, когда император Александр разъезжал по конгрессам Священного союза или совершал далекие вояжи по своей стране, а ею полновластно правил граф Аракчеев, жестокий и ограниченный лицемер, умело угождавший вкусам царя и водворявший во всех ведомствах мертвящее торжество невежественной бюрократии.
3
Доложив барону о визите в манеж полкового ремонтера, Жученков, естественно, умолчал, что в тот же день к нему самому наведался вахмистр ремонтерской команды Елизаров. Он доводился Жученкову кумом и зашел попросить, чтобы посодействовал назначению на лето к нему в подчиненные одного-двух кирасир. При этом Елизарову, конечно, желалось получить самых отборных людей, потому что ремонтерская служба, завидная по своему вольному течению, требовала силы и хорошего знания коня.
Однако Жученков, хоть и рад был услужить куму, вовсе не хотел делать это в ущерб своему эскадрону, и так поредевшему от командирского рвения. При ежедневных нарядах и постоянных караулах на не занятых в них людей ложилась уборка всех коней, и поэтому каждый человек был у вахмистра на счету. Но, ходатайствуя перед бароном об откомандировке Иванова, вахмистр, по своему разумению, не наносил ущерба эскадрону, так он был уверен, что не сегодня, так завтра ефрейтор руки на себя все-таки наложит. Хлопоча об его судьбе, Жученков радовался, что делает добро сразу троим: от себя отводит взыскание, что недосмотрел за самоубийцей, его самого избавляет от верной смерти и Елизарову отдает отличного кирасира. А что кум скажет ему спасибо за Иванова, вахмистр не сомневался, потому что они все трое знали друг друга близко и не первый год.
Чтобы сиволапые рекруты с их первичным обучением на плацах не портили вида в столице, пополнение гвардии в те времена совершалось переводами из армейских полков уже обученных, исправных и видных собой нижних чинов. Обычай этот так укоренился, что то же делали и во время войн с Наполеоном. Пять с половиной лет назад, осенью 1812 года, в Тарутинском лагере Жученков, Иванов и Елизаров были переведены в Конную гвардию, первые двое — из Екатеринославского кирасирского полка, а третий — из Литовского уланского, попав только втроем из всей партии переведенных в этот самый третий эскадрон. Нынешние вахмистры были и тогда уже унтерами, а Иванов — рядовым, служившим всего четвертый год и делавшим первую кампанию.
Еще в Екатеринославском полку Жученков на мирной стоянке и на марше приметил этого видного и голосистого кирасира. А под Тарутином, где попервости чувствовал себя чужаком среди гвардейцев, он с Ивановым мог душу отвести. И дальше, на трудном походе, в холоде и голоде, вовсе с ним сжился. Ведь много легче, если рядом человек, про которого знаешь, что в бою и по службе не подведет, последней коркой поделится, а то и могилу выкопает поглубже, чтобы волки не растаскали костей твоих по оврагам.
Не мягок душой был Жученков, но за полтора года походов Иванов стал для него таким человеком. Поэтому особенно тяжко было видеть вахмистру последние месяцы, как загонял ефрейтора в гроб проклятый Вейсман, а теперь радовало, что вовремя нашелся, как его выручить.
А у Елизарова с Ивановым велся с тех же лет особый счет. Близко уже от Парижа, в бою при Фер-Шампенуазе, когда конногвардейцы вместе с другими полками не раз носились карьером на таявшие под их палашами каре французской пехоты, случилось Елизарову с Ивановым вывозить из огня раненного пулей в живот поручика своего эскадрона Захаржевского. Подхватив офицера с двух сторон, они только выдрались из жаркой свалки, как осколком гранаты убило под Елизаровым коня и самого вторым осколком ранило в ногу выше колена. Другой бы кирасир оставил раненого унтера в поле и сам повез дальше поручика. Кто бы и что ему за это сказал? А Иванов, видя, что унтер сможет поддержать раненого, мигом спешился, отдал свою лошадь и помог перетянуть платком кровоточащую ногу. Сам же, снявши седло и оголовье с убитого коня, вскоре догнал раненых, ехавших шагом, и довел до самого перевязочного. Не сделай он так, кто знает, что сталось бы со спешенным раненым Елизаровым на равнине, где развертывались и скакали в атаку полк за полком.
Унтеру тот день пошел на пользу — за привоз раненого поручика его произвели в вахмистры, а благодаря ране, что, и заживши, мешала хорошей выправке в седле, в 1815 году перевели старшим в ремонтерскую команду.
Елизаров не забыл Иванову его добра. Пока был в эскадроне, чем мог мирволил, а после перевода в Стрельну, где женился и обзавелся хозяйством, взял за правило звать его и Жученкова на пироги в именины и другие праздники, причем посылал за ними казенную одноколку.
Такие дни бывали истинным праздником для всех троих, пока Иванов не попал в переделку к барону. Принявши эскадрон, Вейсман сразу облюбовал ефрейтора за красоту фигуры и ловкость в строю и назначил его флигельманом. Стал приказывать каждое воскресенье являться к себе на квартиру для особо тщательного обучения приемам, выправке позитуры и шагу, которые все казались проклятому немцу недотянутыми до полного совершенства, без конца гонял босиком перед собой по паркету, ругал и грозился. Он так затиранил беднягу, что из веселого здоровяка и запевалы Иванов превратился в угрюмого, худого, а под конец совсем не в себе человека, который все норовит уйти в угол да сидеть неподвижно, уставясь куда-нибудь в казарменную стену. Оно и не мудрено, когда редкое воскресенье возвращался от барона без синяков на лице и всегда в таком изнеможении, что еда ему не в охотку и глядеть на мир тошно. А в будни тоже не меньше других доставалось флигельману на учениях то кулаком, а то и серебряной литой рукоятью баронского бича.
Два раза за последнюю осень случилось им встретиться в Стрельне за штофом и пирогами. Гостей звали по воскресеньям, так что Иванову доводилось приезжать после утренней «поправки позитуры». Еще за столом он малость оживлялся и после него подтягивал песням товарищей, а как тряслись обратно по Петергофской дороге, то молчал ровно мертвый, глядя неотступно куда-то в темень. На святках же и в Симеонов день наотрез отказался от гостевания, — видно, тяжкой ему стала даже короткая эта передышка от эскадронной муки. И хотя сиживали за тем же столом другие гости, а все не хватало вахмистрам давнего товарища. Не раз гадали, как его выручить, да что придумаешь? Пытался Жученков назначать ефрейтора малость чаще в караулы — авось барон облюбует другого флигельмана на подмену. Ан заметил чертов немец и велел Иванова вовсе в караул не посылать. Лишился и этой передышки бедняга. Пошло еще быстрей к петле или проруби.
Зато теперь Жученков знал, что, попавши в ремонтерскую команду, проживет целых полгода «как у Христа за пазухой». А что случится, когда воротится осенью в полк с конским пополнением, того солдату и загадывать не след — что будет, того не миновать.
Еще три дня Вейсман сказывался больным, и Жученков в полдень и вечером являлся к нему за приказаниями. Раз, входя к эскадронному командиру, он встретил поручика Гнездовского.
— Здорово, вахмистр! Сладились мы с бароном! — сказал ремонтер, и Жученков окончательно успокоился за судьбу Иванова.
А назавтра в каморку вахмистра, отгороженную тесовой стенкой от эскадрона, вошел насупленный Елизаров.
— Спасибо, куманек! Отпустили нам с немцем твоим орла! — сказал он, садясь на хозяйскую койку. — Алевчука хворого барон поручику моему сосватал. Отсюда, видно, крест да гроб везти придется.
— А Иванов как же? — всполошился Жученков.
— Тоже в мою гвардию идет. Двоих калек за милость отдаете.
— Ну и хитер! — восхитился Жученков. — А твой чего же Алевчука брал?
— Так почем ему знать, что Алевчук в могилу глядит? — возразил ре монтерский вахмистр. — Он помнит, что был тако справный кирасир в эскадроне. А на что его нонче похожим сделали, то ему взглянуть невдомек. Надул нас немец, да и ты с ним заодно. Опоенную клячу за скакуна всучили, барышники.
— Тут, кум, я ей-ей ни при чем, — заверил Жученков. — Я барону про одного Иванова докладывал, Алевчука он своим умом дошел отдать. Да он, гляди, еще отдышится. За три дня, что на учения не гоняем, куда приглядистей стал.
— Хорош же был! — фыркнул Елизаров. — Ноне встретил — краше на погост носят. А еще скажи, Иванов-то из Тульской взят?
— Из Тульской, кажись. А что?
— Эка «что»! Нам из Лебедяни с ремонтом где шагом плестись?
— Ну?
— Вот и «ну»! Как будет знать, что ему вскорости снова к барону на муку вертаться, то не надумал бы сбечь.
— Куда сбечь-то? — возразил Жученков. — Эку заграницу нашел! Солдат не игла, сквозь землю не провалится. Первый встречный барин к капитан-исправнику стащит. А коль достигнет своих мест, так односельцы, чтобы горя не нажить, локти назад скрутят.
— Все так, да у них, у дураков, рассуждение иное, — наставительно сказал Елизаров. — Родные, мол, места повидаю, раз до их рукой подать. Ночами ехать стану, днем в леске пережду. Пока поблизи искать будут, скроют меня сродственники, пожалеют свою кровь. А опосля одежу другую вздену и подале проберусь. Так-то, глядишь, все у него в глупой башке гладко прикинется, да с ночлега какого захватит пару самолучших коней — и поминай как кликали! А мне и за него, дурака горемычного, и за коней казенных отвечать. Его беспременно поймают и по команде представят, а трехлеткам заводским, за которых до двухсот рублей плочено, куда как просто на исправницкой конюшне прижиться…
— Вот потому, Елизарыч, что тебе за него отвечать, Иванов никуда и не денется, — убежденно сказал Жученков. — Сам знаешь, может ли он тебя под беду подвесть?
— Оно вроде и так, — согласился Елизаров. — Да вспомнил нынче, как в третьем году Левенков сбёг, тоже не новобранец, и опять от Тулы недалече. Ладно у нас дневка случилась, так суток не прошло, как земская полиция его доставила, будто барана, на телеге скрученного, и конь, на мое счастье, к грядке привязан. До деревни своей не доехал, как взяли. Ровно чумеют, как в родные места попадут… А с чего, скажи, Левенкову бежать было? Чем худо в команде моей служить? Вот и думается: Иванову куда против него солоней пришлось, так не сдурел бы.
— Оттого, что больно солоно, я к тебе его и определить надумал, — сказал Жученков. — Чтоб ты передох человеку дал.
— Ладно. — Елизаров встал. — Сам его жалею, да и за свою шкуру забота берет.
Прошла еще неделя. Иванов и Алевчук числились в откомандировке, но продолжали жить в эскадроне. С утра уходили в амуничник, в кузницы или еще куда, исполняя поручения Елизарова, готовившего свою команду к походу.
— Эко счастье чертям привалило! — завидовали кирасиры.
Но им тоже нечего было пока бога гневить. После генеральского внушения Вейсман стал много тише. Хотя и ругался, и давал зуботычины, но до прежнего живодерства не доходил.
Наблюдая в эти дни Иванова, вахмистр Жученков с досадой замечал, что по-прежнему сторонится людей, ест без охоты и во сне, соседи сказывают, ворочается да охает. Зато Алевчука прямо не узнать — кирасир прибаутками смешит, припевать стал, хотя как громче возьмет, так и закашляет.
«Попытаю, нет ли особой причины», — решил Жученков.
В тот же вечер, когда в эскадроне остался гореть один фонарь-ночник и над нарами пошел густой храп, вахмистр выглянул из своей каморки и вполголоса кликнул Иванова. Ефрейтор тотчас явился — видать, сна ни в одном глазу. Вахмистр велел ему сесть против своей койки на сундучок, в который на ночь прятал списки людей и коней, тетрадку нарядов и прочую эскадронную канцелярию.
— Ты что же, Александра, ровно ворона мокрая ходишь? Или не рад ремонтерской? — спросил Жученков, глядя при скудном свете сальной свечи на ставшее особенно скуластым от худобы лицо Иванова, на костистую грудь под рубахой.
— Как не радоваться, Петр Гаврилович? — отозвался Иванов. — Каждый день по сту раз спасибо тебе даю, знаю, чьими заботами.
— Не про то, братец, — остановил вахмистр, — а дознаться хочу, что у тебя еще на сердце. Может, и тому помочь сумею. Денег, к примеру, нету. Дал кому из кирасиров, а не отдает. Я от себя скажу — крепче воздействует. А то не болен ли часом? Так объявись мне — к бабке сведу, в Коломну, куда искусней лекарей наших любую болезнь понимает, самого не раз пользовала.
— Покорно благодарю, здоров и деньги есть, — отвечал Иванов. — Сам дивлюсь, чего б не радоваться? — Он виновато усмехнулся. — А все у сердца сосет. Все не поверю, что то горе отошло, все опасаюсь, не отменили б командировку. — Он тревожно всмотрелся в Жученкова. — Не потребовал бы обратно во фрунт.
— Эх ты, дура! Как барону потребовать, когда приказ по полку отдан! — успокоил вахмистр. — Иди-ка спать, не думай боле. Пусть Елизарыч за тебя ноне думает.
Разговор оказал на Иванова очевидное воздействие. На другой день он подбивал старые сапоги, на третий стирал рубахи — начал готовиться к походу. А еще через вечер в такое же позднее время, но уж без зова снова вступил в каморку вахмистра.
— Намедни спросили про надобность, — начал он смущенно.
— Надумал? — повернулся к вошедшему Жученков, сидевший за столиком, кладя на счеты расход овса.
— Надо деньги французские обменять, — вполголоса сказал ефрейтор, — а как то делают, не знаю. Научи, сделай милость.
— Неужто с походу сберег? — удивился вахмистр и глянул на дверь, хорошо ли притворена.
— С Парижа… Французы там однова подарили, — ответил Иванов. Он вынул из-за пазухи платок, развязал и положил на край стола вязаный кошелек желто-красного шелка.
— Сколько же тут? — осведомился Жученков.
Иванов достал из кошелька бумажный пакетик, а из него стопку золотых монет.
— Ну и кремень ты, братец! — подивился вахмистр. — Другие, что с похода привезли, давно до гроша прогуляли, а он — на-ко! — Жученков попробовал золотой зубом, поднес к свече. — Добрые наполеоны. Такие обменять не хитро… Да на что они тебе в дороге? — Вахмистру вспомнились опасения кума. — Отдай лучше на сохран Елизаровой жене. Баба твердая, безотлучно в своем дому.
— Хочу, Петр Гаврилович, отвезть отцу с матерью, — ответил Иванов. — А то братьям отдам, коли родителей бог прибрал.
— Вот что задумал! — сказал Жученков. — Близко родных мест путь, что ли, пройдет?
— Говорили, кто уж езживал, будто через Богородицк нам идтить, а село мое от него двадцать верст. Вот и думаю: придется ли еще когда такую близь ехать? Авось Семен Елизарыч пустит на одну ночку кровных повидать. Ай нет? — Иванов вопросительно смотрел на вахмистра.
— Может, и пустит. Чего на одну ночь не пустить? — подал надежду Жученков. — Никак десять наполеонов твоих? Завтра же и сменяю. Верных сто рублей серебром твои будут. А кошель каков знатный! Кольца, видать, золоченые. За что ж, расскажи, французы тебя дарили?
— У француженки одной… — начал Иванов и запнулся, увидев, что вахмистр улыбается.
— Ну и хват! — рассмеялся Жученков. — Будто все на глазах был, а поди-ка! Видно, богатая была?
— Не за то, Петр Гаврилыч, — ефрейтор совсем смутился. — Мальчонку ейного из воды вытащил.
— Где же, когда?
— Да в саду гуляючи, Тюлюри зовется… Шли мы там раз с Самохиным, вдруг вижу — девочка лет пяти взяла совсем махонького паренька, только, видать, на ноги встал, да с натугой поднявши и посади на край чашки такой большой, каменной. В землю врыта, и вода в ней плещет, как у нас в Петергофе. А тот-то малец сряду, как девчонка руки отняла, и брык назад себя в воду. Я скорей к ним да и вытащил. Он и захлебнуться не поспел, обмок только да ревет, закатывается. Тут нянька аль мать к нему кинулась и ну голосить, да старый барин, дед, может, тут же рядом сидел, книжку читал, — тоже меня благодарит, обнимает.
— Вымок сам-то? — осведомился вахмистр. — Глыбоко было?
— Пустое! Рукава да грудь малость. Солнце жаркое, высох.
— А Самохин что же, в эскадроне не сказывал? — удивился Жученков. — Ты-то скромник, известно…
— Христом богом его просил, угощение поставил, — улыбнулся Иванов. — Боялся — за колет не взыскали б. Строгость там была, помнишь, чтоб все как на парад. Часа два на солнце сидел, руки ровно палки выставивши, рукава натягивал, чтоб ни складочки. Тут же в саду, покудова сох, все серебро и проели, которое разные господа мне насыпали, как на крик француженки сбежались. А золотые старик прямо в кисе подал. Я в полку только разглядел, каково богатство…
— И не видал больше бабенку? — подмигнул Жученков.
— Ни разу, — покачал головой Иванов. — Ходил туда четыре воскресенья, хотел старику деньги вернуть. Должно, по ошибке столько дал, раз одет был небогато. Так нет, не встречал больше.
На другой день Жученков, чтоб не было греха, перехватил в цейхгаузе приехавшего из Стрельны кума и, пересказав разговор с Ивановым, спросил, менять ли.
— Меняй, — решил Елизаров. — Раз прямо просится, то не сбежит.
4
В те времена кавалерийской лошади был положен семилетний срок службы. Каждый год из полков выбраковывали одну седьмую конского состава, которую продавали с торгов, и одновременно требовалось пополнить эту седьмую часть свежими лошадьми. Нередко случалось, что в целях экономии командиры частей не пускали в продажу всех выслуживших срок коней, оставляя тех, что «не портили строя», еще на год-два под седлом. Но все же ежегодное полковое пополнение исчислялось самое малое сотней голов. Для покупки их весной из тех мест, где квартировала кавалерия, на юг России отправлялись офицеры-ремонтеры со своими командами.
В первой половине XIX века — в то время, когда ружья стреляли на триста шагов и заряжение их требовало полторы минуты, — русская регулярная конница делилась по своему боевому назначению, а потому и по подбору людей и лошадей на тяжелую, легкую и драгун. Тяжелая кавалерия — кирасирские полки — предназначалась для атаки сомкнутым строем, которая была всесокрушающим тараном, способным смять, снести со своего пути сопротивление любых построений вражеской пехоты. Тяжелая кавалерия комплектовалась всадниками мощного сложения, не ниже двух аршин девяти вершков[1]. Они носили кирасы — кованые латы, покрывавшие грудь и спину. Главным вооружением их служили длинные тяжелые палаши, которыми одинаково успешно можно было рубить и колоть. Чтобы нести быстрым аллюром таких всадников, кирасирские лошади должны были обладать сильной мускулатурой и ростом не меньше двух аршин пяти вершков[2].
Легкая кавалерия — уланские и гусарские полки — наряду с казачьей конницей предназначалась для аванпостов и разведочной службы, быстрых рейдов и передвижений. Но, разумеется, и эти полки могли в случае надобности атаковать врага в сомкнутом строю. Люди для службы в уланах и гусарах подбирались легкие и невысокие — двух аршин трех-четырех вершков[3], а их подвижные и выносливые кони не превышали двух аршин[4]. Наконец, драгунские и конно-егерские полки представляли разновидность легкой конницы, но люди в них сверх кавалерийской службы обучались еще и действиям в пешем строю: стрельбе шеренгами, штыковой атаке, службе в секретах и передовой цепи. Их можно было использовать и как кавалерию и как пехоту.
Сообразно с этим ремонтеры легкой кавалерии покупали лошадей главным образом у владельцев табунов Екатеринославской и Херсонской губерний, а в тяжелую кавалерию шли питомцы заводов, культивировавших рост и тело и расположенных в губерниях Орловской, Воронежской, Тамбовской и Харьковской. Выбор каких-либо особых по масти или иным внешним качествам «казовых» коней любого роста и сложения совершали на Лебедянской ярмарке, открывавшейся ежегодно во второй половине мая. Сюда пригоняли тысячи голов всех пород, статей и мастей. Сюда съезжались для торга, встреч и кутежей коннозаводчики, ремонтеры и помещики — любители лошадей из многих губерний центральной и южной России.
Утром назначенного апрельского дня ремонтерская команда Конного полка слушала напутственный молебен в полковой церкви. На молебне стояли поручик Гнездовский и вахмистр Елизаров, которые выезжали завтра на почтовых. Их путь лежал на Беловодские казенные заводы в Харьковской губернии, а оттуда через Воронежскую и Тамбовскую, с заездами на частные заводы, — на Лебедянскую ярмарку.
В ту же Лебедянь через полтора месяца должна была прийти походным порядком команда. Вел ее унтер-офицер Красовский, известный всему полку лихой наездник и георгиевский кавалер с перебитым в бою носом. За это увечье сразу после войны по приказу цесаревича Константина как «неблаговидного во фронте и особливо в почетных караулах» Красовского перевели из лейб-эскадрона в ремонтерскую команду.
После раннего обеда Красовский на полковом плацу скомандовал своим кирасирам:
— Справа по три, шагом… — После чего пропел протяжное: — Ма-арш!
И, только тронув шпорами коня, Александр Иванов наконец поверил, что целых полгода не увидит страшных глаз барона Вейсмана, стен манежа и этого проклятого плаца, на котором столько терпел ругани и побоев…
А команда уже завернула на Поцелуев мост и мимо Большого театра, Морского собора и Никольского рынка, по набережной Фонтанки и по Московскому шоссе потянулась к заставе. Движение предстояло не спешное. Те пятьдесят коней, на которых ехали ремонтеры, были лучшие из выбракованных в этом году. Их нужно было довести до Лебедяни в хорошем теле и там продать по настоящей цене. Неторопливость марша определяло и то, что команду замыкала пароконная казенная фура с палатками, попонами, котлами, ведрами, топорами и прочим, что может понадобиться на биваках людям и лошадям, среди которых на обратном пути окажутся и чистокровные неженки, купленные под офицерское седло, и слабые еще двухлетки, выбранные на заводах за красоту.
Пока в первый день ехали чистой, как проспект, и многолюдной дорогой до Царского Села, кирасиры больше помалкивали, сидели в седлах подтянуто, равнялись в тройках и следили за каждой пуговкой. Но когда, переночевав в Софии в гусарском манеже, выехали наконец к Ижоре и раскрылась перед ними Большая Московская дорога, то все, даже многолетние ремонтеры, каждый год совершавшие этот путь, просветлели, подобрели, заговорили, заломили на ухо фуражки, распустили посадку.
День выдался настоящий весенний, с острыми запахами пригретой солнцем земли и прелого листа в перелесках, где перекликались первые прилетевшие издалека птицы, с внятным журчаньем ручьев талой воды. В придорожных деревнях мужики чинили сохи и бороны, а старухи и бабы без просьб выносили остановившимся у колодца конногвардейцам хлеб, кокорки, а то и молоко, приговаривая жалостно: «Вот так-то, поди, и наш Павлуха где-то голодный ездит…»
Все располагало к благодушию: и отсутствие офицеров, и сытое брюхо, и разномастные немолодые кони, и то, что ехали, как в кузницу или на водопой в лагерях, в шинелях, бескозырках и без оружия, только унтера и ефрейторы с палашами, и даже то, как певуче поскрипывала сзади фура с ездовым Минаевым, сидевшим по-мужицки, свесив набок ноги в порыжелых сапогах.
От всего этого в первые часы марша за Ижорой вся команда так загудела разговором и гоготом, так потеряла дистанцию и равнение, что Красовский, ехавший впереди на видном караковом жеребце, несколько раз оглядывался и ворчал вполголоса:
— Вот черти бессовестные! Будто на проселке каком. Того и гляди, начальство наскочит и бани мне не миновать.
Наконец он не выдержал, отъехал на обочину, дождался, чтобы поравнялись с ним передние всадники, и заорал грозно:
— Подтянись! Что за цыганская свадьба едет?! — И через минуту скомандовал: — Взвод, смирно! Рысью… ма-а-рш!
Пропустив мимо себя всю команду вплоть до резво подпрыгивавшего перед звонкой поклажей седоусого Минаева, Красовский галопом обошел строй и прогнал, не сбавляя рыси, до первого пота, обозначивавшегося черными пятнами на шее его жеребца. Но только перешел снова на шаг, как услышал сзади смех, разговоры и пробормотал вполголоса:
— Post tenebras lux…[5]
А мимо неспешно двигавшихся ремонтеров мелькала обычная жизнь столбовой дороги между двумя столицами. То была она совсем пуста, то показывалась вдали темная точка, чтобы вскоре превратиться в людей, коней, экипажи. Скакали на взмыленных ямских тройках, сидя в перекладных тележках, фельдъегеря и курьеры, придерживая на груди сумки с депешами и мотаясь на ухабах усталой спиной. Проносились, скрипя ременными рессорами, запряженные шестериками, вместительные дормезы со знатными барами, их детьми, гувернерами, моськами, слугами. Гремели окованные железом дилижансы с глазевшими сквозь запыленные окна вечно жующими пассажирами. Потряхивали налитыми жиром загривками купцы, звучным чмоканьем понукая сытых лошадок, запряженных в обильно подмазанные дегтем, густо окрашенные одноколки. Шли в туго перепоясанных армяках бородатые лапотные крестьяне с топорами или другими инструментами, потребными в плотницком, печном, штукатурном, бондарном делах, — кто на заработки, кто с заработка. Низко кланялись всем встречным бедно одетые старики и старухи — богомольцы, начавшие дальний путь по святым местам. Гнусаво пели псалмы и вполголоса переругивались вереницы слепцов с поводырями. Бодро шагали коробейники-прибауточники с целой лавкой на сутулой спине. Гнали конвойные солдаты колодников, звеневших цепями, бритых, с бескровными от острожного сидения лицами. Шли, скрипя колесами, казенные и торговые обозы с кладью под рогожами.
Один за другим оставались сзади полосатые верстовые столбы, напоминая конногвардейцам, что с каждым ударом копыт они все дальше уходят от Петербурга, от начальства, от каждодневных солдатских трудов и горестей, которых довольно было и в ремонтерской команде. Но, конечно, особенно счастливыми чувствовали себя кирасиры, по просьбе поручика Гнездовского откомандированные из строевых эскадронов. Они в первые дни казались ровно «под мухой», и, как у настоящих пьяных, поведение у всех было разное. Алевчук немолчно напевал да посвистывал на всякие манеры, хохотал сам и смешил соседей рассказами про какую-то чухонку, к которой будто сватался прошлую осень, когда стояли на «траве» за Стрельной. А Иванов больше помалкивал, поглядывая по сторонам, щурился на солнце да блаженно улыбался, будто проснувшись от страшного сна.
Оно и вправду походило на сон. Всего три недели назад только и думал, где бы сыскать место, чтобы без помехи повеситься, и сделал бы это, если бы люди три раза не помешали. А нонче едет по большой дороге в вольном строю да прикидывает, как в родной Козловке под городом Епифанью хоть денек погостит. Может статься, что живы еще все, кто его рекрутом провожали. Ясное дело — отец с матерью сильно состарились, десять лет осенью будет, как не видались. Братья с невестками тоже в лета взошли, а племянники да племянницы, выходит, женихи да невесты. И сам он теперь не прежний робкий парень, крепостной крутого помещика Корбовского. Видел кой-чего на свете, может порассказать про сражения, про чужие края. А про полковое недавнее язык не повернется говорить — довольно им своего горя…
Глядя на мерно двигающиеся, отливающие золотом заглаженной шерсти шею и плечи своего рыжего коня, Иванов вспоминал, как в такой же ясный и теплый, только осенний день у епифанской городской заставы припала к нему на грудь матушка, охватила за шею сухой, в мозолях ладошкой, повторяя одно только слово: «Сыночек, сыночек…» Как дюжий брат Яков вместе с отцом едва оттащили ее полумертвую после команды партионного унтера, как зашагал, не оглядываясь, словно в тумане от смертной тоски, от страху и неведения солдатской судьбы…
Потом всплыл в памяти присыпанный снегом городок Винница, домики которого разбежались по обоим берегам неширокого Буга. На окраине его стоит штаб Екатеринославского полка, а вокруг по обывательским хаткам квартирует два эскадрона. По дворам мерно хрустят кормом рослые кони, чистят их усатые молодцы в белых колетах с оранжевыми воротниками. И сам Иванов — уже исправный и ловкий молодой кирасир, без натуги обученный езде в строю, который вечерами развеся уши слушает бывальщины загорелых, дымящих трубками служивых про стычки на далекой речке Алле, про атаку всем полком под Пултуском, где на мерзлую землю настелили горы конских и людских тел, но до ночной тьмы ни русские, ни французы не играли отбоя…
В весенний, как нынче, солнечный день собрали весь полк из окрестностей на площадь перед Благовещенским монастырем. Отошла обедня, и под колокольный звон тронулись кирасиры походом вдоль австрийской и польской границ навстречу врагу, подходившему к русским рубежам. Сосед по строю, тоже молодой солдат и тезка Сашка Сурок, скалит крепкие зубы, хвалится выслужить в первом бою крест и ефрейторские галуны. Стали на квартиры под Пружанами, поют по утрам горластые трубы, не учат больше стойке и выправке, а все рубке палашом, стрельбе из пистолета да скачке через канавы, через жердевые барьеры…
Гремят сзади, как далекая небесная гроза, французские и наши пушки. Ломит враг, отходит русская армия, тянутся по раскаленным солнцем дорогам пехота, пушки, фуры… Молчат или ругаются запыленные, потные кирасиры. Перед Смоленском впервой в эту войну пустили Екатеринославский полк в атаку на синих французских стрелков. Разом вырвался вперед Сашка Сурок и вдруг повалился на шею коня, теряя стремена и поводья… Торопливо копают кирасиры могилу, из тонких березок тешут палашами и вяжут сыромятиной крест. Лежит рядом с ямой молодой солдат. Лицо восковое, видать из-под синих губ крепкие зубы. Густо замаран колет рыжими пятнами. Где твои награды, Сашка?..
Ушам больно от пушечного грома. Застлало пороховым дымом всю Бородинскую равнину. Смутно видны в его клубах конные и пешие строи, вспыхивают огоньки ружейных залпов, сверкают иглы стали… В полдень двинули из резерва Екатеринославский полк. За пожарищем села Семеновского скомандовали атаку, и несутся к своим, спасаясь от страшного натиска, французские латники. Рубят их екатеринославцы, топчут упавших конями.
За этот памятный день наградили молодого кирасира Александра Иванова в Тарутинском лагере серебряным крестиком, какой так хотел заслужить Сашка Сурок. И за этот крестик отобрали в числе других на пополнение поредевшей в боях, а более на походе гвардии. Жалко расставаться с товарищами, с рослым карим конем Ершом. Но и то хорошо, что не один едет в незнакомый полк, а с двадцатью еще екатеринославцами и в гвардии сразу попал под начало своему же унтеру Жученкову.
Ложится снег на вытоптанные поля, на черные пожарища деревень, на разъезженную до глубоких ям дорогу. Непрерывно движется по ней русская армия, гонит со своей земли врагов, не давая им передышки. Сотнями лежат у дороги полуголые трупы французов, зарывшихся в золу потухших костров, в туши растерзанных ими палых лошадей. Но и нашим солдатам не сладко: обносились до лохмотьев, месяцами не снимали одежды, не видели бани, не ели горячих щей. Едва бредут под конногвардейцами тощие, понурые кони, обросшие грязной, клочковатой шерстью. И они два месяца ничего не ели, кроме гнилой соломы да солдатского плесневелого сухаря из рук своих ездоков.
На просторных квартирах в Пруссии наконец-то отъелись, отмылись, обмундировались заново, пополнились людьми и лошадьми. А новая трехсоттысячная французская армия уже идет навстречу. И опять поход, опять тянутся полки мимо селений с островерхими кирхами. Как ни берегло начальство гвардию, а осенью этого года под Кульмом и Лейпцигом пришлось снова атаковать синие, опоясанные дымом ружейных залпов французские каре. И опять вечерами копали могилы товарищам, с которыми утром хлебали варево из одного котелка.
Первого января 1814 года перешли через Рейн. Замелькали французские города и селения, с иными, чем у немцев, постройками, телегами, говором и одеждой крестьян. В длинной ленте наступающей армии движется полк, качаются в седлах, клюют носами задремавшие кирасиры… При Фер-Шампенуазе последний раз обнажили палаши и едва оттерли их о конские гривы. А вот и Париж открылся с пригорков, весь в трепете легкой весенней зелени. Мир заключен, приветливы французы и еще приветливей француженки. Не бывать бы лучшей стоянки, чем в казармах военной школы, кабы не донимало начальство караулами и парадами.
Счастлив в бою и крепок телом оказался молодой кирасир Александр Иванов. Вражеская пуля его миновала, клинки и штыки не задели, лихорадка и понос не извели. А эти недуги куда пуще французского оружия косили русское воинство, щедро рассыпали по его пути солдатские могилы.
Наступило мирное время. Возвратясь из похода, конногвардейцы думали, что теперь-то отдохнут наконец за каменными стенами казарм, где мороз не прохватит и голод не замучит. Будут исправно нести хорошо знакомую службу, обучать ей молодых, по субботам забегать в ближний кабак за косушкой да париться в жаркой бане и день за днем отсчитывать, что осталось каждому до отставки. Но тут как раз и напала на государя страшная фронтовая дурь. С самых первых дней в Петербурге заставили старых солдат наряду с безусыми рекрутами достигать небывалой «игры в носках», «жизни в икрах», «красоты позитуры в стойке», начали раздельно обучать шагу медленному и скорому, с плавностью и вытяжкой подъемов, доступной только танцовщикам, замучили приемами оружием и поворотами, разделенными на темпы. И все с руганью, зуботычинами, под страхом сотен ударов на «зеленой улице». От таких порядков немало лучших офицеров пошли в отставку, скинули ставшие постылыми мундиры, отъехали в свои деревни. А солдату куда деться? Правда, старые кирасиры рассказывали, что почти то же было при императоре Павле, так что, мол, нового в нонешней службе немного. Но, во-первых, такие рассказы не больно утешают, а во-вторых, и старики соглашались, что не видывали в молодые годы мастеров «фрунтового акробатства», подобных ироду Вейсману.
Ох! Едва ведь не вогнал проклятый вслед за другими в могилу и его, Иванова… Неужто осенью опять в ту же каторгу идти?.. Да что про то думать! Пока вон какая благодать выпала: дорога дальняя, харч сытный, от Красовского, похоже, обиды не будет. Да еще впереди хоть самая короткая, да все ж побывка у своих. И в седельной суме лежат купленные в Апраксином дворе для матери и невесток платки, ленты, гребешки, сережки. А отцу с братьями отдаст деньги немалые, что зашиты в холщовом поясе с завязками, в народе названном чересом, надетом под рубаху…
А коли в самом деле приведет бог заехать на побывку, то из той же седельной сумы вынет и пришьет к колету в ряд с Георгиевским крестом и медалью за войну, которые приказано николи не снимать, еще австрийскую и прусскую, да Кульмский железный крест. Пять раз кавалер! Будет чем отцу соседям похвалиться — сын-то гвардеец заслуженный, а кровных не забыл…
Унтер-офицер Красовский вел команду в Лебедянь не первый раз. Он твердо знал, в какой деревне и в каких избах надобно стать на ночлег и где на четвертые сутки делать дневку, где хороший кузнец, где лучше пекут хлебы и где сено без болотины. И когда кто-нибудь из кирасир пытался напомнить нечто о будущей стоянке, он сам договаривал и заключал:
— У тебя память, а у меня — две, — и показывал засаленную записную книжку синей бумаги, неизменно покоившуюся у него за обшлагом шинели, в которую порой вносил новые заметки.
Ежедневно после обеденного привала Красовский пропускал мимо себя всадников, всматриваясь в посадку, в шаг коней, а на дневках приказывал делать перед собой выводку и крепко распекал кирасир, если находил наминку или другой ущерб коню.
— Ты что конную гвардию срамишь? — спрашивал он, тыча пальцем в больное место. — Гляди, к Минаеву на телегу ссажу, а коня в поводу поведешь. То-то бабы по деревням смеяться станут. И поручику доложу, чтоб в эскадрон отчислил. Там выучат не по-моему. Одно argumentum baculinum[6] понимаешь?
Ни разу Иванов не видел, чтоб унтер ударил провинившегося. Разве с сердцем отпихнет от коня, приступая к осмотру холки, колена или копыта и приговаривая при этом: «Очисти место homini sapienti!»[7] После чего объяснял, как сделать, чтобы конь поправился, и заканчивал вопросом:
— Понял ли, asinus vulgaris?[8]
— Так точно, господин унтер-офицер!
— Ну, bene[9]. Запомни и больше не греши.
Не раз слышав подобный разговор, Иванов стал расспрашивать своего соседа по строю, старого ворчуна Марфина, и узнал, что Красовский когда-то учился в бурсе и через полтора года исполняется двенадцать лет службы его унтером. Так что ежели докажет перед начальством знание всех артикулов и счета до тысячи, что ему, грамотею, нипочем, то получит чин корнета.
— За что же в солдаты сдали? — полюбопытствовал Иванов.
— Сам хвастал, какое непокорство отцу оказал, — ответил Марфин. — Не хотел, вишь, попом стать, в лекаря норовил. Вот за то штыком колот, пулей стрелян и нос перебит. Попом-то, поди, куда сытей да вольготней бы прожил.
— А по-каковски ругается?
— Шут его знает. В заграницах с попами ихними лопотал.
За день команда проходила без натуги в два проезда по тридцать, а потом по сорок верст и на двадцатый день заночевала в Петровском-Зыкове. Утром Красовский поднял людей затемно, чтобы не лезть на глаза городскому начальству. В Москву въехали на заре. По улицам шагали только фабричные, плотники, каменщики да дворники с метлами глазели на конногвардейцев.
Иванов помнил, как проходили Москву молчаливым строем в сентябре 1812 года, как охали и сжимали кулаки, глядя из Тарутинского лагеря на зарево, охватившее полнеба… А теперь над подернутыми первой травкой пепелищами сверкали на утреннем красноватом солнце заново беленные бесчисленные церкви. Рядами выстраивались новые дома.
Многие были уже заселены, другие окружены лесами, третьи только поднимались за горами кирпича и бревен.
— Кормит Белокаменная мастеровой народ, — умилился Марфин. — Каждый год едем, и раз от разу видать, какая поправка идет… Примечай, Иванов, — он указал на свежеоштукатуренный дом, горевший на солнце еще не крашенным железом кровли. — С табуном обратно пойдем, — он беспременно как жених под венцом станет: и покрасят, и побелят, и люди в ем населятся.
Команда въехала на Большой Каменный мост, и копыта глухо застучали по тесовому настилу.
— Взвод, смирно! — раздался впереди зычный голос Красовского. — Глаз на-ле-во!
Но и так все конногвардейцы смотрели в ту сторону, где высились розовые стены Кремля, горели золотом главы Ивана Великого и соборов. Кирасиры снимали фуражки и крестились.
— Стоит, ровно митрополит, и француз его не осилил! — восторженно сказал Алевчук, ехавший сзади Иванова.
— Вольно! — скомандовал за мостом Красовский. — Подбоченься, ребята! Покажем замоскворецким купчихам гвардейскую красу!..
Но ставни немногих смотревших на улицу домиков были еще закрыты, только заспанные бабы выгоняли из калиток коров, за которыми выскакивали собаки, остервенело лаявшие на всадников.
На первом дневном привале за Москвой Красовский объявил, что дальше и на ночлег будут становиться в поле.
— Нечего по избам тараканов кормить. Domus propria — domus optima[10], а солдату летом дом готов на любом лугу.
Действительно, погоды встали теплые, и молодая трава привлекала коней больше прошлогоднего сена. Теперь поднимались на рассвете и, пока Минаев варил первую кашу, гнали табун к водопою. Потом снимали лагерь, ели, седлали и выступали. В полдень делали часовой привал и после второго водопоя снова шли часа четыре. Останавливались на ночлег всегда недалеко от дороги, близ текучей воды, и Минаев готовил уже щи и кашу. Тут всем назначены были обязанности: кто ставил палатки, кто собирал сучья и помогал кашевару, кто отводил расседланных коней на подходящую лужайку и, стреножив, пускал пастись. А Красовский следил за всеми, прогуливаясь по лагерю и покуривая трубку. Он то проверял, как просушивают седельные потники и хорошо ли натянули веревки у палаток, то пробовал кушанье, то посылал кирасир мыться на речку. Но внимательнее всего оглядывал он спины и копыта коней, которым всегда берег в карманах посоленные корки хлеба, и, только обойдя весь табун, отправлялся сам умываться. Поев, унтер доставал из седельной сумы книгу и читал час-полтора, а перед сном снова шел к лошадям, с которыми имел обыкновение разговаривать вполголоса.
Однажды, будучи дневальным при табуне, Иванов стал свидетелем, каким ласковым ржанием встречали Красовского кони, и затем услышал, как унтер толковал одному из них:
— Bene! Pulchre![11] Научился наконец-то porcus[12] тебя седлать после моей проборки… Да чего с него и взять? Четыре года служит, а все одни гусиные шаги да повороты. Забыли батюшки Суворова завет: учи солдата в мирное время тому, что на войне надобно…
— А вы, Александр Герасимыч, видывали Суворова? — подал голос Иванов и встал с земли, где сидел на разостланной шинели.
— Довелось одно лето в лагере под Тульчином обучение его проходить, — ответил Красовский. — Да там же счастье имел приказы его набело переписывать. А он рядом по горнице хаживал, сухарик хрупал и с писарями шутки шутил.
— Будто, что Тульчин от Винницы недалече, где с прежним полком стояли, — припомнил Иванов.
— Истинно так, — подтвердил Красовский. — Оттуда турецкая, австрийская и польская границы были Суворову под рукой.
— А воевать с ним, Александр Герасимыч, не случалось?
— Не с ним, а под начальством его, ты хочешь сказать?.. Нет, не случалось. Но похороны его увидеть довелось. На Невском проспекте в строю стоял, когда бренное тело в Лавру везли, а дух геройский уже ad patres[13] отлетел… А теперь я пойду к огню и велю тебе котелок принесть. Минаев варит плохо, но fames est optimus coquus[14], с голоду и подгорелая каша вкусна.
Вечерами, лежа на попонах у костра, кирасиры вспоминали походы, гадали, не будет ли скоро еще войны, не убежит ли снова Наполеон с острова? Один из ефрейторов рассказывал, как перед самым походом отводил двух лучших жеребцов из нынешнего брака на новый конный завод под Новгородом в военное поселение и что там видел. Мужиков-староверов бреют насильно в солдаты, а гренадеров к ним в избы селят и заставляют по крестьянству помогать. Народ ропщет и бунтует, а начальство его порет смертно и в свою дугу гнет. Другой кирасир сказал, что от денщика барона Пилара слышал, будто под Митавой и под Ригой по приказу царя всех крепостных освободили, да без надела землей. Оно все то же выходит — на своей бывшей земле батрачить. Толковали еще про открывшееся недавно в штабе дивизии мошенство. Чиновник и писарь за взятки прибавляли год и два службы, отчего рядовые выходили раньше в отставку, а вахмистров и унтеров представляли к экзамену в офицеры.
— Что ж им за то будет, Александр Герасимыч? — спросил один из кирасир.
— В каторгу засудят, — ответил Красовский. — Каб делали с умом да изредка, а то жадность обуяла. И пошел слух по дивизии. Им туда и дорога, а тех, с кого деньги, на старость сбереженные, сдернули, коли к ответу потянут, — вот кого жалко.
Нередко на бивак прибегали мальчишки из ближних деревень. Кирасиры шутили с ними, потчевали кашей. Охотнее всех возился с ребятами Алевчук. Он ловко делал дудочки из камыша, который срезал по дороге на болотах и возил с собой для такой надобности. Рассказывал смешные или страшные сказки, загадывал загадки, которых знал великое множество.
— Кто знает, что такое: «Вокруг поля обведу, вокруг головы не обвесть»? — спрашивал Алевчук хрипловатым голосом.
И расплывался в улыбке, если детский голос отвечал:
— То, верно, глаза, дяденька.
— А что ж такое: «Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает»?
— Лук! — кричали сразу несколько ребят.
— Ну, ладно. То все просто, а кто же таков: «Встанет — выше коня, ляжет — ниже кота»? — сыпал Алевчук.
Наслушавшись таких разговоров, Иванов как-то спросил:
— Видать, ты мальчишек любишь. Чего же не женился?
— Солдат разве сдуру то сделать может, — ответил Алевчук. — Вот отлупят фухтелями за какую малость да заперхаешь кровью, как я, так что со вдовой да с детьми станется? А и здоров, так сладкое ли солдатовым чадам житье? Сначала бедность, а потом мальчишки — в кантонисты, а девки куда?.. Еще не хуже ль?..
Часто перед сном конногвардейцы пели, сидя около глохнувшего костра. Иногда песни, что помнили с деревенских молодых лет, но чаще солдатские, которые рассказывали про походы, про небывалое счастье, как свиделся ненароком со своими кровными, про любовь с красной девушкой. Иванов тоже теперь запел. Он знал немало песен, но кирасирам особенно нравилась та, которой выучился в Стрельне, у бывшего улана, вахмистра Елизарова. Начиналась она так:
Потом шел рассказ, как заехали во слободку, а в ней во вдовий домик и просятся на постой. Когда же взошли в дом:
Расспросив вдову, давно ли она вдовеет, «большой гость» предлагает ей подойти ближе и снять с него кивер.
Тут вдова, узнав гостя, будит детей:
Но сыскавшийся супруг останавливает ее:
Почти каждый вечер кирасиры просили Иванова повторить эту песню и скоро уже подтягивали ему. Слушая, Красовский, по обыкновению, бормотал непонятное: «Omne ignatum pro magnifico»[15].
День за днем команда приближалась к родным местам Иванова. Уже миновали Тулу, до Богородицка осталось два перехода, а там и повертка на Епифань. Сколько раз слышал названия деревень, мимо которых теперь проезжали, когда отец зимой возил барскую кладь в Москву и, возвратясь, рассказывал, где ночевали, где застала обоз метель, где повстречали попа и что из того вышло. И сам он рекрутом с тоской в душе уходил от дому по этой дороге. А сейчас в сотый раз задавал себе вопрос: велено ли Красовскому отпустить его на побывку? Но унтер молчал, и, выступая с последнего привала перед Богородицком, Иванов решился к нему подъехать.
— Дозвольте спросить, не наказывал ли чего господин вахмистр насчет меня?
— Полагает тебя Елизаров на побывку отпустить при обратном пути, — ответил Красовский. — Нынче мы маршем идем и коня ты старого неминуче загонишь, если туда тридцать верст проскачешь да обратно еще более, нас догонявши. А главное, тебе без письменного вида ехать боязно в здешних людных местах. Не ровен час встречная команда остановит или помещик, былой вояка, заарестует за беглого. Обратно же мы с табуном пойдем куда тише, чтобы коньков сберечь. Поедешь тогда с поручичьим письменным разрешением на свежем коне. Самого сильного тебе подберем, чтобы мог побыть в отлучке дня три.
Иванов обрадовался и одновременно опечалился такому ответу — еще на два месяца оттяжка. То, что кругом стлались далеко видные просторы полей, так похожие на лежавшие вокруг родной Козловки, будоражило воспоминания, которые десять лет упорно гнал. Такие знакомые одежды и говор встречных крестьян напоминали детство. Даже лица многих казались схожими то на одного, то на другого односельца.
На ночлеге под Богородицком Иванов в первый раз за этот поход долго не мог уснуть. Все представлялось, как вот отсюда, сейчас выехал бы в Козловку. По холодку шажком, беззвучно по глубокой уже пыли несет его конь знакомым большаком на Скопин, минуя спящие без единого огонька деревни. На синем рассвете завидится на высоком холме Епифанский собор, окруженный крышами каменных палат. Вот уже открылись густые яблоневые сады родной деревни и отдельно от них — кучные ветлы над барской сажалкой… Вот и повертка с большака… Выехал на площадь перед беленой церковкой. В оба конца уходит широкая улица. Налево третья изба отцовская, дедовская… Низкие темные двери, а за ними в теплом, чуть кисловатом хлебно-солодовом запахе родного жилья спят отец с матерью и не чуют близкой встречи…
Ну, ничего! Будет все так, наверное теперь будет. Недолго осталось ждать такой счастливой ночи…
Для следующего ночлега разбили лагерь у села Михайловского на берегу неширокой Непрядвы. Поевши, кто разлегся с трубкой у огня, кто забрался спать в палатку, кто чинил одежду или конское снаряжение. Оглядев лагерь, Красовский накинул шинель и сказал, что отлучится часа на два.
За лагерем он увидел сидевшего над речкой Иванова. Охватив колени руками, ефрейтор смотрел на черные, недавно вспаханные поля, на чуть видную деревеньку и лес за нею, озаренные вечерним солнцем.
— Все тоскуешь, милок? — спросил Красовский.
— Никак нет, господин унтер-офицер! — вскочил на ноги Иванов, подумавший, что начальник искал его. — Чего прикажете?
— Приказов пока нету, а чем сидеть, пройдемся малость. Тут место недалече знаменитое, и дотемна еще время хватит.
— Не Куликово ли поле?
— Знаешь? Ходил когда?
— Был раз мальчишкой… Браток у меня грудью недужал, так матушка туда молиться ходила, нас обоих брала. По осени в годовщину, как татар здесь разбили, Дмитриевская суббота зовется, крестный ход на самое поле снаряжается. Панафиду по убиенным отпоют, потом молебен. Вот и с нашей Козловки поп с причтом да иконы две носили. Целую пятницу шли, ночевали вон там, кажись в Буйцах, — указал Иванов на деревеньку.
— Поправился браток?
— Помер на ближнюю весну. Трое нас братьев осталось. Не знаю, живы ли…
— Ужо узнаешь, — уверил Красовский.
Они пошли в затылок по узкой тропке, приметно вившейся над опушенными нежной листвой прибрежными ивовыми кустами. Потом Красовский свернул в поле, зашагал вдоль оврага.
— Видать, вам тут не впервой, — заметил ефрейтор.
— Четвертый раз хожу…
— Отец сказывал, — вспомнил Иванов, — будто мужики здешние много железа ржавого выпахивают — сабли, топоры, шапки железные, рубахи кольчатые. А другой раз и серебро да золото — перстеньки, пряжки. Видать, хоронены были неглубоко.
— Татар так зарывали, чтобы только волки не растаскивали, — ответил Красовский, — и коль пашут тут четыреста пятьдесят лет, то насыпи сровняли, камни повыбрали, вглубь соха пошла. А про русских писано, что их по чести погребали. Князь Дмитрий Иванович для того восемь ден с войском тут стоял. Наших будто пятьдесят тысяч побито, а татар вдвое боле, да еще коней сколько… Ты под Бородином-то побывал?..
— Как же, с Екатеринославским полком не раз в атаку скакали, — отозвался ефрейтор.
— Вроде Бородина и тут было, — продолжал Красовский. — Не малое решалось: быть ли Руси дальше под татарами. Три поля таких: здешнее, Полтавское да Бородинское. Бывал ли в Полтаве?
— Никак нет.
— И мне не довелось. А сюда каждый год хожу. Первый раз верхом приехал, а после пешком стал, будто на богомолье.
Они прошли еще версты две полем, оставили в стороне деревню. Унтер молчал. Иванов шел следом. Солнце спустилось к горизонту, тень легла в овраги, два из которых пересекли, перепрыгивая через бежавшие в них ручьи. Наконец Красовский остановился и огляделся.
— Вон там русские полки переправлялись, — указал он на обозначенный кустами берег Непрядвы. — Всю ночь шли — пехота по мостам, конница бродами. Лежал густой туман, и велено было, чтоб тихо. А татары вон где лагерем уже стояли, — махнул Красовский на холмы, замыкавшие равнину с другой стороны. Там на вечернем небе розовел высокий деревянный крест. — Перейдя реку, наши полки построились фронтом к врагу и, когда туман рассеялся, молча, медленно пошли вперед, — рассказывал унтер. — А оттуда, так же раскинув фронт, шли навстречу татары. Так и сходились два войска во всю ширину поля. Сколько тут?.. Верст десять? Строились плечом к плечу, потому что собралось до ста тысяч русских ратников. Московские и ярославские дружины, суздальские и белозерские, владимирские и костромские, муромские и углицкие — всех не запомнишь, но пол-Руси тут было…
— А вы откуда же все так узнали, Александр Герасимыч? — не утерпел Иванов.
— Из книг, братец. В нонешнем году вышла «История» знаменитого сочинителя Карамзина про то самое время. В ней прописано, как тут было. Ты грамотный ли?
— Никак нет.
— Жаль. Будет малейший случай — выучись. На любом деле от того польза. А книгу читать станешь, то и забудешь, чем печалился…
Красовский снял бескозырку и перекрестился на силуэт креста над курганом.
— Знаешь ли, зачем сюда каждый год хожу? — спросил он.
— Чтоб убиенных помянуть?
— Справедливо. Но еще и за другим. — Унтер повернулся к спутнику: — Насмотришься за год такого, отчего на душе черно да мерзко, а придешь на сие поле, где люди за родину смертно бились, и подумаешь, глядя на землю эту и на крест, что над могилами их поставлен, — значит, сыскивалась в народе нашем сила, когда доводили его до крайности… Авось и впереди в России что хорошее будет, не одна мука да слезы. Понял ли?
— Не больно… — откровенно отозвался Иванов.
— Ну, ничего… Пойдем-ка, дотемна овраги перейти надобно.
5
Дорога, по которой двигалась команда, становилась все оживленней. Табуны коней и гурты убойного скота, телеги с купеческими товарами и фуры с помещичьими перинами с рассвета дотемна тянулись в одном направлении с конногвардейцами. На третий день после ночевки близ Куликова поля к полудню вдали на пригорке показалась Лебедянь. Остановив команду перед Пушкарской слободкой, Красовский приказал ставить палатки в поле у дороги.
До открытия ярмарки оставалась неделя, и, отправившись вечером в город, Красовский узнал в «Парижской гостинице», где всегда приставал их поручик, что начальства еще нет. За тем же походом сторговал бревна для коновязи, жерди и солому для навеса. Назавтра он наблюдал за устройством лагеря, а потом разрешил половине кирасир ежедневно отлучаться в город, наказавши перед уходом показываться ему, раз на ярмарку наезжает немало офицеров. Еще строже велел Красовский смотреть в оба тем, кто по пять человек оставался дневалить у коновязей. Сюда всяких воров собирается тьма, — того и гляди, сведут из-под носу лучших коней.
Иванов уходил в город во вторую очередь. Одетый и выбритый по форме, он утром явился унтеру, но услышал:
— Жди малость, вместе пойдем. Я тут все знаю и тебе покажу.
Получить такой приказ было лестно. Ровно строгий ко всем по службе, Красовский явно расположился к ефрейтору. Может, Елизаров наказал поберечь замученного бароном человека, а может, самому пришелся по душе.
Когда шагали по улице слободы, а потом мимо кладбища в горку к заставе, Красовский рассказал, что Лебедянь, подобно всем здешним городам, строилась как крепость-острог для охраны тогдашних границ от татар. Потому и на холме стоит над Доном, окруженная слободами Казачьей, Стрелецкой, Пушкарской, в которых жили ратные люди. Расположен город средь богатого черноземного края, меж губерний Тульской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, и потому удобен для больших ярмарок, бывающих здесь четыре раза в год. Лебедянская оборотами уступает только Нижегородской-Макарьевской и Курской коренной ярмаркам, а самый большой съезд здесь на весеннюю Троицкую ярмарку, которую открывают 18 мая.
Прошли по единственной мощеной улице, что тянулась от собора. Улица звалась Дворянской, но на ней стояли больше купеческие каменные дома с крепкими амбарами и кладовыми во дворах. За растворенными воротами суетились приказчики у подвод с товарами. Из двух трактиров и «Парижской гостиницы» слышались раскатистые господские голоса и звон посуды. Не раз встречались офицеры, которым конногвардейцы снимали фуражки и делали фрунт.
— Другой раз боковыми улицами ходи, — сказал Красовский. — Ноне для первого раза здесь повел.
Дошли до торговой площади. Она была очень велика и вся застроена каменными и деревянными лавками. За ними виднелись купола и белые стены монастыря. Главная улица лавок прямо за Дворянской, как бы ее продолжение, звалась Панскими рядами. Тут все было нарядно, горело на солнце свежей краской вывесок и аккуратных навесов, свежими тесовыми мостками-тротуарами. В лавках увидели горы товаров. Разноязычные торговцы — русские, немцы, армяне, бухарцы — вынимали из ящиков и мешков и раскладывали на тесовых полках и столах штуки шелков и сукон, шкурки сафьяна и ковры, хрусталь и фарфор, пистолеты и седла. В ближних проулках, куда также вели мостки, плотники достраивали два балагана: один под парусиновой круглой кровлей, другой целиком дощатый — театры, где будут петь и представлять чего-то для господ, как объяснил Красовский. Сюда, в Панские ряды, когда откроется торговля, простой народ пускать не будут. Ему на потребу по сторонам Панских шли Бабьи ряды с лавчонками попроще и без мостков для покупателей. Там тоже раскладывали и развешивали товары. И по ним прошлись гвардейцы, поглядывая на кожи, глиняную посуду, косы, топоры, сбрую, разноцветные набойки и ситцы. Наконец ближе к Дону увидели огромную пустую площадь, на которой пойдет главный конный торг.
Через нее дошли до берега, откуда открывался широкий вид на луговую сторону Дона, на Казачью слободу и лежащее перед ней в свежей зелени широкое Попово поле, где каждый год устраивают скачки с призами и большими денежными ставками.
На обратном пути Красовский наказал ефрейтору подождать около крыльца казенного места, где за окнами горбились над бумагами писцы. Здесь рядом с Ивановым топтались несколько мещан, видно просители. Вскоре унтер вышел, провожаемый толстомордым детиной в форменном зеленом фраке. Отмахнувшись от сунувшихся к нему мещан и мельком взглянув на Иванова, канцелярист истово расцеловался с Красовским.
Потом завернули в стоявший за одной из церквей длинный деревянный дом, половина окон которого была забрана досками и закрашена в цвет стен. У крыльца Красовский достал из кармана тетрадку вроде той, в которую вносил дорожные заметки.
— Вирши лучшие другу в подарок списал, — пояснил он ефрейтору.
И отсюда вышел очень скоро, сопровождаемый тощим человеком в подряснике, с жидкими волосами, заплетенными косицей. Радостно и любовно засматривая в лицо унтера, он размахивал давешней тетрадкой, приговаривая:
— За Мерзлякова да за Жуковского особливый тебе поклон. — А затем обратился к ефрейтору: — Милости прошу, господин кавалер, гостевать с ментором своим.
Когда пошли дальше, Красовский пояснил:
— Други мои здешние — с семинарских времен сотоварищ, на одной скамье учены, одной лозой пороты, а ныне дьякон вдовый, да сын его, канцелярист, недавно женатый и отделенный. Упредил их, что как вахмистр приедет, то свиданию нашему время наступит. Поговорим, виршами и пением утешимся да и пропустим малость. In vino Veritas[16]. Ужо, коли хочешь, возьму когда в сию компанию.
— Я вина вовсе не принимаю, Александр Герасимыч.
— И малой толики? Rara avis[17] — кирасир непьющий.
Гнездовский с Елизаровым приехали вечером. Поручик встал в гостинице, а вахмистр пришел в команду, поговорил с Красовским, принял от него людей и лошадей и завалился спать.
Утром, когда Иванов, выкупав коня и сам искупавшись, возвратился в лагерь, Красовский собрался идти в город. Он вылез из палатки в новом белоснежном колете, сверкая галунами на обшлагах и воротнике, с длинным рядом крестов и медалей на груди, неся в одной руке бескозырку, в которой лежали трубка, кисет, кошелек и синий шелковый фуляр, а другой поддерживая палаш в отодранных до ослепительного блеска ножнах.
— Каким вы женихом нонче! — восхитился Иванов.
— Отбываю, братец, от казенных двуногих и четвероногих, чтобы вкусить беседы и пития в округе, мне дружеском. Если что случится, то обрящете меня в дому, где дьякон Филофей квартирует, — сказал унтер и, распихав по карманам в фалдах колета содержимое бескозырки, надел ее набекрень, подхватил палаш и молодцевато зашагал по дороге в город.
В этот день Елизаров осмотрел всех лошадей на выводке и после нее подтвердил приказ Красовского насчет усиленных дневальств у коновязей. Добавил, что вот-вот начнут пригонять заводских «неуков», а своих лошадей продавать. Потом кликнул к себе Иванова и сказал:
— А твоя, Александра, и верно вся стать расправилась. Ровно живой воды нахлебался. — Вахмистр отечески ударил Иванова по груди. — И Красовский тебя одобряет. Так ведь я-то знал, кого беру… Скоро теперь, братец, с тобой поквитаюсь…
— Покорно благодарю, Семен Елизарыч! — радостно ответил ефрейтор.
Задавши корм своему рыжему, Иванов гадал, в чьи-то руки достанется этот красивый и послушный конь, к которому успел привыкнуть. Да стоит ли про то печалиться, когда в ближние дни здесь, в Лебедяни, пойдет у господ игра и на карту поставят не одну крепостную семью… Вспомнился Иванову барин, отставной капитан Иван Евплыч Карбовский, что сдал его в солдаты не в зачет, когда не было положено с его вотчины рекрута. Оторвал от родных, от невесты, когда не ждали, только потому, сказывали дворовые, что продул соседу в карты сто рублей и надобно было рассчитываться, слово дворянина, вишь, дал. А рекрутская квитанция — те же деньги…
Так надо ли тому барину шапку сымать, встретивши на ярмарке, куда каждый год ездит? Может, помер уже господин Карбовский? И десять лет назад у него от обжорства да перепоя кровь в голову кидалась, отчего ревел по-бычьи и епифанский цирюльник целый ковшик ее отворял, чтоб прочухался… Да как не поздороваться, увидавши, когда про всех родных расспросить возможно… А не встречу, то все одно вскорости узнаю про них. По вахмистровым нонешним словам видать, что будет ужо такой праздник…
В эту ночь была очередь Иванова стоять старшим над дневальными около коней. Перед тем как залечь спать, Елизаров сказал ефрейтору:
— Ты, братец, коли Красовский не в себе придет, помоги ему в палатку забраться да особо горланить не давай. Только раз на двое суток отпросился, то раньше навряд покажется. — Вахмистр покрутил головой: — Не усмотрел я, что с палашом пошел.
— Потеряет, опасаетесь?
— Того не думаю, а не рубанул бы кого спьяна. Да авось сотоварищи-питухи свяжут, ежели что…
Елизаров ошибся. Унтер возвратился в лагерь на рассвете. Прогоняя утреннюю дрему, Иванов обходил коновязи, когда услышал далекую, еще на улице слободки, твердую строевую поступь, сопровождаемую лаем нескольких шавок. Потом к шагам примешался звон шпор и колец палашных ножен.
«Трезвый идет», — решил ефрейтор.
Но когда вышел на линейку к палаткам, то с удивлением увидел, что Красовский марширует мимо повертки с большака, где кирасиры настлали через канаву мосток для проводки коней.
— Александр Герасимыч! — окликнул негромко ефрейтор.
Красовский остановился, повернулся вполоборота и бессмысленными, все время мигающими глазами с минуту смотрел на лагерь. Потом зашагал прямо, чудом прошел по самому краю мостка и тем же деревянным шагом подступил вплотную к ефрейтору.
— Всех перепил и перепу… передне… путировал, — вымолвил он с натугой, чужими губами. — Говорили — ночуй. А чего я там не видал? Пух да пауки… — Он оперся на рукоять палаша и продолжал, обдавая Иванова перегаром: — Дьякон хоть хил, но последний мне суфлерствовал Мерзлякова своего, а копиист всехвальный давно под столом… Однако нет пиита славней Державина!..
А нам что, окромя памяти? А?.. Показывай дорогу. Гуси в глазах крылами машут…
Иванов взял унтера за локоть и повел к палатке. Тот шел послушно и молча, но у самого входа вдруг уперся рукой в переднюю палку-подпорку и сказал, тараща осоловелые глаза:
— Кабы Даша за стеной пела, которая нонче там водворилась, то до завтра сидел бы, право…
Ефрейтор помог Красовскому выпростать из тугих петель медные пуговки колета, расстегнул поясной ремень палаша, снял бескозырку, сунул ее в непослушные пальцы и сам не свой смотрел, как, согнувшись, исчезла за парусиной широкая белая спина.
— Даша, — шептал Иванов. — Кого помянул?! Дашенька, свет мой…
Вот как бывает: гонит и гонит от себя человек тяжкое воспоминание, обозначенное дорогим когда-то именем, а оно вот — чужими устами произнесенное, прямо в сердце кровью ударит, и уже снова его не заставишь уйти, тут оно, жжет, как уголь раздутый…
Ярмарка шумела так, даже в лагере конногвардейцев под горой целые дни слышался ее немолчный гул: тысячеголосо ржали кони, мычали быки и коровы, кричали разносчики и пьяные гуляки, били барабаны и ревели трубы в балаганах, лаяли растревоженные городские и пришедшие со стадами собаки. Мимо, по дороге, ехали в оба конца господские экипажи и телеги, верховые, шли пешеходы. Прибыла первая партия из двадцати трехлеток с Беловодских заводов. Одного за другим продавали старых коней. К удовольствию Иванова, его рыжий остался в десятке задержанных для разъездов и привоза фуража. По два раза в день в лагере показывался поручик Гнездовский то один, то с покупателями, приказывал выводить старых и молодых коней, смотрел их под седлом, чаще всего искусного наездника Красовского. Заводские трехлетки — не степные неуки, которых надо обламывать, чтобы под всадником не бесились. Эти хоть не знают кавалерийской выучки, но под верхом ходили спокойно.
Боясь конокрадов, поручик навел еще большую строгость: разрешил отпускать в город только треть людей, приказал, кроме дневальных, днем и ночью обходить лагерь вооруженным рундом, а к темноте всем быть на поверке. Несмотря на это, многие кирасиры свели в слободках знакомства, прознали, в каких кабаках водка крепче и закуска дешевле, где живут веселые бабы. Первый кутила Алевчук, спавший в одной палатке с Ивановым, не раз звал его к какой-то Софронихе, но ефрейтор отшучивался. Не тянуло его и на ярмарку. Чего там не видал? Господ? Толкотни? На Петрушку деревянного глядеть за грош? Или как собачки на ковре в сарафанах пляшут? Вот кабы надеялся односельчан встретить, то другое дело… Но крестьянину весной за сто верст на ярмарку ездить не след.
Единственное, что привлекало Иванова, был торг конями. Два раза ходил любоваться на верховых и рысистых красавцев, приведенных заводчиками себе на прибыль и на славу. Однажды пошел с кирасирами за Дон, на Попово поле, где табунщики объезжали молодняк, выбранный покупателями. Сходил раз и зарекся. Дикого конька, испуганного, дрожащего, упирающегося из всех сил, притащили на свободное место арканами два верховых табунщика. Еще трое ловко спутали ему ноги, повалили, надели недоуздок и оседлали грузом из двух мешков с песком, пуда по два в каждом. Потом распутали ноги и погнали на корде. Двое держали ременную корду, а двое бежали сзади, настегивали, чтобы шибко шел кругом, не забирал в стороны. Через час мокрого, дрожащего, обессиленного коня расседлали и отвели в загон. А других таких же неуков в это время гоняли по второму, третьему разу на корде под тем же грузом. При следующем приеме выездки, происходившем тут же, на оседланного уже обычным седлом коня махом прыгал пятипудовый табунщик и сразу начинал молотить по обоим крупам нагайкой. Скоро бешено несущийся конь пропадал вдали, чтобы через часа два возвратиться — весь бело-желтый от мыла, еле переставляя ноги, покорный, сломленный. И такая гонка под всадником тоже возобновлялась раза три, на чем выездка считалась законченной.
Выбравшись из толпы, Иванов пошел в лагерь. Нет, это зрелище не по нем. Хорошо знал, что половина этих коней уже погублена, разбита на ноги, запалена, и горе тому, кто их купит. А если и выдержит здоровье, то как не возненавидеть коню людей?..
Часто в свободные часы ефрейтор сиживал на лавке, сделанной кирасирами около лагеря. Гнал от себя мысли про будущую полковую жизнь, которая, как ни кинь, близится. Грелся на солнце да глазел на дорогу, всматриваясь в прохожих и проезжих. Вдруг кто из Козловки покажется? Здесь, где потише, верней узнаешь.
Однажды, уходя в город, к нему подсел Красовский.
— Все домовничаешь? Может, денег нету? — спросил он. — Так будто Елизаров говорил…
— Есть, Александр Герасимыч, да своим семейным побольше хочу отвезть, — ответил Иванов.
— Так у меня возьми на гулянку, хоть рублей пять, в Петербурге с жалованья отдашь. Сходи погуляй, девку сыщи, чтобы развеселила. А то со мной идем. Дружки мои рады будут, и соседку тамошнюю, ежели повезет, увидишь, собой прекрасную и поет как ангел, experto credite[18] — я в сем толк разумею…
— Покорно благодарю, мне и тут хорошо, — отвечал Иванов. — А кабаки мне, право, без вкуса и на Попово поле глядеть не хочу.
— На что там глядеть? — кивнул Красовский. — Чисто солдат коверкают, как на себе испытали. Не выездка вовсе, а плохая приездка. Такие кони потом наездников неопытных бьют да кусают… Ну ладно, мудрец, прощай до утра…
Однако ефрейтору в тот же день довелось снова увидеть Красовского. Вскоре по его уходе в лагерь приехал поручик, и тотчас Иванова кликнул вахмистр:
— Знаешь ли дом, где Красовский наш в городе куролесит?
— Было однова, что при мне заходил, только не знаю, там ли нонче, — нашелся сказать Иванов.
— Ступай, сыщи его да вели к их высокоблагородью в гостиницу явиться. Хотят, коня одного чтоб сегодня же спробовал.
Дом, где жил вдовый дьякон, нашел сразу, но на двери висел замок. Заглянул в окно — неприбранная комната, на столе ковшик, куски хлеба, книги. На лавке — подушка и войлочек. Когда стоял в раздумье, откуда-то донесся сильный женский голос, певший под звуки фортепьяно. Такую музыку ефрейтор не раз слыхивал из офицерских квартир в казармах.
«В задних покоях поет, — решил Иванов. — Может, и унтер там. Да как к ним попасть?»
В садовом заборе, что примыкал к дому, виднелась калитка. Ефрейтор взялся за ее железную щеколду, и тотчас совсем близко раздалось грозное ворчание собаки и мужской голос спросил:
— Чего, служба, надобно?
Сквозь круглый глазок калитки на Иванова смотрел кто-то, и он ответил:
— За унтером Красовским начальство послало. Не тут ли?
Калитка открылась. Дюжий парень в накинутом на плечо армяке держал за ошейник большого мохнатого пса, который при виде Иванова разом успокоился и завилял хвостом.
— Ступай за угол, под окошком его кликни, — сказал парень.
Перед ефрейтором лежал запущенный сад. Вдоль глухой боковой стены дома шла вглубь дорожка. Иванов по ней завернул за угол и увидел садовый фасад в шесть окон. Против него за круглой клумбой серела старая скамейка. Здесь голос звучал уже в полную силу, и красота его повелительно остановила Иванова.
Все окна, выходившие в сад, были задернуты кисейными занавесками, кроме одного, у которого профилем к ефрейтору сидел Красовский, держа в руке потухшую трубку. По выражению лица с закрытыми глазами было видно, что и он благоговейно слушает. Низкий, легко и плавно лившийся голос возносил хвалу и восторженно ликовал на каком-то звучном, неизвестном Иванову языке. Но вдруг пение и музыка оборвались.
— Александр Герасимович, к вам кавалер пришел, — сказала невидимая ефрейтору женщина.
Красовский, открыв глаза, взглянул в сад:
— Ну, чего, Иванов?
— Пусть сюда идет, — приказала женщина. — Угостим его.
Теперь ефрейтор сквозь занавески смутно увидел лицо, обрамленное темными локонами, светло-лиловое платье и поклонился в ту сторону.
— Покорно благодарю, сударыня, — сказал он. — Да господин поручик наказали Александру Герасимычу сряду к себе прийти.
— А, чтоб его! — окончательно очнулся Красовский. — Иду сейчас. Куда? В трактир?
Когда шли рядом по улице, унтер спросил:
— Слышал?
— Как же, дохнуть боялся. А на чьем языке оне пели?
— По-итальянски.
— Молитву?
— Почувствовал? — обрадованно воскликнул Красовский. — «Аве Мария» зовется, гимн духовный. Великий немецкий музыкант сочинил, Бахом звался… Понимаешь теперь, как можно часами такое пение слушать и про питье да еду забыть?..
— Где же выучились? Или не русские? — спросил Иванов.
— Землячка твоя, под Крапивной родилась. Ты ротмистра Пашкова в полку застал?
— Как же. Они в отставку вскоре после войны пошли.
— Вот-вот. За первым мирным ремонтом мы с ним сюда ездили. А дальше, брат, не стану сейчас, на ходу, рассказывать, но как от поручика освобожусь да в команду приду…
Но Красовский в этот вечер возвратился поздно и не видел ефрейтора. Зато назавтра, оставшись в команде за Елизарова, уехавшего куда-то с ремонтером, унтер вечером присел к Иванову на лавочку перед дорогой и без вопроса начал такой рассказ:
— Так вот, на обратном пути в Орле ротмистр Пашков, из коляски неловко выпрыгнув, ногу сильно подвихнул, на их общую судьбу. А надо тебе знать, что он итальянской и французской речи обучен, сам знатный певун и у лучших музыкантов уроки брал. С больной ногой в постеле лежа, сначала красавицу свою в окошке соседнего дома увидел. А как пение ее, все невидимым соседом, услышал, то и вовсе голову потерял. Потом, с палочкой в первый раз вышедши, в театре тамошнем, где оперу давали, ее с мужем встретил. Театр графа Каменского очень плохой, только с горя посещать можно. Крепостные актеры безголосые, оркестр уши дерет. Но на другое утро из окошка супротивного все напевы услышал, в точности повторенные, ибо слух у певицы совершенный. Amantes amentes[19] в Древнем Риме говорили. Как он ей из своего окошка вторить стал, то сошли оба с ума. А муж у нее — судейский чиновник, на взятки жил и пьяница. Вот ротмистр, все разузнавши, призвал его и прямо: «Отступись от жены, я ее увезу навсегда, и ты ее не поминай. Сколько возьмешь?» Тот сряду говорит — десять тысяч. Пашков поторговался для виду. Сошлись на восьми. Заплатил и расписку взял, будто получил от него муженек взаймы пять тысяч. Так другой чиновник ротмистра научил, чтобы супругу нежному руки связать. И отправились мы все в Петербург. Я все так знаю потому, что, можно сказать, свидетелем был — по заводам с ремонтером ездил, а Елизаров команду вел. От Орла и я с вещами ротмистра уже сзади трюхал, раз Дарья Михайловна в костюме казачка дворового с ним вперед понеслась… А к пению я с детства привержен, в семинарском хоре обучен, так что, когда она русское певала, и я иногда вторил… Ну, а в Петербурге Пашков рассчитался за ремонт, вышел в отставку полковником, и сряду в Италию укатили. Думал, и не свидимся боле, а в сем феврале в Петербурге меня кликнули. Оказывается, дядя полковников богатый здесь помер и тетка отписала, чтобы ехал, его наследником делает, раз сама больна, на ладан дышит. А у него-то, видно, от заграничных музыкальных учителей и прочего в кармане стало не густо. Отец же, хотя помещик богатейший, но сыном недоволен как раз за Дашу и ничего не дает. Поехали они в Тамбов к тетке. А она меж тем так поздоровела, что сама конным заводом правит, приказчиков за бороды дерет и сюда на торг собралась. Вот и попал мой полковник впросак. Тетка-вдовица требует, чтобы при ней для форсу в мундире с орденами все время состоял, и наследство обещает, а он по певунье своей тоскует и между теткой и ею мечется…
— А что ж дальше будет? — спросил Иванов.
— Кто же скажет? — пожал плечами Красовский. — По-моему, плюнуть бы на тетку должен… Да ведь деньги большие…
— А стража от кого же ее бережет? От барыни? От тетки той?
— Aurea dicta![20] Я и забыл сказать, что еще супруг Дашин им в письмах грозится с дружками нагрянуть — жену отбивать, раз по бумагам его законная, а расписка долговая вгорячах без должных свидетелей писана. Только я того не думаю, раз за три года, сказывают, вовсе спился.
— А они каковы к мужу своему?
— Лучше в омут, говорит, чем с ним на час. Она-то, его подлость знаючи, и боится, не ворвался б с головорезами, здесь же, на ярмарке, нанятыми. Подхватят ее, да и выкупай снова полковник. Для того и поставили караульщика. А тебя как пес встретил?
— Будто своего.
— Колет белый да конем, как я, пахнешь, вот и поверил, раз я там свой человек и каждый раз его приласкиваю.
В конце второй ярмарочной недели начались скачки на Поповом поле, и Красовский позвал Иванова пойти посмотреть.
На берегу Дона собралась большая толпа, но рослые гвардейцы хорошо видели через головы ранее пришедших зрителей.
На том, низком берегу выделялся широкий круг в версту длиной, с которого был снят дерн и земля посыпана желтым песком. У круга стояла сколоченная из теса открытая беседка с полотняным навесом. На ней разместились военные и статские господа и нарядные барыни. По сторонам беседки стояли десятки колясок, в них восседали целые барские семьи. Перед беседкой конюхи водили лошадей, на которых уже сидели наездники-подростки в разноцветных рубахах.
На углу беседки ударил сверкнувший на солнце медный колокол. Между двумя мачтами с флагами перед беседкой начали выстраиваться, равняясь, пять всадников.
— К самому времени пришли, — сказал Красовский. — Видишь, посередке в кресле в перьях толстуха? Она и есть тетка полковника, и он около ней вьется. Вон в нашем-то мундире…
Второй удар колокола — и всадники понеслись по кругу.
— Прибавь, соловая!
— Зелена рубаха, не сдавай!
— Дай, дай, вороненькая! — кричали кругом.
— Ох, мать честная, хорошо рыжая идет! — охал Красовский.
На третьем заезде из всех зрителей не кричал, кажется, один Иванов. Он не отрываясь смотрел на группу господ не из самых важных, стоявших перед беседкой. Там, среди военных и статских, толкался высокий барин с большим брюхом, в сером широком сюртуке и зеленом картузе. Хотя черт лица было не разобрать, но ефрейтор не сомневался, что узнал эту красную рожу, эти неуклюжие руки и ноги… Жив, значит! Ни водка, ни обжорство, ни бабы, ничто его не берет…
Сказав Красовскому, что пройдется по рядам, выбрался из толпы. Нужно было двигаться, остаться одному. От вида этого орущего обжоры разом встали в памяти места и люди… Защемило тоской и тревогой: как кого найдет? И найдет ли?.. Скорей сыскать себе дело. Хоть поехать с Минаевым за овсом, наломать руки и спину тяжелыми кулями…
Но, когда пришел в комнату, Минаев уже возвратился из лабаза, и овес перенесли в его палатку. Лагерь млел под полуденным солнцем, и, видно, кроме дневальных, все не ушедшие в город спали. Но нет! Из вахмистерской палатки слышалось щелканье счетов, потом Елизаров высунулся с очками на носу и окликнул:
— Красовского не видал?
— Давеча на скачку вместе смотрели, господин вахмистр. Там его и оставил, — отрапортовал Иванов.
— Как после обеда отдохнешь, то сыщи его, вели к поручику под вечер явиться. Себе теперь парадира выбирает, посмотреть на аллюрах под Красовским хочет.
Поел, прилег в палатке. Когда жара начала спадать, натянул снова колет и пошел в город. Из-за Дона надвигалась черная туча. И слава богу — воздух освежит, пыль прибьет, а от коней мух и слепней отгонит. Скачки, понятно, уже кончились, народ разошелся. Повернул к дому Филофея. На этот раз дьякон был у себя. В порыжелом подряснике, босиком подметал веником крыльцо.
— Ступай, кавалер, к калитке, доложись караульному. От меня ход есть, да оттеда заперт, — сказал он. — Бегом беги, вот-вот дождь польет. Эка темень идет, господи!
У калитки и дальше все было как в прошлый раз. Но перед окном Иванов увидел Красовского и барыню, сидевших по сторонам столика, уставясь на карты, которые она перекладывала. Видно, гадала, что-то приговаривая.
Тонкий профиль, бледную щеку, полузакрытую каштановыми локонами, Иванов видел только минуту. Почувствовала его взгляд и оборотилась к окну. Глаза оказались серо-голубые, с очень пристальным взглядом. Вслед за ней повернулся и Красовский.
— Чего тебе? — спросил он. — Опять вахмистр послал?
Иванов передал поручение, и в это время ему на плечи и голову, с которой скинул фуражку, упали первые капли дождя.
— Бегите за дом, там войдете, — махнула рукой хозяйка вдоль фасада.
На крылечке, расположенном на торцовой стороне дома, его встретил Красовский.
— Дарья Михайловна тебя приглашает, — сказал он. — Да не бойся, добрей ее человека не видывал.
Когда коридором дошли до большой комнаты, хозяйка зажигала канделябр с восковыми свечами. За окном шумел дождь.
— Не промокли? — спросила она Иванова, заботливым движением тронув его плечо и рукав колета.
— Никак нет, — ответил ефрейтор, смущенно отводя глаза от ее лица.
— Что ж карты сложили? — спросил Красовский.
— Поспеем, — ответила хозяйка. — Я сейчас закуску велю собрать. Ведь и кавалер с нами не откажется?
Иванов вопросительно посмотрел на Красовского.
— Можно, можно, — кивнул тот. — Здесь от души угощают. — И сказал хозяйке, уже идя к двери: — Я за вас на кухню схожу.
— А ну, землячок, покажи-ка руку, — приказала Дарья Михайловна. — Да нет, левую и ладонью вверх.
Так же просто и дружелюбно, как давеча, дотронулась до его плеча, взяла Иванова за кончики пальцев и подвела к столу, к свету свечей. Насупив тонкие брови, разглядывала ладонь. А ефрейтор теперь без помехи ее взгляда смотрел в красивые и строгие черты, радуясь им, как в первый раз ее голосу.
— Правду вы сказывали, — обратилась она к вошедшему Красовскому. — Чуть не уморил его немец. Совсем близко смерть подходила… Зато теперь, кавалер, больше такому не бывать… А через много лет суженую сыщешь и доброе дело какое-то свое доведешь. Ты, право, будто в сорочке родился… Ужо, как закусим, я и карты на тебя раскину…
Иванову было сначала неловко сидеть с такой нарядной барыней за столом, есть с фарфоровой тарелки мясо и пироги. Но Красовский не раз кивком ободрял его, и сама Дарья Михайловна, видать, от души потчевала и тут же расспрашивала про родных — где живут и как звать. Когда встали из-за стола, дождь прошел, гроза отгремела стороной. Потушили свечи и подсели к окну. Дарья Михайловна взяла карты, стасовала и раскинула, что-то шепча про себя. Потом, смотря в них, медленно заговорила:
— И тут все как по руке, землячок. Много добрых людей рядом с тобой вижу… Только в конце… — Она переложила еще и еще несколько карт.
— Да что там? — спросил унтер. — В полковники, может, выйдет?
— Нет, нет… — Она смешала карты. — Может, и показалось…
— Что же, Дарья Михайловна? — спросил осмелевший Иванов.
— Не знаю… Будто пламя и дым… Может, костры походные, опять на войну пойдете?.. Не знаю… Но пламя ясное было. Только далеко где-то…
— Геенна огненная, в которой все, грешники, гореть будем, — пошутил Красовский. — Ну, пойдем, тезка, пора мне к поручику наведаться, пока не заснул от обеденной выпивки.
В гостинице слуга сказал кирасирам, что ремонтер после скачек уехал в гости к помещику за двадцать верст и вернется только к ночи, а то утром.
Ведя Иванова по боковым тихим улочкам в лагерь, Красовский говорил про Дарью Михайловну:
— Ее бабка цыганкой была. От ней гадать научилась. По картам, по руке будто судьбу видит. А сама — незаконная дочка полуцыганки и помещика тульского богатого. Хотел ее удочерить, барышней воспитывал, французскому, музыке учил. А помер ударом, и осталась бедна и сира. Тут-то женился на ней, совсем юной, тот пьяница судейский… И сама, знаешь ли, в гаданье свое верит. Я ей третьего дня говорю: «Не закружила бы полковника тетка деньгами». А она: «Нет, карты сказали, что деньги ему с другой стороны идут и от меня до смерти моей никуда не денется…» Поглядим, правда ли.
— А вам она нонче что ж нагадала? — спросил Иванов.
— Да нет, на полковника как раз раскидывала, долго ли с ним тут жить… Потом на супруга оставленного начала: исполнит ли угрозы, покусится ль ее насильственно вернуть, а тут ты пришел…
Перед сном Иванов вспоминал тонкие и будто строгие черты Дарьи Михайловны, ее прямой, внимательный и все же добрый взгляд.
Простому человеку не привыкать, что господа смотрят на тебя в упор, разглядывают, как стул или посуду какую, и требуют, чтобы смотрел им в глаза с покорностью. Оттого сызмала привыкаешь опускать на открытые глаза внутренние никому не видимые заслонки, чтобы не догадались, каково у тебя на душе. А пуще с того с офицерами. Тут с первого дня рекрутчины приказывают смотреть «прямо, весело и преданно». Беда, ежели в глазах какая мысль обозначается. Оловянные должны быть глаза, вроде казенных пуговиц.
А с Дарьей Михайловной почувствовал совсем иное. Хоть и неловко будто на красивую барыню глаза пялить, но сама так просто обошлась, что даже за столом с ней сидел без страху. Истинно счастлив полковник Пашков, что рядом с такой госпожой жизнь проводит, красотой ее любуется, пение слушает… Так неужто же правду сказала, что барона больше опасаться нечего? Да нет, — барыня хорошая, а гаданье все ж таки одна болтовня… Взять хоть, что в сорочке родился. Где ж она, счастливая-то сорочка?..
6
Через день вахмистр дал Иванову записку, чтобы отнес купцу Игумнову — сколько отпустить Минаеву круп на обратную дорогу. Одна за другой приходили партии заводского молодняка. Елизаров начинал готовиться в путь.
Отдавши бумагу приказчику, ефрейтор подумал, не сходить ли в балаган, раз отпущен до вечера. Там, сказывали, за алтын увидишь сущие диковины. Парень паклю горящую глотает, а ежели кто стакан водки подносит, то, выпивши, его без остатку сгрызает. Танцорка на веревке натянутой вприскочку пляшет и не упадет. Другой парень десять шаров в воздух мечет, ни один наземь не уронит, а все снова в руки ему летят… Посмотришь такого, так, может, скорей время до Козловки пройдет…
Идя по булыгам Дворянской улицы среди мужиков, цыган, разносчиков, Иванов услышал глухие удары бубна. В начале немощеного проулка собралась толпа. Протискавшись поближе, ефрейтор увидел кудлатого поводыря в затасканном белом армяке и стоящего на задних лапах бурого медведя, прижавшего к боку палку. От продетого в ноздри медного кольца тянулась сыромятина, конец которой мужик держал в левой руке, а правой орудовал бубном, то вскидывая его, то пуская в руке кругом.
Народ смеялся, глядя, как неуклюже топчется медведь, неотступно глядя блестящими глазками на хозяина и порыкивая.
— В аккурат некрут на учении, — сказал кто-то.
— Только морда не бита, — отозвался другой голос.
— А ты почем знаешь? Под шерстью синяков не видать…
В это время поводырь бросил бубен, который повис на веревке у его колена, и, вытянув из кармана зеленоватый полуштоф, обратился к медведю:
— А как, Михайло Иванович, мужик из кабака домой идет?
Медведь шагнул к хозяину, тот взял у него палку и вложил в протянутые косматые лапы бутылку. Зверь мягко сел на землю и стукнул полуштофом о колено. Пробка выскочила, и Мишка начал жадно пить, все выше запрокидывая бутылку, пока не осушил до дна. Потом выронил ее, откинулся на спину и, громко урча, поднял вверх все четыре лапы.
— В башку, видно, ударило, — хохотали зрители.
— Не скоро его женка дождется.
— Чем поишь-то?.. Неужто водку купляешь? — спрашивали поводыря, который, подобрав бутылку и пробку, бросил ремень и ходил по кругу, собирая в бубен плату за представление.
— А ты что думал? Поднеси ему воды, он и служить не станет. Я наболтаю медку да водки добрую чарку, он и рад. Отдохнет малость и снова готов народ веселить за такое пойло.
Бросив в бубен копейку, Иванов повернулся уходить и вздрогнул. Прямо за ним, уставясь на поднимавшегося с земли медведя заплывшими жиром глазками и поднося к толстому носу щепоть табаку, стоял его бывший барин, отставной капитан Карбовский.
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — сказал ефрейтор.
— Здоров, служивый, — ответил господин Карбовский, переводя взгляд на грудь Иванова, и втянул носом табак. — Ты кто ж таков? — Но не успел ефрейтор ответить, как помещик узнал его: — Никак Ивана Ларивонова сын?
— Он самый, Иван Евплыч.
— Вот так надивил! — продолжал барин, смахивая слезу, набежавшую от понюшки. — Отец с матерью тебя давно за упокой поминают… Ну, здорово! — Он сгреб Ивана за шею и сунулся влажным носом в его щеку. Тот едва успел чмокнуть барина в плечо. — Да ты и заслужил немало! — Иван Евплыч ткнул в грудь ефрейтора. — Этаких не видывал! Иностранные, поди?
— Прусские да австрийские, за Кульмское и Лейпцигское сражение пожалованы, — пояснил Иванов.
— Так, так. Накройся, кавалер, — приказал барин и, с явным удовольствием оглянув окруживших их зевак, продолжал: — А чего же здесь? С ремонтом? Гвардеец! Кавалер! И мне приятно… Отцу с матерью сам про тебя расскажу…
— Как по тракту с ремонтом пойдем, то, может, на побывку в Козловку отпустят. Обещались начальники, — доложил Иванов.
— Милости прошу… А пока ступай-ка, проводи прежнего хозяина, расскажи чего из бывальщины своей. Я тут недалече, в Кузнецкой, стою.
Господин Карбовский повернул, и они рядом пошли по улсчке, удаляясь от шумной Дворянской, помещик — по дощатому тротуару, ефрейтор — по пыльной дороге.
— Степка, шельма, со мной шел, — продолжал барин, — да послал его к шлеям прицениться. Приглянулись мне троечные, наборные. Самому пойтить — сейчас цену вздуют. А пошел и пропал. Ну погоди, я ему ужо, как прибежит…
«Все, как бывало, — думал Иванов. — Сам в толпу замешался, — где его найти? А потом человека бить зачнет… Какой же Степан? Неужто Кочеток?.. Вот и еще встречи не миновать…»
— Значит, и в сражениях бывал, в Париж ходил? — продолжал барин. — А в унтера когда же?
— Как начальство, Иван Евплыч, — отозвался Иванов, — я ефрейтором четвертый год.
— Значит, в унтера скоро, а там в вахмистры…
— Насилу нашел вас, батюшка! — раздался сипловатый голос, и, обернувшись, Иванов увидел дворового в синем казакине и ладных сапогах, который, скинув смушковую шапку, шел за ним следом.
Да, это был несомненно Степан Кочеток. Но как же он изменился! Из гибкого парня превратился в равно широкого в плечах и поясе матерого псаря. Усы длинные, волосы масляные, рожа лоснючая. Только глаза прежние, ястребиные — желтые, злые.
— Хороши шлеи, Иван Евплыч. Набор посеребренный и цена не боле прошлогодней, — докладывал Кочеток.
Господин Карбовский повернулся, и ефрейтор ждал, что влепит Кочетку пощечину, но барин только усмехался, поглядывая попеременно на них, стоявших рядом у тесового тротуара.
— Чего ж не здравствуешься с кавалером? — спросил он. — Аль узнать боишься? Ничего, пущай спомнит давнего дружка.
Кочеток, конечно, давно узнал Иванова, — может, не один десяток шагов прошел сзади, пока подал голос. Но, окинув высокого кирасира равнодушным взглядом, он сказал:
— Откуда мне кавалера знать? Мало ль солдатов на ярмонке?
— Ну, добро, — осклабился Иван Евплыч. — Вдругорядь узнаешь, поди… Так хороши шлеи? Знаю тебя: оттого хвалишь, что с купцом стакнулся барина надуть. Выторговал себе полтину?
Кочеток молчал, чуть поигрывая шапкой.
— А что запрашивают?
— За все за три шесть рублев шесть гривен.
— И пятерки за глаза станет. Нечего тебе наживаться, и так вот загривок какой! — Господин Карбовский крепко ущипнул Кочетка за шею. Тот и бровью не двинул. А барин продолжал: — Так беги, скажи, чтоб не продавали. Как пообедаю да посплю, под вечер сам приду, сторгуюсь…
— Слушаюсь, — тряхнул волосами Кочеток и, не взглянув больше на Иванова, рысью потрусил обратно к Дворянской.
— Чегой-то он тебе не обрадовался? — сказал барин с видимой издевкой. — Аль точно не признал?..
— А с вашим высокоблагородием кто еще из дворовых приехавши? — спросил Иванов.
— Петька-повар, Ильюшка-лакей да еще племяш твой.
— Который же?
— Старшой, Михайло. С подводой вчерась пришел, покупки мои повезет. Сейчас Петьке велю тебя как след быть накормить, не по-казенному. Как кормят-то?
— Покорно благодарю, всем довольны, Иван Евплыч.
— Молодец, грех на начальство роптать, — одобрил господин Карбовский. — А народ у тебя в полку все таков рослый?
— Я из средних, вершка на два да на три выше многие есть. А самые рослые в пешей гвардии. Преображенцы и четырнадцати вершков[21] не диво…
— А сила у тебя не пропала?
— Есть еще будто.
— Так, так… А коней почем покупаете?
— Сказывал вахмистр, по полтораста рублев платит господин поручик, а за казовых и двести дает.
— Вам ведь рослых надо?
— Меньше пяти вершков не берем, а то шесть да семь…
— Таких нету у меня…
— Все завод держите, Иван Евплыч?
— Какой завод? Всего голов тридцать. Вот приедешь, кой-чем похвастаю. Одного нонче на скачку выпускал да и продал Молчанову… Вот я где нонче стою, — закончил господин Карбовский перед рубленым домом в три окошка, каких Иванов много видел на боковых улицах Лебедяни.
Они, пригнувшись, вошли в калитку. Барин повелительно крикнул на кинувшихся к ефрейтору собак и, остановясь, обвел взглядом двор. На солнцепеке стояла распряженная телега, за отворенной дверью сарая виднелся передок барского тарантаса, где-то поблизости переступали лошади.
— Мишка! Эй, Мишка! — позвал господин Карбовский.
— Я-у! — откликнулся звонкий голос из сарая, и через минуту оттуда выскочил и подбежал к барину высокий молодой парень с русой головой.
Он был бос, домотканая рубаха и порты облекали еще не раздавшееся тело. В руках он держал ремешок и шило.
— Ты чего делаешь?
— Сбрую чиню, батюшка Иван Евплыч.
— А вот глянь-кось, не узнаешь ли кавалера заслуженного?
Но и без этого вопроса Мишка уже впился глазами в ефрейтора. А тот чувствовал, как что-то горячее, большое, давно не бывалое поднимается из груди к горлу, заливает краской лицо. Смотрел в ясные карие глаза, на щеки и шею, подернутые загаром. Так вот всех увидит — отца, мать, братьев… Сколько раз гладил эту русую голову, качал на колене совсем малого…
И в чертах Мишки тоже отражалось смятение, потом глаза засияли, губы раздвинула радостная улыбка.
— Что молчишь, пень деревенский? — спросил барин.
— Не знаю, что и сказать, батюшка, — ответил Мишка. — Мерещится, на дяденьку Александру схожи, да сказывали, быдто…
— «Быдто, быдто»!.. — передразнил Карбовский. — Узнал-таки, увалень. Ну, обнимитесь же, кровь единая… — И, засопев от чувствительности, барин отвернулся. — Петька! Эй, Петька! — орал он, поднимаясь на крыльцо.
А племянник с дядей уже припали друг к другу.
— Миша, Мишута, — говорил ефрейтор не своим голосом и все гладил мягкие русые волосы.
— Да как же?.. Да откуда ж, дяденька? — отзывался парень, уткнувшись в его грудь. Потом отстранился и вгляделся в родное лицо: — Никак вы плачете? Да пойдем же под сарай…
У Иванова и точно по щекам бежали слезы. Вот ведь как — Вейсман ни одной слезинки не выколотил, а тут разом разрюмился…
— Верно ли, что отец с матерью живы да за упокой меня поминают? — начал Иванов, переводя дух, когда уже сидели рядом на коротком бревнышке за полуприкрытой дверью сарая.
— Поминали, дяденька… Бабушка как про солдатов что услышит, то и плакать сряду, откуда слеза берется… Вот радость ей будет, как приеду да расскажу!..
— Я и сам заеду в Козловку, как отсюда походом пойдем.
— Ну! — Мишка с новой радостью припал к дядиному плечу. — Бабушка да дед, тятенька и дядя Серега вот как обрадуются…
— Живы все, выходит? — спрашивал ефрейтор. — А Наталья? А Домна? А Сидор? — называл он невесток, племянников, племянниц.
И Мишка в ответ твердил:
— Жива, жив. Живы все покудова.
— Всё на барщине живете?
— Всё так.
— А дом все старый, дедовский?
— Стоит, ничего.
— И ветлы у окошек не срублены?
— Одна посохла, две стоят.
Потом Иванов перебирал односельчан, а Мишка рассказывал, кто жив, а кто помер, кто на ком женился, кого сдали в набор.
— Вот Илья Егорыч идут, верно, вас к барину кликать, — прервал он себя, глянув на дверь.
Действительно, через двор шел, помахивая салфеткой, пожилой рыжеволосый человек в широком, с барского плеча сюртуке. Еще на ходу он улыбался, показывая щербатые, черные зубы.
«Вот и этот постарел, полысел», — подумал Иванов, вставая.
— Верно ль сказывают, будто служивый какой-то из упокойников объявился? — заговорил Илья, остановись в дверях сарая. — Ох, матушки! Да какой видный! И медалей-то — что твой генерал!.. Ну, здорово, Александр Иваныч! — Они расцеловались. — Иди-ка, кавалер, к барину. Разговаривать с тобой желают, а нам с Петром приказали водки тебе и кушанья ихнего подносить.
— Жди, Мишутка, я, как отпустит, сряду, — сказал Иванов.
— Да он скоро, — заверил вполголоса Илья. — Ему время спать подходит. Ужо скажет слов десять да и захрапит небось.
Но он ошибся. Иван Евплыч, возлежавший после обеда в одном исподнем на перинах, покрытых ковром и подушками, больше получаса не отпускал Иванова, расспрашивая про службу в Петербурге, где никогда не бывал. Верно ли, что лошади кирасирские в денниках стоят на цепях вместо чумбуров и что дача им казенная по четыре гарнца овса? Хаживал ли в караулы во дворец, видывал ли близко царя с царицей? Должно быть, именно то, что его бывший крепостной стоял на постах в Зимнем дворце много раз, не давало уснуть господину Карбовскому. Он через силу таращил глаза, тер их кулаками и прогонял сон слезой после понюшки, чтобы задавать все новые вопросы про то, как царь одет, скрипят ли у него сапоги, нюхает ли табак и что ест, велики ли дворцовые комнаты и сколько их, золотые ли там или расписные потолки и стены?.. Наконец сон одолел любопытного барина. Он отвалился на спину и уронил табакерку, а знавший свою службу Илья покрыл ему платком лицо от мух и повел Иванова на кухню, где ожидали его обещанные еда и питье.
Пришлось и тут рассказывать, уже Илье, повару Петру и притулившемуся у двери Мишутке, которому также перепало в честь дяди кое-что с барского стола, все про царя, про дворцовые комнаты и про тамошние кухни. Наконец Илья и Петр тоже осовели, — оба привыкли вздремнуть, пока спал барин. А тут еще и выпили за земляка-кавалера, который сам едва пригубил стаканчик.
Опять дядя с племянником уселись рядом в холодке сарая.
— А барин никак помягчал против прежнего? — спросил Иванов. — Не лютует больше ни с того ни с сего?
Мишутка ответил не сразу. Чувствовал, какой сейчас праздник у дяди на душе. Но и замалчивать показалось неладно: все равно ведь узнает, раз к ним заедет.
— Лютует, — сказал он негромко. — Прошлу осень так дедку в два кнута отделали, думали — не встанет. Вся спина без кожины была. Дед-то потом шутил: чисто как солдата отлупили. Верно, говорил, и Саньку нашего так бивали, тебя то есть.
— За что? — спросил Иванов, чувствуя, как меркнет озарение встречи с племянником, холодеет и сжимается сердце, как напряглось все тело и тоска заливает душу. Так бывало при входе на манеж барона или когда, слава богу, всего два раза, пришлось бить товарищей-кирасир, которых гнали сквозь строй.
— Зашла, вишь, телка наша в барский сад, недосмотрел пастух Федька, животом тогда маялся. И потравы не уделала, только на дорожке наследила. Вот пастуха-то и дедку, обоих, и разложили. А дяде Сереге под самые святки скулу своротил.
— А его за что?
— Шапку, вишь, не скоро скинул. Дрова вез да зашелся холодом, раз тулупишко плохой. А барин с гостей из Епифаня пьяный ехал. Дорога у Мельгунова узкая, услышал дядя — догоняет с колокольцем, стал в снег ворочать, с рук вожжи не выпустишь, и замешкался шапку ломать. А барин из саней вылез, давай его бить. Потом взялся лошадей держать, а Степке велел плетью стегать.
— Кочетку?
— А кому же? Он у его первый кат…
Пониженный голос Ми шутки зазвучал такой злобой, что Иванов глянул ему в лицо. Перед ним был не давешний светившийся детской радостью паренек, похожий на белоголового мальца, с которым играл десять лет назад, а взрослый мужик, полный затаенной ненависти. Лицо побледнело и разом обрело резкие очертания — брови сдвинулись, скулы напружились, губы сжались. Даже плечо рядом с дядиным разом отвердело, будто готовое к удару.
Помолчали.
— А дед с бабкой вспоминают ли меня? — спросил Иванов, стараясь вернуться к недавнему праздничному строю души, отмахнуться от навалившейся тяжести.
— Как же! Вот на Фоминой приехали мужики с Епифаня, с базару, так сказывали, городничий тамо новый, со всех попервости три шкуры дерет. Ничего, что на войне израненный, драться куда горазд. А сам будто из солдатов выслужил, весь в крестах. Дедка послушал и говорит: «Был бы наш Санька живой, заслужил бы офицера, да в городничии. Он бы, с купцов денег набравши, выкупил бы нас на себя, аль, говорит, хочь пугнул бы нашего живодера, постращал его…»— Мишка засмеялся: — Вот дед-то целый вечер про то балакал… А может, и правда, дяденька, вы когда городничего аль офицера выслужите? — сказал он уже серьезно, с надеждой.
— Навряд, Мишутка. Много мне до отставки служить надобно, пятнадцать годов. Да еще неграмотный я, — отвечал Иванов. И добавил про себя: «Коли не забьют до смерти или сам не удавлюсь…»
Опять наступило молчание — оба, понурясь, сидели рядом. Чувствуя, что не может больше откладывать, Иванов негромко вымолвил:
— А Дарья Миронова жива ли?
И по тому, как дрогнуло Мишкино плечо, понял, что услышит.
— Померла, дяденька.
— С чего же?
— Родами померла…
— За кого ж выдали?
— За Степку барин идти велел. — Мишка сглотнул слюну. — Она, сказывали, просила: за кого, мол, хошь, только не за его…
— За Кочетка?
Мишка кивнул.
— Когда же?
— Через месяц быдто, как тебя в набор сдали.
— А жили как? — Иванов расстегнул крючки воротника и встал. Прислонился к стене, забыв глянуть, чиста ли.
Мишка тоже поднялся и смотрел в дядино лицо, перекосивши рот, будто собирался заплакать.
— Как с ним жить, с иродом? — сказал он шепотом и отвел глаза. — Плакала все, а он ее бил. И тяжелую бил, сказывали.
Стало слышно, как жужжит в паутине муха, как на дворе квохчут и роются куры.
— А дите осталось ли? — хрипло прошептал Иванов.
— Сряду померло. Вместе и схоронили. Бабушка в заутреню к ним, как к родным, ходит, — так же шепотом отвечал Мишка. Ему хотелось обнять дядю, которому невольно причинил страдание, но он не смел и только смотрел ему в лицо, все еще кривясь ртом.
— Ну ладно, Мишута… Пора мне в команду. Завтра или еще когда приду. — Ефрейтор неверными, слепыми движениями застегнул воротник, поправил бескозырку, одернул колет.
Он шагал по улице, глядя перед собой и чудом не попадая под телеги и коляски. Не видел, как кончились дома, сады, кузницы. Пошли палатки, отпряженные возы, закоптелые котлы над кострами, табуны коней, сторожа с собаками. Не заметил, как оказался на проселке, по сторонам которого стлались поля. Шел, озаренный со спины близившимся к закату солнцем, шел твердой строевой походкой, прямой и на вид бодрый, на самом же деле не сознавая ничего, кроме душевной боли. Шел то молча, то бормоча вполголоса:
— Зачем привелось с барином сойтись?.. Повстречать бы Мишку одного, узнать все да велеть молчать…
И сквозь вечерние поля явственно видел, как глухой ночью подъезжает на побывку к Козловке, как привязывает на задах коня, а сам крадется к Степанову дому, как лезет в низкое оконце, нащупывает жирную шею, что давеча маячила рядом, над воротом казакина… Или нет, нельзя тишком. «А открой-ка глаза, друг любезный…» — «Что? Кого надо?» — «Тебя самого, моего супостата… Вспомяни Дарью, жену свою. Дашу, Дашеньку… Вспомянул?.. Узнал меня? Вот и разочтись за нее…» И снова сжимались пальцы на невидимом ненавистном горле.
Иванов споткнулся о камень, остановился и огляделся. Пусто, тихо. Города почти не видно. Мельком подумал, что надо вертаться к поверке. Но вместо того сошел с дороги, зашагал по меже и, сев на землю, охватил голову руками.
— За что же, господи?.. Дашу-то за что? Голубку кроткую забил, замучил кат окаянный… Как знала, когда прощались.
Видно, чуяла на себе желтые Степкины глаза: «Не увижу тебя больше, светик мой Саня, душа моя. Поминай меня, коли жив будешь». Ох, сердце мое, крови, жизни не пожалел бы, кабы мог выручить тебя или вместе в могилу пойти…
Когда уже в полной тьме Иванов возвратился в лагерь, дневальные при свете костра увидели, что колет и бескозырка ефрейтора испачканы, а сам дрожит, как лист. Подивились — никогда с ним такого не бывало, да еще поверку пропустил. Помогли снять колет, забраться в палатку и укрыли шинелью.
Под шинелью Иванов сначала согрелся, потом почувствовал жар и сбросил ее с груди. Только, кажись, наконец-то забылся, как почудилось чье-то дыхание около уха» потом рука ошарила горло, пошла вниз, по груди, подбираясь к сердцу.
— И меня, Степка, уходить задумал? — забормотал Иванов и, оторвав от груди эти увертливые руки, что было силы ударил кулаком во что-то, разом подавшееся в сторону.
Отлегло от сердца, но сон опять отлетел. Лежал неподвижно, слушал. Кругом все тихо, ровно дышат соседи. Чего не привидится?.. Потом кто-то охнул, должно быть во сне… Наконец-то совсем отошел давешний сонный страх. Только по чему же так стукнул, что косточка еще болит?.. О сухарный мешок, что ли, в изголовье?.. Вот бы по Степкиному виску взаправду так дать…
И опять все вернулось вчерашней чередой: барин, Степка, Мишкин рассказ. Заныло нутро, пошли те же мысли. Ворочался, вздыхал. Что, коли убить Степку на обратном пути? Душегубства, толкуют, бог не простит. Так он-то кто ж, как не зверь? Таких ежели уходишь, и бог, поди, только благословит…
Потянуло утренним холодком. Посерело полотно над головой. Опять пробила дрожь. Закутался в шинель, повернулся на бок, угрелся и наконец-то заснул. Разбудил его Красовский:
— Вставай, брат, едем за новой поручиковой бричкой.
В палатке было пусто. Войлоки трех соседей скатаны. В изголовьях Алевчука и Марфина нет седел, — уже куда-то посланы верхами.
— За какой бричкой? — спросил Иванов, садясь и поглаживая сразу занывший кулак.
— Которую поручик наш в карты у помещика в гостях выиграл. — Унтер присел у его изголовья и заговорил тише: — Про вчерашнее не тревожься. Я за Елизарова поверку делал. Куликнул, видно? Вон колет и рейтузы как вывозил. Да ничего, земля сухая, отойдет. Захватим два хомута, шлеи, вожжи. К вечеру вернуться надобно.
Желая ускорить выступление ремонта, Гнездовский в это утро разослал кирасир с письмами к заводчикам, не пригнавшим еще сговоренных коней. Среди посланных были Марфин с Алевчуком, которым предстояло привести за семьдесят верст четырех трехлеток. Услышав об этом от Красовского, уже на большой дороге, Иванов порадовался, что его с одним из них не послали: один балагур, другой старый брюзга, от обоих сейчас еще тошней стало бы.
А Красовский сразу понял, что приятель его «не в себе», и сначала, потягивая трубку, напевал вполголоса что-то церковное. Потом, должно быть, чтобы развлечь Иванова, стал рассказывать про свое с Филофеем отрочество в тамбовской семинарии, — как драли их больше, чем учили, как бессовестно наживался на пище и одежде бурсаков отец эконом, как экзаменовал по веснам архиерей, все вопросы которого были заранее выдолблены, и как нещадно отпороли его на прощанье, перед тем как сдать в солдаты, в назидание сотоварищам, за то, что не хотел стать попом и воспринять богатый приход, который желал передать ему отец…
— Обошлись со мной тогда, — закончил унтер, — будто в разбойники бежать сбираюсь, а не учиться далее, вожделяя к пользе родины. Секли до бесчувствия, и отец ректор, рядом стоючи, приговаривал: «Не дерзай сходить со стези, родителем назначенной… Не дерзай, не дерзай…» Очнувшись в карцере еле жив, думал, что не переживу надругательства, а теперь будто сон вспоминаю…
Иванов то слушал рассказ, то вспоминал вчерашнее и возвращался к несбыточной, уже знал сегодня, расправе со Степкой…
В усадьбе, куда приехали к полудню, все было готово — бричка вымыта и смазана. Барин, опухший и мрачный после кутежа и проигрыша, велел, однако, накормить кирасир. Дали коням отдохнуть часа два и сами попросились на сеновал, где Красовский подремал, а Иванов, раздевшись, дочищал свое обмундирование. Потом запрягли и тронулись шажком — искони верховые кони, из оставленных «стариков», неохотно шли в упряжи и времени на дорогу хватало. Сидя в бричке по-господски рядом, Красовский навел разговор на вчерашнее. Выслушал все и сказал:
— Душевно сочувствую, брат. Только что же сделаешь, когда везде у нас такое? Думаешь, иначе у барина, где бричку брали? Верно, проигрыш на кучере и лакее выместил, а барыня — не столько на супруге, как на горничных девках. Может, и тут свой Степка-кат налицо. Таких живодеров, конечно, убивать не грех и многие тебе бы спасибо сказали, но так чисто убивать надобно, чтобы за то не ответить. Мало ведь, что себя погубишь, а и родню твою всю судом замучат, соучастниками объявят, в колодках сгноят. Невидимки только в сказках бывают, да еще твой приезд барину теперь известен… Словом сказать, думай лучше о живой родне и радуйся, что можешь ей помощь оказать, которая им вот как надобна. А Даше твоей, видно, судьба такая была написана… И чем свое черное думать, послушай-ка, что про другую Дашу, про Дарью Михайловну, расскажу. Знаешь ли, что ее законный на днях удумал?
— Показался-таки? — спросил Иванов.
— Пока что городничего здешнего к полковнику подослал показать форменную жалобу губернатору, будто господин Пашков силком держит у себя его венчанную жену, которую намерен теперь востребовать через полицию. Ну, с городничим у полковника разговор короткий: двадцать пять рублей в шляпу и пошел вон. Но тот доверительно сообщил, что супруг все-таки готовится силой жену отбить и новый выкуп у Пашкова вынудить.
— А нельзя ли им отсюда отъехать скорей? — спросил Иванов. — Как с теткой он порешил?
— С ней все врозь пошло, и на завтра отъезд их назначен. Поедут в его имение, во Владимирскую, чтобы денег поболе у тамошнего управителя выбрать да, видно, опять за границу, раз муженек грозится на государево имя писать. Так что я нонче у Елизарова на ночь отпрошусь ихнюю охрану умножить. Может, и ты со мной?
— Коли вахмистр отпустит, — согласился Иванов. — Только соснуть бы малость, пока в палатке пусто.
Но, когда приехали, Елизаров сказал, что прибегал дьякон и наказывал Красовскому скорей прийти куда знает, говорил, что ночью к ним лезли через забор, да собака учуяла и отогнала. Унтер просил отпустить с ним Иванова, и, наскоро похлебав казенной кашицы, отправились.
Видно, приход двух дюжих кирасир с гремучими палашами поубавил прыти нападавшим, но эта летняя ночь долго помнилась Иванову.
Сначала Красовский отвел ефрейтора в дьяконову комнату, где дал подушку и тулуп. Иванов снял сапоги, колет, лег на лавку и мигом заснул, забыв наконец свое горе. Унтер разбудил его на вечерней заре, смотревшей в окошко. Филофей хлопотливо обтирал тряпкой стол и застилал рушником.
Лакей принес богатый ужин — блюдо жаркого, кашу рисовую, сдобные ватрушки с творогом. Кирасиры пили сбитень, а дьякон уже где-то набрался и все задирал Красовского, болтая, что тот, как еретик, восхваляет папскую веру.
— Отстань, зуда! Сам знаешь, о чем толковал. А что попы ихние ученей наших, то и сейчас скажу, — отвечал унтер.
— Ну да, ну да, — бубнил Филофей. — Они с тобой по-латынски да на варганах с дудками, вот ты и раскис. А где у них бедность апостольская да чистота ндравов?
— Suum cuique. Dixi[22] — отмахнулся Красовский. — Идем, Александр, пора в караул. Тулуп сей возьми, под утро накинешь. У Филофея вон еще шуба какая висит.
Внутренней дверью вышли в коридор и на садовое крыльцо. Унтер указал скамейку, стоявшую против дома за клумбой:
— Вон пост твой ночной.
Теперь кисейные занавески были сняты с окон, раскрытых в сад. За тем столиком, на котором раскладывала карты, сидела Дарья Михайловна в другом, голубом платье и потчевала полковника Пашкова: накладывала ему на тарелку, наливала вина.
Поговорив с караульным у калитки, Красовский вошел в комнату, сел вблизи от стола. Дарья Михайловна протянула ему тарелку и рюмку. Он принял с поклоном и вернулся на свое место.
Слов Иванов не мог разобрать, но, когда хозяйка рассмеялась — как жемчуг рассыпала, — мужчины ответили ей улыбками.
«Видать, что люди дружные, счастливые», — подумал Иванов.
Вот лакей убрал со стола и зажег два канделябра. Полковник пошел в глубь комнаты, сел за фортепьяно и обернулся к Дарье Михайловне. А она вышла на середину комнату, кивнула ему и запела. Да как запела! Кажется, голос стал еще звонче, еще глубже, чем в первый раз, когда слушал ее Иванов. Как сетование, как жалоба, звучали иностранные мягкие слова, следом за которыми бежали звуки фортепьяно, оттеняя голос и порой вторя ему, будто эхо. Потом она смолкла, и полковник со своего места ответил несколькими негромкими фразами, должно быть сказал: «Да, я здесь, надейся на меня…»
И снова она залилась уже каким-то счастливым гимном.
Тут Иванов увидел, что лакей с пустым подносом застыл у двери и Красовский поник головой с недопитой рюмкой у рта. Потом поставил ее на стол и прикрыл ладонями глаза, может, скрыл набежавшие слезы. А у ефрейтора они уже ползли по щекам.
Очнулся от того, что пение и музыка смолкли, Красовский вышел в сад и, приблизясь, положил руку ему на плечо:
— Спал аль слушал?
Иванов помотал головой, совестясь поднять мокрое лицо, и вымолвил:
— Как тут заснуть?
Потом в руках вернувшегося в комнату унтера явилась гитара, и Дарья Михайловна запела под ее переборы «Стонет сизый голубочек». Иванов отошел в глубь сада, сел будто в тумане на какой-то пенек и совсем забылся. Чудилось, что здесь, рядом, была его Даша и прощалась с ним, шептала что-то, чего никогда никто больше не услышит…
Давно замолкла гитара, голоса и погасли свечи, когда, опомнясь, поднялся с пенька и перешел на скамейку. Здесь накинул тулуп — вдруг пробрал озноб. В тишине услышал заливчатый храп и, пройдя вдоль дома, увидел Красовского, спавшего на крыльце, раскинувшись на сеннике. Вот уж истинно преградил дорогу в дом…
Утром, когда уходили из сада, господа еще почивали. Коридором зашли к Филофею. На столе лежали вчерашние ватрушки.
— Хозяин убег утреню править, — пояснил Красовский. — Закусим без его приглашения.
— А что же сынка его не видать, к которому в присутствие вы заходили? — спросил Иванов.
— Прогнал его отец от себя, вовсе запретил приходить.
— За что же?
— Взятки стал брать, по жены своей, здешней мещанки, наущению. А Филофей, стоик истинный, того не простил. У него душа голубиная, потому выше дьякона и не произведен… Ох и пела же вчера Дарья Михайловна, особенно про голубка! Слышал ли? Вирши Дмитриева глупые, а от пения ее вся душа дрожала…
Они вышли из дому через сад — Филофеева дверь была заперта снаружи на висячий замок. Караульный выпустил их в калитку, и Красовский, остановясь, окинул взглядом уличный фасад дома.
— А знаешь ли, что за дом сей?
— Церковный, верно?
— Как раз нет, самый греховный. Отец полковника его купил для приездов своих на ярмарку с гаремом из девок дворовых. В передних двух покоях сам селился, а задние, где сейчас Дарья Михайловна с полковником живут, под девок отводил. Там мебели и фортепьяно с тех пор стоят. Тоже музыку хорошо понимал.
— А сейчас уж не ездят сюда? — спросил Иванов.
— В фарисейство ударился. На сына гневается, что чужую жену увез, да еще полуцыганку. А того старому распутнику не понять, что по красе душевной и телесной редкая графиня такова уродится. Ты в Париже в музеуме, Лувром зовется, бывал?
— Нет, не случалось. А что?
— Там статуя мраморная есть, богиня греческая, — словно с Дарьи Михайловны портрет, право. Полковник нонешний в Орле поначалу, пока имени не узнал, так про нее и говорил: Диана да Диана… А Филофея вдового я ему за-сторожа в сей домик рекомендовал в первый же наш сюда приезд. Нежданно тут встретил по разлуке в семинарии, в большой бедности живуща, и рекомендовал…
— А вам Дарья Михайловна гадала когда? — спросил Иванов.
— Ни разу, потому что по человеческой природе судьба сокрыта быть должна. Недаром римляне говорили: «Quid crastina volveret aetas scire nefas homini»[23]. Я было пожалел, что и тебе гадать допустил. Но раз хорошего наговорила, то ничего…
Когда впереди открылся лагерь, они сразу поняли, что там случилось необычное. Конногвардейцы толпой стояли у палатки вахмистра. Подъехав еще ближе, увидели красного, как кирпич, Елизарова и стоящего навытяжку Марфина, у ног которого громоздились седло, шинель, колет и еще какие-то солдатские вещи. Оказалось, что старый кирасир только что пришел пешком, таща все на плечах, и рассказал, что Алевчук бежал с обеими лошадьми, на которых ехали за трехлетками. Сделал он это очень просто: верстах в тридцати от Лебедяни щедро угостил Марфина в кабаке, чего-то, видно, подсыпав в водку, а когда отъехали от того села и кирасир стал клевать носом, то предложил отдохнуть. Сослался, что нужно сделать примочку больному глазу, — и верно, глаз и скула у него были разбиты и прямо на виду пухли. А когда Марфин проснулся, то была ночь, он лежал в леске один, а рядом кучей все казенные вещи Алевчука, кроме сапог. Зато из кармана Марфина пропали все деньги и даже трубка с кисетом. На счастье, к Лебедяни ехал добрый поп, который его и подвез почти до самого лагеря.
Наругавшись вволю, Елизаров наказал Красовскому готовить трех доброконных кирасир и в том числе Марфина для погони, а сам поскакал в город доложить о происшествии поручику Гнездовскому. Красовский крикнул, кому собираться, и сам нырнул в палатку сменить колет на холщовый китель. Иванов влез за ним.
— Навряд догоним, — сказал унтер. — Полтора суток прошло. Хоть бы коня одного сыскать, тогда Марфин суда избавится…
— Да куда ж он денется, коли уйдет? — спросил ефрейтор.
— Мало ль куда. Коли сумел тут, на ярмарке, пашпорт фальшивый выправить, будто, скажем, дворовому человеку, от помещика посланному о двуконь с поручением в Новороссию, да денег у него на харчи достанет, так ищи ветра в поле…
Но уйти Алевчуку не удалось. На третий день запыленные кирасиры въехали в лагерь, ведя двух коней в поводу. Пойманного дезертира они по дороге сдали в городской острог. Красовский направился докладывать вахмистру, и ефрейтор пошел за ним.
— Проехал он в тот день, когда Марфина напоил, более шестидесяти верст, — рассказывал Красовский, — и, верно, ушел бы от нас, кабы глаз у него не заплыл вовсе и голову, сказывал, так разломило, что не в силу в седле сидеть. К ночи доехал до Петровского, разыскал знахарку — излечи, мол. Она баба тертая, видит, парень о двуконь едет, должно с Лебедяни, сильно торопится и глаз подбит. Думала, конокрад. Она глаз промыла, перевязала и совет дала ночевать на постоялом, чтоб ушибу покой дать. Однако он дальше поехал — спешу, мол. Утром она к капитан-исправнику, — раз соседи видели, что Алевчук к ней заезжал, то не потянули бы потом к ответу. А исправник в аккурат по делам в ту сторону собирался. Он, конечно, знахарке выволочку и соседей за бороды: «Что видели?» Сказали — седло да уздечка будто казенные. С тем и поехали по тракту, допрашивая: не проезжал ли на двух конях и глаз завязан? Проезжал. Вот уже тридцать верст исправник прогнал, всего от Лебедяни, выходит, под сто без отдыху Алевчуком проехано. Значит, коням отдых неминуемо нужен. Тут на селе и говорят, что купил овса две торбы, а кони у него уже шагом идут. Капитан и смекнул, что укрыться хочет. Чего иначе ему на селе не кормить? Капитану-то дальше и ехать не след, тут его уезду конец. Однако он двух понятых поздоровей в свою тележку взял, а тут дубнячок, сказывали, при дороге. Проехали чуть дальше, до деревни. «Проезжал такой?» — «Нет, — мужики говорят, — не видали». — «Значит, в леске». И верно, только с телеги слезли, — конь в лесу заржал. Видят, на поляне стреноженная пара и Алевчук под кустом спит. Разбудили. «Давай вид!» Пожалуйста, все по форме, с печатью. Отпущен господский конюх на Кавказ двух коней отвесть. — Красовский взглянул на Иванова — вспомяни, мол, как я говорил, — и продолжал: — Но капитан-то исправник сметлив: сразу сапоги казенные, с которых шпоры сбиты, заметил. Но и то, может, ничего бы, да голова у Алевчука по-солдатски стрижена и баки форменные неровно сбриты. Смахнул их бритвой в том леске, где Марфина оставил и переодевался в вольную одежу, что в сумах вез, да с кривого глаза одну не добрил малость. Видит капитан — вроде как солдат беглый из ремонтеров, и велел ему руки вязать…
— А вы как его сыскали? — спросил Елизаров.
— Так и мы по тому же пути гнали. В Петровском народ знахарку указал. Она после капитанской ласки хуже Алевчука обвязанная лежит, но нам все обстоятельно рассказала. Мы следом скорее…
— Ну, я к поручику с докладом, — встал Елизаров.
Когда Иванов подошел к группе кирасир, Марфин заканчивал свой рассказ.
— А деньги свои хоть выручил? — спросил кто-то.
— Евона! Капитан все у Алевчука еще в леску повыбрал. Сорок будто рублев. А раз говорит — сорок, то считай куда боле. Александр Герасимыч спрашивал его про мои рублики. «Я их, отвечает, к донесению должон припечатать». Ясно, како донесение. Хоть трубку да кисет отдал, и, главно, кони нашлись.
— А кто же, братцы, так Алевчука по глазу угостил? — спросил один из кирасир. — Не сказывал?
— Я в канун с им дневалил, — подал голос другой. — Все без изъяну было. А утром, как им ехать, из палатки, вижу, лезет и скула раздувшись. Сказал, будто во сне зашиб. А может, еще кого обобрать хотел, да по морде саданули.
Иванову разом стало жарко. Вспомнил руки, что ночью шарили по груди, подбираясь к чересу с деньгами. Вспомнил и свой удар по чему-то живому и оханье рядом… Хорошо, спал не крепко, а то были бы заветные денежки далеко, за пазухой у вора. Ох и крепко же дал ему! Недаром кулак болел. Ну, Алевчук, позарился на братские, на солдатские деньги, вот и пропал. Не был бы глаз подбит, ушел бы с таким-то паспортом…
Иванов был этот день свободен от наряда, утренняя уборка уже прошла. Захотелось уйти от людей, так стало не по себе. Алевчука знал с войны, всегда с ним дружил, жалел его, когда от баронова наказания заболел грудью. А он как раз веревку однажды из рук вырвал, от смерти отвел, сказавши: «Ты чего? Одурел? Не себя душить надобно…» И с ребятами как шутил, загадки загадывал…
Ефрейтор вышел из лагеря к Дону, к тому месту, где кирасиры купали лошадей, прилег в стороне за кустами. Может, пожалеть надо, что не взял его деньги Алевчук? Хоть один убежал бы от барона Вейсмана, от возврата в эскадрон… А что б он свез тогда своим старикам, чем облегчил их кабалу?.. Алевчук, верно, по девкам гулящим да по кабакам его деньги распустил бы, как раньше свои тут, в Лебедяни… А теперь что ему за побег дадут? Как пить дать, сквозь строй погонят через тысячу человек. А он только в Лебедяни по ночам кашлем закатываться перестал…
7
После обеда Иванова кликнули к вахмистру. Елизаров сидел с Красовским перед их палаткой за сколоченным кирасирами столиком, на котором стояли полштофа водки, котелок с кашей, три чарки, три ложки и горка ломтей пшеничного хлеба.
«Празднуют, что Алевчука поймали, — укоризненно подумал ефрейтор. — Хотя за него да за лошадей Елизаров с вахмистров, верно, слетел бы…» И вдруг обожгла мысль, что после этого побега его не пустят на побывку.
— Садись, Александра, с нами снедать, — предложил Елизаров. — Возьми в палатке ящичек. Водки налить?
Когда Иванов сел по второму приглашению, вахмистр сказал:
— Есть до тебя, братец, невеселое. Завтра поведем на торг последних бракованных. А в четверток тронемся. Только пойдем не прежней дорогой, а в Тамбовскую губернию, на завод к майору Страхову. Сторговал вчерась поручик у него заглазно тридцать коней, которых не хватало, и дадим оттого крюку более ста верст. Я нонче говорю: «Хорошо ли, ваше высокоблагородие, кота в мешке покупать?» А он одно твердит, что слово дал. — Елизаров помолчал. Нечего было сказать и ефрейтору. — Так к чему все толкую? — продолжал вахмистр. — Не выходит мимо твоей родины путь, а после Алевчука у поручика отпуска тебе форменного на много дней просить не стану. Знаю, не даст.
— Так точно, — сказал Иванов из вежливости.
— Коли ту весну, бог даст, снова с нами пойдешь, то вот крест святой — отпущу, — перекрестился Елизаров. — А ноне уж прости…
— И так премного доволен, господин вахмистр, — ответил Иванов и хотел было встать.
— Сиди! — приказал Елизаров. — Еще хочу совет дать. Герасимыч сказывал, будто сродственника сыскал.
«Неужто Красовский про Дашу и про Степку все наболтал?»— про себя охнул ефрейтор и отрапортовал:
— Так точно, племяш родной с барином нашим на ярманку приехавши.
— Парень верный? Не зашибает?
— Нет, молод еще.
Вахмистр понизил голос, хотя поблизости никого не было:
— Так и отправь с ним, что хотел, родителю. Оно верней нашей судьбы… Да скажи: Алевчука не ты ль угостил?
— Я. Да во сне ведь. Только нонче и понял, как все услышал. А как догадались?
— Курин, сосед ваш, мне сказал. Слыхал скрозь сон возню, потом как Алевчук охал, и тоже не сряду умом дошел. Вот и нечего тебе людей искушать. Хоть не все у нас такие, а все же…
— Слушаюсь, господин вахмистр.
Через полчаса Иванов шагал в город, неся узелок, в котором сложил подарки родным. На ярмарке зашел к армянину-серебрянику и купил табакерку с чернью, после чего направился на Кузнецкую улицу. Шел и думал, невольно сжимая кулаки:
«Лучше бы не видеть Степку проклятого, а то не ровен час… Ах, дать бы ему по сальной харе, чтоб помнил… Так ведь на стариках, на братьях, на Мишке выместит…»
Посредь двора стояла телега, увязанная кладью. Из сарая вышел Мишка с ведерком дегтя. Увидев дядю в калитке, заулыбался, крикнул на залаявшую собаку.
— Когда едете? — спросил Иванов, подходя.
— Барин с Кочетком да с Петром давеча уехали, а нам с Ильей Егорычем велено нонче под вечер трогаться.
— А где ж Илья?
— В кабакё душу отводит, пока справляюсь, ему постелю готовлю, — Мишка, улыбаясь, показал на задок телеги, не занятый кладью и выстланный сеном. — А вы когда ж к нам будете?
— Пойдем-ка, потолкуем…
Они зашли в сарай и сели на то же бревнышко.
— Я проститься, Мишута, пришел, не бывать мне нонче в Козловке, — сказал Иванов, обняв племянника за плечи.
— Что Жбу не пущают? — Лицо Мишки вытянулось.
— Обратно другой дорогой едем. Авось будущий год доведется. Ты, пожалуй, и не сказывай, что побывать думал. Чего стариков зря буторить.
— Да ведь барин намелет…
— Пусть думают, что спьяну брешет, раз я такого не говорил. А теперь слушай. — Иванов понизил голос: — Исполнить надобно свято и с умом.
— Говорите, дяденька, все сделаю. Да пойдемте на огород, все стен кругом не будет, — предложил Мишка.
— Ай, молодец, — сказал ефрейтор.
Они пошли за сарай в сад и сели под яблоней в еще некошенную траву. Иванов передал племяннику узелок.
— Деду гостинцы отдашь, пусть кого хочет дарит. — Он достал из кармана табакерку: — Барину от меня пусть поклонится. Может, к вам подобреет. А спросит, откуда такую взяли, то принес, мол, дядя, как вы уж уехали, хотел было сам поднесть. Понял? Да не оброни, за нее пять рублей плочено.
Мишка заохал:
— Нам бы лучше те деньги в хозяйство. Барин все равно спьяна потеряет… — Но спохватился и, пряча подарок за пазуху, пообещал: — Все передам, не сумневайтесь.
— Будет и вам подмога, — улыбнулся Иванов. Оглянувшись, он и здесь понизил голос: — Теперь главное слушай. Сейчас тебе черес с деньгами зашитыми дам, ты его на брюхо опояшь. И чтоб никто его не видал, понял? Деду отдашь с глазу на глаз. Денег много, ассигнацией четыре сотни. Пусть, где сам знает, схоронит, да помалу, чтоб не прознал никто, на хозяйство берет. Деду скажи, что не ворованные, а за спасение из воды малолетка получены.
Пока дядя говорил и потом, лежа в траве, развязывал черес, у Мишки от волнения порозовели уши и шея. Оглянувшись, он лег рядом, принял пояс и, спихнув пониже порты, завязал на впалом животе.
— Толстый, — прошептал он, опустив рубаху. И вдруг припал к плечу Иванова, как бывало пятилетним: — Ох, дяденька, радости будет! Вот дедка спасибо даст, вот бабушка-то заплачет! — Он заглянул Иванову в глаза и спросил тем же шепотом: — А вы не за Да шуту к нам не едете? Что нету ее живой? Мне б не говорить вам…
— Нет, Мишка, нет… Верь слову… — Они теперь сидели рядом, и Иванов обнял племянника, почувствовав под рукой крепкие костистые плечи. — Вот как хотел бы родителей повидать, и братьев, и всех. Да служба так повернулась, что на Тамбовскую нам идти. Экой ты на мякинном хлебе здоровый вырос — прямо жених.
— Какой жених! — снова закраснелся Мишка. — Мужик я уж женатый.
— Ну? Давно ли? — спросил Иванов.
— Два года уже. Мальчишкой почти окрутили.
— А она чьих же? Может, помню?
— Котихина Степанида.
Как не вспомнить сырую, носатую, сумрачную девочку лет десяти, косолапую, неповоротливую, из самого зажиточного двора в Козловке. Да, может, в девках выровнялась? И так ведь бывает.
— Хороша жена-то?
Мишка потупился.
— Неволей, что ли?
— Барин велел… Отец ейный Кочетку родня. Поклонился ироду, угостил, тот барину и шепни. Она тоже не виноватая. Меня жалеет, работница…
Теперь каждый кирасир вел в поводу коня, а то и двух. Дело нелегкое — одни трехлетки плохо шли под седлом, другие не хотели сообразовать неспешный шаг с вожаками. Приходилось на походе приучать которого лаской, которого плетью. Шли всего пять-шесть часов, проходили в сутки верст двадцать.
По благоволению вахмистра Иванов выезжал чуть свет с Красовским, исполнявшим обязанности квартирьера. Пройдя переменным аллюром дневной переход команды, они выбирали место для ночевки с удобным водоемом и пастбищем, покупали в деревне хлебы и барана, собирали сушняк для костров. Иногда Иванов оставался на полдороге в деревне, чтобы сдать на телегу Минаеву закупленное продовольствие, после чего догонял Красовского.
От такой вольготной службы, на которой мало уставал и нередко оставался один, ефрейтора начали донимать тяжкие мысли о скором возвращении на муку к барону Вейсману, а пуще страшные видения, порожденные тем, что недавно узнал.
Только начнет засыпать, и вдруг представится, будто едет один по большаку, догоняя Красовского, а навстречу показался одинокий всадник. То Кочеток куда-то спешит и от встречного морду воротит, глазами зыркает, как в Лебедяни.
«Стой, душегубец! Не уйдешь! Слезай с коня. Идем в лес, поглядим, кто кого одолеет. Да бросай нож, не то палашом зарублю, все знаю про Дашу… Я тебе пощады не дам. Коль руками не задушу, так зубами глотку перерву…»
А то на дневке во время купания представилось, будто приехал в Козловку на побывку, подстерег Кочетка на Дону и, вынырнувши около, бьет по курчавой башке камнем, а другой камень вяжет на ногу, чтобы не всплыл и раки падалью поживились…
Не раз Красовский замечал за ефрейтором, что побелеет, смотрит мимо людей шальными глазами и что-то бормочет. Никак опять на старую дурь его поворачивает?..
Исцеление пришло после короткой остановки в Никольском, имении Страховых. Здесь приняли тридцать заводских трехлеток, и вахмистр приказал Иванову вести пару самых норовистых. За первый же день похода так натрудили ему руки, плечи и поясницу, что на биваке едва стреножил и пустил в табун да, не дожидаясь каши, прилег в палатке Красовского и заснул.
Разбудил его сам вахмистр:
— Вставай, Александра, пойдем искупаемся да поешь.
До реки было с версту, и, когда вышли в поле, их охватил сладкий вечерний запах трав и полевых цветов.
— Докладал я вчерась поручику, — начал вахмистр, — как они со мной в Никольском прощались, что ты в команде человек нужный и что сам за зиму приучу тебя коней выезжать.
— Спасибо, Семен Елизарыч.
— Рано еще спасибо давать. Обещался он, как приедем, отхлопотать тебя у Вейсмана. Купили мы задешево тому пару соловых, что Марфин ведет. Будто угодить должны.
— Оно так бы хорошо, Семен Елизарыч!
— А ты мастерство какое знаешь?
— Как есть никакого. Сызмала на крестьянстве, а потом все в строю.
— Что же, что в строю, — возразил Елизаров, — все одно надо что-нибудь мастачить. У нас в Стрельне зимой все помалу мастерят, да и в эскадронах таких сколько хошь. Всем надобно про старость задумывать, когда в отставку или в инвалид пойдешь. Помнишь Позднова, что прошлый год из четвертого эскадрона уволили?
— Помню. Кажись, такой веснушчатый.
— Ага. Так он, братец мой, все двадцать пять годов, сказывают, одно делал — ложки липовые резал. Как у других трубку перед сном выкурить, у него заведено три ложки сделать. Присноровился — глядеть удивительно. Ровно сам ножик по болванке ходит. Он и не глянет, кирасирам небылицы плетет, а ножиком резьк да резьк — и ложка готова. Невелик доход, по полушке штука, а в год рублей на сорок, сказывал, потому в праздники после обедни и двадцать штук настругает. В отставку вышел, и глядь — домик в Луге купил. Живет как мещанин, никому ни в шапочку, невесту богатую высватал. Еще Максимов у нас в команде был. Сапожничал лет двадцать. Все, бывало, вечерами тачает да подковыривает. Ан в Рыбацком селе сеном да овсом торговать зачал, тоже домик, коров, лошадей держит, работники мордастые, стряпуха — что преображенец. С сапогов-то! Да еще сколько у каждого на войну лет ушло. Хоть и в походе мастерство пригодно. Недаром говорят, уменье пить-есть не просит, а копейку приносит. А ты, деньги нонче отдавши, с чем остался? — закончил свое поучение вахмистр.
— А на что они мне, Семен Елизарыч?
— Пустые твои слова. Были деньги — что хотел, то и делал: аль хранил, аль прогулял, аль кровным отдал. А теперь что? К примеру, через год от ремонта на побывку прибыл, а подарить их нечем. Хорош гвардеец да кавалер!
Они дошли до берега и начали раздеваться.
— Погоди в воду лезть, остынуть надобно, — приказал вахмистр, оставшись в одной рубахе, и продолжал наставительно: — Ты гляди, Красовский наш на что чудён, а и тот деньгу копит.
— А у него какое же мастерство?
— Сильно грамотен. Бумагу любую аль письмо кирасиру лучше писаря намахает. Однако с того доход плевый. Больше от офицеров: кому песни на розовую бумажку красиво спишет, чтобы барышне поднесть, кому доклад по начальству, а кому и целую книгу настрочит. Так выводит, что твоя печать, и все с хвостами. Перья, другой раз, полчаса зачинивает, зато как возьмется, то часами и выводит. В городе его многие господа знали, теперь в Стрельне слухом прошел, — чиновники, барыни заказы дают.
— А он на что же деньги копит? — спросил Иванов.
— На обзаведение, как в офицеры выйдет да в смотрители госпитальные определится, раз рука у его сильная есть.
— Какая, Семен Елизарыч?
— Генерал ему один друг-приятель. Ей-богу… Ну, полезли, что ли, не застудиться б на ветру. — Вахмистр, перекрестясь, вошел в воду и, окунувшись, поплыл на середину реки.
— Сродственник, что ли? — спросил Иванов, когда они вышли из воды и, дрожа, натягивали рубахи.
— Кто сродственник?.. Генерал-то?.. Да нет, говорю тебе — приятель. Души в Красовском не чает.
— Статочное ли дело? Генерал — и унтер простой.
— Ясно, за редкость можно счесть, — согласился вахмистр. — Сказывают, долго сам солдатом служил. Красовский ему и деньги свои на сохран носит. Через его тоже немало переписки: тому-другому похвалит. Прошлый год в Стрельну приехал, зашел в казарму, вызвал Красовского да при всех и расцеловал. «Здорово», — говорит, по имени-отчеству. Главный он инспектор над всеми гошпиталями. Так лекаря стрелинские Красовскому и шлют теперь бумаги на переписку, благо по-иностранному может… Ну, пошли, что ли?
— Где же генерал узнал его? — продолжал спрашивать Иванов.
— Все с письменности и пошло, — отозвался Елизаров, — когда был еще прапорщиком по той же части у самого Суворова. Вон когда дело-то было — боле двадцати годов прошло. Понадобилось на переписку еще человека, кликнули в ближнем полку, нет ли, мол, грамотея. Тут Красовского послали, и завелась у них дружба. Другой бы через нее давно чиновником вышел, с тем генералом безотлучно кочевал. А он все на коне, все унтер.
— Чего же так?
— Вот поди же! Я, говорит, целые дни спину гнуть не согласен. Мне с конем здоровей. Ему кирасиры толкуют: «Все одно вечерами глаза слепишь, а там бы чины происходил». А он: «Тут я пишу, что мне по душе, а не разную дрязгу казенную».
— А на что же ему деньги в смотрителях? — спросил Иванов. — Там и так, сказывают, доход немалый.
— Опять же чудит. Надо, мол, только на обзаведение, а с жалованья по правде жить стану, раз привычки мои солдатские. Да известно: эполеты наденет, то и норов другой заведется…
Разговор этот, затеянный вахмистром после рассказа Красовского, что Иванов опять задумывается, достиг своей цели. С этого вечера мысли ефрейтора окончательно повернулись на будущее, где засветилась возможность свидеться с близкими, знающими теперь, что он живой. Умаявшись за перегон и выполнив все, что полагалось на биваке, он перед сном несколько минут думал, что, верно, надо жить по-иному, чем до сих пор. Про себя одного забота была, а про стариков вовсе не думал. Перебирал сотни раз Мишуткин рассказ, и все чаще, оттесняя бессильную злобу, хватали за душу отцовы слова: «Был бы мой Санька живой, выслужил бы офицера, так показал бы барину кузькину мать, а то выкупил бы нас на волю…»
Конечно, отцова речь вроде ребячьей — даже из грамотных унтеров не все в офицеры выходят. А чтоб в городничие или в смотрители какие, так надо сильную руку поиметь… И даже этакое место по щучьему веленью получивши, все не сумел бы с людей деньги драть… Но не в том сейчас сила, а коли бьют старика в два кнута и не на кого ему, пусть по-ребячьи, понадеяться, кроме сына-солдата, так надобно хоть копейку про них, про деревенских своих, выколачивать. Вот заработали же кирасиры честным трудом на покупку домика, на торговлю. А за такие деньги и людей выкупить можно… Может, не нужно было те сотни с Мишкой отправлять, а помалу подбавлять, чтоб потом разом?.. Да как? Еще надобно найти кого-то из благородных, который взялся бы с Иваном Евплычем торговаться да деньги не присвоил и, купивши, им вольную еще дал. А где такого барина сыскать? Разве Красовский, если в офицеры выйдет?
Нет, хорошо, что отправил. Правду вахмистр сказал: солдатская жизнь самая неверная — нынче здоров, а завтра в лазарете от брюха помираешь. Или палками забьют, и пойдет все скопленное в карман лазаретному фельдшеру. Или сыщется еще Алевчук, сымет с сонного, что сберег, и поминай как звали… А у отца они в верных руках. Не спеша, сто раз обдумавши, каждую копейку на дело пустит. Сам помрет — братьям оставит. Только бы Мишутка довез, не заметили бы, не отняли бы…
Иванов был человеком, подвластным одному стремлению. Оно медленно созревало, постепенно подчиняя себе его душевные силы, и нужно было пережить и передумать многое, чтобы заставить расстаться с ним, изменить весь строй его чувств и мыслей. Так под влиянием окружавшей его жестокости медленно и мучительно переходил ефрейтор от свойственного ему спокойного добродушия к безнадежности и отчаянию, к убеждению, что нужно скорей разделаться с постылой жизнью, раз все равно заколотит его проклятый Вейсман. И так же теперь, когда появилась надежда жить иначе, когда отдохнул за поход от муштры, ощутил бедный и неказистый, но живой мир больших дорог и придорожных деревень, в ефрейторе, обласканном Красовским и Елизаровым, постепенно созревало убеждение, что в Козловке, где властвует барин Карбовский и кат Степка, жизнь куда хуже, чем его теперешняя в ремонтерской команде. А из этого неизбежно рождалась мысль, что если он, сын и брат тех, кто гнется на тяжкой барщине, может хоть отчасти оправдать надежду стариков, которые не одну слезу пролили за упокой его души, то как же ему думать про домишко в Рыбацком или торговлю овсом? Какой сладкий кусок в горло полезет, когда их там плетью полосуют?..
Недели через три после разговора с вахмистром, когда уже подходили к Москве, опять после купания Иванов спросил:
— Семен Елизарыч, а у тебя в деревне есть ли кто?
— Никого. Был старший брат, бурлаком по Шексне ходил, да помер в тот год, как меня в набор сдали. Чего спрашиваешь?
— Думаю, как ежели в деревне свои остались, то, деньгами разжившись, можно им помочь не подать? Вот Позднов, к примеру, или Максимов, вовсе безродные?
— Эх, простота! — усмехнулся вахмистр. — Бывает, попервости и тоскует который по своим, а как за десять — пятнадцать годов службы перевалит, то где же помнить? Наш обиход с деревней вовсе не сходственный: знай вертись по приказу. Солдат — что ломоть отрезанный да в казенный сухарь засушенный. Вся память в нем, вся душа человеческая ссохнется, зачерствеет. Что ему родство, когда в деревню не ворочаться? Легче не вспоминать, душу зря бередить… А коли в чиновники, в офицеры инвалидные лет через двадцать произведут, то вовсе крови простой застыдится, охота ему, чтоб дети в благородные вышли.
— Так не слыхивали, чтобы кто из солдат, мастерство знающих, задумывал сродственников выручать? — опечалился ефрейтор.
— Задумывал на моей памяти только один улан в прежнем полку, Карповым прозывался, Андреем. Все, бывало, кликали — Карпов Андрюшка, а то Андреев Карпушка, так складно. Ну, запала ему блажь девку одну от господ бывших выкупить.
У Иванова заныло нутро: «Неужто Дашу выкупить мог? Так нет же, отдали сряду за Степку. Какие деньги у молодого солдата?»
А вахмистр продолжал:
— Что промеж их было, не сказывал, а не мог ее забыть. Я, бывало, смеюсь: «И чего она тебе далась? Разве девок да баб кругом мало?» А он отшутится и все ремесленничает, — истинно был на все руки: и сапожник, и швец, и шорник, и кузнец. А денежку к денежке, в поясок-чересок. Однажды на смешки мои все же сказал: «Пущай здешние девки другим на усладу, а я ей обещался, коль жив останусь, от барина выкупить и за себя взять». — «Да на что ж, — я ему говорю, — она тебе лет через десять? Барин ее, может, давно замуж выдал, и тебе завтра всякое приключится».
— А он?
— Упрямый был. Мне, говорил, про то думать не приходится. Мне, раз ей обещался, одно свое дело знать. А без его, того дела то есть, от нашей службы — эскадронный у нас лютый был — только в прорубь… — Елизаров не спеша вынул табакерку и стал набирать щепоть для понюшки.
— Так выкупил он ее? — дрогнувшим голосом спросил ефрейтор.
— Коли уцелел, так уж, верно, выкупил. Перед войной рублей пятьдесят скопил, стал с чиновником одним ладиться, чтобы барину отписал и все обделал на свое имя. Так запросил, бессовестная харя, за то еще двадцать рублей, которых Карпушке где взять?.. А тут вскоре и поход объявили. — Вахмистр неторопливо втянул табак одной ноздрей, потом второй, чихнул и аккуратно утер усы ладонью.
8
На рассвете августовского дня ремонтерская команда прошла от Московской заставы на Петергофское шоссе и в тот же день водворилась в Стрельне, в казармах запасного эскадрона. Стоявший летом в Стрельне и окрестностях весь Конный полк уже выступил в лагерь под Красное, где шла подготовка к маневрам, и кирасиры-«запасники» снова зажили сравнительно вольно в своих старых деревянных казармах с просторными конюшнями, фуражными сараями, мастерскими и кузницами. Строем здесь занимались, только чтобы не оплошать перед начальством в малочисленном карауле. Все время не шедших в наряд чинов было поглощено приведенными конями — их кормом, чисткой и начальной выездкой. Требовалось приготовить ремонт к смотру командира полка и дивизионного генерала, которые могли приехать в любой день. Вечерами кирасиры ходили полоть и поливать большой огород, где выращивали овощи для зимнего продовольствия полка. Ходили без начальников и, поработав час-другой, присаживались покурить, купались в заливе, а то валялись на сене, благо на соседнем плац-параде в это время года никто не учился, а от большой дороги их скрывали деревья расположенного тут же кладбища. Рассказывали, что, когда в здешнем дворце жил цесаревич Константин, все бывало иначе. Придирчивый шеф конногвардейцев совал нос во все мелочи жизни запасного эскадрона. Но с тех пор как царь сделал брата главнокомандующим в Польше, Стрельна затихла. Правда, через нее пролегало шоссе, вдоль которого, ближе к Петербургу, стояли аристократические дачи-усадьбы и Сергиев монастырь, а в другую сторону — Петергоф и Ораниенбаум с их дворцами. По шоссе то и дело мелькали экипажи, в каждом из которых мог сидеть начальник. Хорошо еще, что император Александр больше любил Царское Село и, главное, что Стрельна считалась майоратом цесаревича, который не терпел, чтобы здесь кто-то командовал.
Иванову запахи теплой земли и огородных растений, самые прикосновения к ним доставляли удовольствие. А Красовский если и приходил сюда, то раскидывался где-нибудь под кустом и, покуривая трубку, без конца смотрел на сверкающую воду, на паруса проплывавших мимо кораблей. Наработавшись, Иванов оттирал руки песком и подсаживался к унтеру.
— Как же вышло, Александр Герасимыч, что у нашего полка да у лейб-уланов огороды свои, а другие полки все овощь покупают? — спросил как-то ефрейтор.
— Такое благодеяние нам шеф оказал, — ответил Красовский. — На месте, солдату самом веселом, — за кладбищем и рядом с плац-парадом, — велел отвести пустырь и дозволил его казенным навозом удобрить. Так что не зря станут тебе его доброту выхвалять. Но ежели меня спросишь, каков сей генерал-инспектор всей кавалерии, то скажу, — он оглянулся, не слышит ли их кто, — что человек самый пустой и военному делу вредный.
— Да что вы? — удивился Иванов.
— Вот и «что вы»! — подтвердил унтер-офицер. — На счастье наше, в Польшу убрался. Вбили ему с детства в башку, что все военное дело в чистоте строя, в позитуре да артикулах ружьем и саблей — словом, в красоте, как дураки ее понимают. Еще чтоб лошади были толсты и лоснились. А что все сие для войны не нужно или вредно, он и знать не хочет. Для войны другие люди сыщутся. Вот я в полку сем с тысяча восьмисотого года, был под Фридландом, где за полчаса восемьдесят кирасир и пять офицеров убито да двести пятьдесят изранено, был под Бородином и Кульмом. Где же наш шеф тогда обретался? Ни в одном бою его не видели. А вот отдать дурацкий приказ по всей коннице, чтобы проездки зимой делать не чаще раза в неделю, шагом и рысью до первого пота, или чтобы на маневрах ходили не быстрей курцгалопа, — вот на такое он мастер. Или еще посадка, им придуманная, по которой плечо, колено и носок сапога положены на одной отвесной линии… Что дурней придумать можно? Сие значит не сидеть, а стоять на длинных стременах, изломавшись против всех законов телосложения. Или еще составленное по его приказу расписание, что возить в сумах и на себе: кроме веса своего в четыре с лишком пуда, еще пять пудов всякой глупости на коня вьючим… Только ты, Иванов, молчи про такой наш разговор. Слышишь?
— Как не слышать, Александр Герасимыч…
Верно, с ведома Елизарова Красовский указал Иванову поместиться в небольшом флигеле близ конюшен. Здесь жило всего пятнадцать кирасир, занятых первой выездкой неуков. С ними на плац стал ходить и ефрейтор, пока только седлавший коней и державший корду. Во флигеле Красовский был за старшего, у него одного стояла отдельная кровать в углу и стол. За ним, встав раньше всех, переписывал бумаги до трубы, игравшей подъем запасному эскадрону. Берясь за перо, он неизменно бормотал вполголоса: «Aurora musis arnica»[24] — что кирасиры считали за молитву.
Через неделю после водворения в Стрельну Красовский повел в город пару соловых, купленных в Лебедяни для Вейсмана. Возвратился он поздно и, поманив к себе Иванова, сказал:
— Радуйся, amicus[25], Вейсман третий эскадрон сдает другому барону — Пилару. Произвели в полковники и когорту армейскую дают, где станет себе во славу людей калечить.
— Да уж, разгуляется, — вздохнул ефрейтор.
— Но тебе одно важно, — поднял палец Красовский, — что коли обратно в эскадрон, то Пилара я знаю, он немец добрейший.
— Так мне обратно идти? — всполошился Иванов.
— Того не слыхать. Наоборот, с Елизаровым вчерась рассудили, что сейчас поручику к барону соваться не время, а пока надобно тебе carpe diem[26] ремеслу какому-то учиться. А потому я, из города на подводе со стариком Ереминым едучи, про тебя беседу завел. Ergo[27] завтра после обеда возьми приличный презент — и марш к нему в науку.
На другой день, купивши вязку баранок и полуштоф перцовой, Иванов отправился в стоявшую на задах казарменного участка мастерскую, где изготовлялись платяные, сапожные и конские щетки на всю тысячу кирасир и столько же лошадей полка.
Сгорбленный, с прозеленью в бакенбардах инвалид Еремин благосклонно принял дары, выслушал просьбу Иванова и, оглядевши значительно трех юных подмастерьев-кантонистов, сказал:
— Вы, нерадивые неслухи, знай время мотаете. То их мухи кусают, то покурить выйтить. А кавалер сам в науку просится. Скидай, братец, колет, садись щетину отбирать, как я покажу.
Еремин оказался отличным учителем. Сажал Иванова рядом и, зорко приглядывая, что делает, либо толковал свое мастерство, либо повествовал о полковой жизни с 1764 года, когда «за рост и красу» определен из рекрутов рейтаром в Конный полк. Иванов услышал, как на полковой конный завод в Тамбовской губернии приходили пугачевские молодцы и увели лучших коней, а Еремин им не покорился и угнал из-под носу трех племенных жеребцов, за что не было ему никакого награждения. Или о летнем походе 1788 года, когда за три месяца не слышали выстрела шведов, а все получили серебряные медали. А то рассказывал про время Павла Петровича, когда полк разместили в Таврическом дворце, настлавши нары в два яруса в парадных покоях князя Потемкина и приколотив к расписным стенам стойки для карабинов и палашей. Рассказывал и о том, что до царствования Павла все щетки полку поставлял мастер Богдан Карлыч Буш, который и его, Еремина, обучил. Добрый и честный немец жил бедняком, спал в каморке при мастерской, а парик посыпал от вшей нюхательным табаком…
Так и повелось. С утра Иванов четыре часа проводил на уборке и выездке молодых коней. Здесь старшим чаще бывал Красовский. Поручик в ожидании приема ремонта и расчетов жил поблизости на даче и в команду не показывался, вахмистр возился со списками коней и отчетом на продовольствие команды в дороге, а деятельный унтер, поработав с самой зари за столом, являлся в восемь часов на плац. Тщательно осмотрев выведенных на езду лошадей, Красовский то сам садился в седло, то присматривал за работой наездников, двигавшихся по кругу сменой. При этом он одобрительно покрякивал: «Pulchre! Recte!»[28] Или, осердясь, орал страшным голосом: «Cave ne cedas![29] Как сидишь?! Quos ego[30]».
Иванову от него доставалось редко, — еще в Екатеринославском полку прошел хорошую школу, кони ходили под ним послушно и спокойно. А после обеда ефрейтор отправлялся в щеточную и, случалось, дотемна, когда уже давно ушли подмастерья, слушал байки Еремина и набивал руку. Через месяц он сделал две первые подарочные щетки, обе платяные, продолговатые, с оттертыми воском до сухого блеска спинками и с желобками для пальцев по сторонам колодок. Старый мастер их одобрил, и ефрейтор понес признанную лучшей Елизарову, а осужденную за чуть скривленную рассадку волоса — Красовскому.
Вахмистра дома не оказалось — пошел с вечерним докладом к эскадронному командиру, и ефрейтор оставил подарок его жене. А Красовский, собиравшийся идти со двора, облобызал дарителя и, провозгласив: «Labor omnia vicit!..»[31] — сунул ему в руку щетку и подставил спину, сказавши:
— Елизарову как хочешь, а мне шкалик поставь…
Смотр ремонта прошел хорошо. Все откормленные до жира и отчищенные до атласного блеска лошади были приняты, и поручик Гнездовский, получив благодарность двух генералов, уехал в отпуск. Желтели и краснели столетние деревья дворцового парка. Красовский перенес письменные занятия на вечер и, зажегши дорогую восковую свечу, подолгу склонялся над своим столиком.
Иванов, которого темнота все раньше выгоняла из мастерской, подсаживался к унтеру и следил, как уверенно скользит кончик остро очинённого пера, выводя стройные крючки букв. Изредка Красовский взглядывал на ефрейтора, приговаривая:
— Смотри, коли занятно, но без рук и тут ничего не постигнешь.
Так прошел десяток осенних вечеров, пока унтер не спросил:
— А хочешь, премудрости сей обучу, sancta simplicitas?[32] Грамота и в службе помогает.
— Как не хотеть, Александр Герасимыч!
— Тогда попытаем, каково твое понятие, — сказал унтер и, наклонясь, выдвинул из-под лавки железный противень, насыпанный сухим песком, который поставил на край стола между собой и ефрейтором. Потом продолжал: — Придумали умники без доски грифельной и без бумаги обходиться. Сиди тут да черти перстом вот этакие литеры, — он подал Иванову карточку с тремя четко выведенными печатными буквами. — Как начертишь каждую раз пятьдесят — аз, буки, веди, — то мне покажешь. Я проверю и новые три дам. Знай черти да заравнивай, пока не выйдут…
Так началось обучение Иванова грамоте по модной в то время ланкастерской системе. Стала вдруг воплощаться затаенная мечта многих тогдашних простых людей. И в первые минуты, когда понял это, сердце заколотилось, как на смотру строгого начальника: «Сумею ли, не осрамлюсь ли?»
Поначалу пальцы не слушались, выводили совсем не то, и ефрейтор так вздыхал, что Красовский не раз с усмешкой посматривал на песок. А потом помаленьку пошло-таки на лад.
В этот вечер Иванов запомнил и отчетливо стал чертить первые три буквы алфавита, на второй, на третий по стольку же и научился складывать слова: «баба», «еж», «дед». Он так завлекся грамотой, что видел буквы во сне, так вспоминал о них на плацу и в щеточной, что получал нахлобучки от Елизарова и Еремина. Заметив, что раскладывает на верстаке случившиеся там медные гвоздики, старый мастер сердито заворчал:
— Ты перво щетину научись крепко вязать да дерево полировать, а потом узоры из гвоздей наводи. Велика краса будет, ежель щетка лезть начнет? Гвоздей не штука набить узором да деньги взять…
Прошла неделя, ефрейтор выучил уже двадцать букв, до самого «у», и с радостной улыбкой складывал из них все новые, такие знакомые слова: «полк», «седло», «потник».
Но тут обучение нежданно приостановилось. В этот вечер, придя из мастерской, Иванов не нашел унтера. Наездники сказали, что недавно Красовского кликнули к командиру эскадрона и с тех пор не возвращался. Принесли и роздали ужин — всегдашнюю пшеничную кашу. Присев на обычное место, Иванов для практики выводил на песке знакомые буквы, а кое-кто уже похрапывал по нарам, когда за дверью послышался голос Красовского. Через минуту он стоял на пороге, нагруженный двумя штофами водки, караваями хлеба и свертком бумаги, из которого торчали рыбьи хвосты.
— Acta est fabula![33] — воскликнул унтер. — Зажигай светильники, тащи каждый свою черепку. Всех угощает Красовский.
Мигом все были на ногах. При свете собственных фонарей кто резал хлеб, кто рыбу, кто разлил водку по посудинам. И тут унтер рассказал, что командир прочел ему приказ о том, что срок службы всем нижним чинам гвардии сокращен до двадцати двух лет, и, переведя дух, воскликнул:
— Ergo bibamus[34], братья, за всех, кто по сему приказу кончит солдатчину. Чтоб было им в отставке хоть хлеба вволю!..
Все выпили и расцеловались с ним и с двумя еще кирасирами, которых срок также вышел. Тут Красовский велел разлить второй штоф и добавил, что по тому же приказу прослужившие десять лет, а не двенадцать, как раньше, унтерами беспорочно, будут по совсем не трудному экзамену производиться в армейские корнеты, а потому могут его поздравлять, раз скоро окажется в эполетах.
Все опять выпили, расцеловались уже с одним Красовским и стали считать, кто еще в полку скоро выйдет в офицеры. Но сам унтер разом осовел, таращил глаза и объяснил, что от ротмистра пошел к Елизарову, где отпраздновали, потом в кабак за угощением и там тоже выпил. Помогли ему раздеться, лечь и укрыться.
— Простите, братцы, homo sum[35]…— пробормотал он и захрапел.
А Иванов долго не мог уснуть. Выпил он немного — что на семнадцать кирасир два штофа? Все взбудоражились от приказа и, уже потушивши огни, считали свои годы. Ефрейтор молчал. Ему-то в отставку через двенадцать лет. И хотя рад за Красовского, но себе выходила большая перемена. Сколько от него заботы видел? Забирала тревога — не ушел бы и Елизаров, не порушилась бы вся везучая впервой в жизни полоса…
Еще с неделю Красовский сидел вечерами за перепиской и ждал вызова из полковой канцелярии. За эти дни он обучил Иванова всем буквам и вручил лист, на котором вывел печатные литеры алфавита и под ними такие, как употребляют в письме.
— Читать практикуйся по печати, — наставлял он, — и записать все так можешь. А письменное дело уже второе, ему бы тоже шутя выучился, да вот приказ-то…
В начале ноября, придя на езду, вахмистр Елизаров приказал Иванову спешиться и, отведя в сторону, сказал:
— Так что, Александра, не дает тебе Пилар перевода. Бумагу прислал: раз ремонт сдали, то шлите моего ефрейтора. — Видно, лицо Иванова изменилось, потому что вахмистр продолжал: — Позабыл, должно, поручик к ему перед отпуском заехать. А уж как обещал: «Хорошо, вахмистр. Не премину, вахмистр», — передразнил он Гнездо вского. — Однако ты, братец, не крушись. Слыхать, Пилар совсем иная статья, а на ту весну я снова стану тебя хлопотать…
Иванов и сам знал, что новый командир редко кого ударит, а больше пальцем грозит и по-немецки бранится. Но ведь в Петербурге — строй, разводы, караулы, форма проклятущая парадная, которой больше полугода не надевал… Да еще, того гляди, Жученков в отставку уйдет…
Через сутки он шагал по Петергофскому шоссе вместе с четырьмя кирасирами, также возвращаемыми в эскадроны после ремонтерского лета. Шли налегке, их сундучки Елизаров обещал прислать завтра подводой. Только у одного Иванова за плечом побрякивал мешочек. Когда перед самым уходом заглянул проститься в щеточную, старый мастер наградил его целым обзаведением — сверлами, железными шаблонами для разметки дыр на колодках и тисками для приклейки крышек, сказав в поучение, что без снасти только блох ловят. От такого душевного прощания Иванов повеселел, — знать, хорошие люди везде сыщутся…
Товарищи встретили словами, что Пилару только старайся, он зря не обидит. Расспрашивали про побег Алевчука, которого, слышно, привезли в Петербург и вот-вот засудят. Тут Жученков кликнул в свою каморку, подтвердил успокоительное про командира, потом угостил зачерствелой кромкой белого пирога, испеченного «кумой», расспросил, как удалось передать деньги родным.
Кирасиры уже месяц работали в городе, набирая деньги на общий котел. Иванов обещал внести свою долю в артель и засел за щетки. Первое дело — изготовить по паре барону Пилару, старшему субалтерну поручику Бреверну и Жученкову, а уж потом на продажу. Гнись да гнись в эскадроне, пока все на работах. А распрямишься для отдыха, то поглазей в окошко, как вываживает вестовой офицерскую лошадь после проездки или пробежит писарь с бумагами. И опять за работу — сверли, вяжи, клей, полируй…
Подарочные пары получились, без хвастовства сказать, хороши — легкие, красивые, с ровным, в шашечку рассаженным белым и черным волосом и светлым, как волна текучим деревом. Толстый, высокий ротмистр Пилар, к которому пошел на квартиру у Аларчина моста, очень похвалил за трудолюбие и, покопавшись в кошельке, подал четыре двугривенных. И поручик Бреверн пожаловал целковый. Вот сразу и выручил без малого два рубля, которые надо внести в артель. А Жученков позвал к себе, угощал пирогами и обещался расхвалить его работу писарям и фельдшерам, у которых водятся деньги.
Теперь пришлось думать о необходимом материале, небольшой запас которого добряк Еремин привязал в холстине к сундучку Иванова, доставленному из Стрельны. Он же, спасибо, так растолковал, у кого в Апраксином и Никольском лучше покупать щетину, воск и липовые колодки, что Иванов запомнил все, как «Отче наш» или как буквы, которые теперь чертил иногда мелом на черной доске эскадронного квартирмистра, считавшего на ней суточный расход фуража.
В середине ноября из полковой канцелярии передали, что унтера, выслужившие срок, держали экзамен при штабе дивизии и лучше всех отвечал Красовский. Однако к Иванову, хоть обещал при прощании, не показался. Что же, дел у него довольно, да и сколько таких ефрейторов около перебывало…
Но прошли две недели, и возвратившийся с доклада у командира эскадрона Жученков сказал:
— Приходил при мне к барону Красовский, просил, тебя в субботу на гулянку с ночевкой чтоб отпустили. Производство им вышло, с примерки шел.
— В Стрельну ехать? — спросил Иванов.
— Будто так, — кивнул вахмистр. — Хотел сам за тобой быть.
В назначенный день Иванов изготовился, как к светлому празднику. Почистил мелом кресты и медали, пуговицы колета довел до жаркого блеска, новые сапоги наваксил, как зеркало, а шпоры отполировал шомполом, будто серебряные. После обеда побрился, нафабрил усы и бакенбарды и сел за работу, как всегда, в старых рейтузах и холщовом кителе.
Несколько кирасир, зашабашивших в артели по-субботнему, залегли отдыхать на нары.
— А слыхать, Алевчуку приговор вышел — три тысячи, — сказал один, — нынче назначено было, да, видно, отменили.
— Сказывали, плох совсем, в арестантской лежит, кровью харкает, — отозвался другой. — Может, не доживет.
— Оно б и лучше, своей-то смертью.
И опять стали расспрашивать, как все было в Лебедяни. Иванов пересказал, умолчавши, как всегда, кто подбил глаз беглецу, а когда разговор пошел о другом, углубился в работу, думая про чудную людскую судьбу. Вот уж истинно кому что: Красовский офицерство празднует, а беднягу Алевчука нынче же сквозь строй назначено гнать, на мучительную верную смерть. Или еще он сам, Иванов, год назад руки на себя готов был наложить, а нонче, разом ремеслу и грамоте обученный, деньги собрался копить. У Алевчука тоже было, кажись, двенадцать лет отслужено, и с новым бы командиром после ремонтерской поправки тянул бы да тянул… Или не лез бы деньги воровать, а далече где-нибудь коней продал да замешался бы в народ бродягой, каких, сказывают, много у теплого моря. В матросы будто наняться можно, к грекам уплыть, которые нашей веры…
Красовский пришел в новенькой форме — под распахнутой шинелью мундир с золотыми эполетами. Хохол и виски завиты, и на лице сияние, — ничего, что переносица переломлена, сразу видно счастливого человека. Только непривычно, что без усов, которые не положены офицерам, кроме легкой кавалерии. Едва поспел осторожно снять шляпу, как кирасиры обступили, пошли объятия, — многие знали, когда служил в строю. А Иванов, пользуясь сумятицей, убрал свой инструмент и стал одеваться.
— Совсем ужинать собрался, — сказал он, когда Красовский подошел к нему, — думал, когда же до Стрельны доберемся?
— А мы здесь, в городе, праздновать будем, — ответил новый офицер. — У нас небось не заголодаешь и без казенного харча.
Когда вышли из полковых ворот, у Николы Морского благовестили к вечерне. Набережная Мойки белела недавним снегом.
— Предлагал Елизаров на тележке подвезти, да я отказался, — заговорил Красовский, — не сумел расчесть, когда куафер высвободит и за тобой доберусь. Ну, да мы per pedes apostolorum[36] до самого покоя, который генерал под праздник назначил.
— Где же таков покой и что за генерал, Александр Герасимыч?
— Генерал тот Семен Христофорович Ставраков, главный инспектор гошпиталей, а покой — на Песках, во флигеле, где его канцелярия. Сам предложил, чтоб мне на трактир не тратиться, и повару своему всю трапезу заказал. Далеконько, но поспеем. На шесть часов генерал сбор назначил. Сворачивай на Офицерскую да по Гороховой, по Фонтанке.
— Неужто и сам генерал будут? — боязливо спросил ефрейтор.
— Всенепременно… Да не робей. Он генерал особенный, сам одиннадцать лет унтером трубил и время то очень помнит. А остальные гости — кирасиры наши.
— А генеральша на вас не осердится, — продолжал спрашивать Иванов, — что повара от ихнего дома отвели?
— Да нет никакой генеральши, холостяга Семен Христофорович, как мы с тобой. Некогда жениться было. Считали третьего дня, что в походах пятнадцать лет провел. Capistrum maritale[37], то есть хомут брачный, частых отлучек не терпит. Сказывал, что поручиком хотел жениться, да не отдали девицу за малого чином.
— Где ж он воевал?
— Лучше спроси, где не воевал. В Италии и Швейцарии у Суворова адъютантом, в Моравии, под Рущуком, и в последнем походе при Кутузове, а промеж сего при Багратионе, Каменском, Беннигсене и Барклае, — при всех, кто нашими войсками командовал, бригад-майором состоял.
— Что за должность такая? — осведомился Иванов.
— Вроде начальника походной канцелярии, — пояснил Красовский. — А в последнюю войну комендантом главной квартиры до Парижа дошел и на тридцатом году службы в генералы произведен. Про него среди генералов, сказывают, поговорка сложена: «Без Ставракова воевать нельзя». Значит, не было такой войны с суворовского времени, чтобы в действующей армии не оказался.
— А лазаретами править ему не тягостно?
— Нет, говорит. Верно, для иного генерала места спокойней не придумать, а ему самым хлопотным стало — полгода в разъездах. Без упреждения с черного хода по каморам лазаретным пройдет да у больных одеяла, подушки, сенники осмотрит. А то в кухню нагрянет и пищу в котлах пробует. Навел, сказывают, небывалого страху на экономов и лекарей… И вот что тебе скажу, раз вроде как в гости к нему идем. Есть такая поговорка древняя: amicitias tibi junge pares[38] — не тянись к начальству в приятели. Век я этого правила держался, а со Ставраковым двадцать лет видаюсь, и гордость моя не в ущербе. Помощи и заступы разу не просил, а есть у нас с молодых лет, когда в одном домишке квартировали, что вспомянуть. Время было вовсе иное, под Суворовым служа, николи шагистикой и флигельманством не занимались…
Уже стемнело, когда на немощеной Слоновой улице зашагали мостками, проложенными вдоль низеньких домов, заборов и пустырей. Недалеко от Смольного собора свернули в глубь госпитального участка и за деревянными бараками, в незавешенных окнах которых мерцали редкие огоньки, подошли к флигелю, все пять окон которого горели ярким светом.
— Сам увидишь, что робеть сего генерала не след, — сказал Красовский.
Из прихожей, где скинули шинели, увидели комнату в три окна и в длину ее составленные, должно быть, канцелярские столы, накрытые белой скатертью, уставленные приборами, блюдами, бутылками и освещенные двумя канделябрами. У стены против окон на деревянном диване сидели пятеро конногвардейцев, которые теперь разом встали. Белые колеты стеной двинулись навстречу Красовскому. Тут, кроме Елизарова, были два унтера из запасного эскадрона да два из первого, где раньше служил Красовский. Пошли поздравления, осмотр новой формы, но все нет-нет да поглядывали на затворенные двери соседней комнаты.
— Пойду доложу, что гости в сборе, — сказал Красовский.
Но тут дверь отворилась, и вошли двое в офицерских сюртуках без эполет. Оба небольшого роста, чернявые.
— Здравствуйте, гости дорогие! — сказал тот, что был постарше, с заметной сединой.
— Здравия желаем, ваше превосходительство! — гаркнули конногвардейцы.
— Я, братцы, тут не превосходительство, а Семен Христофорыч, такой же Красовскому старый приятель и нынче гость, как вы, — проговорил генерал, подходя к столу. Тут он указал на стоявшего рядом офицера: — Рекомендую — брат мой, Иван Христофорыч, тоже Красовскому давний знакомец. Когда мы в Тульчине у покойного Александра Васильевича рядом перьями скрипели, он на палочке верхом по двору скакал и Красовский его в латыни наставлял. А теперь полковник, в Москве славным полком командует и ко мне в отпуск приехал… Ну, прошу садиться. У нас по-походному, все на одном столе. Как закуски прикончим, здесь же рыбное и мясное подадут…
По сторонам генерала сели его брат и Красовский.
— Наливайте-ка, ребята, водочки да готовьте пыжи, — сказал Семен Христофорыч. Он дал время выполнить приказ, потом встал с рюмкой в руке и, когда все поднялись, провозгласил: — За здоровье честного русского воина корнета Красовского, которого все уважаем, любим и желаем ему чинов, места хорошего, где бы служил с пользой родине, да еще офицершу по вкусу, чтобы миловала да холила!..
Во время речи Иванов смотрел в хорошо освещенное лицо генерала, моложавое, добродушное, и думал: «Вот чудно! Такой приветливый да чиновный — и не женат, один остался».
В следующий час виновник пирования произнес тосты за генерала, за полковника, за Конную гвардию и за остальных гостей. Все пили и ели настолько исправно, что, забыв субординацию, загалдели, протестуя, когда к крыльцу подъехали сани и братья Ставраковы встали, чтобы куда-то ехать. Но только проводили их, как будто по команде начали расстегивать крючки воротников и пуговицы на животах. При генерале, как ни ласков, о том никто не подумал.
А расстегнуться давно было пора. За обильной закуской на столе сменились пироги трех начинок, рыба заливная и жареная, говядина, баранина и цыплятина, которые без остатка уходили в кирасирские утробы, заливаемые водкой и донским вином. Старый лакей Ставракова, именем Никандр, посмеиваясь, убирал опустевшие блюда, ставил новые. Сам отставной солдат, знал, сколько могут съесть семь здоровых служивых, много лет живущих на казенных харчах вполсыта. Ели да похваливали повара, жалели, что не могут поднести ему стаканчик, раз ушел на генеральскую квартиру, и за него угощали Никандра.
Потом пили чай до седьмого пота со сладкими уже пирогами и медом, после которого скинули колеты, пели песни хором и каждый свою любимую, плясали под балалайку, которую Никандр принес от соседа, фельдшера, обнимались с Красовским, над которым шутили, что обменял усы на эполеты. Один Елизаров хотя стал красен, как их погоны, пел да обнимался, но сохранял степенность и, отказавшись плясать, пошел проведать коня, поставленного в госпитальной конюшне. Но заблудился в темноте, возвратился за фонарем и пошел снова в сопровождении Никандра.
За полночь стали готовиться ко сну. В передней оказались приготовлены семь новых госпитальных сенников, столько же подушек и одеял. Их разложили в ряд на полу, отодвинув стол к окнам. Только Красовскому постлали на деревянном диване, хотя и просился в кучу. Никандр вдруг закосневшим языком уверял, что все чистое, сам носил из цейхгауза, но Елизаров, первым залегший к стенке, нюхал свою подушку и чихал, уверяя, что пахнет аптекой. От такого разговора кирасиры кисли со смеху, как ребята, валялись по общей постели и едва сумели стащить друг другу сапоги.
Когда Иванов проснулся, было светло, соседние постели убраны, и за столом у самовара сидел Красовский в шинели поверх белья.
— А где же народ? — спохватился, садясь, Иванов.
— Елизаров с запасниками в Стрельну чуть свет укатили, — ответил Красовский, — а здешние приятели по делам убрались.
— А меня что же не разбудили? — вскочил Иванов.
— Я ж тебя на все воскресенье отпросил, да и спал так, что не слышал ни говора, ни уборки. А теперь вставай, Никандр польет умыться, да садись чаевать.
Когда поели и ефрейтор помог Никандру вымыть посуду, сложить скатерть и расставить по местам столы, Красовский, обрядившийся за это время, сказал:
— А теперь надевай колет, поведу тебя генералу по форме представить. Может, когда обратиться понадобится.
— Разве они здесь? Ведь воскресенье, — удивился Иванов.
— Здесь, за бумагами сидят. Готовятся завтра в Москву ехать госпиталя ревизовать, и брат ихний из отпуска возвращается…
За дверью, в небольшой комнате, за письменным столом сидел Ставраков, в очках и с пером в руке. В углу топилась печка, и красные блики дрожали на крашеном полу.
— Здравия желаю, ваше превосходительство! — вытянулся у двери Иванов.
— Здравствуй, приятель, — отозвался генерал, снимая очки.
Он кивнул Красовскому на стул, тот присел неглубоко и, указав на ефрейтора, заговорил:
— Вот, Семен Христофорыч, молодец, про которого вам третьего дня докладывал, Александром Ивановым звать. Он самый задумал сродственникам помощь оказать, и по мне похоже, что дело ему по плечу, — парень упрямый, и gutta cavat lapidem[39]. Но в эскадроне на сто честных всегда один вор может сыскаться. Occasio facit furem[40], то бишь, — плохо не клади, вора в грех не вводи. А потому просьба всепокорная, как мои рубли в бюре держали, так и ему дозвольте вам, что заработает, носить. — Красовский перевел дух, откашлялся в кулак и продолжал: — И второе. Хотя до того годы пройдут, но не грех заране подумать. Ежели накопит он столько, что занадобится помещику отписать насчет выкупа отца с матерью, то как солдату за то взяться? А ежели столичный генерал барину письмо пошлет, то вовсе иное дело. Небось ответит живо да подумает: «А вдруг генерал тот к царю самому вхожий…» Так ли я говорю, Иваныч?
— Так точно, Александр Герасимыч, — отозвался ефрейтор.
— Все понял, — наклонил голову Ставраков. — Можешь сюда приходить, в присутствие, а то вечером на квартиру, в Михайловский замок. Со двора зайдешь, там всякий укажет. А еще Красовский сказывал, что ремесло какое-то знаешь?
— Щетки всякие делаю, ваше превосходительство.
— Ну, так сделай платяных десяток да через месяц, когда из Москвы вернусь, принеси, я их лекарям здешним рекомендую.
— Покорно благодарю, ваше превосходительство!
Ставраков вздел опять очки и взялся было за перо, но тут же положил его и ткнул пальцем в бумагу на столе.
— Нонче утром дежурный по гошпиталю лекарь рапорт принес, — сказал он. — Помер вечером арестант, что за побег осужден, вашего полка кирасир. Знавали его?
— Алевчук? — спросил Красовский. — Неужто тут помирал?
— Да, Алевчук Василий, от роду тридцать лет, — подтвердил генерал, глянув в рапорт. — Здесь и арестантский барак есть, для подследственных. А его после приговора в тюрьму не перевели, совсем плох оказался. Ну, коли знали, то сходите в мертвецкую, там и поп рядом живет, можно панихиду отпеть, всё однополчане.
— Мы вчерась тут горланили да плясали, — огорченно тряс головой Красовский, когда шли к часовне, — а он в ста шагах от нашего игрища, может быть гогот наш слыша, последним вздохом хрипел… Невредимым поход до Парижа прошел, чтобы сгинуть вот где…
В темноватой мертвецкой на полу стояли в ряд четыре некрашеных гроба. Около одного на полу сидела понурая баба с таким же бескровным, застывшим лицом, как то, на которое неотрывно смотрела, откинув с него холстину покрова. Красовский по очереди открывал лица остальным. С трудом, более по высокому росту, узнали Алевчука, которого помнили по Лебедяни веселым зубоскалом. Плоское тело утонуло в широком гробу. Обросшее щетиной серое лицо с синими запавшими веками казалось никогда не виденным. Но припухлость под левым глазом и сейчас почудилась Иванову. Постояли, перекрестились, закрыли холстину.
Панихиду отслужить не удалось, — поп ушел в город.
— Умер арестантом, aqua et igni interdictus[41],— сказал Красовский, выйдя на двор. — А гробы одинаковые, что у него, что у верных сынов отечества. Солдат с арестантом по одному разряду. Впрочем, вспомним поэта: «Надежней гроба дома нет, богатым он отверст и бедным, и царь и раб в него придет…» Так пойдем, тезка, выпьем за упокой его души вчерашних остатков.
Зашли в канцелярию, где Никандр укладывал в корзины для отправки в замок канделябры и посуду. Выпили, закусили и расстались.
Шагая в казармы, Иванов думал в сотый раз: «Понятно — знал, что, когда в полк вернется, опять в чахотку его вгонят. Но зачем, зачем за моими деньгами полез?.. А тут я его…»
Через неделю Красовский пришел проститься — получил назначение на Беловодские конные заводы в Харьковской губернии.
— Первый раз за себя ходатайства у генерала просил, — сказал он Иванову. — Больно неохота в полк ехать, людей фрунтом калечить. Хоть самому не бить, да смотреть, как бьют.
— А что же в городничие или смотрители лазаретные не просились? — удивился Иванов.
— Какой из меня, брат, городничий? — усмехнулся Красовский. — Разве что мордой обывателей стращал бы. Qualis vita, finis ita[42] — как жил до сих пор, так и кончать надобно… Что поп, что городничий — одного поля ягода, с народа соки сосут. Да не просто и место городническое получить. Насчет же смотрителя, то, поговоривши с Семеном Христофорычем, сам от сего отказался. По чину малому могу идти только в помощники, а при хороших начальниках места такого сейчас нету. Обещает генерал что-нибудь схлопотать, если на заводе не уживусь. Так буду пока коней под генеральское седло выезжать да молодняк готовить без такой муки, как в Лебедяни видел… А ты к генералу наведывайся. У него чужим деньгам счет самый прочный. Сейчас в бумажку увернет как-то ловко да к своему завещанию с надписью: столько-то рублей солдата такого-то.
— Вы все у него жили? Ничего, что в отъезде?
— В его квартире ночевал, а у полковника Пашкова дневал, пение и музыку слушал.
— Приехали они? Благополучны? Барыня здорова ли?
— Здоровы оба. Уезжают завтра в Италию. Папенька да тетенька ничего не дали, а набрали снова с управителя своего сколько могли. Вот люди будто добрые, никогда слугу пальцем не тронут, а от супруга Дашиного спасаясь, мужиков полковник своих преспокойно ad bestias[43] — управителю оставляет, который, всяк разумеет, яко сто пьявиц, кровь их сосет. Высказал обоим все сие намедни под горячую руку bona fide[44], по совести.
— А они?
— Он посмеялся, а она растревожилась, сказала: «Я и сама все то же думаю…» Даже ее пожалел.
9
Служба и щеточная работа шли своим чередом, хотя ремесло в зимние месяцы не так спорилось, несмотря что завел собственный фонарь со свечкой. Ротмистра Пилара утвердили командиром эскадрона, после чего стал разве малость поосанистей и построже. Добряка и повышением не испортишь. Однако всем кирасирам приказал выучить полностью свое имя, отчество и фамилию, чем доставил немалые труды.
— Кто твой командир эскадрона?
— Его высокоблагородие господин ротмистр и кавалер барон Фердинанд Фердинандович Пилар фон Пильхау…
Прошли рождественские праздники с долгими службами в холодной церкви, после которых с трудом согревались в скудно топленных казармах. Прошел и крещенский парад, на котором ознобило ноги много конногвардейцев, хотя стремена были обернуты сукном. Морозу было 10 градусов, и три часа стояли на Дворцовой площади в кожаных касках, колетах, лосинах, тесных ботфортах, пока шел молебен в дворцовом соборе и крестный ход для водосвятия на Неве. А потом еще царь объезжал войска, и мимо него шли церемониальным маршем. Кто застудил горло или грудь, грелись в казармах водкой и салом, замерзшие ноги оттирали снегом, да не всем помогло — из третьего эскадрона двоих отвели в лазарет.
И все же самой тяжелой из строевых обязанностей был внутренний караул в Зимнем дворце, который несли в парадной форме в очередь с кавалергардами. Каждому кирасиру приходилось ходить в него раз в месяц, но этих суток ждали как страдания, несмотря что государь редко жил в Петербурге, караул проходил спокойно и стояли в светлых, хорошо отопленных залах. Еще когда шли во дворец, стараясь, как заводные куклы, не гнуть ноги в коленях, то исподволь посмеивались над собой. А на постах, в полной неподвижности, все тело тяжко маялось от застоя крови. Когда приходила смена и, сойдя с поста, отстоявшие два часа часовые возвращались в тот зал, где имели право сидеть на банкетках, то чуть не падали от изнеможения и боли в онемевших суставах. Недаром после этого караула, проводимого вовсе без сна, полагался полный суточный отдых.
В январе пришла перемена в начальстве — перевели из полка генерала Арсеньева. В приказе по гвардейскому корпусу значилось, что назначается командовать драгунской дивизией под Москвой. Все офицеры понимали, и разговоры их доходили до кирасир, что это царская немилость. Доконали генерала недруги, раз не захотел угождать первым мастерам строевого искусства — братьям императора, юным Николаю и Михаилу, которые пороху не нюхали, а теперь играли в живых солдатиков на плацах и манежах. Ну ладно, не угодил, так дали бы хоть бригаду армейских кирасир, а то более двадцати лет служил в Конной гвардии, в знаменитых боях ею командовал — и ступай в какие-то драгуны!..
Разом постаревший, натужно кашлявший генерал еще месяц сидел в своем кабинете за канцелярией, сдавая полк царскому любимцу полковнику Орлову, ладно хоть коренному однополчанину. По конюшням, цейхгаузам и эскадронным помещениям генерал под предлогом болезни избегал ходить, Орлов с полковым адъютантом оглядывал все только мельком, для порядка приемки. Он-то знал, что Арсеньев все, что мог, делал для полка и копейки с него не нажил.
Десятого февраля выстроили в манеже все эскадроны, и генерал в драгунском уже, схожем с пехотным, зеленом мундире вышел прощаться с полком. Увидев его, похудевшего, ссутулившегося, услышав знакомый голос, которым хрипло выкрикнул, чтобы простили, кому чем досадил по службе, но помнили, как их любил, многие старослужащие зафыкали носами, а сам генерал, оглядевши строй родных ему белых колетов, махнул рукой и, не досказав выученной накануне речи, почти побежал из манежа.
Съехав с квартиры при полку, Арсеньев поселился в Галерной. Вскоре при встречах с его слугами конногвардейцы узнали, что прихворнул, но всяк думал, что, может, тянет время, не хочет отправляться к драгунам. Через два месяца стало известно, что, должно быть рассерженный таким упрямством, государь назначил генерала состоять по кавалерии, то есть оставил без места, на половинном жалованье. Наконец дошли слухи, что квартиру на Галерной сдают — Арсеньев отъехал в свою пензенскую деревню.
В марте Елизаров предложил вновь хлопотать Иванова в ремонтерскую команду, но ефрейтор отказался. Сейчас в эскадроне он жил без обиды, а ехать — значило четыре месяца не делать щеток. Уж раз поставил такую цель, то надо светлые месяцы не разгибаться. Всю зиму Иванов готовил товар на полковой спрос. То один, то другой офицер, вахмистр, писарь заказывали головные, платяные, сапожные щетки. За это время закрепил науку старого Еремина, кое-что постиг и сам, всматриваясь в форму, отделку, подбор волоса в чужих изделиях. Но к весне полковой спрос был исчерпан, и денег накопил всего двадцать рублей. Не время ли сходить к Ставракову, отнести его заказ?
Квартиру генерала с окнами на Фонтанку нашел без труда. Никандр сказал, что Семен Христофорыч не так здоров, и пошел доложить. Вскоре ефрейтор был введен в покоец, где за ширмами виднелась постель, а у бюро сидел хозяин в очках и с пером в руке, как в прошлый раз, но в ватном халате и осунувшийся лицом.
— Простыл, братец, в дороге, — сказал генерал. — Должность моя разгонная, так стараюсь больше по зимней дороге, на санях, бокам куда легче. Ездил недавно в Ригу, и продуло где-то… Ну, принес, что ли, показать труды свои? — Он кивнул на сверток, который Иванов держал под мышкой.
Рассмотрев принесенные щетки, Ставраков велел оставить всю дюжину. Спросил, почем надо за них брать, и тут же вместо полтинника отсчитал за каждую по семь гривен.
— Еще Александр Герасимыч просил, чтоб деньги твои у себя берег, — вспомнил генерал.
И тут сделал все, как говорил Красовский: взял лист бумаги, ловко свернул из него «карманчик», надписал имя и сумму — 28 рублей 40 копеек, цену щеток вместе с принесенными Ивановым на сохранение, — ссыпал туда деньги и наконец спрятал под ключ в бюро. А потом приказал Никандру накормить Иванова, так что тот ушел из замка веселый и с полным брюхом.
Теперь предстояло искать постоянное место для сбыта своего товара. Еремин говорил, что, живучи в Петербурге, сдавал щетки знакомым купцам. Но ведь если самому на рынок носить, все деньги тебе останутся без вычета купцу. Однако дело непривычное — самому цену называть, торговаться.
Жученков, которому рассказал свои сомнения, посоветовал сходить на Васильевский остров, где перед биржей как раз с весны, когда начинают приходить иностранные корабли, толчется много приезжих матросов и всяких торговых господ. Совет показался дельным, и утром ближнего воскресенья Иванов двинулся в путь, увязав в платок десяток головных и платяных щеток.
Только раз побывал он на этом рынке первой осенью после войны, отпущенный с другими молодыми кирасирами поглядеть незнакомую столицу. В памяти осталась полукруглая площадь с лужами, между которыми под мелким дождем несколько торговок, накрывшись рогожами, продавали диковинных рыб.
Сегодня все было иначе. Когда переходил наплавной Исаакиевский мост, солнце горело на синей воде, по ней бежали ялики, шлюпки. По-воскресному приодетый народ больше сворачивал в одну с ним сторону, и, когда обогнул последний дом набережной, открылось кишевшее людьми пространство между двумя красными башнями.
Оттягивая начало своей торговли, ефрейтор пошел вдоль гранитного парапета, притулившись к которому народ глазел на реку. Сыскал свободное место и тоже пристроился. Поблизости стояли два небольших корабля с похожими на русские красно-бело-синими флагами. Смоленые корпуса весело играли светом от дрожавшей под ними воды. Босые матросы в пестрых фуфайках таскали к борту мешки, спускали их в шлюпки с белыми, будто только окрашенными веслами, с которых, искрясь, стекала вода. А на сведенной к самой воде мощеной дорожке уже русские грузчики подхватывали мешки, укладывали на телеги и гнали коней в горку, покрикивая на зевак:
— Поберегись! Пади!..
— Первыми в нонешнем году голландцы пришли, — сказал кто-то рядом, и, повернувшись, Иванов увидел старика в заношенной ливрее и волчьей шапке. Лицо морщинистое, добродушное. — Сказывают, самы первые наши гости голландцы при Петре Великом были, — продолжал он. Потом осведомился: — Ты чего, кавалер, сюда? Купить, продать аль, как я, поглазеть от бедности?
— Щетки продать принес, — ответил ефрейтор и, достав из узла, показал образец своего умения.
— На совесть сделано, — одобрил старик. — Однако красы в работе нету. Крышку бы покруче изогнуть да углы скруглить. Сюда, друг любезный, товар такой носят, чтоб иностранца или нашего негоцианта богатого завлек.
— Неужто не пойдет? — огорчился ефрейтор. — Ведь и прошу не дорого.
— Не в цене сила, милок, — покачал головой старик. — А сделай ты, к примеру, на них рисунок памятный, петербургский, так тебе в два раза боле дадут и торговаться не станут.
— Как же сделать его?
— Хоть вырежь одное слово «Санкт-Петербург». Иль памятник Петру изобрази. Видал на табакерках? Ты грамотный?
— Буквы знаю, а писать не обучен.
— Ну, не печалься, может, и так сбудешь, — скороговоркой сказал старик, увидев кого-то в толпе, и отошел от Иванова.
«Что ж стоять, надо пробовать», — решил ефрейтор.
Не раз прошелся он в толпе, крепко прижав к боку пружинящий сверток и выставив в руке образец своего умения, но не решаясь выхвалять его, как делали другие разносчики. Впрочем, не бойко шла торговля у всех русских ремесленников, — здесь покупатели больше тянулись к заморским диковинам. Густая толпа окружила двух голландцев, ставших спиной к гранитному парапету, разложив перед собой товары.
— Загромоздили дорогу, мордастые! И чего хожалый смотрит? — брюзжал около Иванова тощий чиновник, несмотря на воскресенье со связкой бумаг под мышкой. — Навезут нечисти, а дуракам и любо!
От таких слов ефрейтор протолкался к голландцам. На смоленом брезенте высились пачки сухих табачных листьев, блестели длинные белые клыки, густо розовели нанизанные на шнурки рогатые колючки, отливали радугой большие раковины. А рядом на сухом сучке скалило мелкие зубы чучело большой синеватой змеи.
Продавцы в широких плисовых штанах, красных куртках и лакированных черных шляпах по-своему выкрикивали товар, тыча в него пальцами. Но среди иностранных слов ясно звучало: «рубль» и «полтинник».
Иванов постоял и снова пошел по рынку, уже заставляя себя повторять нараспев:
— Щетки щетинные, заказные, господские…
Но, видно, не было в нем нужной развязности — никто даже не взглянул на его товар. Уже отзвонили к поздней обедне на князь Владимире, когда надумал занять освободившееся место на нижней ступеньке биржевой лестницы. Тут рядом с седым квасником и застыл ефрейтор, выставляя напоказ свой товар. Два покупателя остановились, осмотрели щетки. Но, услышав цену — по сорок копеек серебром, — отходили. А Иванов знал теперь, что в Гостином за такие берут по полтиннику. Потом пожилой барин в плаще на атласной подкладке дал семьдесят пять за пару и нудно выговорил, что кавалеру надо сыскать разносчика, а то будто казна солдат не кормит.
Чувствуя усталость и досаду, решил уйти. Видно, и правда надо кому-то поручать продавать, раз такой неумелый. Но ему, значит, и часть выручки отдай… А жалко, что толком не расспросил старика, как лучше украсить поделки.
Уже на набережной впереди мелькнула волчья шапка.
— Эй, почтенный! — окликнул ефрейтор и, когда старик остановился, продолжал, подойдя вплотную: — Вот давеча ты про надпись говорил. Так показал бы, к примеру, как оно быть должно, а я тебя тут же отблагодарю.
— Ай не пошел товар? — Старик указал на узел Иванова и при этом дохнул водкой, чего давеча не замечалось. Глазки его теперь весело блестели, и под носом налипла добрая щепоть табаку. — И рад бы услужить, да недосуг, ей-богу…
— Сколько захочешь, столько и дам, — заверил ефрейтор.
— Экий богач! — толкнул его под бок дворовый. — Да не в алтыне дело, а послал барин с поручением, возврата моего ждет, я ж опозднился сильно — на корабли поглазел, приятеля встретил, угостились малость… Однако иди за мной. — И он, круто свернув, спустился по гранитной лестнице на пристань, от которой через Неву ходил перевоз.
Здесь за ветром было совсем тепло. Несколько яличников приглашали народ в свои ярко окрашенные лодочки.
— Дашь семитку на переправу, так на мост не пойду и дело твое сделаю. — Дворовый, сняв шапку, сунул ее под зад и сел на гранитную ступеньку. — Где щетка твоя? — А сам достал из кармана карандаш и листок бумаги, который разгладил на колене.
Иванов сел рядом и подал щетку. Старик положил бумагу на ее крышку, обмял по краям и прищурил один глаз.
— Вот хоть, к примеру, обозначим год от рождества Христова, — сказал он и замечательно красиво, как показалось Иванову, начертил посреди бумажки в длину четыре цифры: 1–8−1−9. Посмотрел, откинув голову, и накрепко обвел послюненным карандашом, где удвоив, где оставив одну первоначальную линию. — Вот набей медных гвоздиков, где в два ряда, где в один, и готово — они и под воском будто золотые заблестят. А в углах давай узорики пустим вроде лука со стрелой… — Он изобразил полукруги, пересеченные посередине прямой. Перевернул бумагу, снова обмял ее. — Второй рисунок потрудней будет, но выучи, раз буквы знаешь. — И стал выводить во всю длину бумажки: «St-Petersburg». — Это, братец, нашего города имя на французский манер. — Опять обмусоленный карандаш уверенными нажимами дорисовал надпись вчистую.
— Красиво, почтенный, пишешь! — восхищенно сказал Иванов.
— Пустое! — отозвался старик, но и сам, видно, был доволен. — То ль я делывал! Какие транспаранты для фейверков сочинял, с аллегориями да с девизами!.. — Он протянул Иванову щетку и бумажку. — На первый раз и довольно. По-русски коли захочешь надписывать, то любой писарь за гривенник сочинит. Однако за товар, с иностранным схожий, всяк больше платит.
— Ученость у вас большая, — почтительно сказал ефрейтор и полез в карман.
— Наук мной много превзойдено, — согласился дворовый. — Двух барчат при мне учили, так я ихние все уроки запомнил: мифологию и грамматику, натуральную и простую историю. Только, вишь, выше лакея не вздынулся. Ты какого звания до службы?
— Крепостной.
— Вот и я Кондрат из тех же палат. — Дворовый встал со ступеньки и вдруг насупился: — Ты, видно, воевать и работать горазд, я учиться был охоч и господам на совесть служил, а все нам жизни, окроме собачьей, не видать. — Он достал деревянную табакерку и нюхнул с сердцем большую щепоть. Весь сморщился, скривился, лицо собралось в сотни складочек, глаза подернулись слезой. Отпихнул поднесенный двугривенный и сказал: — Не след тебе на рынок ходить. Совестливый разве продаст с барышом?.. Да уйди ты с деньгами! — топнул он ногой. — Сказал, давай алтын на перевоз. — Старик покосился на подходивший к пристани ялик и закончил вопросом: — А на что тебе деньги? В артель внесть? Аль женатый?
— Холостой. В артель давно все отдано…
— Так начальнику злому дарить надобно? Я службу вашу проклятую знаю, у самого племянник гвардии унтер заслуженный.
— Нет, начальство у меня нонче божеское…
— На отставку скопить вздумал? Не заколотят, надеешься? — настойчиво сыпал старик.
— «Сказать ему?»— подумал Иванов.
— Отца с матерью у барина выкупить хочу, — понизил он голос.
Дворовый свистнул негромко, но выразительно:
— Эка задумал!.. Ну, давай бог!.. Однако водку-то пьешь?
— В рот не беру.
— За то молодец! — Старик нежданно чмокнул Иванова в щеку и устремился к ялику, из которого уже вышли пассажиры.
— Стой, почтенный, возьми за труды! — просил Иванов, идя следом и протягивая уже два двугривенных.
Но старик проворно сел на дальнюю скамейку и, снова радостно улыбаясь, оглядывал сверкавшую на солнце реку.
— Возьми хоть на шкалик, — тянулся к нему Иванов.
— Позволь, кавалер, — отстранил ефрейтора рослый купец.
Лодочник шагнул за купцом и оттолкнулся от пристани.
— Гвоздики медные в шорной купи да перво на досочке попробуй, не то вещь готовую спортишь! — повысил голос старик.
В полк Иванов пришел такой веселый, что встреченный кирасир Панюта спросил, не сто ли рублей поднял на дороге.
— Хорошего человека встретил, — ответил ефрейтор.
— Угостил, что ли? Так ты ж как турок!..
А Жученков, которому рассказал о встрече, заметил:
— Видать, понимающий дед. Пьян да умен — два угодья в нем.
Иванов исполнил совет — купил фунт мелких медных гвоздей и, копируя с бумажки, отделал все готовые щетки. Через две недели он снова пошел к бирже, надеясь встретить старика, поблагодарить хоть словом, но, сколько ни смотрел в толпе, не увидел. А щетки все продал за два часа. Блестящие надписи ровно чудо сделали — всяк платил, не торгуясь, по шесть гривен.
«Не спросил я, как барина его прозывают. Верно, богатый, раз фейверки пущали, — думал ефрейтор, глядя за реку на особняки Дворцовой набережной. — И как же занятно выходит: когда на верстаке у Еремина из гвоздиков буквы выкладывал, он на меня серчал, наказывал единой прочности достигать. А ноне умник теми же гвоздиками меня умудрил…»
На руках у Иванова оказалось десять с полтиной, полку скоро выступать «на траву», и он решил сходить к генералу сдать деньги, — в лагере всего трудней их прятать. И зараз поднесть пару щеток с новым украшением.
Как часто бывает в Петербурге, в середине мая вдруг задули холодные ветры и пошли дожди. Опытные горожане, не снявшие еще ватных шинелей и салопов, злорадно поглядывали на щеголей и модниц, дрожавших в обновленных вчера легких плащах, рединготах и пелеринах.
Отпущенного из полка после обедни Иванова крепко прохватывало ветром с Невы, когда шел по Мойке и Фонтанке. Прибавил шагу, думая о теплой кухне, где к тому же, наверное, сытно покормят. Когда свернул к воротам замка, увидел, что мостовая впереди густо застлана соломой.
«Неужто болен? — встревожился Иванов. — Да нет, тут много чиновных господ проживает…»
В кухне, куда вошел из сеней, было тихо и холодно, печь сегодня не топилась. Под окошком сидел старый повар. Он молча смотрел на ефрейтора, пока прикрывал за собой дверь, снимал фуражку и крестился на образа. Потом сказал тихо:
— Преставился наш генерал, — и слезы побежали по щекам в седой щетине. — Преставился наш отец Семен Христофорыч…
— Да как же? С чего же? Когда? — спросил Иванов.
— Нонче на зорьке, — отвечал повар. — Только одевать кончили. Братец ихний в ночь прискакали, последний вздох приняли.
— Да ведь не старые были…
— Всё со службы. Во Псков ездили, смотритель там заворовался. Никандра сказывал, на солнышке припекало, они в коляске сертук расстенули. Вот и обдуло. Да ты садись, служба…
— Нет, что же, я пойду, — сказал Иванов.
— Садись, от нас не евши никто не уходит.
— Кусок в горло не пойдет, дядя.
— Ну, как хошь. А то и я б с тобой поел. Вторые сутки крошки во рту не бывало. Никандру давеча за стол звал — не могет, плачет. Ивану Христофорычу только чай пустой подавали. А с третьего дни щи стоят добрые. Право, поедим-кось. Ноги вовсе не идут, а к поминкам стряпать надобно. Генерал завсегда наказывали, чтоб всякое звание ежели зайдет, то кормить досыта…
Повар опять заплакал и пошел к печке.
Через три дня Иванов шагал в хвосте процессии, медленно тянувшейся на Волково кладбище. Ефрейтору удалось сообщить в Стрельну, и сегодня рядом с ним шагали пять конногвардейцев, что пировали в госпитальном флигеле полгода назад. Похороны были парадные. Впереди несли восемь подушек с орденами, кисти траурного катафалка поддерживали офицеры с черным крепом на эфесах шпаг. За гробом, окружив Ивана Христофорыча, шла целая толпа генералов — товарищей и сослуживцев покойного, за ними сотни две офицеров, лекарей и фельдшеров. Потом вели под траурной попоной коня, маршировал оркестр перед батальоном пехоты с опущенными в землю ружьями. Наконец, брели седые инвалиды, в толпу которых затесались шесть белых колетов, ехали кареты богатых господ да по дороге пристали еще десятка три извозчиков, сообразивших, что на дальней дороге многие старики устанут и будут рядиться до кладбища.
— Чисто воинские похороны! Ни одной барыни, — заметил Елизаров, когда после салюта над могилой толпа стала расходиться.
— Еще суворовского орлика схоронили, — сказал, ковыляя перед гвардейцами, седой офицер в порыжелой шляпе.
— В нонешней службе тем орликам крылья подрезаны. Молодые манежные петухи ноне поют, — буркнул его спутник.
— Каков-таков возраст — пятьдесят шесть годов? — шамкал третий офицер, на деревянной ноге.
— Братцу немного очистится, — слышалось с другой стороны.
— Именья-то, говорят, всего десять дворов в Полтавской.
— Из греков, Ставраки отца звали, поручик в отставке был…
— Народ торговый, как же не нажил ничего?..
А Иванов думал: «Вот Красовский опечалится, когда узнает… И мне как не везет!.. Да что я! Неужто же манежные петухи боевых генералов осилят? Кого в отставку, кого на погост…»
На другой день в эскадрон пришел старый Никандр.
— Велел полковник тебе явиться, — сказал он Иванову. — Коли есть приятель, кому отлучиться можно, зови с собой. Со вчерашнего хорошая еда оставши, хоть сорок человек поминали.
Жученков отпустил ефрейтора, но сам идти отказался.
— Каб я на похоронах был — иное дело, — сказал он.
Теперь за бюро генерала сидел Иван Христофорыч.
— Получи, кавалер, — сказал он, протягивая знакомый бумажный «кошелек». — Я брата застал едва, а все не забыл он твое сбережение и на какое-то доброе дело червонец прибавил.
Иванов почувствовал, как перехватило горло.
— Таков всегда был, — продолжал полковник. — Меня из деревни шестилетком взял и в люди вывел, хотя сам тогда молод был, жил недостаточно. Копейкой солдатской одной не поживился…
На кухне за вчерашней кутьей и блинами Иванов услышал, что вся обстановка здесь казенная, дворцовая, а генералово имущество уже почти уложили в три сундука. Узнал еще, что Никандра и повара Иван Христофорыч увозит с собой в Москву.
Летом, когда лошади были «на траве», а люди квартировали около них по деревням вокруг Стрельны, Иванову не удавалось заниматься своим ремеслом. В тесной избе где сыщешь угол, чтобы разбирать и вязать щетину, клеить и полировать крышки, держать запас материала? Вспомнив рассказ Елизарова, начал вырезать деревянные ложки. Всего и надо, думал поначалу, липовые болванки, ножик да брусок, его точить. Потом стал выглаживать ложки куском битой бутылки. Наконец, понадобилось покрывать их лаком. И все-таки одну-две делал почти каждый день. Шли они по копейке, так что самое малое гривенник набегал за неделю. Деньги носил в новом чересе, пока вовсе не тяжелом, — там лежало всего полсотни рублей.
Когда после маневров возвратились в город и кирасиры разошлись на вольные работы, Иванов так налег на щетки, что к вечеру шею и спину ломило, будто от дворцового караула. Зато в полтора месяца сделал пятьдесят щеток. Чтобы самому не торговать, сговорился с купцом в Апраксином дворе, что будет носить в его лавку и получать сорок копеек за штуку. Быстро прошли две партии по двадцать штук, но, когда принес третью, купец сказал, что щеток у него в избытке и согласен брать только по тридцать копеек. Этак было совсем невыгодно — материала на каждую шло копеек на двенадцать. Взялся опять за ложки, которые охотно продавал сын Жученковой кумы, разбитной паренек, с уговором, чтобы каждая пятая шла ему.
До весны 1820 года Иванов занимался то ложками, то щетками и все время думал, что мало зарабатывает. Прошло полтора года, как принял решение, а накопил всего семьдесят рублей. Совсем было решился учиться шорному делу, благо в полку своя седельная и туда в науку иди, пожалуйста. Но мастера сказали, что два года положено работать на них, а уж потом начнешь получать деньги. Нет, это больно долго. Да толкуют еще, что шорников в городе и так много. Несколько кирасир варили ваксу — дело нехитрое: сажа, воск да сахару, кажись, малость. Но все варщики семейные, у ихних жен свои печи, а где ему в эскадроне?
Дни пробегали в долгих строевых учениях и манежной езде, в караулах, уборке и чистке лошадей, которых раз в неделю проезжали шагом и малой рысью. А свободные от службы часы сгибался на своем мастерстве. Иванов вошел в число кирасир, которые всегда были заняты. Днем он старался думать только о том, что делал, — так спорее идет и на душе спокойней, — а вот вечерами, когда уже лег на нары, когда кругом слышится храп соседей, было некуда деваться от мыслей, чаще горьких и печальных. Ну, удастся накопить несколько сот рублей, найдется, положим, честный барин, согласится купить на себя и отпустить на волю, — так ведь знать надо Ивана-то Евплыча! Как почует, что деньгами пахнет, так и заломит за двух стариков невесть какую дороговизну… Ну, а выкупил их, так что ж остальные, тот же Мишка? Их оставить на расправу Кочетку? А если Мишку с родителями удастся выкупить, то как брат Сергей и сестра Домна с детьми?.. Сколько душ всего, даже не спросил. Никак больше десяти. Разве на стольких наработаешь щетками да ложками… Так что же, не гнуть спину? А чем жить тогда? Мечтами про домик и торговлю?.. Нет, не лежит душа к такому.
Только теперь, в ночных раздумьях, дошел Иванов до мысли, что, может, вовсе не для покрытия карточного проигрыша сдал его в набор Иван Евплыч. Может, уже тогда приглянулась его Даша проклятому Кочетку? И снова почти что наяву стало грезиться страшное — вроде того, чем маялся в Лебедяни: смертная разделка теперь уже с обоими недругами, от которых зависят все его близкие… Что придумать, кроме работы, чтобы скорей засыпать, чтоб крепче спать без таких снов? Разве запить, как иные кирасиры?..
Видно, эти размышления выказывались на лице ефрейтора, раз Жученков однажды вечером спросил:
— Что ровно туча ходишь? Заболел? Ай деньги твои скрали?
— Су мнения разные берут, Петр Гаврилыч, — признался Иванов.
— Говори все толком, как на духу, — приказал вахмистр. И, выслушав сбивчивый рассказ, ответил решительно: — Не будь бабой, Александра. Поздно ворочаться, раз на такое решился. Знают теперь старики, что ты живой, их помнишь, увидать надеются, еще помочи твоей ждут. А раз так, то и налегай на заработки. При том же и свою старость помни, чтоб в отставку идти не с пустыми руками. Коли так и дале в эскадроне будет, то, скажи, чего не служить? Моли бога, чтобы Пилара нашего сберег… Насчет же Степки будь надежен, отольются ему ваши слезы. Рано ль, поздно ль, а уходят его мужики, какие ни есть тихони… — Вахмистр помолчал, собрался с мыслями и добавил: — А щеток, понятно, себе в убыток не отдавай, впрок делай, раз хлеба не просят… И еще вот что: сказывают, будет с той недели при канцелярии школа грамоты, так ты в нее ступай. Знаю, что буквы читаешь, вот и доходи до твердости. Барон тебя в унтера прочит, и я тебя ему похваляю, однако, по новому закону, унтера грамоту твердо знать должны, и мне тогда по письму помогать станешь. А для успокоения сходи-ка у Николы вечерню послушай. Не нашему солдатскому хору чета.
Слова вахмистра подействовали на Иванова, как хорошая баня. И верно, как баба, раскиснул!.. Вечерами стал ходить на занятия, где учитель из писарей обучал, как Красовский, чертить буквы на песке. Было там и еще важное: учили писать цифры, обозначать десятки и сотни, а к рождеству обещали показать сложение и вычитание. Учился изо всех сил. В унтера выйти — есть из чего стараться, сряду жалованье двадцать рублей в треть, в три раза больше прежнего.
И тут же встретил купца из Апраксина.
— Чего ж, кавалер, носу не кажешь?
— Несподручно, ваше степенство, мне по тридцать копеек.
— Так давай снова по сорок, раз такой ндравный.
— По сорок пять для кого-то на Васильевском наш фурштадтский унтер берет, — соврал Иванов, рассерженный развязным купцом.
— Так и я дам по сорока пяти. Неси завтра же сколько есть…
Лето этого года ничем не отличалось от прежних. То же стояние по избам под Стрельной, где стругал копеечные ложки. Потом — трехнедельный сбор всей гвардии в лагере под Красным и маневры, тоже, как всегда, заранее рассчитанные, с обязательным ночным стоянием в «главных силах», около оседланных лошадей, одетыми в. «боевую» форму, с наступлением на неведомого противника сомкнутыми колоннами и отступлением под прикрытием фланкеров. Все — как нравилось царю, и вовсе не было похоже на войну, которую так хорошо помнило большинство участников.
10
В октябре всю столицу всколыхнуло случившееся в Семеновском полку. С 1812 года полком этим, одним из старейших в гвардии и всегда образцовым по строю и дисциплине, командовал молодой генерал Потемкин, человек честный и такой добряк, что у семеновцев, где и офицеры подобрались под стать командиру, начисто вывели телесные наказания, и служба от того нисколько не пострадала. Однако царский брат Михаил, назначенный двадцати пяти лет от роду командовать бригадой, в которую входили семеновцы, счел такой порядок вольнодумством. Слыханное ли дело — солдат не бьют! Экие нежности! После ряда придирок он добился от царя замены генерала Потемкина армейским полковником Шварцем, известным своей грубостью и жестокостью. К октябрю 1820 года Шварц уже год с лишком «подтягивал» семеновцев: без конца учил заслуженных кавалеров наряду с молодыми солдатами позитуре и строю, по полдня не спуская с плаца, повторяя взводные и ротные эволюции, заставлял заниматься этим и в праздники, а за малейшее упущение ругался, грозил, приказывал солдатам плевать друг другу в лицо. Постоянными учениями Шварц лишал их времени, употребляемого на заработки, без которых не свести концы с концами, тем более что сам полковник требовал такого щегольства и чистоты одежды и амуниции, что приходилось многое прикупать на свой счет.
И вот теперь, 16 октября, шефская рота, состоявшая из заслуженных ветеранов, заявила своему командиру, что просит довести до начальства жалобу: не могут долее переносить несправедливостей и обид полковника Шварца, просят расследования.
Конечно, в других гвардейских полках давно толковали о страданиях семеновцев, узнали и об их «возмущении». В тот же день, когда оно произошло, Иванов, как всегда занятый службой и щетками, краем уха услышал перед сном толки о случившемся, догадки, что будет дальше. Одни говорили, что полк этот особенно любим царем, его шефом с юности, и что семеновцы не бунтуют, а просят законного разбора несправедливых поступков командира. Да еще, слыхать, все офицеры полка готовы показать за них, а не за Шварца. Другие отзывались, что оно все так, да навряд обойдется без суда над солдатами, а на офицеров, которые за них вступятся, тоже управу сыщут…
Так судили и рядили еще день, а утром 18-го вдруг штаб-трубач сыграл на плацу тревогу, и по эскадронам побежали вахмистры, приказывая снаряжаться «при полной боевой» и, оседлав коней, выезжать на плац. Через полчаса полк на рысях пошел по Почтамтской, мимо Зимнего дворца, по Миллионной и на Царицыном лугу сошелся с кавалергардами. И везде видели народ, бежавший в одном с ними направлении, но, только остановясь, услышали, что говорили горожане. Иванов, стоявший на фланге эскадрона, из разговора двух мастеровых понял, что начальство арестовало шефскую роту семеновцев как зачинщиков бунта, и приказало идти в крепость. Они и пошли беспрекословно, как были в шинелях и фуражках, без оружия. Но тут другие роты первого батальона решили, что нельзя их отпускать одних. «Куда голова, туда и ноги», — говорили они. И все пошли следом. Вот тут начальство и приказало поднять кирасир по тревоге, испугалось — что-то будет?! А семеновцы, как овцы, спокойно и тихо прошли по Фонтанке и через Троицкий мост в крепость под арест…
Постояв недолго на Царицыном лугу, кавалеристы тронулись по набережной и увидели только хвост батальона, перевалившего середину плашкоутного моста через Неву. Проехав дальше, завернули у Прачечного моста и возвратились на Царицын луг. Командиры полков съехались, поговорили и повели полки по казармам.
Со следующего дня запретили отлучки со двора всем солдатам гвардии. Но в полк все равно доходили вести из города. Ведь писарей посылали в штаб корпуса, семейные вахмистры и унтера жили вне казарм, торговки, сидевшие у казарменных ворот, тоже что-то болтали, и кирасиры слышали обрывки офицерских разговоров. В полку знали, что наряжено следствие, идут допросы, но для окончательного поворота дела ждут известия, как отнесся к нему царь, находящийся за границей, а пока и оба батальона, которые никаких возражений против Шварца не делали, разослали, один — в Кексгольмскую крепость, другой — в Свартгольм.
С месяц надеялись гвардейцы на царскую милость любимому полку, а потом узнали, что семеновцев приказано судить и примерно наказать как бунтовщиков.
— Ну, а со Шварцем как поступят? — услышал Иванов вопрос корнета Плещеева, обращенный к поручику Бреверну у дверей конюшни во время утренней уборки.
— Увольняют в отставку, чтобы никуда более не определять.
— Вот так наказание за то, что загубил чудесный полк! — возмутился Плещеев.
— Тише! Silence![45] — цыкнул на него Бреверн.
Ефрейтор поторопился отойти от офицеров. На душе стало еще черней. И правда, вот так наказание за то, что три тысячи человек сделал несчастными и стольких еще сквозь строй погонят!
Вечером этого дня Иванова кликнул в свою каморку вахмистр, угостил сбитнем, пирогом и сказал, понизив голос:
— Молчи, Александра, ноне, как рыба. Время такое — лишнего не скажи. Радуйся, что в эскадроне дышать можно, и все…
В декабре стало известно, что десять человек из шефской роты Семеновского полка жестоко биты шпицрутенами. Всех солдат первого батальона разослали без выслуги в Сибирь и Оренбургский край. Пошли в армейские полки и те, что вовсе безвинные томились в финляндских крепостях. Четверых офицеров отдали под военный суд, а остальных перевели в армию без права на отставку. Вместо старого полка сформировали новый, из армейских солдат и офицеров. Долго так и говорили: «новый Семеновский полк».
На масленой вахмистр позвал Иванова к своей куме — вдове, торговке, жившей на Прядильной. Употчеванный блинами, едва встал от стола, Жученков остался еще гостевать, а ефрейтор пошел в полк.
Смеркалось. Горланил праздничный народ. Пьяный фонарщик никак не мог приладить к столбу лесенку и окликнул Иванова:
— Эй, служба, подержи, будь милостив, чтоб не убиться…
Долго он укрывался своей рогожей, обдавая ефрейтора запахом тухлого конопляного масла, еще дольше высекал огонь. Наконец-то засветил тусклый огонек и закрыл дверцу фонаря. В это время кто-то толкнул Иванова плечом, так что чуть не сронил и фонарщика.
Ефрейтор оглянулся и со спины увидел человека в заношенной ливрее и меховой шапке. Его костюм и походка показались знакомы.
— Эй, дядя! — окликнул Иванов. — Чем толкаться, поздоровайся лучше.
Человек обернулся. Да, это был старик, который сделал ему надписи для щеток. Но теперь глаза смотрели злобно и борода давно не брита.
— Аль болел? — спросил Иванов, освободясь от фонарщика и догнав знакомого.
— Чего с иудой здоровкаться? — сказал старик, глядя исподлобья. — Иуды и есть! Предали братьев своих семеновцев. На глазах замучат брата родного, а вы морду отворотите, трусы поганые!
— Да что ты, дяденька, помилуй! — опешил Иванов. — Что ж мы сделать могли?..
— Кабы возроптали все разом, то кто б вас тронул? — сказал старик. — Что скажешь?.. Трусы и есть. Вас тысячи большие, а судей сколько? А моего Васю-мученика скрозь строй гнали да еле живого в Оренбург. А за что? Кого убил, ограбил?..
— Да кто ж таков Вася?
— Кто? Племянник родной, и крестник, одна души моей подпора на всем свете. Унтер-семеновец, как ты, кавалер, брат твой, за правду битый… Неужто совесть вас не мучит, каинов?.. Тьфу!.. — Старик злобно плюнул на сапоги Иванову и почти побежал прочь.
«А может, и правду говорит? — думал ефрейтор. — Кабы все полки разом… Да кто-то скомандовать должен… Нет, нестаточное дело, бредит старик с горя…» — решил он. Но в следующие дни не раз спрашивал себя: «Неужто мы в ихней беде виноваты?..»
Он не мог забыть слова старика еще потому, что от кирасир нет-нет да слышал о том же. Людей точила жалость к семеновцам. Тишком говорили, что, может, следовало всем полком просить за них начальство.
Видно, среди солдат были доносчики, от которых начальство узнавало, что не перестают толковать о горькой судьбе наказанных, потому что ранней весной стало слышно, будто скоро весь корпус выступит походом в Западный край, как выражались офицеры, «поведут проветрить» полки на все лето. И опять на уборке в полутемной конюшне Иванов услышал разговор тех же двух субалтернов.
— Неужто целое лето протопчемся по белорусским трущобам? — сетовал Плещеев. — Будет ли там хоть какое-то общество?..
— Ты о другом подумай, — отвечал рассудительный Бреверн. — Удачно ли избрано место? Край скудный и весь недавней войной разорен. Урожаи этих лет плохие, и скота мало. А тут еще сорок тысяч гвардейцев на постое и столько же верховых и обозных лошадей. Почему бы не пойти под Москву или к нам — в Эстляндию и Лифляндию? Там есть общество, и туда комиссариату здешнему легче необходимое подвозить.
— Словом, одна дурь ведет за собой другую, — подхватил Плещеев. — Испугавшись призрака семеновцев, которых несправедливо засудили, выводят нас в самую скудную и скучную местность.
— Тс-с!.. Silence! — как в прошлый раз, зашикал Бреверн.
Весна 1821 года выдалась поздняя. Снег из Петербурга уходил как бы нехотя, но поход не отменили. С середины апреля начали проверку обмундирования, амуниции и оружия, осмотр повозок и ковки лошадей. Иванов, который поднаторел писать и считать, гнулся над эскадронными ведомостями и списками.
Выступили из Петербурга холодным утром 6 мая. Дороги даже под столицей оказались размокшие, тяжелые. Тащились шагом, по двадцать верст в день. Поручик Бреверн был кругом прав: когда через месяц вступили в Белоруссию, казалось, попали в другую страну — нищие деревни, тощие люди в обносках, жалкий скот, чванливые и бестолковые паны, с которыми трудно сговориться даже о том, что им явно выгодно.
Пятнадцатого июня пришли в назначенный квартирой полка городок Велиж, бедный и грязный, кучно построенный над Западной Двиной. Комиссариатский магазин оказался полон затхлых круп и муки с заметной примесью песку. Только овес порадовал, но вскоре открыли, что весы, на которых смотритель его отпускает, мошенские, с обвесом в пять фунтов на пуд. Постой для кирасир в городишке и окрестных деревнях был тесный и неудобный. Лучше бы стоять в палатках, чем в этих набитых еврейскими семьями домишках или в еще более нищих крестьянских хатах. Цены на овощи, масло и мясо, которые приходилось закупать для артелей, стояли выше петербургских. Харч был скудный и плохой, а занятия «выправкой» нижних чинов, приемами палашами и строем «пешие по-конному» продолжались ежедневно часов по шести. Только лошадей берегли. Их дородностью и блеском шерсти нужно было щегольнуть перед высшим начальством, а людского тела ведь не видно под казенной обмундировкой.
Наконец 8 сентября выступили к Бешенковичам, на царский смотр всей гвардии. Недельный поход шагом в полной форме — в касках и кирасах — был очень тяжел, стояли редкостно жаркие дни. Смотр прошел хорошо, и на другой день маневр удостоился царского спасибо. А еще через два дня офицеры всего корпуса давали императору обед в нарочно построенной над Двиной галерее. Икру и рыбу, вино и фрукты везли курьерскими тройками. Всем распоряжался молодой генерал Бенкендорф. В галерее сидело две тысячи генералов и офицеров. Гремела музыка, в очередь с ней заливались хоры полковых песенников.
Все надеялись, что тут же объявят поход в Петербург. С обратной дорогой и так выйдет больше чем полугодовая «прогулка». Но через неделю привезли приказ Конной гвардии занять винтер-квартиры в том же Beлиже. Снова начались для кирасир ежедневные пешие учения и один раз в неделю часовая езда сменой, а для артельщиков хлопоты с закупкой овощей, мяса или рыбы, возня с плутом смотрителем магазина. Много тревог и командирам эскадронов: если кирасиры хоть с трудом, а разместятся у обывателей, то как сберечь коней, привыкших в Петербурге к теплым конюшням? Квартирой 2-го дивизиона был назначен сам городок, и ротмистру Пилару повезло — удалось заарендовать пустовавший купеческий амбар, в котором требовалось поправить пол, сделать перегородки и кормушки, прорубить и застеклить окошки. Иванов в переписке и по хозяйству помогал вахмистру, с которым стоял вдвоем в каморке у еврея-сапожника. Хотя инструменты он привез с собой, но возиться здесь со щетками было совершенно негде, так что все лето пенял на судьбу, что ничего не зарабатывает.
Подходил к концу редкостно теплый сентябрь, когда перед строем прочли приказ о производстве трех ефрейторов в унтер-офицеры. Первым в списке стоял Иванов. В этот день после вечерней уборки коней и артельного ужина новый унтер прилег на свой топчан с приятными мыслями о прибавке жалованья, когда в каморку втиснулся Жученков, распространяя запах вина и жареного мяса.
— Вставай, Александра, надевайся почище да ступай к барону, — сказал он, садясь на свое ложе.
— Что ж там стряслось, Петр Гаврилыч? У меня и галунов еще нету, — испуганно сказал Иванов.
— Не бойся, барон знает, что тут не сряду укупишь. Хочет он тебя князю, генералу отставному, предоставить, который сына нам в юнкера привез. По-ихнему еще рано, только отобедали. Барона нашего впервой куликнувшим увидишь. Князь-то с бароновым отцом в одном полку служили, вот и хочет папашину другу угодить. Я с докладом пришел, а барон и спроси: «Кого, вахмистр, дядькой к князю молодому поставим, чтоб службу и обращение знал?» Я тебя и назови. А барон говорит: «Вот, князь, в одно слово с вахмистром», — видно, раньше тебя нахваливал… Ох, стащи сапог проклятый, Александра! Только руки, гляди, отмой да ступай скорей. Колет чистый с крестами вздень… Ну, умаялся, братец, за день с конюшней окаянной!..
Когда Иванов вошел в одну из двух комнат, что занимал барон Пилар у какого-то купца, господа сидели за накрытым столом. Барон в застегнутом на все пуговицы вицмундире и с немного сбитой прической обмахивался платком. Рядом с ним с бокалом в руке улыбался лысоватый круглолицый барин, — видно, старший князь. А за самоваром разливал чай бело-розовый, как девушка, чернобровый тонкий юноша в синем сюртучке.
— Честь имею явиться, ваше высокоблагородие, — переступив порог, доложился Иванов.
— Вот он, князь, самый тот унтер, — сказал барон чуть затрудненным языком и отнесся к Иванову: — Желаю тебе поручать молодого юнкера всему строевому и езде обучивать.
— Рад стараться, ваше высокоблагородие!
— Как тебя звать, кавалер? — спросил старый барин.
— Александр Иванов, ваше сиятельство.
— Тезка твой, — кивнул барин сыну. — А родом откуда?
— Тульской губернии, Епифанского уезда, села Козловка.
— И земляк еще! — рассмеялся князь. — Мы-то, раз Одоевские, то, знать, туляками тоже когда-то были.
— Сего унтера я рекомендую со всей душой, — сказал ротмистр. — Слышал ли, Иванов, как я тебя князьям аттестую?..
— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие!
— И старайся похвалы оправдать. А пока можешь уходить.
— Позвольте мне, господин барон, его чем-нибудь угостить, — приподнялся юноша.
— Он не пьет вина вовсе, — сказал ротмистр. — Так ли я говорю, Иванов?
— Так точно, ваше высокоблагородие.
— Но можете угостить пироги. И время уже ему спать. Будешь, Иванов, субботами мне про успехи сего юнкера докладывать.
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!
Молодой князь стал сам увязывать в салфетку куски пирога, яблоки, конфеты. Потом, подойдя к Иванову, подал ему да еще погладил по плечу, приговаривая:
— Кушай, братец, на здоровье.
— А салфетку куда ж, ваше сиятельство? — шагнул к ним старый лакей, служивший при столе.
— Оставь, Никита, я хочу ему подарить, пусть на салфетке ест, — отмахнулся молодой князь.
— Ничего, любезный, салфетку твою завтра мой унтер в целости доставит, — сказал ротмистр.
Проходя переднюю, Иванов видел, как денщики и второй княжеский слуга расставляли в соседней комнате складные кровати, — видно, приезжие остановились у барона.
— Ну, не съели тебя? — спросил Жученков, сидевший у двери их домишка, покуривая трубку.
— Такие князья добрые, что не видывал, — ответил Иванов. — Гостинцев молодой надавал. Угощайся, Петр Гаврилыч.
— Ешь сам, братец, меня там таково славно употчевали, что ничего не хочу. Разве вот яблоко схрупать? Да конфетину возьму, мальчонке хозяйскому завтра дать.
Скоро они лежали на топчанах, и Иванов чувствовал давно не испытанную славную тяжесть в желудке — все убрал, что принес.
«Как его учить? — думал он. — Неужто всю школу рекрутскую барчонку вдалбливать? А как непонятлив аль непослушен окажется? Князек, поди, балованный. Тут у барона виноват выйдешь… Опять же, когда учить его? А другое нужное когда делать?»
Назавтра пошел относить салфетку, и князь Иван Сергеевич, так звали отца, кликнув к себе, наказывал, чтобы учил сына со всей строгостью, как простого кирасира. А молодой князь согласно кивал и сказал, что завтра же можно приступить, раз сегодня портной снял с него мерку и к утру обещал пригнать колет и рейтузы.
— Хочу, чтобы первое время все солдатское носил, — пояснил Иван Сергеевич. — Да тут и заказать, пожалуй негде. Пусть в Петербурге у хорошего портного обмундируется, чтобы родню визитировать.
Потом Никита накормил Иванова пирогами и поросенком с кашей и дал с собой уже в бумаге немало хорошей еды, которой тот поделился с Жученковым и с хозяйскими ребятами.
— От таких господ и мне, Александра, видать, польза окажется, — сказал, жуя, вахмистр.
— А когда ж учить его, Петр Гаврилыч? — спросил Иванов. — И так едва успеваю с кирасирами да с письменным делом управляться.
— Само собой, что месяца на два, пока юнкера в ранжир не поставят, надобно тебе льготу давать, — рассудил Жученков.
На другой день вахмистр принес баронов приказ заниматься с юнкером с утра до обеда, а потом сидеть за писаря.
Обмундировка к субботе не поспела, учение началось с понедельника. Утром Иванов приехал на оседланном по всей форме коне на задворки дома, занятого ротмистром. Выглядевший еще тоньше в плотно охватывавшем грудь колете, юноша ждал учителя вполне готовым к уроку. Напоказ ему Иванов медленно расседлал и снова оседлал своего Петушка, приговаривая, что, как и почему надобно делать и что как называется. Повторил все три раза и просил князя делать то же. Юнкер смотрел и слушал, не развлекаясь, повторяя старательно, и нисколько не боялся коня. Потом снимали и надевали уздечку, закладывали в рот Петушку трензель и мундштук. Повторив это несколько раз, перешли к чистке коня. Иванов показал, как работают щеткой и скребницей, хотя и без того шерсть Петушка играла шелковым глянцем. И то же заставил повторить юнкера уже на одной из княжеских упряжных лошадей.
Скоро унтеру стало ясно, что с этим учеником ни одно слово не пропадает даром. Пол дневного урока — два часа прошли незаметно. Об этом сказал князь Иван Сергеевич, заглянувший на задворки. Тут Иванов велел юнкеру на глазах у отца разнуздать Петушка, привязать за чумбур к забору и надеть ему торбу с овсом.
После часового перерыва, когда обоих кормили — юнкера в комнате, а унтера на кухне, — Иванов показывал позитуру и стойку, как делают фрунт и снимают фуражку. Пояснил, что надо делать с руками, ногами, животом, и юнкер все повторял, редко в чем ошибаясь.
В обучении седловке и чистке коня, в без конца повторяемых стойке, поворотах и маршировке прошла неделя. Потом начались уроки езды. Как всем новобранцам, Иванов сначала показал юнкеру требуемую крепость посадки. Сел на Петушка без седла, на одну попону, подложив под колени и локти по прутику, а старый князь погнал коня на корде по кругу. Когда сделал десять кругов рысью, столько же галопом и остановился, все четыре прутика остались на своих местах. Значит, ни колени, ни локти не теряли уставных положений. Вот к чему должен был стремиться юнкер, обучение которого езде также началось без стремян и поводьев. Теперь ему пришлось куда труднее, чем с выправкой, но и тут старался изо всех сил и раз от разу держался на коне уверенней и крепче.
Иванов по своему опыту знал, как болят после первых уроков ноги от бедра до колена, называемые у кавалеристов шлюссами. Но знал также, что для успеха надо повторять все снова и снова, укрепить мускулы непрерывным упражнением. Однако, видя, что от занятий ездой ученик его явно похудел, и услышав, как однажды, садясь на коня, тихонько охнул, унтер сказал в конце урока:
— Может, дадим вашему сиятельству отпуск от езды на недельку? Займемся приемами палашом аль еще чем?
И услышал в ответ:
— А новобранцу, тезка, ты отпуск дал бы? Я хочу все пройти, как мне от солдат требовать придется. А что охнул давеча, то не обращай внимания. Папа тоже тревожится, что плохо сплю, но, право, я уже сильней стал, даже колет в плечах тесноват…
Действительно, не только посадка на коне, но и походка у юнкера стала другая, более мужественная и твердая.
— Ну, Саша, теперь я и ехать могу, — сказал как-то Иван Сергеевич, смотря на сына во время езды уже на седле с ногами в стременах и с поводом в руке, — ты истинно стал на кирасира похож. Жалко от тебя уезжать, но сам знаешь, дела ждут.
Что им не хотелось расставаться, Иванов видел и без слов: все свободное время отец с сыном проводили вместе. О чем-то беседуя, гуляли по окрестностям, читая по вечерам, сидели обязательно рядом, наперерыв угощали друг друга за столом. Отца беспокоило, что сын похудел, и он не раз повторял при Иванове:
— Сам, Сашенька, хотел в Конную гвардию. Потерпи, дальше легче будет.
— Да я, право, здоров, папа, не беспокойтесь, — отвечал юнкер. — Вот и тезка меня хвалит, значит, скоро всему выучусь.
— Уж тезку твоего будем потом благодарить, — улыбался Иван Сергеевич. — Ты пока смотри, чтобы его кормили, вон какой тощий.
В начале ноября старый князь уехал на почтовых, оставив сыну за камердинера и повара Никиту да кучера с коляской и тройкой лошадей. Перед отъездом он переселил сына в один из соседних домов, чтобы не стеснял барона, который, однако, продолжал еженедельно проверять все, чему «дядька» выучил юнкера.
Рекрутскую школу Одоевский усвоил в совершенстве за два с половиной месяца, которые для Иванова были счастливым временем. Такого отношения господ к слугам он еще не видывал. Ни старый, ни молодой князь никогда не повышали голоса на Никиту или кучера, не то чтобы грозить или ударить, что всечасно делали почти все офицеры. От сослуживцев Александр Иванович отличался еще тем, что дома был все время занят — то читал, то играл на гитаре, то писал письма отцу и какому-то родственнику.
— Ты приходи, пожалуйста, тезка, к нам вечерами, — звал он Иванова, — вахмистр говорил, что ему в переписке и счетах помогаешь, так неси ту работу, у нас всегда пописать можно.
Князь говорил это так искренне и радушно, что унтер с бумагами шел вечером на кухню к Никите, который у свечи, по обычаю многих лакеев, вязал на спицах чулки, и подсаживался к столу и проставлял в фуражных ведомостях колонки цифр или строчил списки кирасир. А его утренний ученик, подойдя, смотрел из-за плеча, нет ли ошибок, и спрашивал Никиту, чем угостит тезку.
Через три месяца, в середине января, барон Пилар в присутствии своих субалтернов сделал Одоевскому экзамен и нашел знания его столь полными, что похвалил Иванова. В этот день Никита сготовил парадный обед, на который пожаловал командир эскадрона с офицерами, а после их ухода на кухне пировали вахмистр Жученков, Иванов, Никита и кучер. Когда уже кирасиры собирались уходить, Александр Иванович кликнул унтера и подарил пять золотых десятирублевиков. Как тот ни отнекивался, но сунул в руку.
— То от папа за мою науку, — сказал юнкер, — а от меня — вот что, — и поцеловал «дядьку» в обе щеки. — И хоть учение кончено, но гостем, надеюсь, будешь и дальше… Будешь ведь?
— Кто от хорошего откажется, ваше сиятельство, — ответил Иванов.
Он продолжал вечерами заходить в княжескую кухню, где предлагал Никите сделать что-нибудь по хозяйству и, слушая его, узнавал все новое о чудной семье князей Одоевских. Выходило, что и в московском доме никто не бил прислугу, не кричал на нее. Никита, который долго состоял лакеем Ивана Сергеевича и сызмальства при молодом князе, помнил еще деда нынешнего юнкера.
— Вот лютой был! — вспоминал камердинер. — Чуть что — в плети, в колодки, а девке косу долой — и в скотницы. Верно, от него сынок такую противность к тиранству получили.
Иногда Александр Иванович звал унтера в свою комнату и расспрашивал о походах, сражениях и Париже, про петербургскую службу, про тех кирасир, которых видел ежедневно на учениях.
«Рассказать ему про Вейсмана? — думал Иванов. — Чтоб знал, какие звери бывают. Или про семеновцев?.. Да нет, пускай сам узнает… Зачем раньше времени такого печалить».
Ближе к весне у молодого князя завелся приятель, как и он только что начавший службу, юнкер 4-го эскадрона Александр Ефимович Ринкевич, статный веселый барчук, сын вятского губернатора и состоятельного помещика. Он бойко болтал по-французски и пел приятным голосом. Молодые люди сходились вечерами, чтобы посмеяться, вспомнить родных и долбить данное ротмистром «Наставление», написанное генералом Уваровым, которое полагалось знать наравне с уставами. Оно состояло из четырех глав: о выездке, уходе за лошадью, езде и владении оружием, занимавших пятьдесят страниц убористого писарского почерка. Часто, сидя на кухне, занятый в помощь Никите растиранием в ступке сахара или чисткой медной посуды, Иванов слышал, как Ринкевич спрашивает:
— Ну, отвечайте, князь, как надлежит обнажать палаш?
И Одоевский отвечал без запинки:
— «Вынимать палаш надлежит в три темпа. Перенося правую руку через левую, схватить рукоять и вынуть на полторы ладони…»
— Э, вы все знаете. А теперь из другой главы вы меня.
— Ну, как должно сидеть верхом? — спрашивал уже Одоевский.
— «Сидя верхом, должно иметь вид мужественный и важный, держать себя прямо, сколько можно развязней и без малейшего принуждения…» — тараторил Ринкевич. — Уф! Довольно! Прикажите подать хоть чаю, раз Никита другой влаги нам не подносит.
Последние слова относились к тому, что, ссылаясь на приказ старого князя, Никита отказывался по будням подавать юнкерам вино. Зато когда Александр Иванович уходил вечером к Ринкевичу и немного там выпивал, то, возвратясь, изображал опьяневшего и требовал, чтобы Никита его раздевал и укутывал одеялом.
— Ох, не доведет нас до добра Александр Ефимыч! — вздыхал Никита. — Хоть бы фортепьяна была, то Сашенька больше б дома сидел. Пойду по городу слухать, авось сыщу какую.
И нашел напрокат в каком-то чиновничьем доме фортепьяно, которое Иванов с тремя кирасирами перенес в дом, снятый князем. Александр Иванович сначала говорил, морщась, что играть на нем нельзя — так расстроено от треньканья чиновницы. Но Никита и тут не уступил — разыскал молодого еврея, который полдня тянул так и сяк струны каким-то ключом, а после этого князь сел и заиграл такое певучее и задушевное, отчего Иванову на кухне разом дух перехватило, и даже Никита опустил на колени свой чулок.
Зима в том году проходила почти без морозов, но с такими метелями, что по утрам тропки к конюшням разгребали целыми взводами. Сбежал снег, просохли дороги. В полку только и говорили, что про обратный поход. Петербург казался землей обетованной не только офицерам, но и кирасирам.
— Ладно, — ворчал вахмистр Жученков, — ужо как во столичный караул раз-другой сходят, то и Велиж добром помянут…
Приказом от 1 мая князь Одоевский и Ринкевич были произведены в эстандарт-юнкера — еще на ступеньку ближе к офицерскому чину. Тут даже Никита не поскупился — выставил к парадному ужину полдюжины бутылок. Приглашенные, все тоже юнкера — князь Долгоруков, Лужин, граф Комаровский и, конечно, Ринкевич, — шумно и весело провели вечер. Едва они ушли, как хозяин заснул за столом так крепко, что Никита с Ивановым раздевали словно бесчувственного. А назавтра праздновали у Ринкевича, и князь остался там ночевать.
— Поручили сынка от вина беречь, а как уследишь? — горестно вопрошал Никита. — Хоть в Москву жаловаться впору…
В конце мая полк тронулся в обратный путь. Видно, царь счел наконец, что гвардия «проветрилась» вне столицы. На походе Одоевский ехал в строю рядом с Ивановым, и унтер видел, как его питомец расположил к себе кирасир добродушием, весельем и звонким голосом, которым подтягивал солдатским песням.
— Хоша князь природный, а простяга, — говорил Иванову его приятель кирасир Панюта.
Полуторамесячным походом добрались до Стрельны и стали там на остаток лета. Здесь Одоевский с Ринкевичем поселились по соседству и, готовясь к корнетскому экзамену, долбили уставы эскадронного и полкового учения. Наверное, Никита нажаловался ротмистру Пилару, потому что тот вечерами заходил к Одоевскому и навел на юнкеров такой страх, что забыли даже шутить о бутылках.
В сентябре вернулись в Петербург, и тут оправдались слова Жученкова. В первом дворцовом карауле Иванов услышал ворчание:
— Ох, братцы, в Велиже-то небось сейчас, по квартирам разошедчи, как дрыхли б…
— Зато тут обед не тамошний. Видать, всего на свете разом не ухватишь, — отозвался рассудительный Панюта.
И опять Иванов засел за щетки, благо купец в Апраксином заказал сразу сотню по полтиннику с обозначенным гвоздиками 1822 годом.
11
Этой осенью произошла встреча, навсегда запомнившаяся Иванову. После дворцового караула он вместо законного отдыха отпросился у вахмистра отнести в лавку очередные десять щеток.
Октябрьский рассвет, который встретил во дворе, и утро, когда маршировали в казармы, были ясными, а только вышел за казарменные ворота, набежали тучи и заморосил мелкий дождь. Когда же прошагал Почтамтский мост и Фонарный переулок, вдруг ударил такой ливень, что за шиворот потекло ручьями.
Хотя Иванову хотелось поскорей возвратиться в казарму, чтобы до вечерней уборки коней малость поспать, но делать нечего, завернул в калитку ближнего дома. За сводчатым проездом виднелась площадка перед каретником, навес с какими-то тюками, на которых дремал старый дворник. Вот откуда-то выскочила баба с ведром, покрытая задранной на голову верхней юбкой, перебежала к водосточной трубе у навеса, поставила ведро и, визгнув, убежала.
Сняв каску, Иванов встряхнул ее — с гребня брызги полетели градом — и только снова надел, как в подворотню вскочила девочка лет тринадцати с узелком на локте. Став в полутьме напротив унтера, она замерла, мельком взглянув на него с явным испугом во всех чертах бледного круглого личика. Потом оглянулась на двор, как бы прикидывая, куда дальше бежать, и уставилась на калитку.
Зная, что солдаты многим детям кажутся страшны, особенно такие высокие, как он, унтер, чтобы не смущать девочку, стал смотреть во двор, где дождь плясал на лужах. Но и при первом взгляде он рассмотрел не только испуганное ожидание на ее лице, а и линялый голубой платочек, охвативший щеки, потертый салопчик, крытый бумажной синей тканью, не новые туфли простой кожи.
«Экая загнанная, словно ласточка в грозу, — подумал Иванов. — Неужто меня так испугалась? Верно, в здешней темноте я ровно столб какой… Уйти, может, чтоб не боялась?..» Он посмотрел за калитку. Там, казалось, вода лилась еще обильней. Мельком взглянул на девочку. Она притаилась в испуганном ожидании, даже лица не вытерла от дождя. «Надо бы ей сказать что ласковое», — решил унтер.
— Ты не бойся, милая, — начал он, — не гляди, что я большой да в такой каске. Я, право, совсем смирный, ребят отродясь не обижал.
Девочка глянула на него, улыбнулась и разом стала куда краше, на щеках обозначились ямочки, заблестели глаза и зубы.
— Я вас, дяденька, нисколько не боюсь, — сказала она звонким голосом. — Даже рада, что тут случились. А вот за мной старик один шел, барин с крестиком, так их очень испугалась.
— А чего? — удивился Иванов. — Бежал тоже, верно, от дождя.
— Нет, они до дождя от самой Невы не отставали. Сзади близко идут, гостинцы разные сулят… А на канале, как от дождя в подворотню забежала, они за мной, стали за руки хватать, куда-то вести силком хотели… — Она смущенно потупилась.
— Ты от него, знать, и бежала? — спросил унтер.
Девочка кивнула и опять опасливо глянула за калитку, мимо которой кто-то прошлепал по лужам.
«Спрошу, куда идет, и доведу, — решил Иванов. — Бог с ними, со щетками. А то опять не пристал бы…»
Но не поспел сказать, чтобы не тревожилась, как снова кто-то мелькнул у калитки, заглянул в нее и переступил порожек.
Это был барин в черном плаще и высокой шляпе, с полей которой, когда он нагнулся, входя в калитку, ручьем хлынула вода. Иванов поспел рассмотреть только большой нос и седые бакенбарды, — вошедший разом повернулся к нему спиной, всматриваясь в девочку, и через минуту, по-паучьи растопырив руки, двинулся к ней.
— Вот куда схоронилась! — заворковал он. — Зачем бежала от доброго старичка? Разве что плохое тебе делал?
Иванов скорей угадал, чем увидел, что барин взял девочку за подбородок, но та резко рванулась в сторону, и унтер рассмотрел помертвевшее от страха лицо.
«Надо выручать! — мелькнуло у Иванова. — Да как с барином тягаться? Разве родней назовусь?» И спросил, сделав шаг вперед:
— А что вашей милости от племянницы моей надобно?
Верно, занятый погоней барин не рассмотрел конногвардейца или вовсе не ожидал его вмешательства, привыкнув, что солдаты существа безгласные. Но теперь повернулся, как на пружине, и смерил его злыми и острыми, какими-то крысиными глазками.
— Вот еще родня выискалась! — насмешливо воскликнул он. — Видно, сам впервой ее увидел да пристать хочешь? Пойди проспись лучше, знаю я вас, солдат! — И вновь повернулся к девочке.
— Нет уж, про наше родство не сумлевайтесь да извольте дите в покое оставить, — решительно сказал Иванов, обходя противника и становясь рядом с девочкой.
— Никак мне грозить вздумал, кислая шерсть? — возвысил голос барин. — Да знаешь ли, кто я таков?! — Распахнув плащ, он показал толстый живот, над которым в петлице фрака болтался какой-то иностранный орденок.
— А мне что знать? Я вашему благородию худого не делаю, да только и племяшку свою в обиду не дам, — твердо возразил унтер. — Мигом народ вскричу. В сем дому меня все знают, я им дрова кажный год пилить нанимаюсь. Да пусть-ка Анюта сама расскажет, чего вы от ей хотели, пока от самой Невы следом шли. — Он повернулся ко двору, будто хотел окликнуть дремавшего дворника.
— Еще что, дуралей! — сердито закричал барин. Но в поспешности возгласа прозвучал испуг перед угрозой созвать народ. — Какая от меня обида! Эк чего выдумал!..
— А не было обиды, то и ладно, — примирительно согласился Иванов и протянул руку девочке. — Пойдем, Анюта, отец ждет…
Держась за руки, они вышли под ослабевший дождь и повернули по переулку к Садовой. Унтеру давно не приходилось чувствовать в ладони детские или девичьи пальцы, и доверчивое их прикосновение наполнило сердце умилением и радостью. Он взглянул в лицо своей спутницы — на нем сияло счастливое, торжествующее выражение. Но, дойдя до угла, оба обернулись. Переулок был пуст.
— Отстал, — сказал унтер успокаивающе. — Пропустим, племянница богоданная, дом-другой, да опять в подворотню — дождь переждать до конца надо, не то вовсе замокнешь.
— А откуль вы узнали, как меня звать? — спросила девочка.
— Неужто угадал? — удивился Иванов. — Оттого, верно, первое имя на ум взошло, что матушку мою Анною Тихоновной кличут.
— А он еще потому отступился, что поверил, будто мы родня, — сказала Анюта. — Поначалу, пока по-хорошему со мной заговаривал, я, дурочка, имя свое сказала. И вы так же кличете, вот и поверил, будто дяденьку встретила, испужался…
Завернули под арку большого дома с железной решеткой ворот. Уже двое прохожих мрачно смотрели отсюда на мокрую улицу.
— Куда же шла-то? — спросил Иванов.
— Папенькину работу в Гостиный несла, — девочка осмотрела свой узел, — да вот с испугу под полу не спрятала. — Она сокрушенно покачала головой и указала унтеру влажное пятно на тряпице: — Должно, помяла да расклеила все.
— Попадет, поди? — предположил Иванов.
— Что вы! Еще пожалеет, как расскажу про страхи-то, — уверила Анюта и вдруг добавила, умиленно смотря на унтера: — Спасибо вам, дяденька, дай бог доброго здоровья… как звать, не знаю.
— Александром Иванычем зови. А отец твой что же работает?
— Игрушки разные, — отвечала Анюта. — Он не только что из дерева режет, а на проволоках, на ниточках подвижные штуки клеит. Такие есть забавные! — Она огляделась, увидела у стены скамейку, должно быть для ночного сторожа, и, присев на нее, стала развязывать узел, чтобы показать что-то своему спасителю.
— Не надобно, развалишь все, — говорил он.
— Да нет, сверху положены каких недавно придумал, — ответила девочка. Она не развязала до конца, а только расслабила узел и осторожно вынула фигурку на подставке вроде барабанчика.
Это был щеголь барин ростом с указательный палец Иванова, в синем фраке с золочеными пуговицами и в серых брюках. Над головой с желтым хохлом он держал высокую серую шляпу.
Унтер взял в руки игрушку. Одежда из коленкора, пуговицы из золоченой бумаги, на розовом лице наведены брови, глаза, бакенбарды. Из барабанчика торчала проволочка с колечком.
— Вы колечко поверните, — сказала девочка, улыбаясь тому вниманию, с которым высокий гвардеец рассматривает маленького франта.
Он осторожно повернул кольцо, и фигурка плавно согнулась в низком поклоне, а рука со шляпой, описав дугу, припала к груди.
— Важно! — сказал Иванов с восхищением.
— Словно живой, шапку ломает, — подал голос стоявший рядом бородач в чуйке.
— И ведь его папенька сам сделать придумал! — воскликнула с гордостью девочка. — А я ему одежду прикраивала, пуговицы блескучие выстригала, шляпу, глаза, волосы красила.
— Как же внутри устроено? — спросил Иванов, поворачивая назад кольцо и любуясь движением распрямившейся игрушки.
— Там валичек деревянный вставлен, а на него две ниточки суровые навернуты. Одна спереди его под одеждой поклониться тянет, другая обратно ведет, — пояснила девочка. — Вы к папеньке приходите, он вам все устройство покажет, пока не заклеены. У него еще охотник есть, тоже ниткой двигается, птичку на ветке стреляет. А то сейчас пойдемте, то-то обрадуется!
— Боишься, поди, еще маленько? — улыбаясь, спросил Иванов и глянул на улицу. Дождь почти кончился.
— И боюсь и папеньке вас привесть охота, — созналась девочка.
— Надолго нонче отлучиться не могу, Анюта, а довесть тебя — изволь. Где ж квартируете?
— На Васильевском острову, в Седьмой линии.
Может быть, Анютин недруг и наблюдал откуда-то за ними, но не показался больше, и новые знакомые, спокойно беседуя, пошли к Неве. По дороге девочка рассказала, что отец ее отставной почтальон, «в должности» сломал ногу, которая плохо гнется, почему занялся игрушками. А матери у ней нету — померла так давно, что ее не помнит, но есть мачеха, она же родная тетка — сестра матери, на которой отец женился, когда — Анюта тоже не помнит. И что сама она отдана в учение к белошвейке-немке, а сегодня хозяйкин муж празднует рождение, и всех мастериц отпустили, кроме старших, которые служат при столе.
На 7-й линии свернули во двор и спустились в полуподвал двухэтажного дома. Анюта распахнула двери. Благообразный человек на прямой ноге испуганно приоткрыл рот, увидев Иванова, снимавшего каску, чтобы войти в комнату. Но, услышав поспешное Анютино объяснение, бросился подвигать табурет и раздувать самовар, поясняя между словами благодарности, что жена пошла в лавку и сейчас придет. Иванов едва упросил не хлопотать — он никак не мог остаться, раз отпросился всего на полтора часа.
Обещав наведаться как-нибудь в воскресенье, Иванов выбрался из низкой двери и поспешно зашагал в казармы.
«А ведь прозванья моего и какого полка не спросил. И я не узнал, как его звать. Ничего не поспели… — соображал унтер. — Да так и лучше, пожалуй. Чего величаться, что за девочку заступился?.. Сколько ж ей лет? Пожалуй, к пятнадцати будет. Ростом мала, а складненькая, скоро девицей станет… Занятно бы посмотреть, как игрушки мастерит. Со шляпой ловко придумано. Почем продают таких и сколько на него времени идет?..»
В ближнее воскресенье унтер пошел в Коломну. Там на Торговой улице снял квартиру князь Одоевский, которому вот-вот выйдет производство в офицеры. В ожидании этого князь Иван Сергеевич прислал целый обоз с кастрюлями и бельем, с деревенской копченой и маринованной снедью. Прислал еще повара и лакея, курносого парня со смешным прозваньем — Курицын. Молодой князь накупил уже мебели, и теперь в зале стоял длиннохвостый рояль, на котором Александр Иванович играл целые вечера то один, то вдвоем с седым немцем Миллером, которого все в глаза звали профессором. Никита пояснил унтеру, что он лучший в Петербурге фортепьянный учитель. И верно, старик нет-нет да и покрикивал на князя по-немецки.
— В музыку так ударился, что приятели не ходят, и сам никуда, — разводил руками Никита. — Чисто ихний двоюродный, московский князь Владимир Федорович. Либо читает, либо за музыкой. А на что офицеру музыка да книга? Я говорю: пора форму новую заказывать — как приказ выйдет, втридорога в спешке встанет.
— Так ведь хорошо, что не за бутылкой, — заметил Иванов.
— Всего в мерку еще б лучше, — возразил Никита. — Вот князь Иван Сергеевич, бывало, и книжку почитают, и на гобое подудят, и с друзьями в смехи так пустятся, что около них животики надорвешь. А нонче, боюсь, не заучился бы Александр Иванович. Не завели б книги да музыка, куда офицеру не надобно…
В следующее воскресенье, когда в полдень, отложив щетки, унтер вышел к воротам купить пару пирогов с печенкой, чтобы приправить казенный обед, кто-то сказал рядом:
— Александр Иванович, дозвольте обеспокоить! — Перед ним стоял Анютин отец, которого не узнал бы в шинели и картузе. — Вы самые! — продолжал он радостно, видно до конца утвердившись, что не ошибся. — Второе воскресенье вас высматриваю. Как дочка пообстоятельней рассказала про вашу заступу, то я и руками сплеснул — ничего не расспросил, закусить не уговорил! Хорошо, по соседству с почтамтом форму вашу искони знаю, да Анюта имя-отчество запомнила… Пожалуйте к нам обедать — жена со щами ждет.
Разве можно такому человеку отказать?.. Вернулся в эскадрон, оделся по всей форме, и пошли. Обед был на славу: щи с говядиной, каша гречневая со шкварками, миска клюквенного киселя, а потом яблоки и коврижки. Мачеха Анюты оказалась бледная, не больно речистая, но обходительная и опрятная женщина. Отец — его звали Яковом Васильевичем — занимал гостя рассказами, как скакал с экстрапочтой в Москву и Митаву с саблей и рожком на боку, как однажды с ямщиком отбивались от лихих парней в лесу под Крестцами. Хорошо, кони вынесли, а то везли немало денег в запечатанных мешках, и валяться бы обоим в овраге убитыми…
Потом показывал свои поделки. Мастерски резал из дерева зверей, клеил из картона целые усадьбы, окруженные садами из подкрашенного мха.
— Сам до всего дохожу, — говорил Яков. — Пенсия положена за семнадцать лет службы и увечье, на оной нажитое, двенадцать рублей в треть, три рубля на месяц. Не разживешься на три-то рта… А вы знаете ли какое ремесло, господин кавалер? Ваши солдаты многие искусно работают. Наши почтальоны им по соседству разное заказывают.
Пришлось рассказать про свои щетки. Потом хозяева расспрашивали, что у него за медали иностранные и за что какая награда получена, где воевал. Тут стало темнеть, ударили на Андреевском соборе к вечерне, — пора собираться в полк. Обещался еще прийти и простился. А как вышел, то все мерещились Анютины серые глаза, широко раскрытые, когда слушала их с отцом разговор. В руках шитье было, но, кажись, больше им во рты глядела, чем шила… Вот и у него городские знакомые завелись. И не кабацкие какие, а честная семья, в которой слова худого не услышал, и без водки живут, без зелья проклятого. Ходить теперь есть куда в гости, хоть разок в месяц. Надо к рождеству пару щеток в подарок Якову сготовить… Почтальону отставному, хорошо грамотному, двенадцать рублей в треть пенсии плотят, а он как унтер уже двадцать получает, да еще с кровом, с кормом от казны, с обмундированием… Но и служба куда хлопотней стала…
Через три недели, уже в конце ноября, опять сходил на 7-ю линию, как звали, к обеду, и все опять вышло хорошо — встретили, будто ждали. И наелся славно, и наговорился, и на Анюту налюбовался — экая девица пригожая! Прилежно на этот раз шила, хоть и слушала, видать, навостривши ушки, их с отцом разговор.
Когда сели за обед, Анюта, покрасневши, сказала, что на правом его рукаве галун криво нашит. Посмотрел — и верно, чуть скривил эскадронный портной на внутренней стороне, и никто до нее не заметил. Они с теткой вызвались перешить как нужно. Ничего не сделаешь, после обеда за занавеской у русской печки скинул колет, надел шинель и посидел, пока пришивали, слушая рассказы Якова, сколько взыскивают на почте за каждый лот весу письма или за посылки и чем отличается легкая почта от тяжелой. Первая, оказывается, возит письма и небольшие посылки, а вторая — грузы тяжелей пяти фунтов. Самому-то не случалось ничего посылать, так и не знаешь, а Якову, видно, радостно вспомнить службу, на которой был здоров. А экстрапочта, нигде остановок не делая, скачет с места до места, писем не забирает и не отдает.
— Значит, вы хорошо грамотные, — сказал Иванов.
— Нас в воспитательном грамоте и счету по три года учили. Кто хотел выучиться, вполне мог.
— Вы и родителей своих не знали? — посочувствовал унтер.
— Не знал. А крещен в честь святого того дня, когда в воспитательный подброшен, и отчество по надзирателю, что крестным записан. У нас того не бывало, как сказывают, в других заведениях, чтобы всех Макарами звать. Насчет же происхождения, то слыхал, когда подрос, от тамошних нянек, что при государыне Катерине Алексеевне многие дворовые люди своих младенцев в воспитательный подбрасывали, чтоб свободными вырастали. А вы из какого сословия?
— Крепостной. И сейчас отец с братьями тульскую землю пашут.
Когда прощался, настоятельно звали приходить на святках. А вместо того под праздник угодил в полковой караул. Ладно, теперь не стоять на морозе, а ходить разводящим, но хлопот немало с праздничными кирасирами, которые лишку выпили в городе. Один забрел на конюшню и подрался с дневальным, что не давал спать на ларе с овсом, другие лезли через запертые ворота. Ночью нисколько не спал, отчего, сменившись и пообедав, заснул так, что только под вечер очухался и пошел на Торговую поздравить. Там — тишь да гладь. Князь в гостях у важной родни, у тетки Ланской. Никита с Курицыным на кухне при господской восковой свече играют в карты на орехи, а кучер храпит на печке. Угостили Иванова славно, и пошел обратно в полк.
На второй день зашагал на 7-ю линию. Но никого не застал — ушли к родственникам на Выборгскую сторону. Так сказала старуха, что снимала другую половину подвала, выскочившая хмельная и простоволосая на его стук. Вытирая рот и жеманясь, звала к себе, что у ней племянницы больно красивые. Едва отшутился и ушел.
Как на нового унтера, конечно, навалилось побольше дела. Барон велел принять отделение из шестнадцати кирасир. Из них четверо молодых, по второму году, а трое хоть по четвертому считаются, да мало выучены. А щетки когда же делать?.. Значит, по воскресеньям надо налегать, благо Жученков позволил днем, когда у кумы, сидеть в своей каморке. К тому же в его подголовнике теперь и деньги Иванова накопленные лежали — под мундиром стало неспособно носить, оказалось уже снова больше ста рублей.
Обдумавши, решил раз в месяц ходить на остров обедать, да что-нибудь туда носить лакомое, а остальные воскресенья вечерами наведываться на Торговую, где, как своего, привечают.
В начале февраля пошел на 7-ю линию, застал Якова Васильевича с тетей Пашей. Анюту немка не отпустила, спешат с заказом приданого. Подаренные за рождество щетки понравились, благодарили, видать, от души. Пообедали, поговорили про разное, и зашагал в полк. Шел и чувствовал, что без Анюты как-то пусто показалось в гостеприимном полуподвале.
Двадцать третьего февраля князя Одоевского наконец-то произвели в корнеты. Иванов поздравил его в полку и был позван прийти в воскресенье. Замешкавшись со щетками, собрался, когда стало темнеть.
— Ступай в залу, полюбуйся на выученика своего, — блаженно осклабился Никита, провожавший француза-парикмахера. — Ноне во дворец впервой на бал едет.
Александр Иванович стоял перед большим зеркалом. Курицын, присев на корточки, подкреплял пряжку под коленом коротких белых панталон. Ох, и сиял же молодой корнет новой формой! Красный колет с золотым шитьем и эполетами ладно охватывал грудь. А над ней ярче алого сукна горело румянцем красивое юное лицо, освещенное радостной улыбкой, счастливым сиянием синих глаз.
Увидел Иванова, бросился навстречу, охватил за шею и закружил по залу, обдав запахом духов, жарким дыханием и чуть не уронив на скользком паркете. А посередь зала остановился, слегка расставил стройные ноги в белых шелковых чулках, раскинул руки, как бы хотел обнять на него смотревших, и сказал:
— Один знаменитый английский поэт пишет, что все люди недовольны тем, что имеют, и надеются на счастье в будущем. А я вот сейчас, право же, совершенно, ну совершенно счастлив!
Тут Никита поднес князю шпагу и перчатки, а Курицын — шляпу с белым султаном. Иванов накинул ему шинель с бобровым воротником, и все вышли на подъезд. Застегнута медвежья полсть, скрипнули полозья, рысак птицей взял с места и полетел, кидая в передок саней комья снега.
— Ну, теперь, бог даст, пошел до генерала служить, — сказал Никита, возвращаясь в комнаты. — Князь-то Иван Сергеич, кабы светлейший не помер, высокие чины выслужил, да император Павел всех потемкинских поразгонял. Нам как драгунский полк дали, за счастье почли. А полк-то в Иркутске, — скачи-ка!.. — Тут Никита значительно поднял перст, и его вдруг повело в сторону. Иванов с удивлением почувствовал шедший от старого камердинера запах вина, а Никита продолжал вещать с возрастающими запинками: — Наши князья столбовые, им от царей внимание… Один Грозный пятерых переказнил… Только б войны не случилось, а то горяч Сашенька… Ох, горяч, я-то знаю. Себя за других не пожалеет… Ну-ка, поддержи меня, унтер, что-то ноги ослабли. Выпили давеча шампанского с князем на радостях… Ты, Курицын, шельма, посуду сряду мыть становись, а ты, Иваныч, за ним пригляди, чтобы не перебил. Ты человек верный, присяжный…
Через две недели приехал старый князь, получивший весть о производстве сына. Навез столового серебра, камчатных скатертей, салфеток и сразу заворчал на квартиру: потолки низки, комнаты малы, людская и кухня в полуподвале, — хотел для сына всего самого лучшего. Пустился по лавкам покупать фарфор и бронзу, по мебельщикам — за новой обстановкой гостиной.
Все это обновили приглашенные полковые товарищи, тоже корнеты — Плещеев, Ринкевич, Лужин и князь Долгоруков. Ужин был из шести перемен, шампанского выпили дюжину бутылок, так что всех молодых господ, кроме хладнокровного князя Долгорукова, который уехал домой в полной памяти, Никита, Иванов и Курицын под командой старого князя раздели вполне бесчувственных и разложили по диванам да поставили в головах тазы. А потом еще подметали разбитые при тостах бокалы, сносили на кухню грязную посуду и сидели сами за едой, благо назавтра, в воскресенье, никому не нужно было рано вставать. Но от полковой привычки унтер поднялся на заре и с бессонным от возраста Никитой перечистил господские платья и сапоги, а потом, плотно закусивши, залез на русскую печь и заснул уже до самого обеда.
Свидевшись с сыном после полутора лет разлуки, князь Иван Сергеевич почти не разлучался с ним тот месяц, что провел в Петербурге. Моложавый и подвижный, он вставал рано, чтобы в халате пить утренний чай вместе с Сашей до отъезда его в полк, потом брился, одевался и отправлялся с визитами и по магазинам. Но к приходу Александра Ивановича бывал уже дома, они вместе обедали и проводили вечер, читали, сидя рядом, или играли на одном рояле, вместе шли гулять, а то ехали к родне. Иногда Иван Сергеевич гнал сына на бал, но тот отмахивался:
— Мне с вами и без танцев весело…
Видеть их вместе было особенно отрадно Иванову, — своя-то жизнь как раз в это время вовсе обеднела и померкла.
В последний день масленицы отправился на Васильевский. Раз завтра начинается великий пост, зашел на Андреевский рынок, купил здоровенного мороженого судака, полтинника не пожалел. Но дверь оказалась заперта, окошки задернуты коленкоровыми занавесками. Снова на его стук вышла соседка, как прошлый раз вытирая жирные губы рукой. За ее спиной слышались громкие голоса.
— Опять у сродственников на Выборгской, на блинах ноне, — сказала она, осклабясь. — Не ждали тебя, видно, женишок.
— Какой я жених? Солдатова жена — вдвое бедна, — отшутился Иванов.
— Все от того, кака тебе девка попадет. От другой и сам богат станешь, — подмигнула ведьма. — Идем ко мне, кавалер, блины есть, там такие крали — что репки сахарные. А то рыбину принес, а их никого… А мои-то девки, право, земляничины. — И, увидев, что поворачивает назад, воскликнула: — Неужто судака в полк понесешь?
— А ты думаешь, солдаты жирно едят? — огрызнулся Иванов.
Шел и думал, как бы рыба под рукой не оттаяла, шинель не замарала. В мелочной купил на грош бумаги, завернул честь честью. Ничего, завтра славно похлебают ухи с Жученковым…
Но что старая ведьма удумала? Женишок! А ежели и Яков с теткой Пашей так же думают? Только нет, кому охота за служивого дочку отдать, хоть и за унтера. Хорошо, барон Пилар немец справедливый, а сменит его другой, то и разжалуют запросто на прежние семь рублей в треть. На неделе приказ по корпусу перед строем читали: «Кто из нижних чинов или унтер-офицеров будет встречен не в полной форме, того прогнать сквозь строй и выписать из гвардии…» А захвораешь, то мигом уморят в гошпитале, раз от того им доход… Вспомнилась недвижная женщина, что сидела у некрашеного гроба в часовне, когда ходили проститься с Алевчуком… Скольких он таких скорбных женок видывал!.. На Смоленском поле и пехоте для учения места хватает, и могил солдатских копают в год не одну сотню… А дети солдатские?.. Как, кажись, тот же Алевчук говорил: мальчишки — в кантонисты, та же вытяжка и позитура с двенадцати лет, а из девок редкая по честной дороге идет… Вот что ведьма выдумала!.. Ладно! Она-то ведьма, но и ты сам разве про то не стал раскидывать?.. Разве прошлый раз без Анюты не пусто тебе показалось?.. Знать, Дашу забывать стал… Так мудрено ли, пятнадцать лет в солдатах промыкавшись?.. Господи боже, каб узнал в Лебедяни, что жива, за добрым человеком замужем, то, кажись, вовсе не мучился бы, а как увидел Степку жирного, с подлой его ухмылкой да как узнал, что заколотил беззащитную, вот тут и загорелась душа. Кабы сейчас его встретил, и через пять, через десять лет, все равно убил бы, рука не дрогнула… Но нет же, ничьим ему женихом не бывать, раз задумал важное, на что рубль к рублю копит. «Баста!»— как на манеже коню командуют. Беги в прежнюю сторону… Значит, и ходить туда вовсе не след?.. Аль только пореже? И объяснить есть чем — дела стало больше со своим отделением… Ах, и скучно будет, добрых людей не повидавши… А не одну ль Анюту тебе видеть надобно?..
Такие рассуждения только мелькали на улице, где солдату надо смотреть в оба. По-настоящему пришли уже в полку, когда, разоблачившись, вошел в каморку Жученкова, раскрыл рабочий ящик, взял в руки колодки и волос. Первый раз не захотелось делать привычное… Уставился в тусклое окошко и затосковал…
Сколько же раз еще повторял, долбил себе Иванов эти доводы в апреле и мае, заходя теперь всегда ненадолго на 7-ю линию. Но перед самым выступлением в Стрельну он почти нос к носу столкнулся с Яковом Васильевичем, видно поджидавшим его у лестницы, ведшей в их эскадрон. Поздоровались, сказали по два слова про погоду, про уход «на траву». Потом игрушечник посмотрел в глаза Иванову своими ясными, совсем Анютиными глазами и спросил:
— Чего реже к нам заходить стали и все торопитесь? Есть на то причина, Александр Иваныч? Мы не купцы и не баре, нам увиливать от правды негоже. Или, может, нам с Полей почудилось?..
— Не почудилось вам, Яков Васильевич, — отвечал унтер. И пересказал, что думал в последние месяцы, как натолкнула его на такие мысли соседка, назвавши женихом.
— Ах, карга пьяная! — в сердцах тряхнул головой отставной почтальон. Но, помолчав, добавил: — А может, рассуждение ваше все же таки верное. Вам сколько лет еще служить?..
— Без малого девять, коли все хорошо будет…
— Многовато. Анюте пятнадцать. И чтоб унтерской женой стала, того, не скрою, не хотел бы… Только тогда, Александр Иваныч, лучше к нам и вовсе не ходите. Ведь Анюта не кукла, мной клеенная, а живая девица и вам еще благодарная. Скажу, что невзначай встретились и будто перевели вас в Гатчину. Так, что ли?
Иванов кивнул и повернул обратно в эскадрон. Ведь как раз собрался было на 7-ю линию.
В Стрельне сразу начались непредвиденные хлопоты — обмен коней с другими полками. До сих пор в каждом из шести строевых эскадронов подбиралась своя масть. А тут государь велел, чтобы весь полк ездил только на вороных, — понятно, кроме трубачей, которые оставались на светло-серых. Повели гнедых кавалергардам, рыжих и бурых — кирасирам в Новую Ладогу, карих — другим кирасирам в Пеллу, а из этих полков и от улан, гусар и драгун к себе — вороных. Дело не шуточное — разменять сотни коней и, принимая новых, не проглядеть порочных и дурноезжих. Жаль было 3-му эскадрону расставаться с привычными рыжими. Да что делать — царская воля. Две недели прошли в этой кутерьме.
На летней стоянке свое отделение и письменная помощь вахмистру заполняли почти весь день Иванова. После строевых занятий делал расчет караула и дневальства по эскадрону или наряжал на косьбу и сушку сена, на прополку и поливку огорода. А в свободные часы налегал на щеточное дело, благо нынче в избе сыскался угол. Да еще на все воскресные утра князь Одоевский с согласия Жученкова подрядил на полевые проездки.
— Хочу сим летом овладеть до конца строевой ездой, чтобы зимой в офицерской смене не плошать. А следующий год берейтора найму, чтобы манежные тонкости изучать, — говорил он Иванову. — Ты меня, тезка, выправляй без всякой церемонии. И толкуй еще все, до походного движения касаемое. Вдруг война случится, а мы походу вовсе не учимся. Мне надо так к коню прирасти, чтобы, как на балу в танцах, себя в седле чувствовать. Понял, тезка?
— Буду стараться, ваше сиятельство…
Чтобы не замучить казенного коня, которому положено быть в хорошем теле, Иванов садился на одного из трех купленных князем после производства, и они заезжали верст за пятнадцать, чаще по пустынной Ропшинской дороге.
Ни до, ни после не бывали они так подолгу наедине, никогда не разговаривали так много, как этим летом. Одоевский охотно рассказывал о своем детстве в усадьбе Ярославской губернии, об учителях и вражде с ними дядьки Никиты, который боялся, что уморят его питомца уроками. С любовью говорил об отце и почти никогда о матери. Но Иванов чувствовал, что печаль о ней не прошла, хотя миновало около трех лет с ее смерти.
Своего спутника корнет расспрашивал о войне и походах. Вздыхал, что «опоздал родиться», чтобы участвовать в боях и войти в Париж победителем. Смеялся, что ребенком был зачислен в статскую службу и, разу не посетив канцелярию, получал чины, которые потерял, став юнкером. Иногда просил унтера петь солдатские песни, которым подтягивал, и смеялся, если перевирал слова. А то расспрашивал о деревне, о родичах — как зовут, какие по характеру…
При этом Иванов увидел, что князь совсем не знает крестьянской жизни. Каждый раз, когда случалось помянуть о несправедливостях, наказаниях и бедности, обычных для любой деревни, Александр Иванович краснел и вполголоса бранился по-иностранному. На привале, который делали посередь проездки, он после таких разговоров особенно настойчиво угощал Иванова, в обязанности которого входило расстилать скатерть на земле и подавать князю, что напихал в сумы их седел заботливый Никита. Иногда, свернув на проселок, Иванов учил корнета рубить палашом ветки придорожных кустов, а то стреляли из офицерских пистолетов в мишень, повесив ее на какую-нибудь изгородь.
— А не жалко было рубить французов? — спросил как-то князь.
— Рубить в атаке не жалко, раз и он тебя вот-вот срубит или застрелит, — отвечал унтер. — А когда замерзали тысячами да за палую конину дрались, вот тогда их жалели.
Расспрашивал Одоевский и про жизнь эскадрона, — не про дневную, которую видел еще юнкером, занимаясь вместе с кирасирами строем и ездой, а про вечерние разговоры, про характер тех, чьи лица и прозвища запомнил. Интересовался, что мастерят для заработка, что мечтают делать после отставки.
— А ты ко мне, может, тезка, служить пойдешь? — предложил он Иванову. — У нас вотчина большая, моих крепостных, что матушка завещала, тысяча с лишним душ да у папа четыре тысячи. В Москве всегда дом к приезду готовый, при нем прислуга, конюшня большая. Хватит тебе хлопот по конской части. А захочешь — при мне в Петербурге останешься. С этого года заведу еще разгонную тройку — по театрам, гостям и балам носиться.
— Я б с радостью, — отвечал унтер, — чего лучше при вашем-то сиятельстве?.. — И тут же подумал, будто укололся, как часто теперь бывало: «И жениться при таком месте в самый бы раз. За князем — как за каменной стеной. Не зря ли от Анюты отрекся?»
— Но, может, у тебя совсем иные мечты? — допрашивал Одоевский. — Вот ты ремесленничаешь. На что те деньги копишь?
«Сказать правду? — подумал Иванов. — Нет, нельзя: выйдет, будто подачек выпрашиваю, а он и так каждое воскресенье то рубль, то два дарит. Да еще наедаюсь, как век не едал».
И ответил, что в отставке деньги нужны на любое обзаведение и что в деревне у него родня, им тоже помочь не грех.
Князь не зря говорил о необходимой разгонной тройке. В нонешнее первое офицерское лето он и в Стрельне свел знакомства с господами, жившими поблизости в поместьях и на дачах. Раза два-три в неделю с корнетами Ринкевичем, Плещеевым, Лужиным уезжал туда, где танцевали, занимались музыкой. Конечно, Никита сокрушался, что возвращается поздно, а вскакивает чуть свет, как требует строгий барон Пилар.
— Спору нет, господа Мятливы, Балабины, Апраксины — все семейства нам ровные. Но спать-то когда же? — жаловался он унтеру. — Нонче в Знаменку на конную карусель ряжеными поскачут, а то еще затевают «живые картины». Не слыхал ли, что за штука?..
После двух месяцев в Стрельне пошли в Красное. Здесь предстояло провести перед царем двусторонний маневр и с неделю его репетировали. Все движения противников были расписаны по минутам, «внезапные» атаки и перестрелки проходили как по маслу, и победила та сторона, которой командовал император.
Но для Иванова, впервые отвечавшего за свое отделение, случилась неприятность — один из кирасир во время атаки упал с конем в яму и вывихнул ногу. На счастье, еще конь остался невредим.
Эту до сажени глубиной яму, находившуюся на поле близ деревни Лемпелево, так и звали в гвардии — «кирасирское горе», потому что каждый год при атаке сомкнутым строем тяжелой кавалерийской дивизии в нее обязательно падали несколько всадников с лошадьми. Отягощенные кирасами, касками, палашами, в негнущихся ботфортах да еще порой придавленные конем, они редко сами могли выбраться, и ближняя пехотная часть держала наготове взвод с веревками, который после атаки бежал тащить из ямы людей и коней.
Каждый год после такого приключения у начальства начинались разговоры о том, что нужно засыпать проклятую яму, на что некоторые генералы возражали, что на войне никто поля не уравнивает, а нужно за то, что падают, наказывать солдат, тогда остерегутся. Так вышло, что Иванов получил за своего кирасира три дежурства вне очереди, а тот бедняга, когда ему вправили ногу, просидел на гауптвахте неделю на хлебе и воде. Столь милостиво обошлось, раз государь остался доволен маневрами.
Потом вернулись в Петербург, зажили в казармах обычным распорядком, и тут к Иванову с Жученковым пришла настоящая беда.
В одно понедельничное темное, дождливое утро, когда по сигналу трубача кирасиры, поднявшись с нар, одевались к уборке коней и наиболее проворные уже плескались у рукомойников, вахмистр кликнул Иванова в свой закуток. Накануне унтер дотемна сидел здесь за щетками, после чего отправился на Торговую, а Жученков с полдён гостевал у кумы и возвратился к вечерней заре слегка под хмелем. Когда Иванов вошел, вахмистр молча ткнул пальцем в сторону своего ложа. Сенник был скинут на пол, а подголовная окованная железом шкатулка раскрыта и пуста.
— Хотел за сбитнем послать, — пояснил Жученков, — ан вот что!.. Ты вчерась хорошо ли дверь запер?..
— Как всегда, Петр Гаврилыч, — отвечал Иванов, а у самого в глазах потемнело. Все, что наработал после Лебедяни и надавал ему Одоевский, — все хранилось в этом подголовнике.
— Душу из дневального выбью, а скажет, кто влезть сюда мог! — грозно рявкнул Жученков и пошел к двери.
— Портянов дневалил, — сказал Иванов и добавил упавшим голосом: — Да ведь вчерась трое в бессрочный ушли.
От этих слов вахмистр остановился и, повернувшись к унтеру, потряс обоими кулаками с самым крепким словом.
Действительно, вчера провели в эскадроне последний день три кирасира, прослужившие без штрафа по двадцать два года, и все к ночи ушли навсегда из полка. Вот уж истинно — ищи ветра в поле!.. А Портянов был самый простой парень, из которого, конечно, можно выбить душу, но заподозрить в краже никак невозможно.
Минуты две простояли молча, растерянные и обескураженные.
— Ты когда ушел к своему князю? — спросил наконец вахмистр.
— Как огни зажигали. Портянов последний фонарь на лестнице чистил… Сколько ж у тебя было, Петр Гаврилыч?
— Триста двадцать рублев… Шутка! Все, что после Парижа за девять лет накоплено. Сто раз кума говорила: «Неси ко мне». Ан нет, у себя верней! Дурак чертов!.. А твоих?
— Сто пятьдесят шесть.
— Да нет же! — вновь взвился Жученков. — Квохчем, как куры! Ежели то Матвеев, так Фроську его косую вся Подьяческая знает!
— А ежели не он? — спросил Иванов. — Ежели Перцов или Коняхин? А может, под их уход кто из молодых спроворил?..
— Эх! Надо ребятам скорей сказать! — решил Жученков. — Может, видели чего… Неужто даром я за своих горой, ни с кого гроша ломаного, как другие вахмистры, не сдираю. — Он круто развернулся, ударив Иванова ножнами палаша, рванул дверь и загремел: — А ну, ко мне все кирасиры! Живо!..
Оставшись один, Иванов осмотрел укладку. Она была взломана нажимом стамески или большого ножа, засунутого под крышку, замок вырван из деревянной стенки вместе с заклепками.
А он-то в то время, как ее ломали да деньги по карманам рассовывали, сидел на княжеской кухне, баранину жевал… Или отойти от казармы не поспел, как тут уже орудовали, пока раззява Портянов с фонарем возился. Ключ к двери подобрать дело плевое. Может, и нонешний грабитель, как Алевчук, на побег добывал, для отвода глаз под уход старослужащих? Сказывали, унтер Егерского полка недавно на корабле немецком уплыл…
А за стенкой все гремел вахмистр. Вот ответил ему плаксивый голос Портянова. Вот вставил слово кто-то из кирасир, и опять заревел Жученков — вот глотка!..
— Экой срам, ребята! В эскадроне своем воровать, да еще у вахмистра, который вам как отец. Все, что на старость накоплено!..
За окнами, на лестнице трубач сыграл вторую повестку — становись на поверку и молитву. На ходу застегивая колет, Иванов выскочил из вахмистерской каморки. «Эх, житье бездомное! Пять лет копил, и все разом…»
12
Когда в воскресенье унтер пришел на Торговую, Никита спросил:
— Брюхом занедужил, Иваныч? Сейчас травника поднесу да сорочинского пшена велю отварить. Аль простыл? Тогда пирогов поешь — да на печку. Справу казенную сыми, шубой моей укройся.
— Покорно благодарим, Никита Петрович. Сейчас ничего, а на неделе совсем плохо было. Пересилился уже.
Он действительно «пересилился» — заставил себя думать, что Жученкову еще хуже, он на восемь лет старей, совсем мало осталося дослуживать, и денег у него вдвое больше украли. Даже напивается по вечерам в одиночку, чего раньше не бывало.
А он сам что же, готов все-все снова начинать?.. Для другого вора деньги готовить?.. Но ведь не работать все равно не может, только куда прятать? Может, как Жученков когда-то советовал, к Елизаровой жене в Стрельну возить? Баба крепкая, домоседка, у нее не утащат. Э, что про то думать, когда осталось всего семь рублей, которые в подголовник положить не поспел, да на той неделе жалованья двадцать рублей за треть дадут. Тогда все вместе снова в холщовый черес на брюхо… А был бы женат, то на квартире хранил бы, жена бы над ними тряслась… Зато на женатое обзаведение сколько ушло бы! Жене то и се подай, какое у соседок увидела. Хотя Анюта не таковская, особо если б знала, на что деньги копит… Эх, да что теперь думать!..
Несколько раз в это время Иванову казалось, будто князь Одоевский знает про его пропажу, что было б не мудрено — в эскадроне об этом толковали, а корнет не чуждался прислушаться к солдатскому разговору. Еще чаще стал он совать Иванову рублевки, еще ласковее обращался, не раз напоминал, что после отставки обязательно возьмет в услуженье на все готовое и с жалованьем. Но унтер заметил, что при том никогда не говорит про Москву, а все про Петербург и куда реже поминает своего батюшку, который еще летом с языка не сходил.
— Здоров ли князь Иван Сергеевич? — спросил Иванов Никиту.
— Слава богу. А ты чего вспомнил? — ответил камердинер.
— От Александра Иваныча давно про их ничего не слыхать.
— Обидевшись они маленько на папеньку, — усмехнулся Никита, — зачем про свадьбу свою загодя не известили.
— Неужто старый князь опять женились? — удивился унтер.
— Эка старость! — воскликнул камердинер. — Вдовеет Иван Сергеевич четвертый год, а от роду сорока семи нету. Пока сынок при них жили — иное дело, а теперь чего же в одиночку куковать?.. И не то нашему молодцу обидно, что женились, а что узнал про то перед самой свадьбой, даже приглашен толком не был, оттого будто, что отпусков из лагеря не дают. Я-то знал зараныпе, да молчал, раз от Ивана Сергеевича приказу не было.
— А ты откуда знал? — спросил Иванов, подумав, что собеседник его хвастает.
— Мне все московское наше известно, — подтвердил Никита. — Дворовый Князев скорняк, Сениным звать, на оброке меховую лавку держит, по торговле сюда ездит и ко мне с вестями заходит, каково у нас на Пречистенке, поклоны от кумовьев передает.
— Княгиня новая каких же лет? — осведомился унтер.
— Ровно на три десятка супруга моложе, Марией Степановной звать, собой весьма пригожие, но родом мелкопоместные и бесприданницы, — высыпал Никита и заключил уже иным тоном: — Ничего, сердце у Александра Ивановича отходчиво, скоро все на лад пойдет. От стеснительности одной Иван-то Сергеевич известить нас опоздали, и нечего на родителя губы надувать. Еще не раз небось ему поклонимся.
«А я-то, дурак, нашей с Анютой разницы испугался, — думал Иванов после этого разговора. — Хотя, понятно, князю да богачу дело иное. Кирасиры наши в сорок семь-то лет вон какие морщивые… А может, и я еще кого повстречаю?.. Дослужу срок да за конями Александра Ивановича определюсь ходить…»
Хорошо было хоть перед сном подумать про такое вольготное будущее, тем больше, что в эскадроне стало вот как невесело. После покражи Жученков ожесточился, часто по пустякам орал на унтеров и кирасир, раздавал зуботычины, даже с кумой рассорился и напивался по воскресеньям в одиночку в своей каморке.
Служба Иванова шла своим чередом, поглощая много сил и времени. Помимо обычных строевых и письменных дел, в которых помогал вахмистру, начальство все время придумывало что-нибудь новое, часто очень хлопотливое. То приказали приучать лошадей в манеже к холостым пистолетным выстрелам над самым ухом. Конечно, молодые кони пугались, носили и часто били кирасир. Да еще надо было проверить, какими пистолетами можно пользоваться без опаски. Ведь они с самого 1814 года хранились в седельных кобурах и чистились только снаружи. А то решили ввести во всей гвардейской кавалерии фехтование на эспадронах, для чего приказали посылать два раза в неделю команды отборных унтеров и рядовых к учителю, капитану Вальвилю, с тем чтобы когда-то в будущем они обучат весь свой полк. Потом прочли строжайший приказ самого государя об усах. Пятнадцать лет под страхом телесного наказания их носили острыми концами вниз, а теперь в один день чтобы все перечесали вверх да еще распушили концы на щеках по волоску, веером, для чего без густой фабры или даже клею не обойтись. За всем этаким надо было досматривать, чтобы прошло без замечаний от начальства.
А досуги заполняла щеточная работа. Она давала рублей шесть-семь в месяц, которые совал в черес. Но деньги эти не приносили прежней радости. Казалось, что работаешь впустую. Разве от своего вора убережешься?..
Весенний переход под Стрельну, как всегда, оживил кирасир. Два месяца стоянки «на траве» по деревням у знакомых хозяев, с облегченными строевыми занятиями и караулами, с прополкой и поливкой огорода, купанием и стиркой в заливе — это ль не отдых? Тут даже Жученков замурлыкал про слободку, где вдовий домик, и стал звать Иванова воскресными вечерами к Елизарову, запасаясь к столу полуштофом.
В Стрельне унтер узнал грустное. На страстной помер старик Еремин, добрый его учитель в щеточном деле, повидать которого заходил в предыдущие года. Разыскал на солдатском кладбище, за парадным местом, его могилу и застал там одного из подмастерьев-кантонистов, красящим крест. Что ж, и то хорошо, что не один его помнит.
В этом году к Одоевскому в снятый им домик на окраине Стрельны приехал пожить приятель, которого Иванов видывал на Торговой, сухой телом, быстрый в движениях, очкастый барин лет под тридцать, Александр Сергеевич Грибоедов. Хотя, видать, из состоятельных, но в Петербурге он жил по-походному, в гостинице, с одним дворовым человеком, лакеем Сашкой.
Когда переехали в Стрельну, Никита сразу заворчал на Сашку, что больно форсит, одевшись во все с барского плеча, да сидит, развалясь, днем на крыльце, а за Александром Сергеевичем убирает плохо и услуживает кое-как. Однако по вечерам на этом же крыльце Никита со всей прислугой, а иногда и с Ивановым развесив уши слушал россказни Сашки про Кавказ, где провел три года около служившего там барина, и про Персию, куда ездили «по казенному делу».
— Татарки кавказские и в Персии все бабы головы закрывши тряпками ходят, только глазам щелки оставлены, — рассказывал он. — Нипочем не узнаешь, ведьма ли старая аль пригожая девица… А в Персии замест лошадей — верблюды высоченные в желтых шерстях, что твой кафтан, — Сашка ткнул в сюртук Курицына. — Верхом чтоб взлезть, надо наземь покласть. Ему скомандуют, он и лягет., А жарища там — страсть. Едешь, а снизу от его печет, как от сковороды, к солнцу на прибавку. И климат такой дурной: днем весь мокрый, потом исходишь, а ночью зуб о зуб стукает.
— А бани там заведены? — спросил Курицын.
— Еще какие! — Сашка значительно пучил глаза. — В банях тех не по-нашему моют, а здоровые мужики тамошние мнут да шлепают, прямо колотят, аж кости трещат, право. А потом на спину тебе ногами вскочит и давай топтать, индо хряск идет. Попервости думаешь, и живу не встать, ан потом, как отмоет такой азият, — чисто в живой воде искупался, вольготно да легко…
— Врать ты горазд, Сашка, — качал головой Никита. — Зачем ногами человека пинать, когда руки да мочалка в наличности?
— Вот как перед истинным! — крестился Сашка. — Хоть у Александра Сергеевича спросите, они в такую баню часто ездили и с теми банщиками по-ихнему лопотали. А хлеба там ржаного не едят — всё булки, хоть ты нищий распоследний, аллаховым именем побираешься…
Грибоедов в войну с французами служил в гусарах, любил верховую езду, и теперь Иванов по воскресеньям сопровождал уже двух господ. В этом году третья верховая лошадь Одоевского пошла в работу к берейтору, и унтер ездил на казенной. Часто на проселках господа скакали наперегонки. Знай трюхай сзади рысцой на своем тяжелом, раскормленном коне.
Как и в прошлый год, на Иванове лежал уход за конями на привалах, когда господа купались или отдыхали на сене, да услуга им за завтраком, который вместе с ковриком, скатертью, салфетками и приборами Никита укладывал в особый вьюк при седле унтера. Во время еды ему приходилось слушать господские разговоры, хотя из вежливости садился поодаль, но все ж так, чтобы вовремя подать что следовало.
Говорили приятели все больше про книги, которые читали, про театры, куда ездили прошлой зимой. Тут Иванов с удивлением услышал, как князь, который был много моложе, выговаривал Александру Сергеевичу, что тратит время на «кружение около актрис». А Грибоедов хотя отшучивался, но обещал будущую зиму прилежней заниматься дома. Не раз он по просьбе Одоевского читал на разные голоса какое-то свое писание, которое, должно быть, готовил для театра. Чтение это корнет очень хвалил и не раз просил повторить. Было оно похоже на разговоры господ и все очень складно.
Однажды, лежа после купания и завтрака под деревом, Грибоедов рассказывал, как прошлым летом гостил у друга в Тульской губернии и целые дни сочинял в садовой беседке.
Убирая посуду, Иванов думал: «А вдруг где поблизости от Козловки гостил, у господ, про которых и я слыхивал? Вдруг про Карбовского толстомордого узнаю, что от пьянства окочурился».
— В каком уезде изволили гостить, ваше высокоблагородие? — спросил он, набравшись смелости.
— В Ефремовском. А ты, кавалер, из Тульской никак? Будто по говору слышу. Солдат в тебе еще не совсем туляка заглушил.
— Из Епифанского уезда, от самого то есть города. А через Ефремовский довелось ехать, как в Лебедянь шли.
— За ремонтом, что ли?
— Так точно.
Грибоедов присел, поправил вышитые помочи и спросил:
— Так слыхал, должно, про генерала Измайлова?
— Как не слыхать? — не очень охотно отозвался Иванов.
— Что же в народе про него говорят? — продолжал спрашивать Грибоедов и повернулся к Одоевскому: — Он у меня помянут как «Нестор негодяев знатных»… А правда куда еще хуже. Так каков же генерал? — обратился он снова к Иванову.
— Мы понаслышке ведь. Вотчина ихняя от нас верст тридцать.
— Да говори, не сомневайся, кавалер. Я с генералом тем не знаком и знать его не хочу.
— Говори, тезка, как бы мне сказал, — подал голос Одоевский.
— Сказывают, будто тюрьма там каменная для крепостных людей, на цепи, как псов, сажают и годами голодом морят, а щенков борзых бабам отдают грудью выкармливать. Много еще толкуют. Генералом тем у нас ребят пугают…
— Vox populi!..[46] — сказал Грибоедов князю, который слушал насупясь. — Преступник в духе нашей московской Салтычихи, по которому давно Сибирь плачет. Зверь зверем.
В следующее воскресенье, подавая господам в поле завтрак, Иванов слушал рассказы Александра Сергеевича про Персию, как сильны при тамошнем царе англичане и как им поперек горла, что русские правят Кавказом и наше войско стоит на персидской границе.
— А дозвольте узнать, ваше высокоблагородие, каково в персидской стороне простому народу жить? — решился спросить унтер.
— Плохо, братец. Еще хуже, пожалуй, чем у нас мужикам, — отозвался Грибоедов. — Нищета последняя, голод. Детьми наравне с баранами и верблюдами торгуют, сами родители продают — авось не помрет у покупщика…
— А вот у немцев да у французов иное дело, — вздохнул Иванов.
— Много ли у вас из полка за границей кирасир осталось? — спросил Грибоедов. — Сбежало там то есть.
— У нас не так много, называли всего с десяток. Из нашего эскадрона двое ушли на обратной дороге с ночлегов. При генерале Арсеньеве да в войну служба у нас была не обидная. А в Кавалергардском полку, слыхать, больше ушло, как там офицеры в Париже за все строго взыскивали. Там случилось, что свои же сыскали кирасира да и расстреляли его за казармой.
— За что же так круто? — удивился Грибоедов. — Может, в армию списали или в штрафованные, а молва пошла, будто казнили?
— Нет, оно уж верно, свой земляк и сыскал его. У нас в полку все знали, — сказал Иванов. Он решил довериться этому барину в очках, которого, видать, так полюбил его корнет и совсем не боялся свой слуга Сашка.
— Да как же оно было? Зачем-нибудь в полк показался или силком привели? — спросил Одоевский.
— Было, что приглянулась тому кирасиру, кажись Кольцовым прозывался, девица на рынке, которая капустой да репой торговала. Отец ее под самым Парижем ту овощь выращивал. Уж как они столковались, бог весть, только за неделю до обратного похода к ней сбег. А командовал тем эскадроном строгий полковник Васильчиков. Вот он призвал вахмистра и двух унтеров — всех, в России жен и детей оставивших, — и наказал: сыскать Кольцова, а то всем галуны долой и под палки. Пошли они по Парижу рыскать, будто по темному лесу. Только вахмистр однова видал, как Кольцов около девицы на рынке кружился. Пошел туда, выждал, пока домой пустую тележку покатила, да за ней до самой фермы. А там Кольцов уже в ихней одёже ворота ей отворяет., Ну, вахмистр не показался, а собрал унтеров да назавтра чуть свет туда же. Взяли, связали — да в полк. Так старик с дочкой до самых казарм бежали, молили, деньги совали… Сказывали тогда, что полковник на суде Кольцову казни требовал да еще сам взводом скомандовал.
— Он да вахмистр и сейчас служат? — спросил сдавленным голосом Одоевский.
— Полковник будто недавно в отставку генеральским чином пошел, а вахмистр только до Пруссии доехал, — ответил Иванов. — Выпил на дневке крепко да купаться на глубоком месте вздумал…
— Наказал бог…, — вздохнул корнет.
— Жаль, что и Васильчикова не наказал, — сказал Грибоедов.
— Отчего ты мне этого не рассказал, когда про походы говорил? — упрекнул князь.
— И самому такое, ваше сиятельство, вспоминать тошно, — сознался Иванов. — А нонче к слову пришлось.
Летняя дружба оказалась крепкой. Осенью Грибоедов поместился в одной из комнат на Торговой, а Сашка раскинул железную кровать с господским волосяным матрасом рядом с рундуком, на котором спал Курицын. И хвастал, что пугает его до зубного стука рассказами, как персы режут русских, если ихнюю веру не уважат.
Должно быть, князь и Грибоедов остались верными своим пристрастиям: один — балам, другой — театрам. Однажды воскресным днем, натирая пол в зале, Иванов услышал такой разговор друзей, собиравшихся сесть за рояль, чтобы играть в четыре руки..
— А будешь за Телешевой волочиться, то вышлет тебя Милорадович из города, как Катенина выслал, — грозил, посмеиваясь, Одоевский.
— Вот и поеду в Тифлис на казенные прогоны, — отшучивался Грибоедов. — А ты так говоришь, потому что с Катенькой не знаком, не знаешь, какой в ней шарм. — Он стал серьезен и продолжал: — Но и то пойми, что после истинного успеха комедии моей у людей просвещенных легко ли урезывать, калечить ее своей рукой в угоду неучам? Вот и ищу рассеяния у ног богини балетной.
— Так не калечь! — горячо воскликнул Одоевский. — Оставь как есть для будущего театра, для умных читателей, которые заказывают сотни списков. А сам пиши ту повесть, что мне рассказывал, из войны Отечественной, благо достойные участники вокруг нас. — Он кивнул на Иванова. — Но не трать времени на закулисное ферлакурство, как батюшка мой называет.
Грибоедов пожал плечами:
— Я ж не пеняю тебе, что на паркете полночи снуешь, вроде как кавалер наш сейчас. — Он тоже указал на Иванова. — Третьего дня ночью, когда здесь без огня пробирался, чтобы меня не обеспокоить, как на столик сей налетел! Ночь, тьма, вдруг такой грохот! Впору подумать, что воры влезли, а то хозяин, оказывается, с бала прибыл… И еще Никиту бранил, что мебели не на месте…
— Зато я в хорошем обществе танцую» и ужинаю, — смеялся князь.
— Еще доказать надобно, чем оно хорошо, твое общество, — ответил Грибоедов. — А что мое умней и честней, то уж несомненно.
Оба рассмеялись, повернулись к роялю, помолчали с минуту и заиграли.
Частым гостем на Торговой улице был профессор музыки Миллер, которого оба друга слушали очень внимательно и слова его записывали в тетрадки. А еще чаще приходил штатский барин, звавшийся Андреем Андреевичем. С ним Грибоедов ездил в театр и, по словам Сашки, вместе сочиняли какие-то представления.
Этот Андрей Андреевич, тощий, лысоватый франт, хлопотун и весельчак, занимал видное место в какой-то комиссии, да не для чинов только, как многие баре, а поверял расход казенных денег, был законником, грозой казнокрадов.
— Вот поди ж ты! — разводил руками Никита. — Службу важную правят, чин на них не малый, а с Александром Сергеевичем потешное пишут. И когда только поспевают?..
Этой осенью Иванову совсем не хотелось браться за щетки. После покражи всего скопленного руки будто ослабели и в голове постоянно вертелось: «Станешь опять спину гнуть, по купцам таскаться, копейки считать, калача не съешь, сбитня не выпьешь, а вор подглядит, куда прячешь, и все рано или поздно возьмет».
Воскресенье унтер проводил на Торговой. Переодевшись в старый кафтан кучера, чистил и подметал стойла, задавал корму коням, смазывал сбрую и седла, а то натирал паркеты, выколачивал ковры или ходил в город с поручениями князя и Грибоедова. Носил от них записки знакомым и какие-то тетрадки Андрею Андреевичу, жившему в казенной квартире у Фонарного моста. А вечерами слушал Сашкины россказни про кровожадных азиатов, около которых без пистолета не ходи, и как он все-таки подбирался к ихним бабам. Или, пообедав, залезал на печку и отсыпался под старой Никитиной бараньей шубой. Разве в эскадроне так когда выспишься?..
Но, верно, кто не один год занят какой-то мыслью и трудом, тому не просто от них отвыкнуть. Передохнуть иногда можно, а отстать вовсе… В октябре Иванова так потянуло к щеточному занятию, что два воскресенья подряд работал не разгибаясь в вахмистерской каморке, благо Жученков загуливал где-то. Хоть не говорил, а, похоже, помирился-таки с кумой. И добро! Раз обкраденного принимает, значит, баба верная.
Унтер работал, а сам думал, куда же станет прятать деньги, когда наработает побольше. Так ведь и неизвестно, кто взломал Жученкову укладку. Может, и сейчас тут за тобой приглядывает…
Субботним вечером возвращался из Апраксина двора в казармы. В кармане звенели полученные от купца три рубля. Чтоб встречать поменьше офицеров, которым делай да делай фрунт, с Гороховой свернул в Казанскую, потом в Фонарный. Только вышел на Мойку, его окликнули:
— Эй, кавалер!
В окне второго этажа, около открытой форточки, стоял с чубуком барин Андрей Андреевич. Иванов снял фуражку:
— Что прикажете, ваше высокоблагородие?
— Первое прикажу — накрыться, а второе — отвечать: отчего на Торговой давно не бывал? Вчера я слыхал, как Никита с Курицыным про тебя тревожились.
— Так им бы у князя своего спросить, — ответил унтер, — раз я их сиятельство, почитай, каждый день в полку видаю и докладывал, что ремеслом своим опять занялся.
— А какое твое ремесло?
— Щетки делаю платяные, головные, конские, сапожные.
— Вот что! Ну, так зайди, я тебе заказ дам.
В передней, дальше которой не хаживал, когда приносил записки от Грибоедова, на ларе сладко похрапывал знакомый старый лакей. Встретив Иванова, Андрей Андреевич сказал шепотом:
— Эк засвистывает после обеда! — и провел унтера в гостиную с обитой шелком мебелью, у окна которой давеча курил. — Можешь ли сделать такую, да пожестче? — спросил он, подавая сильно затертую головную щетку. — Не смотри, что я лысоват, а люблю, знаешь, твердым голову чесать. Оттого волос, может, скорее вылезает, да зато мысли лучше идут.
— Сделаем, ваше высокоблагородие, будете довольны.
— Как конскую делай, самую жесткую.
— А литеры ваши набить на крышке? Многие господа одобряют.
— Делай так, чтоб и я одобрил. Литеры тебе написать? А то и вся моя фамилия коротка.
— Сделайте милость.
Выйдя на Мойку, Иванов впервой заметил вывеску на доме: «Военно-счетная экспедиция». Видно, та и есть, где проверяют подрядчиков да поставщиков, чтоб казну не так надували. Дело нужное, ежели не одна видимость…
В следующую субботу Иванов принес очень жесткую головную щетку с надписью: «Жандръ». Андрей Андреевич остался доволен, дал шесть гривен и заказал пару платяных с буквами «В. С. М.».
13
Утром 6 ноября Иванов заступил в наряд разводящим внутреннего караула в Зимнем дворце. День выдался самый будничный, государь был простужен, и потому к разводу не съезжались генералы, не назначено было никаких приемов, кроме обычных утренних докладов графа Аракчеева и барона Дибича на «собственной половине». В парадных залах, где на ковриках у дверей стояли парные конногвардейские посты, шла обычная утренняя дворцовая жизнь: разжигали березовыми лучинами печки и помешивали их истопники; протирали паркеты полотеры, убирали свои залы камер-лакеи, помахивая по золоченым рамам картин и по мебели перовыми метелками и тряпками; ламповщики разносили заправленные маслом лампы и заменяли сгоревшие свечи; неспешно проходя из залы в залу, присматривали за всеми гоф-фурьеры.
После полудня парадная часть дворца опустела и затихла. Только ветер налетал с небывалой силой со стороны Финского залива, сотрясал рамы, стонал в печных трубах, постукивал дверцами душников. Этот вой и стон были так сильны в залах, выходивших на Неву и Адмиралтейство, что почти заглушали шаг конногвардейцев, шедших сменять посты под командой Иванова. А к ночи ветер превратился в бурю. Бог весть откуда проносились по залам сквозняки, колебля язычки свечей в фонарях-ночниках, вздувая парусом спущенные шторы, колотя, как в лихорадке, печными дверцами, осыпая паркеты пеплом из каминов.
Кирасир Евстигнеев, которого в два часа ночи сменили у дверей яшмовой гостиной, сказал Иванову, когда шли по залам:
— Двадцатый год служу, а такого гама не слыхивал. Будто вся нечистая сила разыгралась. Как бы потопа большого не случилось. С церковной лестницы так холодом садит, что закол ел весь, ровно у воротной будки стоявши.
Идучи со следующей сменой, унтер увидел дровоносов, разносивших поленья к печкам, и успокоился: значит, подвалы, где лежат дрова, еще не залило. А в девятом часу дежурный гоф-фурьер, проходя мимо, сказал Иванову:
— Выдь, кавалер, в аванзал. Глянь-ка на набережную.
Из караульного помещения перед Белой галереей унтер вышел на верхнюю площадку Иорданской лестницы. Отсюда открывался более широкий вид, чем из аванзала, потому что окно на выступе фасада смотрело в сторону Адмиралтейства. Но то, что заняло гоф-фурьера, открывалось прямо перед дворцом, как бы под ногами Иванова.
Свинцовая, с белыми гребнями волн, страшная Нева как будто вспухла. Вот-вот выплеснется на мостовую через последние ступени лестниц, устроенных для спуска к лодкам. За зыблющейся серой массой тонкой черточкой выступала Стрелка Васильевского острова, будто прямо из волн вставали Ростральные колонны и здание биржи. А под окнами дворца, заполнив тротуар у парапета и всю проезжую часть, толпились тысячи зевак, привлеченных небывало грозным зрелищем. Господа и барыни, купцы и уличные разносчики, ремесленники и полицейские солдаты смешались здесь, прикованные взглядами к Неве, которая ежеминутно обдавала многих брызгами волн, разбивавшихся о гранит., В толпе стояли экипажи всех видов, ожидавшие этих зевак, и лишь немногие благоразумные отрывались от зрелища, садились в них и уезжали или пробивались сквозь толпу, чтобы уйти.
— Еще малость — и набережную зальет, — остановился около Иванова старый камер-лакей. — Твоя семья, служба, где жительствует?
— Холостой я, — отозвался унтер. — А у тебя, дяденька?
— Мое семейство, слава господу, в Бауровском дому, под самой крышей, в тресолях. Там, чаю, никакая вода не достанет…
«Как-то Яков с тетей Пашей? — думал Иванов, повернувшись, чтобы идти к караулу. — Она хворая, он колченогий… Аннушка, верно, у хозяйки своей не замокнет. Помнится, говорили, белошвейная во втором жилье. А из подвала как выберутся?»
И, будто отвечая ему, лакей сказал:
— У нас тута подвалы еще в ночь залило. А сухих дров — на одну топку по чуланам. Наплачутся истопники, как вода спадет…
Перед тем как уйти, Иванов глянул налево по Неве, к взморью. Под темным небом страшно ширилась свинцовая вода. Исаакиевский наплавной мост только что разорвало, и часть его с людьми и экипажами несло сюда, ко дворцу. Ветер гнал по реке корабли и лодки, плясавшие на волнах, как поплавки.
Снизу сквозь вой ветра донеслись крики — полицейские драгуны въехали в толпу и, видно, гнали всех с набережной.
Иванов подхватил палаш и направился к кирасирам.
Караул Кавалергардского полка, что сменял конногвардейцев, пришел во дворец еще посуху. Но пока сдали посты и поручик Бреверн построил и свел своих на площадку Салтыковского подъезда, пробежал ошалелый лакей и закричал, что вода хлынула на набережную и разом залила Адмиралтейскую и Дворцовую площади. Поручик приказал стоять «смирно» и пошел к окну, выходившему на большой двор, куда собирался сводить кирасир. Но и они из строя уже видели, что по дальней части двора ходит рыжая зыбь. А Бреверн увидел еще и часового пехотного караула на платформе под колоколом, стоявшего теперь по колено в воде.
— Viens ici[47] — поманил он стоявшего на фланге караула корнета Лужина. — Ежели тут по колено, то каково на улице?.. Ну скажи, mon cher, что бы ты сделал, если б такое случилось с твоим караулом, как сейчас с егерями?
— Что ты меня про пехотную службу спрашиваешь? — уклонился Лужин.
— Не виляйте перед старшим по чину, корнет.
— Ну, перевел бы пост на крыльцо, а часового сменил досрочно, чтобы просушился.
— Без приказа свыше? Вас за то могут не похвалить… Cependant que devons nous faire? [48]
— Это уж вам решать, господин поручик, как начальнику караула, — сказал Лужин и, по-мальчишески прищелкнув языком, встал в строй рядом с Ивановым.
По галерее от церковной лестницы кто-то отчетливо печатал шаг по каменному полу. Бреверн также поспешно занял свое место. И как раз вовремя. Перед караулом остановился дежурный флигель-адъютант полковник Герман. С восторженной миной вестника, принесшего слова небесной мудрости, он возгласил:
— Его императорское величество приказать соизволил сменившимся караулам оставаться во дворце. Конногвардейскому занять пустое ныне помещение при офицерской гауптвахте, а Измайловскому поместиться вместе со сменившими оный лейб-егерями.
Герман повернулся, чтобы уйти, но дорогу ему заступил капитан, начальник нового пешего караула.
— Разрешите, господин полковник, свести часовых из-под ворот, от будок и с платформы на ближние сухие места, — доложил он.
— Про то не имею приказа его величества, — отчеканил Герман и, вскинув голову, удалился по коридору.
— Каков мудрец господин флигель-адъютант! — пожал плечами капитан и повернулся к стоявшему за ним унтеру: — Беги, плыви, братец Семенов, сзывай часовых, пока пробраться сюда могут. Хоть все вместе будем.
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! — выкрикнул унтер и, скинув суму, тесак и шинель на руки подскочившему солдату, мигом оказался за дверью, сбежал по ступенькам крыльца и по пояс в воде пошел, будто поплыл, к воротам.
В отведенном конногвардейцам помещении при дворцовой гауптвахте с двумя окнами на Адмиралтейский бульвар оказалось всего три скамейки, на которых могли тесно усесться человек двенадцать, а в карауле было тридцать два кирасира. Но никто не ворчал. Забыв усталость, все теснились около окошек. Вот в сторону Невского проспекта пронесло торговую шхуну со сломленной мачтой. На палубе стояли три матроса с шестами, должно, чтобы отталкиваться от зданий, когда к ним донесет. На почти облетевшие деревья бульвара вскарабкались люди, кричавшие что-то матросам, верно, просившие взять их на шхуну. Что кричат изо всех сил, было видно по отчаянно раскрытым ртам. Ветер по-прежнему стонал и выл, гнал волну, свистел в щелях оконных рам. Брызги от бившихся в стену волн долетали до стекол. Следом за шхуной проплыло длинное прясло зеленого забора с бревнами, которыми недавно был врыт в землю. За ним, ныряя в волнах, проехал домишко в три окна, каких много на окраинах. Людей в нем не видать, но кошка металась в слуховом окне. Рядом перегоняла дом перевернутая черно-смоленая лодка.
Когда надоело смотреть в окна, кирасиры принесли из коридора еще лавки и столы, за которыми в обычные дни купеческие приказчики торговали снедью для караула и дворцовой прислуги. Теперь все расселись, и поручик разрешил составить в угол палаши, снять каски и перчатки, расстегнуть крючки воротников. Некоторые пытались дремать, другие толковали, будут ли тут кормить. Ведь расход обеда считали на один нонешний караул. Сетовали, что нечего закурить. При парадной форме у кого и были в касках спрятаны трубочки, так в обрез оказалось табаку. Тут поручик выдал из своего кисета на всех полную горсть хорошего турецкого табаку, и курильщики повеселели. Те, которым не сиделось, подходили к окнам, рассказывали, что видят. Вот один из цеплявшихся за ветки дерева свалился и потонул — судя по сивым волосам, был уже старик и закоченел на ветру, — а остальных вскоре снял военный катер, что ходко прошел на длинных веслах от Невского к Стрелке Васильевского острова. Мимо дворца плыли бревна, тесовые крыши, полицейская будка, целый мостик с перилами, на котором стояли три мужика в полушубках и молились на крепостной собор.
В караульню забрел ламповщик в ливрее, рассказал, что кухонные печи топятся из подвала, их залило еще на рассвете, так что варева никому, даже царю, не будет. А оказалось, наврал старый; может, хотел пугнуть солдат голодом: в полдень принесли миски с густыми мясными щами и хлеба вволю, — все, как положено в дворцовом карауле, только без каши. Наелись да и раскаялись. Стало еще труднее сидеть в тесных колетах и лосинах, — жмут живот, затекают ноги. Поручик Бреверн разрешил расстегнуться, — видать, надеялся, что никто из начальства не заглянет. Но, расстегнувшись, стали мерзнуть — в помещении все свежело, печка, может, который день не топленная, раз арестованных на гауптвахте не случилось.
Поручик ушел куда-то, привел истопника с вязкой березовых дров. Не иначе, как заплатил из своего кармана, чтобы согреть кирасир.
«Вот так немец!»— думал Иванов, слушая, как затрещала растопка.
Он сидел с краю скамейки, боком к печке, пока еще холодной, но белой кафельной, к которой можно будет прислониться колетом, когда нагреется. Ботфорты и лосины у него не такие тесные, можно бы подремать, но беспокоился, что делается на 7-й линии и на Торговой. Там тоже пол людских и кухни ниже улицы, да и господские комнаты невысоко. Да что и в полку? Конюшни всех эскадронов, должно, на заре залило, как и кузницы, кухни, мастерские, семейную казарму… Но беспокойней всего за 7-ю линию. Жена хворая, он колченогий, неловкий…
Кирасир Зайцев, весельчак, которому не сиделось на месте, ходил в помещение пехотного караула и прибежал звать товарищей поглядеть на диво. По двору в корыте плавает рыжая кошка с синей лентой на шее. В корыте укреплена палка с наволочкой, вроде мачты с парусом. А в окне наискось от караульного помещения видать старуху барыню, царицыну отставную прислужницу, которая по кошке слезы льет, руки ломает и лакея шлет ее спасать. Несколько кирасир пошли смотреть, что будет, и скоро возвратились — вытащил лакей кошку, хотя по грудь в воде холоднющей на середину двора прошел и кошка со страху лоб ему расцарапала. От дворцовой прислуги Зайцев прознал, что пустил кошку плавать старухин внук, мальчишка озорной, который у бабки гостит.
Иванов слушал всех вполуха и дивился: как в такое бедствие могут гоготать? Или чтобы про страшное не думать?.. Что за потоп небывалый! Неужто и дворцовые комнаты погодя зальет? Вон брызги на стекла летят, волны об стену бьют. Толкуют Бреверн с Лужиным и с егерским капитаном, сидя в соседней, офицерской комнате, что все горе от ветра с залива. А как еще скрепчает да суток двое задует подряд?.. Кого пожалеть надо, то поручика Бреверна. Сидит, разговаривает, а у самого, поди, нутро изболело: год, как женат, недавно родилась первая дочка, и молодая с ней и с матерью на Английской набережной в первом этаже квартирует — туда Иванов не раз поручику коня отводил. Поговорит Бреверн, походит по комнате туда-сюда, потом в коридор, там пройдется, — видать, места себе не найти. Как принесли офицерский обед, то, кажись, все один корнет Лужин съел. Тому что? Молодой, холостой, отец с матерью, сказывали, в Москве… Ох, что же на 7-й линии?..
В час дня Зайцев принес весть, что вода не прибывает, а в три часа будто начала уходить — на дворе обнажились перекладины ограды вокруг платформы пешего караула. И верно, ветер ослаб, и за окошком вода стала понижаться почти на глазах. На бульваре увидели почерневшую от воды кору толстых лип. Потом под ближней открылось тело утонувшего старика. А дальше — раздутые животы двух лошадиных трупов и коляска со сломанным дышлом, упертая передком в ограду бульвара. Видно, как шарахнулись от хлынувшей на мостовую воды, так и застряли, тут и захлебнулись. Тел других седоков не было видно, — должно, они-то забрались на деревья.
В пять часов поручик Бреверн получил приказ вести караул в казармы. Когда вышли из дворца, начало смеркаться. Небо очистилось, огромные лужи стал прихватывать нежданный морозец. Кирасиры скользили по размокшей земле, спотыкались о вывернутые из мостовой булыжники и сбивались с ноги. Против угла Адмиралтейства стояла на мостовой баржа с сеном. Заборы, ворота, ящики и лари, сорванные с сараев крыши, бревна, кадки, лестницы громоздились на улице. Близ полкового манежа дорогу загородила разбитая лайба. Около нее суетился народ. Оказалась груженной вином, и обыватели, кое-как откупорив, а то и разбив бочки, черпают ковшами, кувшинами, бутылками, растаскивают по домам или тут же пьют стаканами, кружками, шапками. Двое кирасир, что шли замыкающими, малость отстали, попробовали горстью и хвалили — сладкое, вроде церковного.
Когда поравнялись с манежем, то увидели дневальных, маячивших под зажженными уже фонарями на площадке между статуями укротителей коней, где обычно никого не бывало. На спрос поручика отвечали, что на рассвете всех лошадей перевели в манеж.
— Ну, сразу от сердца отлегло, — сказал Евстигнеев, шедший сзади Иванова, и офицеры даже не цыкнули за разговор в строю. Видно, все чувствовали то же.
В эскадронном помещении было жарко и парно, как в бане. На веревках сушились рейтузы, колеты, сапоги, шинели. Кирасиры в одном белье сидели на нарах или перед печками, в которых, несмотря на поздний для топки час, пылали дрова. Тут же стояли прислоненные для просушки поленья и доски, набранные по дворам.
Пока Иванов стаскивал парадную форму, ему поспели рассказать, что в этот день случилось в полку. Шла утренняя поверка, когда воды Адмиралтейского канала начали заливать дворы. Из конюшен в первом этаже главного здания лошадей по колено в воде переводили в манеж, пол которого почти на сажень выше набережной канала. Но в конюшнях, стоявших у плаца, в это время вода дошла уже коням по брюхо. С трудом добирались туда кирасиры, отстегивали цепи от недоуздков и выгоняли упиравшихся животных, которым нужно было идти, а местами плыть к манежу. Четверо хороших наездников во главе с Жученковым не раз проделали этот путь, ведя за собой по нескольку коней в холодной, все поднимающейся воде. Но особенно отличился вахмистр 3-го эскадрона спасением офицерских лошадей. В их отдельной конюшне против всех правил дверь открывалась внутрь, и всплывшие половицы коридорного настила не давали кирасирам ее отворить. Два сорвавшихся с привязи жеребца бились в воде и калечили друг друга. Дневальный, молодой солдат, орал с испугу дурным голосом, сидя на перегородке между стойлами. Придя с несколькими кирасирами к конюшне по грудь в воде, Жученков приказал выставлять оконные рамы и первым протиснулся в невысокое отверстие. Открыть дверь им так и не удалось, и тогда, отвязав цепи от кормушек и севши на перегородки или на седельные полки, они около трех часов успокаивали коней голосом и заставляли тянуть головы вверх, чтобы не захлебнулись.
А сейчас, по словам рассказчиков, вахмистр находился в своей каморке, где натерся водкой, надел сухое белье и, побранившись, что мало оставил для приема внутрь, а кабаки нонче затоплены, залег спать, наказав не тревожить себя по пустякам.
Услышав все это, Иванов подумал, что хорошо бы сейчас сходить к той лайбе, из которой народ таскал красное вино, да напоить Жученкова. И, как бывает разве что в сказках, тут же перед ним предстал один из кирасир недавнего караула еще в парадной форме и с медным ковшом, полным вина.
— Прям причастное, Александр Иваныч, только что не грето, — сказал он с ухмылкой. — Нынче и вам, нахолодавшись, с пользой пойдет. А мы сейчас всех кирасир потчевать станем.
Не расспрашивая, как добыл, унтер, взяв ковш, пошел к Жученкову. Ради такого угощения и побудить не грех.
Вахмистр не спал. Войдя, Иванов в полутьме сразу увидел его в исподнем и в бараньей безрукавке, греющим живот о выходившую в его закуток часть печи.
— Ну, как караул прошел? — спросил Жученков, решив, если и рассмотрел ковшик, что унтер принес квасу или еще чего по своему вкусу. — Слыхать, у сенатской гауптвахты часовой на площадке потоп. — Вахмистр повернулся и стал греть бок.
— Так мы до воды сменились и во дворце отсиживались, — ответил Иванов. — Там накормили сытно, и поручик печку нам истопить заставил. Довелось ли вам его кобылку выручить?
— Живая, в манеже стоит, — отозвался Жученков, поворачиваясь к унтеру фасом. — Авось не простыла. Наказал Шитикову щетками да соломой ее растереть и попоной покрыть. Такая тварь умная, все ко мне на полку голову совала — чуяла, в чем спасение… Да что ты принес? По духу слыхать — виноградное…
— Церковное будто, — сказал унтер. — Хлебни, чтоб согреться.
— Ох, Иваныч, давай! А то морду ровно огнем палит, а зубы полевой галоп выбивают.
Вахмистр взял ковш, вытянул губы трубой и припал к вину. Только раз оторвался, чтобы перевести дух и сказать:
— Доброе питье, хотя водка все же пользительней…
А допивши, отер усы и, отдав посудину, погладил себя по горлу, груди, брюху, будто сопровождая вино, и заключил:
— Вот уж спасибо, брат!.. Теперь, поди, сосну толком, без дрожи. Ты меня укрой, окромя одеялы, еще шинелями, старой и новой, вон в углу висят… Такого сладкого с самой Франции не пивал.
— А скажи, Петр Гаврилыч, когда ты на полке сидел, то на что же надеялся? — закутав друга, как велел, спросил Иванов.
— Да ни на что, как в бою бывало. Делай, что присяга велит, — может, и выберешься. А коли скиснешь, так ведь сам на себя потом плюнешь. Трусов видывал? Ихняя вечная дрожь похуже моей нонешней…
Назавтра с утра всех женатых, чьи семьи квартировали вне казарм, отпустили из полка до вечера. А холостым объявили работу по вывозке утонувших животных, уборке дворов и помещений.
Как ни старались вчера, а все-таки в старых низких конюшнях трубачской команды и в обозной потонули 72 лошади да по сараям еще 40 коров, принадлежавших чиновникам и женатым кирасирам.
Немало коней побили друг друга или покалечились о двери, когда выводили из конюшен, и еще больше в манеже, куда многих пригнали даже без недоуздков, и они, ошалелые с испуга, носились, кусались и лягались, пока не переловили их и не обротали кирасиры. Так что сегодня в манеже не покладая рук работали оба полковых ветеринара со всеми эскадронными коновалами, промывая раны, укусы, накладывая мази, примочки и повязки.
На дворах кирасиры собирали и складывали в клетки расплывшиеся дрова, водворяли на места вывороченные водой камни мостовых и плиты панелей или помогали полковым мастерам — печникам, малярам, слесарям, штукатурам, которые приводили в порядок помещения первых этажей. Здесь топили помалу печки, ежели не развалились, ставили на попа, чтобы просыхали, половицы, сметали в кучки выдавленные водой оконные стекла. А на складе перетаскивали подмокшие кули с мукой, крупой и овсом, радуясь, что не надо канителиться с сеном, которое подняли блоками еще в октябре на чердачные сеновалы.
И все это делали как есть натощак. Только за полдень привезли солонины, масла и печеного хлеба. Жидкая каша едва поспела к четырем часам. Шутники утешались тем, что куда хуже пришлось семеновцам и измайловцам, которых чуть свет привели в соседние с Конной гвардией огромные провиантские магазины выносить на подводы кули муки, что лежали в верхних рядах и не поспели отсыреть.
Иванов работал изо всех сил, потому что после такого бедствия как не стараться? И еще — чтобы заглушить тревогу за игрушечника с женой. Утром встретил князя Одоевского и узнал, что на Торговой все живы-здоровы, хоть и натерпелись страху. От него же узнал, что семейство Бреверна спаслось в верхнюю квартиру. А в полдень встретил во дворе Никиту, который носил барину завтрак и рассказал, что вчера князь, бывший дежурным в полку, с рассвета хлопотал по переводу коней в манеж, потом, сменившись, побежал уже по глубокой воде на Торговую — хотел в такое время оказаться вместе с Грибоедовым и своими людьми. Да едва и не утонул, окунувшись по шею в какую-то колдобину на мостовой. А барин Жандр из окошка квартиры спас четырех утопавших, опустивши им прямо в воду случившуюся у него на кухне малярную лестницу… Никита сунул унтеру кусок пирога, которым тот поделился с Жученковым. Вахмистр нынче встал здоровей прежнего, только охрип малость.
Рассказанное Никитой и то, что слышал за день о страшном бедствии на Васильевском острове и Петроградской стороне, не давало Иванову покоя. За ужином даже выпил вина, чтоб скорей заснуть.
Те ловкачи, что на улице пробовали кагор с разбитой лайбы, и нынче подносили по кружке кирасирам своего эскадрона. Оказывается, вчера после прихода в казарму сбегали на место и притащили в чулан за входной дверью два трехведерных бочонка. На вопрос, как спроворили, они рассказали, что когда все еще в парадной форме подошли к барке, то проходивший флотский офицер приказал им не допускать растаскивать бочки. Они, обнажив палаши, встали, куда указал, а как ушел, то и покатили по бочонку в полк, чтобы своих кирасир согреть. Сунулись было по второму разу, да дежурный офицер встретил у ворот и прогнал обратно.
Утром Иванов попросился у вахмистра отлучиться до обеда.
— На Васильевский пойти? — прохрипел Жученков.
— Так точно.
— Чего вчера не сбегал? А мне невдомек, захлопотавшись…
Исаакиевский мост как раз сцепляли и только по одной его стороне пропускали пешеходов. На набережных, куда ни глянь, громоздились баржи и какие-то срубы. Из лавок, расположенных в первых этажах, молодцы таскали на подводы мокрые мешки и ящики, выметали битое стекло, выкидывали дохлых крыс и кошек. На 7-й линии дощатые тротуары и многие заборы исчезли. В садах клонились плодовые деревья, сломанные заплывшими бревнами, снятыми с мест беседками, сараями, банями. Из конюшен и хлевов выволакивали мертвых животных. Во дворе у будки Иванов увидел потонувшего пса на подернутой ржавчиной цепи. Несмотря на холод, размытые помойки и отхожие места распространяли смрад. Бедно одетые люди бродили по дворам, смотря под ноги, разыскивали что-то, несли мокрую одежду, одеяла. Исхудавшие, бледные лица мелькали перед Ивановым, шедшим посреди улицы, прыгая через ямы и лужи. На углу Большого проспекта остановился воз с печеным хлебом, и к нему со всех сторон сбегался народ.
Дверь Яковлевых была открыта настежь. Низ ее уходил в воду, на которой плавали разноцветные лоскутки бумаги. За такой же распахнутой соседней дверью плескалась вода и гремело железо. Сойдя по ступенькам, Иванов увидел за этой дверью женщину в подоткнутой юбке над мужскими сапогами. Она черпала ковшом воду, сливала в ведро, и на шаги унтера обернулась. Лицо было морщинистое, седые волосы выбились из-под платка, завязанного узелком на лбу.
— Здравствуйте, тетенька! — сказал Иванов.
— Здорово, соколик, — отозвалась она. — Аль кого ищешь?
— Мастерового, что тут жил.
— Что игрушки делал?
— Вот-вот.
— Захленулся твой мастеровой третёва дни. Все у него захленулись, соседки сказывали. Женка с дочкой больные лежали, в горячке, что ли, а он их вытаскивать зачал, только как вода с-под полу пошла. Всех тута и открыли, как вода ушла, все рядом лежали. Ты им родня, что ль?
— Нет, знаком малость был…
— А баба с дочками, что тут квартировала, все живы, на Пяту линию съехали. Ныне за тряпьем приходили. А я из суседнего дома, от хозяина подряжена воду вычерпать да печку топить. За полтину подрядилась, да и не рада. Печку разве растопишь, как наскрозь мокра?.. Корячусь второй день. Ведер сто на огород вынесла, а оттеда, что снесла, может сызнова сюда идет?
Иванову стало тяжко, душно. Слушая визгливый голос старухи, расстегнул крючки воротника.
— А дочка ихняя? — спросил он, надеясь, что ослышался. Ведь Аннушка жила у немки. Неужто как раз дома хворала?
— И дочка потопла, сказывали. Всех вчерась к Благовещенью свезли, ноне отпоют. Полета покойников с прихода набрали.
— Я войду к ним, погляжу, — сказал унтер.
— Гляди, коль охота, да баба, что тута жила, все уж перетрясла. Раз, говорит, все померши, так мы, как сродственники… Ну, раз так, то бери. Давеча ушла только.
— Врала она, никакие не сродственники. — Иванов шагнул в комнату. Воды здесь осталось совсем мало, не покрыло и подъема.
Первое, что увидел, были деревянные кровати без одеял и подушек. Сенники закатаны, видно, под ними шарили. Стол без скатерти сдвинут с места. Посудные полки пусты. На верстаке рваный шерстяной чулок и ржавые ножницы. В выдвинутом ящике лоскутки цветной бумаги, картона, нитки и проволока. На воде под ногами тоже цветные обрезки, золотые звездочки. А на подвешенных под потолок двух полках — рядами готовые игрушки: франты со шляпами, охотники, козлы и кони на пискучих гармошках. Эти воровкам не надобны… Вот от часов один гвоздик остался да карандашом обведенное место, на котором, должно, верней ходили. На образной полочке отодвинута боком икона — и туда залезли воровские руки…
Старуха с полными ведрами остановилась за его спиной.
— Хожалый вчерась с молодцами своими побывал, как покойников брали, да баба та нонче. Так после них разве что останется?..
Когда она пошла вверх, Иванов подставил табуретку, влез и заглянул за иконку. Там лежала пустая коробочка в виде сундучка. На донышке, хоть и расплывшееся от прикосновения мокрого пальца, выведено чернилами: «Про черный день». За коробочкой прислонены венчальные свечи. Почему убраны?.. Верно, от первой жены, Аннушкиной матери…
И дальше, в самом темном углу, за свечами, будто еще что-то. Сунул руку. Вторая коробочка, вроде табакерки, а в ней ассигнации накрепко свернутые, три по пятьдесят рублей… Вот так находка! Как во сне, ей-богу… Как ее хожалый и соседка не разглядели? Не далась, выходит, им в руки…
Взяв иконку и обе коробочки, Иванов слез с табуретки, засунул в нагрудный карман деньги, сыскал за пазухой платок, завязал в него все находки. Подумав, достал с полки по одной игрушке каждого сорта, увязал туда же и пошел было к двери. Потом вернулся и прихватил ножницы — пригодятся в ремесле. И память опять же… Может, свечи взять?.. Да несчастливая, видно, была бедняга. Вот и дочки нету. Никого нету…
Выйдя со двора, повернул к Малому проспекту. Голова шла кругом. Не заметил, как дошел и вступил в нижнюю церковь.
Длинными рядами на полу перед амвоном стояли гробы. Свечи у икон и низкие окна скудно их освещали. Все крышки забиты наглухо. Около нескольких понурились бедно одетые люди.
— Панихида была? — спросил Иванов ближнего старика.
— Была, на скору руку. Сейчас подводы пригонят с будошниками, чтоб на Смоленское.
Иванов смотрел на одинаковые крышки из свежего дерева.
«За что ж Анюте такая смерть?.. Эх, прозевал я свое счастье!..»
Он стал на колени, положил земной поклон, прочел, какие знал, молитвы. Сзади застучали тяжелые шаги, отдался под сводами громкий разговор. В церковь вошли полицейские солдаты.
— Берись, ребята, с того края… Носи, ставь поперек дрог, чтоб больше увезть. Привязывай крепче, чтоб не елозили, — басил квартальный, поспешно крестясь между приказами.
Иванов и несколько мужчин, стоявших около гробов, помогли выносить. На шесть пароконных дрог установили тридцать два гроба. Из них семь детских, маленьких.
По ямам размытых улиц долго тащились к дальней окраине Смоленского кладбища. Унтер шел около подводы, подпирал плечом на ухабах гробы. Помогал будошникам опускать всех в глубокую траншею, в которой их только малость засыпали. Из других церквей довезут остальных василеостровских, поставят на этих сверху.
Полицейские уехали, провожавшие разошлись. Еще сильней похолодало. Ветер прохватывал насквозь. Иванова затрясло, видно от промокших сапог. Бросил в яму несколько горстей земли, перекрестился еще и пошел, едва не забывши узелок, оставленный на ближней могиле, когда опускали гробы.
«Вот троих нету добрых людей, а те воровки — баба пьяная и девки гулящие — все целы… А женись я на Анюте, так хоть она бы жива осталась, голубка добрая…»— в десятый раз передумывал одно и то же.
На Большом проспекте парень продавал по копейке пироги с печенкой. Вдруг захотелось есть до боли в скулах, в животе. Купил два и стал жевать, спрятавшись от ветра под воротную арку ближнего каменного дома. Рядом стал тоже с пирогом старик в обдерганной шинельке и смятой шляпе, верно канцелярист. Жадно ел, дергая красным мокрым носом, двигая покрытыми седой щетиной щеками. Доевши, заговорил, пожимаясь:
— Ух, холодно, кавалер! Каково у которых угла не стало? А что коров потопло! Детки без молока оставшись…
Иванов, ничего не отвечая, жевал второй пирог.
— Видно, кого потерял, бедолага? — догадался старик.
От этого участия у унтера перехватило горло. Ладно, что проглотил последний кусок. Махнул рукой и зашагал своей дорогой.
Шел и думал: «А вдруг спутала старуха? Наплела соседка, чтоб тряпки забрать, и жива Аннушка у хозяйки своей… Но как бы тогда у гробов родительских ей не быть? И деньги бы, зная где, взяла. Не бросила бы иконку и свечи материнские… А мне куда ж те деньги девать? В полицию? Так украдут сряду же. Или к Благовещенью, на спомин души?.. А может, их бог от хожалого схоронил, чтобы вместо прежних, у Жученковых скраденных, на дело мое доброе пошли?..» Иванов даже остановился от такой догадки. Оглянулся, по солдатской привычке, чтобы не пропустить офицера… Нет, прохожие все простой люд. Пошел дальше. «С кем бы посоветоваться с основательным? Князь добёр, да молод. С Андреем Андреевичем? Барин рассудительный, законник… Эк колотит холодом! Хорошо бы и нынче вина виноградного хлебнуть, чтоб заснуть поскорей. Ну, горе! Экая напасть! Бедные, бедные!..»
В воскресенье сходил на Смоленское. Длинную могилу под некрашеным крестом припорошил первый снежок. Помолился за упокой рабов божьих Якова, Пелагеи, Анны и зашагал на Мойку.
Андрей Андреевич вышел в переднюю.
— Дозвольте, ваше высокоблагородие, у вас совета просить.
— Что ж такое? — удивился Жандр.
— Ежели досуг имеете, то покорно прошу выслушать. Дело мое не простое, надобно его толком доложить.
— Ну, идем ко мне. Послушаем, что скажешь.
Стоя у притолоки в кабинете Андрея Андреевича, унтер рассказал, как задумал выкупить близких, для чего выучился мастерству и копил деньги до последней осени, как разом потерял через воровство и теперь нашел почти столько же на образной полке утонувших знакомых. Когда напоследок описал похороны на Смоленском, в братской могиле, Жандр сказал:
— Да, бедствие страшное. Вчера мне сказывали, что людей потонуло пять сотен и скота крупного — лошадей и коров — более четырех тысяч. Без кормильцев-отцов сколько семей осталось, без кормильцев-коней — еще больше. А от того — болезни и смерти на зиму предстоящую куда многочисленней, чем от потопления.
— Сказывали, государь пособие пожаловал, — сказал Иванов.
— Государь-то щедро помог, да деньги сии с умом раздать нужно. А то больше ловкие пройдохи перехватят, чем до истинных бедняков дойдет, — сказал Андрей Андреевич.
— Если бы, к примеру, я хоть знал сродственников ихних прозванье, что на Выборгской, так им бы можно деньги те отдать, — пожалел унтер. — Но и спросить не знаю кого.
— Может, и они потонули, раз на похоронах не были, — заметил Андрей Андреевич.
— А может, простывши, как раз нонче в самой нужде находятся, — высказал Иванов, что пришло ему на ум еще вчера.
— Зачем про такое думать, раз узнать про них нельзя? — решил Жандр. — Ты хотел моего совета?.. Так вот что скажу. Дело ты задумал доброе, и лучше на него деньги найденные отложить, чем даже в церковь отдать. Живым людям надобно помогать, а про мертвых помнить будут, кто их знал, ежели того достойны. Насчет же их сохранения, чтоб снова в казармах не украли, то могу единственное предложить — их в свою шкатулку железную спрятать, в Туле деланную, где бумаги нужнейшие, деньги, порой даже казенные, храню, — Андрей Андреевич достал из кармана ключик и, подойдя к подоконнику, открыл стоявший на нем крашенный под дерево небольшой сундучок. — Погляди-ка, — пригласил он унтера и приподнял со дна пачку ассигнаций и каких-то бумаг. — Отсюда гайками привинчена к подоконнику. Чтоб ее унесть, надобно либо подоконник расколоть, либо крышку открыть, а чтобы открыть — у меня ключ украсть. Коли хочешь, и твои суммы сюда замкну.
— О том покорно прошу, ваше высокоблагородие.
Жандр подошел к конторке, взял канцелярский конверт толстой бумаги и, неторопливо водя пером, надписал: «Деньги, данные на сохранение лейб-гвардии Конного полка унтер-офицером и кавалером Александром Ивановым, 1824 года, ноября 11 дня. Прошу душеприказчиков моих возвратить доверителю, согласно вложенному счету. Надворный советник и кавалер Жандр».
— Прочесть можешь? — спросил он стоявшего рядом Иванова.
— Так точно, прочитал уже.
— А в конверт вложим счет. — Жандр взял полоску бумаги и написал сверху: «Поступило 11 ноября». — Сколько ты принес?
— Все, что имею, сто семьдесят шесть рублей.
— Сколько-нибудь на расходы оставь.
— Наработаю щетками.
Повернувшись к стене, унтер развязал черес и вынул деньги.
— Еще, ваше высокоблагородие, покорно прошу, чтобы никому про мою затею не сказывали. Князь и так много меня дарит. Не след, чтобы и они знали, — сказал Иванов.
Жандр пристально посмотрел в лицо унтеру и улыбнулся.
— Хорошо, — сказал он. — А меня теперь зови Андреем Андреевичем. И помни: если помру внезапно, как бывает с людьми счастливыми, то смело иди сюда и обратись к полковнице Варваре Семеновне Миклашевич, она хозяйством нашим общим правит. Ей одной я сказать о твоем вкладе обязан. Но она точь-в-точь, как сия шкатулка. Дело испытанное. Понял ли?
— Так точно, Андрей Андреевич.
«Только бы не случилось с ними, как с генералом Ставраковым», — суеверно подумал Иванов.
14
Приказом по полку от 17 ноября всем нижним чинам «за труды во время бедствия и за уборку казарм после оного» была объявлена благодарность и награда по 5 рублей. Двадцать наиболее отличившихся вахмистров и унтер-офицеров получили по 25 и восьмидесяти женатым кирасирам дано «на хозяйство» по 50 рублей.
Конечно, Жученков оказался в числе получивших повышенную награду и, кроме того, многие офицеры, чьих лошадей спас, дарили ему червонный и больше.
— Вот какова судьба чудная, — рассуждал вахмистр, угощая Иванова очередным принесенным от кумы пирогом. — Кому от потопа разорение аль смерть даже, как почтальону твоему с семейством, а мы с тобой от того же разбогатели. Мне нонче сам барон полсотни отвалил. С ними двести тридцать рублей за неделю набрал и вчерась полтораста куме на сохран отнес. А ты свои все на брюхе таскаешь?
Унтер рассказал про просьбу к Жандру и про его шкатулку.
— Вот такую бы штуку завесть! — восхитился вахмистр. — Ужо в отставку выйду да настояще разживусь, то вроде ней кузнецам закажу.
— Думаете в отставку, Петр Гаврилыч? — обеспокоился Иванов.
— Кума помалу улещает, — признался Жученков. — Что, говорит, за хозяин, который на побывку в субботу приходит? Я-то ее наскрозь вижу: по закону замуж пойти хочет, а за служивого опасается, раз я сам страхов разных про службы нарассказал, чтоб лучше берегла.
— А вы как сами-то располагаете? — продолжал спрашивать унтер.
— Бывает другой раз, что вольной жизни желается. Но опять же — на кого эскадрон оставить? — не без важности спросил Жученков. — Барон, знаю, тебя в вахмистры метит на такой случай, да я-то вижу, что строгости в тебе и малой нету…
— Так точно, вовсе я на то не гожусь, — согласился Иванов.
После наводнения князь Одоевский переехал в дом генерала Булатова на углу Исаакиевской площади и Почтамтской. Никита ворчал, что место выбрал беспокойное — насупротив за высокой тесовой оградой возводили Исаакиевский собор. С утра до вечера в окружавших постройку сараях тесали камень, что-то ковали, сбрасывали с подвод железо, перекликались рабочие, бранились и приказывали десятники. Но князь Александр Иванович отвечал, что за двойными рамами шум не так слышен, а летом все равно жить в Стрельне, зато комнаты настоящие барские. То же говорил и Грибоедов, переехавший вместе с другом. Конечно, Иванов помогал перевозиться и устраиваться. И правда, квартира во втором этаже, потолки высокие, с росписью, двери красного дерева. В большом зале поставили рядом два сверкавших полировкой рояля.
— Во грому зададут! — бурчал Курицын, передвигая с унтером и Сашкой инструменты, после того как по залу прошлись полотеры.
— А мне ихняя музыка ндравится, — отозвался грибоедовский слуга. — Как Александру Сергеевичу на дуэли руку ранили, то мы сильно боялись, что играть не сумеют. А вот заказали им золотую апликатуру на палец, который ослабши от пули, и ничего, играют, даже сочинять стали. Теперь камедь ихнюю все списывают, а в Тифлисе сколько барынь ихний вальс достать просили! Я так присноровился ноты писать, что боле ста штук его перекатал. И за все по рублю серебром. Ох, и погулял же!
— С кем же они на дуель выходили? — спросил Иванов.
— С корнетом Якубовичем. А спор их был еще здесь, когда секундантами при дуели поручика Шереметева с камер-юнкером Завадовским оказались. Те господа на танцорку Истомину сразились…
— А скажи, Саня, тая барышня хоть собой красовитая? — поинтересовался Курицын.
— Как тебе сказать… — значительно сказал Сашка. — Личиком верно, что казиста, кругленькая, чистенькая, глазки быстрые, а корпусом тощевата. И понятно: разве скакать сумеешь, ежели раздобреть до настоящей красоты? Видал бы, как они на театре ровно козы кавказские с горы на гору прыгают. Однако, что за нее Василий Петрович Шереметев жизни лишился, то мне очень странно. Отдал бы ее господину Завадовскому, и дело с концом…
«А я бы хоть сейчас Кочетка за Дашу без жалости убил, хотя столько лет прошло», — подумал Иванов.
Несколько раз по воскресеньям он слышал, как князь с Грибоедовым играли на двух роялях, и ему казалось, что грому особенного не было. Играли очень согласно, и слушать было приятно, хотя вспоминалось под их музыку все больше грустное. После рассказа Сашки Иванов заметил, что и правда, перед тем как сесть за рояль, Александр Сергеевич доставал из жилетного кармана золотой колпачок, от которого палец левой руки вытягивался впрямую, оттопыривался немного вверх и не мешал остальным в игре.
От Никиты унтер узнал, что и на этой квартире Грибоедов пропадал вечерами в театрах и на дому у актрис, а князь — на балах, часто возвращаясь поздней ночью.
— Так у всех господ смолоду бывает, — уверял старый камердинер. — Оттанцует ужо свое. Дело молодое, мундир красивый. В аккурат как князь Иван Сергеевич, пока у светлейшего в адъютантах состояли. Ног вовсе не жалели, первым танцором считались. А на драгунский полк попали, то иное на уме стало… У вас, скажи, Иваныч, из корнетов разве кто службу полную несет?..
— У нас, Никита Петрович, господа Лужин, Ринкевич и князь Александр Иванович истинно вольготно живут, а барон Пилар да поручик Бреверн, дай им бог здоровья, всю службу правят…
Действительно, кирасирам 3-го эскадрона было за что желать здоровья Пилару и Бреверну. То, что эти старшие офицеры смотрели сквозь пальцы на частые опоздания в полк корнетов, было в обычае того времени. Умели бы парадировать пешком и верхом, знали свои обязанности в карауле и на дежурстве да вели бы себя везде, не навлекая гнева свыше, — и довольно с них! Редкостью было другое: что, исправно неся сами службу, барон Пилар и Бреверн твердо и ровно вели эскадронную жизнь, зная, кто из кирасир чего стоит, не давая потачки лентяям и обходясь при этом без жестоких наказаний, без непристойной ругани перед фронтом, которая далеко разносилась на учениях других командиров. Оба старших офицера 3-го эскадрона твердо шли обычным путем небогатых прибалтийских дворян, желавших сделать военную карьеру и носить блестящий мундир Конной гвардии, но оставались при этом людьми, что являлось большой редкостью. Они понимали друг друга с полуслова и ценили такое единомыслие, потому что им вместе было легко служить. И кирасиры 3-го эскадрона, которых неустанно подтягивал и муштровал Жученков, постоянно внушая, как должны беречь такое начальство, лезли из кожи вон в любом строю, на сменной езде и в караулах, чтобы никто не мог придраться.
— Век не буду, Иваныч, больше огулом немцев ругать, — сказал однажды вечером вахмистр после разговора об эскадронных делах. — Как вспомяну, не к ночи, черта Вейсмана, то и думаю: дал бы только бог свое с нынешним дослужить — большего и не проси.
— А на сверхсрочную чего бы вам не остаться, раз две трети корнетского жалованья будут платить? — спросил Иванов, которого тревожило каждое упоминание об уходе из эскадрона Жученкова.
— Оно бы хорошо при нонешнем командире, да клуша моя больно насела, — развел руками вахмистр. — Сулит сряду, как в отставку выйду, фуражную торговлю завесть на мое имя, чтобы надо всем хозяйствовал. Так что, верно, после лагеря женюсь-таки на сорок первом году от роду. Погулял свое Жученков. Полтора года остается тянуть, авось не угожу в штрафованные… И тебе, Иваныч, советую, ежели бабу добрую встретишь, то не плошай, раз сама в солдатки просится.
Иванов ничего не ответил, но подумал с горечью:
«Уже сплошал… И не нужна мне такая клуша, которая фуражной лавкой под венец заманивает. Встретил было, дурья башка, ласточку чистую, что по мне была… А теперь осталось одно — спину гнуть да деньги копить на заветное дело…»
И он копил гривенник к гривеннику, рубль к рублю, сгибаясь над своими щетками все досуги, кроме воскресных вечеров, когда уходил на Исаакиевскую, если не оказывался в наряде. Не было там славной русской печки, как на Торговой, стояла новомодная плита, но зато у Никиты завелась каморка с лежанкой, на которой унтер задремывал, сытно накормленный, заботливо укрытый старой шубой.
В первые дни после разговора с вахмистром, когда советовал не плошать, встретивши бабу, схожую с его кумой, Иванов часто думал, каково станет в эскадроне, если Жученков пойдет в отставку, и как упросить барона Пилара не ставить его самого на вахмистра. А потом разговор этот повернулся в памяти унтера только упреком, что отказался от своего счастья, даже не спросивши, как Анюта посмотрела бы на его сватовство. Ведь сказал же Яков Василич в последнюю их встречу, что «она не кукла клееная, а живая девица», — видно, не полагал несбыточным, что его полюбит… А посватался бы, так и осталась б жива…
От таких назойливых мыслей сердце внятно охало и маленькие доверчивые пальцы будто ложились на его ладонь… Вот уж в этой утрате сам, кругом сам виноват!..
После масленой недели Грибоедов стал готовиться к отъезду на Кавказ. Распорядился отвезти на ремонт в мастерскую Иохима свою дорожную коляску, стоявшую в каретнике у Завадовского, приказал Сашке привести в порядок погребцы, отдать прачкам грязное белье, которого накопил гору.
— Надобно нам собираться, — рассудительно говорил Сашка в людской. — В отпуску больше полутора годов проживаем. Александр Сергеевич при генерале Ермолове дипломатическим чином значится, а где мы? Может так и генералов© терпение треснуть. И комедю Александра Сергеевичеву всё на театре не ставят. Так чего же нам тут приживаться? Чинов, орденов не выслужишь, в отпуску сидевши. Заедем в Москву, к старой барыне на поклон, да и поскачем туда, где потеплей. Надоели уже ваши морозы да слякотина…
Среди гостей Одоевского этой весной стал появляться красивый щеголь, адъютант Бестужев. Он был одинаково хорош с обоими хозяевами, красно говорил с ними о книгах и журналах, о музыке, театре и балах, много шутил и смеялся. Когда адъютант впервой увидел Иванова, то князь Александр Иванович сказал:
— Вот, Александр Александрович, добрый мой ментор во всей строевой премудрости, унтер и кавалер Александр Иванов.
Бестужев хлопнул в ладоши:
— Ну, князь, что за республика Александров! Сознайся, что в дом свой иного имени не допускаешь!
— А камердинер мой Никита? — напомнил, улыбаясь, Одоевский.
— Никита Петрович не твой, а еще батюшки твоего. А новое поколение все, даже друзья твои, только Александры. Однако виноват! Верно, завтра привезу в сей дом раба божьего Кондратия.
— Жду, открыв ему объятия, — засмеялся князь. — А против твоей теории добавлю, что кузен Владимир пишет, будто на днях будет к нам с его письмом еще один поэт, с которым издал «Мнемозину», и просит его полюбить. Так он тоже не Александр.
— Кюхельбекер едет? — воскликнул адъютант. — Ну, он истинный наш собрат по перу и душой горяч, хотя немчура — Вильгельм да еще Карлыч. Примем в наше братство сего лицейского друга Пушкина и Дельвига. Да, кажется, и ты, Грибоедов, его по Тифлису знаешь?
— Как же, самые добрые приятели, — отозвался Александр Сергеевич. — Чудак такой, что сначала думаешь, будто полоумный, но душой чист и образования обширного.
В следующее воскресенье Иванов увидел приезжего из Москвы, вовсе не походившего на всех других приятелей князя Одоевского. Востроносый и будто непричесанный, неряшливо одетый в потертое платье, высокий, нескладный, сильно сутулившийся барин говорил громко, всегда с жаром, нелепо скривив рот, и все время некстати махал руками. Но улыбался такой добродушной улыбкой, что сразу располагал к себе.
— Из господ порядочных, — удивлялся Никита, — отец при вдовой царице место знатное занимал, брат морским офицером служит, а сами вроде блаженного.
В мае, после отъезда Грибоедова, князь Александр Иванович пригласил переехать к себе Кюхельбекера со слугой Семеном Балашовым, который ходил за барином, как за малым ребенком. И вскоре Никита в своей каморе вполголоса сказал Иванову:
— Добреющий барин, но ужасти каких вольных мыслей…
— Каких же, Никита Петрович, я не пойму? — спросил Иванов.
— А все, знаешь ты, ему худо, что в нашем царстве деется… Да говорит-то нескладно — авось нашего князя не собьет. Тому бы только балы да музыка его, слава богу.
— А служит ли где Вильгельм Карлыч?
— То и дело, что нигде… Как птицы небесные с Семеном своим.
Что означали слова Никиты о вольных мыслях, Иванов разобрал уже в Стрельне, куда стал наезжать оставшийся в Петербурге Кюхельбекер. И в этом году по воскресеньям, после урока манежной езды у берейтора, князь Одоевский совершал полевые проездки в сопровождении своего бывшего дядьки. Кюхельбекер отправлялся с ними, причем хотя некрасиво горбился и болтал локтями, но крепко держался в седле на всех аллюрах. И при этом, едучи шагом, и на привалах почти непрерывно говорил, как в комнате, размахивая руками, так что Иванов часто опасался, не испугались бы непривычные к тому лошади. Говорил он чаще всего о том, чего из господских уст Иванов еще не слыхивал, а из солдатских — разве спьяна: о несправедливости крепостничества, о возмущающей душу торговле людьми, о несоразмерных с виной наказаниях, о непосильном труде и бедности. А то о плохих городских школах, где учат не тому, чему следует, и не тех, кого нужно бы, о криводушных судах, у которых за взятку закон поворачивается к богатому. Или о тяжкой солдатчине и нищенской старости инвалидов, о военных поселениях — новой страшной кабале, где еще хуже солдату и крестьянину, чем по всей России…
После службы в Тифлисе непоседа Вильгельм Карлыч побывал в чужих краях, в Париже, а потом погостил в Смоленской губернии у сестры, помещицы средней руки, и там, в соседних имениях, насмотрелся на то, что его так возмущало.
Сначала, когда заводил такие речи, Одоевский кивал на Иванова и говорил по-французски что-то предостерегающее, но Кюхельбекер возражал по-русски:
— Оставьте! Пусть поймет хоть, что не все господа аспиды.
Это Иванов понял с тех самых пор, как узнал князя Александра Ивановича и так полюбил, что сейчас тревожился, видя, какое действие производят на него слова Кюхельбекера, и вновь удивляясь, как умело прятали от него все жестокое, что творилось вокруг. От рассказов про самые обычные наказания дворовых и крестьян, вроде нещадного сечения или забивания в колодки, корнет краснел, хмурился и надолго замолкал. А однажды во время завтрака в поле, когда Вильгельм Карлыч рассказывал, как упрашивал соседа-помещика не наказывать розгами беременную бабу, а тот ответил, что беспокоиться нечего, для ее брюха он приказал выкопать в земле ямку, как у него, мол, всегда делают в таких случаях, чтобы будущего крепостного не лишиться, — от такого рассказа Одоевский так побледнел, что Иванов испугался, не обмер бы… Но ничего, князь справился, только сломал попавшую под руку железную вилку с роговым черенком.
Несколько раз в Стрельну на воскресенье приезжал и Бестужев, который тоже отправлялся с ними, — в этом году верховых лошадей у князя уже для всех хватало. Адъютант сидел на коне, как картинка, недаром начал службу в гвардейских драгунах. Знал назубок все манежные фокусы и охотно показывал хитроумные пиаффе, пируэты, кабриоли и галопады, потешаясь, что такой ерундой занята превращенная в школу берейторов вся русская конница вместо настоящего обучения бою и полевой езде.
— Ведь, честное слово, наш манежный галоп хорошая пехота без натуги обгонит, — смеялся он. — А лошади больше на жирных свиней похожи. Не дай бог война! Что, брат, делать станем? — обращался он к Иванову. — Ведь случись настоящий поход, не по штабному расписанию, так половина коней за неделю передохнет…
Бестужев и здесь много шутил, смешно подражая женщине, пел французские песенки, разговаривал о книгах и журналах, но иногда вспыхивал, как порох, и в голосе его звучало возмущение, особенно когда касался увлечения плац-парадной муштрой.
— Неограниченная власть и малое образование, — горячо говорил он, — помноженные на военную бездарность и воспитание в прусском духе, приводят к нелепому и вредному увлечению — к игре в живых солдатиков, коей заполнена жизнь нами правящих…
В таких фразах Иванов не все понимал, но ему крепко запомнился один привал на берегу речки Стрелка. Здесь Бестужев рассказывал, как, будучи юнкером в Петергофе, он, по совету старшего брата, заменившего ему умершего отца, во всем делил жизнь солдат, чтобы хорошо узнать их службу и быт.
— Только не мог я вместе с ними купаться! — сказал Александр Александрович. — Видеть спины в рубцах было сверх моих сил. Видеть и знать, что все почти страдания приняты за пустяки, по капризу офицерскому. Со стыда за наше сословие сгореть можно от такого зрелища…
— Бить человека подневольного, который тебе ответить тем же не может, просто подло, — сказал князь, как всегда от таких разговоров краснея и волнуясь почти до слез.
— Справедливо. Но попробуй внушить сию истину господам офицерам, по всему, кажется, неплохим даже людям. Для них слова «солдат» и «скот» равнозначны, — возразил Бестужев. — Вот многие думают и в глаза мне говорят, что ради карьеры в адъютанты пошел. Скрывать не стану — мне адъютантская служба тем удобна, что живу не в захолустном зимой Петергофе, а в столице, где все дружеские и литературные мои знакомства. Но всего важней, что в полку никуда от рукоприкладства не деться. Каждый день видишь, как офицер солдата бессловесного заушает… Ты, князь, благодари бога, что к Орлову в полк попал. Он не ангел и не Жан-Жак, но вспомни, как Пушкин ему писал, что «не бесчестит сгоряча свою воинственную руку презренной палкой палача». Образованный человек и, говорят, мордобоя терпеть не может. Да что мордобой! Даже прутья и палки солдаты за благо считают по сравнению с фухтелями — проклятой прусской выдумкой. Обухом сабли или тесака со всего маху бьют по крестцу. Сколько в чахотку вогнали заслуженных воинов! Какой-нибудь изверг, вроде лейб-гусара Левашова, велит боевым товарищам друг друга бить за пустую ошибку в артикуле…
— Ох, оставь, Бестужев! — взмолился Одоевский.
— То-то «оставь»! Батюшка мой Александр Федосеевич, когда я в отрочестве, о подвигах ратных мечтая, про сражение, в коем его ранили, повествовать просил, вместо того мне сказал: «Что про смерть чужую вспоминать? Попадешь в огонь — знаю, не сробеешь: ты Бестужев. А вот о чем тебя прошу, как друга. Ставши офицером, не уподобляйся волку, беззащитных зайцев тиранящему. Всегда помни, что солдаты в бою львы, а в казарме — люди, во всем тебе подобные, коих наставлять тебе доверено». И знаешь ли, Одоевский, что меня не раз удивляло?
— Что же? — как эхо, повторил корнет.
— Почему ни один из тех, кого фухтелями калечат, не вырвет свою саблю из ножен да не рубанет того ротмистра или поручика, который приказал его истязать. Положим, за то забьют кнутом, но ведь и так смерть неминучая. А случись раз-другой такая острастка, честное слово, прыти у господ офицеров поубавилось бы…
Одна из следующих поездок началась тем, что у Кюхельбекера при посадке в седло лопнула штрипка на брюках. Конечно, это заметил Бестужев, а не сам Вильгельм Карлович, который весьма горячо толковал приятелям про задуманные стихи. Тот же Бестужев настоял, что так ехать нельзя — штанина будет непристойно задираться. Семен Балашов вызвался быстро произвести починку. Чертыхаясь, Кюхельбекер слез с коня и направился в дом, а Одоевский с Бестужевым, крикнув ему, что едут шагом на Ропшинскую дорогу, тронулись по улице, сопровождаемые Ивановым.
Перед одним из домов несколько подростков играли в бабки.
— Вот ты, князь-белоручка, наверно, битку в руке не держал и слова такого, может, не слышал? — сказал адъютант. — А я об заклад побьюсь, что за шесть шагов любую бабку выбью.
— Сидя на коне, легко хвалиться, — подзадорил Одоевский.
— Так покажем корнету драгунскую меткость! — воскликнул адъютант.
Спрыгнув с коня, он отдал поводья Иванову, после чего обратился к игрокам:
— А ну, дайте мне, православные, битку потяжелей. Со скольких шагов пальба идет?
— С пяти, ваше благородие, — ответил один из мальчиков, указывая на черту, проведенную по земле.
— А я до семи прибавлю, — сказал Бестужев. Шагнул два раза, подхватив саблю, повернулся по-строевому, выставил вперед ногу, оперся рукой о колено. — Так которую, князь, первой выбивать?
— Правофланговую, — решил Одоевский.
Адъютант склонил корпус, поднял битку против прищуренного глаза и метнул ее. Правая крайняя бабка покатилась, кувыркаясь.
— А теперь которую? — спросил Бестужев, когда паренек принес ему битку.
— Ну, левофланговую.
— S'il vous plait![49] — поклонился адъютант, посмотрел на мишень, сделал снова выпад и, так же метко выбив вторую бабку, указанную Одоевским, отдал битку ребятам и не спеша, дурашливо-торжественной походкой направился к коню.
— Ну и барин! — восхищенно сказал старший из подростков. — У нас никому не суметь, чтоб на выборку… Вот так барин!
Когда отъехали шагов сто, Бестужев сказал уже серьезно:
— В том и дело, Одоевский, что парень ошибся. Я не совсем-то барин. Матушка моя Прасковья Михайловна женщина простого звания, что не помешало ей с отцом прожить двадцать лет душа в душу. «Голубой», стародворянской крови во мне половина. Я как раз в равном расстоянии между вашим сиятельством и тезкой нашим. Ты — высокопородный аристократ и оттого ленишься записывать свои прекрасные стихи и острые мысли о словесности; я — полукровка, который пишет повести и статьи для того, чтобы печатать и деньги за них получать, а унтер наш любезный, герой и защита отечества, основа всех основ, — крестьянин и солдат, которому дай бог вынести тяжкий груз, на него навьюченный бесправием и государевой службой…
— Может быть, именно от материнской свежей крови, — раздумчиво сказал князь, — во всех вас, братьях Бестужевых, такие силы к действию?.. Но где ты так навострился в бабки играть?
— В лагере под Сиворицами, когда юнкером был и, братний совет исполняя, с драгунами каждый вечер играл. Но где же Кюхель? — обернулся в седле адъютант. — Еще что у него лопнуло? Или, нас забывши, впился снова в своего Гофмана?
Они заговорили о книгах, а Иванов думал: «Что бары на простых девушках женятся, такое не раз слышал, но чтобы офицер гвардейский того не стыдился — вот диво истинное…»
В этот день, когда нагнавший их Кюхельбекер, по обыкновению, заговорил на привале о несправедливости в государстве, Бестужев с жаром поддержал его и прочел свои стихи, в которых доставалось помещикам и генералам, графу Аракчееву и самому царю. Кончались те стихи словами:
И когда, послушав их, Одоевский спросил:
— Так что же нам-то делать следует?
Бестужев ответил:
— Вот про то и спор: что и когда?..
Случилось еще в то лето, что на выезде из Стрельны кавалькаду встретил корнет Ринкевич верхом и поехал вместе. Так и он разом подхватил хулу на крепостное право, на законы и нисколько не берегся, будто о погоде или о новом своем коне заговорил.
А Иванова от таких речей, несмотря на жаркое лето, мороз по шкуре драл. Он оглядывался, не слышит ли кто, что болтают молодые господа. За такое даже их по головке не погладят…
О том же, очевидно, часто думал и Никита, слушавший барские разговоры в комнатах. Но старого слугу не так они смущали. Как-то на слова Иванова, что боится, не подслушал бы кто таких вольных речей, Никита сказал:
— Конечно, не дай бог… А само-то по себе — обнаковенная господская блажь. Князь Иван Сергеевич, когда молодые были, тоже книг французских начитаются да пойдут, бывало, рассуждать: все люди равные, рабство противно природе и надобно его изничтожить… Как же! Разве мыслимо, чтоб в России без крепостных? Сам бы что делать зачал? Так и Александр Иваныч: поболтает, сколько положено, и за ум возьмется. Хотя бы влюбился путем в барышню из хорошего дому да женился. Двадцать три года в ноябре, а он будто шестнадцати лет.
— А не слышно про невесту какую?
— Будто к весне начало что-то мерекаться — записочки, книжки посылали. А тут лагерь, и семейство ихнее в деревню поехало. Вот как балы пойдут, то и поглядим, авось бо…
Уже в августе, в последнее воскресенье в Стрельне, с Бестужевым вместо Кюхельбекера приехал небольшого роста статский барин, оказалось — тот самый Кондратий Федорович Рылеев, которого весной поминали, что для «Кондратия открыты объятия». Этот сел на коня с приемами бывалого наездника — оказалось из разговора, что еще недавно служил поручиком в конной артиллерии, и, видать, радовался, что едет на хорошей лошади — похваливал ее ход и как слушается шенкелей. Радовался он и природе — желтым осенним полям и густо-синему небу. Должно быть, засиделся в городе, в комнатах при своей службе. Смеялся он не часто, говорил не громко, так что Иванов, ехавший сзади, почти его не слышал. Запомнил только, как после завтрака на привале Рылеев по просьбе друзей читал свои стихи. До того, как и все, сидел на сене без сюртука, а тут встал на колени перед пустой уже скатертью и сказывал про какого-то казацкого атамана, приговоренного поляками к смерти, как он в темнице исповедуется священнику. Кончались эти стихи так:
Так и запомнился он Иванову — в белой рубахе, с открытой шеей и непокрытой головой, стоящим на коленях и произносящим эти строки, как бы прощаясь с небом и полями, которые, видно, любил… И еще запомнилось, как весело пересказывал проказы своей пятилетней дочки Настеньки, к которой после обеда заторопился, хотел поспеть домой до того, как ее уложат спать.
После маневров и возвращения в город барон Пилар уехал в отпуск, за него остался произведенный в штаб-ротмистры Бреверн. Кирасир отпустили на вольные работы. Те, кто не знали ремесла, как всегда составив артели, уходили из казарм на заре и возвращались вечером. Наряд был только по полку, но Иванову и теперь хватало казенных занятий. Сходи раз-другой на конюшню, огляди, опять же не раз, все ли прибрано в эскадроне. Проследи, чтобы ушедшие в город были по форме одеты, не возвращались пьяными. Да мало ли еще что… Тем более что Жученков, елико возможно, отпрашивался у добряка Бреверна к своей зазнобе и просил Иванова приглядывать.
Сидя в его каморке, Иванов налег на щетки. Спрос есть, ну и носи их купцу, малость разнообразя фасон и надписи. Иногда в будни вечером заходил на Исаакиевскую — при фонаре трудно работать, да и спину к вечеру разламывало от сидения. Корнет много выезжал в гости и в театры. Кюхельбекер жил тут же. К обоим ходили гости — военные и статские, нередко ночевал Бестужев.
В середине сентября офицеры Конного полка заговорили о поединке царского адъютанта Новосильцева с поручиком Семеновского полка Черновым, на котором оба были тяжело ранены. Это была не первая дуэль на памяти Иванова, но еще не случалось, чтобы все так единодушно осуждали одного из противников, как этот раз Новосильцева, даже после того как он умер, а Чернову сулили выздоровление.
Придя в воскресенье на Исаакиевскую и застав слуг за обедом в кухне, Иванов, приглашенный сесть к столу, спросил Никиту, не слыхал ли от князя, из-за чего поссорились господа, про которых так много толкуют.
— Он тебе ответит, — кивнул камердинер на Балашова, — вчерась того раненого Вильгельм Карлыч навещали.
Балашов, не чинясь, рассказал, что слышал от своего барина. Года два назад в Могилеве флигель-адъютант Новосильцев встретил красивую девицу, дочь армейского генерал-майора Чернова, влюбился в нее и посватался. Получив согласие родителей, поехал в Москву просить благословения матери. Но она, рожденная графиня Орлова, очень чванилась своим богатством, породой и не желала назвать невесткой девушку, чей отец только по заслуженному в боях чину получил дворянство. После отказа матери Новосильцев, даже не сообщив родителям невесты о том, что случилось, перевелся из Могилева. Такое поведение можно бы оправдать, если б о невесте открылось что порочащее, и ее брат потребовал, чтобы Новосильцев поехал в Могилев получить формальный отказ от невесты. Тот обещал и не поехал. Тогда Чернов вызвал обидчика на поединок, чтобы, как он говорил, «знатность и богатство не надругались над невинной девушкой». И вот сейчас раненный в голову юноша тяжко мается после сделанной ему операции.
Балашов говорил с жаром, как по писаному, — верно, наслушался разговоров Вильгельма Карлыча с приятелями обо всех подробностях. До сердца пронял слушателей и даже Никиту, который по старинке любил во всяком деле обелять более знатных господ.
Через неделю стало известно, что и Чернов скончался. Иванов услышал, как несколько офицеров сговаривались проводить его прах на Смоленское кладбище. Зная, что от Семеновского полка, где жил покойный, путь к Исаакиевскому мосту пройдет мимо их казарм, Иванов среди десятка любопытных кирасир, не ходивших на вольные работы, вышел в полдень на высокое крыльцо манежа.
Шествие оказалось торжественным и многолюдным. За простым катафалком с гробом шли, обнажив головы, сотни две, а то и больше офицеров и статских. Иванов хорошо разглядел в первых рядах Рылеева, Бестужева, Кюхельбекера, Ринкевича, своего князя и двух еще офицеров, которых видывал на Исаакиевской. Эта многолюдная толпа далеко оттеснила от катафалка полковой оркестр и роту семеновцев, за которыми медленно тянулись десятки карет с дамами и пустые дрожки шедших пешком господ.
— Чисто генерала хоронят! — восхитился один из кирасир.
— Эка хватил! — возразил другой. — Как раз звезд да густых эполетов вовсе не видать. Молодые господа молодого страдальца провожают.
По дороге в казарму Иванов пересказал шедшему с ним ефрейтору Пестрякову, что узнал от Балашова, и услышал в ответ:
— Святую обязанность поручик сполнили, за сестру вступившись. Себя не пожалели, зато обидчика перед всеми доказали. А сестрица-то как, поди, убивается! Вот кого жалеть нонче надобно…
За много лет службы в одном эскадроне Иванов впервые внимательно посмотрел в лицо ефрейтора, весь досуг гнувшегося над швальной работой: «Вот так добрая душа, о сестре покойного один из всех вспомнил…»
— Ты, Пестряков, кого в деревне оставил? — спросил унтер, подумав, что у того, может, где есть любимая сестра.
— Никого у меня нигде, — ответил ефрейтор. — Братья в измальстве померли, а отец с матерью в Оке потонули, на пароме в половодье переправлявшись. Барин нас на новые места переселять задумал…
— А как же ты уцелел?
— На том берегу с подводами оставался. У меня на глазах все и было, да далече, не доплысть. И вскоре барин в солдаты меня сдал. Да еще примолвил: «Оно тебе в наказание за родителей, что сдуру потонули». У господ, известно, все, окроме их, виноваты.
«Вот как вольно говорит, — подумал Иванов. — Видно, чует, что не донесу». И спросил о том, что занимало его постоянно:
— А на что же деньги копишь со своего мастерства?
— Жениться надеюсь, как отслужу…
— Так тебе же еще больше десяти лет трубить.
— Что ж такое, Александр Иваныч? С надеждой, хоть дальней, все жить легше.
На этом они расстались, войдя в эскадрон, где каждый взялся за свое ремесло.
«А у меня теперь на что надежда? — думал Иванов. — Дальняя — на службу у князя да на выкуп своих, а ближняя — на отдых на Исаакиевской в воскресенье, где вовсе про полковое забудешь. Нечего бога гневить, и на том спасибо…»
Однако ближнее посещение княжеской квартиры не принесло ему успокоения. В кухне Курицын сказал, что Никита простыл, отлеживается в своей каморке. Иванов прошел к старику. Тот действительно лежал на теплой лежанке, лицом к стене. Услышав звон шпор Иванова, спросил:
— Ты, что ли, кавалер?
— Я самый, Никита Петрович.
— Приткни дверь покрепче, тянет что-то. — Никита сел и похлопал ладонью по лежанке, приглашая унтера сесть. А когда оказался рядом, зашептал: — Беда, братец, одурели вовсе…
— Кто? Господа молодые? — так же тихо спросил Иванов.
— Ну да! Рылеев третево дни приходил, который, знаешь, делами где-то правит да книжки выдает с адъютантом. Набралось всех больше десятка: князь Оболенский еще, морских двое, штатские. Сначала, как полагается, разное кушали, а потом, как трубки закурили, то Рылеев прямо и бухни, что государя надобно того… А им самим заместо него править. — Никита отклонился от Иванова и посмотрел на него вытаращенными глазами: — Во как просто! Я так и обмер. Ведь перехватают голубчиков, как курят! Про тех-то мне, правду сказать, нет большой заботы, а князь с детства доверен.
— Да, вовсе не хоронятся, — посочувствовал Иванов.
— В тот раз хотя околь двери гостиной Семена Балашова выставили, чтобы никто не подслушал, да мне одному князь велел чай носить. Вот я как трубки подал, в кабинет будто за табаком еще — шмыг, да оттуда и слушал. Тут Рылеев свое и скажи… Наутро, всю ночь провертевшись, Балашова сюда позвал и спрашиваю: «Что господа наши затевают? Ведь молодые все, ничего не знающие, пропадут мигом». А он, угадай, что в ответ?
— Откуда же мне знать, Никита Петрович?
— «Зачем, говорит, одни молодые? Среди их обчества полковников много и генералы есть, — и тут да в какой-то, назвал, армии. Всем совестливым, говорит, господам несправедливая жизнь надоела». Тут я ему: «Господам-то зачем ершиться? Им чего не хватает?» А он опять: «Так не для себя, для простого народа стараются, раз совесть у них не пропала. И за ними солдаты везде пойдут, как они солдатов не мучают, где могут за них заступаются… А ты, говорит, Никита Петрович, разве не хочешь, чтобы крепостных вовсе не стало и никто низшего звания человека мучить не мог?..» Нашелся я только сказать, что другие господа, которые доходом с мужиков живут, такого не допустят. А сам вот как жалею, что нету барина Грибоедова нонче здесь…
— А что б он сделал? — спросил Иванов. — И у него в сочинении разные неудовольствия против господ злобных писаны.
— Так все человек обстоятельный. Его бы спросил: статочное ли дело? А то им шутка — царя долой! Только ты, смотри, никому ни-ни. Я, как тебя знаю, что человек служивый, пуганый, битый, то и верю. Да надо ж с кем и совет взять, раз у самого башка кругом. Князю старому отписать надумал, чтоб сюда ехал, будто собрался сына навестить. Как скажешь? Ведь ежели что, меня совесть сгложет… Вот и напиши ты письмо. Я уж и чернила с бумагой припас.
— Коли так нужно, то напишу, — согласился Иванов. — Только ты мне все подсказывать будешь. Я ведь списки на кирасир, на коней да на амуницию строчу, а писем не случалось.
— Ну, пойдем, скажу, чтоб накормили тебя, — облегченно вздохнул Никита. — А сам еще подумаю да перо у князя скраду.
Через час было сочинено и переписано набело такое послание:
«Милостивейший князь Иван Сергеевич, сиятельный наш отец!
Прошу вашего сиятельства прощения, что обеспокою сим моим доношением, что требуетца вашему сиятельству сюда без откладки прибыть, как сынок вашего сиятельства требует отеческого призору по молодости своих лет. В том прошу мне, рабу вашему, без сумления верить и сие мое доношение никому малейше не открывать, как меня знаете за вернейшего раба.
На веки ваш усердный молитвенник по вся дни камердирен Аникита Петров.»
Расставаясь со старым слугой, Иванов еще раз обещал молчать об их разговоре и о письме. Он сдержал слово, но теперь просыпался утром с мыслью об услышанном, днем не раз к ней возвращался и засыпал с нею. Генералы, полковники здешние и в какой-то еще армии — на юге, что ли? — а не одни корнеты да сочинители. Вот так весть! Неужто и вправду могут сотворить, чтоб крестьян свободными сделать да лучший порядок навести на всю Россию? Самим, может, не в силу, но ежели солдат тысячи поднимут, тогда кто с ними сладит?.. И верно старик сказал, что голова кругом идет… Хорошо бы, удалось с Балашовым потолковать, никак, понятно, про Никиту не поминая.
Эти мысли овладели унтером так, что отбивали от работы, пищи и сна. Раз двадцать переворачивался с боку на бок, пока засыпал. Такого не бывало со времени проклятого Вейсмана. Только тогда шел все ближе к смерти, а теперь его впервые в жизни волновали надежды на счастье, да не для себя одного.
Через неделю случай свел с Семеном Балашовым. Выйдя из полковых ворот и повернув к Исаакиевской площади, Иванов увидел слугу Кюхельбекера, идущего в сторону Мойки. Посмотрел на него и подумал: «Не похож вовсе на дворового человека. Вся походка легкая, сряду видать — никого не боится, хоть одет в тулупишко не новый и сапоги с рыжиной».
Окликнул:
— Куда же, Семен Титович?
— Михаилу Карловичу в экипаж записку от братца несу.
— Дозволь малость с тобой пройтить?
— Отчего же, идем, коли по пути.
«Как к нему подступиться? — подумал Иванов. — Разом из головы долой, что прикидывал…»
— Присмотрелся я к твоему барину летом, как верхом ездили, — начал он. — Добрейший господин.
— Добрей его никого нету, — охотно отозвался Балашов.
— Оно так, да больно неосторожные они…
— В чем же? — Голос Семена стал иным, настороженным.
— Разговоры при людях заводят вольные, — продолжал Иванов, хотя уже чувствовал, что нужного не узнает. — При мне, понятно, ничего, я князя да Вильгельма Карлыча ни в жисть не выдам, а при других так бы не заговорили.
— Не пойму, насчет чего толкуешь, Александр Иванович, — дернул плечом Балашов.
— Да насчет, к примеру, чтобы всех крестьян ослобонить или чтоб в судах правильно с господ взыскивали…
— Мало ль чего мечтается? Про то и говорят. Вильгельм Карлыч по чужим краям разного насмотрелись, вот и вспоминают…
— Не спомин я слышал, а чтоб у нас таковское водворять, — настаивал унтер.
— Нет, Александр Иванович, тут ты, видать, чего не понял. Барин мой все про сочинения свои толкуют. Сейчас про итальянца какого-то старинного писать вздумали…
«Не верит мне, — сокрушенно подумал Иванов. — С Никитой иначе говорил, раз видел, как Рылеева слушал. Там не отопрешься».
Простились у Офицерского моста. Семен своей свободной, легкой поступью пошел в казармы Гвардейского экипажа, а Иванов, посмотрев ему вслед, зашагал на Исаакиевскую размеренной походкой солдата, тело которого удалось обратить в подобие механизма.
«Может, Андрея Андреича спросить? — думал он, печатая шаг. — Но когда еще наработаю, что ему нести? И с чего начать? Будто на корнета своего доносишь. Нет, подожду, пока опять Балашова встречу. Может, поймет, что от тех речей и у меня душа горит…»
Вечер спускался на город. Моросил мелкий дождь. Уже горели фонари у подъезда театрального училища. Здесь всегда в этот час офицеры и штатские франты дожидались выхода воспитанниц, которых возили в театр в зеленой неуклюжей карете. Вот и сейчас она как раз подъехала, и молодые господа к ней сбежались. А в театре, что там?.. Должно, занятно, раз вечерами на площади от экипажей проходу нет. Поди, не то, что Красовский про Орел рассказывал. Может, тут, как Дарья Михайловна, прекрасно поют? Вон Александр-то Сергеевич про актерок здешних говорил, будто куда барышень благородных умней да душевней… А Никита как уверен, что Грибоедов князя бы образумил. Да я-то знаю, что и он тех же мыслей. Вон как про генерала Измайлова говорил…»
На этом Иванов спохватился и повернул в полк, — незачем нынче на Исаакиевскую ходить. Семен вернется, там его застанет и непременно подумает, что не зря зачастил, все выведать хочет… А в жученковском закутке можно еще поработать час-другой.
Он пошел на Исаакиевскую вечером в среду — соскучился по знакомым людям. Слуги ужинали на кухне, и повар сразу наложил полную тарелку каши и подал ложку. Еще за столом заметил, что Никита вполне спокойный и ест исправно.
Уведя Иванова к себе, расплылся в улыбке и зашептал:
— А ведь клюнуло! Нонче за полдень ответ офицер привез. Вон как — шесть ден туда да три обратно. Курьер ехал, и князь Иван Сергеевич его, видать, хорошо одарил — сам завез без откладки. Пишет Сашеньке, будто прихворнул, и к себе в отпуск зовет. Ведь отпуску офицерского мы ни разу не брали. Сашенька и растревожился. Завтра же, сказал, подам прошение, а в воскресенье поедем. Хотел меня одного взять, а я прошу, чтобы и Курицына, — боюсь, избалуется с Семеном. Вот какое мы письмо славное удумали!
— А может, и верно князь старый нездоровы? — сказал Иванов.
— Полно! — засмеялся Никита. — Они знаешь что? Наконец-то зовут с мачехой знакомиться, как уж второго ребеночка ждут. У меня на неделе Сенин опять был, про московское сказывал, так я забоялся, что от таких делов к нам не поедут. Ан вот как славно вышло. Попадем в Москву, так уж, верно, все здешнее отложим, по балам затанцуем до Нового года, а то и доле.
— А тут у них, ты говорил, прошлый год девица благородная обозначалась?..
— Куда! Все бреднями глупыми сбито. Теперь бога молю, чтоб какая московская барышня-раскрасавица голову ему посильней закружила.
Через три дня князь Одоевский и Никита уехали. Курицын остался на Исаакиевской и с важностью водворился в комнатку камердинера.
В середине ноября после конца вольных работ начались обычные пешие учения, езда сменами в манеже и взводами на плацу, выводка коней, полковой наряд, разводы и дворцовые караулы. А тут еще Жученков больше, чем в наводнение, где-то простыл, сипел и кашлял, как конь от трухлявого сена. Однако не хотел идти в лазарет, а лечился сам в эскадроне водкой с перцем. Иванову приходилось много делать за него, и при этом он убедился, насколько был прав вахмистр: нет в нем твердости, без которой эскадроном не управишь. Сейчас слушаются, оттого что Жученков за переборкой все слышит, а как не будет его здесь?..
Двадцать пятого ноября, в день рождения князя Александра Ивановича, унтер вечером пошел на Исаакиевскую. Захотелось повидать хоть Курицына и повара, посидеть в тепле, а может, и вздремнуть на лежанке. В кухне было непривычно тихо — повар ушел со двора. Семен Балашов разливал чай по чашкам, ставил их на поднос.
— У Вильгельма Карлыча гости, — пояснил он. — Не хошь ли чайку духмяного, дорогого, с цветком? Поди, не пробовал.
— Спасибо. Налей, что ли. А Курицын где же?
— В «кабинете» своем на лежанке спит, — усмехнулся Семен.
Проходя через переднюю, Иванов увидел несколько военных и штатских шинелей, в углу — шпаги и сабли. Курицын лежал на лежанке, но не спал. Увидев унтера, живо вскочил и, прикрывши поскорей дверь, зашептал точь-в-точь как Никита:
— Видал, каков сход у нас? Никак третий час кричат… Семен второй самовар наставил.
— Да бог с ними, — сказал Иванов.
— А ты знаешь ли, чего сбежались? Государь помер в Таганроге, вот их и разобрало. Кричат все, что пора начинать, неча боле дожидаться… Чего они начнут-то, Александр Иваныч?
— Не может быть того, что государь помер, — сказал Иванов, — у нас в полку не знают.
— Верно говорю. От военного губернатора полковник тут был… Ох, боюсь, на нас несчастье накличут! — застонал Курицын.
«А Никита опасался, что от Семена баловства наберется. Истинно кличка по человеку», — подумал Иванов и сказал успокоительно:
— Раз князь в отъезде, так чего бояться? Знай добро береги, и все…
Новость оказалась верной. 48-летний Александр Павлович, выехавший из Петербурга 1 сентября вполне здоровым на юг вслед за больной царицей, 19 ноября скончался в захолустном Таганроге. Теперь его набальзамированное тело медленно везли через всю Европейскую Россию в Петербург, к Петропавловскому собору, где ляжет рядом с убитыми «верноподданными» дедом и отцом.
Начались торжественные панихиды. При дворе и в войсках был объявлен траур. На престол вступил второй сын царя Павла, Константин, живший с 1816 года в Варшаве, командуя польской армией. Спешно печатали листы, которые должны читать священники перед присягой, и подорожные, начинавшиеся словами: «По указу императора Константина Павловича», чеканили монету с его курносым профилем, уже продавали его портреты с титулом императора всероссийского. Со дня на день ждали нового царя в Петербург. 27 ноября гвардия принесла ему присягу.
Солдаты не печалились о покойном государе. После войн с Наполеоном его редко видели в столице, уж очень много разъезжал за границей и по России. Но старые конногвардейцы хорошо знали с довоенных лет нового государя и понимали, что радоваться нечему. Тупой поклонник плац-парадной муштры и манежной выездки, грубый с офицерами и жестокий с солдатами — таким помнили Константина, долголетнего шефа Конногвардейского и лейб-Уланского полков, над которыми особенно изощрялся в своей любимой «мирной» службе. Юношей Константин ездил в Итальянский поход с Суворовым, но в войнах с Наполеоном ничем себя не выказал, а в 1812 году Барклай выслал его из армии за интриги. Новый царь утверждал, что «война портит войска», то есть отучает их от плац-парадов и пачкает парадную форму. Солдаты были для него только игрушкой, послушно двигавшейся по команде, равняясь в струнку, одновременно выкидывая ноги в заученном шаге. Именно Константин сказал, смотря на замерших в строю гвардейцев: «Всем хороши, одно жалко — заметно, как дышат…»
— От него доброго ждать не приходится, — говорил вахмистр в своей каморке Иванову. — Одно в Стрельне знал: с шести утра на плацу гонять. Разве возраст взял свое? Хотя что от сладкой пищи сделается? А из себя прямо страшон: курносый, сутулый, длиннорукий — чистая облезьяна, каких в Париже по улицам водили, помнишь? Нам теперь надо ухо востро держать — по старой памяти в Конную гвардию разом сунется, как приедет.
И вдруг поползли слухи, что Константин не вступит на трон, потому что женат на полячке не царского рода, а царствовать станет третий по старшинству, 27-летний Николай Павлович, который командует гвардейской пехотной дивизией. В коннице его мало знали, но слышали, что придирчив и мелочен, поклонник фрунтовых фокусов, как старшие братья. Только еще вовсе пороху не нюхал, почему боевые заслуги в грош не ставит. Женат на прусской принцессе и выше армии тестя ничего не знает.
— Хрен редьки не слаще, — крякнул Жученков, когда шли вечером после обхода конюшен по безлюдному казарменному двору.
Говорили, будто во дворце ожидают приезда Константина, чтобы показался войскам, передал брату корону, полученную через присягу всей страны. Шутка ли — вторую присягу придется приносить за две недели… Офицеры ходили растерянные, недоумевающие, переговаривались вполголоса, больше по-французски.
В эти смутные дни в полку досрочно появился князь Одоевский.
— Здорово, тезка! — окликнул он Иванова, несшего эскадронные бумаги в полковую канцелярию.
— Здравия желаю, ваше сиятельство! Как батюшка ваш?
— Слава богу. А я в Москве соскучился. Ну, приходи повидаться.
Через два дня, 10 декабря вечером, унтер пришел на Исаакиевскую. У князя были гости, в зале шумели, спорили. Никита сидел на своей лежанке, встревоженный и растерянный.
— Заторопился из Москвы, ровно к невесте! А тут — как с цепи сорвались, бунтоваться вот-вот… Хоть по начальству беги.
— Откуль знаешь? Балашов проговорился? — спросил Иванов.
— Сам слыхал. Вчерась ввечеру следом за князем до Синего моста дошел, где Рылеев тот квартирует, и во дворе за дровами, как тать, под окошками схоронился… Трубки у всех — так форточки настежь. Вот и слушал ихние споры никак час, пока вовсе не задрог. Присяга новая будто на четырнадцатое назначена…
— Так и у нас в полку сказывают.
— А они в тот день бунт готовят. Завтре хочу по начальству докладать. Не знаю только, куда. К генерал-губернатору, что ли? Оденусь почище да и пойду. Неужто князя Одоевского камердина не впустят?
— У начальства сейчас хлопот много, может, и не впустят, — сказал Иванов. — А потом князю тринадцатого в дворцовый караул заступать, так четырнадцатого он после суток маеты в парадной форме сряду спать полягет.
— Верно знаешь про караул? — обрадовался старик.
— Чего верней! Наряд дворцовый от нашего эскадрона. Ему и корнету Ринкевичу идти. Завтра сам в полку узнает.
— Так думаешь, не ходить мне по начальству, не сказывать про сходбища у Рылеева?
— А князь разве простит тебе, Никита Петрович, что за ним ходил, подслушивал да еще доносить побег? — ответил Иванов.
— Знамо дело, Александр Иванович, не простит, с глаз долой сгонит, да старый-то князь, коли что случится, еще хуже взыщет.
— Так ведь ты писал ему и в Москве, верно, докладывал.
— Где ж там толком до класть было? А раз сказал, так только рукой махнул: «Брось, дело молодое, кто тем не бредил?..»
— А ты сам рассуди: в ночь на четырнадцатое он глаз не сомкнет в колете, лосинах да ботфортах. Куда ж, кроме постели, денется?
— Ох, не знаешь ты, как резов бывает! — качал головой Никита. — Что раньше до танцев, то теперь до ихних речей…
15
День 14 декабря начался в Конном полку присягой новому императору. Ее принесли еще при фонарях построенные в манеже кирасиры, одетые в городскую парадную форму — колеты и рейтузы, после чего их распустили на отдых, как в праздничные дни. Придя со своим взводом в эскадрон, Иванов увидел возвратившихся из дворцового караула людей. Они поспешно помогали друг другу стаскивать ботфорты и лосины.
— А князь Одоевский на квартиру пошли? — спросил унтер.
— Они с корнетом Ринкевичем нас до ворот довели и по домам повернули, тоже притомились видать, — сказал рассудительный Павел Панюта, растирая затекшие икры, и принялся вбивать деревянные колодки-правила в снятые ботфорты.
— А во дворце, Александр Иваныч, вот уж было на что поглядеть! — сказал уже раздетый Портянов, сидевший на нарах.
— Чего ж там? Молебствие, поди? — спросил Иванов.
— Едва в собор господа втиснулись, — восторженно рассказывал Портянов, — генералов в лентах, в золотых мундерах — ну тьма! А теперь всей гвардии офицерам прием пошел, и наши все уже там с командером полка…
Панюта поставил в деревянный шкаф-пирамиду свои ботфорты, кирасу и каску и, взяв Иванова за локоть, отвел к окошку.
— Мой-то пост, Иваныч, у двери Пикетной залы нонче утром был, а тамо у окошка, знаешь, кресло искони одное стоит. Вот на него перед молебном и сядь сам граф Аракчеев. Во всех регалиях, в ленте. И никто-то к нему, веришь ли, за час не подошел, слова не сказали, будто чума у его. Вот каков народ дворский, братец ты мой! Давно ль готовы были зад ему в очередь лизать да похваливать, каков вкусный, а ноне, как покровителя лишился, — тьфу на тебя!..
— А нового царя видел?
— Нет. Ждали его, да еще не выходил, как нас сменили…
Иванов надел бескозырку и пошел на конюшню посмотреть, как прибрались дневальные после утренней дачи корма.
Когда шел вдоль заднего фасада главной казармы, отделенной от Адмиралтейского канала каменной стенкой, вдали послышался крик множества голосов, потом донеслось нестройное «ура». Около дальнего угла здания, близ манежа, навстречу попался эскадронный коновал.
— Где кричали? — спросил унтер. — На стройке что поднимают?
— Московский полк бунтует, — сказал коновал, — к Сенату вышел. Константина Павлыча в цари требуют, а его и нету.
— Чего теперь горло драть, как новому присягнули, — удивился Иванов.
— А вот поди ж ты! Бают, будто Константин Павлыч в оковах, его сюда силом не допущают. — Коновал пошел дальше.
«Авось князь домой пошел и спать залег, — соображал, идя в конюшню, Иванов. — Спальни его окна глядят на двор. И все равно больно близко от дома ихнего кутерьма пошла. Я тут крик услышал, а там вовсе рядом… Да не ихнее ли дело бунт-то самый?»— вдруг догадался унтер.
Заглянув в конюшню, он вышел на Ново-Исаакиевскую улицу. Здесь по неглубокому, недавно впервой выпавшему снежку, мимо него шибко проехали извозчичьи сани, в которых сидели известный всей гвардии генерал-губернатор граф Милорадович в шитом золотом мундире, в голубой ленте и адъютант его в гвардейской пехотной форме.
— Подниму полк и одной атакой разобью! — кричал генерал, тыча кулаком в спину извозчика. — Да гони же, болван!..
Сани завернули по Конногвардейскому переулку к полковой канцелярии, а Иванов побежал в эскадрон.
Только успел подняться на свой этаж, как под окнами трубач заиграл тревогу, и почти сразу на лестнице раздалась команда:
— А ну, выходи в касках, кирасах, при палашах коней седлать.
Под топот и выкрики кирасир, вскакивавших с нар и одевавшихся или бежавших к стойкам-пирамидам, Иванов сумел сказать Жученкову, что видел и слышал, и сам бросился снаряжаться. Скинул колет, надел баранью безрукавку, снова натянул колет, застегнулся, опоясался палашной портупеей, стал прилаживать кирасу, — спасибо, кто-то сзади перебросил чешуи через плечи. Но вот уже затянул поясной ремень, надел каску, застегнул подбородник, схватил перчатки — и бегом к двери на лестницу.
— На конюшню! Седлать живо! — орал Жученков, сбегавший вниз перед Ивановым.
По улице мимо казарм в сторону Исаакиевской площади бежал народ.
В конюшне, толкаясь, снимали седла с полок, седлали в стойлах, выводили коней в коридоры. Там образовалась очередь к каменным приступкам — на шестивершковых коней в лосинах или туго натянутых рейтузах без них не сядешь. Выезжали, пригибая головы в касках, и у конюшен разбирались по тройкам.
Вот по команде подъехавшего Пилара тронулись к плацу. По дороге рядом с командиром оказались Бреверн и Лужин. На парадном месте уже вертелся на гнедом коне генерал Орлов, нынче в общегенеральском мундире и шляпе. От него только что с места галопом к Поцелуеву мосту рванулся посланный куда-то полковой адъютант Сухарев. Штаб-трубач раз за разом повторял сигнал сбора. Эскадроны выезжали на плац и строились в колонны по шести.
Раздалась команда Орлова, и полк сначала шагом, потом малой рысью начал втягиваться в Большую Морскую улицу. Доехав до площади, обогнули забор строящегося Исаакия и мимо длинной стороны дома князя Лобанова выехали на Адмиралтейскую. Тут развернулись фронтом к Петровской площади и остановились. Трубачи почти тотчас заиграли встречу. От построенного справа в шинелях и фуражках батальона преображенцев манежным галопом ехал статный генерал в голубой ленте, — видно, новый царь. Орлов поскакал навстречу, салютуя шпагой. Трубачи смолкли. Командир полка отдал рапорт, и оба отъехали к преображенцам.
А впереди на площади за колеблющейся толпой горожан явственно виднелись красногрудые мундиры Московского полка, кивера с высокими султанами, штыки. Правее московцев высился на скале видный со спины бронзовый Петр. Перебегавший с места на место пестро одетый народ был везде: на бульваре, шедшем вдоль Адмиралтейского канала к Неве, у входа на Галерную, у Сената и здесь, совсем рядом с конногвардейским строем. Чиновники, ремесленники, мамки с детьми, мужики в тулупах, разносчики с лотками, мальчишки-сорванцы толкались, глазели, гомонили. Слева, над забором исаакиевской стройки, торчали десятки голов и плеч тамошних работников — каменщиков, штукатуров, плотников.
Сосед по строю Павел Панюта толкнул стременем стремя Иванова — смотри, мол! Мимо фланга конногвардейцев неловко, не в ногу ступая, четыре бородача в мещанском платье проносили безжизненно обвисшего на их руках генерала в залитом кровью мундире. В нем Иванов едва узнал графа Милорадовича. Голова с белым, как воск, горбоносым лицом и завитыми волосами бессильно заваливалась назад, и ее поддерживал шедший сзади носильщиков адъютант. Он нес под мышкой шляпу и шпагу генерала. Белые суконные рейтузы адъютанта были запятнаны кровью.
— Вот судьба, — вполголоса сказал корнет Лужин. — В стольких сражениях жив оставался, а тут от своих…
— Тс-с-с! — шикнул со своего места ротмистр Пилар.
Иванов подивился, что никто из начальства не приказал нескольким кирасирам спешиться и помочь нести генерала. Но справа раздался скок коня и высокий голос Орлова:
— Конногвардейцы, смирно! Палаши вон!
Дружно лязгнула сталь клинков о железные ножны. Еще команда — и справа рядами эскадроны тронулись через площадь. Первый дивизион пошел налево и вдоль здания Сената. Второй и третий потянулись вдоль Адмиралтейского бульвара. Дойти до самой набережной оказалось невозможно, здесь громоздилась гора крупной гальки, выгруженной с барок для постройки Исаакия и еще не перевезенной за забор. Ротмистр Пилар остановил эскадрон и скомандовал поворот на месте, лицом к площади. Теперь фронт четырех эскадронов обратился к восставшим. После перестроения вахмистру и унтеру следовало снова выехать на правый фланг. Но расстояние между крайним конногвардейцем и камнями оказалось столь малым, что выдвинуться вперед мог один Жученков, а Иванов остался за ним. Между плечами вахмистра и Панюты он опять увидел каре Московского полка и окружавший его народ, но теперь сзади серело здание Сената, на крышу которого взобрались какие-то люди.
Стоять на фланге эскадрона было неспокойно. Почти непрерывно мастеровые, разносчики и мальчишки пробирались к восставшим или обратно от них к Адмиралтейскому бульвару. Кто посмелее, проталкивался между лошадьми, другие лезли через гальку, осыпая ее под копыта коней. Подростки гоготали и свистели. Лошади шарахались, толкали соседних. Приходилось непрерывно держать их на тугом поводу, успокаивать.
— А пожалуй, первому дивизиону похуже нас приходится, — обернулся к вахмистру стоявший впереди его Лужин.
Иванов поглядел, куда смотрит корнет. По ту сторону площади, перед Сенатом, маячили конногвардейские каски — два эскадрона стояли там лицом к восставшим.
— А откуль на крышу дрова сдымают? — спросил подросток в латаном кафтане, пробиравшийся к площади рядом с конем Иванова.
— На сенатском дворе поленья складены, — отозвался другой, шедший сзади.
Иванов посмотрел на крышу Сената. Там приподнялся человек и метнул вниз что-то, верно, полено.
— Важно шваркнул! — одобрил первый подросток. — А за забором, где церкву строят, мужики собравшись. Чуть нового царя камнем не долбанули.
— Какой он царь? Константин наш царь ноне, — возразил второй. — Побегем, посмотрим самозванного, пока не пришибли.
Становилось холодно. С Васильевского острова дул резкий ветер. Мерзли ступни в стременах, не обернутых сукном, — в этом году еще не бывало морозов. Мерзли колени в суконных рейтузах, мерзли пальцы, державшие рукоять палаша. Все тело постепенно стыло в неподвижности.
Из-под ног нескольких подростков градом покатились камни. Подъехал ротмистр Пилар и спросил, что за шум, потом сказал что-то по-французски Лужину.
— Конечно, для атаки вовсе разгону нет, — отозвался тот по-русски. — Сколько тут сажень, господин ротмистр?
— Не больше полусотни, — сказал Пилар. — И притом начинается гололед, а мы на летних подковах… Но я надеюсь, что дело не к атаке идет, а чтобы окружить бунтовщиков, силу им показать. Вон наши эскадроны к мосту пошли, а Галерную пехота закрыла.
Иванов, поднявшись на стременах, опять посмотрел на ту сторону площади. Конногвардейские каски, теперь видные сбоку, двигались направо. «Хоть не будут их поленьями бить», — подумал он.
Вдруг закричали «ура», народ шарахнулся от каре восставших к Неве и на конногвардейцев. Со стороны Адмиралтейской площади к Московскому полку бежал строй солдат тоже с красными лацканами на мундирах, но с синими воротниками — лейб-гренадеры.
— Qui prendra le dessus[50] — сказал вполголоса Лужин.
Гренадеры быстро образовали новое каре вокруг московцев. Впереди, оттесняя толпу, рассыпались стрелки с ружьями «на руку».
— Еще меньше места стало для разгона, — сказал Лужин. — Теперь уж вовсе атаковать невозможно.
— Ne parle pas dans le front![51] — цыкнул Пилар, отъезжая к середине эскадрона.
— Слушаюсь, господин барон! — отозвался Лужин и совсем тихо обратился к Жученкову: — Гляди, вахмистр, кто жалует!
К каре мятежников медленно шли три священнослужителя в парчовых одеждах. Впереди два митрополита в сверкающих золотом и камнями митрах опирались на посохи. Сопровождавший их дьякон с непокрытой головой нес Евангелие в золоченом переплете. Стрелки, разомкнув цепь, пропустили их к каре. Один из митрополитов выступил вперед и заговорил. Второй только согласно кивал. Солдаты что-то отвечали. Потом сквозь строй к митрополиту вышел офицер, за ним протиснулся штатский барин, который вдруг замахал руками, закричал, криво разевая рот.
«Вильгельм Карлыч!»— про себя ахнул Иванов.
Да, это был Кюхельбекер в распахнутой шинели, в сбитой назад шляпе. А вот рядом с ним появился еще знакомый, адъютант Бестужев. Как всегда щеголем — шляпа с белым султаном, мундир туго перетянут серебряным поясом, белые рейтузы без складочки, сверкающие сапожки ниже колен.
Все по очереди говорили что-то митрополиту. Укоризненно покачав головой, он повернул обратно, за ним остальные.
Только отошли, как со стороны Галерной загрохотали барабаны, засвистели флейты. На площадь взвод за взводом, рота за ротой вступали солдаты в целиком черных мундирах и поворачивали к восставшим. Толпа встретила их радостными криками. Прокатилось «ура» московцев и лейб-гренадер. Пришедшие встали отдельно, не дойдя до прежнего строя.
«Гвардейский флотский экипаж, — узнал форму Иванов и подумал: — А к ним идут да идут… Ох, совсем колено зашлось!..»
— Конногвардейцы, вольно! — раздался басовый приказ командира дивизиона полковника Захаржевского. Сообразил, бывалый служака, что замерзли люди, дает погреться.
И сразу по строю пошел шорох, кряканье, начали растирать руки, колени. Выпрастывали ноги из стремян и шевелили подъемами, подсовывали снятую перчатку под кирасу у плеча, — от желез застывало предплечье у тех, кто в спешке не поддел овчинные безрукавки.
К Лужину подъехал штаб-ротмистр Бреверн — тоже, видимо, решил погреться движением.
— Что-то начальства у них не видать, — сказал он. — Всё обер-офицеры да штатские…
Иванов переложил рукоять палаша в левую руку, двигал пальцами правой и думал: «Верно. Где же полковники ихние да генералы, про которых Балашов старику болтал?»
— А вот и командир корпуса жалует, — сказал Бреверн.
На рослом рыжем коне к строю восставших подъехал генерал Воинов, которого кирасиры знали по смотрам и парадам. Осадив коня перед фронтом, он стал выкрикивать что-то, вскидывая правую руку в белой перчатке, как бы рубя ею воздух. Из каре кричали что-то в ответ, и снова вперед выступил тот молодой офицер, которого Иванов не видывал у князя, а за ним опять боком вылез Кюхельбекер, который, вдруг вытащив из-под шинели пистолет, стал целиться в генерала. Но офицер, положив руку на ствол, дернул его вниз, а командир корпуса крикнул что-то бранное и поскакал от каре.
С Невы дул холодный ветер, мел снежок по площади. Часы на церковных колокольнях отзвонили полдень. Толпа на бульваре за конногвардейцами все росла. Мальчишки шмыгали под самыми мордами лошадей, кривлялись, казали языки. Взрослые в полный голос сочувствовали восставшим. Пожилой мастеровой, подойдя вплотную к Иванову и подняв лицо с курчавой бородкой, спрашивал:
— Неужто своих рубить станешь?
Иванов молчал.
— За правду ведь пошли, — продолжал мастеровой. — Вам бы всем к им пристать, то и народ разом подымется. А с народом да с солдатами разве кто сладит?..
Иванов не знал, что отвечать, — ведь и он думал то же самое. Но тут, видно сочтя, что мастеровой обращался к нему, Жученков попятил коня на говорившего и, обернувшись в седле, рявкнул:
— Уйди, зуда! Разом полиции сдам! Ты наших делов не знаешь.
Вдруг где-то слева, на средине дивизиона, густой бас Захаржевского скомандовал:
— Кирасиры, смирно! Палаши к бою!
И, дав не более минуты на выполнение команды, другой, более высокий голос, уже самого генерала Орлова, выкрикнул:
— Укороти поводья! С места марш-марш!..
«На своих? — успел подумать Иванов. — Неужто стану рубить?..»
Строй рванулся вперед. Навстречу ударил залп. Пули засвистели над головами, лошади шарахались, ржали, вставали на дыбы. Другие скользили на подмерзшем снегу и переходили на шаг. Строй потерял равнение. Впереди отбегала к своим цепь стрелков… Через минуту, когда перед мордами передних коней оказались штыки московцев, раздался сигнал отбоя и команда:
— Стой! Кругом марш!
Конногвардейцы рысью отошли назад и построились в прежний порядок. На снегу бились два раненых коня и один лежал неподвижно. Кирасир распускал ему подпругу, хотя ясно было, что одному не вытащить седло с вальтрапом из-под тяжелой туши. Около Иванова, у камней, стоял спешенный кирасир Маслов, видно отбежавший от своей раненой лошади, чтобы не затоптали, и, растерянно оглядываясь, держался за щеку. Между пальцами текла кровь.
— По скуле чиряпнула, — сказал он, морщась.
— Палаши в ножны! Стоять вольно! Раненые — за фронт. Вахмистрам убрать коней с поля! — командовал Захаржевский.
«Неужто еще будем атаковать?.. — подумал Иванов. — Первый залп дали в воздух, а второй в нас пойдет. Да гололед еще…»
По последней команде Жученков попятил коня, чем заставил пятиться и унтера, и стал выезжать за фронт. Иванов увидел, что лицо у вахмистра, как всегда в строю, застылое, глаза из-под козырька каски смотрят строго и зорко. На миг скосился во фланг эскадрона, проверяя равнение второй шеренги.
Только Жученков протиснулся мимо и унтер занял свое место в строю, как рядом оказались три яростно бранившихся и толкавших друг друга горожанина. Двое в мещанских чуйках волокли на площадь красноносого барина в шинели и меховом картузе.
— Идем, идем, мы твое благородие сейчас уважим, — говорил бородач постарше, ухвативший врага сзади за воротник.
Второй простолюдин, молодой парень с русой бородкой, пятился задом, крепко держа барина за оба запястья.
— Пустите, мерзавцы! Как смеете?! Я будошникам велю вас обоих взять! — кричал барин, щеря желтые зубы.
— Вот за будошников, которы по твоему приказу нас летось отпороли, и сдадим в Московский полк. Пусть рассудят, что с тобой делать. Тащи, тащи, Колюха! — отвечал бородач и крепко поддал барину коленом под зад.
С первой минуты, как увидел красноносого, Иванов старался вспомнить, где его встречал. Этот слюнявый рот, большой нос, злобные зеленоватые глазки… Где? Когда?.. А ведь видел, близко видел.
— Господин офицер! Защитите! — закричал носатый обернувшемуся на крики корнету Лужину. — Я в полиции служу, за благонравием народа наблюдаю!..
— Не верьте, ваше благородие, — перебил его бородач постарше. — Он первый распутник и есть. Прошлый год к дочке моей на улице пристал, на квартиру свою силком тащил. А как мы с сыном ее отбили, то нас же будошники по ихнему приказу во как отпороли… Иди, иди, ворона, не упущу я тебя ноне! — Он снова еще крепче поддал коленом и толкнул барина в спину.
— Господин офицер, защитите! — снова визгнул блюститель благонравия уже к барону Пилару, подъехавшему на крики.
— Не имею приказа защищать полицейских без форменного платья, — холодно процедил ротмистр и отвернулся.
— Но меня ведут к бунтовщикам!.. Ох, пусти руки, свинья!
— Там разберут, кто свинья. Тащи, Колюха! — отвечал бородач.
Иванов проводил глазами эту группу до самого каре и потом, хотя все трое скрылись за шеренгой солдат, не мог уже оторвать глаз от восставших. За цепью стрелков он явственно различил высокого Кюхельбекера и рядом князя Одоевского в серой шинели с бобровым воротником, в шляпе с белым султаном.
«Здесь-таки! Не лег спать, переоделся — и сюда… Да не прятаться же, коли сотоварищи на площадь вышли, — думал Иванов. — Но чего они ждут? Начальника какого? Или еще полков на подмогу? И чего стрелять вверх, раз решили все перевернуть? Сейчас народ разом бы за них поднялся. А мы, что против них стоим, крепки ли новому царю?.. Может, не зря самозванцем его кличут…»
— Теперь великого князя послали уговаривать, — сказал Лужин продолжавшему стоять рядом Бреверну.
К каре моряков подъехали два всадника. Один, сутулый, в голубой ленте, великий князь Михаил, снял шляпу с рыжеватой головы и перекрестился: в чем-то клялся экипажу. А другой генерал, в красной ленте, побывавший уже здесь Воинов, стоял неподвижно, как истукан, и только пожимал плечами — то ль от холоду, то ль не верил, что великого князя послушают. Но вот что-то нестройно закричали моряки, потом два офицера вышли вперед и что-то сказали всадникам. И здесь опять оказался Кюхельбекер со своим пистолетом и на этот раз выстрелил, только уже сам вверх, будто хотел пугнуть великого князя. И правда, после выстрела оба всадника поскакали прочь.
— Ну, кажется, второй раз атаковать будем, — сказал Бреверн, смотревший влево. — Генерал снова на фланг выехал.
— Обидно от русской пули окочуриться, — хохотнул Лужин.
— Кому суждено — потонуть… Или как оно говорится? — отозвался Бреверн, отъезжая к средине эскадрона.
И тотчас донесся голос Орлова:
— Смирно! Палаши вон! К бою!..
Во второй атаке больше падало коней, гололед усилился, больше оказалось и раненых, стреляли уже в людей. Многих спасли только железные кирасы. Но когда трое кирасир заскакали в каре, гренадеры не прикололи их, как вполне могли, окружив со всех сторон, а хоть с руганью, а выпустили обратно.
Уже возвратившись на место, Иванов увидел, что впереди нет Панюты, и спросил вполголоса:
— Петр Гаврилыч, а Панюта где?
— Ранен. Под кирасу угодила, в брюхо, — отозвался Жученков.
«Эх, Панюта! Рассудительный, совестливый служака, — думал Иванов. — Вот где конец тебе пришел… «В брюхо угодила — на тот свет проводила»— не зрящая поговорка солдатская. И зачем атаковали, что толку?.. Ну и холод! Хоть бы скорей какой конец… Да чего же они-то ждут!..»
Время шло. Восставшие стояли без движения. Запирая им путь к мосту, выехала еще кавалерия — конно-пионерные эскадроны.
Опять разносчики шли к неподвижным каре с полными лотками, сновал туда и сюда праздный народ, протискиваясь между всадниками, опять по команде «вольно» конногвардейцы растирали закоченевшие руки, колени, плечи. Говорили, будто во всех четырех эскадронах, что атаковали, оказалось шесть раненых да в первом дивизионе от поленьев, брошенных с Сената, столько же калеченых.
Голод, усталость, нетерпение видел Иванов на лицах соседей и твердо знал, что рванись сейчас на них в штыки стоявшие на таком близком расстоянии пехотинцы, так и рассеялись бы все эскадроны. Но те стояли недвижно, тоже замерзшие и усталые. Переступали с ноги на ногу, били себя, прислонивши ружья к груди, руками крест-накрест, как извозчики.
Становилось все холодней. На колокольнях пробило три часа. И снова к строю восставших подскакал какой-то генерал. Он сразу закричал, явно бранясь и угрожая. Этого быстрей других спровадили улюлюканьем, выстрелами в воздух.
— Пушки выкатывают, — сказал Лужин и осадил коня вплотную к фронту эскадрона.
«Неужто по своим бить станут?»— усомнился Иванов. Огляделся: угрюмые, усталые лица. Не смотрят друг на друга, точно стыдятся.
Первый выстрел показался далеким и негромким. Будто картечь никого не задела. Но через минуту Иванов увидел, как с сенатской крыши упал человек, за ним еще двое — видно, ударили нарочно поверху для предупреждения. Второй заряд попал в самую гущу толпы, не уходившей с площади, и по строю гренадер. Картечь разом повалила человек тридцать и рассеяла народ. Мужчины, женщины, подростки бросились врассыпную — кто сквозь строй конногвардейцев, кто к Исаакиевскому мосту, обегая каре восставших.
«Да чего ж они-то стоят? — содрогаясь от волнения, спрашивал себя Иванов. — Тут до батареи добежать одним махом…»
Третий залп ударил в строй экипажа. Отчаянно закричало много голосов. Почти сразу грохнул четвертый выстрел. Моряки бросились в Галерную, а московцы и гренадеры — к мосту и к спуску на Неву. На снегу площади осталось множество тел, местами наваленных друг на друга. Некоторые кричали, шевелились, поднимались…
Три пушки, взятые на передки, рысью пересекли площадь, выехали на набережную. Четвертую подвезли к началу Галерной, и она сразу ударила вдоль улицы. Два выстрела один за другим дали по льду Невы, третий — вслед бегущим по мосту на Васильевский.
Иванов зажмурился. Все нынче как в страшном сне: ближние атаки на своих по гололедице, бессмысленное стояние тех, кто решили добиваться новой, справедливой жизни и даже не пытались за нее сразиться. И вот теперь стрельба по своим, кучи тел на снегу, средь которых, может, истекает кровью князь Александр Иванович, самый добрый и лучший из всех господ, которых знал…
Открыл глаза, осмотрелся. Впереди — неподвижная, словно железная или каменная спина Жученкова. Но и в ней почудилась Иванову растерянность. А видный чуть в профиль корнет Лужин, бледный как бумага, тянул зубами перчатку с правой руки, потом бросил повод и поспешно расстегивает крючки на воротнике колета.
— Второй дивизион, смирно! Справа по шести, левое плечо вперед, шагом ма-арш! — раскатился бас Захаржевского.
Выполняя приказ, Иванов — правофланговый в первой шестерке — лишь немного подался вперед и повернулся на месте лицом к мосту.
Стало видно, как, перебежав реку, выбираются на набережную Васильевского острова проворные фигурки в высоких киверах, с ружьями — московцы и гренадеры, уцелевшие на площади и на льду.
А 1-й дивизион Конного полка уже въезжал на мост. За ним пошли конно-пионеры, до того стоявшие при въезде на мост со стороны Сенатской набережной. Все именно шли, очень медленно переступая, оттого что гололед усиливался. Поминутно то одна, то другая лошадь падала, многие всадники, спешась, вели коней под уздцы.
Наконец, и 2-й дивизион тронулся к мосту. Когда ехали мимо убитых, Иванов искал глазами своего князя. Нет, слава богу, не видно светло-серой шинели на всей площади. А вот двое малость знакомых лежат рядом — долгоносый барин и бородач в поддевке. Оба убиты в голову, видать по лужам крови. Молодого парня нет рядом. Хоть он уцелел авось. А у барина из-под шинели виден борт фрака с иностранным орденком… Ах! Вот он кто таков! Так поделом же пакостнику… Иванов вспомнил дождливый вечер и то, как в подворотне оборонял Анюту от приставаний этого носатого, слюнявого… Вот где его пристигло за все грехи! Но и бородача за собой потащил…
Так же скользя, падая, спешиваясь, как 1-й дивизион и конно-пионеры, перешли мост по обледенелым доскам и остановились, повернувшись к Академии художеств, в сторону которой побелсали многие пехотинцы. Здесь, на булыжной мостовой, всадники чувствовали себя уверенней, но пока оставались только зрителями. Набережная уходила к взморью выступами, как нарочно созданная, чтобы видеть вдаль. Некоторые пехотинцы заворачивали на линии, другие пытались укрыться в воротах домов и, найдя их запертыми, бросали ружья и сдавались кирасирам 1-го дивизиона.
Здесь простояли с час, пока сгоняли пленных, собрав человек до трехсот. Потом за ними потянулись обратно через мост и встали там, где мерзли днем. Стемнело. На площади горели костры. Трупы и раненых уже убрали. На дровнях привозили откуда-то чистый снег, и полицейские засыпали им кровавые пятна.
По пол-эскадрона уезжали в полк обедать и насыпать в торбы овса лошадям. Возвратясь, спешась, грелись у костров и курили. Ходили за забор стройки смотреть покойников, которых туда, оказалось, стащила полиция. Приходили люди с фонарями, искали своих, уносили домой. Иванов тоже пошел. Рядами, у стены какого-то сарая, лежало до сотни покойников. Ни Одоевского, ни Кюхельбекера, ни Бестужева, слава богу, не нашел. А носатого барина снова увидел. Только уж без орденка на фраке и без мехового картуза — полицейские, знать, обобрали. Видал рядом с ним молодую женщину в бархатной шубке, смерзшейся коробом от крови; высоченного унтера Московского полка, у которого нафабренные усы и баки резко выступали на восковом лице. Как раз его искавшие своих покойников осветили в то время фонарями.
Проезжавшие казачьи разъезды сказывали, что на Дворцовой площади стоят у костров преображенцы при боевой форме, на всех перекрестках расставлены пикеты. С Петровской площади видны были костры на острове и солдаты около них. Как в завоеванном городе…
Конногвардейцы видели под утро, как возили на Неву на дровнях неопознанные трупы, чтобы спихнуть их в проруби. Видно, начальство приказало скрыть к утру все следы вчерашнего.
Простояли на площади до шести часов, когда привезли приказ идти по казармам. Пока кое-как убрали коней, задали корму и наконец-то разоблачились от кирас и касок, от палашей и тесных колетов, стало светать. Как в праздник, в восемь часов роздали кашу с мясом и хлеб. Но ели нехотя, молча, как после панихиды, и, выкуривши трубку, ложились по своим местам на нарах.
— Зайди, Иваныч, — высунулся из своей двери Жученков.
С плошкой каши унтер вошел в его каморку. Вахмистр разлил водку из штофа, подвинул другу стаканчик:
— Погрейся-ка! — И совсем тихо: — Корнета нашего видел?
— Как же. Вот беда-то! — отозвался Иванов.
Выпили, закусили хлебом с луком. Иванов подсел к Жученкову на топчан.
— Да, хвалилась синица море спалить, — громко крякнул Жученков. — Тут и князей не помилуют… — И снова шепотом: — Говорят, и Ринкевич наш тоже. Не было б барону за то от начальства. А ты, гляди, ни гугу про свои чувствия… Стань-кось к печке, погрей спину.
Когда вышел от вахмистра, многие кирасиры уже храпели, другие вполголоса переговаривались.
— А чего ж они, господин унтер-офицер, ждали? — сунулся к Иванову молодой кирасир Федорец, спавший с ним рядом.
— Нишкни, голова садовая! — цыкнул на него сосед с другой стороны, старослужащий Ивков.
— Верно, что садовая, — согласился Иванов, ложась на свой войлочек и подмащивая поудобней подушку.
«Хоть бы скорей заснуть! — думал он, поджимая под себя все еще не согретые ноги и зажмуриваясь. — Но куда! Сутки глаз не смыкал, а сна нисколько… И верно, чего они ждали? Как у мальчишек все: солдат, народу сколько загубили, и самих, как рыбу в садке, голыми руками возьмут… А Панюта, поди, помирает… Генерал-то губернатор, сказывают, ночью помер… Первого дивизиона командиру и одному кирасиру лекаря руки, поленьями разбитые, до плеча отхватили… Ох, завтра надобно на Исаакиевскую сходить… Верно Жученков сказал: тут и князей не помилуют…»
16
Пятнадцатого декабря было приказано никому не отлучаться из казарм. В 1-м дивизионе лошади стояли оседланные, люди не снимали колетов и палашей. Чего боялись, бог весть, — в городе было тихо. Полкам развезли щедрую дачу: всем нижним чинам, что были 14-го в строю, по две чарки водки и по два фунта рыбы — шел рождественский пост. Водке обрадовались после вчерашнего стояния на морозе. Рыба оказалась солона не в меру — еще надо вымачивать.
Когда стемнело, Иванов решил добежать до Исаакиевской площади. Боялся, что Никита будет упрекать, зачем отговорил донести начальству. Но старик только и сказал горестно:
— Прозевали мы с тобой князя своего.
Иванов молчал. Ждал, что скажет дальше, и Никита спросил:
— Ну, рубил ты своих?..
— Слава богу, не довелось, Никита Петрович.
— А князя видел средь их?
— Будто что издали. Как вы его дома-то не сдержали?
Никита ничего не ответил, только махнул рукой и ушел в свою комнатку. Курицын, вышедший на их разговор с пыльной тряпкой в руке, поманил Иванова в княжеский кабинет.
— Заходили домой с площади? — спросил унтер.
— Не заходили и не знаем, жив ли, — зашептал Курицын. — Вчерась только стрельба кончилась, мы с Никитой Петровичем сряду на площадь побегли их искать. Всех покойников переглядели. Ох, Иваныч, век не забуду! И девица и старичок. Кормилица с младенцем — оба убитые. И флейтщиков, мальчишек с экипажу, бедных двое…
— А Вильгельм Карлыч где? — осведомился Иванов.
— Тот забегал, все барское скинул, переоделся в Семенову одёжу, да оба и навострились. Только ты никому…
Прошлую ночь Иванов, сморенный усталостью, все-таки скоро заснул, а в эту больше часу не мог глаз сомкнуть. Два раза вставал и выходил на лестницу подышать морозом. Надеялся, что прозябнет и потом, согревшись, заснет, — средство испытанное. Но нет, сон бежал от глаз. Думал, где скитаются Александр Иванович и Кюхельбекер со своим Семеном, да об арестованных сотнях солдат. И тех не помилуют за неповиновение новому царю. Хотя, говорят, графа Милорадовича и других генералов да полковников переранили все офицеры да статские господа. От солдатских пуль одни солдаты и полегли… Надо завтра к Панюте в лазарет полковой сходить… Известно теперь, что с их полка на месте убит один кирасир и ранено восемь. А всего-то, поди, несколько сот человек побито и переранено. И все вовсе без толку… Да уж, сплоховали господа офицеры без начальника настоящего. Хоть бы раз в штыки ударили на царя со штабом, не дожидая артиллерии. Или крикни солдатам всех полков да народу, что крепостных больше не станет, что солдатскую службу убавят, — и-их, что б тут было! А то все про Константина. Велика ль разница — что он, что Николай!.. И ведь люди какие добрые, душевные, как князь или хоть Вильгельм Карлыч. Теперь, как поймают, что им ждать? Самое малое — тюрьмы не миновать… А солдатам да мужикам, видно, маяться по-старому, до века… Вот и выходит: забудь начисто, унтер, что за господами следом возмечтал, и берись снова за щетки свои, выгоняй гривенники да рубли. Носи их Андрею Андреевичу да молись за барона, чтоб при нем служить подольше довелось.
Перед обедом 16 декабря, когда бежали из канцелярии, его остановил штаб-ротмистр Бреверн, спросивший негромко:
— Был ли на Исаакиевской?
— Так точно, ваше высокоблагородие.
— Что там про князя сказали?
— Ничего не знают, как ушел на площадь, то боле не бывал.
— А в городе толкуют, что его дядя родной во дворец привез. Князь к нему будто зашел, спрятать на сутки просил, а тот испугался и выдал, подлец. Не знаешь, есть у него тут дядя?
— Будто что тетка есть и муж у ей сановитый, ваше высокоблагородие, — ответил Иванов.
Когда в три часа вернулся со взводом с учения, Жученков кликнул к себе.
— Был нонче в лазарете. Плох наш Панюта, — сказал вахмистр насупясь. — Меня не признал, и гостинцы, что ему купил, обратно принес. Случись же, что под кирасу пуля угодила!.. Надо нам все кирасы проверить, вмятины у кого есть, в кузницу дать выправить.
— А много ль, Петр Гаврилыч, там раненых лежит?
— С нашего полка девять да в отдельном покое гренадеров еще пятеро. У двери часовой, будто убечь могут.
— Жалко Панюту, — сказал Иванов.
— Как не жалко. В отставку сбирался. Год служить оставалось…
Вечером того же дня один из кирасир сказал Иванову:
— Господин унтер, тебя у лестницы старик какой-то дожидает.
— Чего ж сюда не идет? — спросил Иванов.
— На ступеньках посклизнуться боится.
Внизу на дворе стоял старый лакей Жандра.
— Барыня тебе, кавалер, зайтить велела, — сказал он.
— Какая барыня? — удивился Иванов.
— У нас одна барыня в дому, Варвара Семеновна, — наставительно ответил старик.
— А барин где же? — забеспокоился унтер.
— Вот явишься к Варваре Семеновне, то и узнаешь.
Через полчаса Иванов вошел в знакомую прихожую и был проведен в комнату, в которой раньше не бывал. В кресле перед овальным столом сидела пожилая дама в теплом домашнем капоте.
— Здравию желаю, сударыня, — вытянулся у порога Иванов.
— Здравствуй, любезный, — ответила барыня и внимательно посмотрела на унтера. — Ступай, Кузьма, — отослала она лакея. И когда ушел, сказала: — Вчерась Андрея Андреевича под караул взяли. Вот я его бумаги, как наказывал, сюда перенесла. — Она указала на лежавшие на столе пакеты и конверты. — Хотя я на бога уповаю, что невинному погибнуть не даст, однако хочу деньги тебе возвратить.
— Воля ваша, сударыня.
— Так лучше покудова. Возьми да сочти. Счет знаешь?
— Знаю, но зачем то делать?
— Ну, как хочешь. И ступай, братец, у меня дел довольно.
— Счастливо оставаться, — сказал Иванов и, взяв конверт, засунул его за пазуху.
— Ты, кажись, при князе Александре Ивановиче дядькой состоял? — спросила барыня.
— Так точно.
— Тогда не поверишь, как про него хулу услышишь. Помни, что для себя ничего не искал, все для вас, для простого сословия.
— Их вот как знаю-с, — подтвердил унтер и вышел.
«Неужто и Андрей Андреевич заодно был? От него разу вольного слова не слыхивали, — думал Иванов, идучи в полк. — Хорошо, Александра Сергеевича тут не случилось, а то бы и его потянули. А насчет князя верно сказала. Да не один таков: Вильгельм Карлыч хоть шалый барин, а без всякой корысти, и все ихние друзья… Но куда ж я-то с деньгами теперь?.. Опять к Жученкову в каморку? Все под замком верней, чем на брюхе».
С самого 15 декабря чинам Конного полка пошли награды за верную службу в первый день царствования нового государя. Генерал Орлов получил графский титул, два полковника назначены флигель-адъютантами, все командиры дивизионов и эскадронов награждены орденами, а нижним чинам повышено жалованье. Правда, большинство рядовых получили всего рублевую прибавку в треть, но двести кирасир «беспорочной службы и хорошего поведения» стали получать вместо семи рублей почти двадцать в треть, все унтер-офицеры вместо двадцати — двадцать шесть с полтиной, а вахмистры вместо тридцати одного рубля — все сорок.
Прибавка, конечно, порадовала Иванова — все равно, что десяток щеток лишних в месяц сделал. А если вахмистром произведут, так сорок рублей в треть — почти что в шесть раз больше против недавних-то ефрейторских семи рублей тридцати копеек…
Но что все такие расчеты перед всечасной тревогой о судьбе князя Александра Ивановича, который стал ему словно родной? За пять лет от него только доброту да заботу видел. В доме его ел и спал, как нигде за всю жизнь. И после отставки надеялся ему служить… А теперь еще кого-то в эскадрон назначат? Во всех не меньше пяти офицеров положено, а у нас, как заарестовали Одоевского и Ринкевича, осталось трое. Правда, в первом дивизионе тоже убыль — два брата Плещеевых, поручик и корнет, да еще князь Голицын. Всего из Конной гвардии пять офицеров. А в других полках, говорят, много больше взято, особенно в Кавалергардском. И все новых арестантов везут из Москвы, из Варшавы, с юга. От солдат пешей гвардии, которые несут караулы в крепости, известно, что там все казематы заняты, да на гауптвахте при Главном штабе сидят еще десятки, а нижних чинов-мятежников, которых захватили на площадях и улицах, всех до суда разослали по финляндским крепостям. Тех же, что поспели добраться до казарм, будто скоро пошлют на Кавказ воевать с черкесами, значит, под пули или на тамошнюю лихорадку.
За день до рождества вахмистр спросил Иванова:
— Ты на Исаакиевскую ходишь ли?
— Нонче туда собираюсь.
— Ступай лучше, как стемнеет. У нас, смекаю, соглядатаев довольно, чуть что — лыко в строку поставят, — сказал Жученков.
Всю прошедшую неделю Иванову хотелось узнать, нет ли утешительных известий, — ведь князь только на площади побывал, не стрелял ни в кого, не командовал… Но теперь, идучи на Исаакиевскую, снова побаивался, что ежели старый князь уже прискакал из Москвы да Никита рассказал ему, как хотел идти по начальству, а он, Иванов, отговорил, то не разгневался бы…
Но опасения оказались напрасными. Никита встретил унтера выбритый, приодетый, явно ободрившийся против прошлого раза.
— Какие вести, Никита Петрович? — спросил Иванов.
— Вестей нету, раз в крепость посажены, — рассудительно сказал старик. — А князь Иван Сергеевич приехали и хлопочут по сильным людям. Вот и сейчас у военного министра графа Татищева в гостях. У нас знакомых никак сто господ самых сановитых. Вызволят, поди, из беды дружкова сынка. Все князья Одоевские от Рюрика идут, не то что Бестужевы безродные, никак пять братьев, которым терять нечего, аль голоштанники Кюхельмакери, — Никита скривился и передразнил, как Вильгельм Карлыч махал руками.
— А про него что слыхали? — полюбопытствовал унтер.
— Сбег с Семеном своим, мужиками обернувшись. А друзья-товарищи, с кем кричал бог знает что да у кого квартировал, за него и расчерпывайся. И оченно просто за границу сбегёт. Не то что наш князь — непропека, дитятко, дальше Петербурга уйтить не сумел, к тетеньке заявился! Уж лучше прямо бы во дворец да государю в ноги. Повинную голову, сказано, и меч не сечет… А он замест того к Жандру забег, в одежу его переоделся, шубу с шапкой взял, денег призанял. Тут бы Андрею Андреевичу его и вразумить, чтоб с повинной шел… За то и его, голубчика, неделю под арестом проморили. И всегда тощий был, а ноне вовсе вроде кота бездомного…
— Где же ты видел его, Никита Петрович? — воскликнул Иванов.
— Тут и видел. Вчерась ввечеру Ивану Сергеевичу доложиться приходил, и вещи наши человек его принес, что князь там оставил.
— Выпустили, значит, Андрей Андреевича?
— Так я ж тебе толкую, что восемь ден продержали. Ему и князь Иван Сергеевич выговаривали: «Зачем, говорит, сыну моему потворствовали, одежу, деньги ему давали?» — «Виноват», говорит… Нам-то уж давно из крепости все евоно выдали взамен на сюртук форменный и халат теплый, да не знали мы, откуль взято. А шинель, что у Жандра бросил, вся где-то изглаздана…
«Соваться ли к Андрею Андреевичу? — думал Иванов, выйдя на улицу. — До меня ли ему сейчас?.. Нет, сходить надобно, поздравить, что вышел из-под караула, да, может, про Алексадра Иваныча что скажет. Никита одну чепуху несет… Неужто же все братья Бестужевы заарестованы? Вот матушке ихней горе!..»
Назавтра, в сочельник, когда свободных от наряда кирасир отпустили в город, унтер отправился на квартиру к Жандру.
Что выдумал Никита? Андрей Андреевич вышел в переднюю точно такой, как был раньше. На приветствие Иванова ответил:
— И тебя, братец, рад видеть. Тоже наслышаны, что из вашего полка кой-кого недосчитались. Но от Варвары Семеновны узнал, что тебя призывала, и успокоился. Да пойдем ко мне, так говорить сподручней.
В кабинете Иванов пересказал надежды Никиты на хлопоты старого князя.
— Блажен, кто верует, — покачал головой Жандр. — Но навряд легко выберется Александр Иванович. В самую гущу затесался, пистолет Кюхелю дал да еще сам, сказывают, сознался, что полгода в обществе тайном состоял и планы строил, как после бунта что устраивать. Одним раскаянием такого не покроешь.
— Как вас-то отпустили, Андрей Андреевич?
— Как? Да, на мое счастье, никто из господ сих мне ничего не говорил и планов ихних я вовсе не знал. Слышал иногда обрывки болтовни, но думал, что тешатся мечтами поручики. Может, поживи здесь дольше Грибоедов, так мы бы среди них оба запутались. И после его отъезда меня еще на новую должность назначили, которая много времени берет… Однако сказать надобно, что и повезло: четырнадцатого числа поздно, как раз когда князь сюда прибежал, я сам к нему пошел, узнать, все ли благополучно. Разошлись, одним словом. А Варвара Семеновна, которая в нем души не чает, сразу мою одежду дала и деньги, сколько у нас было, — семьсот рублей… Ну, на следствии его, понятно, спросили: «Чьи вещи на вас?» — «Чиновника Жандра». — «Так давай его сюда»… А я уж знал, конечно, что тут без меня случилось, и всю правду рассказываю, иначе непонятно было бы, зачем в тот вечер к ним ходил… Меня стращали, стыдили — зачем с такими людьми дружил. К Варваре Семеновне чиновника присылали допрос сымать, у Кузьмы про мое отсутствие спрашивали.
И все сошлось. На одно все напирали: знал ли про замысел? Нет, не знал. Вот и отпустили пока. А Варвару Семеновну под арест не потащили. Что с дамы взять?.. Ну ладно, довольно про это. А как ты с деньгами своими? Держишь теперь где?
— У вахмистра. Где украли прошлый раз.
— Если хочешь, то неси опять. Я шкатулку велел к Варваре Семеновне перенесть. — Жандр указал на опустевший подоконник. — Не ровен час снова потребуют, да так легко не отделаюсь…
— Если дозволите, я нонче же принесу.
— Неси.
— А дозвольте, Андрей Андреевич, еще спросить.
— Спрашивай.
— Зачем господа, что нонче арестованные, столько солдат на площадь собравши, все стояли? Чего дожидались? И еще: за что тех строго судить, которые не сделали ничего, как, к примеру, князь. Которые губернатора или командира гренадеров убили, тех понятно…
— Судить их, Иваныч, за то будут, что хотели царя свергнуть, новое правительство учредить, которое мужиков от помещиков освободило бы, солдатам службу поубавило и военные поселения уничтожило. А которые в тот день графа Милорадовича и полковника Сюрлера или генералов Шеншина и Фридрихса ранили, — те, понятно, особо ответят.
— А сумели бы они то сделать? Насчет мужиков то есть… — спросил Иванов. — Дело по всей России не малое.
Жандр помолчал, задумчиво уставясь в темное окно. Потом перевел глаза на унтера:
— Глядя по тому дню, когда на площадь вышли, полагать приходится, что ничего не сумели бы… Мало их, молодые, нерешительные оказались. Верно, слышал, что в самый Зимний дворец лейб-гренадеры забежали, да захватить его не подумали. А до того через крепость шли и опять не остановились, хотя, ее занявши, всем городом командовать могли. А моряки без патронов на площадь вышли и пушки свои не подумали взять. Только и сумели, что мерзнуть без толку восемь часов. А ответят вот как строго и за то еще, что страху молодому государю нагнали в самый день присяги…
— Сколько же их, господ-то, всего заарестовано? — спросил унтер.
— Много, больше ста человек. Ведь и в других городах ихнего общества участники находились. И везде только говорили да говорили, а как дело дошло, то вот как обернулось… — Жандр помолчал и закончил: — А теперь тебе, братец, посоветую: поменьше про то думать и вовсе ни с кем не толковать. В беду попавшим не поможешь, а себя очень просто погубить.
— Толковать не стану, а как же не думать? — сказал Иванов.
— Ладно. Думай, да молчи. Понял? И разговор наш забудь, как не было его вовсе.
— Так точно, Андрей Андреевич, забыл…
Да, не думать постоянно об Одоевском, Кюхельбекере, Бестужевых и Рылееве, об их товарищах Иванов никак не мог. Как же в других странах добивались, чтоб не было крепостных? А у нас вот все как худо обернулось. Хотя, будь господа посмелей… За то, что Конная гвардия в тот день хорошо служила, генерал Орлов графом стал и оклад им повысили. А что сделали? Два раза почти что шагом в атаку ходили. И загляни-ка в душу тем кирасирам, у которых она, душа-то, есть, или совесть, что ли, — за кого они были? Ежели, конечно, разъяснили бы толком, чего хотели господа, которые нонче в крепости сидят…
Служба шла своим чередом — учения, смотры, караулы, наряды, уборка коней, езда, выводка, чистка оружия и амуниции, все как всегда. В новый, 1826 год произвели в полковники трех ротмистров Конной гвардии, в том числе барона Пилара. Жученков и Иванов встревожились — не ушел бы на полк в армию. Но Бреверн их успокоил, что барон пока не собирается просить доходного места, хочет с ними служить. В конце января назначили в эскадрон нового субалтерна — корнета барона Фелькерзама. Ничего, тихий немец, не крикун, не драчун. Из четырех офицеров один Лужин остался русак. Да уж, видно, полк такой — немцев среди офицеров всегда половина. Как рассказывают, еще цесаревич Константин немцев русским предпочитал — куда исполнительней и аккуратней. Да и то сказать, предпочтение оправдалось: среди заговорщиков — много ль немцев?
До кирасир любые новости доходили городскими слухами или отрывками офицерских разговоров. А до Иванова — еще от Андрея Андреевича. К нему забегал теперь хоть раз в неделю в надежде услышать что-нибудь про своего князя. На Исаакиевскую тоже ходил, но там жили только ожиданием — старый князь уехал в Москву, как объяснял Никита, за деньгами на подарки нужным лицам.
Об Одоевском Жандр не знал ничего нового. Идут допросы, везут все новых арестованных. В другой раз рассказал, что на юге также случилось восстание. Поднялся один пехотный полк и пошел было на Киев в надежде, чем к нему пристанут другие, в которых служили заговорщики. Но никто не исполнил обещаний, и тут же восставших разгромила посланная правительством конница с артиллерией. Арестованных там офицеров тоже привезли в Петропавловскую крепость, а солдат будут судить на месте.
Потом тот же Андрей Андреевич рассказал, что Кюхельбекера схватили-таки в Варшаве на улице и доставили сюда. Взяли и Семена Балашова. Вот куда добрались! А теперь что будет? Вильгельму Карлычу обязательно припомнят, что в начальников пистолетом целился. И на язык у него удержу нету. Как бы сам на себя не наговорил.
А еще через недели две, в середине февраля, Жандр сказал унтеру, что с Кавказа привезли Грибоедова. Правда, пока сидит при Главном штабе. Там куда вольготней — всем носят обеды и ужины из ресторации, а книги да бумагу Александру Сергеевичу приятели посылают. Только бы в крепость не перевели…
От таких новостей на душе у Иванова становилось вовсе темно. Легко ли знать, что столько хороших господ в крепости маются? Вспомнить хоть, как Вильгельм Карлыч со Степаном говорил, — чисто как с братом. Или князь Александр Иваныч с ним самим — «тезка», иного имени с первого дня не бывало. Такие господа в тюрьмах, а живодеры, как барон Вейсман, в чести. Слышно, в генералы произведен, а в полку, которым командовал, могилы солдат, им забитых, целый погост обозначили…
В начале марта привезли из Таганрога тело покойного государя. Три месяца тащили на огромном катафалке, в который впрягали по двенадцать сильных коней. В ветреный и серый день гвардию расставили шпалерами от Московской заставы до Казанского собора. Конногвардейцы дрогли четыре часа на Садовой, у Сенной. На другой день водили кланяться закрытому гробу. Потом стояли на Цырицыном лугу, и мимо них тянулось два часа траурное шествие. Слышали пальбу салюта с крепости.
Похоронили Александра Павловича и начали готовиться к походу в Москву на коронацию Николая. Шли не все гвардейские полки — где столько разместить? От конной гвардии — только 1-й дивизион, который выступил 30 марта. Оставшиеся радовались — месяц ползти по весенней распутице не велико счастье. И все лето, до конца августа, когда назначена коронация, — парады, разводы, смотры, караулы на глазах у царя и великого князя. Езда с герольдами по улицам, сопровождение царицыной кареты — все в парадной форме, от которой летом, случалось, обмирали самые сильные. И наградных рублей не захочешь…
Все от того же Жандра Иванов знал, что в крепости продолжают скрипеть перья чиновников, что следователи — генералы Левашев, Бенкендорф, Чернышев — все господа бессовестные, требуют от подсудимых сознания злоумышлений, плетут паутину, чтобы приговорить к каторге, а то и пострашней. Готовится суд из ста архиереев и генералов, военных и статских, самых важных, которые что государь велит, то и подпишут.
А в эскадроне служба шла своим чередом — появился еще один поручик, барон Рейхель, так что теперь стало уже три барона из четырех немцев. Шутник Лужин сказал как-то Жученкову:
— Давай, вахмистр, в лютеранство перейдем и фамилии свои сменим на немецкий манер. Я стану фон Пфютце, а ты Кеферман.
Новыми офицерами порядки, заведенные Пиларом, в эскадроне соблюдались строго, так что Жученков не раз говаривал:
— Хоть в отставку не ходи. Какой купец из меня, того никто не знает, а с бароном нашим служить вот как можно.
— Так и не ходите, Петр Гаврилыч, — ответил как-то Иванов.
— Нет, братец, раз жениться решил, то надобно уйтить. Какая ж семейность, когда баба там, а я тут? Сейчас у ней по субботам остаюсь, только знаючи, что ты здесь над щетками гнешься и за всем присмотришь.
— Так же и впредь будет, — заверил Иванов.
— Да тебя-то в любой день начальство вахмистром произвесть может в другой эскадрон, — возразил Жученков. — Ты у барона истинно на примете. Выпросит у него любой эскадронный, у кого вахмистр в отставку пойдет, что я тогда делать стану?
— А вы барону доложите, что я на то место никак не годен.
— Говорил не раз, что без тебя пропаду, как все за меня пишешь, и что характера начальственного в тебе нет нисколько. А он смеется: «Станет вахмистром, так и строгость сыщется». Еще про щетки твои спрашивал: «Неужто, говорит, не подгуляет никогда? На что деньги копит? Зазноба у него, что ли, которой доход относит?» Не верит, что я не знаю за все годы… Так уж скажи по совести, неужто баба тебе ни одна не приглядывалась?
— Приглядывались до сих пор две девицы да одна замужняя, — ответил Иванов. — И все не для меня оказались.
— Померли, видно? Аль замуж выдавали за кого другого?
— Две померли, а при третьей барин богатый неотлучно, и сама образованная, на чужих языках поет. Видел ее всего три раза, а вот годами забыть не могу, будто солнце на меня глянуло.
— Что ж, что барин при ей? — возразил Жученков. — Немало случаев, что солдат барина в таких делах пересиливал… Да неужто же всего и было?.. Чудно, ей-богу! Уж на усах да в чубе седину видать, а он все как отрок Иосиф. Гляди, сивый станешь, так и разгоришься, а бабы забракуют.
Оставшись один, Иванов немало подивился своему ответу: с чего приплел сюда Дарью Михайловну? Видел ее восемь лет назад, и все мельком. Но, должно быть, особенная она барыня, которую по доброте, по совестливости и по голосу удивительному никак не забудешь. Правильно тогда Красовский сказал, что на статую какую-то прекрасную схожа. Никак с Дашенькой и Анютой покойными ее в ряд ставить нельзя. С теми, знает, кабы судьба задалась, так душа в душу до смерти жили бы. А об Дарье Михайловне вспоминает, как о светлом луче каком-то, о пении ее ангельском, которое в самую душу входило… Словом, нонче как-то зря сболтнул…
Подбривая баки по утрам, Иванов едва взглядывал в маленькое зеркальце, висевшее на столбе около его нар. Но через день после этого разговора, бреясь по-воскресному со шнурочком во рту, завязанным на затылке для ровной линии бакенбард, заглянул внимательно в зеркало размером побольше, что висело в каморке вахмистра. И правда, на висках и в усах будто кто соли подсыпал. Не зря, видно, тридцать шестой год катит.
«Барон и вахмистр удивляются, откуда берется охота к работе, — думал Иванов. — Было время, когда ленился. Уходил в праздники на Торговую, потом на Исаакиевскую, к добрым людям, где часами по дому помогал чем мог, ел до отвалу да спал на теплой лежанке, вроде кота ленивого. Или еще летом слушал рассуждения господ про вольность, которую дадут всем крестьянам и дворовым… Слушал да еще надеялся, дурак!.. А нынче куда в праздник пойдешь? На чем душу отвесть? На мыслях про тех, кого в крепости мучают? Вот и нет другого пути, чтобы себя занять, как одни щетки. Не потянулся к стаканчику, когда от Вейсмана тошнехонько приходилось, так уж теперь в кабак не дорога. Ремесло — одна подпора надежная, один способ, чтоб дни солдатские скорей проходили… Пусть дивятся да считают, что скупой, на торговлю копит, а я буду надеяться, что, может, когда-нибудь удастся задуманное…»
Однажды в марте, когда в воскресный вечер занес Жандру заработанные за три недели десять рублей, Андрей Андреевич спросил, не может ли дождаться знакомого барина, который хочет дать заказ на щетки. Унтер сказал, что до девяти свободен. Хозяин отвел его на кухню, велел накормить, напоить сбитнем. А через полчаса заглянул в двери и поманил пальцем. Следом за ним Иванов подошел к двери гостиной и обомлел: у рояля, освещенный двумя свечами, уставлял ноты на подставку Грибоедов. Услышав солдатскую поступь, обернулся и пошел навстречу. Обнял и поцеловал Иванова.
— Ослобонили вас, Александр Сергеевич? — обрадовался унтер.
— Не совсем, братец, а только отпускают иногда к Андрею Андреевичу душу отвесть, чаю выпить и на рояле поиграть.
— Видно, за вами больших грехов не числят.
— Похоже на то, — кивнул Грибоедов. — Хотя радоваться еще погожу. — Он вынул из кармана и надел на палец золотой футлярчик.
— А про Александра Ивановича чего не слыхали?
— Ах, не веселое ему сулят. Уж так жалею, что не при мне все случилось, я бы его хоть силком удержал, — сказал Грибоедов.
— А я-то боялся, как бы сами к ним не пристали, — откровенно сказал Иванов.
Грибоедов глянул ему в глаза, потом, усмехнувшись, посмотрел на Жандра и, садясь за рояль, ответил:
— Могло и так случиться, тезка…
Еще раз видел унтер Александра Сергеевича также в воскресный вечер, а потом Жандр сказал, что его друга освободили, наградили чином, годовым жалованьем и отправили обратно на Кавказ.
В конце мая вышли под Стрельну «на траву». Полковник Пилар уехал в отпуск в Ревель. За него эскадроном командовал Бреверн. Иванов старался все свободные часы занять работой — уж больно многое здесь напоминало счастливые воскресенья прошлых лет.
В июле огласился приговор верховного суда, заседавшего в крепости. Иванов услышал о нем, придя с докладом к штаб-ротмистру Бреверну, в избе которого сидел поручик Лужин, — его произвели в следующий чин к пасхе. Денщик сказал, что офицеры заняты, и унтер присел на завалинку под окошками.
— Хорошо смягчил приговор — пятерых повесить да сто человек в Сибирь! — услышал он громкий голос Лужина.
— Знаю, — отозвался Бреверн. — Но сначала говорили, что чуть не тридцать человек казнят… Да ты не кричи, сделай милость.
Когда поручик ушел, унтер стал докладывать суточный наряд и о том, что две лошади захворали мокрецом и надо их отвести в ветеринарный лазарет. Когда доклад был окончен, Иванов, не выдержав, спросил вполголоса:
— Ваше высокоблагородие, дозвольте узнать, князю Александру Ивановичу что присудили?
— В сибирскую каторгу на пятнадцать лет, — сказал Бреверн так же негромко. — И послушай моего совета, Иванов: больше никого про то не спрашивай. Понял?
— Понял, ваше высокоблагородие. Покорнейше благодарю…
Через два дня дивизион потребовали в Петербург, и в тот же вечер Иванов пошел на Мойку. Жандр был бледен и нахмурен. На вопрос Иванова ответил:
— Все верно. Послезавтра будут на заре их казнить. То есть Александру-то Ивановичу только над головой шпагу сломают, что значит — дворянского звания лишили, да мундир с эполетами на костре сожгут, как и всех тех, кого в каторгу осудили на любые сроки.
— А Вильгельма Карлыча?
— И его тоже.
— А господ Бестужевых? Там, сказывали, братьев сколько-то…
— Трех в Сибирь, а четвертого в солдаты.
— А корнета Ринкевича?
— Кажись, в дальний гарнизон прапорщиком отсылают.
— А господина Рылеева?
— Его смертью казнят… Повесят…
Иванов перекрестился.
— Дочка у них, жена молодая, — сказал он. — Как в Стрельну к нам приезжали, то обратно в город к семье торопились…
— Вот и на площади не был, и оружия в руках не держал, — сказал Жандр, — а за вольные мысли одни…
Унтер шел в полк по светлой, несмотря на поздний час, улице и думал про Рылеева: «Неужто повесят? Или помилованье царь пришлет перед казнью? Говорят, так бывает… Кажись, девочку Настенькой звать… Как он тогда читал! Про себя будто пророчил».
Тринадцатого июля, в день исполнения приговора, Конный полк не был в городском карауле, но с рассвета дивизион стоял в боевой форме, при оседланных конях, готовый выступить по тревоге. К полудню в казармах уже шепотом передавали, что, когда вешали, трое сорвались и снова их повесили, хотя будто есть закон по второму разу не вешать. Говорили, что перед казнью все обнялись… Много чего шептали по углам конюшен, по закоулкам полковых дворов.
На другое утро выступили парадом на Петровскую площадь. Построили вокруг нее эскадроны и роты, которые не ушли в Москву и не были в лагерях. Около памятника Петру воздвигли помост, покрытый алым судном. Духовенство в богатых ризах служило молебен. Освящали площадь, кропили святой водой. Потом прошли церемониальным маршем мимо великого князя Михаила, нового командира гвардейского корпуса. Корпуса — в двадцать-то семь лет!..
Когда подъезжали к казармам, Иванов услышал, как Лужин сказал Бреверну:
— Разве кропилом смоешь память о таком дне?
— Silence! — ответил штаб-ротмистр.
Назавтра возвращались в Стрельну, и вечером Иванов забежал на Исаакиевскую, где застал горе и растерянность. Старый князь лежал в постели, около него неотлучно сидел лекарь. Небритый Курицын указал унтеру на дверь Никитиной каморки. Исхудавший старик припал к Иванову и заплакал, сотрясаясь тощим остовом.
— Обнадеживали заступлением, да обманули, — бормотал он сквозь слезы. — В каторгу засудили, а за что, скажи?..
— Так и не видели их князь Иван Сергеевич? — спросил унтер.
— Не раз свидание обещались, да все обманывают… Что подарков переношено… Ох, Александра, сынок, за что же Сибирь-то! Сибиряга, край света, даль какая…
Потом старик немного успокоился и рассказал, что до отправки сына старый князь будет жить в Петербурге, но хочет сменить квартиру и продать гостиную мебель, два рояля и большие вазы, которые трудно везти в Москву. Продавать придется и лошадей, экипажи, седла, — так скажи в полку господам офицерам…
Тут Никита снова запричитал:
— Думал при Александре Ивановиче жизнь скончать, а что увидеть довелось?.. Продавать добро будем, как опосля покойника. Хоть бы в солдаты с выслугой, а то колодником каторжным…
Только через три недели Иванову удалось выбраться в Петербург и зайти на Исаакиевскую. Квартира в бельэтаже стояла уже пустая, князь со слугами перебрался в дворовый флигель. Ивана Сергеевича унтер не застал дома. Помог малость в упаковке посуды для перевозки в Москву, расцеловался с Никитой, Курицыным, поваром, кучером и с тяжелым сердцем уехал в Стрельну.
Жученков решил венчаться сразу после лагеря и уже подал в отставку. В августе исполнялось пятнадцать лет его унтер-офицерства, а в сентябре — двадцать два года службы. Барон Пилар советовал нанять учителя и подготовиться по письму и арифметике к экзамену на офицерский чин. Получил бы корнета при отставке, и детей пустит по господской линии. Но вахмистр стоял на том, что грамота ему не далась, а на детей не надеется, раз их сколько лет у сожительницы не случилось.
Свадьбу сыграли у покрова. Церковь и застолье украшали белые колеты и фабреные усы двадцати конногвардейцев, под стать которым и особенно своему избраннику шириной плеч и цветом лица казалась сорокалетняя счастливая «молодая». Перед нею на подносе красовались подарки офицеров эскадрона — серебряные солонки, чарки и ложки. За столом сидели за полночь, так что когда Иванов шажком повез вахмистра Елизарова на собственной его тележке в полк, то не раз бросал вожжи, чтобы подхватить желавшего прилечь соседа. На лестницу вносили с дневальным, но, уложенный на топчан Жученкова, вдруг стал понукать Пегашку, чтобы скорей везла в Стрельну, где жена «зубами мается», о чем за вечер разу не помянул.
Жученкову после свадьбы дали неделю отпуска, и обязанности его исполнял Иванов, с тревогой думавший, что через месяц-другой не пришлось бы занять эту должность надолго.
В середине сентября, зайдя на Исаакиевскую, унтер узнал, что еще не уехали, и был позван к князю. Если Никита состарился и похудел за время заключения Александра Ивановича, то отец его стал почти неузнаваем. Вместо осанистого, веселого барина Иванов увидел понурого старика. Когда унтер чмокнул князя в плечо, тот обнял его за шею и всплакнул. Но скоро отер глаза и сказал:
— Хорошо, что зашел. Завтра хотел за тобой посылать. Князь Александр Иванович в письме просит сказать тебе спасибо за службу и поцеловать, как истинного друга. И еще пишет, чтобы передал тебе двести рублей на некое доброе дело. Какое, наказывает не расспрашивать, будто оно ваш секрет составляет. Вот, братец, те деньги. И помолись за него… — У старика снова полились слезы, сквозь которые продолжал: — Служи хорошо и помни моего сына… Княжеский титул отняли, будто что бесчестное совершил. А знаешь, каков он голубь… Всё дружки! Сбили, окрутили, опутали. Сами погибли и его в бездну… Первого князя Одоевского в каторгу… — Старик отвернулся и замахал рукой с носовым платком: уходи, мол…
Иванов сунул ассигнации в рукав колета и вышел. «С горя хоть кого очернить готов, — думал он. — Но откуда Александр Иванович узнал, на что деньги коплю? Не иначе, как от Жандра. Ах, Андрей Андреевич, ведь обещали молчать!.. Как с неба свалилось столько, что разом покрыло года три заработков. Сколько ж теперь будет в конверте? За шестьсот рублей… И везет будто: то Анюты покойной наследство, то от князя… А уж как хотел бы не иметь этих денег, да зато она живая у хозяйки работала, и князя сейчас увидеть — беззаботного, веселого, каким перед своим первым офицерским балом всех обнять был готов…»
Вечером понес деньги Жандру. Выслушав рассказ, тот ответил:
— Радуюсь вдвойне. Во-первых, из сего следует, что Александр Иванович в себя пришел, раз о такой материи думает. А то передавали, что весной был схож на полоумного, бедняга: писал невесть что на себя и других, бормотал одни молитвы… Оно, может, и не мудрено — ничего не видавши, кроме удач, да вдруг испытание такое. А второе — радуюсь, что ты вновь подкрепление получил. Знаю, что думаешь: зачем я князю разболтал, хотя молчать обещался. Но и ты пойми, каково случилось. Зашел в обществе разговор про солдатскую тяжкую долю, о том, что вас всех ждет после службы. Один барин и скажи весьма пренебрежительно, что все, которые не пьяницы или иным образом не порочны, мечтают лишь торговать или лошадьми барышничать, постоялый двор держать, — словом, деньгу нажить, а менее оборотистые — в услужение идти, снова на чужой харч. Вот тут я не выдержал и говорю: «А я знаю солдата, который для себя ничего не хочет и копейку с копейкой упорным трудом сбивает, чтобы ближних, которых двадцать лет назад в деревне оставил, из кабалы крепостной выкупить». Словом, как говорится, утер я нос тому барину… А как вышли из гостей вместе с Одоевским, который горячо поддерживал, что средь простых людей возвышенные чувства не редкость, тут князь и говорит: «А я, кажись, знаю, Жандрик, про кого ты говорил». Я ответил, что не в имени дело, а в том, что правда. А он: «Коли верно назову, ты подтвердишь? Это бывший дядька мой, Иванов-кирасир…» Я молчу, а он как мальчишка: «Ведь не можешь сказать, что не он? Ведь не можешь?..» Видывал, каков бывал, когда расшалится?.. — Жандр поспешно отвернулся, достал записную книгу, долго искал нужную страницу и продолжал: — Ну-с, деньги твои я принял и могу сказать, что стало у тебя теперь 628 рублей капиталу.
Первого ноября Жученкову вышла отставка. На другой день в его каморку пожаловал барон Пилар, кликнул туда Иванова и сказал:
— Я тебя представляю нынче же в эскадронные старшие вахмистры.
— Ваше высокоблагородие, я вам вот как хочу угодить, да для той должности совсем не пригодный, — взмолился унтер.
— Не пойму, чего боишься? Службу знаешь, грамотный, трезвый. Я тобой доволен, офицеры наши все тебя одобряют также.
— Взыскивать он не умеет, ваше высокоблагородие, — подал голос Жученков.
— Н-да. — согласился барон, — насчет сего он слабый, а вахмистр без строгости для кирасир истинно плох. Однако что же делать? Своих унтеров много имеем, но все неграмотные, а его оставлять за писаря при новом вахмистре я нахожу неудобным, ибо сие незаконно. И также не хочу из чужого эскадрона просить.
— А еще, ваше высокоблагородие, я унтером мало служил, — доложил Иванов.
— То уже моя забота, — ответил Пилар. — Граф, полагаю, мою просьбу уважит, ты унтер заслуженный, ему известный, едва ли не с войны еще. Пока назначим тебя «за старшего вахмистра» и будем смотреть, как выходит. Сдавай ему, Жученков, должность не спеша да научай строгости.
Пятнадцатого ноября 1826 года отставного вахмистра проводили, поднесли ему икону и сафьяновый шитый золотом кошель для денег. Что еще могли подарить кирасиры, когда и так дом — полная чаша?
С того же числа Иванов начал править эскадроном, поначалу стараясь вести все, как бывало при Жученкове.
Первым необыденным делом, которым пришлось единолично распорядиться Иванову, оказался отбор десятка заслуженных кирасир на церковный парад всей гвардии в Зимнем дворце утром первого дня рождества. В этот день — 25 декабря — от самого 1812 года праздновалось изгнание французов из России. По всему государству в церквах служили панихиды по убитым и благодарственные молебны за избавление от «двунадесяти языков». А нынче в то же утро во дворце освящали Военную галерею со множеством портретов генералов, которые воевали с французами.
Во время дворцовых караулов Иванов не раз слышал от лакеев и другой прислуги, что эту галерею уже много лет как отделали рядом с Георгиевским тронным залом, а портреты для нее работает приглашенный царем англичанин с двумя русскими помощниками, постепенно заполняя давно готовые рамы. И вот теперь предстояло торжественное ее открытие, на которое приказали нарядить десять унтеров и рядовых, обязательно кавалеров Георгиевского и Кульмского крестов, медалей за 1812 год и за Париж, да самому идти одиннадцатым в строй полуэскадрона, составленного из ветеранов всего Конного полка. На парады и дворцовые караулы, особенно в такой праздник, никто своей волей не шел, но в этот раз откуда-то взялся слух, будто выдадут небывалое награждение — по пяти рублей каждому, и охотников стало хоть отбавляй. Из двадцати «полных» кавалеров приходилось выбирать половину. Чтобы не случилось обид, Иванов решил устроить жеребьевку, которую барон вполне одобрил.
Торжество оказалось долгим и очень утомительным. К девяти часам во дворец привели полуроты от всех гвардейских пехотных полков и полуэскадроны от кавалерийских. Первых расставили в Тронном зале, вторых — в Белом. В десять часов мимо конногвардейцев в собор торжественно проследовали царь с царицей и детьми, сопровождаемые придворными и свитой. После этого часа полтора из Белого зала чуть доносились песнопения. Но вот в новой галерее зажгли все люстры, и туда вышло духовенство, царская семья, придворные и множество генералов и офицеров. Раздались церковные возгласы, пение, поплыл из дверей кадильный дым — совершался обход всей галереи. Потом митрополит с причтом медленно прошел по обоим залам, останавливаясь у фронта каждой части и благословляя ее. Наконец офицеры скомандовали перестроение в колонны, за дверью Тронного зала оркестр заиграл «Парижский марш», и начался парад — прохождение частей мимо царя с наследником и генералами, стоявшими в галерее. Сначала шли все полуроты, делая большой круг через Аполлонов зал и Половину прусского короля, за ними двинулись полуэскадроны малым кругом через Статс-дамскую. Собственно, по Военной галерее проходили только ее половину, шагов двести, а потом сворачивали в Белый зал и маршировали к Иорданской лестнице. Разогревшись до поту во дворце, продрогли, идучи в полк, куда добрались в третьем часу.
Освободясь от парадной формы, Иванов отогревал спину о «свою» половину печки, слушая сквозь растворенную дверь разговоры кирасир, также пришедших из дворца и доедавших, сидя на нарах, холодный обед.
— А я будто генерала нашего прежнего патрет усмотрел, — говорил ефрейтор Маслов.
— Арсеньева, что ли? — отозвался кирасир Ивков.
— Ну да. В колете нашем да в кирасе. А ты не усмотрел?..
— Где там! У меня от тепла вовсе дух спирало, — сознался Ивков и посочувствовал: — А кому до казармы далече идти, вот, поди, простыли…
— Зато пять рублей в чересок сунут, — сказал Маслов. — Небось хоть упрел во дворце, а доволен, что жребий вытащил?..
— Еще бы! За такие деньги десять ден на вольных работах сгинайся, а тут за полдня посчастливилось…
«Хорошо, что сообразил со жеребьем», — подумал Иванов.
Первого января вышел царский приказ офицерам носить на эполетах звездочки, обозначающие чины, и на другой же день в гвардейских полках велено в недельный срок всем солдатам и унтерам выучить, какие кому положены. «А к чему бы?» — удивлялся каждый. Ведь по фасону эполет все знают, кого титуловать благородием, кого — высокоблагородием, а кого — превосходительством. Но раз велено — надо запоминать…
Чтобы облегчить обучение, Иванов придумал нарисовать на листах бумаги расположение звездочек на всех видах эполет и вывесил около черной доски квартирмистра. От такой наглядности дело пошло сразу куда спорей.
Зайдя в эскадрон, барон Пилар рассмотрел рисунок и сказал:
— Отсюда мне явствует, Иванов, что ты против Жученкова и достоинства немалые имеешь…
— Рад стараться, ваше высокоблагородие! — ответил вахмистр, которому теперь и самому иногда казалось, что справится с новой обязанностью не хуже других.
17
В 1827 году вьюги начались в январе. Солдаты инвалидной полуроты выбивались из сил, сбрасывая снег с кровель, расчищая панели и плац, отгребая по утрам от дверей конюшен, складов и мастерских. Особенно опасно и трудно было работать на крутой крыше трехэтажного главного корпуса, с которой не раз падали и калечились люди. Еще генерал Арсеньев писал куда следовало, прося поставить решетку — ограду вдоль ее краев, но получал ответы, что на сие устройство средств не имеется.
В этом году с крыши сорвался ефрейтор 3-го эскадрона Пестряков, наряженный за старшего с десятью кирасирами в помощь инвалидам. Но при этом счастливо угодил на кучу рыхлого снега и только сломал ногу. Про счастье сказал сам ефрейтор, когда Иванов со связкой баранок в виде гостинца пришел навестить пострадавшего, к которому расположился после давнего разговора про горе девицы Черновой. Осунувшийся и желтый, лежа навзничь на лазаретной койке, Пестряков говорил, улыбаясь:
— Вот как счастливо отделался! Лекарь молодой, что ногу в луб заложил, так и сказал: «С коленом ты, кавалер, простись, гнуться не будет, ковылять тебе до смерти на прямой ноге». А мне что и надо, Александр Иваныч. Спасибо снегу: от смерти уберег да на линию ремесленную определил. Одно сумлеваюсь: как шить стану, ежели ногу под себя не подберу.
— Приспособишься. Теперь и к женитьбе ближе… Ты будто с тринадцатого года служишь? — сказал Иванов.
— Так точно. Девять бы лет еще тянуть… Ох, коли милость твоя будет, оберни тихонько одеялу под пятку, стынет нога. Сюда вот бараночки положи, околь подушки, я всласть пожую.
Вахмистр сделал, как просил Пестряков. Нога в лубке, едва прикрытая байковым одеялом, была совсем холодная.
— Неужто чулков не положено? — спросил он. — Я в лазаретах не леживал, а слыхал, будто дают.
— Ходячим дают, — сказал Пестряков. — Да ладно, перетерплю. Мне главно знать, что службе конец. Иглой на пропитание завсегда наковыряю.
— А тут что ж никого? — кивнул Иванов на три койки в той же палате, застланные простынями, без подушек и одеял.
— Лежали, сказывают, гренадеры, на площади раненные, а после пустовала камора. Вот и не топили. Сряду разве нагреешь?
— А их куда же?
— В крепость отвели, как залечили…
Спускаясь по лазаретной лестнице, Иванов думал, что и верно счастлив Пестряков: сейчас перетерпит боль да холод, зато в тридцать пять лет про службу забудет. Хотя трудно портняжить, на прямой ноге ходючи, как Яков Васильич покойный… Потом подумал, что небось Жученкову не посмел бы так радоваться, что службе конец. Не ставят его кирасиры за начальство.
Через двор шел офицер в шинели и шляпе. В сумерки вахмистр не рассмотрел, кто это, сделал фрунт и тут узнал поручика Лужина, которого с Нового года перевели в лейб-эскадрон.
— Иванов? — остановился поручик. — Откуда с этого края?
— Из лазарета, от Пестрякова, ваше высокоблагородие.
— Ну, как он? Верно ли, что ногу сломал?
— Верно-с. В холодной каморе один лежит, и чулков не дают, нога сломленная словно лед.
— Да что ты! Он ведь мой дядька был, как ты при… — начал Лужин и осекся. — Слушай, идем ко мне, я теплого чего-нибудь дам, отнеси Пестрякову. А то человека пошлю, если торопишься.
— Ничего, ваше высокоблагородие, я сейчас могу, — с охотой отозвался Иванов.
В прихожей квартиры Лужина топилась печка. Сидевшие перед ней денщик и подросток-казачок вскочили и мигом зажгли свечи.
— Достань одеяло ватное, что в лагерь брали, и чулки серые, которые в мороз мне надевал, — приказал денщику поручик. — Да сахару отсыпь фунта два и неси все в лазарет ефрейтору Пестрякову. Сам до него дойди, не передавай фельдшеру. Понял?
— Так точно, ваше высокоблагородие!
— А тебя, Иваныч, я по строевой части хочу кой-чего расспросить. Только подожди немного, хоть здесь, у печки, пока колет сниму, жмет, проклятый, под мышками. Иди, стащи, Тимошка.
Вахмистр помог денщику отсыпать из жестянки в бумагу сахар, свернуть одеяло и чулки и уже закрыл за ним двери, когда вышел Лужин в халате.
— Гляди за печкой, Тимошка, не отлучайся от огня, — приказал он. — Пойдем ко мне, вахмистр.
Они миновали гостиную и вошли в кабинет. Здесь, закрывши за собой дверь, Лужин сказал негромко:
— Хочу тебе рассказать, что вчера Александра Иваныча видел.
— Где же, ваше высокоблагородие? — поразился Иванов.
— Когда ночью с бала от князя Кочубея вышел и кучера своего искал около уличной грелки. Тут прямо рядом со мной трое ямских саней пробежали. В каждых по жандарму и по арестанту. Во вторых наш Александр Иванович в тулупе, в шапке меховой. На миг мелькнул, но как сейчас тебя вижу. Вот, братец, лучшему из тех, кто юношами в Белоруссии в полк вступали, какова судьба выпала…
— Похудевши вам показались? Ведь боле года в крепости?
— Миг один видел всего, — пожал плечами Лужин. — Заметил только, что усы отрастил. Не знаю даже, узнал ли меня. Но показалось, что на ухабе во всех санях по очереди что-то железное брякнуло. Не в кандалах ли?.. Но молчок, братец, слышишь?
— Так точно, ваше высокоблагородие!
Укладываясь в этот вечер в своей каморке, Иванов думал:
«Вот мчат сейчас Александра Ивановича с товарищами где-то далече, верст за двести, или ночуют на станциях, в железо закованные, как злодеи. В Сибири в рудниках, сказывали, под землей работают… Да, кому какая судьба… А Пестрякову счастье пришло через то, что с крыши грохнулся. Шьет он хорошо, фасонисто, юнкера ему за фуражные шапки по два рубля платили…»
В апреле, когда пришел с вечернего доклада барону, дневальный из молодых сказал, что его спрашивал незнакомый офицер.
— А собой каков? И что за форма на нем?
— Собой высокие, шинель с красным воротником. И нос у них, господин вахмистр, вроде как просевши. Сказали, что опять будут.
«Никто, как Красовский», — радостно подумал Иванов.
И верно, через полчаса именно он ввалился в каморку за эскадроном и расцеловался с вахмистром. Скинув шинель, присел и рассказал, что еще осенью вызван с завода цесаревичем Константином в Варшаву, где объезжал ему коней под верх, а сейчас послан в придворно-конюшенную часть получать седла да из Стрельнинского дворца прихватить сбрую для варшавского обихода.
— Занятие самое дурацкое, — заключил Красовский, — из живых лошадей делать забаву для плац-парадных проездок. Но зато прошлый год по линии поручика получил, а нынче, по его представлению, «за отличие в службе» уже штаб-ротмистр. Сами чины — пустое, vanitas vanitatum[52] но мне важно скорей майором назваться.
— Жениться, что ли, хотите на богатой? — предположил Иванов, подумавший, как изменился за восемь лет Красовский.
— Да нет, какая женитьба — turpe senilis amor![53] Мне охота начальником завода стать, чтобы надо мной дурак не сидел, как сейчас. А место штаб-офицерское.
Вскоре условились, что завтра Иванов придет на постоялый двор на Московской дороге у Сенной площади, чтобы обстоятельно обо всем потолковать.
Комната, которую занимал Красовский, оказалась просторной, в три окна, и обставлена по-барски. На столе шумел походный самоварчик красной меди, стояли чашки, калачи, сахарница и бутылка рому. Но под полом в первом этаже находился трактир, и оттуда явственно доносился гул голосов и хлопанье дверей.
— Ничего, — сказал хозяин, заваривая чай. — Ночью там тихо, а вечером я нынче впервой дома, чтобы с тобой повидаться.
— Где ж гостевали? Аль по театрам хаживали?
— На театре завтра «Волшебного стрелка» слушаю. Первые два дня у Елизарова ночевал в Стрельне, и вчерась весь вечер у Дарьи Михайловны провел. Помнишь, в Лебедяни у которой были?
— Как не помнить! Я думал, они все за границей живут.
— С полгода как приехали. Полковнику отец приказал долго жить, и он стал сряду богатейшим помещиком. А у ней супруг помер, скрываться не надобно, и замуж за него наконец пожалуйте. Ан тут и пошел дым коромыслом. Не желает барыня сейчас за границу ехать, требует по всем вотчинам отправиться в объезд. Твердит, что его за справедливость когда-то полюбила, так и наводи справедливость среди новых подданных. Словом, как всегда, у ней все по-своему. А справедливость господина Пашкова тогдашняя, которую ныне хлопотливейшей поездкой должен подтвердить, в том вся заключалась, что, как она в окно свое наблюдала, со мной, нижним чином, от нечего делать запросто играл в шашки или толковал про сочинения Юлия Цезаря, которые он по-французски, а я по-латыни читывали. Впрочем, полковник добрейший барин и ее крепко любит… Ну, а теперь ты про себя рассказывай — какие новости, окромя усов, вверх зачесанных, и того, что вахмистром стал. Не женился еще? Все бобыль?
Иванов рассказал про свое знакомство с Анютой и ее родителями и про их гибель.
— Царство небесное, — перекрестился Красовский. — Благодари бога, что знал хороших людей, что есть кого вспомнить — vivit post funera virtus…[54] А деньги не перестал копить на выкуп своих?..
— Коплю. Впал было в сумнение, а после снова начал. — Иванов рассказал о краже у них с Жученковым, про находку в подвале за иконой, про барина Жандра, что теперь бережет его капитал.
— А знаешь ли доподлинно, что все твои живы? — спросил Красовский. — Не отправились ли ad patres?[55] Может, там уж половины семейства нет и ты зря надседаешься? Ведь грамотный, так письмо отпиши. А то я, как из Варшавы на завод в Харьковскую через ту же Лебедянь поеду, сделаю малый крючок, их повидаю и тебе отпишу. Погляжу хоть, что за люди, на которых силы убиваешь.
— Чего бы лучше, Александр Герасимыч!
— Ну, говори тогда, как зовется «колыбель твоих первоначальных дней, невинности твоей и юности обитель», как Державин писал. — Красовский достал записную книжку и карандаш: — Деревня Козловка под самой Епифанью… Так. А помещика? Капитан Карбовский. Все та же скотина, что невесту твою холую отдал? Вот те слово, что заеду и отпишу, а то совесть гложет, mea culpa[56], что не отпустил на полсутки с похода, чтоб с родными свиделся. Так ведь не знал тогда тебя, боялся… — Красовский прислушался к шуму, что доносился снизу, взглянул на запертую дверь и понизил голос: — Вот теперь и гомон здешний как раз к месту. Расскажи-ка во всей подробности, что у вас в некотором декабре приключилось? Был ли ты в тот день в строю и кто из наших полковых в то дело замешался?
Иванов рассказал о том, что слышал и видел в Стрельне и Петербурге благодаря доверию князя Одоевского, что происходило перед Сенатом и какие слухи были о суде и казни.
— Ну, спасибо, — кивнул штаб-ротмистр, выслушав все очень внимательно. — Ты, могу сказать, вперед гонорарий сполна заплатил за поездку мою в Козловку. Ведь ни от кого не мог толком услышать, как и что было. А оно весьма важно…
— Какая важность, Александр Герасимыч, если такой погром потерпели да казнили и сослали столько добрых господ? — возразил Иванов.
— Понятно, неудача полная и вся по их вине, — согласился Красовский, — но сколь, однако, перед отцами своими возвысились! Раньше, бывало, соберется кучка офицеров, не вполне трезвых, да и того, — он охватил себе горло пальцами обеих рук, показывая, как душат. — А здесь вовсе иное дело — попытка во имя-блага общего, предпринятая людьми самых благородных мыслей. Список, правительством публикованный, я читал, но в нем ни одного имени знакомого не сыскалось, как с 1819 года с конями более, чем с людьми, сообщаюсь. А из твоего рассказа увидел, что хоть головы у них были горячи, да сердца чисты.
Когда Иванов собрался в полк, штаб-ротмистр спросил:
— А не хочешь ли к Дарье Михайловне в гости сходить? Она вчерась про тебя помянула. Привесть просила.
— Как же нам теперь вместе к господам богатым идти? — усомнился Иванов. — Вам теперь, в эполетах, все двери открыты, а мне дальше прихожей не ступить. Вам самому ловко ль будет?
— Пустое, — отмахнулся Красовский. — У нее на все свой образец. Недаром себя «полубарыней» зовет. Раз сама приглашает, то гости равные будем. А полковника услала по ближним двум вотчинам в объезд, так что тянуться тебе не придется. В пятницу ежели сумеешь, то часов в шесть приходи за мной… А насчет прихожей, то когда десять лет унтером выслужишь?
— Через четыре года без малого.
— Так послушай моего совета: найми писаря или кантониста, чтоб подучил к экзамену, да и выходи, как я, в армейские корнеты. Дело вполне сбыточное, experto credite[57].
Иванов пошел в полк, думая о совете Красовского: «Может, когда останется года два до сроку, то нанять такого учителя? Жученкову наука не давалась, а я как быстро грамоте и счету выучился. Офицеру и жалованья больше, и выкупить своих можно на себя — искать никого не надобно… А вдруг правда за десять лет нет уж кого-то в живых?»
Когда в назначенный вечер он зашел за Красовским, тот сразу опять заговорил об экзамене на корнета:
— Я бы тебе и место на конных заводах выхлопотал у цесаревича. Ведь он все инспектором российской конницы значится, хотя который год безотлучно в Варшаве солдат польских мучает.
— Все по-прежнему? — спросил Иванов.
— А что он еще умеет? При нем еще генерал Куру та, грек хитрющий, знай похваливает, — asinus asinum fricat…[58] Рассказывал мне тамошний офицер, когда однажды подвыпили и остерегаться бросил, как лет десять назад ехал через Варшаву генерал Ермолов и цесаревич ему своим пешим караулом хвастанул. Идут по фронту — застыли все, как истуканы каменные. Затянуты по плечам и брюху лямками, воротниками задушены. Цесаревич и спрашивает: «Хороша ли гвардия? Вот я ее за три года до какого форса довел». — «Очень хороша, ваше высочество», — отвечает Ермолов. И тут же уронил перчатку около флангового да и говорит: «Подними, братец! Его высочество с тебя не взыщет, что фронт нарушишь». Тут и вышел конфуз: сколько солдат ни силился, не дотянул до земли, раз корпус запеленат и штаны натянуты.
— А цесаревич что же? — спросил Иванов.
— Да ничего. Как ему свой афронт понять? Мои любимые римляне говорили: «Habitus non facit monachum»[59]. Мундир генеральский еще не делает полководцем. И они же говорили, что солдат всегда должен быть налегке — ne quid nimus[60],— чтобы сберечь силу для боя. А как сие такому Константину Павлычу втолковать, который красой единственной султаны, этишкеты, кутасы да тесные мундиры почитает?.. Коли новый царь его от конницы не отставит, то она вовсе пропадет, помяни мое слово. Лошади перекормленные, раз в неделю под седлом ходят, а люди, кроме артикулов, ничему не учатся. Какое-то всеобщее помрачнение ума. Слава богу, что второй Наполеон не народился, а то бы разделал нас, как пруссаков в 1806 году… Оттого на конных заводах сейчас легче служить, чем в полках. Но и там не больно сладко. Часто думаю об отставке, да чем прокормишься? Офицерская пенсия мизерная, а частную службу где сыскать?.. Ну, идем. На улице про такое не поговоришь.
В одном из домов на Литейной взошли по чистой лестнице во второй этаж, и Красовский уверенно открыл полированную дверь. Видно, их ждали: вскочивший с ларя лакей подхватил обе шинели, принял холодное оружие и распахнул дверь из передней. Открылась зала, где ярко горели свечи в люстре, в углу сверкал рояль, стояли обитые полосатым шелком диван и кресла, висели в простенках зеркала.
Красовский, совсем привыкший к офицерскому положению, ловко откинул фалды мундира и присел на диван. Вахмистр встал в сторонке у окошка. Но вот в дверях, ведших в соседнюю комнату, показалась хозяйка. За годы, что не видел ее Иванов, Дарья Михайловна стала худее, чернее кожей. «Цыганская кровь проглянула», — подумал вахмистр. Но так же разом осветила ее правильное лицо приветливая улыбка, показавшая прекрасные зубы, так же прост был покрой светло-бирюзового закрытого платья, на котором сверкала длинная нитка жемчуга, завязанная узлом на груди и спадавшая петлей ниже пояса.
Ответив на поклон Иванова, подошла вплотную, взяла душистыми руками за виски и поцеловала в лоб.
— Жив, землячок? — сказала она прежним глубоким, звучным голосом. — Миновали тучи, что над тобой собирались? Правду карты мои говорили?
— Покорно благодарю, сударыня, — снова поклонился Иванов.
— Нет, ты ответь: правду тогда нагадала?
— Что правду, сударыня, а что и нет… Людей добрых повстречал немало. И девицу душевную. Да всех судьба отняла. Кого смертью, кого разлукой насильной.
— От судьбы никуда не уйти, — раздумчиво сказала хозяйка и повернулась к вставшему, ожидая ее привета, Красовскому. — Здравствуй, милый друг Герасимыч. Спасибо, что привел земляка. — И его поцеловала в лоб.
— А вы не гостей ли ждете, Дарья Михайловна? — Штаб-ротмистр указал на люстру.
— Ждала гостей и дождалась. — Она улыбнулась стоявшим теперь рядом приятелям. — Павел Алексеевич мой еще не вернулся из Новгородской вотчины, так что без хозяина вас принимаю.
— А с Италией как решили?
— Туда осенью, когда все здесь не спеша объедем. Дней через десять под Москву тронемся, оттуда в Калужскую и Тамбовскую. Ну, гости дорогие, что прежде: ужинать или музыку слушать?
— По нам сначала бы пением угостили, — сказал Красовский.
— Ну, будь по-твоему, — кивнула хозяйка. — Егор! Позови Козьмича да Алексашу… А ты, землячок, не стой, сядь, как гостю подобает, на диван или в кресло, а то и петь не стану.
В гостиную вошли двое в темных сюртуках. Лысоватый, седой сел за рояль, молодой, краснощекий достал из стоявшего в углу футляра виолончель. Лакей зажег свечи на фортепьяно, расставил складной пюпитр виолончелисту. Лысый дал тон ударами по клавише, за ним зазвучали подтягиваемые струны. Потом явственно зашуршали листы нот, затрещал воск одной из свечей. Дарья Михайловна встала у рояля лицом к гостям.
— Слушал вчера «Цирюльника»? — спросила она Красовского.
— Нет, то завтра, а вчера на «Волшебном стрелке» побывал.
— Ну, послушай же, как мы из сих обеих опер по арии исполним, и я за скрипку кое-где подпою, как ты раньше любил.
Иванов послушался приказа хозяйки — сел на стул в углу. Сел да и забыл, кто он и где находится. Музыка и голос Дарьи Михайловны охватили и поглотили его, как в прошлый раз в Лебедяни. Великая радость и горькие слезы заполнили душу, сменяя друг друга по воле чародеев, которых почти не видел. Вспоминал, как слушал игру князя и Грибоедова, и опять растворялся в звуках, так что все пропадало… Впервой в жизни сидел он в этот вечер за богатым, по-барски накрытым столом и как умел управлялся с тарелками, ножами, вилками и рюмками. Хорошо, что хоть сидели за небольшим столом, накрытым тут же, в гостиной, и всего втроем. Музыканты откланялись сразу, как кончили играть, и Дарья Михайловна, вежливо поблагодарив, их отпустила.
— Крепостные Павла Алексеича, оброчные. Никак не отучу видеть во мне барыню, ни за что за стол не сядут, — сказала она.
— Так вы и есть ихняя барыня, — сказал Красовский.
— Пока нет еще и не знаю, буду ли когда, — спокойно сказала Дарья Михайловна. — Что же выйдет?.. Ты-то, Герасимыч, лучше других знаешь, как я от венчанного мужа сбежала. Значит, не сочла брак делом важным. А теперь иначе к нему отнесусь, ежели в богатстве тем утверждаюсь? Чем мне худо было столько лет без венца? Больше ли венчанную любить станет? Или, если разлюбит, то чтоб отделаться затруднился? И какая я жена перед родичами его — Голицыными, Бутурлиными, Мусиными-Пушкиными? Незаконное дитя отставного поручика и внучка цыганки, вдова судейского крючка. Словом, не додумала еще, решусь ли венчаться. И спешить не стану, пока все до ясности не выношу…
За ужином хозяйка рассказывала, как жили в Неаполе, про тамошний народ, про солнце, что греет и зимой, про голубое море. Прощаясь, наказывала Иванову еще прийти до их объезда.
— Ты сходи к ней, — советовал Красовский, когда шли обратно. — Около нее душой оттаиваешь… Женщина редкостно добрая и справедливая.
— Да уж, мало кто о замужестве с богачом так раздумывать станет, — сказал вахмистр.
— По-моему, тут она зря умствует. Сколько лет в согласии проживши — finis coronat opus[61] — возразил Красовский. — А насчет родственников своих пусть полковник сам решает, сколь с ними считаться. Просит замуж выходить — значит, она ему всех нужней… Однако то особый предмет, нам, холостякам, чуждый… А тебе еще раз советую к ней сходить, раз звала. Может, музыку послушаешь. Видел я, как нынче в звуках потонул. И есть отчего — те, кто ее сочиняли, великие мастера душу переворачивать. Голос у хозяйки звучит, кажись, лучше прежнего, играют в сем доме почти каждый день, и жалею, что, здесь будучи, всего три вечера их слушал. Может, завтра еще сумею побывать… Право, лучше варшавских оперных…
— А есть ли какая музыка на заводе вашем? — спросил Иванов.
— Считай, что нету. Бренькает офицерша одна штучки разные… Там я больше стихами душу отвожу.
— Все Державина своего любимого?
— Запомнил! — воскликнул Красовский. — И его. Но представь, нынче новый кумир народился для поэзии любителей. Даже дьякона Филофея, прошлым годом в Лебедянь заехавши, от Мерзлякова и Жуковского к сему новому кумиру перетянул. И отсюда увожу стихов его тетрадку, за кою пять рублей дал, как раньше мне плачивали.
— Как же звать его? — спросил вахмистр.
— Тезка наш — Александр Пушкин. Прозванье самое военное — Пушкин. Запомнил?.. Ну, на сем углу нам прощаться. Думаю послезавтра тронуться со всей кладью на долгих, двумя тройками, в Стрельне взятыми. Может, к тебе больше не поспею забечь. Будь же здоров, помни совет насчет офицерства и поверь, что игра свеч стоит. Да жди письма, что в деревне твоей увижу, коли из Варшавы жив выберусь…
В следующие дни Иванов с удовольствием вспоминал вечер, проведенный на Литейной. Более всего, конечно, музыку, которая доходила до самого нутра, уносила куда-то ввысь. Особенно когда хозяйка пела без слов, становилась невиданным третьим инструментом. Вспоминал и слова ее о надобности прежде отъезда за границу побывать во всех вотчинах. Значит, узнать, как живут там люди, помочь им, видно, хочет. Вспоминал и приглашение побывать у нее снова. Но тут неизменно будто запинался за какой-то порог. Как он, солдат, один пойдет? Что скажет? «Наказывали прийти? Дозвольте музыку вашу послушать?..» Или вдруг сам полковник встретит да спросит: «Чего тебе надо, вахмистр?» — «К супруге вашего высокоблагородия в гости пришел…» Вот как все неладно видится… И, однако, не пойти тоже будет нельзя, раз наказывала…
Прошло дней десять, прежде чем все-таки решился сходить на Литейную. Только сыщет ли ихнюю квартиру без Красовского?..
Дом нашел сразу. И на площадке лестницы уже понял, что пришел поздно. Двери стояли настежь. В прихожей с козел маляр белил потолок. Сквозь открытые двери увидел второго, который обдирал обои в комнате, где слушали музыку. На окошках наклеены билеты — квартира сдается.
— Давно ль уехали господа? — спросил Иванов.
— Того не знаем, — отозвался маляр. — Мы от хозяина наняты.
Из подъезда Иванов свернул было к воротам, чтобы сыскать дворника, но передумал — не все ли равно, когда? И пошел по Литейной к Невскому. Дооткладывался, глупая башка!..
— Здравствуйте, господин кавалер! — окликнул его человек в шинели и бархатном картузе, в котором не без труда узнал краснощекого виолончелиста. — Поблагодарить зашли, да опоздали? — продолжал он, добродушно улыбаясь. — Третьего дня уехали. Разве Василий Козьмич не сказал вам про ихний отъезд?..
— Какой Василий Козьмич? — удивился вахмистр. — Никакого Василия Козьмича я не знаю.
— А того, что на фортепьяно играл, лысый такой, плотный.
— Помню его, но как звать, не знаю, и где бы он мог мне что сказать?
— Да вы не шутите ли? — улыбка начисто сползла с лица виолончелиста. — Как же так? Он в канун отъезда барыне расписку вашу принес и сказал, что сами благодарить придете.
— Какую расписку? В чем? — воскликнул вахмистр.
— Она вам триста рублей ассигнациями в конверте послала, на какое-то ваше дело, — говорил музыкант, смотря на Иванова очень пристально, как бы проверяя, не смутится ли. — При мне его посылали. Сначала ждала, что сами придете, а потом и послала.
— Ну, так ваш Василий Козьмич те деньги присвоил и сам расписку за меня написал, — сказал вахмистр. — Где он? Проведите меня к нему. Посмотрим, что мне скажет?
— То и дело, что отвесть вас к нему не могу, как он с господами вместе до Москвы поехал.
— Ну и мазурик! — охнул Иванов. — Но как же госпоже написать, что ее-то надул…
— Ах, как все нехорошо! — горестно качал головой виолончелист. — Хотя, пожалуй, Дарье Михайловне сообщить следует, но как же огорчится!..
— Зато Василию Козьмичу вашему полковник по моему письму в Москве жару задаст, — горячился Иванов.
— Вот то-то, что не задаст, — развел руками музыкант. — Тут у него, видно, все было рассчитано, раз нанялся к барину одному под Смоленск, дочек его на фортепьяне учить, а господин полковник с Дарьей Михайловной под Калугу без задержки проехать должны… Ну и бессовестный! Так Дарью Михайловну обмануть! И в какие дни!
— Что за дни еще? — раздраженный его кудахтаньем, спросил Иванов.
— Так ведь в канун отъезда нам обоим вольную она схлопотала. А Василий Козьмич в ответ вдруг такое мошенство!.. Фу-фу-фу!.. Да нет! И я про то нонче же напишу, прямо в Калугу… Только вы не подшутили ли надо мной?
— Вот вам крест, что никакого Василий Козьмича у себя не видывал и денег не получал, — скинув фуражку, перекрестился Иванов. — А насчет писания письма, то как знаете. По мне, пожалуй, раз денег не вернешь, то и огорчать ее не след… Прощайте!
«Шутка сказать — пропустил дуром триста рублей, — думал Иванов, шагая в полк. — Сколько лет их горбом зарабатывать! Я дурак дураком тянул да раздумывал, а лысый Козьмич не сплоховал. Вот так музыкант! Занятием таким бог умудрил! Конечно, на новое обзаведение по вольному состоянию те деньги ему вот как пригодятся… И расписку подделать не посовестился… Но я-то, я-то, раззява, лентюх, телюлюй бестолковый!..»
18
Это огорчение о прошедших «мимо носа» больших деньгах начало темную полосу жизни Иванова. Перед пасхой барону Пилару предложили в командование Орденских кирасир. Полк был армейский, но прославленный в боях, и высшее начальство намекнуло полковнику, что через несколько лет он возвратится в гвардию уже генералом. Пилар простился с эскадроном и сдал его произведенному в ротмистры Бре верну, в помощники которому генерал Орлов перевел из лейб-эскадрона штаб-ротмистра Эссена 2-го. Фон Эссен был известен как знаток строя и манежной езды, а также как ругатель и драчун. У него только что вышла в лейб-эскадроне резкая стычка с поручиком Лужиным, за которую командир полка арестовал обоих на неделю домашним арестом. В полку говорили, что генерал перевел Эссена в 3-й эскадрон, чтобы Бреверн усмирил его своим влиянием, а тот, в свою очередь, внес больше щегольства в выучку людей. Однако все вышло иначе. Простудившись на пасхе, когда делал визиты, Бреверн захворал воспалением в легких, потом ему предписали длительную поправку, и, взяв полугодовой отпуск, он уехал с семьей в Эстляндию. А командующим эскадроном стал фон Эссен. С этим новым немцем у Иванова отношения сразу не заладились. За то, что почти никогда не ругался и не дрался, Эссен окрестил его бабой еще при Бреверне. Теперь же начал корить перед фронтом:
— Разве ты вахмистр?.. Тебе в богадельне место, раз весь эскадрон испортил своими нежностями.
Такое отношение начальства не замедлило сказаться на поведении кирасир. Раньше все знали, что барон Пилар и Бреверн поддержат любой приказ Иванова и за непослушание крепко подтянут. Теперь же трое пьяниц кирасир во главе с ефрейтором Козяхиным завели обыкновение прогуливать с вечера субботы до утра понедельника, хотя полагалось к воскресной вечерней поверке являться в эскадрон. На замечания вахмистра отмалчивались или грубили и скоморошничали на потеху остальным, а глядя на них, стали заметно распускаться и другие. Вскоре уже чуть не треть кирасир небрежно чистила лошадей, убирала эскадронное помещение, грязней содержала амуницию и оружие. И за все это фон Эссен, примечавший любой непорядок, прежде всего ругал и грозил сменить вахмистра.
— Вот до чего ты их распустил, Иванов! — корил он. — Бей по зубам, валяй фухтелями, — разом шелковыми станут.
Тут Иванов доложил, что двое главных гуляк — кавалеры знака святой Анны, избавляющего от телесных наказаний, и этими словами только подлил масла в огонь.
— Бей в мою голову! Плевал я на их Анну! — взбесился Эссен. — Я за эскадрон перед графом отвечаю. В законе сказано, что Анны вовсе лишают, ежели свинским поступком позорят честь солдата. Вот ты и подводи их под такую статью — да на зеленую улицу! А не станешь по-моему служить, то разом из вахмистров слетишь…
Майский парад прошел для эскадрона отлично. Весь его успех Эссен приписал себе, а за первую же мелкую неполадку опять стал грозить вахмистру, что «скинет его в унтера». На это десятый раз повторенное обещание Иванов ответил:
— Явите милость, ваше высокоблагородие! Только бога за вас молить стану…
Эссен удивленно выпучил глаза, а затем ткнул вахмистру под нос кукиш:
— Э, нет, любезный! Эскадрон изгадил, а теперь его уволь! Ты мне сначала всех подтяни. А не сделаешь как велю, то не будь я фон Эссен, так не только начисто галуны спорю, но и в строй штрафованным кирасиром станешь. Да еще перед фронтом бакенбарды и усы сбрить велю, чтобы все видели, что ты слюнявая баба!..
После такой угрозы Иванов совсем пригорюнился. Снова, как десять лет назад, наслала на него нелегкая злого немца. Нужно было хоть на коленях упросить барона Пилара уволить от такого места, раз знал, что не годишься. А теперь как выбраться из беды? Впору над собой что сделать, хоть не так, как раньше решался, а, к примеру, ногу сломать, чтоб надолго в лазарет. Так ведь не просто ухитриться на такое… Был бы в эскадроне из офицеров кто постаре, пообстоятельней, чтоб Эссена усовестить, а то одни корнеты, которые в командирский рот смотрят и тоже все немчики… Неужто же придется драться начинать и заветы Александра Ивановича забыть?.. А может, и он бы Козяхину по харе смазать позволил за все его подлости? Как он говорил-то: «Стыдно бить того, кто тебе ответить тем же не смеет…» А что делать, ежели такой бессовестный сыскался? Погибать за него?..
В первое же воскресенье после перехода в Стрельну отпущенный накануне из эскадрона Козяхин явился только к вечерней поверке, хотя утром этого дня должен был заступать в караул. По красной роже Иванов сразу увидел, что выпито было немало.
— Опять пьян, Козяхин? — сказал вахмистр. — А ну выдь ко мне из строя, чтоб все тебя видели.
— Никак нет, трезвей нонешнего век не бывал, — ответил ефрейтор, вразвалку исполняя приказ и, как все последнее время, норовя ответом повеселить кирасир.
— Ты что ж, не слыхал, как командир эскадрона меня за ваше пьянство ругает? — спросил Иванов все еще спокойным голосом.
— Запамятовал, господин вахмистр, — не ощутил опасности Козяхин.
— Так я тебе напомню, — сказал Иванов и отвесил ефрейтору такую полновесную оплеуху, что у того слетела фуражка. Потом второй и третий раз по тому же месту.
Козяхин с раскровененной губой обалдело моргал глазами.
— Ну как, довольно? Аль еще добавить? — спросил Иванов. — Раз с такой свиньей добром нельзя, так я и по-этакому сумею.
— Покорно благодарим за науку, — пробубнил Козяхин.
— Сгинь с глаз моих да благодари Печкина, что за тебя в карауле стоит.
— Слушаю, господин вахмистр!
Войдя в избу, где квартировал, Иванов присел на лавку и задумался: «Что ж такое? Прямо радость испытал, впервой раскровенив человека. Неужто с такими, чтобы управиться, нету другого приема? И дальше что делать? Так и лупить всех подряд, кто не исправен? Ох, с души воротит!»
Мордобитие перед строем принесло нужные плоды. Все, кто распустились, разом подтянулись. Только еще одного нерадивого дневального Иванов разбудил ранним утром крепким тычком под бок.
Угомонился несколько и господин Эссен, хотя не упустил сказать, увидев опухлую губу Козяхина:
— Наконец-то я тебя выучил, вахмистр, по-настоящему служить. Но при том людей мне для строя не уродуй. Валяй по ребрам или в задницу — пускай по нарам охают. Наш граф битых морд в строю не любит…
Лето 1827 года полк проводил как обычно. После отдыха «на траве» принялись проездками и учениями готовиться к маневрам и осеннему смотру. Немало хлопот доставили новые каски, которые царь приказал носить всем кирасирским полкам. И фасон колпака другой, и конский волос куда длинней. Пришлось обмерять объем голов, составлять ведомости, возить в Петербург старые, получать новые. Звездочки на эполеты да эти каски — вот пока все новое, что внес в службу молодой царь… Где-то шла война с Персией, но о ней слышали только, что сначала персы влезли к нам через границу и вырезали несколько рот, но генералы Мадатов и Паскевич выбили их обратно. Говорили еще, что в боях особенно отличился сводный гвардейский полк, составленный из солдат Московского и Гренадерского полков, которые выходили на Сенатскую площадь.
Царские смотры и маневры прошли для конногвардейцев отлично, как по писаному. Не то что у кавалергардов. У тех на полковом учении при повороте полка поэскадронно направо кругом ветром отнесло команду, и один дивизион исполнил ее правильно, а другой пошел налево кругом, за что царь разбранил командира полка. Но под сурдинку говорили, что дело не в ошибке, а в том, что не любит кавалергардов: очень уж много их офицеров сослано за 25-й год. Разбирать причины ошибки царь прислал своего брата Михаила, в гвардейском просторечье «Мишку рыжего», великого мастера делать грубые выговоры заслуженным боевым генералам, годившимся ему в отцы. Мишка на этот раз сказал командиру полка и дивизионерам, что если голосами ослабели, то, видно, им и служить трудно.
Первого сентября Конная гвардия возвратилась в город. До роспуска людей на вольные работы оставались только ежегодный инспекторский смотр и осенний парад на Царицыном лугу.
Первый день смотра — выводка коней перед генералами, а потом офицерская и унтер-офицерская езда — прошел хорошо. Но на второй день в эскадроне Эссена случилась большая неприятность. У трех сверхсрочных кирасир, как на грех всех пьяниц и гуляк, при проверке казенных вещей обнаружилась недостача белья и сапожного товара. Видно, пропили и надеялись, что их седельные чемоданы не станут смотреть, — обычно вызывали молодых солдат, проверяя при этом, насколько твердо знают правила укладки всего положенного по уставу. А тут, может, чтобы похвалить исправность ветеранов, старый генерал Депрерадович ткнул перстом в своих погодков, по случайности оказавшихся привычными пьяницами. А усмотрев такой непорядок, да подряд у троих, его высокопревосходительство сделал резкое замечание штаб-ротмистру фон Эссену, сказавши, что в эскадроне нет наблюдения за нравственностью нижних чинов и не рано ль ему вверили, хоть и временное, командование?
Сразу после того, как эскадрон возвратился в казарму из манежа, где проходил смотр, и вахмистр только поспел вызвать к своей каморке провинившихся, чтобы отругать, а может, и двинуть по зубам для вразумления, в дверях показался штаб-ротмистр и за ним два молоденьких корнета — барон Фелькерзам и недавно назначенный в эскадрон Барыков.
После короткого предисловия, что они осрамили его, своего командира, Эссен стал по очереди бить по лицу стоявших в ряд кирасир. По разу одного, другого, третьего. Снова подряд, переступая, как в танце, и однообразно взмахивая рукой — раз, два, три. С первого же удара у всех обильно потекла кровь, а со второго — закапала на колеты.
«Сам-то небось уродует людей», — думал Иванов, стоя за офицерами ни жив ни мертв и ожидая своей очереди.
Но тут до сих пор всегда тихонький барон Фелькерзам, которого, как и другого корнета, Эссен привел сюда, видно, для поучения, вдруг шагнул к плечу штаб-ротмистра и заголосил по-немецки девичьим тенором, часто повторяя слова:
— Schande!.. Alte Menschen… Herr graf Orloff… Weteranen!..[62]
Эссен гавкнул барончику какое-то немецкое ругательство и снова прошелся вдоль тройки провинившихся.
Потом повернулся кругом, шагнул между корнетов и подступил к Иванову.
— Вот и ты, баба, дождался от меня! — сказал он и ударил кулаком по лицу.
От первого удара Иванов почувствовал кровь во рту, от второго, который пришелся по глазу, даже охнул.
И снова заголосил уже гораздо решительней по-немецки Фелькерзам, а за ним истошно закричал и Барыков:
— Vous etes inhumain! Au veteran on a casse l'ceuil! C'est abominable!..[63]
Эссен зарычал на корнетов по-немецки. Но и они не сдались и продолжали кричать, каждый по-своему. Тут Эссен пошел к выходу, а корнеты неотступно за ним, продолжая лопотать свое, пока не скрылись за дверью.
— Клади скорей пятак на скулу, Александр Иваныч, — сказал эскадронный трубач Анисимов.
— Вот тряпочкой чистой с холодной водой приложи, — раздался рядом голос Козяхина. — А я мигом до гошпитали, там фершал примочку знатную продает от таких случаев.
Иванов попытался открыть левый глаз и снова закрыл — такая острая боль его резанула. Закрыл да еще ладонью прижал… Чьи-то руки распахнули дверь в каморку, подхватили под локоть, подвели к койке, помогли снять колет и лечь. Анисимов поставил на лавку рядом горшок с водой, окунул тряпку, отжал и положил на глаз холодное.
— Принес? — услышал Иванов через несколько минут его голос.
— Да нет. Фершала не нашел, — отозвался Козяхин. — А к лекарю младшему сунулся, так только обругал. «Коли, говорит, на каждую битую морду нам примочки давать, то аптеки не хватит…» Молодой, а уж отлаивается. Вот у меня оставши от себя малость той примочки. Давай вылью на тряпку.
К ночи рассеченная губа лишь немного саднила, но глаз, заплывший опухолью, болел ощутительно. Иванов лежал без сна и думал:
«Что ж будет дальше? Что Эссена за нонешний смотр куда переведут, на то надеяться нечего. А вот уж верно, что обоих корнетов за их заступу из эскадрона уберут или под арест упрячут. Из вахмистров теперь уж наверно разжалуют. Оно и лучше. Унтер-офицерства, положим, сразу не лишат, но если с Эссеном служить, то горя не оберешься. А что, коли окривеешь, как ефрейтор Щуров от удара Вейсмана… Как тогда ремесленничать?..»
Утром Иванов глянул в оставленное Жученковым зеркальце и только головой закачал.
Мастер Эссен людей уродовать. Багровый синяк расплылся по скуле, опухоль почти закрыла глаз, рассеченная губа раздулась. А надо идти на уборку коней, не то опять битье, пожалуй, заработаешь. Не спустит ему теперь Эссен ничего из амбиции перед корнетами.
Однако в конюшне не оказалось офицеров, и после уборки пошел в казарму задним двором, чтобы не попасть на глаза начальству. Но только хотел свернуть за угол у манежа, как из офицерского подъезда вышел прямо на него поручик Лужин.
— Стой, Иванов! — приказал поручик. — Кто тебя так изуродовал? Неужто Эссен?
— Так точно, ваше высокоблагородие.
— Ах, скотина! Недаром я с ним едва не стрелялся… Но постой, сего так оставить нельзя! Стой, стой, дай сообразить. Правда ли, что ты полковника Захаржевского, раненного в Бородине, из боя вывез?
— Так точно, только вахмистр Елизаров да я, и под Шампенуазом оно случилось, ваше высокоблагородие.
— Ну, все едино.
— Они нам, как поправились, по тридцать рублей пожаловали.
— Так вот что. Постой тут малость, слышишь?
— Слушаюсь. А вы что ж делать станете?
— Сейчас за мной Захаржевский идет, его голос на лестнице слышал. Лакею в дверях что-то приказывал. Так я хочу, чтобы тебя увидел, спасителя своего, про которого мне рассказывал.
— А не выйдет, будто я на господина штаб-ротмистра жалуюсь? — забеспокоился Иванов.
— Нет, не выйдет. Разве я тебя подведу? — сказал Лужин и устремился обратно в подъезд, из которого почти тотчас вышел с полковником Захаржевским, которому что-то с жаром докладывал. Оба подошли к стоявшему на прежнем месте Иванову.
— Здорово, братец! — сказал полковник. — Кто ж тебя так знатно отделал?
— Командующий эскадроном господин штаб-ротмистр фон Эссен Второй, ваше высокоблагородие. Только ведь я точно что виноват был, как на манеже их высокопревосходительство, казенное проверявши, у трех кирасир недостачу открыли, — отрапортовал Иванов.
— Так, так, — кивал Захаржевский. — При мне дело было. Видно, на тебе сердце сорвал, а их помиловал…
— Никак нет, они свое потерпели допрежь меня, — смущенно сказал Иванов.
— Ну, пойдем-ка на манеж. Хочу сейчас же тебя графу показать.
— Явите милость, ваше высокоблагородие, дозвольте в эскадрон идти, — взмолился Иванов. — Не ровен час, господин штаб-ротмистр туда придут да меня кликнут. Что мне от них за отлучку будет?
— Не бойся, — сказал Захаржевский. — Я Фер-Шампенуаз помню и тебя уродовать не дам. А уволят из вахмистров, то попрошу в мой дивизион перевесть. Да еще скажи, каков к тебе Бреверн был?
— Как отец родной, ваше высокоблагородие!
— Ну, ладно. Идем.
В манеже был построен 3-й дивизион. Депрерадович еще не приехал, и граф Орлов стоял перед дверью с несколькими офицерами.
Оставив Иванова в десяти шагах, Захаржевский с Лужиным подошли к группе, и полковник громко сказал:
— Позвольте напомнить вашему сиятельству наш вчерашний разговор. Не угодно ли взглянуть, как Эссен Второй украсил своего вахмистра? Так же отделаны еще три кирасира, которые в городской строй не один день выйти не смогут. Подойди сюда, Иванов.
Генерал хмуро глянул на замершего перед ним вахмистра.
— Жаловался? — неодобрительно спросил он.
— Отнюдь нет. Наоборот, шел задним двором с уборки, когда его увидел и приказал с собой идти, — горячо сказал Захаржевский. — Ваше сиятельство знает, что я не противник наказывать за провинности, но заслуженного вахмистра так уродовать за то, что беспутные кирасиры рубахи пропили…
— Да уж, немец — мордобоец, — процедил Орлов и приказал Иванову: — Ступай в лазарет, скажи, что я велел помощь оказать — примочку или еще что. Глаз-то видит ли?
— Будто что маленько, ваше сиятельство.
Лужин догнал вахмистра у лазарета и вошел впереди него. Когда поручик передал приказ графа, молодой лекарь засуетился, приказал лечь на койку и сам наложил пахучую мазь на глаз. Сам с фельдшером укрыл одеялом и заверил Лужина, что часа через три больному будет много лучше.
— А зрение не повреждено? — спросил поручик.
— Сие мы увидим, только согнавши опухоль, — ответил лекарь.
Мазь действительно помогла, успокоила боль в глазу, и лежать было удобно, расстегнув под одеялом колет и разгладив фалды, чтобы не смялись. Но как же тревожился Иванов! Что-то делается в эскадроне? Был ли там Эссен? Что скажет, как узнает, что показывался самому графу и отправлен в лазарет?
Едва дождался, что лекарь позволил встать и сделал повязку, обмотав полголовы полотняным бинтом. Наказал завтра утром явиться и на прощанье спросил:
— Может, хочешь тут на ночь остаться?
— Никак нет, ваше благородие, отпустите в эскадрон.
— А толку от тебя что с одним-то глазом? — пожал плечами лекарь.
В эскадроне узнал, что за целый день никто из офицеров не показывался, на занятия ходили с унтерами, но от графа прибегал вестовой и вытребовал всех трех вчера битых кирасир в манеж, где, осмотрев их, разругал за пропитое казенное добро и прямиком отправил под арест на неделю.
От такой вести Иванову и подогретый в печке обед не полез в горло — ведь не покажи Захаржевский его командиру полка, отсиделись бы все трое в эскадроне, а так оказались на гауптвахте, да еще граф, наверно, проберет Эссена, — не зря же назвал мордобойцем. Тогда жди новых напастей, и поможет ли полковник, как обещался? Правильно говорил отец адъютанта Бестужева, что солдат перед командиром — как заяц перед волком…
Кое-как разобравшись с завтрашним нарядом, Иванов рано лег спать в самом удрученном состоянии. Утром не пошел на уборку — куда показаться таким чучелом в бинтах — и ровно в восемь направился в лазарет. Лекарь снял повязку, похвалил действие мази, но снова забинтовал глаз уже на трое суток, сказавши, что затек кровью и хоть будет видеть, но надобно его поберечь.
Идучи обратно в эскадрон, Иванов старался не пропустить встречных офицеров. Ох, худо как с одним-то глазом! Так и отставки досрочной не захочешь. Много ли кривым щеток наработаешь? Пестряков, говорят, с прямой ногой вот как проворно шьет. В чистую вышел, угол снял, жениться собирается. А его, окривевшего, что ждет? Накопленные деньги на себя проживать?..
— Александр Иваныч! — окликнул кто-то.
Всмотревшись, Иванов узнал лакея ротмистра Бреверна.
— Приехали их высокоблагородие? — обрадовался вахмистр.
— Приехали и тебе наказали нынче побывать, ежели сможешь.
— Приду, только под вечер. А как здоровье их?
— Они здоровы, да барыня у нас вот-вот снова разродятся, так все при них.
— А в полк им когда же? — Иванов чувствовал, что оживает от каждого слова лакея.
— Срок ихнему отпуску завтра, да вот как барыня опростаются.
Что может сделать с человеком короткая встреча! Дальше Иванову впору было пойти вприсядку. Однако хорошо, что солдат на людях чувств выказать не смеет. Только отошел от Бревернова человека, как навстречу сам фон Эссен. Сделал ему фрунт.
— Здорово, вахмистр!
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!
— Отчего завязан?
Иванов молчал, растерявшись. Что сказать? Наконец нашелся:
— Глаз вовсе не видит, ваше высокоблагородие. Господин лекарь сказали — кровью залился.
— Ну, ступай, — отпустил Эссен каким-то тусклым голосом.
«Только бы Бреверн скорей к нам вернулся», — твердил про себя Иванов, поднимаясь в эскадрон.
День прошел в ожидании. В вахмистерскую заходил барон Фелькерзам. Дал рубль, чтобы послать на гауптвахту арестованным булок. Иванов хотел спросить, чем кончилась ссора с Эссеном, да не решился.
Когда стемнело, пошел на Английскую набережную. Бреверн, пополневший против весны, провел Иванова в свой кабинет. Расспрашивал про инспекторский смотр и его последствия. Слушая, тряс головой и что-то сердито бормотнул по-немецки.
— Как супруга вашего высокоблагородия? — спросил Иванов.
— Ждем, братец, — ответил ротмистр. — Оттого тебя не задерживаю. И кабы знал про повязку, то не кликал бы. В полку завтра буду хоть на час, надобно явиться графу. Но ты пропустил, как корнеты с Эссеном побранились. А я все подробно знать к завтрему должен.
— Так они же, ваше высокоблагородие, по-иностранному кричали, — ответил Иванов. Но пересказал, что мог понять из поведения офицеров.
— Ах, молодцы мальчики! Не выдержали-таки, — похвалил Бреверн. — Сегодня ко мне Лужин заходил и сказал, что Фелькерзам у графа просился в другой эскадрон…
— Владимир Эдуардович! Повитуха вас к барыне зовет, — заглянула в двери испуганная горничная.
— Будь здоров, Иванов! — бросил Бреверн, выбегая из комнаты.
С возвращением командира все в эскадроне пошло по-старому. Все знали, чего хочет Бреверн и за что взыщет. Настроение у самого командира было отличное — наконец-то после трех дочек жена родила ему сына. Хорошо прошел и осенний парад, на который, однако, Иванов не мог выехать из-за позеленевшего синяка на скуле. Глаз, на счастье, видел почти по-прежнему, хотя скорей уставал за работой. А может, брал свое возраст и то, что работал вечерами при свече. Фон Эссен получил отпуск на полгода и уехал в Ригу, где умер его богатый дядя. Поговаривали, будто обиделся, что такое строевое рвение не было оценено, и просил графа перевести обратно в лейб-эскадрон, но тот отказал. Остались в эскадроне и оба корнета. Фелькерзам после столкновения с Эссеном осмелел и стал внимательней к службе, тем больше, что Бреверн его явно отличал.
С рождением четвертого ребенка и для ротмистра настоятельней встал вопрос о переводе в армию. Конечно, этого можно ждать не скоро, раньше трех-четырех лет его в полковники не произведут, но все-таки…
— Ты меня знаешь, Иванов, — сказал однажды ротмистр, зайдя в каморку за эскадроном выкурить трубку после проверки оружия, — я брать, как другие, в ущерб людям и коням не стану. Но у меня есть обязанность приданое дочкам запасать. Так ежели впоследствии хороший армейский полк предложат, то отказываться не стану.
— А с имения вашему высокоблагородию доходы не велики? — спросил Иванов.
— На одну бы девочку или на двух хватило бы, — сказал Бреверн, — но на четырех детей, и может, еще будут… У меня в Эстляндии родовая мыза с угодьями, теперь уже без крепостных, но с работниками и управляющим, да у жены триста душ в Тверской губернии. Нигде больших доходов не возьмешь, если с кожей не драть…
«У офицеров свои заботы, у меня — свои, — думал Иванов, проводив командира. — Конечно, пока Владимир Эдуардович в эскадроне, и мне хорошо служить. А ежели его, к примеру, переведут на другой, как бывает «для пользы службы»?.. Вон полковника Захаржевского, сказывают, в генералы представили, вот-вот дадут новое назначение. Спасибо, тогда заступился, а больше на него не надейся. Коли уйдет Бреверн, а Эссен или другой такой же командовать станет, так опять не миновать беды… Заяц перед волком…»
В будничный октябрьский день, когда кирасиры были на вольных работах, а Иванов сидел за своими щетками, вестовой из канцелярии принес ему письмо.
Сломав сургучную печать, вахмистр увидел исписанный кругом лист и прочел:
«Октября 2-го дня 1827 года.
Любезный друг мой Александр Иванович!
Пишу из благословенного града Лебедяни, приставши у знакомого тебе диакона Филофея, который усердно за тебя молится, желает доброго здравия, успешного служения царю и отечеству и столь же усердно со мной дискутирует о красотах церковных песнопений православного чина и творений пиетических, запивая аргументы из чарки нектаром, низкое качество коего на совести здешнего откупщика. Я же имею тебе сообщить, что на пути из Варшавы на заводы, как тебе обещался, завернул-таки 20 сентября в город Епифань. Облачась на постоялом дворе в полную форму, проследовал я пешой, ибо погода тому благоприятствовала, а день был воскресный, в родную тебе Козловку, где в церкви только отошла обедня. Без труда разыскавши двор батюшки твоего Ивана Ларивоныча, застал я все семейство за столом, исключая баушки, коя обреталась на печи, и несмышленых младенцев, качавшихся в зыбках или ползавших по полу. Все десять душ сего семейства пребывают в вожделенном здравии, чего и тебе желают. Пробыл я с ними более часу, упражняясь в разумной беседе про погоду, урожай, ихнего барина и, главное, про тебя, каковому старшие шлют родительское благословение, средние — братскую любовь, а младшие — низкие поклоны. Ощутив ихний достаток через вкушение пирога с рыбой, не поспел от них уйтить, как прибег барский посланец, просивший меня пожаловать к господину Карбовскому. Ради твоих здешних дел от того не уклонившись, увидел я сего барина точно таким, как изобразил ты в своих рассказах, но еще пуще раздобревшего и от тучности почти недвижимым. Однако изрядно с ним закусили и выпили. Думать надобно, что по делу своему придется тебе писать уже его наследникам, ибо невоздержанность в приятии благ земных даже богатырскую натуру его вскоре пересилит. Расстались мы с клятвами во взаимной вечной дружбе, принесенными мною ради блага твоих родичей, каковые уповают на бога и на тебя. На сем и закончу сие послание, чая, что ты жив, здоров и любишь меня, как я тебя люблю.
Верный благожелатель твой ротмистр и кавалер Красовский, числящийся ноне волею цесаревича по легкой кавалерии, благодаря чему отрастил уже знатные усы, увы, полуседые, ежели после бани смотреть.
Перечитавши, припишу еще вот что. Новый чин, выше прописанный, получил я также не по линии, а за услуги его высочеству по конюшенной и манежной части, так что из полуторагодовой командировки возвращаюсь нонче на заводы двумя чинами выше, нежели отъехал в Варшаву. Сообщаю тебе сие не из пустого тщеславия, из коего об усах писано, а дабы поощрить отважиться на экзамены, когда придет тому время. С получением тобою офицерского чина я осмелюсь обратиться к его высочеству с ходатайством об определении твоем на заводы, где пребываю и кои расположены не так далече от родных твоих мест. В рассуждении такого будущего я, благодаривши его высочество за чин и одновременно откланиваясь при отъезде, отважился доложить про тебя, прося, буде станешь корнетом, назначить не в строй армейских полков или в фурштат, а в коннозаводство, под мое начало, что всецело зависит от генерал-инспектора кавалерии. И его высочество ответили: «Конногвардейцы всегда моим любимым полком были. Пиши прямо мне, когда твой приятель чин получит, и определю его тебе под бок». Так-то, любезный тезка. А засим vale, что значит по-латынски «прощай», друг мой».
Дочитав письмо, Иванов задумался: «А не взяться ли теперь же помалу за науку? Что верней для спасения от Вейсмана, Эссена или другого живодера, чем производство в корнеты? Не глупей я унтеров, которые все нужное наизусть выдалбливают. Завтра же посоветуюсь с Владимиром Эдуардовичем. Десять лет в унтерах будет через три года, а к тому времени и его в полковники произведут… Готовь сани летом, а телегу с осени…»
На другой день Бреверн не показался в эскадроне, время было тихое, видно, надобности не случилось, а вахмистр сходил в полковую канцелярию, где старший писарь сказал, что знает учителя из кантонистов, который за пятьдесят рублей берется подготовлять унтеров к офицерскому экзамену, ежели они грамотны. И живет он близко, так что можно вечерами отлучаться.
А назавтра командир эскадрона пришел еще затемно на уборку и, встретясь у дверей конюшни, сказал Иванову:
— Есть у меня, Александр Иванович, для тебя новость, про которую вчера с Захаржевским толковали. Может, место тебе хорошее схлопочем, только придется в пехоте дослуживать.
— А сумею ли, ваше высокоблагородие, век в коннице состоявши?
— Сумеешь. Погоди, после уборки все растолкую.
Через полчаса, сидя в вахмистерской каморке, Бреверн рассказал, что вчера вышел указ царя министру двора сформировать из нижних чинов гвардии новую, доселе небывалую воинскую часть — роту дворцовых гренадер для несения почетной караульной службы и надзора за порядком во дворцах. В полки нынче или завтра поступит приказ отобрать нижних чинов, заслуженных на войне и безукоризненного поведения. Фельдфебеля и вахмистры станут там гренадерами первой статьи, и жалованье им положено будет по высшему окладу, как он сейчас получает — больше ста рублей в год при столе от дворцового ведомства; а унтера и ефрейторы — гренадерами второй статьи с жалованьем в семьдесят рублей, и всего-то в роте будет 100 гренадер, живущих в особой казарме вблизи дворца…
— Ну, что скажешь, вахмистр? — спросил в заключение командир эскадрона. — Жаль тебя лишиться, раз еще годы мне эскадроном командовать, но и пропустить такое для тебя благо совесть не велит. Встретясь вчера в гостях, поговорили мы с полковником и решили тебя рекомендовать в ту роту…
— Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, — сказал Иванов. — Век стану бога молить, за службу мою стыдиться не будете. За себя одного я в полном ответе…
Неделя прошла для Иванова в непрерывном волнении, щетина и дратва валились из рук, еда не лезла в горло. По полку шел упорный слух, что в новую роту отберут только тех, кто выслужил полных двадцать лет. А у него всего девятнадцать с месяцем. Неужто же такое назначение мимо пройдет?.. Видно, командир эскадрона не знал про года, когда обнадеживал, — недаром теперь начисто молчит. Однако встреченный на дворе в исходе недели поручик Лужин сказал, что Захаржевский с Бреверном ходили по его делу к генералу Орлову.
Наконец 25 октября в полковом приказе прописали 10 конногвардейцев, которым надлежало завтра к 7 часам утра идти во дворец великого князя Михаила, где назначен смотр отобранным по полкам. В числе их стоял вахмистр 3-го эскадрона Иванов Александр.
В полутьме осеннего утра долго вытирали сапоги об волосяные маты и поднимались по широкой беломраморной лестнице, устланной красным ковром. По навощенным паркетам через несколько залов с окнами в облетавший сад вошли в огромный угловой, где выстроились в длиннющую шеренгу с интервалами между кандидатами разных частей. Ничего не скажешь — молодец к молодцу, герой к герою. Хоть лица у многих в морщинах, но густая фабра закрасила седину, и выправка у всех — юноши позавидуют. Стояли по команде «вольно», переглядывались да гадали, как пройдет для каждого смотр, а приведшие команды офицеры со списками в руках разговаривали вполголоса, стоя у окон или присев на банкетки.
Все это утро Иванов чувствовал себя, как говорится, не в своей тарелке. С той минуты, как проснулся, подбитый Эссеном глаз застилало движущейся сеткой, точно мимо него одного шел частый дождик. Не больно поправили его лекаря, а дальше, верно, и того станет хуже… Так что же, доложить про то начальству и проситься, как окривевшему, в инвалид, когда такая служба благодатная выходит? Ну нет, больным сказаться всегда поспеет, а пока надобно разузнать толком, что в гренадерах дворцовых делать предстоит… Только бы нонче не заметил великий князь, что не видит почти одним глазом, не залился б он кровью, как было…
Когда часы по всему дворцу начали отбивать девять, стоявший около двери во внутренние покои ливрейный лакей поднял руку, офицеры повскакали с банкеток, а старший по чину, полковник Измайловского полка, скомандовал:
— Смирно! Глаза напра-во!
Стремительно вошел, почти вбежал великий князь, по-домашнему без шпаги и шляпы, в артиллерийском сюртуке с эполетами. Остановись у правого фланга, хрипло крикнул:
— Здорово, молодцы!
После стройного, как из одной груди, ответа он откинул руку назад, и подскочивший адъютант вложил в нее аккуратную палочку мела. Выставив ее тычком вперед, великий князь пошел боком вдоль строя, переступая и подшаркивая со звоном шпор, вглядываясь на миг в лицо очередного кандидата и бросая: «Гренадер… Гренадер… Гренадер…» — одновременно чиркая на груди мундира какую-то загогулину вроде буквы «г».
Измайловский полковник, а за ним другие офицеры со списками шли следом, ступая на носках, чтобы не заглушить негромкое бурканье великого князя.
Иногда Михаил Павлович, откинув мел в сторону, переступал мимо гвардейца, сказавши:
— Брак — воспенный…
Или:
— Открой рот!.. Брак — зубы черны…
Подойдя к строю кавалергардов, стал чиркать свои меты на алых погонах, раз на белых колетах меловой знак не виден.
Прошаркивая мимо Иванова, черкнул ему по погону, и, когда был уже человека на три дальше, вахмистр понял, на кого старается походить «Мишка рыжий». На виденного им еще во время войны старшего брата, цесаревича Константина. Так же сутулится, так же встряхивает эполетами и хрипит, так же подволакивает ноги или взбрыкивает ими.
Закончив обход, великий князь вернулся к середине фронта и, еще более хрипя, видимо играя под старого генерала, отрывисто сказал три десятка слов о великой милости государя, который отличил лучших служивых гвардии — назначает их охранять свою особу и приглядывать за придворной прислугой, — чтобы оправдали такое отличие, преданно несли обязанности близ священной особы монарха, на что он, как командир гвардейского корпуса, вполне надеется.
Выслушав дружное «Рады стараться, ваше… ство», Михаил Павлович повернулся на каблуках и так же стремительно выскочил из зала.
Всех свели по парадной лестнице в нижний этаж, и по пятам за солдатами сновали лакеи с курильницами, гнали из дворца их грубый запах. Забракованным приказали идти по своим частям, а остальных провели во флигель, где в большой комнате с висевшими по стенам фехтовальными масками, рапирами и эспадронами разбили на три очереди к трем закройщикам с подручными, которые начали снимать мерки для нового обмундирования.
Стоя в своей очереди, вахмистр слышал разговор двух молодых офицеров, что больше всего отобрали измайловцев, оттого что они любимый полк государев еще с юности, и конногвардейцев, которые отличились в первый день воцарения. И верно, из Конной гвардии великий князь никого не забраковал…
Но этот разговор мало занял Иванова. Он был поглощен радостью, что попал в число ста редких счастливцев, отобранных из сорока тысяч унтеров и солдат. Гренадер 1-й статьи, значит, равен с другими в строю, без всякой команды под началом, а жалованье получит, как вахмистр старшего оклада. И казарму, наверно, дадут такую, что ремеслом в свободное время сможет заняться. А главней всего, что не станет его каждодневно ругать и бить какой-нибудь Эссен. Хотя, конечно, и тут офицеры будут всякие, да отвечать-то перед ними только за себя. А пехотный строй — дело нехитрое… Все не верится! Да уже если мерку сымают, так не зря…
Двадцать восьмого октября вахмистр получил приказ сдать старшему из унтеров должность и 2 ноября явиться в Шепелевский дом, рядом с Зимним дворцом, в котором назначено квартировать новой части.
Перед последней ночевкой в своей каморке Иванов пошел к Андрею Андреевичу, у которого со всеми неприятностями и волнениями не бывал больше месяца. И денег за это время наработал мало — всего рублей двенадцать. Их, так же как полученные нынче в полный расчет с Конным полком девять рублей, решил оставить себе на обзаведение по новому месту, так что шел теперь только рассказать про перемену в службе.
Андрей Андреевич принял, как всегда, приветливо, порадовался вести, что родичи живы, наказал прийти рассказать про новую должность, как только определится, сообщил, что недавно получил письмо от Грибоедова. Он с армией генерала Паскевича, при котором служит для письменных сношений с персианами, стоял, когда отправлялась почта, под крепостью Эриванью и уверен, что война скоро окончится, оттого что враги разбиты и готовы к мирным переговорам, которые вот-вот начнутся.
— А про князя Александра Ивановича чего не слыхали? — спросил Иванов перед уходом.
— Нет, братец, — покачал головой Жандр. — Если бы старый князь жил тут, так хоть что-то для меня доходило, а так просто неоткуда. Уверен только, что Александр Сергеевич про друга своего не забыл. Генерал Паскевич, ныне первый государев любимец, женат на близкой родственнице Грибоедова, и сей последний, каждый день с генералом на походе запросто видясь, конечно, не упустит случая через него просить царя облегчить судьбу бедного Одоевского. А уж что из того последует, один бог знает…
За Прачечным мостом Иванов сошелся с также возвращавшимся в казармы унтером 4-го эскадрона Василием Крыловым из числа назначенных в дворцовые гренадеры.
— Не слыхал ли чего нового, Александр Иваныч, про будущую службу? — спросил Крылов.
— Сам, братец, гадаю. Думать надобно, полегше здешней окажется, — степенно ответил Иванов.
— Оно так, да мне, веришь ли, с конями вот как жалко расставаться. Нонче своему Баранку два раза краюхи носил, — сознался Крылов. — А еще сумневаюсь, как сумеем над дворскими холуями надзирать… Свары с тамошним народом не оберешься.
— С чего взял такое? — удивился Иванов.
— Так и ты ж слышал, как великий князь сказал, что за дворской прислугой нам приглядывать положено. Так солдатское ль оно дело? Аль и не к тому обвыкали?..
Через несколько минут они разошлись по эскадронам, но слова унтера смутили Иванова, омрачили радостные надежды. К своему Алкиду и он нынче заходил утром, снес ему хлеба с солью, на прощанье надышался конюшенным сладким духом. А вот второе, о чем сказал Крылов, вовсе на ум не приходило. Не новая ли в том ждет напасть? Ворочаясь в темноте вахмистерской каморки, Иванов вспоминал свое да и других конногвардейцев неприязненное отношение к многочисленной дворцовой прислуге, особенно к лакеям — сытым, разодетым, в большинстве ленивым, бесцеремонным, а порой и наглым с заслуженными солдатами, маявшимися в неподвижности на постах в карауле… Что же, их подтягивать многие недавние гвардейцы с охотой станут. И службу ихнюю постигнуть, поди, не мудрено. Но тем — верно Крылов сказал — и сам как бы в холуйскую службу войдешь, к которой сердце вовсе не лежит. И опять же за кого-то отвечать, вроде как тебе подчиненного. Как бы не вышло «из огня да в полымя»?..
Нонешней ночью самое время в мыслях проститься с Конным полком, в котором пятнадцать лет прослужено. Кроме коней, которых Крылов правильно вспомнил, еще жальче, конечно, расстаться с добрыми людьми, как господа Бреверн и Лужин да несколько товарищей-кирасир… За конями на службе заботливый уход всегда будет, а солдат, если начальство сменится, невесть что ждет… Но самое лучшее, что в полку было, все связано с бедным князем Александром Ивановичем. Память о его доброте, заботах, гостеприимстве и тепле его дома, о друзьях его, которые, так же как он, о простом народе радели, с собой уносишь на новое место, и с этими воспоминаниями до смерти не расстаться…
Да, было, что он, сдаточный крестьянский сын, малограмотный унтер Иванов, вместе с князем Александром Ивановичем и его друзьями возмечтал о несбыточном — о том, чтобы всем крепостным воля пришла. А прав оказался немудрящий старик Никита Петрович, уверенный, что господа того ни за что не допустят. Но, должно быть, прав и другой старик дворовый, имени которого не узнал, и еще фабричный с русой бородкой на площади, когда говорили, что если б всем солдатам разом подняться, то кто б с ними сладил? Только не сыскался средь друзей князя Одоевского такой вожак, чтобы вовремя всем скомандовать. Может, сыщется когда еще?.. А пока, идучи служить во дворец, обо всем этом надобно там молчать, будто в башке твоей только положенные солдату мысли, а на губах вовек, кроме уставных ответов, ничего не бывало. Строй да ремесло — вот твоя дорога, дворцовый гренадер Иванов.
— СУДЬБА ДВОРЦОВОГО ГРЕНАДЕРА —
Рота ветеранов
1
До этого дня Иванов знал Шепелевский дом только снаружи да кое-что запомнил из слышанного от дворцовой прислуги на караулах в Зимнем. Четырехэтажный, на жилых подвалах, он главным фасадом выходил на Миллионную и вторым — на Зимнюю канавку. Его часто называли Шепелевским дворцом, потому что здесь жил когда-то Потемкин и теперь квартировали господа немалого ранга.
«В такой казарме держи ухо востро — все время на глазах у высшего начальства», — думали утром 2 ноября конногвардейцы, отбивая шаг по Дворцовой площади.
От экзерциргауза увидели поставленного у Зимней канавки унтера-измайловца, который взмахивал рукой, подзывая к себе. Поравнявшись с ним, старший вахмистр Таран скомандовал:
— Кирасиры, стой! — И спросил: — Куда ж нам, браток, идтить?
— Вона с канавки ворота, кавалер, там пригонка формы идет на новый манер, — отозвался махальный.
— По полкам аль как? — осведомился Таран.
— Новым списком, раз все гренадерами ставши, а старые полки вовсе смешавши, — пояснил унтер. — Сами командир роты новых унтеров выкликают, раз им допрежь других формы пригоняют.
Сквозь глубокую арку вошли во двор, с двух сторон охваченный Шепелевским домом, а с двух других — эрмитажными зданиями. Середину двора занимало строение с высоко прорезанными окнами. Из его дверей придворный конюх выводил пару оседланных лошадей. От такой встречи Иванов повеселел: «Коли казарма рядом с царской конюшней, то можно хоть гляденьем порадоваться, а то и почистить допустят, как скажу, из какого полка».
Второй махальный указал конногвардейцам крыльцо, и через темные сени они вступили в большую залу. К стенам ее были придвинуты новые обеденные столы, под ними сложены табуретки, а на столах лежали узлы в коленкоре, к которым пришпилены записки с именами. У столов, разыскивая свое имущество, толклись солдаты с разноцветными воротниками шинелей. Но еще теснее окружали они что-то на середине комнаты. Поняв, что узлы разложены «по азбуке», Иванов быстро нашел свое имя с добавлением звания «гренадер 1-й статьи».
Тут гомон солдатских голосов разом смолк. В дверях соседней комнаты встал лысоватый капитан в мундире гвардейской артиллерии с солдатским «Георгием»— видно, командир новой роты.
— Живо разобраться по узлам! — скомандовал он. — Что за базар у кроватей собрали? Ужо разглядите, всем такие будут, а сии не трогать, сами господин министр нонче смотреть придут. Да не галдеть, а слушать, кого кликнут к примерке. Грамотные, помогите товарищам ихние узлы сыскать!
Приказал и ушел обратно в смежный покой.
«Кровати! Вот оно что!»— про себя ахнул Иванов. И верно: две деревянные, крашенные зеленой краской, с одеялами и подушками, стоят посреди комнаты голова к голове, хорошо видные сейчас, когда все отхлынули к узлам. И поздно приказал, чтобы не сбивали, — никак все углы одеял заворочены: знать, их щупали, заглядывали, каковы матрацы, есть ли простыни. Зато ему и отсюда видать, что простынь две и матрац толстый, ровный, никак волосяной. На этакой кровати и разу не спато за всю жизнь…
В дверях встал писарь со списком:
— Гренадеры Алексеев, Анисимов, Баланин, Гордеев, Донец!
Навстречу выходили унтера, уже переодетые в новые однобортные черные сюртуки с красными воротниками, как и обшлага, обшитыми широким золотым галуном, с погонами из такого же галуна. В руках несли узлы. В одном — старая форма, в другом — мундиры с золотыми петлицами на груди. Да еще под мышкой у каждого — шапка медвежьего меха с золотым кутасом, какие были в прошлую войну у наполеоновских гвардейцев.
В третьей пятерке писарь выкликнул Иванова. Когда тот взял со стола свои узлы, за ними открылись еще два, на ярлыках которых стояло: «Гренадер 2-й статьи Савелий Павлухин».
Примерка шла во второй длинной комнате, и на таких же обеденных столах раскладывали новую форму, если что оказывалось нужно переделать. Здесь за всем приглядывал высокий поручик, тоже с солдатским «Георгием», но в новом мундире с частыми золотыми петлицами на красных лацканах, воротнике и обшлагах. От этой нарядной формы и пуще от горделивой посадки круто завитой головы с большим носом да от неторопливой поступи с выкаченной вперед грудью поручик походил на петуха. Но он зорко оглядывал всех заново одетых гренадер и указывал портным каждую морщинку или неплотно пригнанную талию, приказывая черкнуть тут и там мелом, отложить для переделки.
Иванову все пришлось в самую пору — недаром первый раз в жизни шито по его мерке. Когда возвратился к месту, где брал свои узлы, около него стоял давешний махальный — унтер.
— Ты, знать, и есть Савелий Павлухин? — сказал Иванов.
— Всепокорнейший слуга перед вами, как дуга, — ответил унтер с поклоном и, подхватив свои узлы, добавил: — Мне к примерке череда, вы ж пожалуйте сюда.
— Неужто завсегда так складно говоришь? — удивился Иванов.
— От господ я так приучен, чтоб ответ мой не был скучен, — отозвался Павлухин.
— Из дворовых, что ли?
Разговор прервал капитан, опять вставший в дверях:
— Кто кончил примерку, тем переодеться в прежнюю форму. Чтобы в аккурате то делать, разрешаю брать из-под столов табуретки. А как увяжете узлы, то выходите с ними на двор. Скоро пойдем в Павловский полк, где временное квартирование.
В казармах вошли в свежевыбеленное светлое помещение с новыми чистыми нарами и старыми, засаленными столами. Капитан приказал размещаться, а сам вышел. Оказавшийся поблизости Павлухин и тут тотчас забормотал:
— Про кровати — тары-бары, а ложись на те же нары. Да еще не только с жаром, новоселье здесь с угаром…
Действительно, от свежевыкрашенных печей шел запах подгорелой масляной краски. Кое-кто из гренадеров заворчал, другие стали вынимать печные вьюшки, отворять фортки. Капитан вернулся, сопровождаемый толстым поручиком.
— Как сие понимать, господин смотритель? — строго заговорил командир роты. — Я самолично четвертого дня вам передал приказ подготовить помещение к нонешнему утру и словесно пояснил все должное, а ноне вижу тому полное небрежение, раз собираетесь дворцовых гренадер за такие сальные кормушки сажать.
— За краткостью срока… — начал было смотритель.
— Резонов ваших не принимаю, — остановил его капитан. — И ежели через час не явятся здесь чистые столы и лавки, полные обеденные приборы, а к вечеру фонари и бочонок под квас, то упреждаю, что с должностью своей проститесь. Рапорт мой, ноне же поданный, завтра доложится самому государю. Они об устройстве сей роты изволят справляться и не потерпят малейшего упущения.
Поручик, более не возражая, почти бегом направился к выходу. За ним неспешно вышел капитан, и гренадеры загалдели:
— Крепко смотрителя прижал! Будет знать нашу роту!
— А коли верно у него столов новых нету? Побелку да покраску сделал, нары новые постлал…
— Так и столы хоть вымыть мог, сало соскресть…
Через полчаса солдаты нестроевой полуроты заменили столы и лавки не новыми, но вполне чистыми, принесли горы оловянных тарелок, кружки и ложки. А тут на телегах привезли из дворца обед. Спели, по обычаю, молитву и засели за еду. Щи оказались мясные, с крупой и лавровым листом. Таких в полках даже по светлым праздникам не едали. Потом накладывали сорочинской каши да еще налили киселя по кружке.
Только поели, как вошли капитан с похожим на петуха поручиком, и кто-то из унтеров заорал:
— Встать смирно!
Когда все поспешно обратились к нему лицом, капитан сказал:
— Покуда письменных приказов по роте нету, которые будет вам фельдфебель вычитывать, слушайте, гренадеры, мое первое наставление. Я — командир новой роты Егор Григорьевич Качмарев, а они, — указал на поручика, — мой помощник, Василий Михайлович Лаврентьев. Сейчас будем вас определять в ранжир и разбивать по капральствам. Вам толковать нечего, чтобы крепко помнили свое место в ранжире, которое есть основа строя. Опосля разбивки можете отлучиться в город до восьми часов, то есть до поверки, чтобы из полков свои пожитки принесть. А которые семейные, тем на ихних квартирах жить дозволяется, без малейшего, понятно, ущерба службе. Завтра привезут шинели, фуражные шапки, сапоги и то из одёжи, что переделать взяли. В среду доставят амуницию, полусабли и ружья. Их пригоним и кажному устроим строгий смотр в новой форме. В четверток здесь оденетесь, и, впервой строем прошедши, отслужим молебен в дворцовом соборе. В пятницу все разносят прежнюю форму по полкам. В субботу и воскресенье — отдых, а с того понедельника начнет рота службу: бывшие пехотинцы пойдут в наряд, а прочие — на выучку по пехотным артикулам… — Капитан был мастер говорить, все шло у него без малейшей запинки. Здесь он приостановился, достал из рукава платок, утер губы и продолжал более торжественно: — Его сиятельство господин министр императорского двора генерал-адъютант князь Волконский, коему подчинена наша рота, поручил мне объявить вам, что, окромя оклада, унтер-офицерам прапорщицкого, гренадерам первой статьи фельдфебельского и гренадерам второй статьи унтерского государь жалует всем по второму окладу, так что унтера будут получать семьсот рублей в год, первая статья — по триста пятьдесят, а вторая — по триста рублей. Слыханное ли дело? Рядовые — словно господа чиновники по всей империи!.. Как кормить будут, сегодня испытали. Оденут, как придворных чинов, и кровати его сиятельство пробные утвердили, так что и спать станете по-господски… Но зато, други любезные, — капитан заговорил еще значительней и раздельней, — помните, что поведением должны отвечать за все сие таковским, чтобы и малейшего нарушения порядку не случалось. Я начальник заботливый — все положенное будете сполна получать до полушки, до золотника. Но к нерадивым и пьяницам вот как строг. Нисколько мирволить не стану, сряду обратно по полкам пойдут. Запомнили?.. Ну, братцы, поздравляю с небывалой монаршей милостью.
— Рады стараться, ваше выс-ко-родие! — гаркнули гренадеры.
Иванов пришел в эскадрон, когда кирасиры были на учении, и не спеша уложил в большое отделение сундучка все касаемое щеточного ремесла. А в меньшем, отгороженном досочкой, всегда хранил, что вынес с 7-й линии: иконку, коробочки, в которых нашел деньги, игрушки и ножницы. Нонче туда же положил две полотняные рубахи — подарок князя Одоевского, — после того как услышал разговор кирасир, что казенные при тесном колете до крови натирают подмышки…
Эх, где-то он, добрейшая душа, сейчас страдает, когда дядьке его бывшему так повезло?..
К сундучку на ремешке привязал противовесом все спальное — хорошо, не роздал соседям по нарам, — войлочек, подушку и одеяло.
Тут пришли кирасиры и обступили с вопросами. Потом новый вахмистр скомандовал на вечернюю уборку коней и вместе со всеми вышел из эскадрона. Прощай, Конная гвардия!
А когда возвратился в Павловские казармы, там ясно горели фонари, в углу на табуретке стоял бочонок с квасом, а на столе в корзине — привезенные из дворца свежие сайки и в медном баке густой сбитень. Истинно все по капитанову слову.
Еще у крыльца увидел курившего трубку Павлухина. Когда, закусив, вышел встряхнуть одеяло, снова встретился с ним.
— Быстро ты обернулся, — сказал Иванов.
— Не ходил я вовсе, — отозвался Савелий. — Вот понесу старую одёжу и в роте покажу свою рожу. Похвастаю новым мундиром, сундучок подхвачу и отбуду с миром.
— А спать нонче на чем? На голых досках? — спросил Иванов.
— На дворское надеясь, маху дал. Все тряпки спальные вчерась в полку продал, — болтал Павлухин, — зато в трактире ближнем удовольствие обрел, знакомство первое с сим заведеньем свел… Тут рядом! Противу Круглого рынка, — добавил он в пояснение.
— Будто не слышал, что нонче капитан про загулы говорил! — наставительно напомнил недавний вахмистр.
— Я нонче выпил саму малость, чтоб без подухи слаще спалось, — сыпал Савелий.
— Так хоть шинель мою на ночь возьми, — предложил Иванов.
— За то вам благодарность велия от самого Павлухина Савелия, что нонешний дворцовый гренадер да прежний русско-прусский кавалер… — Он ткнул в своего «Георгия» и в Кульмский крест…
— Неужто же этак подряд можешь всякий разговор весть? — спросил Иванов.
— Почти что всякий, ежели захочу, а иногда и без хотенья. Дед мой редкостный прибаутошник был, и у меня сызмала пошло, будто сами слова на язык складно лезут. Даже на службу за то самое попал. Был у барина своего любимый слуга, а потом и сболтнул ему не по ндраву, что все дворовые подхватили… Оченно трудно поначалу в полку было виршей начальству не брякать, что за надсмешку могли принять. А потом — ничего, многие офицеры даже до целкового награждения давали. Так позволь-ка мне шинель свою, браток, спать на оной будет помягче чуток…
Лежа на нарах, Иванов смотрел на тускло освещенный дежурным фонарем потолок: «Да не сон ли? Жалованье триста пятьдесят рублей в год! Младшие офицеры столько же получают. А тут на всем готовом. Как столько прожить? Разве пропить… Ох, Савелий, забулдыжная, видать, башка. Сразу трактир поблизости сыскал… Из такого жалованья и без щеток Жандру триста рублей за год шутя отнесешь… А сукно на мундирах да на сюртуках тонкое, глянцевое — прямо офицерское… Неужто же правду Дарья Михайловна еще в Лебедяни сказала, что в сорочке родился? Нонешняя служба воистину на то схожа. Завтра коли шинели выдадут да в город отпустят, то надобно к ротмистру и к полковнику пойти, благодарить за хлопоты… А здешние оба офицеры по «Георгиям» солдатским да по повадкам, видать, из рядовых выслужились. Ох, и чудно же все!.. Неужто Эссенову рожу злобную больше никогда не видать, зуботычины не ждать да и самому никого не бить?..»
Форму и снаряжение всем пригнали, молебен, на который пришел сам министр, выстояли, и началась новая служба. Поручик Лаврентьев занялся караулами и строем с коренными пехотинцами, которые казались ему «не дотянутыми до градуса». А ружейным приемам кавалеристов и артиллеристов начал обучать Качмарев. Он последние годы служил учителем фехтования, а также сабельных, тесачных и ружейных приемов в Дворянском полку. И теперь, как недавно юнкерам, неторопливо растолковывал, повторял каждый темп, без брани поправлял пальцы и локти. Правда, и ученики были старательные — все почти недавние унтера.
На занятия с капитаном отводилось только утро, потом он уходил хлопотать по делам роты, а ученикам наказывал:
— Полируйте прием до полного блеска еще часа по три, чтобы руки, ноги, шея, брюхо — все составы без малейшего опоздания свой ход сполняли. Через десять дён строгий экзамен сделаю и зачну на дежурства по дворцовым покоям назначать, а поручик пехотному строю учить станет. На то еще две недели, потом в караулы заступите наравне с коренными пехотинцами. То, что на парадах нашей роте старше всей гвардии место брать приказано, надо образцовой службой оправдать.
Сам Качмарев вполне «оправдывал» новое назначение тем, что в течение дня непрерывно переходил от дела к делу то во временной казарме, то в Шепелевском доме. Не один раз спускался он в полуподвал, где в трех больших сводчатых помещениях работали печники, плотники и маляры, устраивая цейхгауз, кухню и столовую. Работали маляры и в первом этаже, где к двум спальным комнатам добавляли еще «сборную залу». Уходило время и на приемку кроватей с постелями, столиков, табуреток, вешалок и ружейных пирамид, которые постепенно заполняли помещения. В промежутки капитан заходил в ротную канцелярию, где диктовал писарю Екимову требования на продовольствие, мыло, свечи и прочее потребное. А вечерами, оставшись здесь один, прочитывал послужные списки новых подчиненных, присланные из полков. Случались и спешные дела, неожиданные даже для такого опытного служаки. Таков был заказ мягких сапог. Поначалу всем гренадерам были «построены» опойковые сапоги на толстой подошве. Но через неделю после начала службы царь приказал носить их только в строю при мундирах, медвежьих шапках и оружии, чтобы отчетливо слышалась «нога» идущей смены караула, а дежурным в залах бывать в сюртуках, без головных уборов и полусабель и ступать так же беззвучно, как дворцовая прислуга. При этом случае Качмареву потребовалось не только спешно заказать сто пар сапог с тонкой подметкой, но еще и вдолбить гренадерам, что в них строго воспрещается «печатать» при встрече с начальством, как привыкли за много лет службы.
Дважды в неделю капитан направлялся с докладом к самому министру двора, который приказами по дворцовой и военной части торопил размещение роты на постоянной квартире. Наконец, не один раз ездил в казармы гвардейских полков, где жили с семьями двенадцать женатых гренадеров. Для них начали ремонтировать квартирки в различных углах огромного дворцового квартала. Требовалось не только присмотреть за этим ремонтом, но еще решить, кого раньше переселять. Словом, командиру хватало дел с рассвета и намного позже заката уже зимнего солнца.
А поручик Лаврентьев тоже ревностно занимался, но одной строевой службой. Первую неделю сам разводил часовых по постам, разводил и дежурных, наставляя в обязанностях, как написал сам царь, «иметь надзор за порядком в залах и за целостью имущества». А со второй недели ежедневно водил свободных от наряда в экзерциргауз, стоявший против дворца.
И здесь без устали репетировал построения, церемониальный марш и ответы на царские слова для предстоявшего 25 декабря первого знаменного караула в Военной галерее во время церковного парада в память изгнания французов из России. Для такой службы поручик был отменно подготовлен. Очень высокий и прекрасно сложенный силач, он лет двадцать пять назад был взят по набору прямо в Преображенский полк, старейший полк гвардии, в котором получил фрунтовую выучку. Да к тому же обладал зычным голосом и ясным произношением, как бы созданным для командных возгласов. Протянув лямку унтера двенадцать лет, пролив не раз кровь в боях и украсившись крестами и медалями, Лаврентьев был произведен в армейские прапорщики, а в 1820 году переведен в «новый» Семеновский полк.
Получив от царя приказ подобрать для дворцовой роты офицеров из бывших заслуженных солдат гвардии, великий князь Михаил придал Лаврентьева в помощники письменному, хозяйственному Качмареву. Такой не даст гренадерам растерять фрунтовые навыки. Прохаживаясь вдоль фронта, перед тем как начать учение, он гордо откидывал голову назад и благодаря длинному носу и весьма заметному кадыку становился особенно похож на петуха, каковое прозвище и получил вскоре от гренадер.
Первый пост дежурства, на который поручик отвел Иванова, заключал Половину императрицы Марии Федоровны. Здесь во время дворцовых караулов конногвардейцы не стаивали — вдовая царица почти безвыездно жила в Павловске. Но комнаты ее содержались, будто могла приехать в любую минуту. Гренадеры здесь дежурили только с восьми часов до полудня, пока топили печи и обтирали пыль. В двух гостиных, туалетной и опочивальне, выходивших на площадь и закрываемых после полудня на ключи дежурным гоф-фурьером, было на столах и полочках много альбомов, шкатулок, фарфоровых фигурок, флаконов, щеток и гребешков. Первые два дня Иванов беспокоился: как за все это отвечать? Разве можно запомнить, где что лежит? Но потом решил, что здесь топят и убирают всё те же служители, — они же за все и в ответе. Но тогда зачем его здесь ставят?..
В комнаты почти никто не заходил, отчего пыли неоткуда было взяться, и настоящего жилого тепла здесь не требовалось, поэтому уборка и топка печей проходили быстро. Часто в конце дежурства Иванов оставался совсем один и, беззвучно маршируя по залам, вслушивался в тишину этой части дворца, расположенной в стороне от нонешних парадных покоев и жилых комнат царской семьи. Внятно тикают часы на каминах, иногда хрустнет блестящий фигурный паркет, звякнут хрустальные листья или бусины люстр. Еле уловимо пахнет не то воском от полов, не то сандалом или кипарисом от какой-то шкатулки. Все здесь нарядно, но тускло — всегда спущены белые шелковые шторы. Только когда истопники открывают печные дверки и шевелят кочергой пылающие дрова, вдруг побегут по паркетам живые дорожки и отблески огня заиграют на спинках золоченой мебели, на рамах картин.
Самая большая комната — Тронная, в ней высокая белая печка с медными начищенными створками. Когда они распахиваются, то разом загораются ряды золотых орлов, вытканных на красном бархате, покрывающем стены, бегут блики по серебряным торшерам и стенникам, танцуют на золоченых базах беломраморных колонн. А в соседней в розовой гостиной у стен сидят, поджав ноги, большие фарфоровые китайцы. Шапки у них островерхие, воронкой, глаза косые, смотрят вниз, усы тонкие, мышиными хвостами, руки вытянуты к коленям ладошками вниз, но их не касаются. Одежда голубая или желтая в серебряных завитушках. Когда проходишь мимо, китайцы все по очереди начинают плавно качать головами и руками. За то время, что обойдешь свой пост, они уже успокоились, чтобы снова начать так же кланяться. Ходи да осматривай их и маленькие фигурки — зверей, голеньких ребят с цветами и девиц с овечками, которые стоят на полочках, и то еще, что изображено на картинах. А надоест — так выгляни на площадь, где ездят санки, кареты, верховые придворные рассыльные в красных ливреях. Или в другую сторону — на большой двор, где идет своя жизнь. Нарядная горничная прогуливает белых собачек. Сгибаясь под вязанкой березовых поленьев, из подвала вылезает дровонос. Взмыленная ямская тройка остановилась у полосатой ограды караульной платформы, и с тележки соскочил фельдъегерь. Здесь время своей смены никак не пропустишь: без пяти минут двенадцать глухо загрохочут барабаны — новый пеший караул заворачивает внизу с площади. Тут часовой у будки ударит в колокол, заорет: «Караул, вон!» — и тотчас по ступенькам крыльца начнет рядами сходить вступившая вчера рота, чтобы построиться для церемонии смены… Как не вспомнить в такие минуты наводнение и 7-ю линию?.. Уже три года миновало, а будто вчера случилось…
Прохаживаясь по своему посту, Иванов вдруг заметил, будто чего-то ему не хватает, чем-то на ходу неловко. Приостановясь, проверил, застегнуты ли все пуговицы сюртука, обдернул полы. Снова пошел и тут понял: нет звона шпор, который сопровождал каждый шаг почти двадцать лет… Ну, без него и обойтись нетрудно. А вот, право, жалко, что коней в нонешнем обиходе нет. Войдя в стойло с полным гарнцем, так славно шлепнуть по шелковистому теплому крупу да сказать: «А ну, прими!» Услышать, как шумно втягивает ноздрями запах овса, текущего в кормушку, и как где-то близко другой кирасир, которого, видно, конь притиснул к стенке, весело выкрикнет: «Не балуй, ирод!..»
Да, весной стукнет двадцать лет службы, за что положен знак отличия святой Анны, которым «заслуженные воины навсегда избавляются от телесных наказаний». А что Эссен про то говаривал? «Плевал я на ихнюю Анну…» Так неужто все полковые напасти позади? К такой мысли потруднее привыкнуть, чем к тому, что звона шпор не слышно… А как поручик Лужин говорил, что на ухабах в возках цепи гремели… Где-то Александр Иванович, Вильгельм Карлович да и Семен Балашов, бедняга?..
Что говорить, во дворце служба для гренадер и еще, пожалуй, для лакеев, что убирают залы, вовсе не тяжела. Но остальному снующему здесь люду дела вот как хватает. Всего по дворцовым «должностям», сказывают, ежедневно занято в огромном здании более семисот человек. И кого среди них только нет! Чиновники всех рангов и писцы различных канцелярий, швейцары и скороходы, официанты, повара с кухонным штатом и кондитеры, ламповщики и полотеры, истопники и трубочисты, обойщики и столяры, маляры и слесари, кладовщики с помощниками при сервизных, бельевых, винных, кофешенкских, мучных, фруктовых и других кладовых, занимающих почти весь нижний этаж дворца, средь которых втиснулась еще аптека с огромными очагами, обслуженная двадцатью аптекарями и помощниками. А ведь прачечные и гладильные, конюшенные, экипажные и многие другие заведения находятся в еще нескольких большущих зданиях, где также копошатся тысячи служителей и мастеров придворного ведомства.
Однако здесь-то, в Зимнем, пожалуй, тяжелее всех достается чинам двух пожарных рот. Называются они инвалидными, но люди все здоровые, хотя и не рослые. Казармы их помещены на чердаках в разных концах дворца. Рано утром, вечером и ночью пожарные патрули обходят помещения, следят за топкой печей, за работой трубочистов, проверяют дымоходы и душники. В отведенных им сараях чистят и смазывают выписанные из Англии машины-водокачалки, на дворах в сухую погоду проверяют «рукава» для подачи воды, похожие на длинных змей, поднимают до окон второго этажа складные лестницы и взбегают по ним по команде своих офицеров. Да, говорят, в каждой роте по дежурному взводу на случай пожара спят одетыми, будто в воинском карауле.
Через неделю поручик перевел Иванова в Предцерковную — проходную залу между дворцовым собором, Статс-дамской и Военной галереей. Здесь дежурили с восьми до четырех часов, и ему досталось самое спокойное время — с полудня. Утренняя церковная служба отошла, печки протоплены и трубы закрыты. Протирка полов полотерами и уборка комнат закончены.
Когда остался один в Предцерковной, то вспомнил рассказ покойного Панюты, как утром 14 декабря рядом с ковриком, на котором стоял часовым по случаю торжественного молебствия, вот на этом кресле, сидел увешанный регалиями граф Аракчеев. А все, кто так недавно наперебой кланялись ему чуть не в пояс, будто не видели старика, снуя мимо и перешептываясь о своих делах, о благоволении нового монарха… С графом-то, ляд с ним! Что отставил его новый царь, то слава богу, хорошего о нем и разу не слыхивал, а вот Панюту, добродушного, неразговорчивого, но все примечавшего кирасира, — вот кого жалко. Истинно в «чужом пиру похмелье» принял 14 декабря…
Он зашагал в обход, давеча показанный Лаврентьевым, — через Статс-дамскую и Белый зал в Военную галерею. Из нее заглянул в Георгиевский тронный. Везде пусто, тихо. Чинно выровнялись вдоль стен банкетки, торшеры, вазы. Теперь можно на неспешном шагу разглядеть и генеральские портреты, не увидишь ли знакомых?
В скудном свете, льющемся сквозь окна в потолке, проплывают мимо лица, мундиры, эполеты. Еще много осталось пустых рамок, затянутых зеленым репсом. Вот в нижнем ряду генерал Депрерадович. Тот самый, что делал смотр, за который чуть глаза от Эссена не лишился… Ничего — похож, хотя и молодоват писан. А где же прежний командир их полка Михайло Андреевич Арсеньев? Сказывали кирасиры, что здесь видели… Ну, довольно глазеть, маршируй-ка по назначенному кругу новой, неспешной, дворцовой, а не солдатской привычной походкой…
Издали слышно по звону шпор, когда приближается к его посту кто-нибудь из военных. Вот со стороны Иорданской лестницы идет дворцовый комендант генерал Башуцкий. По-строевому идет, топает да еще отдувается, оттого что толст и стар. Он давеча, когда с поручиком обходили пост, прошел с бумагами под мышкой, должно, к министру двора. Теперь назад идет к себе на подъезд, который и зовется Комендантским. Его походку всегда узнаешь: никогда не торопится и шпоры какие-то стариковские, звук густой, да глуховатый, А капитан Качмарев шпор не носит и уже выучился почти так же беззвучно ходить, как гоф-фурьеры, которые за порядком в залах и за придворными служителями наблюдают, — те прямо будто духи бесплотные скользят. Они хоть гренадеру не начальство, но всё чиновники, им Иванов всегда кланялся, тем больше, что лакеи да истопники откровенным ворчанием встретили дежурных от роты: «К чему, кроме нас, еще солдат бездельных по комнатам натыркали?..»
Раз на дежурствах одет в сюртук и без шапки, то перед военными только фрунт сделаешь да глазами проводишь. И редко кто «вольно» скомандует — идут, как мимо мебели. Гоф-фурьеры же в ответ обязательно кланяются, а из придворных господ приветливей всех барышни, царицыны фрейлины, которые живут по Комендантской лестнице в третьем этаже и через этот пост пробегают к своей должности. Ежели две или три идут вместе, то по-французски меж собой стрекочут, а за ними духовитая дорожка по воздуху вьется. К ним из вежливости лицом повернешься и на миг один замрешь. И многие поклонятся в ответ да еще улыбнутся. А придворные дамы в годах идут сановито, сопят аль отдуваются не хуже коменданта Башуцкого.
Конечно, и на этом посту, когда осмотрелся, тоже немало занятного нашел. В Статс-дамской картины с видами заграничных городов, вроде тех, что походами проходили. А в Георгиевском под балдахином алого бархата стоит серебряный трон с подножной скамейкой, на котором, говорят, цари от самого Петра Великого сиживали. Однако в галерее всего занятней. Вот князь Волконский, который теперь их главный начальник стал. Рядом с ним — в голубой ленте и при трех звездах гордо вздернул голову Милорадович, которого мимо строя конногвардейцев чужие люди кое-как тащили. А потом, сказывали, они же и обобрали умирающего, пока адъютант за лекарем бегал. Или вот генерал Потемкин, семеновский командир. Этого хоть никогда не видывал, но сразу по лицу угадаешь, что добряк…
Во второе дежурство на этом посту Иванов увидел пришедшего в галерею худого и бледного молодого человека в статском платье. Не поднимая глаз на гренадера, которому низко поклонился при встрече, он освободил от холщовой обертки принесенный портрет какого-то генерала, после чего, покашливая в кулак, вышел обратно в Предцерковную. Здесь из чулана выдвинул лестницу-стремянку, которую с явной натугой отнес в галерею и установил около стены. Влезши на высоту четвертого ряда портретов, нажал кнопку сбоку золоченой бронзовой рамы, отворил ее на себя и вынул вставленную изнутри картонку, обтянутую зеленым репсом. Спустился с нею вниз, взял портрет и, снова взлезши и поставив его на место, закрыл раму, как форточку. Не мешкая отнес лестницу в чулан, раскланялся с Ивановым и, все не поднимая глаз и покашливая, ушел на Комендантский.
Гренадеру очень хотелось помочь слабосильному юноше со стремянкой, но сомневался, не взыщет ли начальство, увидевши, что этим занят на дежурстве. Надо на будущее капитана спросить. Поэтому, встретив его назавтра у ротной канцелярии, отважился остановить и рассказать свое затруднение.
— Ясное дело — помогай, — решил Качмарев. — Да еще лестницу придержи, пока лазает, чтоб, к стене наклонившись, сам не убился и портреты не повредил. Твоя прямая обязанность об ихней сохранности печься. То, верно, Поляков, подручный англичанина Дова, который генералов у нас в Шепелевом доме на третьем этаже малюет. Не часы же ты околь его торчать станешь. Поможешь, сколь надо, и опять свои залы обойдешь. В правилах государевых приказано наблюдать за порядком, а чтоб руки сложучи ходить здоровому гренадеру, того там нету. Я так разумею, что, ежели в чем и дворцовой прислуге поможешь, к примеру, мебель передвинуть или что перенесть, за то лишь спасибо дадут. Другие гренадеры, я слышал, нос перед лакеями дерут, так оно к хорошему не поведет, как и с той стороны задирство…
2
Когда на другой день Иванов помог вновь пришедшему в галерею юноше перенести и установить стремянку, то не раз услышал звучащие недоуменно слова благодарности. Идя за ним в затылок, рассмотрел залоснившиеся воротник и рукав фрака, а когда полез вверх, увидел штопаные брюки и заплатанные сапоги, услышал запах заношенной одежды, застиранного белья.
Придерживая рукой и плечом лестницу, гренадер от нечего делать достал утрешнюю сайку, которую сунул в карман, и, отломив кусок, начал жевать. Посмотрел наверх и встретил жадный и пристальный взгляд. Художник тотчас отвел глаза и продолжал вынимать из рамы вкладку. Но когда спустился вниз, Иванов сказал, протягивая половину булки:
— Не побрезгуйте. Мягкая, нонешняя. Кушайте на здоровье.
— А вы сами что же, господин кавалер? — спросил юноша, но тотчас взял сайку небольшой, испачканной красками рукой.
— Нам столько отпущают, что не выесть, — заверил гренадер.
Пока художник жевал, Иванов, чтобы не смущать его, смотрел вдоль галереи и думал, что на здешнее дежурство надо носить чего-нибудь посытнее, раз человек явно голодный.
— Благодарствуйте, господин кавалер. Такой мягкой сайки давно не едал. — Поляков захватил портрет и полез было наверх, но, приостановясь, спросил: — Вы, знать, из тех служивых, которых в городе за богатый мундир золотой ротой прозвали?
— Из них, — кивнул Иванов. — А вы, баринок, живописцы?
— Живописец, да не баринок, — покачал головой юноша. — Крепостной я человек вот того генерала Корнилова, чей портрет во втором ряду снизу с двумя звездами. Вы грамотные?
— Маракую, хотя лучше по-печатному.
— Там ихний чин и прозванье вырезаны, — снова указал живописец. — Отдал тот генерал меня в науку англичанину Дову, который все сии портреты написать подрядился. — Поляков щелкнул закрывшейся рамой, спустился вниз, огляделся и понизил голос: — А вся наука седьмой год в том состоит, что на него, ровно каторжный, за скудное пропитание да за оброк, что барину высылает, по двенадцать часов в день кистью своей тружусь.
— А на руки вам хоть плотит сколько-то? — спросил гренадер.
— Такую малость, что на чай, сахар да баню едва хватает. Кабы платил по-божески, разве бы я таков в люди казался? — Поляков выставил обтрепанные обшлага фрака.
На другой день, обедая перед дежурством, Иванов выловил из каши два куска мяса побольше, положил между ломтями хлеба и, завернув в чистую тряпочку, сунул в карман сюртука. Когда в обычное время Поляков, придя в Предцерковную, открыл двери в чулан и поблизости никого не случилось, гренадер передал ему сверток. Живописец взял, не чинясь, и тотчас стал есть, разом зарумянившись и приговаривая:
— Вот так мясо! Чистая филея! Ни жилки, ни хрящика!.. — Он проглотил последний кусок, утер губы рукой и спросил: — А у вас, дяденька, семьи, что ли, нету, что меня кормите?
— Холостяк, братец, считай, уже навек, — отвечал Иванов. — Кушай на здоровье. Видно, и харч у англичанина не жирен?
— Какое! Впроголодь который год! — махнул рукой Поляков.
— Повар у его, что ль, много ворует? — удивился Иванов.
— Жадюга он, вот что! Полушки на нас считает, а сам кажный месяц червонных мешок сдавать возит в банку какую-то, откуда их в Англию отправляют, чтобы там его дожидались. Ей-богу, не вру, — перекрестился Поляков. — Ведь за каждый здешний портрет, — он кивнул в сторону галереи, — по тысяче рублей гребет, а больше половины их я да еще один подручный написали, и он их кистью раза не тронул. Как пришлют откуда портрет, чтобы тут с него копию в нужную препорцию снять и в галерею поставить, то все нам передает, а денежки ему казна сполна платит, будто с натуры сам писал. Ведь многие генералы, которые в отставке, старые, раненые да больные, разве станут ради одного портрета кости по дорогам ломать? Вот и шлют из Малороссии, с Волги, с Дона, из Астрахани и Киева, там кому попадя заказанные. А мы здесь за мистера Дова стараемся… — Поляков вдруг осекся, опасливо оглянулся и зашептал: — Только вы, дяденька, молчок, что я сказывал. Сам не знаю, чего разболтался.
— Не бойся, не мое то дело, — успокоил его гренадер.
А на другой день он увидел самого английского живописца, пришедшего в Военную галерею в сопровождении Полякова. Через несколько минут из Эрмитажа к ним подошли два пожилых барина в вицмундирных фраках. Их Иванов не раз уже видел в дворцовых помещениях всегда вместе, переходивших от одной картины к другой, что-то при этом записывая. Один был пощеголеватее и, видно, старше чином, с анненским крестом на шее. Другой старее, в очках, и от него всегда несло скипидаром и нюхательным табаком.
Через несколько минут, снова войдя в галерею со стороны Белого зала «дежурным», неторопливым шагом, гренадер услышал, как старший по чину господин что-то раздраженно говорил англичанину, указывая на портреты и часто повторяя слова: «Trop sombre!.. La couleur est a refaire…»[64] Потом чиновники ушли, а Дов двинулся по галерее с Поляковым, тыча пальцем и будто лая:
— Сымать! Справлять!
Когда, оставив Полякова в галерее, он уходил на Комендантский, Иванов задержался в Предцерковной и хорошо рассмотрел ровно желтое, сухое лицо с холодными серыми глазами и большим, выставленным вперед подбородком, как у деревянных щелкунов для орехов, которые не раз видел у немцев и французов во время заграничного похода. Это лицо, накрепко подпертое белоснежными воротничками сорочки и атласным черным галстуком, ничего не выражало, кроме надменности и брезгливости.
Дову фрунта не сделал — как стоял вольно, вполоборота к дверям Статс-дамской, когда заслышал его шаги, так и пропустил мимо себя. Не дождешься от меня чести, жадный паук!
Сегодня в кармане гренадера снова лежал хлеб с вареным мясом, которые передал молодому живописцу, когда собирались вместе нести стремянку в галерею. Но только начал было жевать, как по бледным щекам побежали слезы.
— Ну что, братец, рюмить? — утешал его Иванов. — Нашему брату все стерпеть положено.
— Да я ничего, — дергал мокрым носом Поляков. — Прошибло, что вы мне все кушанье носите… Да еще нонче выше краю на Дова обидно: шутка ли, до сорока портретов почти что заново писать, которые он сам или мы с Голике, по его приказу краски подбирая, лет пять уже назад зачернили! Давеча господин Лабенский, которые всеми картинами здесь заведуют, и реставратор Митрохин его справедливо укоряли, что многие портреты за такой краткий срок чернотой оделись от приверженности Дова к асфальте — краска такая смолёвая есть. «Что же дале будет, когда в Англию уедете, все деньги получивши? — должно, его спрашивали. — У других живописцев по сту и более лет будто вчера писано, а тут через пять лет как в печи копченные…»
— Так зачем он такую краску потребляет? — удивился Иванов.
— Затем, что по-первости она и верно красивая, — ответил живописец. — Только потом делается ровно уголь, проклятая. — Он утер глаза тыльной стороной ладони, сунул хлеб за пазуху и, взявшись за стремянку, добавил вполголоса: — Мошенник, право, мошенник! Но уж, бог даст, доберутся до тебя добрые люди…
— Да ты не спеши, покушай толком, — сказал гренадер. — Я пока свой пост обойду, а как вернусь, то и понесем.
— Ну, великое вам спасибо, дяденька! — согласился Поляков. — Ведь мне, по правде сказать, лестницу таскать вот как тяжко и лазить по ней боязно. А как держите, то будто на земле стою.
«Вот бедняга! — думал Иванов, пустившись в обход. — Работой, голодом заморен да трусоват еще. Но с лестницы такой свернуться очень просто, когда к верхним портретам тянется».
На этот раз живописец снял шесть портретов и, проложив между углами валички из пакли, перевязал в объемистый пакет.
— Далече нести? — спросил Иванов. — Скоро сменюсь — помогу.
— Да нет, близко, сразу за манежью, в Булантовом дому, — ответил Поляков. — Там Дов квартирует и мне чуланчик для спанья отведен. Теперь недели три мне со двора ни шагу, пока всех с Василием не поправим. Только сюда и будет моя прогулка. Желаю здравствовать, дяденька. Да как звать вас именем-отчеством?
— Александром Ивановичем кликай, — рекомендовался гренадер.
— Тезки, значит! И я так же крещен. Однако Василичем покудова не слыхивал чтоб величали, — грустно усмехнулся Поляков.
По задержке мастерскими парадные брюки с золотым лампасом были сданы в роту с опозданием на неделю. А выходить в город князь Волконский позволил только в парадной форме, потому что царь еще не решил, какую гренадерам дать фуражку: бескозырку, как у всех нижних чинов, или с козырьком, как у офицеров, писарей и денщиков. Так случилось, что Иванов смог отправиться с необходимыми визитами лишь на второй неделе новой службы.
Бреверн принял своего недавнего вахмистра так, что совсем его сконфузил. Приказал лакею помочь сымать полусаблю на галунной перевязи, шинель и принять медвежью шапку. Потом провел в свой кабинет, где велел садиться насупротив, и обстоятельно расспросил о службе, казарме, пище и жалованье, о товарищах и офицерах. Наконец, просил встать и поворотиться кругом, рассмотрел и пощупал форму, сказал, что напоминает камергерскую, только красивей, потому что с красным лацканом, на котором золотые петлицы лучше играют. И тут приказал лакею подать бутылку киршвассера и, чокнувшись с Ивановым, выпил за его дальнейшую службу. По второй выпили за хозяина дома, который сказал, что узнал о своем представлении в полковники. Оно может пройти к рождеству, и уже граф Орлов спрашивал, хочет ли назначения на армейский полк. Так что в самое время вышло определение Иванова в дворцовую роту. На прощанье расцеловал гренадера и обещал передать его благодарность Захаржевскому и Лужину.
Отсюда пошел к Жандру. Андрей Андреевич уехал куда-то на парадный обед, но Варвара Семеновна выглянула на голос Иванова в переднюю, ахнула от его мохнатой шапки и приказала, снявши шинель, идти за собой в комнаты. Показывался и ей во всей красе зашитой галунами формы, был усажен и напоен чаем со сладким пирогом. Она также расспрашивала про службу, но повернула все на свой лад. Когда услышала, какое назначено жалованье и что всем женатым обещают казенные квартиры в дворцовых зданиях, то сказала, что скоро все холостые гренадеры в любых летах оженятся и никого в казарме не останется. Да еще добавила, что когда сам надумает, то готова сватать и сыщет невесту с хорошим приданым. Пошутили, посмеялись, и пошел в роту к поверке.
Через месяц существования роты получили приказ перебраться в Шепелевский дом. В двух просторных комнатах, где происходила примерка формы, стояло теперь по сорок кроватей, разделенных столиками-тумбочками. Не до конца была еще отделана «сборная», но в любой спальне между рядами кроватей можно было выстроить всю роту. В подвале уже разместились столовая, кухня и кладовые. А канцелярия расположилась в двух небольших комнатах через коридорчик от спален, рядом с парадным подъездом.
Наиболее сановных соседей капитан перечел перед строем, приказав оказывать им почтение, не курить и не шуметь в подъезде. Других жильцов гренадеры узнавали сами. В подвале, кроме ротных угодий, помещались две сварливые вдовы придворных скороходов, три комнаты занимали сторожа архива Государственного совета и еще одну — аккуратные немцы-подмастерья столяра Гамбса, работавшие во дворце по ремонту мебели.
В первом этаже по другую сторону парадной лестницы от крыла, занятого ротой, пустовала квартира генерала Дибича, находившегося на Кавказе. Выше, в антресолях, квартировали старые фрейлины девицы Воронцовы, Плюскова и Глазенап со старыми же горничными. Их кошки и собаки лаяли, мяукали и пачкали на лестнице. Фрейлинам приносили кушанье с придворной кухни и для прогулок подавали кареты с кучерами и лакеями в красных ливреях.
Следующий парадный этаж считался одной из «запасных половин» дворца. Ее комнаты со стенами, обтянутыми штофом и увешанными картинами, были обставлены золоченой мебелью. Но угловую залу отвели под мастерскую художника Дова. Сюда по лестнице с Миллионной или через Эрмитаж по коридору с расписными стенами, называвшемуся по-иностранному лоджией, приходили здешние и приезжие генералы, чтобы англичанин изображал их для галереи.
Наконец, в верхнем антресольном этаже находились дворцовые кладовые и в четырех комнатах жил воспитатель царского наследника господин Жуковский. Этот плотный, опрятный и спокойный барин, которого Иванов запомнил на первых дежурствах за приветливость, так же вежливо отвечал поклоном и здесь, у лестницы, на фрунт гренадер. По близкому соседству в роте скоро узнали, что субботними вечерами к нему собираются до десятка господ, что не пьют вина, а только чай и чего-то читают друг дружке. Имя-отчество Жуковского Иванов услышал от бедно одетых стариков и старух, которые по утрам собирались на лестнице.
— Василий Андреевич еще не выходили, хотя девять пробило.
— Сказывают, Василий Андреевич вчерась прихворнули, — толковали они вполголоса, медленно всходя, будто вползая, по ступенькам, поближе к дверям Жуковского.
Вскоре гренадеры знали, что, выйдя из квартиры, чтобы направиться во дворец, Василий Андреевич терпеливо выслушивал бедняков, часто разделял между ними все, что было в карманах: десять — двадцать рублей. А иногда возвращался домой написать кому следовало, чтобы поместили в богадельню, в больницу, или чтобы прихватить еще денег для раздачи. В роте рассказывали, что поручик Лаврентьев хотел было протурить с лестницы просителей, чтобы не докучали воспитателю наследника, и сделал ему такое предложение. Но тот, учтиво справившись об имени-отчестве нового соседа, ответил, что просит Василия Михайловича не беспокоиться — пусть ходят, раз имеют надобность.
Уже в середине декабря, подходя после дежурства к Шепелевскому дому, Иванов увидел впереди спину Полякова. Как всегда, покашливая и поеживаясь, одетый в затрепанную шинельку, художник, очевидно, шел в мастерскую Дова, потому что свернул в подъезд, к которому направлялся и гренадер. Уже в подъезде Иванов хотел окликнуть своего знакомца, когда услышал его глуховатый голос где-то поблизости, на лестнице, сказавший:
— Здравствуйте, ваше превосходительство Василий Андреевич.
— Зачем так парадно, друг мой? — отозвался, видимо сходивший вниз, Жуковский. — Каковы нынче дела твои?
— Будто, что нужным путем идут, — понизил голос Поляков. — Однако даже вам докладом сглазить боюсь…
— У меня глаза не черные, хотя матушка турчанкой была, — засмеялся Жуковский. — Вот, возьми, пожалуйста, подкрепление.
— Покорно благодарю, Василий Андреевич…
Дежуря на так называемой Половине прусского короля, тоже примыкавшей к Комендантскому подъезду, Иванов через несколько дней увидел живописца, шедшего в сторону Военной галереи, и, остановивши, спросил, о каком деле шла речь с Жуковским.
— Дозвольте, Александр Иванович, до времени не говорить — так боюсь вспугнуть счастье свое, — отвечал художник. — Ежели выйдет, на что надеюсь, то верьте, вам из первых доложусь.
— Ну ладно, братец. А господин-то Жуковский, видать, добряк.
— То мало сказать, — горячо подтвердил Поляков. — За семь лет, что по сим местам горькая судьба меня носит, вполне убедился, что дворец царский есть истинный вертеп суходушия. Ежели не бранили, что будто грязь на сапогах в галерею принес или паркет лестницей исцарапал, то и рад уже был. Видят, что телом тощ и одёжа ветхая, вот и шпыняют… — Голос живописца осекся. Но через минуту он продолжал: — А Василий Андреевич первое из лиц, весьма немногих, от коих участие увидел…
В это время со стороны комнат вдовой императрицы раздалась твердая поступь. Гренадер поторопился сунуть Полякову взятый для себя кусок хлеба с мясом в бумаге и двинулся по своим залам. И в самое время — через несколько минут его догнал поручик Лаврентьев, обходивший дежурных и часовых роты.
Теперь, когда недавние кавалеристы и артиллеристы встали в строй, деятельный поручик ежедневно не только неоднократно обходил бывших в наряде, но со всеми свободными отправлялся в экзерциргауз и там раза по три репетировал первый парад роты, когда предстояло не только образцово отделать ружейные приемы, но и пройти мимо царя так называемым «тихим шагом», которым ходили во дворце строем.
В нем полагалось делать 72–75 шагов в минуту, чем отличался от «скорого» в 107–110 шагов, назначенного для маршировки на больших парадах. При этом перед каждым учением произносилось вступительное слово в таком роде:
— На сей смотр мне поручено вас, гренадеры, представить в наилучшем виде. Государю благоугодно назначить нас старше даже Преображенского полка, который есть первейший во всей гвардии российской. Жалованье вам положено небывалое и при отставке пенции выше обер-офицеров. Так чем же вам царю за то отслужить? Первей всего, чтобы на сем празднике воинском по ружейным артикулам, по стойке и маршу себя оказали будто единый флигельман плавной игрой в носках и коленях, твердым спокоем в поясницах и чтоб усы и баки по данному правилу рощены, фабрены и чесаны были… Поняли? Ну, начинаем репетовать… Рота! Смирно! Глаза на-лево! Слушай на кра-ул!..
Требование блюсти усы и баки относилось к самым важным. Они придавали такое же единообразие лицам, как фигурам — мундиры и амуниция, а ружьям — красные погонные ремни и чуть расслабленные винты, дававшие при «артикулах» легкое звяканье. Раз все обмундирование дворцовых гренадер было придумано самолично царем, то сначала гадали, не будет ли и тут чего особого. Прошел слух, что велят всем отрастить длиннющие усы, какие были у наполеоновской старой гвардии, чтобы концы их закладывать за уши. Потом оказалось, что это чья-то брехня. Да и видел ли кто такие у французов? Наконец, капитан прочел перед строем приказание, написанное самим царем, чтобы офицерам носить одни баки, барабанщикам — одни усы, а всем унтерам и гренадерам — усы и баки «как две плавные дуги от висков к середине верхней губы». Выучив наизусть монаршую записку, Петух стал ежедневно проверять бритье и фабренье каждого гренадера с фаса и профиля и, случалось, требовал бритву, чтобы довести все «до красоты».
Поручик не зря трудился. Рождественский парад прошел прекрасно, хотя и достался старым служивым нелегко. Поставленные в Военной галерее правым флангом к портрету Александра Павловича гренадеры встретили царя, шедшего «Большим выходом» с семьей и свитой в собор, единым движением вскинув ружья «на караул» и единым дыханием ответив на поздравление с праздником. Потом тут же стояли все время молебствия и после него, пока духовенство и царь с наследником обходили взводы гвардейской пехоты, расставленные в Георгиевском зале, и, пересекши галерею, ушли в Белый зал, где выстроились кавалеристы и артиллеристы. Тогда, перестроясь, гренадеры прошли Георгиевский, Аполлонов, Эрмитажную галерею, Половину прусского короля и вышли в Предцерковную, где остановились во главе вытягивающегося за ними всего парада. За это время царь со свитой встал в глубине Военной галереи. Тут перед ротой показался князь Волконский, впервые в форме дворцовых гренадер, и скомандовал церемониальный марш. Дело не шуточное — уже крепко устав от многочасового неподвижного стояния, пройти в колонне по четыре до дверей Белого зала и завернуть к ним на глазах у царя и великого князя Михаила, не нарушив и на вершок равнения, не говоря о положении рук, голов и всей солдатской стати, и ответив оглушительно, но будто одними губами.
За этот парад гренадерам пожаловано по пяти рублей, унтерам — по десяти, а поручику Лаврентьеву — чин штабс-капитана. Наградные выдали 30 декабря вместе с жалованьем за два месяца. И после их раздачи Качмарев приказал построиться и произнес такое наставление:
— Строевые обязанности суть основа солдатской службы — сами то хорошо знаете. Но ежели по строю образцовые, а по нравственности окажетесь плохи, то в роте сей вам служить не придется, что запомните наикрепчайше. Деньги свои можете мне в ротный ящик на сохран хоть сейчас от соблазну сдать, можете женам отнесть аль по кабакам раскидать, то дело ваше. Но ежели вздумаете в роту не в себе являться аль время явки в оную пропустить, того я не потерплю. Гуляй, ежели от службы свободен, в меру, чтобы на ногах стоял крепко, к начальству почтителен и жалобы из города малейшей не доходило. А не сумеете себя соблюсть — взыщу куда строже, чем в полках. Помните, что вы на виду у всех дворцовых служителей, которые хулу про нас мигом из угля в целый костер раздуют, только дай им зацепку. На первый раз я поругаю перед фрунтом и нарядами щедро награжу. На второй — велю баки и усы начисто сбрить и на месяц на хлеб и воду в карцер заточу. А в третий, как бог свят, его сиятельству доложу, а он самому государю императору, чтобы обратно в полк штрафованным отправить. Так отныне и знайте: честь роты блюсти пуще глаза… — Качмарев помолчал, окинул взглядом строй и, подняв указательный палец, добавил: — И все едино с виновного строжайше взыщу: станет ли на мой выговор молчать аль вирши плесть. Тот знает, про кого говорю. Второй раз не увернется. А теперь вольно, гренадеры! Разойдись!
Уже вся рота знала, кому грозил капитан. Накануне вечером он шел от знакомых из Павловского полка и на Аптекарском переулке нагнал гренадеров Варламова и Павлухина, которые, поспешая к поверке, как говорится, писали ногами кренделя, потому что шли из трактира у Круглого рынка. На выговор командира Варламов молчал, а Павлухин просил прощения в стихах, да таких гладких, что капитан поостыл, приказал обоим тут же натирать головы снегом и пошел сзади до самого Шепелевского дома, причем, на счастье, никого из начальства не встретили.
С этими гренадерами Иванов редко перекидывался даже словом. Они были первые гуляки в роте, он — домосед, и здесь начавший щеточную работу. Оба Измайловского полка, они с самого начала несли караульную службу да еще состояли в другом капральстве. Но, конечно, не раз слышал, как Павлухин потешал товарищей виршами, и, встретясь с ним в тот же вечер, сказал:
— Держись теперь, Савелий. Второй раз капитан не помилует.
На что Павлухин тотчас ответил:
— Я в боях бывал, и в жарких, шел на пули, на картечь, но от снеговой припарки льдом оброс вчерась до плеч. Каб не добрая косушка, я б и нынче все дрожал, не согрелась бы макушка, дробь зубами выбивал. Хоть боюсь я капитана, в том сознаться нет стыда, а от доброго стакана не отказчик никогда…
— Ну и дурень! — сказал Иванов. — От счастливой планиды добьешься, что с обритой мордой в полк на смех людям пойдешь.
— Не сердись, Иваныч, я ведь в шутку болтаю, — миролюбиво заверил Павлухин. — Но истинно от снежного леченья и нонче чувствую во всех зубах мученье…
С нового года пошла твердо расписанная служба. Кроме ежедневных дежурств в залах, — а таких постов было шесть, — рота выставляла с утра до четырех часов парные посты: на верхней площадке Иорданской лестницы при входе в Аванзал и через два зала — в Концертном, у дверей в комнаты царской семьи. А при Больших выходах в собор или в Тронный зал взвод почетного караула со знаменем выстраивался часа на три в Военной галерее. Вечерами, во время больших балов, снова появлялись часовые на лестнице и в Концертном, а при спектаклях в Эрмитажном театре добавлялись парные при входе на седьмую запасную половину и в фойе.
Караульная служба была для гренадер самая привычная, а потому не тяжелая. В строю стой себе прямо да по команде отделывай артикулы, поворачивайся и шагай, а на постовом коврике знай откидывай ружье от ноги «по-ефрейторски» кому положено. Только чтобы в единый миг с напарником, для чего старший возрастом давал другому знак бровями или мигнувши. К тому же новая форма оказалась куда свободней в груди, в поясе, в воротнике полковой и медвежья шапка легче любой каски или кивера.
А вот дежурства большинство гренадер считали «не солдатским делом». Ежели исполнять правила — «наблюдать за порядком в залах», — то как не сделать замечание ленивому камер-лакею, у которого на подстольях по пыли хоть прописи выводи? Или как не дать нахлобучку неряшливому ламповщику, истопнику, трубочисту? А те начинают отлаиваться: что в солдатское дело не суются, так чтоб и в их обязанности не лез. И пошла перепалка…
В отличие от таких гренадер Иванов не тяготился дежурствами. Он даже любил их больше караулов, потому что, прохаживаясь по залам, мог рассматривать предметы убранства, статуи и картины, соображать, как что сделано, расспросить стариков из прислуги, которые не раз слышали объяснения, что давал важным гостям Франц Иванович Лабенский или другие господа, служившие при Эрмитаже. В качество уборки он никогда не вмешивался — на то есть гоф-фурьеры, но иногда от нечего делать предлагал помочь что передвинуть или обтереть мебель тряпкой, пока лакей с лестницы обметал, что повыше, перовкой. И все за это благодарили, кроме камер-лакея Мурашкина, известного самомнением и дурным характером. Он служил при эрмитажных залах и слыл любимцем прежнего обер-гофмаршала Нарышкина, при супруге которого мать Мурашкина состояла когда-то горничной. За красивый голос мальчиком взятый в придворную капеллу, он, лишившись в переходном возрасте дисканта, определен в Эрмитаж, где дослужился до камер-лакея, да еще недавно женился на купеческой дочке, взяв за ней дом в Коломне. Белобрысый, бледный, рыхлый и не по возрасту пузатый, Мурашкин обладал редкостной памятью и считал, что знает о коллекциях музея не меньше самого Лабенского или хранителя медалей Кёлера, чьи объяснения важным посетителям постоянно слушал. И поэтому надеялся на производство в чиновники, о чем толковал всем, кто хотел его слушать.
Вот с ним-то у Иванова и вышла единственная стычка, едва не кончившаяся потасовкой. Раза два, будучи дежурным в залах, которые убирал Мурашкин, гренадер пропускал мимо ушей его воркотню, но на третий взорвался. Этот пост составляли залы, выходившие на Неву и на канавку. Сообразно инструкции, Иванов неторопливо прохаживался туда и сюда. Насупленный лакей в угловой чистил щеткой мебель и вдруг обратился к Иванову:
— Ты своим мельканием моей обязанности помеху творишь.
— Моя обязанность свой пост обходить, — отвечал гренадер.
— Вот наказание господне! Посадили нам на шею серую солдатчину! — буркнул ему вслед Мурашкин.
— Говори, да не заговаривайся! — обернулся Иванов. — Наказанием божьим государеву роту не называй. Я тебя должности твоей не учу, так и ты ко мне не суйся.
— Сравнил! Я сокровища бесценные блюду, — задрал жирный подбородок Мурашкин, — а ты только и знаешь свое «ать-два»!
— Как приказано, так и буду ходить, — подтвердил гренадер. — А тявканье твое мне надоело. Надеялся прошлые разы, что одумаешься от моей кротости, а долее не потерплю.
— Не больно-то боюсь, — подбоченился Мурашкин. — На камер-лакея у тебя руки коротки. Небось тесаком по хребтине, как сам бит, меня стукнуть не посмеешь…
— Понятно, оружие тобой не замараю. Но и рапортовать, как другие, начальству не стану. А дам тут же в рыло, и беги куда знаешь жаловаться. Роту и себя на посту оскорблять не дозволю!
Трудно сказать, чем окончилась бы эта перебранка, если бы из соседнего зала не вышел прямой начальник всех придворных нижних чинов гофмаршал Щербинин и сразу напустился на Мурашкина:
— Опять свару с гренадером заводишь? Не удивлюсь, ежели так тебя отделает, что жена не признает. Только жаловаться ко мне не ходи, а то от себя ареста добавлю.
— Так ведь я, ваше превосходительство, одного прошу: чтобы мне убираться не мешал! — разом захныкал Мурашкин.
— Хоть не ври! Я, считай, всю ссору слышал, раз за служивым шел и твои повадки знаю, — оборвал Щербинин. — А ты, братец, «отыди от зла и сотвори благо», — отнесся он к Иванову.
— Слушаюсь, ваше превосходительство! Будь тут все залы напрямую, я б к нему не подходил, издаля бы присматривал.
— Ну и ходи как надо. Баба вздорная, а не служитель!..
Капитан вскоре заметил гренадер, которые ладили с дворцовой прислугой, и стал чаще назначать их на дежурства, хотя Лаврентьев и бубнил, что они «без строя окиснут». В роте заметили, что, ставши штабс-капитаном, он научился возражать командиру. Однако Качмарев пропускал это мимо ушей и «вел свою линию». Когда была готова «сборная», Петух приказал было собираться в ней свободным от нарядов гренадерам, чтобы с ними «репетовать для твердости» повороты и ружейные приемы. Но Качмарев отменил эти занятия, сказавши:
— Будет замечено начальством какое упущение, то и учите, кто проштрафится. Не рекруты — не подведут.
Новая служба была Иванову так легка, что скоро почувствовал впервой в жизни — казенная одежда жмет в пояснице. Не поверил было себе, но и другие гренадеры явно толстели. Оно и понятно: пища сытная, кровать мягкая, сна законного восемь часов. А у него в свободное время еще сидячее щеточное занятие.
Помня завет старика Еремина, и здесь сделал по паре самолучших платяных капитану, субалтерну, фельдфебелю Митину и своему взводному, недавнему однополчанину Тарану. Все, конечно, украшенные именными литерами из гвоздиков. Потом пошел готовить на продажу с датой нонешнего 1828 года на крышке. А чтоб иногда размяться, свел знакомство с конюхами в своем дворе и брался поить и чистить коней. Как часок помахаешь щеткой да постучишь скребницей, так сразу почувствуешь, что кровь живей побежала. И второе удовольствие — на лошадей насмотришься, их ржания, храпа и перестука копыт по тесовым полам послушаешь, их теплое дыхание почувствуешь…
В феврале появилось еще дело. Началось с того, что впервой в жизни решился написать отцу и матери, сообщить про новую службу и обнадежить, что, ежели будет жив, пришлет сколько-нибудь. Ясней про свои планы писать не решился — ведь кому-то письмо читать понесут, раз все неграмотные. Написал и Красовскому, что не станет держать экзамен на офицера, как здешнее жалованье равно корнетскому, и чтобы про устройство его на заводы не заботился. Два вечера писал и переписывал набело после правки ошибок писарем Екимовым, который за то взял гривенник, но похвалил почерк. Такие труды, конечно, заметили гренадеры и стали просить писать братьям и сестрам, племянникам и кумовьям. Сообщали про перемену службы, все почти с похвальбой, что за заслуги, мол, да за красоту телесную выбрали в почетную роту. Всего двое добавили обещания помочь из нового жалованья. Этакое Иванов писал с охотой — как-никак родичам весть о себе подают. Но когда начали диктовать любовные письма да просили от себя добавить чего-нибудь поцветистей, чтобы разохотить девиц и вдов идти замуж за царевых гренадер, тут стал отказываться, ссылаясь, что может писать только попроще. Ему претили льстивые похвалы красоте и характеру невесты, которую часто искатель разу не видел, а узнал об ней вплоть до цвета глаз и локонов от свахи. После комплиментов следовали обещания содержать драгоценную половину в холе и покое, на казенной квартире «при царском дворце». А то, что предлагал написать Иванов про верную любовь и семейное согласие, не нравилось большинству — слишком просто звучало. Так и вышло, что с любовными письмами стали обращаться к Екимову. Он за двугривенный сочинял красноречивые описания пламенных чувств, сравнивая невест с лилиями и розанами, за ту же цену бойко рисуя вверху страницы два сердца, пылающие одним огнем, которые чуть подкрашивал подслюненной конфетной бумажкой. Поток таких писем не иссякал, и писарь при встрече говорил Иванову:
— Не пора ли, кавалер почтенный, и для тебя слезницу сочинить про одинокую, горемычную жизнь? Я нонче так руку набил, что хоть каменный статуй до печенки проберу. И листок вроде пряника изукрашу.
Госпожа Миклашевич оказалась права — в роте пошло настоящее поветрие браков. К ним располагало более всего, что женатым разрешалось проживание на наемной квартире и они обязывались являться в часть только к наряду. Хотя было обещано дать всем женатым квартиры в дворцовых зданиях, но пока получили только трое, а остальные снимали в городе или поселялись в «приданых» домах своих супруг. За двадцать лет солдатчины людям так осточертело вскакивать по сигналу и целый день вертеться под крик и ругань унтеров, приказывающих становиться на молитву, садиться за еду, идти на учение, в караул и отходить ко сну, что возможность на законном основании зажить своим домком, поспать в тишине, походить по комнате, а то и по дворику распояской аль в одном исподнем казалась земным раем.
И невесты находились в изобилии — знай выбирай! За дворцовых гренадер охотно шли не только мещанки, но купеческие и чиновничьи дочки. Рота была на виду столицы. Ее рослыми молодцами любовались на улицах и в лавках, куда случалось зайти и где их нарочно задерживали, чтобы получше рассмотреть невиданную парадную форму. О них писала велеречивая «Северная пчела», восхваляя великодушие царя, успокоившего «своих отборных героев-гвардейцев на почетной службе близ своей священной особы». В статье рассказывалось, что знаменитому живописцу Дову государь заказал портреты в рост четырех самых заслуженных ветеранов, а с одного, по красоте сложения будто бы «не уступающего римскому гладиатору», назначено изготовить статую в парадной форме и амуниции. Изображения дворцовых гренадер появились на фарфоровых чашках и тарелках, их фигурки из дерева и папье-маше продавались в игрушечных лавках.
Гренадеры, которых изображал Дов, рассказывали, что все два часа, что подряд их пишет, молчит как каменный, хотя по-русски говорит вполне чисто. Только ежели затекла от неподвижности рука или опустил подбородок, то словно пролает: «Рука! Голова!..»
А Карп Варламов, наоборот, сказывал, что лепивший его в Академии художеств какой-то Федор Иванович более получаса в неподвижности не держит, а дает отдыху, когда подносит сбитня с пирогом, а при конце работы на сей день еще и стаканчик с закуской да полтинник. Притом говорит, будто в Париже его, Варламова, за телосложение художники озолотили бы, а гренадер на то отвечал, что когда находился в Париже с полком, то золота от парижан не видывал, а под арестом посидел за то, что у веселой девицы Клоды за свои деньги лишнее выпил.
Еще один художник, тоже по заказу царя, списывал в эту весну вид Военной галереи, в которой расставил фигурки Лаврентьева и пяти гренадеров. Живописец был еще молодой, всем проходившим низко кланялся, а работал быстро, и выходило схоже.
Однажды, идя с дежурства, Иванов увидел Полякова, негромко беседовавшего с художником. Заметив подходившего, Поляков слегка тронул за плечо своего знакомца, собиравшегося было встать со складного стульчика, и сказал:
— Сидите, Григорий Григорьич, работайте, это добрая душа идет. Здравствуйте, дяденька Александр Иванович.
«Вот как он меня величает, а я сколько дней ничего ему не ношу, хоть порой и встречаю», — укорил себя Иванов.
В Предцерковной Поляков нагнал гренадера и рассказал, что галерею пишет художник Чернецов, который выбился своим талантом из мещан захолустного городишка. В том помог один добрый барин, который и его, Полякова, помощью обнадеживает.
— С той недели, братец, я опять с полдён до четырех часов в сих залах дежурить стану, — сказал Иванов. — Ежели придешь, потолкуем малость. Хотел ведь договорить, на что надеялся.
— Приду всенепременно, дяденька. И рассказать теперь есть уже что… Только бы злодей в мастерской меня не запер.
— А такое бывает?
— Не бывало еще, а грозится. Все ему мало моей работы…
3
Мода на дворцовую роту в эту зиму была такая, что даже пожилые придворные, случалось, громко высказывали похвалы стройности и выправке гренадер. А фрейлины еще посмеивались над камер-юнкерами и пажами, что часовые наряднее их одеты.
Но очень скоро большинство дам и кавалеров привыкли к новым служивым и стали вполне равнодушно относиться к этой разновидности дворцового убранства, не стесняясь при них поправлять одежду или обувь, почесываться, браниться, обмениваться быстрыми поцелуями или объятиями да и говорить такое, что Иванову не раз бывало стыдно за них до краски в лице.
Так же равнодушно стали к весне смотреть на гренадер и те сановники всех ведомств, которые с женами присутствовали на парадных богослужениях, приемах и балах, что называлось «иметь приезд ко двору». Этим правом пользовались все генералы и старшие офицеры гвардии, которые поначалу внимательно изучали невиданное обмундирование и снаряжение гренадер.
Однажды во время большого бала на масленой именно так рассматривал Иванова, стоявшего часовым на Иорданской лестнице, ротмистр фон Эссен. Остановился, оглядел пристально спереди, потом сбоку и сзади форму, перевязи, патронную суму. Опять стал спереди, еще посмотрел в недвижное лицо своего бывшего вахмистра, по которому полгода назад бил с такой злобой, чуть усмехнулся и пошел в Большой танцевальный зал.
Из конногвардейских офицеров только полковник Бреверн, поручик Лужин и корнет Фелькерзам неизменно узнавали Иванова в новом обличье, приветливо кивали, если стоял часовым, а к дежурному подходили с добрым словом, расспрашивали про службу.
Кроме них, ни от кого бывавшего во дворце не ждал привета и оттого очень удивился, когда, придя к десяти утра на дежурство у личных царских комнат, услышал от сменяемого гренадера, что недавно о нем спрашивал один из двух чиновников, которые сейчас находились у самого государя.
Теперь Иванов уже знал, кажись, всех, кого здесь по утрам принимал император: надушенного, затянутого в рюмку, все время переступавшего, будто на морозе, военного министра Чернышева; низенького, похожего на филина крючковатым носом и очками министра иностранных дел Нессельроде и чаще всего легкого на ногу, с виду приветливого, но с ледяным взглядом шефа жандармов генерала Бенкендорфа. Бывали и другие министры и сановники, но кому вдруг понадобился он, рядовой гренадер?
Прошло еще полчаса, которые больше старался держаться близ дверей из царской приемной на Салтыковскую лестницу, когда оттуда показались два чиновника в вицмундирных фраках, и более молодой из них, прямо шагнувши к нему, спросил:
— Ты ли это, Александр Иванович?
Только через минуту по чуть насмешливому выражению глаз за стеклами очков в тонкой золотой оправе и по острому очерку улыбающегося лица узнал похудевшего и загоревшего Грибоедова.
— Александр Сергеевич, батюшка! Приехали! Здоровы ли? — обрадовался Иванов.
— Здоров пока. Приходи вечером к Жандру. Я у него обязательно буду. Можешь?
— Так точно! В каком часу прикажете?
— Около семи. — И, приветливо коснувшись локтя гренадера, Грибоедов стал спускаться с лестницы.
Статный, прямой, легко ступая по ковровой дорожке стройными ногами в туго натянутых штрипками брюках, он без труда нагнал своего пожилого тучного спутника, украшенного двумя орденскими звездами.
«Молодец какой! — подумал Иванов. — Уже в чины вышел, раз государь его здесь принимает, а не располнел нисколько… Эх, где-то Александр Иванович мой шагает? Неужто все в кандалах?..»
Когда в назначенный час пришел на Мойку, гостя еще не было, и радостный Андрей Андреевич рассказал, что приятель его привез царю от генерала Паскевича мирный договор с персиянами, по которому передают России земли, населенные армянским народом, да сверх того должны выплатить за нападение на наши пограничные области двадцать миллионов рублей серебром.
Столько денег Иванов даже представить себе не мог. Гора целая, что ли? Сколько фур обозных надо, чтобы такие деньги из Персии перевезть? И сколько конвоя? Дивизию, поди…
А Жандр уже рассказывал, что Грибоедова нынче очень милостиво принимал государь, наградил чином, орденом и деньгами, что, должно быть, вот-вот его назначат русским послом в персидскую столицу, — обо всем этом по городу уже разнеслись слухи.
Когда приехал Александр Сергеевич, перешли в кабинет и сели в кресла. Хозяйка указала Иванову также сесть, но он сделал вид, будто не заметил, и притулился к теплой печке.
— Вы все, конечно, прежде прочего хотите услышать, что знаю про князя Александра Ивановича, — начал Грибоедов. — Так вот, в настоящую каторгу, на тяжелую работу, их, слава богу, не послали, кроме нескольких человек, которых первыми в Сибирь отправили. Но и тех теперь со всеми собрали в захолустный острог, Читой называемый. Тесно очень, нары почти сплошные, на которых спят, едят, читают и в шахматы сражаются, но пишут родным, что живут дружно, деньги или что еще из России присланное на всю артель обращают. Книги им дают, табак курить дозволено. Супруги, которые вслед за некоторыми поехали, около острога поселились и через щелки тына с мужьями переговариваются, когда тех с товарищами на двор выпускают. Все сие оттого возможно, что, на их счастье, комендантом туда назначили некоего старого генерала, который, сказывают, на вид свиреп, а сердцем мягок. Однако строят уже в другом месте каменную тюрьму, где разведут всех поодиночке. Вот все, что узнал достоверного… От Александра Ивановича батюшка его получил всего три письма. Будучи сейчас проездом в Москве, я побывал у князя всего на час, потому что скакал по курьерской подорожной. Письма все бодрые, но стал мне читать и расплакался, едва водой отпоил…
— Вы, Александр Сергеевич, как-то в письме намекнули, что надеетесь через свойственника своего судьбу нашего друга сколько-нибудь облегчить, — сказала Варвара Семеновна.
Грибоедов поправил очки и, чуть пожав плечами, ответил:
— Добился я только того, что в письме государю от Паскевича, мной нынче привезенном, среди других дел есть и просьба смягчить участь бедного Александра. То есть мне сказано, что про то писано, но я ведь не знаю, какие выражения употреблены. Вез запечатанное и передал сегодня в царские руки. Просьба же в том заключается, чтобы перевесть его рядовым на Кавказ, где отвагой выслужится в офицеры, чем получит право на отставку или сложит голову под черкесскими пулями. Но выйдет ли согласие на такую меру, не знаю. Да и где лучше? Сейчас хоть с людьми просвещенными живет, которые его, конечно, уже полюбили, а там?.. Какой командир роты или фельдфебель попадется? Вот тезка знает, каково солдатам служить.
Старый Кузьма доложил, что чай подан, и все снова перешли в гостиную. Хозяйка налила и раздала чашки. Гренадер сел в сторонке, пил да слушал, что Грибоедов рассказывал про поход, про персидское войско, в котором немало русских солдат-дезертиров. Если примут мусульманство, их офицерами производят.
— А хочешь ли снова туда ехать? — спросил Жандр.
— В Тифлис — даже очень, — ответил Грибоедов. И вдруг улыбнулся так радостно, как еще не видывал Иванов. — Там, в Тифлисе, — продолжал он, — пора вам, друзья, признаться, я наконец-то сердце свое оставил около шестнадцатилетней девицы, истинного ангела красоты, ума, такта, скромности, доброты…
— Стойте! — перебила его Варвара Семеновна. — Мне ту весть вчерась из Москвы сорока в письме принесла, да верить не хотела, пока сам виновник не скажет. Ведь ее княжной Чавчавадзевой звать? Тогда с помолвкой не чаем поздравить? — Она дернула ручку сонетки, висевшей за диваном, и приказала вошедшему Кузьме: — Неси вино и бокалы, что в буфетной приготовлены.
— Зараз и со всеми наградами тебя поздравим, — сказал Жандр.
— Посланником еще рано поздравлять, хотя на то похоже, — сказал Александр Сергеевич. — Но тебя, братец, вполне можно как свежее превосходительство. Допрыгал-таки, Жандрик, до действительного статского! — Он повернулся к Иванову: — И тезку с новым местом поздравим. — Грибоедов проворно встал с кресла, подошел к хозяйке и поцеловал ее руку: — Только не знаю, с чем милую Варвару Семеновну поздравить.
— Меня с тем, что дорогого гостя принимаю, — ответила Миклашевич, — и что узнала достоверное про бедного нашего князя. Женское счастье истинное — в счастье ей дорогих и близких.
Когда чокнулись и выпили, Андрей Андреевич снова спросил:
— В Тифлис, стало быть, хочешь ехать? А хочешь ли дальше?
— О том рассуждать не приходится, — ответил Грибоедов. — Знаешь поговорку: назвался груздем — полезай в кузов. Взялся Персию изучать, язык ее постиг, десять лет назад туда впервой поехал, в жизнь ее вникнуть старался, — вот и отвечай за это… А народ тамошний куда еще бедней да темней русского и нас как чужаков и христиан весьма не любит. К тому же мы англичанам там поперек горла, которые золота не жалеют на подкуп двора и духовенства. Вот и тягайся с ними, насколько ума хватит. Написал я прожект по торговой части, чтобы английские товары нашими вытеснить, раз караванные пути от наших границ куда короче. Вот о чем нонче думаю, и не я один. Политика и коммерция — сестры-близнецы, что ты, Андрей, понимаешь не хуже меня, раз расчетами поставщиков с казной занят. А ежели посланником сделают, еще и выколачивание контрибуций, о которой вести царю привез, — дело для меня вовсе не простое… — Грибоедов помолчал, взглянул на часы, тикавшие в углу гостиной, и поднялся: — Ах, господа, хорошо с вами, но я нынче к кузине Паскевич и к Завадовскому быть обещался… Нет, нет, не бойся, Андрей, «почетным гражданином кулис» больше не стану. Не сердитесь, Варвара Семеновна, к вам еще приеду и торопиться не буду…
Еще раз Иванов увидел Александра Сергеевича недели через три, солнечным апрельским днем, стоя на парном посту перед золочеными дверями в Агатовую гостиную. Здесь ему впервой довелось наблюдать, как обер-церемониймейстер граф Потоцкий в расшитом золотом мундире и со списком в руке расставлял в Концертном зале два десятка военных и статских сановников, которым предстояло представиться царю.
Введя их из Большого бального зала, Потоцкий, негромко называя чины и фамилии, выстроил всех лицом к окнам в одну шеренгу. При этом в середине ее гренадер увидел Грибоедова, на этот раз в шитом серебром мундире, коротких белых штанах, чулках и туфлях. Проворно присев на корточки у фланга, обер-церемониймейстер проверил равнение и ушел в Агатовую гостиную.
Сначала в зале было совсем тихо, потом зашелестело легкое движение. Не трогаясь с мест, господа распустили животы, расслабили ноги, стали поправлять орденские ленты, головные уборы, которые держали под левой рукой, кто-то откашлялся.
Но вот двери плавно распахнулись, и в зал вступил Николай Павлович, сопровождаемый обер-церемониймейстером и дежурным генерал-адъютантом. Царь шел, заложив руки за спину, в белой конногвардейской форме, с голубой лентой через плечо, высокий, прямой, неторопливо ступая длинными ногами в поблескивающих ботфортах. Его твердая поступь одна раздавалась в зале — сопровождающие, казалось, шли беззвучно, так, точно попадали они в лад с царским шагом. Поравнявшись с первым из представлявшихся, Николай сделал к нему пол-оборота.
— Благодарю ваше императорское величество за новый знак лестного монаршего доверия… — начал старчески нетвердым голосом генерал в густо-черном завитом парике.
— Служи мне, как служил незабвенному брату, — не дав старику продолжать, сказал царь. — Учения твоего нового корпуса я видел осенью. Он несколько распущен. Подтяни. Я на тебя надеюсь. Особенно слаба десятая дивизия. Поезжай с богом…
Черный хохол поник в поклоне, а царь уже прошел дальше.
— Имею честь благодарствовать за всемилостивейшее пожалование чином действительного тайного советника, — раздался высокий голос с сильным немецким акцентом.
— Мне приятно награждать честность и трудолюбие, барон, — сказал царь, переступая к следующему.
— Имею честь откланяться вашему императорскому величеству по случаю отъезда к месту постоянного служения, — густым басом доложил толстяк в придворном мундире.
— Надеюсь, ты поправил здоровье на водах, — улыбнулся царь.
Так он шел, выслушивая фразу, которую говорил очередной сановник, чуть наклоняя голову на глубокие поклоны, роняя в ответ несколько слов, задавая порой один-два вопроса. Иногда, чуть замедлив шаг, Николай слегка поворачивался к Потоцкому, который, скользнув вперед, шептал что-то, верно подсказывая, к кому подходили. Некоторым царь улыбался, на большинство смотрел равнодушно, как бы наперед зная, что услышит и что ответит. Когда дошел до Грибоедова, то разжал наконец пальцы за спиной и сказал громче, чем говорил до этого:
— После твоего доклада вижу, что меня совершенно понимаешь. Уверен, что не уронишь достоинства России. — Длинная рука в узком белом рукаве вышла из-за спины и легла на плечо Александра Сергеевича. — В письме, — продолжал царь, — которое получил вчера, Иван Федорович тебя особенно хвалит. Поезжай с богом и помни, что за мной служба не пропадет. Действуй смело — я тебе защита со всей русской силой, раз назначаю своим полномочным министром. — Белая рука оторвалась от черного плеча Грибоедова и опять соединилась с другой за спиной царя.
Когда, пройдя весь ряд, Николай сделал четкий поворот через левое плечо, то генерал-адъютант и церемониймейстер, очень ловко одновременно шагнувшие в стороны, чтобы пропустить его, выждали минуту и уже вновь скользили рядом за белой широкой спиной. Кивая то одному, то другому, царь шел обратно вдоль шеренги сановников к дверям Агатовой гостиной, которые так же плавно закрылись за ним и обоими спутниками. Иванов знал, что с той стороны стерегли нужную минуту два камер-лакея.
И тотчас в зале раздался почти громкий говор. Разбившись на группы, сановники двинулись к Иорданскому подъезду. Несколько господ окружили Грибоедова. Он, отвечая что-то, тоже пошел к выходу из зала. Но вдруг остановился и быстро направился к часовым. Встал перед Ивановым и спросил:
— Ты ли, тезка? Так щедро нафабрен, что не сразу узнаешь.
Как мог ответить Иванов? Только мигнул да чуть улыбнулся.
— Ну, вижу, что ты! — засмеялся Грибоедов. — Так вот: побывай-ка у нас до отъезда. Только чур — в этаком параде, чтобы Сашка мой от зависти одурел. Стоим у Демута, на углу Мойки, знаешь? Нумер двадцатый, во втором этаже. Ну, будь же здоров!
Кивнул и быстро пошел из зала. И опять Иванов порадовался его походке и стройности: «Вот такой посланник хоть кому нос утрет — статен, легок на ногу, умен, речист…»
Через день под вечер пошел к Демуту. Разыскал номер двадцатый и постучал в дверь. Никто не ответил.
— Они у шедши, господин кавалер, — сказал, подойдя на стук, коридорный слуга. — Их превосходительство недавно выехали, должно, в гости, по одёже видать, а за ними скоренько и камердинщик ихний куда-то волчком пошли, духами все облившись.
На другой день отлучиться в город не удалось. Только разложил на кровати парадную форму, чтобы подкрепить две пуговицы, и приготовил иголку с ниткой, как дневальный крикнул:
— Встать! Смирно!
По проходу между кроватями шел капитан Качмарев. Обычно заходя сюда под вечер, он после выкрика дневального говаривал: «Отставить! Не беспокоить гренадер!» Но в этот раз молча дошел до двери второго капральства и скомандовал:
— Всей роте строиться в «сборной»! Живо!
Застегиваясь, приглаживая волосы, гренадеры спешили выполнить приказ. Как только подравнявшийся строй замер, капитан прошел к правому флангу, встал против Варламова и велел:
— Выдь вперед на три шага да повернись к роте лицом! — И, когда тот повиновался, продолжал: — Вот, гренадеры, любуйтесь! Глядит, будто агнец непорочный. Видно, не стыдно за вчерашнее. Час назад встретился здешний майор от ворот и говорит, что вчерась сей воин заслуженный, самому государю поименно известный, в списке от полка аттестованный примерно нравственным и с которого ноне статуй для славы нашей роты сготовляется, — так он-то вчерась в казарму мимо дворца так брел, что за стенку придерживался и мальчишки за ним бегли, медведем дражнили. Вот государь бы порадовался, такое поносное зрелище увидевши! Не в пору ли нам, Карп Варламов, всем за тебя со стыда сгореть?.. Но то еще не все, гренадеры! За сим является ко мне на квартеру, куда вгорячах ушел, чтобы в наказании не ошибиться, полицейский поручик Василеостровской части и говорит: «Вчерась гренадер ваш на Четвертой линии встречного военного писаря в текучую кровь избил безо всякой того вины, как многие свидетели согласно показывают. Так прошу принять воздействие, раз я протокола не писал из уважения к роте, которую, сказывают, сам царь выше лейб-гвардии ставит…» А я-то уж знаю, кто сей герой, раз утром у меня Варламов отпрашивался на дежурстве подмениться, чтобы в Академию художеств в литейную мастерскую идтить, свой статуй увидать… Так вот что я тебе, бессовестный солдат, скажу! Сейчас — ты да ты! — Качмарев ткнул перстом в соседей Варламова по строю — берите ружья и его по всей Большой Миллионной под строгим конвоем проведите с моей запиской на гауптвахту Павловского полка. Вот сраму всей роте! Первый от нас арестованный… А как отсидишь, Варламов, две недели, то с ведома его сиятельства господина министра баки и усы тебе барабанщик перед фрунтом сбреет, и будешь бессменно по роте дневалить, покудова снова не обрастешь. Раз блюсти себя не можешь, то и я круто поступлю… Вот конвойным в руки моя записка к дежурному офицеру, которую с великим огорчением писал… Гренадеры, разойдись!..
Пока конвоиры снаряжались, несколько гренадер спрашивали Варламова, за что побил писаря, но он, насупясь, молчал. Зато вертевшийся тут же Павлухин уже болтал вирши:
Но сегодня все от него только отмахивались.
Когда Варламова увели и волнение от случившегося немного улеглось, принесли ужин. «Пока поешь, оденешься да дойдешь, надо назад ворочаться, — решил Иванов. — Схожу завтра к Демуту».
Пошел в пятом часу. За дверью нумера звучала музыка. «Знать, Александр Сергеевич дома», — решил гренадер, нажимая щеколду.
За небольшой прихожей в нарядно обставленной комнате у фортепьяно сидел Сашка Грибов и, лихо взмахивая завитым хохлом и вскидывая локтями, отхватывал какой-то танцевальный мотив.
— Ух ты! И правда роскошно тебя обрядили! — воскликнул он, подбежал к Иванову, чмокнул его в щеку, оглядывая со всех сторон. — Женский пол весь, поди, только рты разевает!..
Приказав коридорному подать самовар, Сашка выставил на стол разную снедь и бутылку красного. Вино советовал подливать в чай да не жалеть сахару, называя такое питье «пуншиком». И сам делал это столь исправно, что скоро раскраснелся, как в бане. Однако гладко рассказывал про походы, про Тифлис, про красавицу Нину Александровну, которую называл «наша княжна», и хвалился, что от барина не отстанет и женится на грузинке, может, тоже княжне какой-нибудь. Там ведь не все князья богатые, а есть такие, что его заправским женихом сочтут, раз при Александре Сергеевиче служит, который обязательно министром в Петербурге станет, коли таланты имеет и с графом Паскевичем в близком родстве. А он, Сашка, при нем главноуправляющим и чин получит, раз грамоту и все господское обращение постиг.
Едва дождавшись, когда приостановился поток хвастовства, Иванов вполголоса спросил, не слыхал ли чего про господ Кюхельбекера и Бестужева, которых барин его знавал.
— Как же! Ведь мне Александр Сергеевич все даже секретное сказывает, — разом подхватил, тоже понизив голос, Сашка. — Обоих сих бедняг все в Сибирь не отправляют, а в казематах крепостных мытарят. Потому, сказывают, такая им мука назначена, что на площади великому князю смертью грозились…
Возвращаясь в роту, гренадер думал, что Сашка парень неплохой, но уж очень забалован, отчего в должности его полный беспорядок. Через двери, отворенные во второй комнате, видел на диване сюртук да панталоны — все кое-как брошенное. Должно, как ушел барин переодевшись, так и осталось неприбранное, а Сашка знай за фортепьяной хохлом трясет. Какой же из него главноуправляющий, ежели Александр Сергеевич все выше пойдет?.. Да, кому какая судьба даже из дворовых людей. Александр Грибов вон как набалован, а Семен Балашов где-то сейчас? Хорошо, ежели из темницы выпущен и сестра Вильгельма Карловича к себе взяла. Или еще из дворового звания Александр Поляков. И талантом наделен, а каково живет? Сапожонки в заплатах, локти лоснятся, голодный всегда. Отчего-то во дворце его не видать. Работой англичанин завалил или расхворался? Неспроста покашливает да в лице ни кровинки.
4
Утром прочел в табели нарядов, что с нонешнего полудня заступает дежурить на Половине короля прусского, и в обед заложил между ломтями хлеба большой кусок вареной говядины. Увидев это, сидевший напротив Павлухин тотчас начал плести:
— Брось болтать про зелье проклятое! Вон Карпа куда им занесло, да еще какой страм впереди примет, — сказал Иванов.
Но Савелий не унимался:
В этот день гренадер много раз выглядывал из крайнего зала своего поста в Предцерковную, но не увидел Полякова. Так и отдал свой «пыж» на подъезде парню-дровоносу из тех простяг в деревенской одёжке, которые всегда не прочь пожевать хоть хлебца, перетаскавши на горбу несчетные вязанки дров в чуланы на разных этажах, откуда их разносят к печкам ливрейные истопники.
Теперь Иванов уже знал, что в этом огромном дворце, полном позолоты, шелков, картин и всяких богатств, кроме разодетой, часто заносчивой прислуги, живет куда за тысячу всякого подсобного люда и отставных стариков, раньше здесь что-то делавших, многие из которых рады куску, сунутому в руки.
Четыре дня Иванов не видел художника и забывал прихватывать для него съестное, такие события волновали роту. Когда князь Волконский доложил царю рапорт Качмарева, испрашивающего разрешения после выхода Варламова из-под ареста обрить его перед фрунтом «для внушения прочим», Николай Павлович, пребывая в добром часе, приказал простить виновного. Он помнил этого красавца правофлангового шефской роты с того дня, как юношей вступил в командование Измайловским полком, и сам недавно заказал его статуэтку, которой собирался украсить свой кабинет на манер портрета «первого солдата» Бухвостова, заказанного когда-то Петром Великим. Нет, такого нельзя уродовать бритьем, пусть почувствует царскую милость. Но нагнать на него страху необходимо. И царь приказал своим именем внушить Карпу, что при малейшем проступке уйдет в полк штрафованным рядовым.
Качмареву, конечно, была неприятна отмена его приказа. Но разве возразишь? И капитан сделал все, как велено, снова крепко отчитал перед строем заметно осунувшегося за трое суток ареста Варламова и, уйдя в канцелярию, засел за какие-то бумаги. А когда вечером, по обыкновению, шел в роту к поверке, то на дворе нагнал Савелия Павлухина, оказавшегося под сильной «мухой». На ногах он стоял крепко и лихо сделал капитану фрунт, но водкой несло от него за версту. Качмарев начал пробирать Савелия, чем дело бы, верно, и кончилось, но тот ответил стихами, в которых курившие поблизости товарищи услышали, что сердце гренадера иссушила кумушка, на которой жениться есть его заветная думушка. Потом пошли мечты про запотелый графинчик и на окошке цветущий бальзаминчик. Дальше капитан не пожелал слушать и приказал Павлухину отправиться на гауптвахту.
Перед сном среди гренадер шли пересуды, не будет ли и тут послабления свыше, и все соглашались, что командир роты не зря наказал Савелия. Ему бы молчать как рыбе или сказать: «Виноват, ваше высокоблагородие», а он знай свою дурь несет…
На другой день после этого происшествия Иванов не забыл захватить «пыж» для Полякова и только обошел свой пост, как увидел живописца, тащившего стремянку в галерею. Помог отнести и расставить, сунул свой пакет и наказал заглянуть к нему на пост, когда окончит работу, чтобы вместе убрать лестницу.
— Спасибо, дяденька Александр Иванович, — сказал художник каким-то не своим, бодрым голосом и с широкой улыбкой.
— А ты, тезка, никак именинник, хотя будто что в сем месяце никакого Александра не празднуют.
— Нынче мне поболе праздник выдался, чем именины, — отозвался Поляков. — Вот уж истинно счастливый день, раз в него узнал, что кабала моя вот-вот окончится.
— Неужто барин в судьбу твою взошел? — обрадовался Иванов.
— Поднимай выше! — счастливо засмеялся Поляков и указал на помещенный в третьем ряду портрет молодого генерала. — Вот они, президент Общества поощрения художников, тайный советник Петр Андреевич Кикин, которые раньше генералом боевым были, да еще господин Свиньин за меня перед самим государем заступились. Прошение подали на мистера Дова и плутни многие на чистую воду вывели, которые по алчности своей здесь завел.
Тут из Тронного вышел обходивший свой пост гренадер Крылов из прежних конногвардейцев. Попросив его подержать лестницу, пока Поляков лазает, Иванов поспешил на Прусскую половину, наказавши художнику зайти туда рассказать подробней о своих делах. Ждал и не дождался. А когда, сменившись, встретил Крылова, тот сказал, что в галерею заходил англичанин, бранил Полякова и наказывал скорей кончать какую-то работу. А молодой живописец все молчал, и когда вместе убрали лестницу, то заторопился следом за начальством.
Назавтра, когда Иванов после обеда сгибался в роте над щетками, дневальный сказал, что его спрашивают у двери. Здесь гренадер увидел Полякова, пригласил к своему месту, усадил на табурет, сам сел на кровать. Большинство гренадер стояли в наряде или разошлись в город, так что разговаривать было удобно.
— Не тужи, тезка, — сказал Иванов, — наша судьба отродясь подневольная.
— Да нет же, Александр Иванович, теперь моя судьба даже совсем к лучшему повернулась, — заулыбался живописец. — Вчерась в галерее я перед кровопийцем своим молчал, как вам, верно, дяденька Крылов передали, оттого что пока так наказано от благодетелей моих. А вчерась же ввечеру мне господин Свиньин сказали, что Обществом поощрения не только про мошенства господина Дова и про мою у него кабалу государю доведено, но еще две тысячи рублей на мой выкуп собрано. Подумайте — две тысячи! — Поляков поднял вверх палец. — И о сем государю также тайным советником Кикиным доложено. Да и то еще не все… — Живописец сбросил с плеч свою ветхую шинельку и приосанился: — Вчерась же от самого царского лица вышел письменный приказ запросить барина моего, сколько за меня получить желает, а меня сейчас же, ответа не дожидаясь, определить в Академию художеств обучаться и от Дова навсегда ослобонить. — Поляков перевел дух. — Вот, дяденька, голубчик, такие мои новости, что к вам ровно на крыльях летел. — Блаженная улыбка осветила бледное лицо художника. Он впервой огляделся по сторонам, как бы обретя на то смелость от своего рассказа. — А как тут у вас хорошо! На казарму вовсе не схоже. Тепло, светло, — он пощупал матрац, — кровати ровно у барышень каких, и белье чистое. Истинно царская рота! И ружья как славно в ряд стоят, солнышком освещёны.
«Видно, надобно и мне его в такой день чем-нибудь порадовать», — думал в это время Иванов и спросил:
— А не хочешь ли нонче под вечер, часов в шесть, пойти со мной в Графский трактир супротив Круглого рынка? Я тебя солянкой мясной угощу, а ты мне, как след, дела свои перескажешь. Согласен ли?
— Покорнейше благодарю, Александр Иванович, — поклонился, привстав, Поляков. — Я тамо еще не бывал, как сказывали, что дорого берут. А коли пятак случится, то сряду с лотка перехвачу печенки аль рубца…
Трактир, в который пригласил Иванов живописца, помещался в нижнем этаже принадлежавшего графине Зубовой дома на углу набережной Мойки и Аптекарского переулка. Он относился к разряду самых дешевых заведений этого рода. На вывеске стояло одно слово «Трактир», но в соседних кварталах его называли «Графским». Днем, в холодное время, здесь грелись чаем и сбитнем купцы и сидельцы Круглого рынка, сбежавшие из нетопленых лавок, и продрогшие там же их покупатели. А часов с четырех сиживали, сменяя друг друга, берейторы, шорные и экипажные мастера из почти что соседних придворно-конюшенных зданий. Заходили также канцеляристы дворцового ведомства и «солдатская аристократия»— писаря и фельдфебели Преображенского и Павловского полков. А последние месяцы почетными гостями стали дворцовые гренадеры, известные округе своими достатками.
Иванов не любил трактиров с их чадным «съестным» духом и бестолковым шумом, но уже не раз бывал в Графском по приглашению товарищей, праздновавших именины, получение нашивок-шевронов за беспорочную службу или находивших иной повод выпить и побалагурить.
Только без четверти шесть схватился убирать в тумбочку щетину, инструменты и одеваться к выходу. В начале седьмого он подошел к трактиру. Поляков уже прохаживался у дверей, подняв воротник шинели.
Заняв столик в третьей от входа, самой маленькой и пока пустой комнате, освещенной двумя оплывшими свечами в стеннике, Иванов заказал мясную сборную солянку, чаю на двоих и пяток калачей. Объяснив, что ужин сохранят ему в роте, гренадер отодвинул поставленную ему тарелку. Пока не принесли еду, художник разочарованно оглядывался: уж очень все невзрачно — низкие потолки, мятая скатерка, щербатые тарелки. Но когда половой водрузил перед ним миску, из которой ударил густой мясной дух, Поляков, перекрестившись на темный угол, скинул шинель на спинку стула, налил себе полную тарелку густого супа и начал истово хлебать, по-крестьянски подставляя под ложку ломоть хлеба. Чтобы ободрить гостя, Иванов рассказывал, как, даже будучи вахмистром, всегда мог есть, ежели появлялась к тому возможность. Потом вышел велеть, чтоб подали свечей поярче, и поглядел в первой комнате на писарей, игравших в шашки. А когда возвратился, художник дохлебывал вторую тарелку. Спросивши Иванова — неужто же и мяса не хочет? — он придвинул миску и стал убирать куски говядины, курятины, солонины — все, что оказалось там вперемешку с огурцами и луком. Есть так самозабвенно может только долго голодавший человек, получающий от пищи истинное наслаждение. При свете новых свечей стало видно, что востроносое личико живописца порозовело и все блестит испариной.
Продолжая рассказ, Иванов дошел до того, как после двадцатилетней солдатчины судьба его помиловала, точно как сейчас Полякова, который куда моложе и с учением впереди.
Дожевав последний кусок, художник вынул из кармана какую-то тряпочку, под столом стыдливо собрал ее в комок и, вытерши лицо и шею, сказал с чувством:
— Ну, спасибо, дяденька! Вот так угостили, прямо по-царски! Восемь лет в Петербурге живу, а так разу не едал.
— Нам иначе нельзя угощать, раз из царевой роты, — пошутил Иванов. — А теперь вместе чаю напьемся. Ты чай любишь ли?
— Как не любить! — отозвался живописец. — А мне, значит, под чай вам рассказывать, как англичанин из меня кровь сосал?
— Рассказывай, ежели вспоминать не тошно. — Иванов разлил чай по стаканам. — Сахару не жалей, да вот калачи свежие…
— Покорно благодарю-с… Так горе сие, дяденька, с того началось, что барин мой генерал Корнилов в Петербурге по делам кружился, когда мистер Дов уже вторую зиму портреты писал. Вот в тое время, перед ним сидючи, генерал и расскажи, что при костромском доме имеет своего крепостного живописца, меня то есть, который потолки по дворянским гостиным малюет и портреты схожие сымает, раз у тамошнего живописца Поплавского обучался. Дов не поленился к генералу на квартиру приехать, чтобы генеральшин портрет моей кисти поглядеть, и тут же предложил меня к себе в работу принять. Говорилось, что я мундиры да ордена писать стану, когда издалече генералы свои портреты Дову пришлют, с тем чтобы для галереи с них копии изготовил. А он за то меня станет в Академию учиться отпущать. Узнавши такое условие из письма управителю в Кострому, я прям возликовал — чего же лучше!.. Подрядились они так: за мою работу Дов будто должен в год восемьсот рублей ассигнациями платить, из них оброку двести рублей генералу высылает, четыреста за пищу себе удерживает, которую я имел с его лакеем, объедками господскими питаемым. Сюда же и квартира в виде холодного чулана входила. Остальные двести ни разу мне сполна на руки не выдавал. За каждый день, ежели захвораю, высчитывал. А в здоровые дни должен был я не менее двенадцати часов за мольбертом сидеть… Да, забыл сказать, что бумагу с генералом подписали сряду на все годы, пока галерея делается…
— А когда же учиться тебя отпускал? — спросил Иванов.
— То и дело, что в Академии я разу не побывал, так работой меня завалил. И насчет мундиров на копиях тоже одни слова пустые оказались… Услышите дальше, что расскажу, так подивитесь, каков мистер Дов жаден да лжив… — Поляков откусил кусочек сахару, отпил чаю и продолжал: — За каждый портрет, для галереи писанный, он по договору тысячу рублей получает. А почасту портрет, что мне или еще одному подручному немчику списывать даст, — ту нашу работу в галерее поставит, а который сам писал — генералу, что изображен, аль его детям, вдове, коли помереть поспел, за вторую тысячу уступит…
— Неужто же по тысяче за каждый? — поразился Иванов. — Я в первый раз, как ты сказал, думал, ослышался. А сколько же дней он тот портрет делал и подолгу ль вы их списываете?
— Он, слов нет, мастер редкостный, работает на удивление схоже с натурой и быстрей невозможно, — ответил Поляков. — Каждый портрет не боле шести часов пишет. А я поначалу дня по три копии сымал, а потом так присноровился, что за день…
— Так он, выходит, в один день твоим уменьем больше гребет, чем тебе же за год платит? — развел руками гренадер.
— Вот-вот, — подтвердил Поляков, отпил чаю и спросил: — Так есть ли тут, дяденька, какая справедливость?
Иванов сначала огляделся: место ли в трактире про такое говорить? Но они по-прежнему были одни в задней комнатке. Дверь в передние, полные людьми, была притворена, оттуда глухо слышны голоса и звон посуды. Другая дверь, из которой носили горячие блюда, верно, в кухню, была также прикрыта.
— Про справедливость нашему брату рассуждать нечего, — сказал наконец гренадер. Он налил Полякову еще стакан, пододвинул блюдце с колотым сахаром, калачи и спросил: — Так как же тот генерал Кикин в твое положение проник?
— Не во мне одном дело, — снова обтираясь своим комочком, ответил живописец. — А жадность черная Дова обуяла, все ему казалось, что мало денег загреб. А ведь, кроме генеральских портретов, сколько по городу в каретах рыскал, которые знатные бары за ним присылали, да ихние портреты писал. Царя покойного и нонешнего, государыней всех трех, князей великих, министров, сенаторов, архиреев, барынь знатных — кого только не писал! И за те портреты тоже большие тысячи шли. Однако все мало — засадил двух англичан со своих портретов гравюры резать да по двадцать пять рублей отпечаток продавал. Ему — пятнадцать, а мастерам — по десятке. С ними еще по-божески обходился. Потом нам с Василием приказал царские портреты прямо дюжинами сымать, а сам их подписывал, ни разу кистью не тронувши…
— Кто ж таков Василий? — спросил Иванов.
— Да тот немчик, которого поминал. Он Вильгельмом зовется, а по-русски — Василий. Голике его прозвание, тоже, бедняга, не зря охает, да все легче, раз не крепостной, в любое время отойти может… Так те копии, что мы с ним вперегонки писали, а Дов подпись свою ставил, уже в Гостином дворе купец Федоров по пятьсот рублей за штуку продавал и на ярмарку в Нижний сколько-то отправил. Были и еще мошенства, все долго рассказывать, о которых пошла-таки по городу молва. Дов, видно, думал, что тут, как средь дикарей, никто в художествах не разумеет. Ан нет! — Поляков допил второй стакан, заел его калачом и продолжал: — Живут, слава те господи, такой барин, Павел Петрович Свиньин. Они когда-то сами живописи учились, потом чиновником служили и журнал свой выдают. Все другие господа только: «Ах да ах! Каков господин Дов искусник!» А Павел Петрович и заметь, что много портретов иной рукой писаны, наметанный глаз такое сряду увидит. Прием у Дова, прямо сказать, сильный, смелый, а у нас обоих и мазок другой, робкий. Хоть его же копируем, но так, как он, ни в жисть не написать. Не говоря, что до сотни в галерее портретов, которые с присланных из дальних мест, часто плохоньких, мы с Голике в нужном размере копировали, а они казне также по тысяче рублей обошлись. Стали господин Свиньин туда-сюда ухо преклонять, добрались до купца Федорова, а потом и до нас с Василием. И еще очень обидно Павлу Петровичу, что галереей не русский живописец величаться будет, а иностранец, который русские деньги лопатой гребет, когда нашим первейшим художникам за такового размера портрет больше трехсот рублей не взять. — Поляков перевел дух и снова утер лоб и шею тряпочкой, которую поворачивал, ища сухого места.
— Как же тот барин Свиньин поднялся против такого самому царю известного иностранца? — спросил Иванов.
— Есть общество, добрыми людьми собранное, поощрением художников занимается, то есть чтобы нашему брату помогать. Так господин-то Свиньин хоть там не самый главный, но весьма речист и прыток. Он генералу Кикину все открыл и других господ на англичанина поднял. Позвали меня в ихнее присутствие и спрашивают, как живу. А что ж мне врать, мистера Дова выгораживать? Кабы он хоть малость меня жалел, то, верно, не стал бы. Я тут и высказал, как вам нонче. «Правда ли, — спрашивают меня, — что в день по портрету снять можешь?» — «Правда», — отвечаю. «А вот мы тебя испытаем», — грозятся. «На то воля ваша», — отвечаю. На другое воскресенье я за восемь часов большой портрет всей фигуры скопировал у них в запертом покойце. А они собрали, видать, все показания да доложили государю прошением, которое все подписали. Так ведь и государю приказать не просто, раз в галерее полсотни малых портретов не хватает да и больших всех, окромя царя покойного. Но тот, как всякому видать, весьма плох: не умеет Дов коней писать. Однако надо, чтобы доделал, за что взялся… Ну, государь и велел пока только меня от него отнять и в Академию определить, а барину писать, чтобы уступил за выкуп, что в обществе собрали. За две-то тысячи, да раз сам государь велел, отпустит, поди?
— Ясное дело, — кивнул Иванов.
— Ну, то впереди, — вздохнул живописец. — А покуда денег у меня сорок два рубля и обзаведения никакого — что на мне носильное да еще пара белья, тюфячок да подушка.
— Одеяло я тебе дам, у меня лишнее, еще полковое, — сказал гренадер. — Но где ночевать станешь? От англичанина отошел уже?
— Снял на Мошковом у старушки каморку с дровами, — ответил Поляков. — Завтра в Академию пойду, как господин Свиньин наказали. Будто там про меня уже известно. Скоро, видно, придется на Остров перебраться, где художники живут, к учению ближе.
— А что же с Довом государь сделает, как галерею окончит? — спросил Иванов. — Деньги, поди, с него не взыщут, так хоть бы мошенником ославили… Ну, а немчик твой при нем остается?
— Его дело иное, над ним не так измывался. Небось на лестницу меня всегда слал. Да еще пугал, бессовестный: «Разрываешь портрет, так две бес платы писать заставляю», — передразнил Поляков иностранный выговор своего врага. — А что убьешься до смерти, с пятого ряда свалившись, то ему все одно.
— А на что жить станешь? — обеспокоился гренадер. — Надолго ль твоих денег хватит? Пока на Мошковом живешь, ходи ко мне в роту, у нас всегда остатки есть.
— Спасибо, дяденька, но обещает общество помощь выдавать. И царских портретов, которые хоть зажмурившись писать могу, пару сделаю — да на рынок. Прокормлюсь не хуже, как у злодея. А нынче спасибо за угощение, право, с Костромы так не едал. Там повар мне крестный был, нет-нет да и накормит досыта.
— Бери калачи да сахар, за них плочено, — предложил Иванов.
Живописец не заставил себя упрашивать. Проворно распихав по карманам все несъеденное, он стал надевать шинель.
— Благодаря Дову даже сии края мне опротивели, — сказал он. — Как на Остров переберусь, то ни шагу сюда. К вам повидаться и то будет надобно себя неволить, хотя вас, дяденька, душевно полюбил… Ох, что ж такое? Никак драка пошла?..
За дверью в трактирной комнате послышались возня, стук падающей мебели, чей-то выкрик, потом будто звериное рычание. Вот дверь распахнулась, и за ее проемом встал, накрепко упершись в порог, высоченный дворцовый гренадер в фуражке и шинели. Под руки его подхватили и толкали вперед трактирные половые в белых рубахах и портах. Третий схватил сзади за поясницу, так что казалось, будто гренадер опоясан полотенцем. И все не могли впихнуть в комнату, откуда оторопело смотрели на борьбу недавние собеседники. Лицо гренадера было так искажено натугой и злостью, да еще он, перекосившись, зажмурил один глаз, так что Иванов не сразу узнал Варламова.
«Не пробрали его ни карцер, ни капитановы отчитки, — подумал гренадер. — Как бы уйти до греха?»
Но тут Варламов разглядел его.
— Александра! — воззвал он, снова оттолкнувшись ногами от порога. — Помогай! Вишь, гниды белые меня бьют.
— А ты чего им наделал?
На вопрос ответил тот половой, что толкал Варламова сзади. Ловко вывернувшись из-за гренадера и тряхнув волосами в виде поклона перед Ивановым, он бойко доложил:
— Они, господин кавалер, давеча в трактир как ввалились, уже хмельные, то сряду зачали двух писарей лбами стукать, разом обоих раскровенили, едва мы втроем отняли-с. А сейчас хотим черным ходом вывесть, раз те за будошниками побегли. Сберечь их, значит, от аресту хотим.
— А по глазу меня кто огрел? — взвился Карп. Вырвав руку, он ухватил одного из половых за шею и стал гнуть к полу.
— Брось сейчас! — приказал Иванов. — Брось, тебе говорю! Хочешь, чтобы капитану полиция связанным представила?
— Так мы же с тобой вдвоем и будошников хоть сколько уложим, — возразил Варламов, но отпустил шею полового и, разом подхваченный своими поводырями, оказался наконец в комнате. Видно, упоминание о командире дошло-таки до его сознания.
Воспользовавшись тем, что дверь оказалась свободной, Поляков, топтавшийся у стола, шмыгнул мимо них к выходу из трактира. В то же время Иванов надел шинель, фуражку и, обернувшись, толкнул дверь, через которую носили кушанье. За ней открылись сени, тускло освещенные фонарем. Слева за еще одной дверью трещали в печи дрова и мигал другой фонарь — там была трактирная кухня. Справа третья, открытая настежь дверь вела на двор. Там — снег, забор и калитка на Мойку.
— Пошли! — крепко ухватил Иванов за рукав Карпа.
— Дозволь хоть разок каждого награжу, — рванулся было тот.
— Самого завтра капитан наградит, — отозвался Иванов, выталкивая буяна в сени к выходу на двор.
За ними грохнула захлопнутая дверь, звякнула задвижка.
«Теперь бы только на будошников не нарваться, — соображал Иванов. — Откуда прибегут? Ближняя будка у Конюшенного моста…»
Он толкнул Карпа за поленницу у забора.
— Стой тут и нишкни. Снегу сгреби — да к глазу, чтоб завтра капитан не увидел.
— Измайловцы и в Бородине шагу не отступили, — бормотал тот.
Иванов двинулся к калитке, но во двор вскочил Поляков.
— Квартальный с будошниками только в трактир вошли, — забормотал он. — По Аптекарскому бегите да на Неву по Мраморному.
Сказавши, юркнул в калитку и повернул к Конюшенному мосту.
Схватив Карпа за локоть, Иванов потащил его за собой.
— Беги, пентюх, а то беды не оберемся!
Пробежав половину переулка, перешли на шаг. Поправили фуражки, одернули и застегнули шинели. Карп шел твердо и опять, схвативши горсть снегу, приложил к глазу.
— Видишь ли? — спросил Иванов, вспоминая свое давнее горе.
— Вижу. Только попервости саднило. Но обида!.. От половых обида гренадеру…
— Мало тебе, видно, дали, что про обиду рассуждаешь! — в сердцах сказал Иванов.
Как посоветовал Поляков, к воротам подошли от набережной. И в самое во время — дневальный запирал их на ночь. Дежурным был унтер Маслов, из бывших измайловцев. Он на поверке будто не заметил хриплого отзыва Варламова и его подбитого глаза.
«Ну, авось пронесло», — подумал Иванов.
Но утром сразу после раздачи сбитня его кликнули в канцелярию роты. Качмарев сидел один, услав куда-то писаря.
— Был вчера в трактире у Круглого рынка?..
— Так точно, ваше высокоблагородие.
— Что пил?
— Один чай, калач еще съел.
— А Варламов там был?
— Не могу знать. Я в задней комнате со знакомым гутарил.
— Побожись, что Карпа не видел.
Иванов молчал.
— Ну вот, значит, соврал мне, — сказал капитан. — Думаешь, оно хорошо?.. А теперь послушай-ка. Нонче чуть свет ко мне на квартеру заявился полицейский офицер и сообщает, что вчерась вечером в том трактире мой гренадер, лицом чистый, волосом русый, учинил драку. Сначала двух писарей от городского коменданта, впервой туда зашедших, лбами сталкивал да еще богохульственно приговаривал: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Потом троих тамошних услужающих сильно помял, которые его унимали. А увел его оттуда другой гренадер, который в задней комнате солянкой какого-то ледащего в шинелишке угощал. Я, понятно, сряду вспомнил, что Варламов днем мне навстречу попал, с узелком в баню шедши, отчего не фабреный, и второе — что ты известный трезвенник и живописца Полякова жалеешь…
— Виноват, ваше высокоблагородие, — сознался Иванов.
— Бог простит, — махнул рукой Качмарев. — Я тебя ведь для совета позвал. Истинно не знаю, что с Варламовым делать. Раз из полка мне передали, что куликнуть любит, то я его, дурака, уговорил жалованье сполна, окромя трешки на табак да на баню, в ящик ротный сдавать, чтобы на некое задуманное, которое открыть не захотел, капитал составить. Так все одно начал загуливать, когда в Академию приказали отпущать. Там мастер его полтинами награждал — отсюда и пошло! Упрятал было под арест — так нет, выпустили до сроку. Павлухина, чтоб компании ему не стало, туда заслал — тоже не помогло. Положим, полицейского поручика мы с супругой кофеем изрядно употчевали и за перчатку ему синенькую от себя сунул, за каковую побожился, что дело загасит, — мало ли тут рослых солдат? Но насчет Варламова я в полном сумлении. После прошлого мне князем строжайше наказано доносить про Карповы проказы, а он, всеконечно, государю про драку с богохульством тотчас доложит. И пойдет, садовая башка, в полк штрафованным в сорок два года. Хоть злость на болвана берет, а все жалко… Ну, а ты что скажешь?
— Вам видней, ваше высокоблагородие, — отозвался Иванов. — Но раз вчерашнее не откроется, то проберите его в последний раз. Только вас и боится. Одним вашим именем оттоль увел.
— А он никому еще про вчерашнее не болтал? Ты-то, я знаю, молчальник, — сказал капитан. — Ну ладно, попробую уж точно в самый последний раз. Эх, кабы один Варламов такой в роте был! Пока трезвы — рассудительны и послушны, а выпьют — и все обиды, что за жизнь накоплены, разом в башку брызнут… За ростом, красотой и заслугами гнались, жалованье небывалое назначили, льготы разные, а небось не написали в приказе, чтоб пьяниц не слали. Как можно! У нас ведь народ такой трезвый! А я теперь возись. Молодцов да красавцев много, но и пьяниц полроты… Ну, пошли ко мне дурака. Видно, страхом не проймешь, попробую души достать. Не знаешь, есть ли у него зазноба?
— Не могу знать, ваше высокоблагородие, не было такого слуху.
После обеда, увидев в окно Варламова, курившего в одиночестве трубку, Иванов накинул шинель и вышел на двор.
— Больше не бывать такому, вот те крест! — сказал Карп. — И к тому же вовсе не на что. Раз статуй мой окончили, то наградным от господина Ковшенкова конец… А писарей военных, особливо фофанов сытых, все одно так и подмывает уродовать.
— За что ж ты на них эдак зол?
Варламов, оглядевшись, убедился, что они одни, и сказал:
— За то, что один таков красавчик дочку мою сгубил.
— Дочку? Да разве ты женатый, Карп Васильевич?
— Был до службы. Только женился, а тут мещанское общество по жеребью меня в милицию в тысяча восемьсот седьмом году сдало. Сказывали, только до конца войны, а там — цап! «Зачесть за рекрутов, передать в полки». И попал в наш Измайловский… Тогда и ворочаться не больно хотел, раз узнал, что жена родами померла, а дочку сестра моя, бездетная и достаточная, к себе приняла… В тысяча восемьсот пятнадцатом году выпросился в отпуск, захотел в родном Ярославле сестрино семейство узнать — она замуж вышла и детей двоих родила. Тут и дочку свою впервой увидел, Федосьей звали. Такое дите доброе… Все, бывало, за мою руку держится, не отпущает. Я, говорила, за тобой, папонька, всюду ходить буду. И с рукой моей на ночь заснет… — Варламов закусил костяной мундштук трубки и, помолчав, продолжал: — Все твердила: «Возьми с собой, я тебе вместо мамоньки рубахи мыть да щи варить стану…»— Он отвернулся от Иванова, откинул серебряную крышку немецкой трубки, которую берег с заграничного похода, ковырнул в ней шпилькой, что болталась тут же на цепочке, пыхнул несколько раз дымом и спросил: — А куда взять-то? Кабы бабу встретил по сердцу, чтоб ей мачехой доброй стала… А так ведь все девки на час, которым дите разве можно сдать?.. Ну… Прошлый год осенью дошло от сестры письмо. Сряду, поверишь ли, сердце екнуло. Почуял, что горе в нем. Пишет, что Феню мою отдала в учение к золотошвее, а там к ней подделался писарь военный, хозяйкин знакомец, жениться обещал, перстеньки да ленты дарил. А потом и перевели его будто в Петербург… А она, глупая… — Карп вдруг моргнул, кашлянул, сплюнул и растер ногой. — Она-то и утопилась. Может, перед людьми чего скрыть хотела, а может, с обиды одной… Вот я и затосковал. Особливо когда сюда назначили. Тут бы мне дочку в Петербург выписать, на вольной квартире поселить, приданое справить, внучат дождаться, коль ее дитёй, почитай, не знал… Вот, Иваныч, оттого, как увижу писарскую смазливую харю, так и бьет кровь в голову: вот он, погубитель Фени моей. Разыскал бы его, так сестра, видно, того боится и прозванья не пишет…
— А на что же деньги, Карп Васильевич, копишь? — полюбопытствовал Иванов, желая отвлечь Варламова от тяжких мыслей.
— Собираюсь на родину съездить. Пишет сестра — овдовела, а сына ее, что Фенин любимый браток был, будущий год в рекруты может общество сдать. Хочу выкупить, чтобы моей сладкой доли не хлебнул…
Нежданной болью отозвались в сердце Иванова слова о детской ручке в ладони. Будто не то, а похоже чем-то и на его утрату. Откуда пришла боль через столько лет? Почему еще помнит, как доверчиво легли Анютины пальчики в его руку?..
Качмарев не зря ворчал: чем больше привыкали гренадеры к новой достаточной жизни, к легкой службе, к свободному выходу из казармы в будни, тем чаще, без меры приложившись к чарке, различным манером нарушали дисциплину. И все возрастало число просивших разрешения вступить в законный брак, дававший право убраться с глаз начальства на вольную квартиру.
Иванов оставался вне обоих этих разрядов, не загуливал и не собирался жениться. Но и он этой весной чувствовал горечь оттого, что нет близкого человека, нет угла, а все казарма да казарма. Пусть просторная, теплая, светлая, но все на людях, все начеку перед начальством. И теперь еще чаще, чем в полку, упрекал себя, что пять лет назад даже не спросил самое Анюту про ее согласие. Бывает ведь, что и в таком возрасте замуж выходят. И жива бы осталась, а как бы сейчас-то зажили!..
5
В мае услышали, что государь выслал господина Дова из России. Видно, немало провинностей насчитали за прославленным живописцем, ежели столь круто с ним обошлись. Так и остались в Военной галерее пятьдесят малых рамок затянуты зеленым шелком. Пустовали и все большие, кроме портрета императора Александра, который продолжал скакать — верно говорил Поляков — на совсем деревянном, будто с какой карусели снятом коне.
Иногда, дежуря в соседних залах, Иванов видел немчика Голике, чистенько одетого, румяного, несшего в галерею лестницу, чтобы ставить на место малые портреты после «поправки» почерневшей асфальты. Но ему не помогал — здоров, сам справится.
А Полякова не встретил ни разу. Так, верно, испуганный дракой в трактире, и не пришел за одеялом. Должно, перебрался на Васильевский да приналег на учение. Ежели б заболел на Мошковом, то дал бы знать хоть через старушку, у которой снимал угол.
В начале июня сбылись опасения Качмарева. Гренадеры Аржеников и Портнов так загуляли в городе, что явились в роту вместо воскресного вечера днем в понедельник. Оба с лицами в синяках, а Портнов еще с оторванным погоном на сюртуке. В таком-то виде шли по городу! Аржеников едва добрел до кровати, сунулся на нее и захрапел, а Портнов нагрубил дежурному унтеру, а затем и самому капитану. Немедля отправленный на гауптвахту, он был по приказу министра двора предан военному суду. Арженикову же было велено для «острастки прочим» выбрить усы и баки и назначить дневалить без отпусков в город на два месяца. Поставив табурет перед молчаливым строем роты, насупленный барабанщик Акентьев брил Арженикова, а тот ревел в голос, и слезы ползли по голым щекам со следами недавней драки.
Суд приговорил Портнова по стародавнему закону «казнить лишением живота». Но царь помиловал преступника и приказал только выключить из роты «на свое пропитание», то есть без пенсии.
После таких крутых мер гренадеры-гуляки присмирели, а Павлухин, конечно, сложил стихи, которые распевал в роте:
Но все проходит. Аржеников, который каждое утро старательно брил подбородок, чтобы скорее показаться хоть малость обросшим, и фабрил седую щетину, упросил Савелия не бубнить поганых виршей. Дошли слухи, что Портнова видели во всех медалях стоящего за выручкой у купца под Смольным. Не пропал и он, значит. А потом гренадерам оказалось некогда загуливать.
В начале лета 1828 года Россия объявила туркам войну. Вскоре царица с детьми и двором переселилась в Царское. Император уехал к армии. За ним ушла гвардия, оставив в столице по батальону каждого полка. Не тронулась на Дунай только тяжелая кавалерийская дивизия — ее коням без крайней нужды не под силу дальние походы. Но эти полки несли караулы в загородных дворцах, а внутренняя охрана Зимнего всецело легла на «золотую роту». Помимо обычного наряда, выставили пять круглосуточных постов, которые всегда несли кирасиры, да еще держали в казарме дежурное отделение на случай тревоги, раз по соседству не стало ушедшего в поход 1-го батальона преображенцев.
Сначала о войне ничего не было слышно, потом наши стали одну за другой брать турецкие крепости. В честь побед в Екатерингофе и на Островах гремела музыка, устраивали большие гулянья с угощением простого народа. Вечерами над Невой рассыпались разноцветными звездами фейерверки. Ими Иванов любовался из окон дворца, если стоял в парадных залах.
А в июле его почти перестали назначать в наряд. Прознав про разборчивый почерк гренадера, Качмарев приказал ежедневно являться в канцелярию для переписки табелей дежурств и караулов, ведомостей на жалованье, расчетов потребного довольствия — всего, что шло по шаблонам. Сам же капитан в это время диктовал писарю Екимову более сложные бумаги, прежде всего — доклады князю Волконскому, переехавшему со двором в Царское. Сменяли друг друга записки о надобности построить гренадерам летние панталоны фламского полотна, о которых зимой забыли, о новых медвежьих шапках — старые разом начали облезать, видно, шиты поставщиком из плохо выделанного меха. Писалось и о постройке новых мундиров с галунами лучшего качества. На спешно сшитых при формировании ранее срока потускнели петлицы, и требовалось при пережоге их уличить поставщика, что нашил дешевый галун с малым процентом серебра, хотя взял за дорогой. Составлялись требования на замену десятка ружей, в которых курки не держали кремней, о прикомандировании к роте фельдшера, чтобы пускать кровь потолстевшим гренадерам, и по множеству иных вопросов. Качмарев диктовал черновики, потом их «выглаживал», и Екимов садился за беловые. А капитан уходил то в сапожную мастерскую гофинтендантской части «проталкивать», как он говорил, заказ на новые сапоги, то в столярную, где готовили мебель для квартир женатых гренадеров, или в дворцовую прачечную за Летним садом, где не чисто выстирали ротное белье. Хлопот ему хватало с утра до вечера.
Выводя табели и списки, Иванов наблюдал непрерывную деятельность своего начальника и про себя негодовал на штабс-капитана Лаврентьева. Он квартировал как раз над канцелярией, и слышно было, как между обходами караулов бездельно марширует по своим холостяцким комнатам, а при открытых окнах доходило, как напевает при этом марши.
Однажды Иванов сказал писарю, что удивляется, почему командир не поручит помощнику составление некоторых бумаг — ведь сейчас даже учений строевых не бывает. И услышал в ответ:
— Чудак ты, Александр Иванович. Их благородие читают довольно слободно, без чего уставы как бы вытвердили? А писать да считать не обучены. В ведомости на жалованье только хвосты своего прозвания бойко выводят. Однажды предложил им прописи сделать и за самую малую плату арифметикой заняться. Так осердились: «Довольно и так учен, чтоб полковника достичь, раз великий князь одобряет». Пускай уж лучше марширует, себе на губах играючи. Иное дело, что по штату в роте еще субалтерн положен, но командиру нужен знающий расчеты довольствия и хорошо грамотный. Вот и разыскивает такого под рукой, чтобы министра просить назначить, пока великий князь по своему вкусу второго Петуха не прислал…
Как-то выйдя из канцелярии, Иванов встретил Василия Голике. Должно быть, из прежней мастерской Дова нес небольшой мольберт — такие треноги для живописной работы гренадер уже не раз видывал в Эрмитаже, где сиживали копировщики картин.
— Дозвольте узнать, где нынче сотоварищ ваш Поляков квартирует? — спросил Иванов.
— На Острову, по Второй линии, в доме нумер семь.
— А здоров ли?
— Ничего-с пока. Вчера к нему наведывался. Даже кашлять перестал. Пишет кое-что на продажу и в Академию записан, начала занятий ожидает, — обстоятельно ответил Голике.
— А как в том дому его сыскать?
— В глубине двора только одно крыльцо увидите. На второй этаж подниметесь, а там дверь, которая рыжим войлоком обита.
— Ну, спасибо, теперь найду… А вы хоть и немец, но как хорошо по-русски говорите, — похвалил Иванов.
— Помилуйте, я в Петербурге рожден и с детства с русскими объясняюсь, — сказал Голике и аккуратно вытер губы чистейшим платком, будто добавил: «Но воспитание у меня немецкое».
В тот же вечер Иванов поднимался по указанной лестнице, неся сверток свежих булок и кулек сахару. Как бы ни жил живописец, авось гостинцем не обидится. Дверь с коричневым войлоком приотворена. Гренадер шагнул в переднюю и кашлянул.
— Кто там? — откликнулся Поляков и распахнул дверь из озаренной солнцем комнаты.
Он был в полушелковом синем халате, подпоясанном шнурком с кистями, шею охватывал воротничок чистой рубахи. И лицо покруглело, порозовело, оживилось.
— Александр Иванович, батюшка! Входите, сделайте милость! — воскликнул он, отступая в глубь комнаты. — Хозяйка к вечерне пошла, а девочка сейчас самоварчик нам вздует. Позвольте фуражку… Да зачем же беспокоились? У меня теперь все к чаю завсегда есть, могу гостя дорогого принять. Простите, что не приходил, да надобно много работать, чтоб необходимым завестись. Прошу садиться. Вот какова новая обитель моя.
В небольшой комнате светло и чисто. Диван, крытый черной клеенкой, стол, три стула, кровать за ширмой, обтянутой пестрой набойкой. За двумя окнами — зелень деревьев, крыша какой-то постройки и небо. А между окон — мольберт с портретом нонешнего царя в алом мундире. На табуретке рядом — ящик с красками и палитра, из которой красивым веером торчат кисти.
Вскоре они сидели за столом, накрытым чистой скатертью, и Поляков с явной гордостью расставлял на ней новенькие чашки с позолотой, плетеную сухарницу с осыпанными корицей крендельками, вазочку с сахаром, чайницу, а сам рассказывал:
— Барин мой на войне со своей дивизией, крепость какую-то за Дунаем в осаде держит. В Обществе поощрения художников от него вольной мне ждут, чтобы две тысячи рублей куда укажет переслать — к нему или к барыне в Кострому. А я, видите сами, как зажил… Поставь, Танюша, самовар вот сюда, на досочку. Да на же сахару, бери, глупая, кушай… Так вот-с, я же пока по давнему навыку портреты царские малюю да купцу отношу. Дает скупо, по четвертному за штуку. Не то что злодею моему Дову за подпись одну на моих же холстах. Однако про себя другой раз и ему спасибо скажу. Набил у него руку… Ну-с, три рубля на холст с подрамником, грунт и краски надобно положить, а все двадцать два чистых остается. Два раза в неделю к купцу схожу — вот и при деньгах. По семи рублей в день зарабатываю, — то ли не жизнь, достопочтенный Александр Иванович? Но как начну в Академию ходить, то этакие портреты начисто брошу. А пока надобно обзаведение сделать, как живописцу надлежит, — краски, мольберт, палитру, ведь ничего своего не имел. Ну, и чашки, плошки или вот ложечки аплике. Да постельное и носильное все. Но с осени вовсе новую жизнь начну, свой манер искать стану… А сказывал ли вам Голике, будто к весне недруг мой снова приедет недостающие портреты дописывать? Только теперь руки коротки…
Просидели за столом до сумерек. Потом Поляков захотел проводить гостя. Надел новые сапоги, новый серый сюртук с бархатным воротником, повязал галстух бантом, взял палевого цвета шляпу и трость с роговым набалдашником — франт настоящий! Только брюки остались старые, потертые — видно, еще не сумел новые купить. Оттого, может, и до казармы не дошел, что хотел в полном блеске явиться?
«Ну, с этим, кажись, все наладилось», — думал Иванов, простясь с художником на Адмиралтейском бульваре.
Теперь, когда назначали дежурить, это был отдых от канцелярии, проминка по дворцу. Ведь вечерами он снова гнул спину, но уже над своими щетками.
В середине августа, обходя пост, Иванов увидел двух гвардейских адъютантов, прогуливавшихся, негромко беседуя, по Военной галерее. Одного — сына дворцового коменданта Башуцкого — гренадер знал в лицо. Совершив новый обход, Иванов приблизился к двери Военной галереи, но, услышав близкий разговор, остановился перед порогом. Офицеры, видимо, присели на банкетку у самой двери, и Башуцкий говорил:
— Нет, mon cher, дела на Дунае идут совсем не блестяще. Взяли с грехом пополам Шумлу и Варну, обложили Силистрию и все лето протоптались около сих крепостей, оттого что нужное количество войск не стянули. Как всегда, долго чесались да раскачивались. И генералы не те, что при Румянцеве и Суворове. Под одной Варной по вине подлеца Сухозанета, который царю наврал, будто местность осматривал, за час две тысячи солдат зря положили, и генерал, истинно доблестный, Евгений Вюртембергский, тяжело ранен… Или, может, ты еще не слышал, что графа Залусского, паркетного паяца, в рекогносцировку с отрядом послали, а он, турок завидя, дал стрекача с кавалерией, отчего весь лейб-егерский полк на лесной дороге в капусту изрублен? Офицеров сорок человек во главе с генералом Гартунгом. Да что потери в боях, когда больных, оттуда пишут, в пять раз больше…
— Зато как лихо Паскевич Каре взял! — возразил приятель Башуцкого.
— Он-то — лихо?! Да Алексей Петрович Ермолов с половиной людей то же бы сделал. Знаешь, что он недавно в Москве сказал?
— Что же?
— «Посмотрим, далеко ли на двух «ваньках» уедем?» Ведь обоих новых полководцев — Дибича да Паскевича — Иванами кличут.
— Это насмешка отставного льва над теми, кто его моложе.
— И куда бесталанней, — добавил Башуцкий.
— Тс-с-с! — зашикал его приятель. — С одной стороны, вот-вот гренадер дежурный ввалится, а с другой, кажись, сам твой папенька жалует, его шпоры аршинные, времен очаковских, гремят.
Тут Иванов поспешно отправился в обратный обход своих залов, раздумывая о том, что услышал. Шутка ли, весь полк гвардейских егерей загубил какой-то граф. Было ли ему что за это? А про лихорадки и поносы не раз слыхивал от солдат, что на Дунае бывали. Да только ли там? Где наших косточек не раскидано?..
В октябре с войны приехал царь, и двор зажил обычной жизнью. Внутренние караулы заняла тяжелая кавалерия, а для дворцовой роты началась прошлогодняя служба, которая у Иванова делилась между канцелярией, дежурствами и стоянием часовым.
Уже сотни две бывавших при дворе «особ» узнал он в лицо, запомнил немногих, кто кивал на его поклон или фрунт, и еще меньше таких, которые говорили меж собой по-русски.
На последнее, верно, потому стал обращать внимание, что в эту осень царь отдал приказ всем придворным не разговаривать в Зимнем на иностранных языках. После этого гренадеры наблюдали, как, собравшись в ожидании богослужения, концерта, спектакля или во время бала, группы дам и кавалеров трещат по-французски, а какого-нибудь камер-юнкера или офицера выставят наблюдать, чтобы незаметно не подошел царь, министр двора или обер-камергер граф Литта. А то давай со смехом практиковаться в русском языке, вставляя в каждую фразу половину французских слов, без которых, особенно дамам, будто не обойтись.
— Я все свои фишю и фрезы отдала тант Пелажи. Она такая мовешка, не замечает, что их уже не носят.
— А вчера у мадам Вердье был такой гранд ассортиман бланжевых органди для матинэ!
Однажды во время бала Иванов был свидетелем, как поставленный «на часы» у Зимнего сада поручик прозевал подошедшего с другой стороны государя, и скрытый деревцами в кадках Николай Павлович минуты три слушал французский щебет нескольких фрейлин. Когда же на его покашливание они обернулись и застыли в ужасе, царь, раздвинув ветки, сказал:
— Как жаль, сударыни, что столь оживленный разговор вы упорно не желаете вести на языке моей родины, которую, очевидно, не удостаиваете считать своей, — после чего оставил их бранить незадачливого «часового».
Всё новые покои узнавал Иванов во дворце и в Эрмитаже, рассматривал всё новые диковины, которые порой обсуждали гренадеры. Больше всего их занимали помещенные в огромном стеклянном футляре часы «Павлин», в которых эта золоченая птица каждый час распускала веером хвост, сидевшая рядом сова хлопала глазами, а петух кукарекал, и в прорези грибка, растущего на золоченой земле, показывались на бегущей ленте часы с минутами. Кто-то слышал, как Лабенский рассказывал важному гостю, что часы эти сделаны в Англии, а собрал их и доделал утерянные при перевозке части наш русский механик. Много разговоров среди гренадер было еще о Висячем саде между двумя эрмитажными галереями. Конечно, истинное чудо — сад на втором этаже с кустами, клумбами, на которых летом распускались цветы. А кругом в чугунных домиках поселены голуби. Сказывали, что земля на сажень под тем садом лежит в свинцовых ящиках, чтобы сырость не прошла в придворный манеж, который в первом этаже. Диковина! Но зачем она, ежели лето государева семья проводит в Петергофе или Царском?
Уже не раз Иванов слышал и то, как чиновник из Эрмитажа объяснял посетителям про тканые ковры, висевшие на Половине прусского короля, сколько лет трудятся над ними ткачи, или про серебряный чеканный трон с подножной скамейкой в Георгиевском зале, на котором сиживали цари и царицы вплоть до Павла. А нонешние не садятся, а только встают около во время приема послов. Красивый трон, да, верно, и тяжелый, раз весь серебряный.
И помимо прославленных диковин во дворце столько занятного. Взять хотя бы люстры. Много совсем легких, деревянных, золоченых, с железными подсвечниками, повешенных на тонких цепочках. Эти от пыли обтирали ламповщики, бесстрашно влезавшие на высоченные стремянки, катающиеся на колесиках. И они же вставляли новые свечи, очень ловко обвязывая фитильки каждой зажигательной нитью, конец которой свисал сбоку. Его легко было зажечь снизу, и люстру мигом обегали десятки огоньков. Куда больше возни с огромными бронзовыми люстрами парадных залов, украшенными тысячами хрустальных бус. Держались они на крюках, пропущенных в балки, что шли поперек залов на чердаке. Чтобы вымыть, их спускали летом почти до полу, и для этого восемь пожарных солдат медленно поворачивали невидимый снизу ворот.
Чтобы поглядеть, как они это делают, Иванов однажды поднялся на чердак. Конечно, интересно было увидеть работу пожарников со всем ее приспособлением. Но навсегда запомнилось и огромное помещение дворцового чердака, уходившее в полумрак бесконечным сводом осмоленных толстых стропил. Для отепления потолков парадных залов над ними был настлан войлок, крытый парусиной, и на ней проложены широкие тесовые мостки, по обеим сторонам которых тянулись ряды каморок и чуланов. В некоторых жили мелкие дворцовые служители, обогреваясь печурками, трубы которых были введены в дымоходы каминов и печей. В других — хрюкали свиньи и мычали телята. Оказалось, что искони повелось заносить сюда такую живность, выкармливать ее остатками из дворцовой кухни и, тут же зарезав, употреблять в пищу. От этого немалая часть чердака была устлана толстым слоем сухого навоза. Поистине нежданное дворцовое диво!..
На торжественные богослужения в дворцовый собор съезжалось до пятисот особ, и старые сановники зачастую выходили в Военную галерею, чтобы отдохнуть на банкетках, разыскивая среди портретов знакомых, а порой и собственные изображения.
Однажды, стоя с Павлухиным на парном посту у дверей Георгиевского зала, Иванов услышал разговор двух генералов.
— А ты заметил, Федор Алексеевич, как быстро стали убывать из сего строя живые? Видно, время наше подходит, — сказал краснолицый крепыш с курчавыми, еще густыми волосами.
— Как не заметить? — отозвался его лысоватый и тощий приятель. — Прошлое воскресенье встретились здесь с Павлом Тучковым и давай считать, кто за последние два года помер. Мигом десяток набрали: Сиверс, Гангеблов, Сипягин, Марков, Оленин, Рыков и еще кто-то, сейчас не вспомню.
— Да на этой войне, — подхватил первый, — Иванов под Шумлой, Корнилов под Варной, Константин Бенкендорф еще где-то…
— Весьма достойный был генерал. Что бы братцу-то вместо него? — подтолкнул локтем приятеля лысый генерал.
— Ш-ш-ш!.. — зашикал тот, оглядываясь. — Смолоду у тебя шутки с огнем. Словно прапорщик шалый, честное слово!..
Генералы направились обратно в собор, а Иванов стал гадать, поспел ли Корнилов подписать Полякову вольную. Надо узнать, наведаться к нему. А когда взглянул на Павлухина, то заметил, что шепчет что-то. Прошло еще несколько минут, они остались одни в галерее, и Савелий, едва двигая губами, пробубнил:
Но поход на Васильевский пришлось отложить. В Павловске умерла старая царица Мария Федоровна, и гренадер нарядили содержать почетный караул при гробе сначала в Зимнем, потом в Петропавловском соборе, не уменьшая обычного наряда. В эти дни Иванов впервой заметил, что рота состоит из очень пожилых служак — многие заметно осунулись и мерзли на постах в соборе.
— Забаловались! Брюхи отрастили, купчихи! — покрикивал Петух, ведя караул в крепость. — Щегольства в шаге не вижу!..
Уже в начале декабря пошел к Полякову. Обитая рыжим войлоком дверь на этот раз была закрыта, и на стук отворила та самая Танюша, что подавала летом самовар. Она вытаращилась на невиданную шапку Иванова, на его кресты и медали, на широкую галунную перевязь полусабли.
— Дома ли Александр Васильевич? — спросил гренадер.
— Ушедши… с утра, — с запинкой отвечала девочка.
— Они в Академии, на рисунке, — выглянула из комнаты, завязывая ленты чепца, пожилая женщина, видно, хозяйка квартиры.
— А здоровье их каково, сударыня? — осведомился Иванов.
— Ничего-с, хотя ночами кашляют, — ответила женщина, также уставясь на грудь гренадера. — А про вас как передать?
— Скажите — Александр Иванович навестить приходил.
Он хотел осведомиться про получение вольной, но раздумал. Вдруг художник скрыл здесь свое крепостное состояние?
«Раз учится, то и хорошо», — думал он, сходя по темноватой лестнице и слыша, как наверху хозяйка бранит Таню:
— А ты, как ворона, рот раззявила!
— Так я же, тетенька, таких генералов век не видывала, — оправдывалась та. — Они прошлый раз попроще одевшие были.
«Вот и в генералы произведен, только в галерею портрет чего-то не поместили», — посмеивался про себя Иванов.
И снова каждый свободный вечер он гнулся над щетками. Если в роте бывало шумно, уходил в канцелярию, что разрешил капитан и дал ключ от двери. В неделю две, а то три щетки готовы — значит, рубль-полтора прибавки к капиталу, хранящемуся у Жандра.
Разные ремесла знало на прежней службе большинство гренадер, но при теперешнем жалованье брались за них лишь немногие, и притом холостые: у женатых свободное время уходило на домашнее устройство и препирательства с женами. Иванову казалось, что гренадеры женились только на самых вздорных бабах, которые, переселясь в дворцовые здания, непрерывно ссорились с мужьями, соседями, придворной прислугой и шли жаловаться командиру роты.
«Ну и терпение у капитана!»— думал Иванов, занятый щетками в канцелярии, где оставался по уходе Екимова, и слушая, как рядом, в своем кабинете, Качмарев увещевает жалобщиц.
Как-то с трудом выпроводив голосивших и бранившихся между собой женщин, капитан сказал Иванову:
— И заметь, братец, чем выше баба по прежнему сословию — как давешние обе чиновницкие дочки, — тем боле от ней хлопот. Перегрызлись благородные особы за половик казенный, в общих сенях брошенный. Да сиди!.. (При обращении командира Иванов встал.) И я сяду. Умаялся с ними хуже, чем у князя на докладе. Ведь как твержу гренадерам: руби дерево по себе, не зарься на дворянских аль купеческих бездельных девок. Ан и выходит: или бока на вате, или злая, как ведьма, или дура на диво. Хоть ты простую девицу возьми, слышишь?
— Да я не собираюсь вовсе, ваше высокоблагородие.
— Многие, которые вчера не собирались, наутро ко мне с тем ползут, — усмехнулся Качмарев. — А потом медовый месяц не кончен, и уж пошли сражения. Хорошо, коли ко мне синяки казать не носят, как двое героев наших. От сей комиссии не раз жалел, что сюда переселять приказано. Разбирали бы те дрязги в полицейской части. Уже не раз так доводили, что хоть в отставку: благо к пенсии мастерством своим всегда довольно прибавлю и хозяйка моя бархатов не просит. Я-то, слава богу, еще унтером женился, цехового портного дочку взял, которая все своими руками умеет. Но и чепчик живо научилась носить, как офицершей стала, — улыбнулся капитан.
Все в роте знали, как почитает он свою толстенькую добродушную супругу, с которой квартирует тут же, в антресольном этаже Шепелевского дома, над воротами с Зимней канавки.
— А ваше высокоблагородие какое мастерство знаете? — спросил Иванов.
— Много чего! — ответил не без самодовольства Качмарев. — Я после гарнизонной школы в гвардейской артиллерии от рядового до фельдфебеля прослужил и все, чему обучали, зубами хватал. Слесарное и шорное дело, ковку, коновальство и пиротехнику — все, думал, пригодиться может. Но лучше всего мне на саблях фехтование далось, так что молодых господ могу обучать. Заработок верный, раз меня сам капитан Вальвиль с собой в пару перед покойным государем ставил… — Качмарев приостановился и сказал, уже смотря в окошко, где синели зимние сумерки: — Но более всего, знаешь ли, Иванов, что мечтал делать?.. Аж иногда во сне вижу…
— Откуда ж мне знать, ваше высокоблагородие?
— Иконы писать… Удивился, поди? — Теперь Качмарев смотрел в упор на Иванова. — Да ты человек совестливый, может, и поймешь. Лет мне девять было, когда у нас в Кексгольме, где родитель мой унтером служил, часовню ставили, и повадился я глядеть, как живописец, отсюда, из Петербурга, подряженный, лики и одежды святых пишет в комнатке, рубленной при той часовне, где ризницу после поместили. Сижу, дышать боюсь, под руку ему смотрю. Увидел он мое восхищение и стал давать краски в чашках растирать, а потом досочку грунтованную и карандаш: «Вот, срисуй, малый, сначала все до капельки, а потом, коли сумеешь, и красок дам». Ну и счастье же было то исполнять! Полное всего мира забвение, какого после ни за каким делом не знал. Ни времени, ни места — одна та радость… И поверишь ли, будто кто вышний руку мою направлял, все так выходило, им заданное, что только дивился и в учение к себе у отца просил. Да где же, когда сын солдатский и к школе гарнизонной приписан. Надо бы отцу у полковника меня отпросить на богоугодное, мол, дело, да не решился…
Так и осталось то лето в памяти как светлый сон. Краски чистые — голубые, алые, желтые, — будто сами с кисти текут. Тишина в той комнатке при часовне была как в скиту. Птицы да пчелы за окошками и мы двое, почти всегда в молчании, без обид, без ругани… Вот и теперь, когда что-нибудь исполнить задалось, вышло гладко для роты и не было докуки от гренадер и жен ихних, вроде нонешних, — словом, когда на душе чисто, так и увижу во сне, будто пишу на досочке старцев седых в омофорах белее снега, глаза строгие, но и доброты полные. А то ангелов в золотых кудрях и под ними поля в цветах, а сзади радуга семицветная. Все какого, понятно, никогда написать бы не мог… Оттого-то нонче, когда по должности Эрмитажем или дворцом прохожу, то все и поглядываю, стараюсь подобное мечтам своим сыскать на картинах знаменитых живописцев, за которые тысячи рублей плочены. И для разговора про этакое со здешним художником одним знакомство свел, который в мастерской за театром картины поправляет, если покоробились, почернели или с полотна сыпаться грозят. Господином Митрохиным, Андреем Филипповичем его звать. Искуснейший мастер, я тебе скажу. Не раз заходил поглядеть, как на холст переводил одну старинную картину, которая на хвойной доске в Италии писана и от наших сырых погод да печных топок краской местами вспучилась. Сначала на лик ее несколько слоев бумаги осетровым клеем налепил и еще батистом заклеил, чтобы краски нисколько ворохнуться не могли. Потом, перевернувши ликом вниз, стал дерево рубаночком отстругивать, ножичком и осколком стекла до последнего волоконца сымать, так что осталась одна живопись, триста лет назад на доске писанная, да грунт под ней, который, рассмотревши, весь также дочиста снял. То все заняло полных недели две. Потом стал новый грунт наводить и каждый слой его просушивать. Под второй слой для крепости подвел кисею, под четвертый — уже холст. Только через два месяца после заклейки лика смыл с него батист и бумагу. Вышло, будто всегда на холсте была, и, говорят, теперь прочность у ней вечная… И замечу, что господин Митрохин, хотя девятый класс имеет, что капитану военному вровень, однако также из простых солдат вышел, одним талантом своим и трудами. Да и ты его видывал двадцать раз — седой, тощий, в очках и фрак в красках замаран…
Качмарев встал, за ним поспешно поднялся Иванов.
— Ну, возись со своим делом, а я пойду сочинять про белье носильное на всю роту, чтобы Екимов с утра перебелил для князя… Так вот: кому что по душе. Конечно, у меня место, про которое и мечтать не смел, — командир старшей гвардейской части. Но спроси нонче сам господь бог: «Хочешь ли, Егор, тут оставаться и в полковники при отставке быть пожалован или все начать с того дня, как в комнатке при часовне кисть в руки взял, в иконописцы выйти, а то, как Митрохин, чужое художество от гибели спасать?»— то и не знаю, что бы ответил… Вот, братец, теперь твоя череда при случае мне открыть, что тебе снится…
— А я, Егор Григорьевич, больше явью живу, редко сны вижу, — ответил Иванов и, заметив недоверчивый взгляд капитана, поторопился сказать: — Истинно так-с. Но про мечтания житейские от вас одного не скрою, когда пожелаете услышать…
…Миновали рождественские праздники с парадом 25 декабря в Военной галерее и крещение с торжественным водосвятием. А вечером этого дня происходил в Зимнем маскарад на двадцать тысяч гостей любого сословия, впускаемых раз в год без пригласительных билетов в парадные залы, был бы чисто одет да не пьян. Потом целую неделю меняли ковровые дорожки на лестницах, скоблили паркеты, сметали конфетные обертки, головные шпильки, обрывки лент и перчатки из углов, с карнизов. Миновал и парадный спектакль в театре, после которого столы на пятьсот персон расставляли в залах Эрмитажа, где картины, слышно было, сильно портились от жара и копоти тысяч свечей, горевших в тот вечер в канделябрах и торшерах. И при обоих этих многолюдных торжествах всех дворцовых гренадер наряжали на парные посты часовыми или на дежурства по залам, чтобы следить за порядком наравне с дворцовой прислугой. А в наступившие потом более спокойные дни видели, как по указке сердито бурчавшего Митрохина камер-лакеи уносили в его мастерскую «на поправку» картину за картиной, чтобы через неделю-другую вернуть их на прежние места.
В середине февраля, в воскресенье, после обедни в соборе, когда царская семья завтракала, прибыл курьер, какие приезжали из армии раза по два в неделю. Иванов дежурил в Белом зале и, выглянув в окошко, увидел, как ямская тройка осадила перед платформой пешего караула. Из тележки вылез офицер в шинели и, подхватив саблю, взошел по ступенькам Салтыковского подъезда. Когда тройка шагом тронулась к воротам, было видно, что над лошадьми поднимается пар. Пожалев загнанных коней, Иванов двинулся в обычный обход своего поста.
А через полчаса от лакея к лакею, от дежурного гренадера к гренадеру, среди чинов кавалерийского и пешего караулов прошел слух: курьер привез депешу о том, что в персидской столице тысячная толпа напала на русское посольство, убили посланника, всех его чиновников, слуг и казаков конвоя.
Едва дождавшись смены, Иванов на Комендантском сошелся с гренадером Крыловым, дежурившим при царских покоях, и спросил, правду ли болтают.
— Сам слышал, — сказал Крылов, — как государь дежурному флигель-адъютанту наказывали: «Скачи к Нессельроду, чтобы сейчас ко мне был. Надо им за такое преступление жару задать».
Переобувшись в уличные сапоги, Иванов пошел к Жандру, все еще надеясь, что, может, и Крылов чего спутал. Но из передней, где никого не было, заглянул в гостиную и уверился — все так и есть. Варвара Семеновна сидела на диване с опухшими от слез глазами, Андрей Андреевич ходил туда-сюда без кровинки в лице.
— Хорошо, что пришел, Иваныч, — сказал он вставшему на пороге гренадеру. — Сейчас к Николе пойдем, я там панихиду заказал… Представь — бревнами ворота разнесли, в дом ворвались, через крышу разобранную лезли. Всех в куски перерубили, растерзали. Один чиновник как-то спрятался и весть в Тифлис привез…
— А супруга Александра Сергеевича неужто с ними были? Аль они еще жениться не поспели? — спросил Иванов.
— Поспел, в сентябре еще. Но она будто в Тавризе, в другом городе персидском, оставалась, оттого что в тягости была.
Гренадер хотел спросить, при ком находился Сашка Грибов, но тут Жандр крикнул, чтобы подавали им шубы.
В церковь шли молча: двое господ, Иванов и четверо слуг.
«Сколько же лет покойному было? — соображал Иванов. — Немного за тридцать, раз в тысяча восемьсот двенадцатом году совсем молодыми служили».
Когда возвратились на Мойку и подали чай, Жандр сказал:
— И Сашка там же погиб. В депеше Паскевича, мне передавали, писано, что в числе убитых двое слуг посланника… Ох, Иваныч, какого удивительного человека Россия потеряла! Вот уж истинно: ум дипломата, прилежание к делам, талант писателя и сердце благородное — все дано ему было… И потянуло зачем-то на азиатов… Да не плачьте, Варвара Семеновна, душенька. Хорошо ли будет, коль и я зареву? Ведь мой друг лучший… Но подумать, каковы причуды судьбы! Вспомните, как радовались мы, что в двадцать шестом году его к суду не притянули, хотя столь близок с теми многими состоял. Ан осудили бы, и писал бы сейчас в темнице во славу русской словесности…
В этот вечер Иванов долго ворочался с боку на бок, зажмуривался, но сон не шел. Как живого видел Грибоедова: то верхом на проездках под Стрельной, рассказывающего про гусарские проказы, то на ковре под стогом сена, читающего свое сочинение, то за фортепьяно, надевшим на простреленный палец золотой чехольчик. И совсем недавним, похудевшим, загорелым, окрыленным счастливой любовью: «В Тифлис хочу поскорей. Я там наконец сердце оставил…»
А Сашка-то! Вот тебе и франтишка, пустомеля, хвастун. Узнать бы хоть, защищал ли Александра Сергеевича… И вот опять судьба: слуги Кюхельбекера и Одоевского живы, а этот, который собирался в главноуправляющие…
На другой день в присутствии царя в дворцовом соборе служили панихиду по убиенному болярину Александру. Свободный в эти часы Иванов выстоял ее в Предцерковной. Хор пел так, что слеза прошибала, но собравшиеся равнодушно перешептывались о своих делах. Вчерашняя панихида в полутемной нижней церкви Николы Морского была куда душевней.
При дворе был наложен недельный траур. Говорили, что Грибоедов погиб оттого, что настойчиво требовал уплаты долга в сроки, означенные в договоре. А шептали, что персы оттого осмелели, что мы за лето турок не доконали. Потом дали спектакль в Эрмитажном театре, бал, и жизнь дворца пошла своим чередом.
6
В апреле в Военной галерее вновь появился мистер Дов. Малость постарел за год, пожелтел лицом, но так же не замечал лакеев и гренадер, так же скалил послушной улыбкой длинные зубы, когда видел князя Волконского, и устремлялся навстречу.
Голике стал носить один за другим погрудные портреты, в которых, видно, что-то дописывали, кряхтя, тащил в галерею стремянку и, бледнея от страха, лазил ставить их на места. К июню в больших рамах появились красивые портреты в рост Кутузова, Барклая и английского полководца Веллингтона, который разбил Наполеона в 1815 году. Будто ему тут и не место, раз русские в том бою не участвовали. Разве оттого, что союзником считался?..
Как говорил Голике, из Петербурга Дов поедет в Варшаву, где изобразит также в рост, под пару Веллингтону, цесаревича Константина. Он еще меньше заслужил здешнее место — в боях разу не бывал, а все при покойном государе.
Дальше Дов отправится в Берлин и Вену, там напишет прусского короля и австрийского императора на конях. Может, теперь подучился лошадей изображать?..
Как-то Иванов, дежуривший в галерее, пособил Голике принести самую высокую стремянку и подержал ее, пока тот лазал вставлять портреты в пятый ряд. Когда отнесли лестницу в чулан, немец стал благодарить, а гренадер спросил про Полякова.
— Истинно сожалею, но как мистер Дов приехали, то я все при них и знакомца нашего не видел два месяца.
— А вольную выправили ему? Может, хоть про это слыхали?
— Да нет же. Такая неудача! Генерал тот на войне умер, а наследников — три сына и вдова. Когда еще уговорятся, кому за него две тысячи рублей получать. Тут есть за что поспорить.
— Но раз дело такое верное, — сказал Иванов, — то ему можно и не беспокоиться — учись знай.
— А он как раз очень в тревоге, что нет ему свободного сословия, хотя более года самим государем приказано с хозяевами все уладить. Однако, по-моему, много важнее, что он грудью слаб, а в Академии нашей зимой холодно в классах.
— И вы в той Академии учитесь?
— А как же… Только сейчас от мистера Дова мне неудобно отклониться, если столько лет на него работал.
В такой же теплый вечер, как прошлым летом, Иванов пошел на Васильевский. Но сначала направился на 7-ю линию, где не бывал с 1824 года. Все выглядело, как в счастливые дни. Только забор вокруг участка выкрашен иначе да на окнах памятного полуподвала розовые занавески. Две девочки лет по восьми, сидя на пороге, нянчили тряпочных кукол, что-то им напевая.
«Вот так же и Анюта бедная тут когда-то сиживала», — подумал Иванов и зашагал прочь.
Полякова он застал с палитрой и кистью в руках. Сначала все показалось, как в том году. В комнате опрятно, и царский портрет на мольберте, а за окном деревья в вечернем солнце. И хозяин, приветливо встретив гостя, кликнул Танюше «вздуть» самовар. Но когда сели за стол, то увидел, как тот похудел и в лице пропало прошлогоднее оживление.
— Здоров ли ты, братец? — спросил Иванов.
— Простыл малость, и вольной бумаги все нету. А главное знаете что? Нет прежних хоть малых, да своих сил в руке и в глазах, что до кабалы проклятой были. Их вернуть не могу, — сказал Поляков и опустил глаза на скатерть. — А оттого учусь не в охотку и дома писать противно. — Он поднял глаза, и в них, в чертах лица отразилось почти отчаяние. — Я ведь принадлежности свои в руки давеча взял, только как ваши шаги услышал. Подумал: вдруг заказчик какой сыскался, так прикинусь, будто работаю. Кажется иногда, что ежели закажет кто портрет с натуры, как в Костроме бывало, то развязался бы я снова… А этих постылых больше писать не могу! — Он махнул в сторону царского портрета на мольберте. — Давно сухой стоит, тряпкой закрываю, чтобы не видеть. — Художник указал на холстину, лежавшую под мольбертом.
— Простуда пройдет, вольную господа дадут — они себе не враги, чтоб деньги такие упустить, — сказал Иванов как мог уверенней. — А насчет руки да глаза, поверь, все дело в упорстве, я по себе знаю. Не печалься и увидишь, как образуется.
— Нет, Александр Иванович, — покачал головой Поляков. — В нашем деле иначе, чем в любом ремесле. От рабского повторения несчетного я и сохну. Забил мне душу художницкую чертов англичанин портретами, которые с чужих холстов шесть лет списывал. Оно для художника… как вам сказать… все равно, что взрослому наезднику на деревянном коне-качалке скакать. Призрак искусства, подделка. Живописец настоящий своим глазом предмет в натуре во всех поворотах должен увидеть, чтобы его верно изобразить. А я теперь ровно слепец — только и могу, что по шаблону Дова этаких царей, как блины, шлепать, разве что мундиры сменяю… Иногда в уме увижу что-то свое — так и написал бы, кажется, хоть как раньше бывало… А беру кисть — и опять пошел под него мазать. Ровно наваждение какое! И ведь не его полной манерой, а во сто раз бледней, жестче… Разумеете теперь мое горе, Александр Иванович?.. Вот и спрашивается: удастся ли вырваться из-под его колдовства? Удастся ли академическим учением руку, им засушенную, оживить, душу разогреть, научиться собственным глазом натуру видеть?.. То обнадежусь, то отчаюсь. Не раз в такое расстройство приходил, что про петлю думал, право! А тут еще он опять приехал. Встретил на той неделе лицом к лицу около Академии. Из кареты лаковой вылез, на меня мельком, ровно на муху, глянул — да в двери. Может, и верно не признал, а я забыть не могу — будто беса наяву встретил. Все мучения мои — голод, холод, брань незаслуженная, когда за мольбертом через силу сидел, — все в памяти расшевелил, что забыть стараюсь. Но ведь и тогда я, пожалуй, счастливей нонешнего был, раз думал, что только голодом, холодом да трудами морит, а теперь вижу, что и художника во мне заморозил…
— Ничего, отойдешь, — утешал Иванов. — Было время, когда и меня до такой крайности немец один домучил, что едва от веревки люди добрые отвели. А недруг твой скоро навсегда из России сгинет. Пришлось, видно, призвать, чтобы портреты закончил.
Поляков кивнул:
— Рассказали, что в Академию за дипломом почетным приезжал и конференц-секретарю об отъезде говорил. Все знаю, но как глаза его ледяные увидел, разом прошлое вспомнил и чуть от злобы не задохся. А Голике кружится там?
— Помогает ему.
— Руки лижет. Знаю его повадки. Так и раньше было.
— Да полно тебе себя растравлять.
— И то… Позвольте еще чашечку, чай-то хорош ведь, «с жасмином» зовется. Верите ли, и вкуса к пище лишился, в рот ничего не лезет: ни жаркое, ни пирожное, а все чай, да покрепче…
— Может, денег нету? Так возьми у меня.
— Спасибо, Александр Иванович, вы как отец родной. Но общество каждый месяц вспоможение выдает, и от портретов сберег кое-что. А этот закончить не могу. И прежние без охоты писал, а как встретил проклятого…
С тяжелым сердцем простился Иванов с живописцем.
«Экая напасть на человека! — думал, идучи в роту. — И верно похоже, будто напустил на него Дов какую порчу. Иначе отчего царские портреты так обрыдли? Вот я щетки свои десять лет делаю. Хотя надоело, зато заработок самый надежный. Аль у художников вправду все иное? Уезжал бы скорей англичанин. И верно, похож он на заморского беса — морда лошадиная, глаза пустые».
На последний бал перед переездом царской семьи в Петергоф съезжались обычные гости — придворные, генералы, сановники и первые танцующие кавалеры — офицеры гвардии. В восемь часов лучи предзакатного солнца били на верх Иорданской лестницы, обливая непрерывно поднимавшихся по ковровым дорожкам дам в сверкающих драгоценностями платьях и мужчин в разнообразных мундирах. Иванов, дежуривший в парадных залах, стоял в своем скромном сюртуке за красным рядом лакеев, выстроенных по сторонам прохода от последней ступеньки лестницы до дверей Аванзала.
И вдруг к нему свернул штаб-ротмистр Лужин в «праздничной» форме — в алом колете и белых коротких штанах, — завитой и надушенный, точь-в-точь как навек запомнился князь Одоевский, отправляющийся на свой первый дворцовый бал.
— Здорово, вахмистр! — сказал Лужин. — Как поживаешь?
— Покорно благодарю, ваше высокоблагородие.
— Поклон тебе князь Иван Сергеевич велел передать.
— Неужто сюда приезжали? Верно, хлопотать снова?
— Нет, я в Москве в отпуску был и его визитировал.
— А что у них от Александра Ивановича?
— Здоров, слава богу. Изредка пишет. А Ринкевича помнишь?
— Александра Ефимовича? Как же, они в нашем эскадроне года три прослужили.
— Ну, так пиши в поминанье.
— Такие молодые? — ахнул Иванов. — Болезнь какая аль в бою? Они будто на Кавказ переведены были.
— Без боя, от лихорадки сгорел в высоком чине прапорщика армейского. На-ка, выпей за упокой его души.
— Покорнейше благодарю, однако не потребляю нисколько, ваше высокоблагородие.
— Ну, так поставь свечку поминальную потолще от нас обоих. Эх, и славный же эскадрон в то время был…
«Вот и еще одного хорошего барина нет, — качал головой Иванов. — Конечно, Александр Ефимович не то что мой князь, а все добряк, никогда кирасира не ударил. И уж точно совсем мало виноват, раз офицером же на Кавказ перевели…»
Съезд окончился, на хорах Большого зала заиграла бальная музыка, и лакеи пошли к своим местам в галерее и у буфетов.
— Что, кавалер, офицера своего жалеешь? — обратился к Иванову тот, что по близкому соседству слышал разговор со штаб-ротмистром. — А я брата родного вчерась заочно отпел. Написали, что в Туретчине от поноса сгас. А богатырь был, одной рукой пятипудовик вертел. По набору в Павловский полк взяли. Французские войны без царапины прошел, а тут накось: гвардии фельдфебель брюхом изошел. Хоть бы где в России могилка была, а то наши тамо повоюют да домой уйдут, и никто, мимо идучи, лба не перекрестит, раз кругом одни мухоеданцы кочуют…
Медленно тянется время в пустом по-летнему дворце. Через каждые два часа проходит, проверяя дежурных, рьяный Петух. Рад хоть один промаршировать по гулким залам в новых эполетах без звездочек: 2 июня командир роты произведен в полковники, а Лаврентьев — в капитаны. Какова щедрая награда строевому рвению! За два неполных года два чина… Прошел, и снова все тихо. Бьются мухи о стекла закрытых окон, гремит за ними город тысячами копыт и колес по мостовым. Особенно безжизненно на Половине покойной царицы Марии Федоровны. Наглухо заперты спальня и будуар, куда убрали все мелочи. Но по-прежнему в Голубой гостиной кивают фарфоровые китайцы проходящему гренадеру.
Куда приятней стоять в парадных залах, смотрящих на Неву. Днем здесь тень, через форточки тянет от реки прохладой, а вечерами заглядывает уже нежаркое солнце. И в окна посмотреть весело — бегут ялики и гребные катера, ползут парусники, а то прошлепает по воде красными колесами, дымя высокой трубой, паровик-пироскаф. Удивительно — без весел и парусов, а ходко бежит. Недавно унтер Михайлов рассказывал, как на таком проехал от Васильевского до Новой деревни. Внизу печка устроена, в которую березовые плахи бросают, а на ней котел с водой кипит и паром железные руки двигает, которые колеса вертят. Оно поудивительней часов с павлином. И во дворце тоже машину в подвале под аптекой ставят. Это уже на случай пожара. К ней, сказывают, из Невы воду по трубам проведут, которую паровой насос под крышу на чердак гнать станет. А там над Министерским коридором бак огромный деревянный строят, весь свинцом выложен, и оттуда трубы в разные залы протянут, чтобы ежели пожар случится, так не ручными машинами из колодцев на дворах воду качать, а сверху сама текла куда потребуется. Хорошо, если все так выйдет, ну, а как бак или трубы где прохудятся?..
Пробежал по реке паровик, дым его растаял, шум колес затих, и волна, которую развел, изгладилась. Снова на вечернем солнце играет ровная рябь. А на закате взлетят в небо разноцветные ракеты в честь новых побед. То армия генерала Дибича разбила врагов под Кулевчей, а потом, перевалив Балканские горы, подступила под Константинополь. И на Кавказе Паскевич одерживает победу за победой… Эх, кабы в прошлое лето так-то!.. Может, не посмели бы персы наше посольство тронуть…
В это лето первых трех гренадеров уволили в отставку, и десятку дали отпуска на родину, выписавши подорожные для проезда на почтовых парой, будто чиновникам. Уехал в Ярославль и Варламов, за которого особенно тревожился полковник: не запил бы по дороге, раз повез все, что скопил в ротном ящике.
Наконец-то рота пополнилась вторым субалтерном, и по выбору Качмарева. Начал он службу также солдатом, но, хорошо грамотный и хозяйственный, служил последние годы в кастелянской Аничкова дворца. К огорчению Петуха, прозывался тоже Лаврентьевым, хоть в списках именовался 2-м, раз по чину добрался только до поручика. К тому же не выстаивал против капитана ростом и незначительным лицом. Гренадеры окрестили его Кротом, потому что поместился для службы в полуподвале при цейхгаузе.
Но все равно канцелярских дел у командира и писаря осталось довольно. У многих весьма пожилых молодоженов рождались дети. Требовалось составлять ведомости на особые крестильные деньги — унтерам по сто рублей, гренадерам по пятьдесят. У тех, кто пришел в роту уже семейными, дети подрастали. Их надлежало определять в учение — опять переписка. Продолжалось устройство квартир женатым в дворцовых зданиях и письменные сношения об этом с гофмаршальской частью. А все исходящие требовали снятия с беловиков точных «отпусков», которые подшивались к делу.
Часто полковник кликал Иванова на подмогу для составления списков и табелей караулов и дежурств, именуя его в шутку вице-писарем.
Раз за лето побывал в Стрельне. Накануне в роту пришел бывший вахмистр Жученков, толстый, краснорожий, в долгополом синем кафтане. Отдуваясь, рассказал, что на прошлой неделе схоронили Елизарова, который все служил сверхсрочным, но уже не ездил за ремонтом. На выводке его конь шальной до смерти зашиб копытом. А раз у него, у Жученкова, торговое дело в Петергофе, то не хочет ли Иванов съездить, вдову повидать?
Полковник разрешил отлучку, и ранним утром к Шепелевскому дому подъехал тарантас, запряженный тройкой вороных — конногвардейской полковой масти. На облучке восседал молодой кучер, такой же плотный, как хозяин, только в бородке, в то время как Жученков, по старой привычке, носил одни усы.
По дороге вспоминали Екатеринославский полк, войну, Париж, покойного Елизарова. Но больше Жученков рассказывал про свою торговлю, что купили с женой новый дом, а прежний оставили уже женатому ее сыну. Да вот едет в Старый Петергоф ради выморочного постоялого двора, который ноне в два часа задешево пойдет с торгов. К Стрельне подъехали в десятом часу и разочли, что Жученкову надо поспешать, чтобы толком оглядеть строение. А потом заедет к вдове за приятелем.
Слезши с тарантаса около уланского парадного места, Иванов огляделся — три года здесь не бывал. Вон огороды полковые, где с Красовским сиживали, вон и кладбище. Сторож, половший траву у паперти часовни, указал могилу вахмистра. Стал на колени у свежего дерна, помолился за упокой души раба божьего Симеона. Перебрал в памяти, начавши с Тарутинского лагеря, где впервой встретил покойного и запомнил песню его про уланов на буланых конях. Потом Фер-Шампенуаз, где вывозили из огня поручика Захаржевского. А вот и здешнее мирное гостевание с пирогами. Что же, дай бог, чтобы кто-нибудь его самого с такой благодарностью помянул, как он Елизарыча поминает. Спасли его с Жученковым от ирода Вейсмана, дали передышку в ремонтерской команде. А то бы давно закопали, как собаку, без креста за Смоленским кладбищем…
Экая тишина. Млеют под солнцем травы и деревья, порхают бабочки. Нет-нет да прилетит с залива свежий ветерок… Но как же такого опытного наездника конь убил?.. Ну, вдова, поди, расскажет.
Встал, чтобы уйти, да вспомнил, что здесь же могила учителя по щеточному делу Еремина. Прошел ряды крестов и не нашел, хотя на всех, кроме четырех свежих, хоть что-нибудь писано. Значит, уже подгнил да свалился. Э, всем одна судьба…
Выйдя на шоссе, зашагал к конногвардейским казармам, свернул в улочку.
Вот и елизаровское владение. Но двери заперты на висячий замок. Постучал к соседям в раму открытого окошка. Выглянула баба, заправляя волосы под повойник.
— Что надобно, кавалер? Тамошняя хозяйка в Сергиев монастырь с утра ушедши с младшей своей.
Объяснил, что приехал на могилу старого сослуживца и проведать вдову, у которой не раз гостевал. Просил передать купцу, который приедет на тройке, что сам доберется в Петербург.
— Так, так, — закивала баба. — Вот и вспомянула тебя, как к Елизарычу приезжал, такой тихий да трезвый. А ноне кто же будешь? Хотя сама лейб-гвардии унтерская вдова, а таких погонов богатых не видывала.
Иванов кратко рассказал про роту, про ее службу и оклады, про казарму при дворце и хотел было идти.
— Ан постой, кавалер! Неужто такой король бубновый да не женатый? — остановила его вдова. — Так ты, может, еще и насчет старшей ихней, насчет Кати приехал? Тогда от меня не таись, я ей крестная. Лучше девки с огнем не сыщешь. Пятнадцатый год, а рукодельница и певунья по всей улице первая… Да чего мне хвалить? Проходи ко мне, пожди малость. Отседа, как она домой пойдет, смотрины сделаешь, нисколько не смущавши. Она к дьяконице за нитками пошла. Может, судьба твоя ко мне в окошко стукнула.
Вдова стала накидывать подобие шали, чтобы достойно принять гостя, но Иванов ответил, что не собирается жениться, и двинулся от окна свахи, которая еще уговаривала его вдогонку.
Через сотню шагов по тропке, протоптанной вдоль улицы, навстречу из калитки вышла девушка в сером платье и черном платке. Рослая, стройная, но еще угловатая в движениях, с румяными, как чистые яблоки, щечками. На миг скосила на Иванова любопытные темные глаза, блеснувшие, как мокрые вишни. А в руке моток синих ниток — не иначе как Катя. И в глазах, в губах что-то печальное. Видно, не все слезы по отцу выплакала. Заговорить? Напомнить, как на плечах носил, как крашеные яйца на пасху на дворике катали? Сказать, как отца ее помнит…
Но уже разминулись. Обернуться? Окликнуть? Да нет, поздно. А правду крестная сказала — хороша девица. Но ему-то что от ее красы? Пятнадцать и сорок… И снова, в тысячный раз, защемило сердце укором, что когда-то разницы в двадцать лет испугался. А вот унтерша ему сватать Катю разом готова… Но что про давнее горе поминать? А Катя и впрямь хоть куда девушка. Может, жила бы в Петербурге, побывал бы еще у вдовы…
На большой дороге у трактира сразу сговорился с ехавшим порожняком из-под Рамбова немцем-колонистом, что довезет до Измайловского полка за гривенник. Хорошо, что возница молчаливый — сосет трубку да что-то курлычет, — сейчас не до беседы.
Стучат копыта сытой лошадки по ровной «царской» дороге, бегут мысли… Пять лет почти нет Анюты на свете, а все гложет. Нет-нет да и привидятся во сне серые глаза, правдивые да ласковые, ее полудетская рука ляжет в его руку, как тогда под дождем… А может, кабы женился на такой Кате-певунье, так от сердца отступило бы? Хороша девица, спору нет, и будто на Елизарова лицом схожа. А какая маленькой была, и не вспомнить. Будто слышит смех ее, каким заливалась, когда на руках подкидывал. Да нет, бог с ней, сыщет себе молодого. А Елизарова жалко, добрый был человек. Сумел ли хоть что жене оставить? Ведь последние годы две трети корнетского жалованья получал…
Многие уехавшие в отпуск гренадеры возвращались досрочно и на вопросы, чего рано приехал, отвечали почти одинаково:
— А что там делать? Все поглядел, что помнил, и все другим выказалось. Своих никого в живых не осталось, и меня никто не признает. Глядят как на зверя заморского. Девки, которые тогда таковы складны были, старухи беззубые ноне. Ну, покрасовался в церкви, порассказал разного на завалине, поставил старикам полведра угощенья. А дальше что?.. Нет, братцы, нам теперь тут жить, раз такая служба выдалась.
Слушая приехавших, Иванов думал: «Неужто и со мной то же будет? Ведь под тридцать лет разлуки стукнет, пока деньги докоплю… А как Мишке в Лебедяни обрадовался, как жалел, что не отпустили хоть на день. Или то десять лет назад, а нынче иначе? Но нет, мне бы только своих живыми застать да из кабалы выкупить…»
До срока возвратился из Ярославля хмурый Карп Варламов.
— Чего же так скоро? — спросил и его Иванов.
— Скоро? Едва две-то недели протянул, могилку Фенину убираючи или по городу прогуливаясь да мальчишкой себя вспоминая. А у сестрицы, дуры петой, только что ночевал.
— А племяша выкупил?
— На второй же день, как приехал. Понадевал окруту парадную — для того и вез все туда — и пошел к мещанским старостам в присутствие. Нарассказал турусы про роту да про дворец и будто хочу племяша с собой увезть и при дворе на службу определить. Всех в трактир угощаться повел и назавтра бумагу получил. А как пригляделся к парню, то и пожалеть впору, что старался…
— Чем же так плох?
— Бездельник, весь в отца — певчего архирейского. Только тот хоть деньги получал, раз горло в соборе драл и семью содержал, а у сего голосу нет и ремеслу никакому не учен. Знаешь ли, чем занят? Птиц певчих ловит да любителям продает. Или целый день дома на гитаре дрын-дрын и песенки про любовь стонет. А вечером в киатре актеров глядит. Наслушался я такого пения да на сестрицу насмотрелся, которая в нем души не чает, и понял, как Феню мою на тех же дрожжах воспитала. Что ж и удивляться, что в прохвоста смазливого врезалась, а потом места, окромя Волги, не нашла?.. — Варламов пососал свою немецкую трубку и продолжал: — Вот и мучаюсь пуще прежнего, что, случись все годом позже, когда в роту сию попал, взял бы ее сюда, на квартиру устроил, словом бы не попрекнул. Была бы у меня рядом душа родная да внук аль внучка… И вот тебе еще, чтоб сестрицу мою понял: хвалила мне, дурища, каковы у того писаря зубы белые да глаза синие и какое прозвание завлекательное — Сладков Тихон… Мне, мне такое рассказывать?! Тьфу, мозги паточные! «Сладков Тиша»! — передразнил он с исказившимся лицом.
— Ты не вздумай, Карп Васильич, его здесь разыскивать, — забеспокоился Иванов.
— Не стану. Феню не вернешь, а себе остаток жизни спортишь. Да и где, в таком муравейнике, сыскать?
Впрочем, сердце Варламов сорвал в ближайшие дни, только не на писаре. Посланный в оружейную мастерскую Павловского полка, он увидел ковылявшую по Аптекарскому переулку, истекавшую кровью собачонку с отрубленной передней лапой. Проходивший разносчик пояснил, что, верно, мясник Федька с Круглого рынка так ее изувечил за то, что съела шматок валящего мяса. Исполнив поручение, Варламов отправился на рынок, сыскал Федьку, осведомился, стащила ли собака мясо с прилавка, и, услышав, что только подобрала валявшуюся на земле требуху, влепил здоровому мяснику пяток «поучений», приговаривая, что это ему за боль бессловесной твари и что если еще такое узнает, то в Мойку вниз башкой скинет. На другой день Федька в синяках пришел жаловаться полковнику, но тот, сам любя животных, велел мяснику убираться, погрозив кликнуть Варламова с товарищами, которые его еще поучат.
В конце июля пошли проливные дожди, и двор возвратился в Петербург раньше обычного. Придворные и военные всех рангов наполнили дворец. Из их разговоров гренадеры узнавали, что в Адрианополе идут мирные переговоры. Дибич грозит штурмом турецкой столице, но армия его тает от плохой воды, сырой и жаркой погоды.
Началась череда парадных богослужений, приемов и балов. Первая церемония состоялась 9 августа в Георгиевском зале. Царь принимал персидского принца Хосров-Мирзу, приехавшего просить прощения за убийство чинов русского посольства.
В этот день почетный караул из восьмидесяти гренадеров был выстроен от самых почти ступеней Тронного места, на котором поместилось рядом два трона с подножными скамейками, до дверей Военной галереи. Стояли в две шеренги, лицом друг к другу, составив широкий живой коридор из великанов в медвежьих шапках, в залитых золотом мундирах. За спинами гренадер теснились сановники, дамы. Иванов стоял близко от трона и хорошо все видел.
Сначала из правой двери в Аполлонов зал вошли министры и члены Государственного совета и стали у тронных ступеней, сверкая мундирным шитьем и регалиями. Потом из левой двери показался великий князь Михаил с женой и дочерью-девочкой. С ними вместе шли и царские дети — наследник с братом и двумя сестрами. Тут обер-церемониймейстер с золоченым жезлом ввел из Военной галереи персидского принца и сопровождавших его сановников, которые прошли половину расстояния до тронов и остановились, не снимая черных бараньих шапок. Через несколько минут в полной тишине раздались твердые шаги с призвоном шпор и шелест шелка. Из левой двери перед группой императорской фамилии прошли царица в серебряном парчовом платье, шлейф которого поддерживали два камер-пажа, и царь в белой конногвардейской форме. В самый момент, когда они показались, полковник Качмарев скомандовал: «Рота, слушай, на краул!» — и, согласно звякнув, ружья единым махом взлетели вверх. Царь и царица поднялись по восьми ступеням к тронам, на которых были раскинуты алые бархатные мантии, подбитые горностаем, и остановились.
Обер-церемониймейстер приподнял жезл, и персы двинулись дальше. Впереди робкими шажками ступал юноша принц с безусым бледным лицом, на котором горели как бы испуганные огромные темные глаза. Он был одет в фиолетовый шелковый халат, перехваченный золотым поясом с саблей, рукоять и ножны которой сверкали бирюзой. Следом двигались его придворные в ярких шелках, с черными и седыми бородами. По сторонам шли обер-церемониймейстер и чиновник в мундире — переводчик.
Не дойдя шагов десять до трона, принц остановился и отвесил три глубоких поклона, которые тотчас повторили все его спутники. Царь приглашающе протянул руку, и один Хосров-Мирза подошел еще ближе. Остановясь, он наконец-то догадался снять шапку, что мигом сделали и все персы, после чего дрожащим, срывающимся голосом начал бормотать речь, которую, видно, выучил наизусть. Потом чиновник, став рядом с принцем, прочел перевод речи на русский язык. Персидский шах выражал глубокое сожаление о случившемся в Тегеране, просил русского государя простить вину его темного народа и сообщал, что все участники преступления уже жестоко наказаны. А ходатаем о милостивом прощении он посылает любимого сына и первых сановников, которые припадут к стопам могущественного монарха.
Царь глянул в сторону высших чинов, и на нижнюю ступень трона вышел министр иностранных дел Нессельроде, небольшой, седоватый, в богато расшитом серебром мундире, и прочел ответ царя шаху. В нем говорилось, что хотя вина персов очень тяжкая, но раз они раскаялись, то обязаны не только казнить виновных, о чем прочесть указы по стране, но также назначить пенсии семьям убитых и возместить убыток за имущество посольства. При малейшем же нарушении интересов русских подданных последует вступление несметных русских войск на персидские земли.
Пока Нессельроде читал, а потом чиновник переводил на персидский язык, принц кивал отливающей синью бритой головой и не раз косился назад на своих бородачей большими, похожими на воловьи глазами — верно, проверял, кивают ли и они.
— Чего озираешься? У нас не бойся, в спину кинжал не сунут, — услышал Иванов за собой шепот какого-то генерала.
— Но каковы глаза! Словно у газели! — вздохнула его дама.
Переводчик смолк, и Хосров-Мирза, достав из-за пазухи синий мешочек, вытряхнул что-то на ладонь, взошел на ступени перед императрицей и с поклоном протянул ей ярко сверкнувший камень.
— Бриллиант! Бриллиант! Алмаз знаменитый! — зашептали сзади.
— Выкуп за голову Грибоедова! — услышал Иванов чей-то негромкий голос и невольно содрогнулся.
Когда рота возвратилась в казарму, Иванов только поспел переодеться в сюртук, как к нему подошел капитан Лаврентьев.
— Ты что же, друг любезный, нонче под конец штык завалил? — спросил он строго.
— Виноват, ваше высокоблагородие, голова чего-то закружилась, — соврал гренадер. Разве разъяснишь такому, что знал покойного посланника, что по нем запечалился.
— А ты есть солдат роты, наистаршей из всей гвардии российской, — начал наставлять Петух. — И хотя дух из тебя вылети, а стойку держи. Вот мне довелось друга сердечного, брата крестового, скрозь строй весть. Велел полковник то делать, раз знал, что мы крестами поменялись. И что же? Сплошал Лаврентьев? Нет, повел. Круги зеленые в глазах плыли, дух перехватывало, как он стонал да вскрикивал, а я не дрогнул, шагу не прибавил. Так и провел скрозь батальон — потому служба… Ну ладно, прощаю попервости, раз, окромя меня, никто не увидел, все на алмаз тот любовались. А великий бы князь заметил, что тогда?
Вечером Иванов пошел к Жандру рассказать про церемонию.
— Все знаю, — сказал Андрей Андреевич. — Не любитель во дворец ездить, а ноне воспользовался, что в четвертом классе состою, и тебя в строю видел. Алмаз тот прославленный «Шах» зовется… Но разве можно им расплатиться за жизнь такого человека и всех с ним убитых?.. Я не кровопийца, но, чтоб подобного не повторилось, я бы огромный выкуп с них слупил вдобавок к тому, что по прошлому договору требуется. А теперь что же? Я уверен, что слова пустые про наказание виновных. Как мы проверить можем?..
Через неделю во дворце давали бал, во время которого Иванов стоял на парном посту у дверей Концертного зала. Не раз мимо него проходил Хосров-Мирза с переводчиком и несколькими офицерами, вполне дружелюбно говорившими с персом. А потом совсем близко от часовых принца окружили несколько молодых дам в бальных очень открытых платьях, убранных драгоценностями и цветами. Они слушали, что лопотал Хосров, и наперерыв щебетали и смеялись в ответ.
— Вот везет азиату. В моду вошел, лупоглазый! — завистливо сказал стоявший около Иванова офицер гвардейской артиллерии.
— Всего двум десяткам слов французских обучен, а льнут к нему, будто мухи на мед, — ответил другой, стоявший рядом. — Правда, для некоторых особ разговор и не нужен. Словно дикарки, на барана этого глазеют, а он на их прелести слюни распускает.
В последний раз Иванов увидел Хосров-Мирзу во время парада на Марсовом поле по случаю заключения мира в Адрианополе. Когда царь, объезжая, здоровался с войсками, перс, красиво подбоченясь, ехал за великим князем Михаилом.
— Что за честь персику ледащему? Сдал свой подарок да и проваливай, нечего на наших харчах проедаться! — услышал Иванов громкое ворчание за фронтом и, скосив глаза, увидел бородача в сибирке, видно купца средней руки.
— Пущай хоть куда поставят, Петрович, — отозвался женский голос, — ты ноне радуйся, что людей бить на войне перестали…
Назавтра гренадер пошел к Жандру сдать жалованье, полученное за вторую треть, и услышал как бы продолжение слов купчихи.
— Разумеется, хорошо, что мир заключили, — сказал Андрей Андреевич. — Радостно, что к нам отошли населенные армянами области и то, что благодаря русским Греция стала наконец самостоятельным государством, а Сербия от турок меньше будет зависеть. Но умные военные толкуют, что армия наша, через Балканские горы глубокой осенью перебираясь, тяжкого горя хлебнет. Мне сказывали, что в боях у Дибича десять тысяч потерь, а от болезней — шестьдесят. Сколько ж еще перемрет, пока до своих пределов доползут? Помню, как отцу моему некий суворовский соратник говаривал: «Не так страшна война боями, как гошпиталями…»
В эту осень, помимо занятий в ротной канцелярии, Иванову приходилось иногда помочь и Лаврентьеву 2-му. Списывал «отпуски» с требований на дрова, свечи и лампадное масло для ротной иконы, на фабру и воск, ваксу и мел, на белые ружейные ремни, которыми царь приказал заменить красные.
А на дежурства полковник чаще всего назначал теперь Иванова в Ротонду и Темный коридор, разделявший личные комнаты царя и царицы с комнатами сыновей. Здесь день ото дня гренадер больше узнавал учителей наследника и его брата Константина. Кроме хорошо знакомого Жуковского, постоянно видел круглолицего спокойного Плетнева, какого-то тусклого Тимаева, всегда приветливого даже с прислугой француза Жиля и постоянно гладившего щеточкой седой пух на лысине англичанина Варонда. Эти бывали каждый день, а через день еще двое: француз Курно — он охорашивался перед зеркалами и при этом оставлял на подзеркальниках книги, за которыми выскакивал уже из классной, — и немец Эртель, неопрятный толстяк, но с которым дети часто смеялись, как бывало еще только на уроках Жуковского.
«На семь учителей трое русских, — думал Иванов. — Да из них Тимаев, видать, такой сухарь, что детей разве от науки отпугнет. Языки иностранные им надобны, но зачем французов-то двое?..»
И вскоре, будто в ответ на свои мысли, услышал, как в Ротонде Плетнев говорил Жуковскому:
— Слушай, Василий Андреевич, нельзя ли сделать, чтобы хоть географию русский учитель преподавал? Ей-ей, великим князьям твердо знать надо, где Калка и Дон, Казань и Азов, а Парму и Орлеан сами разыщут от чтения романов. Мусье Жиль весьма приятный человек, но даже карты России сюда не приносит.
— Было уже о том мной доложено, — развел руками Жуковский. — Но ответ его величества гласил, что русскую географию молодые люди изучат в путешествиях образовательных…
И здесь же через несколько дней в хмурое октябрьское утро гренадер узнал взволновавшую его новость. В дверях Арапского зала Василий Андреевич встретился с воспитателем великого князя Константина морским офицером Литке.
— Слышали, Федор Петрович, про Доу? — спросил Жуковский.
— Слышал. Но я не был его поклонником, — отвечал моряк. — Не люблю стяжателей и скряг, как справедливо называл его Лабенский… А быстро скрутило молодца. Давно ли тут, подбородок задравши, выхаживал? Скольких же лет помер?
— Кажется, сорока восьми, — сказал Жуковский и прибавил: — Правда, что был без меры жаден до денег, но и талант немалый. Хотя мне самому живопись Каспара Фридриха куда милей.
— Какой еще Каспар Фридрих? — чуть ворчливо спросил Литке.
— Есть такой дрезденский художник, которого я уже несколько лет облюбовал. Он грустные морские и горные пейзажи пишет. Приходите ко мне, я вам две его картины покажу.
— Благодарствуйте, но мне, право, не до грустных пейзажей. Более чем достаточно дела с планами занятий великого князя, которого государь истинным моряком требует сделать. А насчет Доу, то я думаю, что черная душа отравляет любой талант. Однажды я имел время портреты в галерее внимательно рассмотреть и убедился, что ему особенно удавались изображения дурных людей. Взгляните на старую лису Беннигсена, на Аракчеева, Балашова и некоторых других, коих не назову в сих стенах… Честь имею!..
Жуковский еще задумчиво глядел вслед моряку, когда Иванов отважился к нему подойти:
— Ваше превосходительство, дозвольте спросить.
— Конечно, спрашивай, кавалер.
— Так ли я уразумел, что господин живописец Дов померли?
— Истинно так. Вчера в газете читал, что скончался в Лондоне две недели назад.
— А кому же все деньги пойдут, что у нас в России набрал? Слыхано было, что не женатый и детей не имел, — продолжал спрашивать Иванов, благо стояли в Ротонде одни.
— Сестре его родной. И про то в «Пчеле» пропечатано. А капитал истинно огромный оказался, чуть не миллион на наши деньги.
— Миллион?! — повторил Иванов. — Это сколько же тысяч?
— Десять раз по сто тысяч рублей, тысяча тысяч, значит. Много, братец. Нам с тобой таких денег век не увидеть…
Вечером Иванов пошел к Полякову. Дверь оказалась не запертой, хозяйка и Танюша куда-то отлучились. Живописец топил печку и сидел перед ней на половичке, не зажигая свечи. Иванов просил не освещать комнату и сел около него на стул.
— Слышал уже, — сказал Поляков на сообщенную новость. — Голике прибегал, чуть не плакал. А я так и сказал: «Не жалко мне его ни капельки, какой бы хворостью страдательной ни сгинул». Знаю, Александр Иванович, что оно не по-христиански, но ничего с собою сделать не могу. Да еще тому я, грешник, злорадствую, что, всеконечно, помирая, помимо болезни, горем надрывался, раз с деньгами, с друзьями своими единственными, расставаться пришлось. Какова сестра его, которой все досталось, не ведаю, но муж ее, гравер Райт, здесь трудился. Добродушный господин и в своем деле большой мастер. Из него Дов тоже соки сосал, никак не ожидавши, что наследника своего обирает.
Помолчали, глядя на мерцавшие головешки.
— Как учение твое идет? — спросил Иванов.
— Поправляюсь помалу. Сам себя нахожу. Теперь бывает, что и похвалят за рисунок. С азов начинать пришлось, будто карандаша век не держал. А вот с вольной все ни с места.
— Неужто еще не разделились наследники? — удивился Иванов.
— Сказал намедни здешний приказчик ихний, будто старшему сыну достанусь, который в гвардии служит. Так боюсь, не стал бы выжиливать, чтобы больше заплатили. Бары на прихоти тороваты, а за наши душеньки, ежели кто торгует, как черти за грешников, цепляются. Кажись, две тысячи — не цена ли? А еще, может, оттого тянут, что две сотни годового оброка исправно сдаю, а тогда сему доходу конец. Вот и давай еще двести пока что…
— Откуда же деньги такие берешь? Все с портретов царевых?
— Больше неоткуда. Мундиры меняю да купцу в Андреевский по четвертному ношу, а тот — в золоченую рамку да по пятьдесят рубликов. Надоело — страсть. Ведь без оброка я бы на восемь штук меньше писал. И еще освобождение скорей нужно, чтобы из Академии не выгнали, как крепостного. За меня Общество поощрения поручилось, что обязательно выкупит, а уж чуть не два года прошло. Президенту стараюсь на глаза не попадать…
— А здоровье каково?
— Ничего. Раз деньги есть, чтоб за квартиру с дровами отдать, за стирку, на чай-сахар да на булку с печенкой, — чего еще желать? Учусь, того, о чем мечтал, наконец достигаю. Украл Дов у меня шесть лет жизни. Ну, он теперь за то в другом месте, может, наконец-то ответит… А от холода в классах шинель справил на вате и жилетку пуховую у чухонки купил. Сейчас вам обновы покажу, как огонь засветим.
7
Седьмое ноября, пятая годовщина наводнения, пришлось на воскресенье. Свободный от наряда Иванов положил в карман пятнадцать рублей и пошел на Смоленское. Еще вчера написал поминальную. Хотел поставить новопреставленных болярина Александра, еще Александра и Симеона, потом отдумал. Панихиду собрался заказать по усопшему семейству, пусть же только они и стоят в записке. А то болярина положено перед простолюдинами читать, а в этот день всех дороже память Анюты с родителями.
Погода выдалась славная — тихая, сухая и солнечная, совсем не похожая на тот страшный день, о котором думал, шагая на Васильевский и взглядывая на низкую, спокойную Неву.
Время рассчитал так, чтобы к кладбищу дойти в середине обедни и заранее отдать церковному старосте записку за упокой и по пятерке для священника, причта и хора. Сделал все, как хотел, купил свечу, прилепил у ближней иконы и стал тут же, у прилавка, дожидаясь заказанной службы.
— Ноне день у нас особенный, панафидный. Бывает, что оба батюшки и обедать домой не ходят, — наклонился к гренадеру староста, доверительно щекоча ему ухо тщательно расчесанной бородой. — Но зато и доход не меньше, как в светлый праздник.
Панихиду отслужили неторопливо и внятно. Иванов удовлетворенно думал, что все вышло, как давно хотел. Пойти поклониться могилам — и обратно в роту.
В прошедшие пять лет за крайние тогда могилы утонувших бедняков далеко в поле высыпали новые холмики с крестами. Кабы не ходил сюда ежегодно, то не сразу бы нашел длинную, поросшую травой насыпь, на которой выстроилось несколько поставленных родичами разных по высоте и материалу крестов. Вон и его иждивением заказанный черненый железный.
У соседних могил сошлось немало поминальщиков. Одни молились, другие убирали, чистили веничками могилы от опавших листьев, вешали на кресты венки из зелени, а то сидели около на скамейках, тихо переговариваясь. Когда подошел к «своему» месту, справа на коленях стояли две женщины в черном, по-простонародному повязанные платками. Знать, и у них тут свои схоронены. Многих помнил, кого здесь встречал, а этих будто не видывал.
Снял фуражку, стал на колени, перекрестился, поклонился в землю. Поднялся, еще перекрестился. Теперь можно и уйти — все сделал, как надо. Авось отпустит наконец тоска, что нет-нет да и сожмет сердце, напомнит ту, которая здесь лежит.
Справа женщины тоже встали с колен. И вдруг одна вскрикнула:
— Александр Иванович! Вы ли?..
У гренадера перехватило дыхание. Снится ему, что ли? Те глаза серые, тот взгляд прямой, ясный, который столько раз во сне да и наяву чудился…
— Свят, свят, свят!.. — сказал он, крестясь, и зажмурился. Открыл глаза, посмотрел снова, и сердце залило радостью: — Господи боже! Анюта! Ты ли?.. Откудова?..
— Я, я, Александр Иванович! А вы меня за утопшую почитали?
— А как же! Только сегодня панихиду заказную по родителям и по тебе отпели… Где ж ты была пять годов?.. Да не сон ли вижу? Ну, толкни, что ли, меня, Анютушка! Хоть за руку дерни!..
— Видать, знакомого сыскала, милая, аль родственника? — сказала пожилая женщина, что стояла рядом.
— Да, тетенька, спасибо вам. Теперь уж я ничего не боюсь, — сказала Анюта, сияя такой улыбкой, от которой Иванова разом облило радостным жаром. — Идите, тетенька, дай вам бог…
— И тебе дай бог счастья, девица честная! — Женщина поклонилась и отошла.
— Ах, Александр Иванович, как же такое случилось? Ведь я каждый год сюда в этот день приходила. Вы, верно, на службе другой теперь? Да где бы нам присесть? Ноги дрожат впервой в жизни.
— Да вон лавочка пустая, — указал Иванов.
— Нет, пойдемте отсюда. Негоже на кладбище так радоваться.
— И я вот как рад! — Гренадер достал платок, отер лицо и шею, после чего надел наконец фуражку. — Голова кругом, право… — Он повернулся было идти, но снова остановился: — Так отчего ж тебя в церкви не было, когда родителей хоронили?
— Да в отъезде я была, — прижала руки к груди Анюта. — За два дня до наводнения, пятого числа, с хозяйкой и еще с мастерицей нас в Новгород увезли генеральской дочке спешно приданое готовить. Рыдван шестериком прислали, чтобы с материями, с отделками погрузиться. Пока там про бедствие здешнее узнали, пока отпросилась да выехала, ан милые мои уж похоронены были. — Губы Анюты задрожали.
И гренадер поторопился спросить:
— Ты где же теперь живешь?
— У той же хозяйки, у мадам Шток. Только переехала она с Васильевского на Пантелеймоновскую.
— Ну, так пойдем не спеша и поговорим дорогой… Однако постой! Как же мне баба, вроде дворничихи, со слов соседки вашей так обстоятельно сказывала, — Иванов снова остановился и смотрел на Анюту во все глаза, — будто вы с мачехой лихорадкой болели, а Яков Семеныч, вас вытаскивавши, поскользнулся на больной ноге, и все захлебнулись… Ну-ка, дай руку-то…
— Нате, нате, живая я, вот вам крест! — говорила Анюта, положив левую руку на его ладонь, а правой крестясь, в то время как из глаз ее побежали слезы. — Все наврала злая соседка. Она с дочками да еще будто квартальный имущество и сбережения папенькины обобрали, так что и тряпочки памятной не нашла. Да все пустое, раз они померли, а вот вы-то думали, будто и я…
— И я тоже в том грабеже участник, — говорил, не выпуская ее руки, гренадер. — За иконой двести рублей ассигнациями сыскал да икону ту взял и игрушек несколько. Так что часть приданого и родительское благословение заочное хоть нонче получи.
— За то спасибо, но мне главное теперь, что вас нашла! — сказала она с жаром, но вдруг, покраснев, высвободила руку.
— А что ж раньше не сыскала? — спросил гренадер.
— Так папенька же сказали, что вы в Гатчину переведёны. Вот я на второй год после наводнения и упросила заказчицу, офицершу тамошнюю, справку навесть. Назвала и что из Конной гвардии, соврала, господь мне прости, будто сродственники. Та барыня все записала и, снова к нам в мастерскую приехавши, сказала, что такого из Конной гвардии нету, а есть двое, из иных полков и других лет… Как же мне еще искать? И могла ли подумать, что меня мертвой считали? Рассудила так, что в последний год ходить к нам перестали да в Гатчину не переводились, то выходит, вовсе от нас отвернулись или… — Анюта запнулась и докончила, смотря на Иванова не то со страхом, не то с укором, — женились давно…
— Не женился я, Анютушка! — воскликнул гренадер. — И тогда не отвернулся, а опосля разговора с Яковом Семенычем возраст мой отвел от тебя. Двадцать лет разницы, пустое ли дело?
— По мне, вовсе пустое, — сказала Анюта решительно. — Вы бы меня наставляли, а я бы вот как стараться стала.
— Да стар я для тебя. Отцу твоему почти что ровесник был.
— А мне молодые не надобны. Троим уже отказала, хоть мадам наша очень одного нахваливала… Как же вы с папенькой, меня не спросивши, решили? А я-то, глупая, с того часу, как от барина носатого оборонить не побоялись, вас суженым сочла…
Записанное здесь говорилось, когда они то останавливались, повернувшись друг к другу, то шли вдоль речки Смоленки. Дальнейший разговор продолжался на линиях Васильевского острова, в захолустных улочках Адмиралтейской части, наконец на скамейке засыпанного палым листом Екатерингофского парка. Говорили — и наговориться не могли. Смотрели друг на друга, и все было мало. Не замечали бегущего времени. Забыли, что не ели с утра. Воистину все как в счастливом сне.
Когда же наконец, уже при зажженных фонарях, едва решились расстаться у ворот на Пантелеймоновской, то по Цепному мосту и мимо Летнего сада Иванов еще шел хотя как мог скорее, а наискось через Марсово поле уже бежал, подобравши полы шинели, и все же вскочил в двери ротного помещения, когда в «сборной» уже строились к вечерней поверке. Едва поспел сбросить фуражку и шинель на чью-то кровать и, растолкавши соседей, встать в ранжир, как фельдфебель Митин скомандовал:
— Рота, смирно! Слушай поверку! Антонов Потап…
В понедельник он заступал на дежурство с двух часов и, вместо того чтобы, как обычно в тихие часы, засесть в спальной за щетки, пошел в канцелярию и попросил у Екимова лист бумаги, будто для письма. Возвратясь в роту, сочинил черновик на оберточной бумаге и, перечитавши, вывел беловую. Тут зазвякали в дверях шпоры — полковник Качмарев обходил помещения роты. Иванов встал у своей кровати.
— Наконец и ты вчерась загулял, — сказал командир. — Сказывали, к обеду хотел быть дома, а где-то до потемок закутил.
— Так точно. И к вашему высокоблагородию с покорнейшей просьбой. — Иванов протянул свою бумагу.
— Что за прошение? Ну, так читай сам. Я очки в канцелярии оставил.
Иванов огляделся вокруг.
— Аль секретная?
— До времени бы…
— Ну, так и читай тихо, — приказал Качмарев.
Иванов ступил почти вплотную и прочел вполголоса, деликатно дыша в сторону, но у самого уха полковника:
— «Покорно прошу дозволения вашего высокоблагородия на вступление в первый законный брак с девицей Анной, Яковлевой дочерью, которая есть мастерица у госпожи Штокши, жительствующей в доме купца Меншуткина, насупротив церкви святого Пантелеймона-целителя. К сему гренадер первой статьи Александр Иванов».
— Ну надивил! — хлопнул себя по бокам полковник. — Однако добавить надобно, сколько лет невесте, какого вероисповедания, сословия и по какой части мастерица.
— Виноват, ваше высокоблагородие, сейчас заново перепишу. Двадцать один год полный, православная, шьет барыням уборы, а сословием дочка отставного почтальона. Про сословие не знаю, как сказать, раз из воспитательного, безродный, значит, был.
— Родителей обоих в живых нету? Сироту берешь?
— Вчерась ровно пять лет, как потопли в бывшее наводнение.
— Давно, значит, невесту знаешь? Ах, тихоня! Ведь никто и не чуял, что женихом ходишь.
— Так и я же ее все пять годов до вчерашнего полдня покойницей числил, в поминание писал…
Качмарев выпучил глаза и, присев на кровать, велел:
— Докладывай все толком.
Когда Иванов окончил, полковник, качая головой, сказал:
— Ну, истинно надивил. Бери-ка фуражку, пойдем. Сейчас жене моей все перескажешь. Меня чуть слеза не прошибла, а ей и рушником не обойтись. Однако мадама не станет ли препон чинить?
— Какие же препоны, ваше высокоблагородие? Она, чай, свободного состояния, — ответил Иванов. — Я вчерась же хотел к ней явиться да все высказать, только Анюта не пустила.
— Верно, сама вперед хочет объявить, — догадался полковник.
— Никак нет, а сказала: «Подумайте недельку, чтобы не ошибиться сгоряча. А уж потом, коли все так же на сердце будет, то и приходите к Амалии Карловне, раз я сирота и она мне вроде сродственницы ставши». Даже казаться на глаза запретила.
— То все не глупо, — одобрил Качмарев. — Видать, девица основательная. Поговорка не зря сложена, что жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь.
Полковник хорошо знал свою супругу. От рассказа Иванова она отодвинула пяльцы, за которыми сидела, и стала вздыхать все глубже, будто собираясь чихнуть, потом пустила слезы в небольшой платочек, что лежал рядом, и наконец не отнимала от глаз полотенца. Его вовремя подала горничная, которая вместе с кухаркой дружно охали сначала за дверьми, а потом, осмелев и вконец раскиснув, хлюпали в передники на пороге.
Когда же окончил повествование, то полковница, насилу отсморкавшись, велела подать бутылку наливки, чтобы всем выпить за здоровье нареченных, и тут же наказала мужу в воскресенье ехать на Пантелеймоновскую как будущему посаженому отцу.
Гренадер не возражал: вчера вгорячах готов был идти прямо к Штокше, а нынче почувствовал, что предстательство полковника не лишнее. Ведь Анюта говорит о немке уважительно, так пусть же начальство пояснит, что не бездельник, грубиян или пьяница сватается.
Неделя для Иванова выдалась самая беспокойная. Конечно, в роте все стало известно от полковничьей прислуги, после чего расспросам, поздравлениям и шуткам не было конца. Иванов терпеливо и благодушно отвечал, но в свободные часы уходил в канцелярию или в подвал к поручику. Эти письменные дела отвлекали от тревоги — вдруг в воскресенье они с полковником посватаются, а невеста за неделю отдумала, испугалась идти за старого солдата, такого сивого да морщивого, каким стал…
Два вечера он ходил на Пантелеймоновскую и с другой стороны улицы, из-под ворот, смотрел на окна мастерской. Там за кисейными занавесками, освещенные яркой масляной лампой, склонялись над шитьем девичьи головы. Ему казалось, что среди них узнает Анюту. Но ведь видел ее весь день в платочке и даже не знает, по-прежнему носит косу или какую прическу?..
В полдень воскресенья одетый в парадную форму Иванов выступил из казармы и едва подошел к дому Меншуткина, как следом подъехала дворцовая карета, из которой вылез полковник в медвежьей шапке и мундире — шинель он для шику сбросил на сиденье.
— Ну, гренадер, бей атаку! Идем на приступ! — сказал он вполголоса и молодцевато передернул плечами, отчего заиграли золотые висюльки густых эполет. И уже в дверях, подмигнув, добавил шепотом: — Для форсу впервой в жизни карету спросил.
Как оказалось потом, Анюта видела суженого у ворот напротив — как было не заметить такого рослого молодца, особенно если все время о нем думаешь? — и, подкрепленная сим доказательством его намерений, в субботу решилась сказать мадам Шток, что дворцовый гренадер, старый знакомец ее родителей, может прийти просить ее замуж. Немка, которой не впервой было выдавать своих мастериц-сирот и которая любила разыграть строгую, но добрую тетку, приготовилась сделать Иванову придирчивые смотрины. Однако появление придворной кареты с кучером в красной ливрее и полковника в блестящем мундире повергло ее в растерянность. На счастье, придя недавно из Анненкирхе, она была еще зашнурована и не сняла кофейного цвета платья, которое поспешила дополнить белой шалью с бордюром из турецких огурцов, а для высшей светскости взяла в руки веер. Последний оказался очень кстати, ибо от вида придворного экипажа, золотых эполет и от шерстяной шали Амалию Карловну бросило в жар.
Поспешно усевшись на обитый малиновым шелком диван своей гостиной, в которой буднями хлопотала вокруг лучших заказчиц, обмахиваясь веером и поскрипывая корсетом, мадам Шток отнюдь не походила на палку, когда, приподнявшись навстречу гостю, просила его занять кресло. А Иванов остался стоять у косяка двери, держа у груди, как по команде «на молитву», мохнатую шапку, в то время как Качмарев картинно положил свою вместе с белоснежными перчатками на соседний столик.
Оказалось, что с дамами, как и с солдатами, полковник «за словом в карман не лезет». Плавно и неторопливо он представил Иванова как самого исправного в службе и трезвого из вверенных ему ста гренадеров, отобранных из всей гвардии, который к тому же хорошо грамотен и ежели не в сем году, то в будущем при первой вакансии будет произведен в унтера дворцовой роты, что равняется прапорщику армии со всеми правами для него, супруги и будущих деток. После же сего, бог даст, пойдет и выше, чему примером он сам, ныне гвардии полковник, самому государю известный, а ведь начал службу рядовым солдатом.
От такой речи, подкрепленной полупоклонами в сторону дамы и звяканием шпор под креслом, Амалия Карловна расцветала на глазах, как поблекший было цветок под струей свежей воды. Она все слаще улыбалась и повторяла: «О да, mein gnadiger господин полковник und Ritter![65] Если вы сами как сват…»
А Качмарев уже перешел к истории защиты тогдашним конногвардейцем девочки, которую преследовал сластолюбивый старик, описал приход их вместе к ее живущим скромным ремеслом родителям и затем, как счел всех погибшими и служил панихиды, проливал скупую солдатскую слезу о потонувшей невесте… И вдруг, в пятую годовщину бедствия, у той самой могилы…
Во время этого рассказа Амалия Карловна сначала только умилялась и приговаривала:
— Oh, oh, ein Held…[66] Да, я знай Kinderspielsachen[67].— Потом сочувствовала: — Sie sind zusammen versunken[68], бедняжки… — И, отложив веер, прикрывала глаза кружевным платком. А еще через две фразы полковника простонала в пространство: — Дайте скорее einen großen Taschentuch![69] — И, уже рыдая, бурно колыхала всем изобилием, что выступало сверх тугого корсета.
Наконец сквозь вздохи и всхлипы она приказала позвать Annchen.
Анюта вошла с лицом в цвет обивке мебели гостиной, но, сделавши Качмареву реверанс, которому обучила ее Амалия Карловна, негромко, но твердо сказала, что слышала сказанное господином полковником, все как есть правда истинная и что ни за кого, кроме Александра Ивановича, идти не хотела и вовек не захочет.
Так вышло, что через час после начала визита полковник и гренадер покинули Пантелеймоновскую. А после обеда Иванов, уже в фуражке и шинели, снова появился у дома Меншуткина, чтобы увести гулять нареченную. Гостеприимная Амалия Карловна приглашала их остаться в одной из комнат мастерской, куда подадут кофе и кухены, но Анюта ответила, что хочет познакомить жениха с дальними родственниками на Выборгской. Когда же шли по Пеньковой улице, призналась, что родичей тех совсем не почитает, раз после смерти родителей, узнавши, что ей ничего не досталось, прямо высказали, чтобы не вздумала приходить каждое воскресенье, хотя живут вполне достаточно.
Тут Анюта запнулась было, но, должно быть решив ничего не скрывать от жениха, продолжала:
— И, чтобы от дома меня отвадить, сказали, что раз на свояченице жениться нельзя, то будто грех большой состоял в житье папеньки с тетенькой под одной кровлей невенчанными… — Анюта остановилась и, посмотрев в глаза Иванову, спросила: — Так почему же, пока живы были, нас приглашали и в гости к нам не реже хаживали?! Понятно, после таких слов я к ним ни ногой, а тетеньке покойной за ласку и заботы навеки все равно благодарна.
— И правильно, Анютушка, видно, дрянью расчетливой оказались, — поддержал ее Иванов. — А мы батюшку твоего с тетенькой одним добром поминать станем. — Он мельком вспомнил виденную в мокром подвале единственную пару венчальных свечей. Второй, значит, и быть не могло…
Прошли немного молча, и Анюта, успокоенная его сочувствием, продолжала рассказывать, что госпожа Шток хотя чужая и немка, но оказалась в горе куда добрей. Нынче еще напомнила, что у ней деньги Анютины на сохране и свадьбу за свой счет хочет справить. А придумала такую неправду ей ответить на приглашение, раз хочет с Александром Ивановичем без чужих поговорить, что там никак невозможно — мастерицы и девчонки все бы подслушали, как утром меж собой спорили, так или этак она хозяйке вчера про жениха объявила. Хоть за неправду и стыдно, а другого предлога не придумала.
До сумерек бродили они мимо лачужек и заборов лесных складов по набережной Малой Невки. Несколько раз присаживались отдохнуть на скамейки ночных сторожей, где гренадеру удавалось погреть в своих руках Анютину руку, и опять шли рядом куда глаза глядят, рассказывая, что случилось за прошедшие годы и сколько каждый думал о другом. Со смехом жевали черствые крендели, грызли леденцы и яблоки из мелочной лавки и были счастливей, чем в Екатерингофе, оттого что становились все ближе.
Нынче Анюта оделась не в черное, а в голубой бархатный капор и в синий, тоже бархатный салопчик, отороченный лисьим мехом. В таком наряде с не сходившей с лица счастливой улыбкой она была так хороша, что Иванов только на нее и смотрел. Вот уж истинно никого и ничего, кроме нее, не видел, отчего ей приходилось выбирать дорогу и даже толкнуть его локтем, когда чуть не пропустил сделать фрунт бог весть как забредшему сюда офицеру. А локтем толкнула потому, что ухитрился, идучи по мосткам, обе руки ее забрать в свои накрест, будто в танце.
— Сегодня мы бездомные и бога благодарим, что дождя нет, — сказал гренадер, когда сидели на одной из скамеек, озаренные солнцем, уходившим за кущи Ботанического сада. — А через недели две, бог даст, будет, где у своей печки посидеть и друг дружке что захотим пересказать, без оглядки, чтобы кто не услышал. У меня такого немало про людей самых добрых да несчастных, что ты узнать должна… А нонче вот еще что: полковник, встретясь, когда к тебе собирался, упредил, что вскоре при дворце нам квартиры не представит, раз череда из прежде женатых ведется, и советовал начать сыскивать вольную. Как ты скажешь?.. Оно тем уже лучше, что с женами гренадерскими тебе по-соседски не водиться — бабы все немолодые и сварливые.
— Конечно, вольная квартира лучше, — подтвердила Анюта, — только дороже ведь.
— А приданое твое на что, которое храню? — пошутил Иванов.
— У меня и еще четыреста рублей скоплено, — похвасталась его невеста. — Наша Карловна без малого обсчета. Платит хоть меньше, чем у француженок на Морской, но уж до копеечки. Так ведь и ей, как немке, заказчицы меньше платят. А нонче сказывала, чтобы работу на дом брала, ежели вы дозволите.
— Отчего же, раз тебе шить не надоело и хозяйству не помешает, — решил Иванов и продолжал мечтательно: — Хоть бы на первый годок квартирку городскую снять, пожить вольными людьми! Как казарма обрыдла, Аннушка, того не рассказать. Хотя и ты такое знаешь, раз все на людях с мастерицами. Я там бы, ей-ей, и щеток в два раза больше наработал, наемную плату окупил бы. А во дворце даже на дежурствах, где случается подолгу одному маршировать, все равно каждую минуту будь готов приказ слушать… Да ты сознаешь ли, что за солдата идешь? В унтера производство, про которое полковник поминал, будет ли еще, а пока все солдат, как двадцать один год. Хоть золотая рота зовется, а все солдаткой станешь. Не пожалеть бы потом.
— Я только того и хотела, а потом плакала целых шесть лет, когда вас не видела, — ответила Анюта.
Во вторник Иванов под вечер пошел к Жандру рассказать о своих новостях и впервой взять из «казны» деньги. Да и посоветоваться насчет квартиры, венчания, свадебного празднования. Застал хозяев дома, был внимательно выслушан и еще раз убедился, что у всех женщин глаза сотворены «на мокром месте». Рассказ про первое знакомство с Анютой в подворотне на Подьяческой, про залитый водой подвал и деньги за иконой, про перевозку гробов на кладбище и, наконец, про неожиданную встречу через пять лет около могилы всегда чуть суровая Варвара Семеновна слушала, попеременно плача и улыбаясь. А потом встала и, уходя, позвала за собой Андрея Андреевича.
Возвратясь, они сели на прежние места, и Жандр спросил:
— А как же теперь, друг любезный, замысел твой о выкупе родных? Не придется ли его оставить? Ведь на жизнь семейную больше тратить требуется, чем на одного в казарме живущего.
— В тот же день, как встретились, — ответил Иванов, — в Екатерингофе гуляючи, я все Анюте рассказал и упредил, что, пока своих не выкуплю, жизнь нас ожидает самая скудная.
— А она что же?
— Как услышала, то и раскраснелась вся. Вот, говорит, чуяла, каков ты сын… Хвалить, то есть, меня начала. И я, сказала, иглой своей заработать кой-чего могу, обузой тебе не буду. А третьего дня хозяйка ей работу на дом давать сулилась…
— Ну, ежели так, — Жандр переглянулся с Варварой Семеновной, — то выдержал ты, братец, с суженой своей экзамен, и хотим, чтобы свадебный стол ваш был в нашем доме. Скажи число гостей да что за вкусы у них, а об остальном не заботься.
— Не знаю-с, что и отвечать, — растерялся Иванов. — Покорнейше благодарю. Я ведь думал в трактире комнату снять и кушанье заказать, как гренадеры делывали. Но, понятно, ежели честь окажете, вам туда идти нельзя-с… Да хлопот-то сколько!
— Перечти гостей, а я считать стану, — приказал Жандр.
— Отцом посаженым наш полковник вызвался быть, — начал Иванов, — знать, их с супругой позвать надобно. Шаферов двое, а то четверо — гренадеров холостых. Вот уже шестеро. Потом фельдфебель Митин да унтер мой взводный Таран… Только, Андрей Андреевич, они ведь люди самые простецкие, солдаты, одним словом… Восемь. Потом Анютину Амалию Карловну с мужем, он, сказывают, немец тихий, у ней счета ведет. Ну, подружек Анютиных хоть две. Никак двенадцать? Да мы, брачащиеся… И, может, еще батюшка с дьяконом. Так позвольте хоть половину денег внесть.
Андрей Андреевич нахмурился:
— Слушай, Александр Иванович! Мы друг друга не первый год знаем, кой-чего вместе пережили, кой-кого вместе оплакали. Так вот: мы с Варварой Семеновной гостей принимаем не часто, денег бросать на ветер не любим. Но бывает и у нас, что не о рублях разговор. Можешь мне поверить, что от сего приема окажется и нам удовольствие. Так что говори сей госпоже свои пожелания, а уж она нас не подведет. Я же в ближние дни съезжу к названной немке и к полковнику твоему с визитами и форменно их приглашу. Тебе же надо квартиру сыскать чистую, теплую, недорогую и хоть как в ней все устроить. Про всякое обзаведение Варвара Семеновна тебе советчица. Да в церкви побывай — оглашение надобно в ближнее воскресенье сделать.
Однако когда Андрей Андреевич нанес визит госпоже Шток, та заявила, что иначе как от себя Анюту замуж не отпустит, раз она сирота и столько лет у нее живет. И пошла речистая немка объяснять, что у нее не как у других, а совсем как пансион, что сама учит девиц не только белошвейному делу, но и готовить кушанья, а муж ее — желающих чистописанию и арифметике, и что по случаю свадьбы любимой подруги каждая девушка захочет что-нибудь сготовить, хотя, конечно, все будет под ее присмотром.
Жандр слова не мог вставить. Едва сумел выторговать, что винную часть берет на себя — дюжину игристого для поздравления молодых, лафит для дам — его назвала сама Амалия Карловна, и ром для гренадер — не ставить же им водку!
— Вот, братец мой, недаром она Шток зовется — разом все наши поползновения отбила. Осталось нам только о своих туалетах думать, чтобы перед модистками лицом в грязь не ударить, — шутил Жандр, рассказывая Иванову о своем визите.
Зато гренадеру за дни, оставшиеся до свадьбы, дел выдалось немало. Квартиру нанял на Мойке, напротив задов Конюшенного здания, во дворе, на третьем этаже. Сторона солнечная и по другую сторону флигель двухэтажный. Места на двоих довольно — две комнаты и кухня с русской печкой. На дворе от хозяина сарайчик, в нем три сажени березовых дров от прежних жильцов, которые тут же сторговал. Для обстановки полковник приказал выдать два стола, две кровати, четыре стула, диван, две табуретки и лавку, шкап и комод. Всё под масляной краской, но новое, и разом перенесено в квартиру молодых будущими шаферами-гренадерами.
Потом по списку, составленному Варварой Семеновной, покупал венчальные кольца, медные подсвечники, ложки, вилки, тарелки, миски, чугуны, горшки, ухват, рукомойник, ведра, корыто, ушат. Перечислить все можно скоро, а попробуй-ка между дежурствами и караулами все выбрать, купить и переносить к месту. Да еще вечером забежать на Пантелеймоновскую и от суженой тоже снести в новое жилье то зеркальце и подносик, то пару утюгов, то занавески кисейные на окна, то, наконец, перину с подушками.
Накануне венчания, в субботу, отпущенный из роты на неделю Иванов провел полдня в новой квартире. Вытопил печи, вымыл полы, сходил выпариться в бане; возвратясь домой, блаженно подремал часок на диванчике, подмостив еще конногвардейскую спальную принадлежность, а как стало темнеть, отправился в Графский трактир, куда позвал на мальчишник четырех шаферов и взводного Тарана. Ели жареное мясо и гуся, выпили полтора штофа перцовки — благородно, рюмочками. Все вели себя чинно и только раскраснелись да Павлухин прочел такие вирши:
Савелий продолжал бы и дальше, таких строчек он мог наболтать без счету, но Варламов дернул его за локоть и сказал:
— Полно тебе, сорока! Сам знаешь, что не к месту плетешь. А ты, Александра, расскажи толком, как все было, а то от девок полковницких дошло, а небось мы поближе тебе будем.
И еще раз перерассказал Иванов их с Анютой историю. Гренадеры слушали тихо, крякали и качали полуседыми головами, а когда принялись за чай со сладкими пирогами, то Тимофей Таран сказал Иванову за всех:
— Да, брат, тебе точно суженая вышла, и что ее беречь сумеешь, мы на то надеемся…
На Мойке, прощаясь, долго обнимались — всех стало развозить. Наконец гренадеры пошли к Мошкову, а Иванов завернул в ворота. Открыл дверь своим ключом и не стал высекать огонь, чтобы зажечь свечу. Раздевшись, на ощупь лег на диванчик под старое одеяло, что чуть не перешло Полякову, и в тысячный раз подумал: «Да не сон ли?..» Но сунул руку под подушку, нащупал платок с завязанными обручальными кольцами. Вот же они! Выходит, верно сказала одиннадцать лет назад Дарья Михайловна, что «в сорочке родился». В боях не убит, Вейсман и Эссен не заколотили, в роту особенную попал, и всего удивительней — встреча с Анютой… Будто и про нее Дарья Михайловна говорила, что сыщет-таки суженую…
Следующий день прошел как в чаду. Только ранним утром было похоже на обыкновенную жизнь — мылся, брился и одевался, будто в дворцовый караул, только фабриться не стал — умный Таран накануне отсоветовал. А потом все делал по подсказке, хотя, кажись, заранее от людей вызнал и твердил, как урок.
Скудный свет серого дня в окнах придворно-конюшенной церкви. Благолепно-равнодушное лицо и отчетливый голос священника, басовые перекаты восклицаний диакона. Их облачения, фиолетовые, в золотых крестах, вспыхивают отблесками свечей, плавающих в кадильном дыму. И рядом — профиль Анюты над бледно-кремовым, в мелкую сборку воротничком белого платья, ее розовое ушко и разгоревшаяся щека, темные ресницы потупленных глаз.
Потом стол, сверкающий глянцем скатерти и посудой, расставленный в комнате, где работают обычно мастерицы. По одну сторону — они с Анютой, щека которой вдруг закрылась от него фатой, а напротив — ряд почетных гостей: Андрей Андреевич в мундире, а справа — в синем бархатном платье Амалия Карловна, по другую сторону от нее полковник наливает вина Варваре Семеновне в вишневом шелку и соболях, в то время как на ее тарелку с другой стороны что-то подкладывает поручик Лаврентьев. А слева от Андрея Андреевича — кругленькая полковница в голубом бархате с жемчугом рядом с господином Штоком в рыжем завитом парике, которому что-то басит капитан Лаврентьев, — офицеров посоветовал пригласить Качмарев. Рядом с Анютой — обходительный фельдфебель Митин, рядом с женихом — унтер Таран, и дальше — по два гренадера-шафера и пятый — Варламов. Концы стола пустые, около них поминутно мелькают барышни-модистки в разноцветных нарядах, все, кажись, красотки, так раскраснелись и стреляют в гостей глазами. Они не садятся, хотя приборы там накрыты, а подают, подкладывают кушанья, меняют тарелки.
Речи — пожелания молодым дружной жизни — сказали, вставши с мест, Андрей Андреевич и полковник. При упоминании, как и где молодые нашли друг друга, мадам Шток, полковница и Варвара Семеновна, как по команде, заморгали глазами. Потом гости закричали: «Горько!»— и Анюта впервые подставила ему губы, от которых не успела как следует отвести фату. Крики повторились, и тут уж он расчувствовал, какие они теплые и мягкие. Потом Иванов пил и ел, что ему накладывали и подливали соседи и барышни-модистки, с удовольствием поглядывая на свою и на Анютину руки со сверкающими кольцами. Когда все сидевшие на почетной стороне перешли в гостиную пить кофей и двери туда прикрыли, а за стол присели мастерицы, стало куда шумней. Подзадоренный товарищами Савелий, уже давно беззвучно шевеливший губами, встал с рюмкой в руке и произнес:
Все гости наполнили рюмки и снова закричали:
— Горько!
Когда молодые поцеловались, Анюта сказала шепотом:
— Ах, миленький мой, какие они смешные все и добрые!..
«Миленький мой»! — возликовал про себя Иванов. Ведь этак впервой его назвала.
И вот поднимаются по лестнице, едва освещенной сальной свечой в фонаре. Впереди Варламов и Таран несут корзины с подарками. Они навеселе, и Анюта хотя не говорит, но Иванов чувствует, что тревожится, как бы не обронили кран от красивого самовара, подаренного Качмаревыми, и еще пуще — не двинули бы об стену коробушку, в которой чайная посуда — подарок подруг-мастериц.
Как один счастливый день, пролетели пятеро суток, оставшихся от недельного отпуска молодого. Но и будни, начавшиеся за ними, оказались совсем не похожи на всю прошедшую жизнь Иванова. Радостно было на рассвете нести из «своего» сарайчика вязку дров и, войдя в кухню, увидеть Анюту уже перед печкой, жарящей на шестке блины или яичницу. Радостно в вечерних сумерках, стоя рядом у окошка, смотреть на зарю, гаснущую за белыми от снега крышами, над которыми вздымаются столбики дыма. А потом, уже при свече, сидя за щетками, исподволь поглядывать, как проворная Анютина игла простегивает матрасик из пакли, крытый синим плисом, которым придумала покрыть сиденье деревянного диванчика, или как, уже при двух свечах, сведя от внимания брови, кроит заказ Амалии Карловны..
Да разве можно перечислить все, что радостно делать и видеть людям, которые после многих лет тоски и одиночества наконец-то нежданно обрели друг друга! Радостно в будни и еще радостней в праздники. Радостно, когда за окошками солнце и когда все застлала метель. Радостно днем и ночью от одного ощущения, что наконец-то вместе. В эту зиму Иванов впервые в жизни часами бездельничал, просто глядя на свою жену и беседуя с ней, и не корил себя за безделье. Надо, надо было его душе напитаться досыта любовью, этой истинно живой водой.
8
Только раз в эту зиму, уже в феврале 1830 года, было нарушено обыденное течение их жизни. Нарушено всего на один день, но о нем Иванов вспоминал потом целых шесть лет.
Отправляясь на службу во дворец, Иванов обязательно заходил в роту. Идучи в караул за ружьем, стоявшим в пирамиде, и за патронной сумой, раз требовалось от ворот на канавку идти к Комендантскому подъезду строем. А когда шел на дежурство, полагалось сменить уличные сапоги на мягкие, которые должны быть сухими и чистыми при вступлении в наряд. Во всех случаях Иванов оставлял свою шинель на вешалке Варламова и на дежурство перебегал через двор в эрмитажное здание, по залам которого проходил на пост.
Однажды, сменившись в четыре часа с дежурства, он, чтобы переобуться и надеть шинель с фуражкой, зашел в роту, где в этот час было пустовато и тихо. На табурете у кровати Карпа лицом к входной двери сидел молодой крестьянин, который встал при появлении Иванова. Унтер рассмотрел русые волосы, курчавую бороду, карие глаза, свежие щеки. Широкоплечий, рослый. Одет в голубую домотканую рубаху, кубовые штаны, заправленные в валенки. Армяк, шапка и кушак лежали на кровати Варламова.
— Не узнаете, знать, дяденька Александра? — спросил он густым голосом, радостно ударившим в душу гренадера.
— Никак Михайло?
— Я самый…
Иванов обнял и поцеловал племянника, забыв, что испачкает его фаброй. Какие же крепкие плечи ощутил под руками!
— Откуль ты взялся? — спросил дядя, вглядываясь в новое и такое знакомое обличье. Как раз таким начал помнить отца и таким старший брат, отец Михайла, провожал его, рекрута.
— Пять дён, как приехали с Микитой Савельевым. Барин за добром послал, что сродственница по духовной отказала.
— Век не слыхивал, чтоб родня его тут жила, — удивился гренадер.
— Может, и он про ее забыл, да бумага пришла. Вот и снарядил нас приказчик Петр Яковлевич с собой ехать о двух дровнях.
— У вас и приказчик ноне завелся? Давно ли?
— Как барина паралик хватил, а Кочеток в бега ударился.
— Кочет сбёг? Ну и дела!.. Да ладно, скажи скорей, как дед с бабкой, твои отец с матерью, тетка да Степанида?
— Все живы-здоровы. Кланяться наказывали да сказать, что за тебя бога молят.
— Ну и ладно. Так обряжайся-ка да идем ко мне на квартиру. Я ведь ноне женатый, тут не живу.
— Сказывали Карп Васильевич, допрежь как им куда-то уйтить. Да можно ли мне, мужику простому, к тебе-то? Не заругает жена твоя? Верно, по-господски живешь?
— Ну тебя, пентюх! Надевай армяк, говорят.
Великое счастье мужу, хотя владеющие им часто того не замечают, когда во всем можно верить в жену, знать, что с ним единомысленна. Анна Яковлевна и бровью не повела, когда привел гостя в домоткани, не зная еще, что близкий родич. Встретила приветливо, мигом поставила тарелку, пригласила мыть руки, садиться и подала ужин. А как услышала, что мужу родной племяш, издалека приехавший, то, мигом накинувши на кухне салоп, выбежала на угол за свежими булками и кренделями. Когда же вернулась и увидела, что муж ставит самовар, то взялась колоть сахар. И все у нее споро, опрятно, весело.
Когда отпили чай, Михайло перечел, какое добро отказала Ивану Евплычу вдовая скопидомная тетка, что из того приказчик распродал по соседям, а что велел увязать на дровни — все больше одёжу, шубы, меха да сбрую. Рассказывал, как с первого дня просился сходить к дяде, да другой возчик простыл в дороге, все на печи охал, на постоялом, где пристали, а Петр Яковлич наказал неотлучно быть при конях и поклаже. А ноне Никита с печи наконец-то слез, вот и отпросился сначала в баню, а потом царскую роту искать. Видел, как ихних четверо в золотой одеже да в шапках мохнастых таково ладно во дворец прошагали. А завтра уж и трогаться им в Козловку.
— А кто же добро до вашего приезда берег? — спросил Иванов.
— Двоих дворовых последних барыня при нем оставила в домишке, который сымала. Братанов двух годами ей вровень. Они все и сберегли до недоуздка последнего.
— А теперь куда же те старики денутся, как вы уедете? — спросила Анна Яковлевна.
— В Козловку свезем. Они при том пожитке барину отписаны.
— Ремесла, видно, какие знают? — предположил гренадер.
— Один кондитер, сказывает, а другой за птицей певчей раньше ходил. Барину нашему оба как есть без надобности.
— Так что ж они там делать станут? — сокрушалась хозяйка. — Им бы тут лучше куда наняться да оброк платить.
— Стары, никто не возьмет, — уверенно сказал Миша. — Свезем уж. Сами хотят в епифанску земельку схорониться, раз оттуда мальцами взяты в барынином приданом…
— Ах, бедные старики! — качала головой Анна Яковлевна.
— А как же Кочет сбежал? — спросил Иванов.
— Прошлу вёсну барина паралик хватил, — начал рассказ Михайло, — вот и послал в самую Тулу за лекарем каким-то именитым. Денег сто рублев дал, чтобы того сряду привезть. На что скупой Иван-то Евплыч, а тут не жалел. А Кочет и сгинул…
— Так не пешой же пошел? На конях, поди, поскакал за лекарем? — перебил гренадер.
— Вестимо, на паре самолучшей и в бричке. А недели через три лошадей загнанных тех из-под Мценска полиция привела да полета рублей с барина за привод слупила. Откуда ж попали под Мценск? Разве туда ему на Тулу дорога? Вот и смекают мужики, что сбёг куда далече, раз барин, заступник его, при смерти лежал, да и деньги сверх ста рублей лекарских все, какие скопил у Ивана Евплыча, тоже с собою прихватил. А лошадей загнал да под Мценском бросил, новокупленных перепрягши. Кто ж его, вора, знает, что удумал. С деньгами ведь все можно.
— А откуль известно, что деньги скопленные с собой взял?
— Барин сам до каморки его дополз, всю обшарил. Да еще табатерку и перстень золотой с подызголовья взял.
— Какой каморки? — удивился Иванов. — У Кочета изба своя…
— Продал ее лет, никак, пять да к барину под бок перелез. Видно, страх его брал, что мужики спалят и на трубку свалят, которую и ночью, бывало, на крыльцо курить выходил. Да еще глохнуть стал, прослушать боялся, как вороги подберутся…
— А как же барин без тульского лекаря обошелся?
— С нашим, епифанским фершалом. Крови ему полну лоханку в тот раз отворили. А тульского лекаря будто Кочет сам барину нахваливал, чтобы без дрязгу отпустил далече отъехать, розыску сряду не объявлял… Отлежался. Рука тряпкой висит, ногу волочит, а в дому по-старому куролесит.
— А скажи, Михайло, послать деду с тобой денег? Надобно, поди. Вот ты, гляжу, без тулупа зимой.
— Есть у меня, дяденька, тулуп справный, да все мне как летом тёпло. А застыну, на дровнях сидевши, так пробегусь рядом и разом нагреюсь. Про деньги ежели сказать, то малость деду пошлите, чтоб праздник старому сделать. Прежние все помалу на хозяйство перевел. А много не нужно. И так барин с приказчиком богатеями водят. Ведь и сюда оттого нарядили, что кони у нас хороши. Ну, и я на других не кивал, раз тебя да город столичный поглядеть обнадежился.
— Когда ж завтра едете?
— Со светом. Как к ранней заблаговестят.
— И подарков никому купить не сумею, — пожалел Иванов.
— Дозвольте я кой-чего соберу для женского пола из того, что мне подружки надарили, — предложила Анюта.
— Собери, чего тебе не жалко, — согласился гренадер.
Когда хозяйка вышла, взяв одну из свечей, Михайло сказал вполголоса:
— Видать, добрую душу сыскали. Другая баба за окруты с жадности задавится.
— Добрей нет человека, — так же негромко ответил Иванов. — Ну, рассказывай. Все не разделившись живете? Тесно ведь.
— Все вместе. Дом с твоих денег новый срубили, прежнего просторней, а делиться дед не велит, раз земли у нас всего одиннадцать десятин на двенадцать душ, с детьми считаючи.
— А слыхал ли, почем душа крепостная у вас ноне ходит?
— Ежели на вывод аль еще как семьями продают, то на круг, сказывают, по шестьдесят рублей. Вот куда плох Иван Евплыч, а все не хотим, чтоб помирал. Кому-то достанемся? Хуже не было б. А после паралика да без Кочета дворовых одних обласкивает.
— А у тебя ребят сколько же?
— Нету ни одного. Не плодящая моя Степанида. Кабы нам расплодиться, то ушел бы от деда. А так все едино…
— Вот поглядите, годится ли? — сказала, входя, Анна Яковлевна и положила на стол нитки бус и бисера, ленты, мотки цветных ниток, два шелковых узорчатых платка.
— Прям царские обновы, — похвалил Михайло.
Когда собрался уходить, Иванов дал ему двести рублей из Аннушкиного капитала, который еще не снес Жандру. Обсудили, как верней их везти, и гренадер вспомнил про свой полотняный черес. Нашел его в полковом сундучке, уложили ассигнации, и, выйдя на кухню, Михайло подпоясался под нижнюю рубаху.
— Словно в тот раз, дяденька, — улыбнулся он. — А что радости будет, как расскажу про ваше житье да службу!
Иванов пошел проводить племянника, чтобы не заблудился в темном городе. Дорогой расспрашивал, кто жив, кто помер в Козловке, какие были урожаи, и уже недалече от постоялого двора, на Кузнечной, сказал то, к чему не раз мысленно возвращался:
— Неужто Кочет проклятый на бариновы деньги, на наши слезы где-то припеваючи живет?
— А чего ему? — отозвался Михайло. — У нас стариком никак бы не выжил. Двора нет, где бы зла не сотворил. Особо девкам да бабам с барином проходу не давали, а через то и мужиков пятеро сгубили. Двух в Сибирь да троих в солдаты не в зачет.
— И в нашем дому тоже было? Окроме меня то есть? — спросил Иванов. Ладно, что темно, а то бы племянник увидел, как свело дядины брови и сжались кулаки.
— И у нас, — прозвучало рядом. — Сестра Катерина тож силком от него вытерпела. Год не в себе была, едва отошла.
— Ох, жалко, не нашлось человека его порешить! — сказал Иванов не своим голосом.
— Может, и порешили, — кто же про то гутарить станет? — услышал он негромкий ответ. — Ведь так делать надобно, чтобы в Сибирь клейменым за гада не пойти. Бубнили про себя мужики: знать бы, что в другу сторону завернет, не в Тулу то есть, да там бы и подстеречь.
Они остановились у ворот, за которыми заржала лошадь.
— Меня наша Лысатка почуяла, — уверенно сказал Михайло. — Ну, дяденька, прощения просим. Спасибо за привет, за ласку, за гостинцы. Хозяйке своей поклон низкий от меня отдай…
Они обнялись. Михайло застучал кольцом калитки. Иванов дождался, пока его впустили во двор, и зашагал назад. Он не любил нарушать порядок — в будние дни нижние чины не должны показываться на улицах после поверки. Хоть дворцовые гренадеры — особь статья, а все же… Пошел, выбирая улицы поглуше — Шестилавочную, Кирочную, — и вспоминал давеча услышанное: «Кто ж про то гутарить станет?.. Ведь так надо делать, чтобы в Сибирь клейменым не угодить…» Спроста ли так сказал? Аль что знает, да молчать умеет?.. Да нет, живет злодей где-то на бариновы деньги здоровехонек, торговлю завел, жиреет, женился на богатой… И ловко предлог сыскал, чтобы из Козловки сгинуть, будто с возвратом, чтобы в разделку мужикам не попасть, когда заступника его, Ивана Евплыча, не станет…
В следующие вечера Иванов подробно рассказывал жене про свою семью. И Анюта, хотя жила не в раю, видела кругом немало жестокого, ужасалась подневольной жизни крепостных, ставших теперь ее родней. Когда заговорил о встрече с барином, с Кочетом и Мишкой-подростком в Лебедяни, как узнал тогда о судьбе Даши, то думал, что Анюта заплачет, так побледнела и закусила нижнюю губу, уронив шитье на колени. Но она только подперла ладонью лоб да так и сидела, уставясь в доски стола, пока признавался в тогдашних мечтаниях, как порешить бы злодея. Потом добавил еще, что сказал Мишка дорогой на постоялый, про сестрино горе. И тут Анюта сказала:
— Если зверей лютых убивать не грех, то и такого злодея…
— Самое бы справедливое, — согласился Иванов. — Да вот как хитро из Козловки ушел. И в новом месте еще сколько зла натворит.
Помолчали и взялись каждый за свое: она сновала иглой, он вязал пучки щетины. Потрескивали фитили свечей, пел сверчок за кухонной печью. Молчание нарушила Анюта:
— А вы бы, Александр Иванович, полковнику при случае напомнили, что, ежели квартира откроется, которая семейным с детьми будет мала, так чтобы нас не забыли.
— Нигде лучше здешнего не будет, — сказал Иванов. — Оно только слышится важно, что в дворцовом здании, а все гренадерские квартиры на десятых дворах, куда солнце век не глядит.
— Зато при казенном жилье денег бы меньше шло, — возразила Анюта. — Я в том месяце восемнадцать рублей выручила да вы своим ремеслом не меньше. И надо бы жалованье ваше целиком Андрею Андреевичу передавать, а нам на свои заработки жить… Раз по шестьдесят рублей серебром за душу на круг берут, а душ там двенадцать, то сотен семь отдать придется. И ведь с усадьбой, со скотом, с землей выкупать надо. Куда им без хозяйства деваться? А у вас сколько в казне накоплено?
Впервые услышав от жены обстоятельное рассуждение про свои сокровенные дела, Иванов немного опешил. Но и обрадовался, еще раз убедясь, что рядом душа родная и ум не куриный.
— На серебро рублей под шестьсот, — ответил он. — Сей год не случалось Андрея Андреевича спросить, но, кажись, ассигнаций две тысячи рублей с чем-то… А насчет покупки с землей, с хозяйством твоя правда — проще место насиженное приобресть, чем землю покупать и заново строиться.
— У Андрея Андреевича, конечно, и копейка зачислена, — продолжала рассуждать Анюта, — а все бы лучше записывать, что к нему относите, чтобы самим в точности знать, когда время придет про выкуп думать. Долго ли записать? Вот бы в новую треть вы все жалованье да мои остатние снесли, а мы бы на заработок прожили. Может, булок да сахару поменьше съедим, а уже сыты будем.
— Ну нет, — сказал Иванов решительно. — Родичей своих я люблю и ноне надеяться стал, что из кабалы выкуплю, но чтобы для того в темное зауголье с тобою жить пошел и ты бы там глаза над шитьем слепила да еще булок недоедала, на то не будет моего согласия. Половину жалованья и твои сряду, изволь, Андрею Андреевичу отнесу и записывать обычай заведу, но чтобы мы по воскресеньям без пирогов сидели да твоим подружкам орехов да пряников не поставили — то уж нет!
— Так какая же помощь моя в деле вашем самом важном будет, ежели до меня вы на него больше откладывали? — спросила Анюта, и губы ее дрогнули. — Я обузой вам окажусь вместо помощи…
Иванов обнял ее за плечи и сказал:
— А такая помощь, что вечерами вместе, по две свечи зажегши, каждый свое успевать станет куда лучше, чем порознь бывало. Правда ведь? А что останется нестраченное хозяйкой моей за треть, то и отнесу господину Жандру…
Как же осветила жизнь Иванова быстрая, миловидная и веселая хозяйка! Случалось, конечно, что печалилась и плакала даже от домашних неудач — то упустила тесто, вылезшее из квашни, забыв о нем над спешным заказом, то, отвлекшись пригоревшей кашей, не заметила, что, казалось, негорячий утюг прожег платье, на счастье ее, старенькое, то в лавке обсчитали на пятак. Но и утешалась легко, особенно если муж об этом попросит.
Когда летом служба стала более легкой, а вечера длинными, они так налегли на ремесло, что, к торжеству Анны Яковлевны, укладывали все расходы в заработок. Но именно в это первое общее лето она хоть раза два в неделю вечерами выводила мужа погулять, уверяя, что так надо для отдыха его больному глазу и что Штокша выходит «подышать воздухом» в сопровождении супруга. На этих прогулках Иванов чувствовал себя поначалу как-то странно: еще никогда не ходил по улицам без дела. Но очень скоро Анюта, любившая смотреть на облака и зелень садов, на отражение их в воде — на все лучшее из неяркой петербургской природы, — сумела так показать все это мужу, что и ему открылись радости, которых раньше не знал.
Обычно гуляли по захолустным улочкам и набережным Петербургской и Выборгской, где меньше «чистой публики» и господ офицеров. Побывали на Смоленском кладбище и на обратном пути завернули к Полякову. Иванову хотелось показать свою Анюту, а ей — живописца, историю которого давно пересказал. Но повзрослевшая, почти что девица, Танюша сказала, что ушел недалече к одному художнику, — ежели подождут, за ним сбегает.
— Не надо, — решил Иванов. — Еще как-нибудь зайдем. А что здоровье его?
— Ничего-с. Все рисуют да рисуют.
— Не кашляет?
— Утром перхают, а днем ничего-с.
Двор возвратился в Петербург, ротная жизнь вошла в обычную колею. Караулы и дежурства чередовались для Иванова с перепиской то в фельдфебельской каморе, которую выгородили от Сборного зала, то в ротной канцелярии. В одной исподволь слушал, как Митин выговаривает гренадерам за опоздание на поверку, за то, что, хватив лишнее, шли от трактира, не застегнувши шинелей. А в другой — как полковник диктует Екимову бумаги, разбирает свары гренадерш или убеждает назначенного министром на должность ротного адъютанта Лаврентьева 1-го, что надо малость подучиться писать, а тот буркает, что к письменным наукам не способен и назначен в роту для одного строя. Качмарев уговаривал капитана, что зато теперь носит шпоры, которых не положено обер-офицерам. На это Лаврентьев отмалчивался, потому что любил щегольнуть, но за учение не брался. Хорошо хоть, Лаврентьев 2-й утешал полковника; кропотливо трудясь в полуподвале, обходился даже без помощи вице-писаря.
В октябре в Белом зале впервой производили разбивку рекрутов по гвардейским полкам. Вместо прежнего перевода отборных, уже обученных солдат из армейских полков великий князь Михаил решил, что следует все пополнение гвардии брать прямо из рекрутов. А отбор, требующий знания качеств, потребных каждой части, может производить только он сам в присутствии императора.
Иванов дежурил в этот день на посту, в который входил Белый зал, и видел, как унтера ввели в него сотни три парней, большей частью крестьян в армяках и лаптях, бородатых, обезображенных забритыми лбами. Прижимая к животам шапки, выстроенные в две шеренги лицом друг к другу во всю длину зала, они оторопело оглядывали золоченые люстры, мраморные колонны и паркет, середина которого оставалась блестящей, не тронутой их мокрой обувью, потому что опытные унтера вели гуськом вдоль стен, оставляя широкую дорогу для прохода начальства.
Но вот раздалась команда, все замерли и повернули головы в сторону зал на Неву. Идя рядом, показались братья — более высокий и стройный Николай и меньший ростом да еще нарочно сутулившийся Михаил. За ними — толпа генералов и офицеров.
Братья пошли по фронту. Каждый держал мелок, какими господа записывают счет на сукне ломберных столов. По очереди: царь — первого, Михаил — второго, царь — третьего, брат его — четвертого, метили новобранцев буквами на одежде, приговаривая: «Сапер… Павловец… Улан… Семеновец… Конногвардеец…» И тотчас офицер названного полка, выделясь из группы сопровождавших, оказывался около рекрута, чтобы передать его также мигом выраставшему рядом унтеру, уводившему «своего» к стенке зала, где постепенно выравнивались отделения и взводы. Иногда царь с братом останавливались перед рекрутом и совещались, куда лучше подходит по росту, сложению, по цвету волос и глаз. Иногда задавали вопросы и хохотали над ответами испуганного парня. А за ними, как эхо, смеялась свита, хотя не всегда слышала, что лепетал оторопелый рекрут.
Окончив разбивку, царь с братом ушли, за ними поспешили генералы и офицеры. Унтера повели команды к Иорданской лестнице. Лакеи, чертыхаясь, вытирали тряпками лужи, оставленные лаптями на паркете, который завтра чуть свет окончательно загладит артель полотеров. Скороходы с курильницами прошли по залу. Запахло смолкой, таял в воздухе синеватый дымок.
Иванов двинулся в обход поста, представляя, как идут сейчас под дождем в разные концы незнакомого им огромного Петербурга деревенские парни, для которых нынче началась солдатская доля с каждодневной руганью и битьем. Скоро узнают бедняги, что только одна треть новобранцев доживет до отставки…
Не поспели, казалось, оглянуться, а уже пролетел год, как чудом встретились, как обвенчались. Пролетел год в двух светлых комнатках во дворе на Мойке. Потерлись крашеные полы, потускнел, несмотря на чистку, самовар, разбились две фарфоровые чашки. А здешняя хозяйка нисколько не потускнела, а расцвела еще краше, стала звонче петь за работой, чаще смеяться — все оттого, верно, что в муже не ошиблась нисколько. И ему делалась все милей добротой, порядливостью, покладистым характером.
Хорошо и покойно Иванову дома, а во дворце в эту осень куда как тревожно. В конце октября заговорили, что вот-вот царь прикажет гвардии двинуться в какую-то Бельгию, где народ бунтует против законного короля. Но скоро про тех бунтовщиков забыли — восстание началось куда ближе, в Варшаве. Придворные господа шептались, что великий князь Константин, которого едва не захватили в постели, бежал из Варшавы под конвоем верных ему войск. Даже не пытался с этими полками сопротивляться восставшим, которых вначале было совсем немного. Верно Красовский говорил, что, кроме смотров, ни к чему не пригоден, раз ныне трусом оказался.
Восставшая Польша объявила войну России. Командовать армией царь назначил фельдмаршала Дибича.
Гвардия выступила в поход, и вскоре во дворце пошли невеселые слухи. Сначала у поляков было всего тридцать тысяч войска, но, пока наши подходили, набралось за сто тысяч отлично вооруженных в арсеналах, устроенных нами же на польской земле. Толковали, что Дибич не озаботился доставкой продовольствия, а польское население ничего не продает русским.
Рождество и новый, 1831 год прошли тихо. Из традиционных торжеств совершили только церковную службу 25 декабря да водосвятие в крещение — то и другое без военного парада.
В феврале отпраздновали победу под Гроховом. Слушали благодарственный молебен, над занесенной снегом Невой гремели пушечные салюты, взлетал разноцветный фейерверк. Но все чаще на улицах встречали женщин в трауре, с заплаканными лицами.
Весна наступила ранняя и дружная — в Польше разлились реки, распустило дороги. И по ним на театр войны потребовали осадную артиллерию, передавали — чтобы в мае штурмовать Варшаву.
А в роте шла обыденная жизнь: кто-то просился в отставку, кто-то крестил детей, холостяки опаздывали на поверку и получали нахлобучку от начальства. Потом случилось совсем плохое — тяжко заболел Карп Варламов. На рассвете понедельника вернулся из города без шинели и знаков отличия, в разорванном сюртуке, с глубокими ссадинами на щеках и шее. По темному времени этого никто, кроме дневального, не заметил, но соседи слышали, как он кашлял и стучал зубами: видно, не мог согреться. Утром отказался встать на поверку и обругал фельдфебеля зудой, когда тот уговаривал повиниться полковнику за гульбу. Качмарев на доклад фельдфебеля приказал не трогать Варламова, должно, ждал вестей из полиции, что набедокурил, но днем к дверям канцелярии подкинули узел — шинель Варламова с завернутыми в нее всеми наградами. Этой ночью Карп почти непрерывно кашлял, не давая спать целому взводу. На вопросы товарищей отвечал:
— Сам во всем виноват. С меня и взыщут, коли встану.
Отвезенный в дворцовый госпиталь, Карп горел сильным жаром, но был в памяти. Навестившему его через три дня Иванову показался плоской восковой куклой, остовом недавнего силача и красавца. Палата была небольшая, и две другие кровати пустовали.
— Опять, видно, писарей бить полез, — укорил Иванов.
— У лепщика господина Ковшенкова гостевал, — отвечал Карп еле слышно. — Он от государя за мой статуй награду получил и меня в честь того кормил-поил и золотым подарил. А дрался оттого, что погубителя дочки встретил. И трезвый не стерпел бы…
— Где же? Как? — спросил Иванов.
Варламов с натугой повернулся на бок, лицом к приятелю, после чего, отдышавшись, продолжал:
— Шел мимо Кадетского корпуса на Острову. Там около ворот, гляжу, писарь с молодкой пересмеивается, щекотит ее, а тут его из фортки кто-то и окликни: «Сладков! Идем, что ли?» Я уже было их миновал, а тут вернулся, в морду ему заглянул — тот ли?.. Вижу — беспременно тот: лицом чистый, глаза большие и зубы белущие бабенке скалит. Все ж таки для верности спросил: «Не Тихоном ли тебя звать?» — «Я и есть, — отвечает. — А у вас ко мне дело имеется?» — «Да, — говорю. — Я Фене Варламовой из Ярославля отцом довожусь». — «Никакой, — отвечает, — Фени я не знаю…» А сам побелел да задом к двери… Ну нет! Сгреб я его — да об тумбу каменную, что рядом торчала, харей, харей, зубками белыми, носиком хваленым раз да раз, так что мигом в крови захлебнулся. А баба та давай голосить: «Караул, убивают!..» Что ж, может, и убил бы, да тут писаря из дому набежали. Видать, там команда ихняя квартирует и куда собравшись, все приму ндирившись… Ну, и пошло у нас — дал я, кажись, каждому. Да ведь шестеро… В сени затащили, повалили, связали полотенцами мокрыми, как барана, рот заткнули, на ледник чей-то снесли и бросили… — Карп снова перевалился на спину, полежал, трудно и редко дыша, и закончил: — Утром куфарка чья-то пришла мясо брать с фонарем, так разрезала ножиком полотенца да встать помогла…
— Доложить полковнику, чтобы их сыскал? За такую расправу, поди, под суд пойдут, — предложил Иванов.
— Чего там… — прикрыл веки Варламов. — Я драку затеял, мне и помирать. Но и Тишке, сукину сыну, больше не красоваться…
— С чего тебе помирать? — возразил Иванов, хотя видел, что очень на то похоже; теперь Карп лежал, закрыв глаза, и едва приметно дышал. — Вот я от Анюты гостинца, пирожков твоих любимых капустных, принес да яблоков моченых с брусникой.
— Спасибо… Яковлевне своей кланяйся. Скажи, из всех жен гренадерских одну ее почитал… — Карп закрыл глаза, смолк и так долго не разжимал губ, что Иванов подумал, не уйти ли. Но только пошевелился, как больной заговорил: — Чего помирать?.. Оттого, что жить постыло… Ежели семьи путной нету, которой надобен, то хотя и куклой раззолоченной, а чем жить, когда совесть гложет?..
— Тебя-то? — удивился Иванов. — Какой куклой?.. И неужто за писаришку того совестью маешься?
— Не то… — нетерпеливо передернул щекой в запекшихся ссадинах Карп. — А всех нас, которые тогда на площади были, хоть и во дворец ноне взяты и в мебель золоченую из защитников отечества превращёны, совесть до смерти жалить должна… Как не поддержали братьев своих, не перебежали в ихние ряды, чтобы вместе на власти войной пойтить?.. Ну, офицеры молодые сробели. А мы что же?.. Правда, знать, даже у бывалого солдата разум в строю отымается… — Варламов опять смолк и закрыл глаза.
Иванов в страхе оглядывался — нет, слава богу, кругом пусто… А больной снова заговорил, уже совсем еле слышно:
— Ты полковника проси, что в ящике моего есть — рублей никак триста — сестре переслать. Как звать, помнишь?
— В Ярославль, во второй полицейской части, по Углицкой улице, в доме купца Бусова, мещанке Домне Васильевой Куриной, — припомнил Иванов, что писал на конвертах.
— Все верно. А от себя отпиши, как я его нашел и что с им сделал… Аль не надо?.. Ну, как хошь…
Через неделю отделение гренадер с опущенными в землю дулами ружей провожало катафалк с останками Карпа Варламова на новое кладбище при устраиваемой Чесменской военной богадельне.
Первые похороны в роте вызвали надобность испросить у министра двора, кто из чинов должен идти за гробом, — ведь при среднем возрасте в полсотни лет следующих ждать долго не придется. Приказано: за гробом гренадера 2-й статьи следовать отделению с унтером, а 1-й статьи — с фельдфебелем. Когда ж помрет унтер, то провожать взводу с обер-офицером, а ежели офицер — то всей роте. Родилось еще одно правило, тотчас выученное наизусть Петухом, который на учениях начал требовать, чтоб гренадеры отвечали и эти «пункты».
Вскоре после похорон один из лакеев, убиравший царские комнаты, сказал Иванову, что в государевом кабинете появилась статуэтка Варламова с ружьем у ноги. Поднес ее недавно мастер, который отливал, за что пожалован алмазным перстнем из Кабинета. Видно, на радостях и угостил гренадера в тот злосчастный день, когда встретился со своим недругом. Но вот, оказывается, жгла Карпа изнутри не одна злоба на дочкиного погубителя, а еще воспоминание о Петровской площади и унижение лакейской службой дворцовой. Всем виделся только кутила и драчун, а выходит, носил в душе особенные занозы, которые в последней беседе Иванову высказал… Теперь и его те занозы порой колют… А может, кто еще из гренадер их в себе чувствует? Но разве узнаешь?..
9
В мае отпраздновали победу Дибича под Остраленкой. Говорили, что теперь двинется на Варшаву. Но вскоре пришло известие — Дибич умер от холеры. Вместо него государь назначил Паскевича.
Как всегда во дворце, громко говорили одно, а шептали другое. Передавали, что фельдмаршал умер с перепою, и гренадеры верили, потому что прошлым летом не раз видели у Шепелевского дома, где жил Дибич, вызванный ко двору, как вечерами лакеи высаживали его из кареты с багровым лицом и несвязной речью.
А через полмесяца привезли депешу о смерти цесаревича Константина в Витебске, где почему-то оказался в стороне от военных действий. При дворе был наложен траур, но о покойном почти не вспоминали. Отчасти оттого, что шестнадцать лет прожил в Польше, главное же от слухов, что царь им недоволен. Причиной смерти объявили ту же холеру, а шептали, будто отравился «от огорчения».
Но сама холера не была выдумкой. Еще прошлой осенью толковали, что в окрестностях Петербурга случались заболевания этим страшным недугом, против которого бессильны все средства лекарей. А сейчас Качмарев получил приказ запастись трехмесячным продовольствием на всю роту и держать его в неприкосновенности на случай, если в городе появятся больные и дворец окружат карантином, настрого запретив выход в город. Гренадеры-артельщики, взяв пароконный фургон дворцового обоза, приняли из казенных магазинов и купили на рынке потребное количество муки, круп, масла, квашеной капусты, луку, вяленой рыбы и солонины да набили тем ротную кладовую и угол дворцового ледника. Но когда приказали сделать то же и семейным гренадерам, которые довольствовались дома, на выдаваемые деньги, их бабы закричали, что от несвежих припасов всех проберут поносы, да где видано в самое лето жить без свежей рыбины и мяса с зеленью? Пришлось полковнику пригрозить женатым, что прикажет переселиться в казарму, как в военное время, а жены, коль не нравится объявленный порядок, пусть немедля выбираются из дворцовых квартир. Тогда узнают, где верней от болезней укрыться.
Слушая такие распоряжения, Иванов тревожился: а как же Анюта? И спросил о том Качмарева.
— Мы вчерась так решили, — ответил полковник, — ежели будет ожидаемый приказ, то неси в ротный цейхгауз что поценнее, квартиру запирай и Анюту веди к нам на житье — всё рядом будете.
Двор выехал в Царское и заперся там, окруженный заставами из солдат на всех проезжих дорогах и пешеходных тропках, а по городу поползли слухи о заболевших. Конечно, умирали и важные господа, как графы Потоцкий и Ланжерон, которых знали во дворце. Но людей простого звания ежедневно валило сотни. В больницах открыли особые покои для холерных. Полиция расклеила объявления, в которых запрещала пить некипяченую воду, есть сырые овощи, приказывала обтираться уксусом и настойкой на стручковом перце, сообщать будочникам о заболевших желудком для помещения в больницы. По улицам громыхали черные кареты, в них запихивали корчившихся в судорогах холерных, а порой просто подвыпивших.
Уходя в роту, Иванов просил Анюту не выходить из дому без крайней надобности и сам покупал в ближних лавках все нужное. Но понимал, как тоскливо в такое время сидеть одной. Да еще лето выдалось жаркое, духота шла с чердака под железной крышей…
В начале июня из города стали передавать, что в холерные больницы тащат здоровых людей, чтобы обобрать, а оттуда уж никто не выходит, что в смоленых гробах на кладбище полиция по ночам отвозит еще живых. 6 июня купеческие «молодцы» и ломовые извозчики ворвались на Сенной площади в холерную больницу, убили нескольких врачей и фельдшеров, выбросили в окна лекарства. Полиция в страхе разбежалась. Рассказывали, что назавтра на площадь, где опять толпился народ, въехал в коляске сам царь и приказал разойтись, обещавши строго разобрать, кто виноват, что народ помирает. После того лечить продолжали так же, народу умирало не меньше, но зачинщиков беспорядка на Сенной перехватали и отправили в Сибирь или выслали из столицы.
Двадцатого июня коменданту Зимнего пришел приказ жителям дворцового квартала начисто прервать сношения с городом. В караульное помещение вступили две сводные роты гвардейских полков, вставшие на довольствие дворцовой кухни. Все подъезды заперли, ворота загородили рогатками с круглосуточными усиленными постами. Для курьеров назначили Комендантский подъезд.
В этот день Иванов с чувством облегчения перевел жену в квартиру полковника, жившего теперь в театральном здании, единственные ворота которого заперли наглухо, так что ходить туда стало возможно только через Эрмитаж и мостик над Зимней канавкой. Ежедневно наведываться к Анюте он совестился, но знал теперь, что она близко и не одна.
А 24-го из Царского привезли приказ всем дежурным гренадерам находиться на постах с ружьями и при боевых патронах на случай нападения на дворец «черного народа».
А народ и верно сильно «своевольничал», только не близко от толстых стен дворца. Из канцелярии генерала Башуцкого доходили сведения, что в Старой Руссе и Новгороде в военных поселениях гренадерского корпуса, кадровые батальоны которого ушли на войну, бушует небывалое восстание. Перебили больше сотни офицеров и лекарей, а трусливый генерал Эйлер, запершись в штабе корпуса под охраной послушных ему батальонов, только шлет царю плаксивые донесения о слишком малых силах для борьбы с восстанием. Потом, никем не руководимое, оно само стало затухать, и тут нагрянул в Новгород граф Орлов с гвардейскими казаками, и арестовали больше тысячи бунтовщиков. Съездил туда и царь. Начал заседать строгий военный суд.
А в Петербурге в это время чуть не ежедневно передавали, будто на Выборгской или Петербургской простой народ отбил у полиции здоровых людей, которых насильно тащили в госпиталя.
— Вот такая-то вольница беспременно и вздумает напасть на дворец, — пугал гренадер рьяный Лаврентьев 1-й, как сказывали, даже спавший эти недели в полной форме.
Он при Иванове советовал полковнику приказать и свободным от караулов гренадерам на ночь не раздеваться, но Качмарев ответил, что для службы полезней, когда хорошо отдыхают, рекомендовал самому капитану надеть сюртук и выходить курить трубку во двор, а не проверять без конца старых служак на постах.
Одним из развлечений обитателей дворцовых зданий в вынужденном затворе были учения пожарных рот. Выкатив из сараев сверкающие медью машины-помпы, эти проворные служивые катили их к заранее назначенному входу во дворец и, снявши с ходов, на руках вносили по лестницам в зал, где будто бы начался пожар. В это же время их товарищи так же поспешно раскатывали катушки с рукавами и, спустив одни их концы в люки колодцев, сообщавшихся с Невой, тащили другие к месту «пожара», где мигом крепили к ящикам насосов. И вот уже заухали, завздыхали машины, за коромысла которых схватились дюжие руки, и струи воды начинали бить, конечно, не на стены залов, а за растворенные окна, под которыми заранее выставляли махальных, чтобы упредить прохожих об учении.
А на другом дворе вторая рота также бегом катила складные лестницы, устанавливала на указанном месте, поднимала до второго этажа, а по ним взбегали пожарные с топорами и баграми, исчезая в растворенных окнах. Иногда на руках стоявшего на верхней ступеньке появлялась тряпичная кукла, изображавшая спасенного из огня, которую передавали с рук на руки до земли.
Кроме этих учений, в обязанности пожарных входила поливка растений в Висячем и Зимнем садах да в особенно жаркие дни еще и большого двора, его мостовой, накаленной солнцем.
Однажды на дежурстве Иванов смотрел из окна Аполлонова зала, как по Черному проезду пожарные раскатывали свои рукава. Проходивший полковник Качмарев, остановившись рядом, сказал:
— Вот, братец, труженики истинные. Нашей роте летом отдых, а они вон как носятся да над насосами потеют. Хорошо хоть, что командир ихний, капитан Шепетов, не вор. Кормит сытно и даже вкусно. Я однажды к ним вовсе невзначай взобрался посмотреть, как живут и довольствуются. Помещение — одно слово, чердак: летом жарища, а зимой холодно. Ну, да на нарах спать, сам знаешь, не смерзнешь, окроме фланговых. Нашим бы гренадерам многим в ихнюю службу вникнуть весьма полезно.
— Зато зимой, ваше высокоблагородие, больше нашего отдыхают, — заметил Иванов.
— Так только со стороны оказывает, — возразил полковник, — раз государь не любит, чтобы ихние невзрачные мундиры на глаза придворному сословию лезли. Но занятия у них круглый год. Там же, на чердаке, лестницы разные устроены, бревно, по которому с багром в руке перебегать должны. Потом по сараям с машинами да с рукавами заняты, проруби в морозы по колодцам во дворах соблюдают, на крыше посты содержат — под часами и над Иорданским да по отделению дежурят каждую ночь, не раздевшись. Конечно, с прошлого года им большое облегчение вышло, когда бак огромадный над министерским коридором установили. Но ведь ежели, не дай бог, пожар случится, то от него трубы только по парадным залам пока проведёны, а в остальных помещениях все равно ручными насосами орудовать. Чтобы весь дворец на новый манер обслужить, надо второй бак устроить уже над царскими комнатами. Однако когда еще соберутся, раз больно дорого обходится с машиной в подвале… Ну, счастливо тебе оставаться.
Пока они говорили, пожарные на Черном проезде раскатали рукава от двух колодцев и убежали куда-то. Остался один, который, прохаживаясь, поправлял уже круглые, налитые водой змеи.
Глядя на его серую мешковатую форму с синим воротником и погонами, Иванов думал, что учения у них сейчас хлопотные, но все легче, чем в строю, под каким-нибудь Эссеном. Что ж, что казарма на чердаке? Зато сыты и командир справедливый. А с баком и служба куда облегчилась. Прикрутил рукав к трубе, открыл крант да струю направляй. Уже сейчас, слыхать, приказано всю поливку садов производить из чердачного бака. Вот и меньше на триста ведер в сутки качать нужно. Остались только учения да поливка дворов. Каждые две недели англичанин, который во дворце живет, паровую машину в подвале топит и четыре тысячи ведер заново в бак нагоняет. А будет второй бак, на другом чердаке, так любой пожар, на двор не выходивши, затушат…
Вечерами на многочисленные дворцовые и эрмитажные дворы выходили жильцы этих зданий, которых даже после отъезда царской семьи с придворными и прислугой все же оказалось не менее тысячи. Грелись на солнце старики, вязали на спицах, шили и судачили женщины, играли дети, а мужчины передавали друг другу новости, доходившие из депеш, привозимых коменданту, или рассказанные самими курьерами о том, что видели и слышали.
Наиболее достоверное можно было услышать на большом дворе Зимнего, где прогуливались комендантские адъютанты, а порой и генерал Башуцкий. Иногда появлялся статный молодой барин — живописец Ладюрнер. Также начисто отрезанный от города, он писал по заказу царя в бывшей мастерской Дова какие-то картины. Щеголеватый француз то хохотал над чем-нибудь вместе с кружком офицеров, то, вынесши небольшой, набитый волосом кожаный мяч, ловко перебрасывался им со слугой, приговаривая всё одни и те же два русских слова, которые разделял на три: «Будем-раз-минаться!.. Будем-раз-минаться!..»
— Молодец француз, и холеры не боится, — сказал Иванов сменявшему его Крылову, глядя на эту игру из окна Белого зала.
— Известно: унылого и хворость легче берет, — отозвался тот. — Да и весь народ во дворе весел, чур, не сглазить бы…
Нет, он не сглазил. За два месяца «осадного сидения» в квартале Зимнего умерло трое, а в городе скосило десять тысяч.
Бог весть, сколько бы еще гренадеры дежурили с ружьями и патронными сумами, если бы в августе Николай не приехал из Царского посмотреть, что написал Ладюрнер. Прошел через Эрмитаж, и на подъезде два гренадера в полной боевой амуниции лихо взяли «на караул». Царь поблагодарил за службу, но усмотрел, что усы и баки стариков неровно вычернены. Когда, довольный картинами, он вышел от живописца, у двери ожидал полковник Качмарев с рапортом о состоянии роты.
— Холера почти прошла, — сказал Николай, — так отмени своим молодцам все боевые тяготы, но фабриться вели аккуратней. Седые солдаты во Франции модны, а я люблю брюнетов.
Через неделю сняли караулы с подъездов и половине гренадер разрешили отлучиться в город.
Хотя Иванов был дежурным, но между сменами отпросился у фельдфебеля проведать свое жилье. На дворе пахнуло хлоркой из раскрытых окон пустой квартиры первого этажа, где раньше жил портной с семейством. Дворник сказал, что все перемерли, и гренадер, поднимаясь по лестнице, с печалью вспоминал ребят, которым Анюта, возвращаясь с покупками, неизменно совала пряники или леденцы.
Замок на двери цел. Все в комнатах как было. Жарко, будто в бане… А коли навестить Жандра? Только узнать и обратно.
Дошел так быстро, что взмок под сюртуком. Поднялся по лестнице и обмер. Дверь квартиры заперта, от порога несет мерзким запахом болезни. Побежал в канцелярию с другого подъезда и от чиновников услышал успокоительное. Помер один лакей Кузьма, который тайком наелся яблок, а Жандр и барыня с остальной прислугой съехали в Павловск. Жалко и Кузьму, тихий был, всегда трудился по дому или чулки вязал… Ну, теперь скорей в роту!
Еще два дня задерживал переход Анюты домой, боясь заразы на своем дворе, потом решился. Конечно, поплакала о семье портного. Потом занялась уборкой. Откуда столько набралось пыли? Трясла занавески и покрывала на лестнице, мыла, скребла, к ночи едва довела все до порядку. А утром заторопилась на Пантелеймоновскую, откуда вернулась радостная: все здоровы. Умная немка установила порядок вроде дворцового — запасла продовольствия, остановила прием заказов и затворилась в квартире. Засадила всех мастериц за приданое для новорожденных: на это всегда есть спрос. Только одну старшую посылали в пекарню. Но и она оставляла в сенях верхнюю одежду и обувь, а хлебы и булки, проколов спицами, обжигали над огнем.
Но из заказчиц да их служанок несколько умерло. О какой-то Варе — горничной, жившей рядом, — Анюта малость всплакнула, рассказывая, как часто прибегала что-нибудь наплоить, подкрахмалить.
— Такая была добрая, — вспоминала сквозь слезы, — все, что ей барыня дарила, все нам раздаст. Вон у меня собачка без ножки на комоде стоит — то от нее.
А назавтра стала просить мужа сходить к Полякову.
— Побывай, Сашенька, успокой меня. После такой-то жизни несчастной и холерой помереть, когда только зорька вольная показалась. Ты сам мне про шейку его тонкую и носик вострый нарассказывал да как жевал жалостно и кашлял, что будто живого вижу, хотя, может, нет уж на свете! — И опять на глазах слезы.
Вот как раскисла за полтора месяца в чужом дому! Видно, с полковницей вместе по всем холерным плакали. Оно понятно, время страшное, но, должно, и дела в чужом хозяйстве настоящего не случалось.
Пошел не откладывая. В булочной купил большой пирог с маком. Отворила Танюша, совсем уж девица, в городского покроя голубеньком платье и сказала, что Александр Васильич дома.
Сидя у стола, Поляков чертил на большом листе. Он живо скатал рисунок в трубку и встал — худой, бледный, точь-в-точь как во время работы у англичанина. Радостно улыбаясь, сказал:
— Милости прошу, Александр Иванович! Счастлив видеть! — А сам быстро повернул тылом портрет, стоявший на мольберте.
— Ну, как учение идет? — спросил Иванов, садясь. — Сейчас-то передышка, верно?
— Учение идет ни шатко ни валко. Диплом, наверно, через год получу, звание дадут, — отвечал Поляков, усевшись напротив гостя, и, усмехнувшись, добавил: — Да не в нем же счастье-то.
— А в чем же? — удивился гренадер..
— В чем?.. Видели вы когда-нибудь, как лакей в господское питье половинки лимона выжимает? — спросил живописец. — Сок весь вытекает, а кожура и перегородки сухие остаются. Сбоку поглядеть — будто пол-лимона нетронутые, но то одна видимость — фрукта для помойки. Вот то же со мной мистер Дов сделал. Выжал весь сок, проклятый. Когда генерал меня ему отдавал, то хоть плохо, хоть на ощупь, но все же своим глазом увиденное мог написать, а как освободили от него, то целых три года в Академии только по указке профессорской кое-как за другими через силу тянулся, а дома, для души, ничегошеньки не выходило, пробавлялся для заработка, царя в труакаре отмахивая. Пропал художник — остался маляр… Впрочем, что же я? Вы сами всему свидетель. Даже, кажись, говорил, что думал было в Неву аль на крюк. Однако с год назад решил с колдуном побороться. Царя зарекся писать, стал только то изображать, что вижу. И вот… — Художник встал и повернул холст на мольберте.
С портрета смотрел он сам, в мятой рубахе под синим халатом, бледный, худой, как сейчас. И взгляд тревожный, напряженный прямо-таки уперся в гренадера.
— Похож ли? — спросил живописец.
— А как же! Только не говорит, — восхищенно сказал Иванов. — Одно — зачем же в халате-то? Лучше бы честь честью себя одеть.
— И такой есть! — рассмеялся Поляков. — Раз натурщик даровой — так у нас зовется, с кого рисуем, — чего ж его не помучить?.. — Он снял с мольберта портрет в халате и поставил другой.
С него смотрел он же, но во фраке со светлыми пуговками, с бантом под белоснежным воротничком, волосы приглажены, а хохолок впереди завит. Но этот портрет понравился Иванову меньше — не было того живого, пронзительного взгляда, что на первом.
А художник прошел к двери, накинул крючок и поставил на мольберт третий портрет. Девушка в голубом платье, коса с синей лентой переброшена на грудь, серьга блестит в розовой мочке уха и глаза широко раскрытые, чуть испуганные.
— Танюша! — сказал Иванов.
— Тс-с-с! — зашикал Поляков и пояснил шепотом: — Потаенно от хозяйки ее пишу, а то за бездельное сидение забранится. — И уже громко, с довольной улыбкой: — Так узнаете сих лиц?
— Как же! Бледноваты разве, подрумянить бы малость.
— Такие в натуре, — развел руками Поляков. — Ну, спасибо, Александр Иванович, ведь я их еще никому не показывал.
— А чего ж чертил, когда я пришел?
— То уже портрет общий замышляю, — опять понизил голос живописец. — Себя за мольбертом, а она передо мной сидит, когда ее пишу. Ежели бог поможет до конца Академии дойтить, так надо картину на звание художника представить… Так похожи? На то вся надежда моя была. Значит, переборол я все ж колдуна?
— Переборол начисто, на его генералов вовсе не схожи, — заверил гренадер. И спросил: — А как с вольной? Получил наконец?
— То и дело, что нет! — разом потускнел Поляков. — Все грызутся господа, что кому наследовать. И я заодно с бричкой да халатом генерала невесть кому достанусь. Впору в отчаяние прийти, когда думаю, что так и помру бесплодной смоковницей в искусстве и бесправным рабом в жизни. Ведь ежели бы, к примеру, девицу полюбил, то и жениться нельзя, ее в крепостную господ Корниловых разом обратишь, и за двоих оброк платить надобно, отчего еще крепче за меня ухватятся… — Художник снял с мольберта Танин портрет, поставил свой в халате и сказал уже другим голосом: — Ну ничего, раз писать свое снова начал, то, бог даст, вылезу из обеих ям… Да что же я? Чайку сейчас… Правда, окромя хлеба да сахару, ничего нет. Как зарекся царя писать, то и достатки оскудели…
— Да нет, тезка, я пойду, жена меня нонче рано ждет, наказала только про здоровье твое узнать да вот гостинец отнести, — поднялся Иванов. — Прошлое лето с ней приходили, да тебя не застали. А вот адрес наш запиши и сам приди вечером запросто. Жену мою увидишь, как чудно с ней встретились, расскажем.
— С удовольствием. Я с истинным удовольствием приду… — сказал Поляков учтиво. — А за гостинец прошу передать душевное спасибо. Что же записывать?.. На Мойке, дом Крупицкого, у Конюшенного моста, во дворе справа. Ах, места столь знакомые… Ну, спасибо, что ободрили. Точно похожи? Не отчаиваться мне?
Идучи домой, гренадер думал: «Вот так притча! Чтобы духом ободриться, портреты царские бросил писать, да с голоду не зачах бы без них-то… Похоже, что Таню неспроста пишет, и девушка будто хорошая. А вольной все нету. Но как такому, хоть и вольному, жениться, когда на один рот не запасти. Ладно, нынче не с пустыми руками пришел, хотя лучше чего посытней бы принесть. Ну, ужо к нам побывает, так Анюта употчует и с собой вкусного надает. Аль обидится теперь? Да нет, она сумеет…»
Дома впервой увидел жену лежащей на диванчике, правда с шитьем в руках. Сказала, что разболелась голова, но сейчас уже лучше. Подсел к ней, рассказал все про Полякова. Потом что видел посередь Дворцовой площади, где в прошлую зиму били сваи, так что во дворце стекла звенели, сейчас там кладут фундамент под памятник покойному царю. На него воротами натаскивать зачнут гранитные кубики человечьего роста, что лежат уже рядом. А на них будущим летом поставят сам памятник, который, сказывают, куда выше дворца. И работами всеми командует опять не русский, а француз, который сильно к царю в милость вошел. Он Исаакиевский собор строит да и тут поспевает.
…На другой день пошел к Качмаревым за оставленным скарбом. Полковница в который раз похвалила характер и ловкие руки Анюты, а потом сказала:
— Смотри, Александр Иванович, сейчас ее особенно береги. Знаю, что ты не как другие солдаты — грубияны, а все поласковей и носить тяжелого не давай.
— А чего же? — удивился Иванов. — Разве болела у вас, а мне не сказывали? Вот и нынче голова у ней…
— Ты и верно ничего не приметил? — спросила полковница. — И она тебе не сказала еще?
— Да что же такое? — совсем растерялся гренадер.
— А то, что через полгода трое вас станет… Простота ты, герой, кавалер!
— Да ну! — воскликнул Иванов. — А мне и невдомек!..
— Так теперь-то уж знаешь и береги, раз бог хорошую послал.
— Слушаюсь, матушка Настасья Петровна! Покорно благодарю!
Вот уж бывают новости, которые заслоняют весь мир. Не заметил, как дошел до дому. Удивительно, что не обронил вещей из узлов, которые впопыхах едва завязал.
— Что же не сказала? — корил Анюту, начавшую их разбирать.
— Да стыдно как-то, Саша. Рад ли? Ведь тебе новая обуза.
— Ну и глупая! Понятно, рад. Еще как рад-то! — ответил гренадер. — Да ты, гляди, пол больше не мой, я сам преотлично, в казармах завсегда бывало. И хлебы не меси. Полковница не велела тяжелого вздымать, меня кличь.
— Еще чего выдумали! — фыркнула Анюта. — Я уже с бабушкой-повитухой одной поговорила, которая такое лучше ее знает. Так она мне все по дому делать наказала, что допрежь делала. Ведь и не видать пока ничего. Ты небось не заметил?..
С этого дня, неслышно шагая дежурным по дворцовым залам, Иванов думал о новом, что ждало их с Анютой. И поворачивалось оно не только радостью. Все, что слышал в разное время о родах, теперь вспоминалось и тревожило. Первое — что Анюта не так молода и не так здорова, как бывают другие женщины. Как-то все пройдет? Или думал о судьбе ребенка. Ведь хотя служит в особой роте на высоком окладе, а все нижним чином. Значит, ежели родится девочка, еще куда ни шло, — ее судьба в том, как воспитают, чему выучат, за кого выйдет замуж. А мальчику дорога не страшней ли солдатской? Десяти лет оторвут от родителей, зачислят в кантонисты. Известно, сколько их мрет от болезней, сколько забивают учителя, пока узнает ремесло или выйдет в ефрейторы учебного батальона.
Полковник обнадеживает производством на первую же вакансию, раз грамотный, непьющий и по строю хорош, — тогда бы, понятно, дело иное: как обер-офицерского сына определят кадетом. Но ведь никто из нонешних унтеров в отставку не подает… Так что же выходит? Не имеет права солдат жениться, коли детям своим зла не желает?..
И еще: как же с мечтой о выкупе ближних? Ведь даже если Анюта сумеет делать все надобное по хозяйству, то на заказ шить уж никак не поспеть. Значит, придется прислугу нанимать, а ее кормить и платить хоть сколько-то надо.
Вот и опять дошел к тому же, что не след было жениться, нельзя дите родить. А мог ли от Анюты отказаться, когда сама судьба ее возвратила?.. Ну, так нечего тогда и на дальнейшее загадывать, раз изменить его не можешь и ни в чем не раскаиваешься. Служи по-прежнему, налегай на ремесло да Анютины труды облегчить старайся…
На свое счастье, Иванов принадлежал к людям, которые, не раз передумав о чем-то для себя новом и трудном, наконец приходят к решению, после которого не испытывают уже сомнений.
Так он и жил эту осень. В свободное от службы время без устали склонялся над щетками, носил из лавок покупки потяжелей и со двора — дрова да воду. А на дежурствах или в караулах, когда бывал один, молился, чтобы благополучно прошли роды, и думал, как назвать дите. Если девочка, то Марией, в честь Анютиной покойной матери, которую хоть не помнит, но чтит. Или Анной, в честь его матушки Анны Тихоновны. Матушка родимая! Двадцать три года не видал тебя… Закроет глаза и уж никак не вспомнит черт ее дорогих. Голос еще будто слышит, как сказки ему, а потом внукам, братним детям, говаривала. А ясней всего — как вскрикивала, когда отрывали от него, рекрута, отец с братом: «Ох, тошнехонько! Ох, кровинушка моя, Санюшка!..» До сих пор иногда во сне будто слышит тот ее вопль, что раздавался у Епифанской заставы… Ну ладно, полно себя бередить… Все делать и теперь надо, чтобы скорей их выручить, вот о чем думай… Гнись да гнись, гривну к гривне… Ну, а как мальца назвать? Беспременно Александром, в честь Александра Ивановича Одоевского, самого доброго и справедливого, кого знавал, и друга его верного, Александра Сергеевича Грибоедова…
…А жизнь шла и шла за стенами Зимнего дворца и по сторонам той короткой дорожки между Мойкой и Шепелевским домом, по которой торопливо проходил занятый своими мыслями Иванов. В начале сентября пышно отпраздновали взятие штурмом Варшавы. Польская армия ушла за прусскую границу и там разоружилась. Фельдмаршал Паскевич получил титул князя Варшавского и миллион рублей награды. Еще больше траурных платьев появилось на улицах. Говорили, что гвардейская пехота потеряла половину людей, что курьеры привозят все новые списки офицеров, которые не вернутся из похода. О солдатах никто не упоминал — и так все понятно…
На рассказ мужа про штурм Варшавы Анна Яковлевна ответила:
— Понятно, жалко наших, что там полегли. Но и то подумай, сколько еще поляков перебито. Много и там вдов и сирот.
— Нечего бунтовать было, — отрезал Иванов.
Но Анюта не согласилась:
— Кабы хорошо им жилось, то не бунтовали бы. Вот и в военных поселениях, сам полковник рассказывал, какова жизнь солдатам была, а крестьянам и того хуже. Вот и взбунтовались от тяготы. Ты же сам говорил, что господа самые справедливые оттого на Петровскую площадь солдат выводили, что простой народ жалели.
— Ну, то другое дело, — возразил Иванов, растерявшись от нежданной речи жены.
— Чем же другое? — спросила она. — Ты сам со слов Красовского, господина правдивого, говорил, что Константин Павлович плохой полякам был правитель. Вот довел их до бунта, а сам сбежал.
— Не нашего ума дело, — отрубил гренадер. — Ты не вздумай про то еще с кем толковать. Мне тогда знаешь что будет?..
— Нет, я с тобой одним говорю, что думаю, да в четырех стенах… А вот погляди-ка, каков чепчик сшила. Яблоко большое войдет ли? А говорят, аккурат такой надо, иначе велик будет и ушки оттопырятся…
10
В январе 1832 года Анюта родила здоровую девочку, которую назвали Марией. Крестили Андрей Андреевич и полковница Качмарева. Госпожа Шток из-за простуды не присутствовала на обряде, но прислала с мастерицами целый короб детского приданого.
— Разве одной маленькой столько надо! — охала молодая мать.
— Не ей, так братцам ужо пригодится, — смеялись подружки. — Мы все воскресенья для тебя старались. А Штокша материи да выкройки давала. Что в холеру нашили, все уже распродали.
На второй месяц девочка стала плохо спать, и полночи Анюта ходила с ней по комнате, мурлыча и закачивая, чтобы хоть не плакала, дала отцу поспать перед уходом в роту. А когда Иванов с утра не был в наряде, они не спали вместе над «бессонной кукушкой», как звали дочку, или прикладывались по очереди подремать. А ведь матери надо сходить на рынок, стряпать, стирать пеленки, отцу — нести службу, ремесленничать, помогать жене. Он-то, здоровяк, переносил сбитый дочкой порядок посмеиваясь, но Анюта за два таких месяца заметно осунулась. Однако про прислугу и слышать не хотела, пока Иванов по рекомендации Варвары Семеновны не сговорил четырнадцатилетнюю сироту Лизавету за четыре рубля в треть, еду и старую одежку от хозяйки.
Тут Анюте стало куда легче справляться — Лизавета оказалась быстрая и понятливая, да и дочка скоро перешла на ночной сон, может оттого, что мать стала спокойней. Анна Яковлевна заговорила было, что теперь следует отпустить прислугу, но Иванов возразил, что рубль в месяц — полторы щетки его работы, и девочку-сироту в кухонном тепле пригреть и накормить дело самое христианское, особенно если в помощь хозяйке старается.
Он говорил, а жена смотрела ему в лицо и вдруг спросила:
— А знаешь ли, насколь Машенька на тебя схожа? Как две капельки. Все твои крошечки обобрала.
Нет, никакого сходства Иванов не видел. Голова круглая, ровно колобок в русых волосиках, глаза голубые — ни в мать, ни в него — несмысленно таращатся, рот беззубый пузыри пускает.
— Ну как же! — не унималась Анюта. — Пойдем к зеркалу, я ее рядом с твоим лицом подержу. — Она подняла девочку, как сказала: — Да гляди же — и губы твои и брови…
Гренадер смотрел в зеркало на свое усатое скуластое лицо, обрамленное фабренными черными баками. Сколько же морщин прибавилось на лбу и у глаз! И от носа к концам баков протянулись глубокие, которых раньше не замечал. Оно и понятно: каждое утро бреется почти что на ощупь… А рот у девочки и верно будто схож с его, когда сложит губенки. Ну, а брови? Да нет еще никаких бровей, одни розовые валички. Выдумает же Анюта!
Сказать твердое слово насчет Лизаветы он не усомнился, но, когда во время дежурств оставался один, часто думал о том, как мало отнесет Жандру в ближнюю треть — всего рублей шестьдесят, — дело с вступления в роту небывалое. А живут совсем скромно. Как бы увеличить приход? В ноябре исполнится пять лет службы в роте, а царь при ее формировании даровал гренадерам право по истечении такого срока выходить в отставку с обращением в пенсию всего жалованья, для него 350 рублей. Так, может, выйти да заняться вплотную ремеслом? Спрос на его щетки всегда есть, значит, с них покроет домашние расходы, а пенсия целиком пойдет в «капитал»?
Полковник заметил, что его «вице-писарь» чем-то озабочен, и, проходя мимо его поста, спросил, все ли хорошо с женой, здоров ли. Гренадер выложил всю правду, только про казну у Жандра умолчал, сказал, будто доселе помогал родителям, а сейчас почти нечего стало слать, вот и думает об отставке.
— Не ты один то думаешь, — ответил Качмарев. — Мне прямо не говорят, однако знаю, что десяток гренадеров к ней готовятся. Но тебе того не посоветую, раз один из унтеров на той же стезе и ты первый кандидат на сей чин. А с нового года, окромя прапорщичьего жалованья, князь, мне сказывали, добавят нашим унтерам еще столько же порционных из Кабинета. Сряду перекроешь все, что можешь ремеслом заработать. И еще: раз женился, то обязан про судьбу своих детей думать. Вот мы с Настасьей Петровной, пока в нижних чинах служил, радовались, что деток нет, а ноне как бы утешительно дорогу им укатанную предоставить…
Конечно, такой разговор был пересказан Анюте, и супруги решили, что полковник прав: от добра добра не ищут.
В конце мая в канцелярии роты случилось неприятное происшествие. В тот понедельник полковник уехал в Царское с докладом министру. Екимову он поручил отнести бумаги в штаб корпуса, а Иванову — составлять табеля караулов и дежурств. Как часто бывало в отсутствие Качмарева, в его кабинетик между обходами постов пришел Петух и уселся у открытого окна с трубкой и листком «Русского инвалида». В это время гренадер принес переданное на подъезде письмо на имя командира роты.
— Читай, Иванов, вслух! — крикнул Петух, слышавший слова гренадера о почте. — Может, что спешное приказать надо.
Хотя «вице-писарь» знал, что так говорится для форсу, от безделья, но как отказать капитану? Войдя в командирский кабинет, вскрыл конверт, начал было читать и замялся, поняв, что такое письмо лучше прочесть самому Качмареву.
Только после повторного приказа он огласил, что вдовая ярославская мещанка Домна Курина осмеливается беспокоить его высокоблагородие, вопрошая, не оставил ли ей сколько-нибудь денег родный брат дворцовый гренадер Варламов, про кончину которого осведомилась через земляка, ездившего по торговому делу в Петербург и зашедшего в роту, где услышал печальную весть.
— Письмо сие удивления достойно, ваше высокоблагородие, — сказал, дочитавши, Иванов. — Я сам господину полковнику последнюю волю Варламова передал, чтобы деньги его, в ротном ящике хранимые, более трехсот рублей, оной сестре переслать, что тогда же, помнится, и приказали. Неужто на почте утаили?
— А деньги на отправку Екимов носит? — спросил капитан.
— Всегда он, — подтвердил гренадер. — У него и квитки оттуда, расписки то есть ихние, с казенными печатями хранятся.
— Ну, так он, шельма, и скрыл деньги, — решил Лаврентьев и посмотрел в окошко. — Вон, легок на помине, со стороны Графского марширует, где после казенного дела прохлаждался. Надеялся, что баба безграмотная про смерть братню не скоро узнает. Ты не отлучайся. Свидетелем беседы душевной станешь. — Петух отставил трубку, отложил газету: — Эй, Екимов, подь-ка сюды!
— Сейчас, ваше высокоблагородие, только бумаги казенные сложу. Чего изволите? — Писарь вошел и встал у двери.
— Ты на почту деньги относишь, ежели полковник поручает?
— Так точно. Если угодно, и от вас снесу.
— А ты ль отправлял прошлый год сестре Варламова покойного?
— Должно, я-с… В точности не помню.
Екимов увидел лежавшие перед капитаном конверт с письмом, и что-то дрогнуло у него в лице.
«Он украл», — подумал Иванов.
— Подай-ка квитки, которые на деньги с почты выдают, — приказал Лаврентьев.
— Слушаюсь… Да они таково мудрено писаны, ваше высокоблагородие. Может, завтра господину полковнику представлю?
— Мудрено, говоришь? — переспросил Лаврентьев, пристально глядя на вдруг побледневшего писаря. — Ничего, мы с Ивановым авось разберем, есть ли там квиток на Варламовы деньги, которые целый год до Ярославля дойтить не могут. Неси квитки!
Екимов вышел и, видимый обоим за отворенной дверью, порылся в ящике своего стола. Развел руками и вернулся к капитану.
— Не могу сыскать, ваше высокоблагородие, — сказал он. — Должно, у самого полковника заперты… Завтра, как придут…
— Завтра? — спросил Петух, медленно поднимаясь со стула. — Да ты знаешь ли, вша письменная, что деньги товарища, да еще покойного, украсть есть преступление, за которое в русской гвардии темную под шинелями делают, после которой кровью захаркаешь и за Варламовым следом пойдешь, только не на почетное воинское кладбище, а в мокрую яму, как дохлая крыса… — Он подвинулся к обомлевшему писарю, сгреб его за воротник длинными красными пальцами и тряхнул туда-сюда раза три.
Лицо Екимова побагровело, глаза выкатились от боли и ужаса.
— За что же, ваше высокоблагородие? Ведь я, ей-богу, ничего! — хрипло лепетал он.
Лаврентьев отпустил его и, обдернув узкий рукав щегольского вицмундира, сказал раздельно:
— А ежели ты ничего, так ступай в свою конуру, и чтоб через час, когда я с обхода возвернусь, на сей стол до копейки деньги Варламова были положены. А нет, то лучше сам в нужник ступай да удавись. Я тебя не помилую, и слово капитана гвардии Лаврентьева, что так по-преображенски отделаю, как вора бить положено у честных солдат. Понял? Ну, кругом!
Екимов выскочил из двери, схватил фуражку и убежал.
— А вдруг не он, Василий Михайлович? — усомнился Иванов. — И руки на себя со страху наложит. Говорят, с трусами бывает.
— Первое — что он, не сомневайся, — ответил Петух, не замечая вгорячах неуставного обращения. Застегнул портупею сабли и взял со стола шляпу. — А второе — коли и задавится, не велика потеря. Только такие твари живучи. У меня хватка ворам страшная — увидишь, все принесет, что у сударки в перине прячет.
Вернувшись, капитан приказал Иванову добыть огня раскурить трубку. А когда гренадер принес из кухни горящий огарок свечи, то его чуть не задул Екимов, выскочивший из командирского кабинетика, держась за ухо и щеку. А на столе перед не спеша садившимся Петухом лежала стопка ассигнаций.
— Вот они, Варламова денежки. У меня скоро. Ляпнул-таки подлюке разок, как стал молить, чтоб полковнику не сказывали, в чиновники дорогу не спортили. Чиновник!.. А ты помнишь ли, куда вдовице их посылать?
— Так вот же, ваше высокоблагородие, в письме писано, — указал Иванов.
— И то. Ну, и ступай-ка, братец, сей же час на почту, отправь их, чтобы с роты позор скорей снять.
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! А с господином полковником как же? Неужто ему не докладывать?
— Еще что? Скажу все сам. Надо другого писаря хлопотать, чтоб ворюги в роте не было.
— Так точно, — согласился Иванов и стал считать ассигнации.
Отправив деньги и возвратившись, он не нашел капитана в канцелярии — ушел домой, отдав ключ от двери дежурному по роте. «Вице-писарь» сел было за работу, но подумал о давешнем происшествии и о том, как шесть лет назад его самого обворовал музыкант полковника Пашкова. Неужто пошли ему на пользу те деньги?.. Потом вспомнил Дарью Михайловну, ее прекрасное лицо и ангельский голос, ведший за собой виолончель и фортепьяно… Где-то она? Сумела ли сделать что для крепостных полковника? Вышла ли наконец за него замуж?.. И как-то живет Красовский? Ведь и о нем почти с того же времени ничего не знает… Как далеко отошло все, что было до роты. Здесь будто вторая жизнь началась…
Как рассказал капитан командиру роты о случившемся, осталось Иванову неизвестно. Самолично пересматривая бумаги из писарского стола, Качмарев сказал, что Екимов лежит в госпитале; кажись, оглох на одно ухо.
— Вот каков медведь наш Василий Михайлович, — качал головой полковник, — хотя поделом вору и мука. Однако и я виноват — всех денежных отправок квитанции проверял, а тут, как на грех, запамятовал. По закону мне бы надо строгое взыскание объявить.
Новый писарь, присланный из батальона кантонистов, звался Федотом Тёмкиным. Безусый и худенький юноша внимательно слушал пояснения полковника, рьяно просматривал подшитые «отпуски» и через неделю делал все по должности вдвое быстрей Екимова. Сидя напротив него, Иванов видел, что не зевает в окошко, не слушает, что говорят по соседству, как, бывало, его предместник, а ежели пошлют куда с бумагами, быстро возвращается и вновь садится за работу. У Качмарева сразу освободилось время от канцелярских занятий. Но особенно повеселел, увидев, что Тёмкин пишет прекрасным почерком, будто печатает.
Федот еще не курил, не ходил по трактирам и, поселившись в роте, удивлял гренадер редкостным аппетитом и тем, что бесплатно писал им письма. В свободное время он читал книги, которые приносил приятель — тоже писарь, а то строчил из них что-то в тетрадку. Чтобы удобней этим заниматься, просил разрешения полковника в летние месяцы дотемна оставаться в канцелярии.
Добряк Качмарев часто хвалил Тёмкина, шутя приговаривая:
— Ну, Федот, ты самый тот!
А Иванову как-то сказал в отсутствие писаря:
— Вот, гляди, из кантонистов, а каков прилежный да тихий. Знать, зря про всех их хулу пущают. Чтоб ругнулся, никто не слышал, и с гренадер не корыстуется, как Екимов. Только не зачитался бы, не стал бы умствовать. Надо за почерк поскорей в унтера представить, чтобы раньше в чиновники вышел да семейством завелся. Ему галуны нашить куда проще, чем, скажем, тебе, раз писарь в роте унтер-офицерского звания положен.
Вскоре после этого разговора, завернув под вечер в канцелярию взглянуть на расписание нарядов, Иванов застал писаря смотрящим в угловое окно в даль широкой Миллионной и громко что-то приговаривающим, хотя был один в комнате.
— Ты чего гудишь? — спросил гренадер, вспомнив опасения полковника, чтобы «не зачитался».
— Виноват, господин кавалер, сам себе стихи читаю.
— Вроде, как Павлухин, складное лепишь, — догадался Иванов.
— Как можно-с?! — воскликнул писарь. — Павлухин глупости разные плетет, что на язык вскочит. А в сем дому читать никого недостойно, кроме господ Жуковского или Пушкина.
— Про Пушкина и я слышал да еще про Державина. А Жуковский, верно, ране тем баловались, теперь-то у них занятие другое.
— Нет-с, они и сейчас пишут. Тем на всю Россию прославлены и оттого как раз государю наследнику учителем назначены.
— Вот что! — удивился Иванов. — Ну, мне-то книг не доводилось читать. А вот не раз слыхивал, как покойный посол Грибоедов свое сочинение говорил, для театра писанное.
— «Горе от ума»? — воскликнул писарь. — Так комедия сия только в списках и ходит. Я ее семь раз переписал, на нее новые мундир и шинель справил. Но где вам счастье то досталось?
Иванов рассказал, как состоял дядькой при юнкере и, когда тот стал офицером, в дом его часто ходил, где Грибоедов по дружбе останавливался. Однако имен Одоевского, Бестужева и других не называл. Зачем парня смущать, ежели о них слышал?
— А Пушкин все ж таки у нас самый знаменитый, — сказал Тёмкин. — Вот уж истинно нет ему подобных! А их видывали?
— Нет. Где ж мне увидеть?
— То и дело, что как раз очень просто. Они к Василию Андреевичу часто приходят, раз первейшие друзья. Курчавые такие, быстрые, зубы белые видать, как смеются. По субботам всегда у них вечерами. Но летом, понятно, в Царском всё и там тоже пишут. Прошлый год с Василием Андреевичем сказки стихом вперегонки сочиняли. Про то пока понаслышке, в переписку не доставались… Мы с Федей, другом моим, прошлой весной их обоих на Адмиралтейском бульваре встретили и до сего дома проводили. Теперь понимаете, Александр Иванович, как возликовал, когда сюда назначили? Не раз, значит, обоих близко увижу. И господин Крылов, говорят, сюда жалуют, да на самый-то верх, с ихней толщиной…
— И что Пушкин пишет, раз его так славят? — спросил Иванов.
— У них всякое. И сказка про старину — «Руслан и Людмила», первое их большое сочинение. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…»— так оно начинается. И «Цыганы», и «Бахчисарайский фонтан»— про хана крымского и пленницу одну несчастную. И про господ нонешних — «Евгений Онегин». А недавно «Полтаву» выпустили. Вот уж где война — только ахнешь: «И грянул бой, Полтавский бой!..» Такого поэта, Александр Иванович, на Руси не бывало. У меня все для себя списано и заучено.
— А Державина что же не поминаешь? Тоже знаменитый был.
— Так они же раньше, до Пушкина, писали, и нонче их одни старики любят, — отмахнулся Тёмкин. — Разве ихние стихи так в сердце бьют? Да что толковать! Только послушайте, я из «Полтавы» вам прочту. Сряду почуете, каков орел воспарил.
— В другой раз когда, — отказался гренадер. — Надо мне домой скорей. Я ведь семейный, только поспевай с делами.
Тёмкин посмотрел на Иванова внимательно, потом сказал тихо:
— У Пушкина и против рабства стихи есть, «Деревня» зовутся. Их тоже, как «Горе от ума», никогда печатать не дозволят, раз против барства бесчувственного писаны.
— А ты знай молчи! — цыкнул гренадер. — За такой разговор полковник тебя не погладит, хотя добряк редкостный…
И когда уже вышел на улицу, подумал: «Вот и хорошо, что мальчишке не рассказал, как Рылеева видывал да слышал».
В июне по дворцу разнеслась весть, что государь разрешил офицерам без различия родов войск носить усы. До сих пор только легкая кавалерия имела такую завидную привилегию.
В тот же день Иванов убедился в правильности слуха, увидев инспектора артиллерии, великого князя Михаила, проехавшего на дрожках по Миллионной, с небритой несколько дней верхней губой. Ему-то, знать, братец заранее сказал про свое решение.
Назавтра в канцелярию пришел приказ, где было уже отпечатано про усы, а к вечеру от офицеров караула услышали, что парикмахер-француз изготовляет накладные и продает желающим скорей щегольнуть по три рубля серебром вместе с баночкой клея.
Прошло еще два дня, и узнали, что государь велел военному министру передать по команде — пусть растят натуральные усы, а не уподобляются актерам. В роте дворцовых гренадер последним распоряжением был огорчен один капитан, который поспешил купить и приклеить «французские», теперь едва отмоченные горячей водой.
Когда Иванов зашел навестить Жандра и рассказал о приключении Петуха, Варвара Семеновна сказала:
— Я так полагаю, что какая-нибудь дама, которая государю нравится, намекнула, что ему усы пойдут.
— Может статься, — согласился Андрей Андреевич. — Или на портрет Петра Великого взглянул и в том захотел ему подражать… Хорошо хоть, что казне сия «реформа» ничего не стоит. Когда орленые пуговицы в гвардии ввели, так интендантство разом двадцать пять тысяч рублей на них ухлопало… А ты, Александр Иванович, расскажи лучше, что с памятником делается? Мы давно на площади не бывали.
Да уж, этим летом гренадерам, дежурившим в покоях, выходивших на Адмиралтейство и на площадь, было на что посмотреть и о чем порассказать. С начала мая сотни людей, копошившихся, как муравьи, начали воздвигать огромный деревянный помост от берега Невы вдоль бульвара к площади, на которой он поворачивал к уже готовому гранитному пьедесталу высотой в четыре сажени. Помост этот, шириной в хорошую улицу, от Невы, где устроили особую пристань, шел плавным подъемом. Затем после поворота переходил в горизонтальный и упирался в сооруженную над пьедесталом высоченную пирамиду из бревен с мощными откосами и укрепленными наверху блоками. Это сооружение окружала деревянная платформа шириной в две трети площади и высотой до середины окон второго, парадного, этажа дворца.
Первого июля к пристани причалила барка, на которой лежала гранитная колонна, как говорили, самая большая на свете. Множество людей облепило ее, охватывая поясами из канатов, которые зачалили на вбитые в землю вороты-кабестаны, и по команде инженерных офицеров спустили колонну на пристань и с нее — на берег. Потом, перенеся снасть на кабестаны, установленные на помосте, втащили на него, и медленно-медленно, день за днем, колонна стала, катясь, подниматься по настилу к площади. Довели до поворота и отсюда потащили уже волоком будущим нижним концом вперед, к тому месту, с которого она должна опуститься в углубление на пьедестале. Теперь и простодушным зрителям, как гренадеры и лакеи, стало ясно назначение пирамиды из бревен, воздвигнутой посреди площади. Со стороны приближающейся к ней колонны сооружение это имело во всю высоту узкое пространство, в которое она должна войти, как в футляр, когда будет опускаться с помоста на свое место.
На 30 августа, день ангела покойного царя Александра, была назначена установка колонны. Вокруг пирамиды на помосте разместили шестьдесят воротов-кабестанов. За их линией раскинули шатры белого, красного и зеленого шелка для царской семьи, духовенства и придворных. Места в окнах окружающих зданий были заранее распределены, как театральные ложи. Передавали, что даже за впуск на крышу брали немалые деньги.
Караул дворцовых гренадер под командой Петуха был наряжен к царскому шатру. Иванов в этот день дежурил в залах, но в полдень, когда предстояло поднятие колонны, оказался свободен и сопровождал полковника Качмарева, которому министр разрешил с женой смотреть на площадь из пустовавшей фрейлинской квартиры в третьем этаже. Полковница взяла с собой Анюту, решившую отлучиться от девочки. Пришли как раз вовремя: по шестнадцати гвардейцев уже стояли у кабестанов, от каждого из которых тянулись канаты с блоком, укрепленным на верху пирамидального сооружения. Но колонна, опоясанная другими концами канатов, еще лежала неподвижно. Как только дворцовые часы отзвонили полдень, стоявший перед шатром царь, сняв шляпу, перекрестился, раздалась команда, и гвардейцы налегли на рукояти кабестанов.
— Тысяча пятьсот солдат от всех полков гвардии ее поднимают, — сказал полковник. — А высоты в ней двенадцать сажен…[70]
— Пошла, пошла… — зашептала Анюта.
Действительно, один конец огромной колонны стал медленно подниматься. Над площадью стояла полная тишина. Слышалось только поскрипыванье воротов и шуршание канатов, проходивших через блоки. Колонна поднималась, все глубже входя в свой футляр, и вот начала опускаться.
— Как свечу в шандал вставляют, — прошептала полковница.
— Да свеча-то в полета тысяч пудов, — отозвался Качмарев.
И вот раздалась новая команда, вороты остановились, солдатские спины выпрямились, и «ура» огласило площадь. Кричали гвардейцы, мастеровые, зрители. Едва не закричал с ними Иванов.
— Ай да молодец Монферран! — сказал полковник. — Чудо сотворил, да и только. Теперь все помосты сымут и пойдет отделка.
— Так неужто же, батюшка мой, так и стоять будет, ни к чему не прислонена? — ахнула Настасья Петровна.
— Сама же сказала — как свечка в шандале, — напомнил Качмарев, — ведь и там, ежели плотно вставить, то куда денется?
На площади все снова замерло. Сверкая облачением, из шатра на помост вышло духовенство — началось молебствие.
Предположение Качмарева подтвердилось. В октябре в отставку подали десять гренадеров. Это вызвало неудовольствие царя, оно было высказано министру, а тот выговорил полковнику, что гренадеры у него разленились — чего лучше такой службы здоровым старикам?
— Вот увидишь, — сказал князь, — полезут на печки да и окочурятся вскоре от безделья да обжорства. Солдат до смерти должен служить. Ведь мы с тобой небось не думаем про отставку.
Качмарев почтительно молчал. Он-то знал, в чем причина. Разве можно давать все жалованье в пенсию? Чего в караулах и на дежурствах тянуться, когда можно за безделье столько же получать? Да еще капитан надоедает вечными строевыми придирками. Но с ним-то ничего не поделаешь — царев любимец.
Через неделю в роту пришел приказ, что желающим отставка дана с пенсией в полное жалованье. Но отныне ее будут назначать иначе. За пять лет службы в роте — одну треть, за десять лет — две трети и за пятнадцать — жалованье полностью. Сообразили-таки!
А из унтеров никто не ушел. Для них из полутора тысяч годового жалованья даже при старом положении в пенсию шла только половина, а с порционными простись. И на дежурстве унтеров назначают только поверяющими посты, обходная неспешная должность. В караулах тоже только разводящими. Унтер Михайлов, у которого за женой взят постоялый двор на Выборгской, собирался в отставку, да и тот отдумал.
Относя в ноябре Жандру восемьдесят рублей, Иванов рассказал, что упустил выгодную отставку, и услышал такой совет:
— Держись за роту, Александр Иванович. Мне думается, твое офицерство вполне верное и, помимо большого жалованья, для замыслов твоих весьма удобно. Поедешь в отпуск и сторгуешь на себя, раз крепостными офицеры любого чина имеют право владеть.
«Оно все так, только дождусь ли унтерства? — подумал Иванов. — В покупке я на самого Андрей Андреича надеялся, но, понятно, на себя сподручней. Меня насчет хозяйства помещику как обвести? И с превосходительства запросит больше, чем с прапорщика».
Жандр, как всегда, спросил об Анюте, крестнице, службе.
— А вы про сочинителя Пушкина слыхивали, Андрей Андреич? — осведомился гренадер.
— Как не слышать! — воскликнул Жандр. — Высоко чту Александра Сергеевича как поэта знаменитого и знакомство с ним издавна вожу. Всю мне душу перевернул, рассказавши, как ехал верхом через Кавказские горы и повстречал гроб с телом друга нашего, которого в Тифлис хоронить из Персии везли на простой телеге тамошней трясучей… А ты с чего же Пушкина вспомнил?
Гренадер рассказал, как часто видит Жуковского во дворце и на лестнице Шепелевского дома и что слышал от Тёмкина.
— Да, Александр Иванович, эти двое — России слава истинная, — уверенно сказал Жандр. — Жуковский к тому же еще добряк удивительный. Вечно за кого-то хлопочет, деньгами помогает. Ну, а Пушкин — талант особенный, правильно твой писарек говорит. Что ни напишет — все подлинно прекрасно… Всегда жалею, что Грибоедов новым стихам его не порадуется… Вот так до сих пор все у меня на друга покойного сводится… — Жандр махнул рукой и помолчал. — Ну-с, какие у вас еще новости? — спросил он через минуту уже обычным бодрым тоном.
— Глядели, как колонну на площади вздымали. Полторы тысячи солдат за веревки тянули, чтоб куда следовало пошла… Правда ли, Андрей Андреич, что все приспособления француз тот придумал, который Исаакиевский собор строит?
— Не всё он один, — ответил Жандр. — Рисунок колонны точно его, и за отделкой наблюдать будет, но как ее поднимать, устройство помостов и воротов наши инженеры рассчитывали.
— А величается один тот француз. Про них ни от кого слова не слыхал, — огорченно сказал Иванов.
— Не печалься, — улыбнулся Андрей Андреевич. — Все же Наполеон против таких, как ты, не выстоял. И памятник хотя Александровским назовут, а всяк, на него глядя, тысяча восемьсот двенадцатый год вспомнит.
Вскоре после этого разговора в сырой предвечерний час Иванов в нижних сенях у канцелярии роты встретил Жуковского. Сняв шляпу, Василий Андреевич встряхивал ее от капель дождя и в то же время, обернувшись, слушал шедшего следом барина в теплом сюртуке, который что-то быстро говорил по-французски.
Иванов сделал фрунт и снял бескозырку.
— Здравствуй, друг мой, — как всегда приветливо, сказал Жуковский.
— Здравия желаю, Василий Андреевич, — негромко ответил Иванов.
— Ты никак всех здешних кавалеров знаешь? — спросил барин в сюртуке. Он также снял шляпу и встряхнул ее.
Иванов увидел завитки каштановых волос, ровные белые зубы и сообразил: «Вот Пушкин-то! Будто их уже где-то видывал?..»
— Со многими знакомство веду. В одном дому хлеб едим, из одного кошта жалованье получаем, да и соседи они добрые, — отозвался Жуковский, начиная подниматься по лестнице.
Гренадер повернулся и увидел Тёмкина. Видно, на голоса выскочив из канцелярии, он смотрел вслед ушедшим. Потом повернулся к Иванову и шагнул к нему со счастливой улыбкой:
— Видели? Они ведь и есть сами господин Пушкин!
— И я так подумал, — кивнул гренадер, — раз на «ты» обращаются. И, кажись, вместе во дворце их видывал. К фрейлине Россет в гости по Комендантской лестнице вздымались.
— А слуга ихний мне сказывал, что промежду себя ровно братья! — восторженно говорил Федот.
— Чей слуга? — не понял гренадер.
— Да господина Жуковского. Максимом Тимофеичем звать. Лысый, важный такой, но про барина своего любит порассказать.
Через несколько дней Иванов снова близко увидел Жуковского. В этот вечер во дворце пела знаменитая Генриетта Зонтаг. Придворная прислуга со слов господ передавала, что она недавно вышла замуж за какого-то графа и не будет больше петь на театрах, а только по приглашению, во дворцах. В Концертном зале перед покрытой синим ковром эстрадой поставили несколько кресел для императорской семьи и за ними пять рядов стульев для пожилых придворных. Молодежь слушала стоя или садилась на банкетки у стен. Дежурный по залам, выходившим на Неву, Иванов остановился недалеко от двери в Большом бальном и слушал пение. С его места была видна и сама певунья — красивая, стройная, в золотистом платье и с алмазным обручем в белокурых волосах. Голос у нее был истинно прекрасный — чистый, сильный и звучный, легко взлетавший на самые высокие ноты и красиво соединявшийся с мягкими звуками рояля, на котором играл седой иностранец. Но то, что пела, не очень нравилось Иванову — все какое-то очень веселое, будто шуточное, рассыпавшееся трелями и смехом. И слушатели все улыбались, видно, иностранные слова, которые ясно выговаривала, были под стать музыке. А ведь то, что пела когда-то Дарья Михайловна, звучавшее как благодарная молитва или надежда на счастье, пробирало Иванова до самого сердца. И сейчас снова вспомнил тот вечер на Литейной, подумал, где-то поет теперь, как ей живется?..
На ближайшей к двери банкетке, которую со своего места видел Иванов, скромно присел Жуковский. Он сегодня был в вицмундирном фраке и с орденом Владимира на шее. Слушал внимательно, смотрел на красавицу, порой улыбаясь добродушно, должно быть, тому, что выговаривала… Но вот, поднявши голос до самой высокой трели, от которой, кажись, звякнули хрустали в люстрах, она смолкла и плавно присела перед аплодировавшим залом. Потом сошла с эстрады за стоявшую рядом золоченую ширму.
Оставшийся у рояля музыкант, встав и поклонившись, сказал что-то публике, снова сел и начал играть очень грустное и, на вкус Иванова, такое душевное, что у него дух захватило. Глянул на Жуковского. И тому, видать, музыка нравилась: он прикрыл глаза и склонил голову. Но в это время сидевший в первом ряду император тихонько встал и, выведя из-за ширмы певицу, с легким поклоном открыл перед нею двери в Агатовую гостиную, откуда, все знали, слушает концерт болевшая горлом царица.
И тотчас по залу пошел гул почти несдержанного разговора, смешки и шелест одежды, шаги и передвижение стульев, почти заглушившие музыку. Иванов опять взглянул на Жуковского. Тот что-то шепотом сказал сидевшей рядом даме, но та, поведя обнаженным плечом, указала веером на окружающих. Василий Андреевич сморщился, как от кислого, и мимо Иванова вышел в Большой зал.
И почти тотчас к нему подошел седой сановник с тремя звездами на фраке, вышедший в зал сразу по окончании пения.
— Ну, какова новоявленная графиня? — восторженно сказал сановник полным голосом, хотя стоял около открытой двери в Концертный зал, за которой слышались звуки рояля. — Недаром слепец Козлов о ней писал: «В тех звуках мир непостижимый плененной памяти моей…»
Жуковский ответил не сразу. Сперва плотно прикрыл двери в Концертный, отошел от них шага на три и только тогда сказал:
— Да, поет она прекрасно. Но я не поклонник Россини, а когда этот прекрасный пианист начал играть моего любимого Бетховена и как только государь вышел, наша придворная молодежь так зашумела, что испортила мне все удовольствие. И перед артистом, право, стыдно; ведут себя, как в райке плохого театра.
— Э! Молодежь всегда легкомысленна. Будто вы были другим? — ответил, посмеиваясь, сановник. — А как галантно государь увел графиню! Видно, ее величество захотела похвалить ее пение.
— Да, государыня всегда добра и любезна, — наклонил голову Жуковский. — А по поводу извечного легкомыслия молодежи, то я воспитывался в провинциальной усадьбе, и там мне внушали уважение к творениям великих композиторов и к их исполнителям.
— Фу-фу-фу! Оказывается, и поэты умеют ворчать, — сказал сановник и, взяв Жуковского под руку, повел в глубь зала.
— А вы полагали, что у меня внутри один овсяный кисель? — донесся до Иванова недовольный голос Василия Андреевича.
Хотя зимой у девочки шли зубки и порой плачем не давала спать родителям и Лизе, жизнь все-таки наладилась: молодая хозяйка снова взяла у мадам Шток шитье, а Иванов в свободные часы склонялся над щетками. К пасхе он отнес в «казну» семьдесят рублей. Принимая их, Жандр заглянул в какой-то листок и спросил:
— Друг любезный, а знаешь ли, сколько денег мне переносил?
— Близко к трем тысячам ассигнацией, Андрей Андреевич.
— Правильно. С нонешними — три тысячи двадцать рублей или семьсот пятьдесят на серебро. А сколько требуется всего накопить?
— Полагаю, что, ежели не заломит барин несообразного, за мужиков-работников придется дать рублей по сту, за бабу в средних годах по пятьдесят, за стариков и малолетков по тридцать рублей. Так на семейство родителя моего из двенадцати душ уж сполна хватит накопленного. Но ведь надел ихний со всем строением и скотом также приобресть предстоит, чтобы могли и дальше с него кормиться.
— Значит, следует тебе еще рублей двести — триста серебром добавить, — заключил Жандр. — Крепись, Александр Иванович, не так уж много осталось.
Этой весной, когда по Неве прошел лед и только что снова свели мосты, Иванов встретил художника Голике. Толстощекий немчик шагал по Миллионной, блаженно щурясь на солнце и бодро выбрасывая вперед конец щегольской трости. Сразу узнал гренадера, остановился и спросил приветливо:
— Как поживаете, господин кавалер?
— Покорно благодарю. А вы каково?
— Отлично-с. Сейчас от одного коммерции советника расчет получил за портреты его с супругой. Очень им угодил, и полторы сотни золотом за пару мне вручили. — Голике распахнул добротную шинель и похлопал ладонью по карману панталон, где забренчали монеты. — И ведь как вышло: портреты закончил, на другой день назначили за деньгами приехать, а тут ледоход, мосты разводят, и две недели на Острове заперт — я лодками в ледоход боюсь ездить… Но вот пожалуйста, только что сделали мне полный расчет, даже лучше вышло, оттого что увидел свою работу уже в гостиной, в богатейших рамах висят… — Немец говорил и говорил, все щурясь на солнце, как сытый кот. — Они на Моховой собственный дом имеют, и я оттуда Летним садом прошелся, где первые листочки наблюдал, да сюда, в прежде столь знакомую местность… Когда хорошо поработаешь, то имеешь право и погулять. Не правда ли, господин кавалер?
— А то как же! — сказал Иванов неопределенно. Ему не нравился этот сытый хвастунишка, и он спросил, о чем думал с первой минуты встречи: — А как Александр Васильевич поживает?
— Поступки его мне непонятны, — поднял белесые брови Голике. — Вольную ему господа выдали. Сам государь за то золотую табакерку в три тысячи владельцу послал. Кажется, что лестней такого внимания для художника? А он все недоволен жизнью, все покойного учителя нашего сэра Джорджа поносит и ровно ничего не желает для заработка писать. — Немец недоуменно вздернул плечи и поправил пуховую шляпу, собираясь двинуться дальше.
— Так и верно ему от англичанина тяжко доставалось, — сказал Иванов. — Не зря же Общество попечения за него вступилось.
— Конечно, нам бывало весьма тяжело, — согласился Голике. — Но зато и выучились многому. Я так и рекомендуюсь заказчикам — ученик покойного сэра Джорджа Доу, почетного члена многих иностранных академий. И, поверьте, отчасти за такой титул по семьдесят пять, а то и по сто рублей за портрет беру. Вовсе не от Академии мое умение, курс которой закончил прошлый год, чтобы звание получить, — все от господина Доу перенято. Я даже портрет его по прежним наброскам написал, будто в саду на скамейке сидит. И тут же мы с отцом и двое моих деток резвятся с белым барашком, как у Иоанна Крестителя. А невдалеке в беседке жена моя…
— А как у Полякова с учением? — спросил гренадер.
— Можно бы счесть, что и он курс закончил. Но по строптивому характеру в Академии о документе не хлопочет. А во-вторых, хворает много — все кашляет да плюет. Я его больше к себе не приглашаю, у меня ведь дети. Ну-с, желаю здравствовать. Спешу на обед к нашему пастору.
На неделе Иванов собрался навестить Полякова. Анна Яковлевна, которой пересказал встречу с Голике, собрала корзинку разной еды — жареного мяса, пирожков, ватрушек, банку варенья.
— Скажи, что раз в гости не дозваться, так ты к нему по-прежнему, по-холостяцки, — наставляла она мужа. — Я, мол, посылаю, чем угостила бы. Или иначе придумай, чтоб не обидеть…
Но говорить ничего не пришлось — квартирная хозяйка сказала, что художник ушел не так давно, куда, не сказывал. А на вопрос о здоровье жильца ответила сердито:
— Был бы сыт да здоров, кабы лики царские, как раньше, купцу готовил. А разве с одного чая пропитаешься? Извел меня каше лью. Только глаза заведу — бух да бух! Давно бы отказала от квартиры, да жалею: куда такой пойдет?
— Дозвольте гостинцы ему оставить, — попросил Иванов.
— Тут на табуретку становьте, — указала хозяйка. — Комнату, вишь, запирать стал. Богатства свои берегет!
Гренадер ушел, жалея, что не застал Таню. Она бы пообстоятельней рассказала, особенно если без хозяйки. Хотя и так понятно, что дела Полякова нехороши.
В этом году Иванов пасхальной ночью дежурил в залах, ближних к дворцовому собору, и потому всю заутреню выстоял в Предцерковной, слушая прекрасное пение придворного хора. Служили торжественно, собор озаряли сотни свечей. У большинства собравшихся на лицах было праздничное оживление. Еще бы — к пасхе объявлен список пожалованных в следующие чины или орденами и уж обязательно всем чиновникам выдан лишний месячный оклад. Но Иванов чувствовал себя одиноко — ведь уже два раза встречал светлый праздник вместе с Анютой в Конюшенной церкви, а потом разговлялся дома под гудевший над городом перезвон колоколов.
Зато в этом году довелось увидеть церемонию, о которой только слыхивал. После заутрени царь и царица принимали поздравления от придворных кавалеров и сановников. Ей целовали руку, с ним христосовались троекратным поцелуем. Иванов обошел свои залы, вернулся, а они всё шли и шли к правому клиросу, около которого стояли государь с государыней. Рассказывали, что у царицы после этого обряда распухала рука, а у царя бывало измазано фаброй все лицо. В последнем гренадер убедился, увидев, как поспешно он нырнул в дверку, за которой находился умывальник для священнослужителей. Иванов про себя позабавился: государь будто бежал от тех, кто еще вздумал бы христосоваться. А гренадерам был памятен случай, когда наказывал седым погуще краситься. Сам же Иванов в эту ночь похристосовался только с дежурным пожарным, который, когда разъехались «особы», прошел по залам, проверяя, не забыты ли где непотушенные свечи.
Летом, как всегда, приналег на ремесло. Если бывал свободен, то целые дни сидел за работой. И впервые стал чувствовать, как к вечеру не только разламывает спину, но и плохо видит глаз — памятка об Эссене. Зато за три месяца выручил шестьдесят рублей.
Только в июле он снова собрался сходить на Васильевский. Анюта упросила взять ее с собой. Не хотел было — что хорошего увидит? — но она так умильно говорила, что, вместе побывавши, лучше придумают, чем помочь бедняге, что уступил. Собрали снова целую корзинку хорошей еды и пошли.
На стук в дверь, обитую коричневым войлоком, никто не ответил. Потом с первого этажа крикнули, что квартира пуста и сдается. Расспросили и услышали, что хозяйку племянница уговорила переехать в Коломну, девушка, что прислуживала, вышла замуж за столяра на 5-ю линию, а художник съехал невесть куда.
Иванов не знал, где живет Голике, который мог слышать про Полякова, справляться в академической канцелярии было поздно, присутствие уже кончилось. Так и пошли обратно, неся корзину и любуясь вечерней Невой. Рассуждали, отчего так и не пришел к ним? Верно, стыдился плохой одежды, неудач своих, кашля.
Беседуй, гренадер, с женой, любуйся городом, да не пропусти офицера, вовремя сделай ему фрунт, поставив ношу наземь. Хорошо, что гвардия в лагере — не так часты на улицах эполеты.
11
Маше исполнилось полтора года. Резво бегала и сама влезала на стулья, так что пришлось заказать деревянные решетки, которые вставили в открытые оконные рамы, чтобы, грехом, не вывалилась. Говорила много выученных от взрослых слов и еще больше своих, непонятных. Играла охотней всего с подаренной Амалией Карловной куклой, сшитой из замши и одетой в шелковое платье, которую сама назвала Катей и без нее не хотела засыпать.
Однажды, когда гренадер сидел за обычной работой, Анна Яковлевна, подойдя, слегка дотронулась до его плеча, он повернулся. Маша стояла около дивана, на матрасик которого посадила Катю, и старательно трясла одну за другой тряпочки — куклины одеяльца. Потрясет, что-то приговаривая по-своему, заботливо-поучительное, и расстелет на диване рядом с Катей, разгладит обеими ладошками. Потрясет вторую тряпочку, третью и все раскладывает одна на другую. Потом начала завертывать Катю во все это, приговаривая уже иным тоном, успокоительно, как бы увещевая не плакать.
— Полтора года, а как играет разумно! Видел, как старалась, вытряхивала? — спросила Анна Яковлевна.
— Как вы с Лизаветой столешник трясете или белье катанное стелете. И как ее же спать укладываете, — заметил Иванов.
— Все так, но умница какая! Ребеночка своего в чистое завернуть старается. А вот ленточкой перевязать еще никак не выучу. Ручки не слушаются, — рассказывала Анюта. — Но вижу, скоро все сумеет. Как пять лет станет, ты ее грамоте учить начнешь.
— Ужо разбогатеем, учителя наймем, — пошутил гренадер.
— Их на другие науки, — согласилась Анна Яковлевна, — а по грамоте сами справимся. Я пока Лизу буквам учу, раз просит.
Как-то в воскресенье позвали обедать двух подружек хозяйки и Тёмкина. Варить супы с клецками или с лапшой, печь вафли и кухены, поджаривать и молоть кофе Анюта выучилась у Штокши, а тушить и жарить мясо, загибать пироги и варить кисели умела с отрочества. После вкусного угощения Федот, по просьбе хозяев, читал наизусть стихи. Прочел «Кавказского пленника» и «Братьев-разбойников», растолковывая непонятные места. Читал без запинки, внятно, хотя и монотонно. Все слушали внимательно, даже Машенька на руках у Лизаветы таращила на чтеца круглые глазки.
С этого воскресенья повелось, что писарь приходил к Ивановым после обедни, а уходил под вечер, почитав стихи Пушкина или Жуковского. О том, что услышали, Ивановы толковали не один день. Гуляя с дочкой, Анна Яковлевна стала прохаживаться у Шепелевского дома и скоро по рассказанным приметам узнала Василия Андреевича, удостоверилась, какой приветливый.
А как-то зайдя под вечер в канцелярию, Иванов застал присевшего около стола, за которым занимался Тёмкин, толстого мужчину в серой шинели, не раз до того виденного в подъезде. Увидев гренадера, он кивнул писарю и неторопливо вышел.
— Не господина ли Жуковского слуга? — спросил Иванов.
— Они-с, — подтвердил Тёмкин.
— Никак спугнул я его?
— Нет-с, они до вас уйтить хотели. Да как раз мне грустное досказывали про молодость Василия Андреевича.
— Что ж такое?
— Спросил я, отчего не женившись, хотя здоровье, достаток и чин — все имеется. А Максим Тимофеевич и рассказали, что в давние годы питали взаимную любовь с барышней, но, на горе, с дальней сродственницей. Были молодые оба, в кудрях, и деревня славная за барышней шла. Да матушка их не выдала, раз сродственники. Горевали Василий Андреевич, да так и остались холостые.
— Верно, матушка ихняя померла, чего ж теперь не поженятся? — спросил Иванов. — Аль как постарели, то и прохладились?
— Нет, барышню вскоре за немца дохтора выдали. Правда, за хорошего человека, но где же ему против Василия-то Андреевича! Такая история грустная, — заключил писарь.
Конечно, в тот же вечер гренадер пересказал жене, что услышал, и она опечалилась чуть не до слез, а потом сказала:
— А со мной ежели б так поступили, я б беспременно сбежала.
— Рассказывай! — сделал недоверчивый вид Иванов. — За шесть лет даже в Конный полк не наведалась.
— Оттого, что решила, будто не люба стала, если разу не показался. А кабы знала, что папенька тебя отвел, так не то что в Конную гвардию, а пешком в Гатчину иль куда дальше пришла, — ответила Анна Яковлевна. — Мне часто сдается, что и живу только с того дня, как на кладбище встретились. До того будто сон видела безрадостный. Али, может, тогда явь глухая была, а нынче уже пятый год сон счастливый?
И опять наступила зима. Затрещали в дворцовых печах и каминах березовые поленья, побежали от них трепетные дорожки по паркетам. Потянулись часы дежурств, караулов или письменных занятий и короткие счастливые вечера дома.
На крещение 1834 года в процессии, шедшей из дворцового собора на Неву для водосвятия, Иванов увидел нового придворного. В мундире, расшитом по груди золотыми галунами, с форменной шляпой под мышкой и при шпаге, в белых панталонах, чулках и лакированных туфлях среди камер-юнкеров шел поэт Пушкин. Гренадер порадовался: знать, царь его отличает, хотя чин не больно высок. Ну, выслужит и выше.
В феврале они оказались уже совсем рядом в часы торжественного богослужения в соборе. Зайдя в Военную галерею, дежуривший гренадер увидел Пушкина. В том же придворном мундире он стоял перед портретом фельдмаршала Барклая. Глянул мельком на гренадера, сделавшего ему фрунт, кивнул и пошел дальше. Конечно, это господин Пушкин, но лицо прямо другое. Идучи с Жуковским, был веселый, приветливый, а нонче губы накрепко склеены, брови сдвинуты и глаза ровно уголья горят. Прошел, и стало видно, что шляпу под мышкой сплющил, оттого что руки за спиной с силой сцеплены. Не по нему что-то — недаром один тут бродит.
Стоя парным часовым у дверей из Предцерковной в Статс-дамскую во время следующей торжественной обедни, гренадер не увидел Пушкина. Однако услышал разговор о нем. Началось с того, что кто-то совсем рядом назвал его, Иванова, по имени-отчеству. Понятно, сразу сообразил, что не его зовут, и, скосив глаза, увидел Василия Андреевича. Он, верно, даже не узнал гренадера, с которым часто приветливо здоровался, под фаброй и медвежьей шапкой. Повторив вполголоса то же имя-отчество, манил к себе барина в мундире и ленте, что стоял около дверей собора, куда не все и большие чины могли взойти за многолюдством съезда.
Тот, кого звал, приблизился, как ходят статские господа во дворце, — беззвучно скользя на мягких подошвах. Пожилой барин, но легкий на ногу, следом за отступавшим Василием Андреевичем вышел в Статс-дамскую, и тут они заговорили хотя вполголоса, но часовой слышал каждое слово.
— Опять твой крестник не явился, — укорял Жуковский. — Ко мне Литта давеча с претензией подошел, грозил государю доложить, что манкирует придворной службой…
— А я что могу сделать с характером африканским? — отозвался тезка Иванова. — Третьего дня зашедши, по кабинету моему ровно бес бегал, ярился. Уж толковал ему, толковал, что обязан терпеть сии обязанности, раз хочет в архивы сохранить доступ. А он одно твердит, что звание такое неприлично его летам. Как будто у нас остальное состоит в полной гармонии.
— Дело не в годах, — ответил Жуковский, — а в том, что в словесности он носитель славы национальной, о чем все образованные люди знают. И на тебе — камер-юнкер! Наравне с юнцами, у которых за душой одно родство со знатными невеждами. Хоть бы чин дали да в камергеры, и то бы самолюбие успокоило.
— Будто у нас все остальное в гармонии, — повторил, вздыхая, Александр Иванович и, помолчав, попросил: — Сходи ты к нему, припугни Литтой, он тебя одного слушает. И Натали скажи, может, она его доймет. Она-то не прочь на малые балы в Аничков ездить, красоту свою казать. Знаешь ли, Алексей Петрович Ермолов ее в декабре видел и мне недавно пишет: «Госпожи Пушкиной не может быть женщины прелестней». Старомодно выразился, но в сем предмете очень смыслит, старый лев.
— Какой же он старый? — возразил Жуковский. — Нас всего на пять лет ста ре. И силач какой! В прошлом году при мне по просьбе дам у Кикиных рубль желобком согнул. Его судьба тоже образец гармонии нашей… Ну, довольно шушукаться, идем на люди.
Возвратившись в Предцерковную, они встали средь господ, которые то перешептывались, то крестились, делая вид, будто молятся.
«Вот что! — думал Иванов. — Не по нутру Пушкину новый чин. Оно точно, что камер-юнкеры господа совсем молодые. А жена у него, знать, модница да прихотница, которая танцевать любит. Надо приметить ее, раз красавицей почитают. Может, хоть она на Дарью Михайловну схожа? Вот и средь статуй здешних такой не вижу, чтоб ту напомнила… Ох, тяжко становится стоять неподвижно, ноги, плечи ломит, — годы свое берут».
Покосившись на своего напарника Павлухина, увидел, что еле заметно шевелит губами: видно, опять набалтывает про себя вирши. Сейчас и глупостей его послушал бы для отдыху…
Когда через полчаса, по окончании обедни, сменились с поста и через пустые залы пошли в роту, Иванов спросил:
— Опять, Савелий, плел давеча?
— А я завсегда к концу смены, чтоб усталь менее чувствовать. Было б к чему зацепиться. Давеча услышал, как господин Жуковский про крестника тревожился, и давай подбирать:
А дальше пошло про Графский, чего ты и слушать не захочешь, — подмигнул Савелий.
— Верно, мне и того довольно… — засмеялся Иванов.
Увидя на другой день Тёмкина, гренадер передал разговор Василия Андреевича с каким-то своим тезкой, который доводится крестным отцом Пушкину, и что говорили про его жену.
— Что супруга Александра Сергеевича первейшая красавица, то я слышал, а вот что крестный отец ихний здесь пребывают, то впервой узнаю, — не без важности сказал писарь. — Но понятно, что старшие беспокоятся, раз таков горяч. Ведь господина Пушкина дед кровный арап были, у Петра Великого в денщиках, а потом до генерала дошли, прозвание только запамятовал…
— Все тебе Максим Тимофеевич, поди, рассказывает?
— Они-с, раз видят, что я стихи ихнего барина да господина Пушкина наизусть читаю и каждое слово в душу кладу.
А еще через сутки писарь поманил Иванова зайти в канцелярию, где они оказались одни, и сказал:
— Разъяснили мне, что барин тот, которого Александром Ивановичем кликали, Тургенев по фамилии. С юности господину Жуковскому близкий друг, но только в шутку зовутся крестным Александру Сергеевичу, потому что когда ихние родители в Москве проживали, то господин Тургенев их подросточком в учение отвозили в Царское. — Тёмкин понизил голос до шепота и продолжал: — А сами хотя превосходительные и на службе состоят, но у государя на заметке, потому что братец ихний в двадцать пятом году из главных были, только, когда на площадь выходили, за границу посланы оказались и сюда не вернулись, но заочно приговорёны.
— Ну ладно, молчи-ка, — сказал Иванов так же тихо, — да лучше про то и думать забудь. Не солдатское дело такое знать.
— Да что же, раз всем то известно. Они вот и во дворец по чину своему вхожи, — возразил Тёмкин.
— Мало ли кому что известно! — сказал Иванов. — А ты больше никому не болтай.
В конце февраля, сидя в канцелярии роты, Иванов строчил списки на разграфленных листах нарядов. За дверью раздалось шарканье: кто-то вытирал ноги от снега. Вошел господин в теплой шинели с черным мерлушковым воротником. Когда снял шапку такого же меха, гренадер узнал живописца Голике.
— Я пришел вас пригласить, господин кавалер, на похороны Александра Васильича Полякова, — произнес он с печальной миной.
— Спасибо, что известили, — вставая, сказал Иванов. — Доконала, знать, его чахотка?
— Именно доконала, — подтвердил Голике. — Последние полгода покойный кисть в руки не брал, отчего средства на похороны отпускает Общество поощрения художников, и я от себя прибавил. Завтра вынос из Андреевского собора в одиннадцать часов.
Если бы не присутствие Голике, Иванов навряд ли поверил, что в полутемной церкви перед ним лежали останки Полякова. Всегда был тщедушен, а сейчас острый нос и восковой лоб над запавшими глазницами — вот все, что выдавалось над краем гроба. Действительно, съела беднягу чахотка.
«Грех какой, что не разыскал его на новой квартире, — думал гренадер. — Так ведь и он не шел к нам, хоть столько приглашали. Чувствовал же, что от души зовем…»
Кроме Голике, проводить покойного пришли два художника — один высокий и угрюмый, посматривавший на упитанного немца далеко не ласково, и второй — среднего роста, с добродушным лицом, показавшимся гренадеру знакомым.
— Я про вас от покойного наслышан. Рассказывал, как заботились о нем еще во дворце, — сказал Иванову этот художник, когда пошли рядом за гробом по Среднему проспекту. — И особенно печально, — продолжал он, — что умер Поляков, когда уже преодолел тяжкие последствия тех лет, что копированием занимался. Такие годы для настоящего художника вроде яду и безвредны только для ремесленников. — Он кивнул на спину Голике, шагавшего у самого гроба на манер родственника. Прошли еще квартал, скользя по наезженной дороге, порой хватаясь друг за друга, и художник заговорил снова: — Когда еще поймут, что в академическом курсе от копирования только вред? Руку набивает, а глаз убивает. Одну натуру надо учить рисовать и писать красками… Покойному так претило по шаблону портреты писать, что голодать предпочитал… Впрочем, верно, вы сие от него самого слышали, — закончил он.
— Даже аттестат из Академии не получил, — подал голос высокий художник. — За неделю до смерти мне сказал: «Какой же я «свободный художник», ежели, кроме копий, ничего не оставляю?..» Строг к себе был… Не то что другие…
— А есть ли у него кто из родственников в Костроме? — спросил Иванов.
— Нигде никого, — ответил высокий. — Не раз говаривал в последние дни: «Хоть то хорошо, что по мне плакать некому».
Гренадер вспомнил, как после того как рассказал Анюте о приходе Голике, заметил ее заплаканные глаза. Вспомнил и Таню, которую Поляков еще девочкой угощал сахаром, а потом списал на портрете. И она всплакнет, как бы ни жила за своим столяром.
Когда на могиле установили деревянный крест, Голике, раскланявшись, первый пошел с кладбища. Остальные двинулись следом.
— Как ваш капитан поживает? — спросил общительный художник.
— Что ему делать? Командует — другого дела не знает.
— А мне показался добряком, обходительным, — удивился художник. — Когда в тысяча восемьсот двадцать седьмом году, сряду как рота ваша устроилась, я заказ получил галерею написать и в ней чинов во всяком обмундировании, то очень бы затруднился, ежели б не его помощь. Он людей отобрал и младшего офицера в полном параде позировать попросил, а себя изображать из скромности не велел. Сказывали, что та картина в Царском Селе, во дворце. Так что попрошу, коли не забудете, капитану почтение передать от Чернецова Григория.
— Так вы командира роты Качмарева помните, — догадался Иванов. — А он полковником давно произведен. То-то я вас будто признал, раз видел там рисующим, и Поляков около стаивал.
— И вот где снова встретились! А ведь как он тогда одушевлен был, что общество за него вступилось…
С начала этого года среди придворных обоего пола пошел негромкий разговор о введении дамских форменных платьев. Хотя, как всегда, такие разговоры шли больше по-французски, но прорывалась и русская речь, из которой гренадеры поняли, что эти платья будут чем-то похожи на сарафаны и такой покрой не всем нравится. При них прикажут еще носить подобие кокошника. И в таких туалетах все придворные дамы и все городские, по чинам своих супругов «имевшие приезд ко двору», обязаны будут являться на большие выхода и торжественные богослужения, на концерты и балы. При этом платья будут бархатные, нескольких цветов по рангам, с богатым золотым или серебряным шитьем и весьма открытые на плечах.
Стоя на постах, Иванов слышал отзывы на такие слухи. Два пятидесятилетних генерала, командиры гвардейских полков, пересмеивались в Белом зале, ожидая большого выхода.
— Вот будет табло, когда статс-дамы такие платья натянут! Одни пасхальными столами окажутся — ветчины и куличей вволю, а другие — гербариями Кунсткамеры, — веселился гусар.
— Зато на молоденьких налюбуемся, — возразил конно-гренадер. — При таком покрое ничего на вату не подложишь!..
В другой раз слышал, как старый сановник восхищался:
— Государь наш, сам лицо мундирное, не любит разнобоя в костюмах. Вот сряду и отличишь, кто фрейлина, а кто гофмейстерина. Опять же экономия — не будут на туалеты транжирить.
Но самый живой разговор вели рядом с Ивановым, стоявшим на посту, две молоденькие фрейлины.
— Не может и нас без мундиров оставить, будто мы солдаты какие! — возмущалась, бесцеремонно указав на гренадера, хорошенькая княжна Хилкова. — А я как раз мадам Бурден восхитительное платье все в мелких розах из синели заказала.
— Поспеешь до приказа Мишелю показаться, а то летом, — успокоила ее более рассудительная графиня Гейден. — По-моему, куда важней, что в новых платьях будем как днем, так и вечером. При свечах одна пудра нужна, при больших выходах — вовсе иная. И еще как-то неловко, что богу и свету один и тот же туалет адресован…
— А прическа! — не унималась Хилкова. — Извольте все под этот повойник-кокошник прятать. Ничего модного, нового, парижского — все на одно лицо. Такое насилие!..
В марте действительно вышел указ о бархатных платьях придворных дам — зеленых, синих, красных и малиновых с богатым золотым шитьем. Сходства с сарафанами не было, кроме того, что на белых шелковых юбках, которые надевались под расходившиеся спереди полы платья, нашивались в ряд сверху донизу золоченые пуговки. Но официально платья назывались «русскими».
С ранней весны 1834 года во дворце начались приготовления к переделкам в залах, расположенных южнее Иорданского подъезда. Стоя дежурным в парадных залах, Иванов видел, как царь толковал что-то и показывал на плане архитектору Монферрану, расхаживая с ним по небольшим комнатам, что находились между верхней площадкой лестницы и Белым залом. Потом от писарей гофмаршальской части стало известно, что французу велено устроить здесь залу с портретами фельдмаршалов и за нею — Малую тронную, в отделке подобную тому, что на Половине покойной царицы, стены по красному бархату заткать золотыми орлами. Но здесь за троном поместят портрет Петра Великого, отчего и зал станет называться Петровским.
Цель этих переделок была понятна всем. До сих пор процессии больших выходов из личных комнат, а также все приглашенные на придворные церемонии иностранные дипломаты и русские высшие чины шли через комнату кавалерийского караула и вторую, совсем бесцветную по отделке, — обе даже не имели особых названий, просто проходные, и все. Теперь же пойдут через залы, которые вместе с Белым и Военной галереей подготовят приглашенных к вступлению в величественный Георгиевский тронный или в сверкающий позолотой собор.
Передавали еще, что Монферран представил смету, рассчитанную на год работ, чтобы все сделать в кирпиче, мраморе и бронзе, но государь приказал обойтись суммой в пять раз меньшей и закончить к осени. 30 августа состоится открытие колонны, вокруг которой уже разобрали почти все временные тепляки, за которыми полировали камень и заканчивали прочую отделку.
Как только двор выехал в Царское, все двери в будущий Фельдмаршальский зал заперли и завесили холстами, чтобы оттуда во время работ не летела пыль. А со двора воздвигли тесовую лестницу, по которой в растворенное окно входили архитекторы, десятники, рабочие. В соседнее окно выставили стрелу с блоком. А к третьему подвели лоток, которым спускали вниз разобранные печи и стены, — будущий Фельдмаршальский зал состоял доселе из трех помещений. Все это немедля грузили на подводы и вывозили со двора. Потом стали поднимать в новый зал заготовленные по чертежам бревна, тес, кронштейны и перила для хоров.
Во время дежурств Иванов иногда вслед за проходившим на работы высшим начальством заглядывал в новые помещения. Теперь шла отделка и в будущей Петровской, в глубине которой плотники «вязали» полукруглую нишу с тремя ступеньками, ведущими к площадке для трона. Открыли дверь и в Фельдмаршальский, который обводили хорами и одновременно воздвигали заново половину одной из продольных стен. Часть ее, выходившая во двор, оказалась толще, чем ее продолжение, прежде отделенное перпендикулярной перегородкой. Требовалось их «выровнять», для чего поставили фальшивую стену длиной в восемь сажен, оставя между нею и старой кирпичной больше полуаршина пустоты. Сторону этой новой стены, обращенную к залу, заштукатурили, к ней, как и вокруг всего зала, прилепили пилястры искусственного мрамора и между ними поместили фальшивую дверь с зеркальными стеклами. Работы плотницкие, штукатурные, малярные, позолотные и паркетные шли в строгой очередности в две смены. Царь не раз приезжал осматривать сделанное и торопить, чтобы все было готово ко дню Александра Невского.
Колонна стояла теперь под огромным чехлом из парусины, и только у пьедестала, где крепили бронзовые рельефы, с утра до вечера копошились мастера, закрытые от зрителей и от дождя тесовым павильоном, да вокруг гранитных ступеней, спускавшихся от памятника к мостовой, устанавливали чугунную решетку.
Но прежде торжества, связанного с колонной, состоялось другое, на котором многие гренадеры почувствовали, как состарились за семь лет, проведенных в роте. 17 августа на Нарвской дороге открыли чугунные триумфальные ворота, поставленные взамен старых деревянных, через которые в Петербург в 1814 году вступала гвардия. Рота вышла с Миллионной в половине седьмого и в восемь примкнула флангом к новым воротам. Дальше, по Петергофской дороге, на пять верст стояла вся гвардия, которая за день до этого возвратилась из лагерей.
В девять показался царь со штабом и проехал по фронту, здороваясь с полками. Потом возвратился, встал через дорогу напротив дворцовых гренадер и скомандовал церемониальный марш, который открыла рота, пройдя триумфальную арку во главе гвардии. А когда, более не останавливаясь, пришли в казарму, сняли шапки, амуницию и мундиры да стащили сапоги, то половина гренадер повалились по кроватям и заохали, так разломило ноги, поясницы и плечи. Должно быть, полковник ожидал такого конца нонешнего похода: слезши с коня, на котором впервой ехал перед ротой, он прошел домой и не тревожил гренадер. Зато Петух дал себе волю. Краснорожий и бодрый, будто не шагал в строю всю дорогу, он сначала явился в одно полуротное помещение и отчитывал едва вставших при его входе гренадер. Гудел, что от пятнадцати верст марша без ранцев и патронов в сумках развалились, как богаделки, знать, теперь только и годятся в будошники, табак на продажу тереть. Наконец, посуливши им помереть от ожирения, как дохнут мопсы у старых барынь, перешел в другую полуроту и загудел о том же, похаживая между кроватями, у которых переминались гренадеры. Верно, оттого так здоров, анафема, что ничего, кроме строя, в башке не держит. Вон поручик Крот отшагал столько же на своем месте да и пошел в полуподвал к обычному делу…
В большие рамы Военной галереи наконец-то вставили конные портреты. Из Берлина привезли написанного там скачущего галопом короля прусского, а из Вены — едущего шажком императора австрийского. Ничего не скажешь — кони как живые. Только что не фыркают да стука копыт не слыхать. Один Александр по-прежнему остался на будто деревянном, неумело написанном мистером Довом. Проходя по галерее, Иванов рассматривал эти портреты и, понятно, вспоминал, сколько кружился около коней, не считая деревни, еще почти двадцать лет на кирасирской службе. А как обзавелся семьей, то и не стало времени заходить на придворную конюшню, хотя иногда даже снилось, будто едет верхом или задает корм в стойле.
Но вот ужо подрастет малость Маша, так с ней на руках сходит на конюшню, покажет, какие бывают красивые, с умными глазами, с мягкими бархатными губами. Вместе угостят, какого она выберет, посоленной краюшкой хлеба. А потом, еще когда-то, прокатит ее в санях с бубенцами, хоть на вейке масленичной. Ну, и Анюта с ними, понятно. Разрумянятся обе, засмеются… Эх, только бы дело свое до конца довесть, тогда и покутить можно…
А на площади шли последние приготовления. Перед окружавшими ее зданиями воздвигали многоярусные помосты для зрителей, выравнивали мостовую, по которой предстояло парадом пройти ста тысячам войска. Колонна стояла в странном балахоне, складки которого колыхал ветер. Гренадеры со своих постов в залах поглядывали на памятник и думали: «А не повалит его бурей, ежели вдруг с залива, как в наводнение, налетит? Вот сраму будет!»
В готовом к открытию новом Тронном зале за деревянным золоченым троном встал старого письма портрет Петра Великого, изображенного в боевой форме рядом с какой-то босой женщиной, кто говорил — со Славой, в этаком виде показанной, а кто — с женой, Екатериной, которая будто взята из простых баб. В Фельдмаршальском зале в позолоченных рамах поместили новые портреты Румянцева, Потемкина, Суворова, Кутузова, Дибича и Паскевича. Портреты в полтора человечьих роста, в ярких красках. Но, видно, чем-то не нравились заведующему картинами Дворца и Эрмитажа Лабенскому. Проходя по залу, он смотрел в пол и пожимал плечами. Сейчас заканчивали переделки и в Белом зале — по сторонам дверей поставили гипсовые группы древнерусских воинов, на копья которым развесили раскрашенные гербы губерний. Такие же гербы художники написали на падугах потолка, ими же украсили люстры и сам зал стали называть Гербовым.
Последнюю неделю работали с рассвета дотемна и к сроку поспели украсить весь путь большого выхода из личных комнат для первого торжества на огромный временный балкон, сооруженный во втором этаже против Александровской колонны, с которого должны смотреть церемонию придворные, иностранные послы и важнейшие сановники.
Тридцатого августа все прошло благополучно и красиво.
День выдался солнечный. Колонна и увенчавшая ее статуя ангела с крестом открылись зрителям под звуки военной музыки и оглушительное «ура». В этой церемонии дворцовым гренадерам отвели почетную роль. После молебствия они прошли за ограду памятника, где разместились по всем четырем его сторонам. И мимо маршировали полки, салютуя колонне и гренадерам — ветеранам войн с Наполеоном.
С этого дня у памятника был учрежден пост от роты, и потому штат ее увеличили на десять гренадеров и одного унтера, выбранных опять великим князем из заслуженных чинов гвардии.
На другой день после выхода этого приказа полковник Качмарев сказал Иванову, сидевшему за работой в канцелярии:
— Не тужи, вскорости, думаю, Сидор Михайлов в отставку подаст. Дошло до князя, что жена его постоялый двор держит, вот и велел передать, что негоже офицерше такое занятие. Она сдуру, вишь, там, в Мурине, требует, чтобы благородием ее величали. Приказано, чтобы либо постоялый прикрыли, либо в отставку шел. Можно бы, понятно, заведение на чужое имя перевесть, будто продать, так не соглашается баба глупая, а Сидор у ней под пятой. Словом, вчерась предварительно про тебя его сиятельству уже доложил.
— Покорно благодарю, ваше высокоблагородие! — ответил обрадованный Иванов.
— Рано еще благодарить. А слышал ли про новые сроки службы? — показал бумагу полковник. — В тот день, как монумент открыли, приказ подписан: увольнять в бессрочный отпуск нижних чинов беспорочного поведения, прослуживших пятнадцать лет. А которые пожелают на сверхсрочную остаться, тем жалованье удвоить. Нашей роты оно, понятно, не коснется, все далече за пятнадцать перемахнули, но прислали приказ, раз отдан по корпусу. — Качмарев повернулся к Тёмкину: — Как ты, грамотей, назначение сей меры изъяснишь?..
— Полагаю, ваше высокоблагородие, чтобы большее число обученных солдат в запасе иметь, — отрапортовал писарь, — и чтобы в деревни возвращать еще сильных жителей.
— Подходяще! — кивнул Качмарев. — Но вот, к примеру ежели бы тебя, Иваныч, десять лет назад отпустили, пошел бы в деревню?
— Никак нет. Тут своим ремеслом кормился бы, — ответил гренадер и увидел, что полковник, вдруг задумавшись, смотрит в окошко, мимо них с Тёмкиным. А потом повернулся и ушел к себе за перегородку, — должно быть, просто забыл о них. «Не иначе — про себя вообразил, как бы в иконописцы определился, если б в офицеры не произвели», — подумал Иванов.
Когда перед обедом он зашел в роту, у гренадер только и речи было, что о сокращении срока службы.
— В избу курную разве с горя пойтить, — говорил благообразный чистюля Кучин, — кто за ремесло, а кто — в услужение.
— Кому услуживать?.. Будто дворовых людей недостача? — мрачно басил всегда готовый поспорить Сергеев.
— А хоть бы в швейцары, коли ты видный собой да с регалией заслуженной, — выпятил грудь Кучин.
— Полки, что ли, швейцаров господам да по заведениям надобны? — взял сторону Сергеева гренадер Чайка. — Сколько швейцаров в столице? Сотни три? А солдат, верно, сряду тысячи из одной гвардии отпустят на свое пропитание. Не вышло бы, что начальство нищих разом наплодит, наградами увешанных. Знаешь поговорку: старый солдат — молодой нищий.
— Уж и нищий! — возмутился Кучин. — В гайдуки, конюхи, да хоть и в дворники идти можно к господам.
— Дворников помоложе набирают, — возразил Чайка. — Дрова да воду каждый день по лестницам таскать потяжелей, чем к Нарвским воротам прогуляться, отчего у нас ноги подкосились.
— Пятнадцать лет солдатчины — за все тридцать на барщине считай, — заметил Сергеев. — Ты погляди на мужика здорового в тридцать пять лет аль на солдата, что пятнадцать лет палками учён.
— Погодите, ребяты, — вмешался рассудительный латыш Етгорд. — Что же у вас выходило? На двадцать пять лет недовольные. Теперь десять лет убавили — опять нехорошо. Двадцать пять лучше было?
— Еще надо пяток убавить, — ответил Сергеев. — Солдатскую науку во всей тонкости в десять лет и дурак постигнет. А для боевой да походной службы и года учения за глаза хватало, как на войне с французом видывали…
— Может, доживем и до десяти, — примирительно сказал Етгорд.
— А сейчас куда людям деваться? — не унимался Сергеев. — В золотари городские? Нужники чистить в медалях? Хотя б приказали по деревням наделы нарезать, так кое-кто на землю бы сел. А так только его там и ждут, лишний рот, бобыля нового…
Подошедший к спорящим Павлухин, по обыкновению, подхватил с полуслова:
Слушавший до этой минуты с улыбкой Кучин плюнул и отошел в сторону, сказавши в сердцах:
— Чтоб тебе подавиться языком своим, пустомеля!..
Жена Михайлова объявила, что продает постоялый, отчего Иванов решил, что производство его снова откладывается невесть на сколько. Но в начале сентября случилось небывалое — в одном из залов Эрмитажа из запертой витрины пропали золотые медали, и заметил пропажу дежурный гренадер. Украл их, подобравши ключ, придворный истопник, которого вскоре уличили и вернули похищенное. После этого князь Волконский решил усилить надзор за дворцовой прислугой и приказал разделить дежурства гренадер в Зимнем и Эрмитаже на пять участков по два-три поста и над каждым поставить наблюдающего унтера. Из расчета всего наряда вышло, что нужно добавить в штат роты двух унтеров, которых произвести из отличнейших по службе и хорошо грамотных гренадер 1-й статьи. Первым в докладе своем полковник расписал достоинства Иванова, вторым — латыша Етгорда, исполнительного, спокойного служаку.
Двадцатого сентября Качмарев повел своих кандидатов представлять князю. Через новый Фельдмаршальский зал вошли на цыпочках в Министерский коридор, где в отгородках вроде конюшенных стойл склонялись над бумагами чиновники. В конце коридора — приемная окнами на глухую стену Малого Эрмитажа. Полковник просил дежурного чиновника доложить министру и сам встал в ряд с гренадерами.
Иванову жали новые сапоги, стянуло кожу щек от обильной фабры, тревожился — не оробеть бы, ежели князь спросит что по службе. Может и забраковать за робость. Вышел чиновник и приказал ждать. Часы на камине отзвонили четверть первого, потом половину.
За дверью раздались неспешные шаги. Седой, крепко сколоченный, без брюха, вышел Волконский, заложивши правую руку за борт сюртука, другой держа лист бумаги. Остановился перед гренадерами, посмотрел в лица, потом на знаки отличия и сказал:
— На вид исправны, Качмарев. Тебе с ними служить, с них взыскивать, как мне с тебя. Гляди, чтобы не пьяницы.
— Как можно, ваше сиятельство!
— Ну так поздравляю вас, господа, унтер-офицерами дворцовой роты, прапорщиками армии. Государь всемилостивейше поручил мне скрепить ваше производство за отлично исправную службу, каковое по моему представлению соизволил подписать сего числа утром.
Полковник скосил глаза на новых офицеров.
— Покорно благодарим, ваше сиятельство! — гаркнули оба.
— Возьми, Качмарев, высочайший приказ, — протянул князь бумагу. — Отправь в штаб гвардии. — Кивнул и пошел в кабинет.
Свернув за дверью приемной на винтовую каменную лестницу, полковник остановился на первой площадке, снял шапку, вынул из нее платок, отер лицо, шею и руки. Унтера смотрели на него, ожидая, что сделает, а он не спеша накрылся, подтянулся и молвил:
— Ну, господа офицеры, теперь и я поздравляю. Думали, сюда шедши, что счастье за горами, а оно вот где! — и потряс свернутым приказом. — Извольте нонче же офицерские темляки приобресть, мундиры в швальню снести, чтобы на погоны нашивки поставили, да вицмундиры офицерского образца заказать вместо сих сюртуков.
Идучи домой, Иванов на Мошковом встретил Жуковского. Глядя в землю, он шевелил губами, точь-в-точь как бывает с Павлухиным на посту. Иванов сделал фрунт. Василий Андреевич поднял глаза и, всмотревшись в лицо унтера, спросил:
— Верно ли час назад мне молодой писарь сказал, что сегодня для вас радостный день?
— Так точно, ваше превосходительство!
— Тогда поздравляю от души. Есть ли у вас дети?
— Так точно, дочка растет, почти три года возраста.
— И для нее ваш новый чин может открыть лучшую дорогу в жизни… Желаю вам здравствовать с семейством! — И, приподняв шляпу, будто перед барином, Жуковский пошел своей дорогой.
«Есть ли кто на свете приветливей? — думал растроганный Иванов. — И ведь не знает еще, какая от нового чина польза делу важнейшему, коему пятнадцать лет труды отдаю. Шутка ли — за последнюю треть уже офицерское жалованье пойдет и в капитал рублей полтораста отнесу. Не говоря, что на собственное имя родичей приобресть смогу. Подумать только — офицером, дворянином стал!.. Вот она где, рубашка счастливая. Какую новость Анюте несу!..»
В ближайшие дни Иванова поздравляли в роте и во дворце. Хотя после покражи и назначения новых надзорных постов рознь между гренадерами и придворнослужителями еще усилилась, но Иванова поздравляли все лакеи и прочий дворцовый люд как человека всегда спокойного и обходительного. Кто посердечнее, кто посуше, покороче. Один Мурашкин, увидев подходившего унтера, отвернулся, будто обтирает пыль с картинной рамы. А радостному Иванову показалось, что для такого дня надо сделать шаг к примирению — сколько же зло на сердце держать из-за пустяковой размолвки?..
— Здравствуйте, господин Мурашкин! — окликнул он.
— Что вам угодно? — спросил камер-лакей поджатыми губами.
— Ничего не угодно, просто здороваюсь с вами.
— От вздорной бабы поздравлений не дождетесь! — Мурашкин весь перекосился от злости.
Иванову не хотелось заводить перебранку в такое счастливое для себя время, но нашелся, ответил, не повышая голоса:
— Таким именем не я, а сами господин гофмаршал тебя назвали. Однако нонче я убедился, сколь хорошо своих подчиненных знают.
Мурашкин что-то шипел ему вслед, но унтер, твердо решив не слушать, не отвечать, пошел своей дорогой.
Через несколько дней гоф-фурьер Баранов спросил Иванова, что у них вышло с Мурашкиным. Выслушал и покачал головой:
— Я так и думал, Александр Иванович. Душит его злоба, что в коллежские регистраторы не производят, хотя всех художников по именам выучил и Францу Ивановичу под ноги стелется. А вас, которого когда-то облаял, благородием титуловать приходится.
— Да провались он с титулованием своим! — отмахнулся Иванов. — Не обращусь я к нему больше вовеки.
А назавтра реставратор Митрохин, встретив, сказал унтеру:
— Слышал, Мурашкин вам нагрубил. Так плюньте: сей подлипало имена художников выдолбил, но черной душой искусство чувствовать не способен — великого Тициана от маляра не отличит…
12
За новое, в четыре раза большее жалованье и служба пошла куда хлопотней. Через двое суток на третьи приходилось суточное дежурство, не говоря о случаях, когда вся рота являлась строем на церемониях и парадах. Участки дежурств были различны ответственностью и расстоянием между постами, поэтому унтера непрерывно передвигались в расписании.
Самым беспокойным участком считался 1-й. Он охватывал Малую церковь, личные комнаты царя, царицы, их детей и классные, расположенные по сторонам Темного коридора. Тут на обоих постах в Ротонде и на площадке Салтыковской лестницы обходы невелики, но гренадеры должны быть готовы к появлению, вопросу или выполнению приказов членов царской семьи. На этих постах нужно уметь все видеть и слышать или, наоборот, превращаться в неподвижную статую, слепую и глухую. Второе дежурство из трех постов охватывало парадные залы по обе стороны Иорданской лестницы — от Концертного до Аполлонова, да еще Статс-дамскую, Предцерковную и собор. Тут куда спокойней, конечно, если нет больших выходов, приемов, балов. Третье дежурство еще тише — Половины Марии Федоровны и прусского короля. Наконец, четвертое и пятое — в обоих этажах эрмитажных зданий. Здесь только смотри насчет покражи, хотя недавняя история с золотыми медалями едва ли повторится. При этом первое и второе дежурства круглосуточные, а третье, четвертое и пятое — только с восьми утра до четырех дня. На первое и второе назначали по четыре и шесть гренадеров, на остальное — по два, так что ежедневно на дежурства выходило шестнадцать гренадеров и пять унтеров. Но тех, кто был в суточном наряде, надо было начисто освобождать на два дня, а остальных можно было снова посылать на дежурства и в караул. От этого составление расписаний так усложнилось, что Иванов радовался, что его теперь редко кликали «на подмогу» в канцелярию. Федот Тёмкин справлялся со всем один да еще вечерами читал книги и переписывал заветные тетрадки. Полковник похваливал писаря и уже представил его куда раньше срока к унтер-офицерству «за отличие».
На суточных дежурствах Иванов уставал теперь не меньше, чем когда-то в конногвардейских дворцовых караулах. Гренадеры, отстояв свои часы, уходили в роту и могли прилечь, не раздеваясь, и даже поспать до побудки дневальным, а он обязан был каждые два часа обходить посты, так что на отдых в первой комнате канцелярии, служившей и дежурной, оставалось не больше часу, а к концу суток от походов из Шепелевского дома в дальние концы Зимнего едва заставлял себя бодро шагать.
Сменившись, шел домой и ложился спать, в первые недели надеясь, что, вставши, возьмется за давние кормилицы-щетки. Но будила его обычно Маша, которая ласково тормошила отца. Вот и надо было хоть немного поиграть с ней в ладушки, покачать на колене, связать из платка зайчика. Взятые в подвале две игрушки — франта, снимающего шляпу, и охотника — Иванов спрятал до времени, не давал в детские проворные ручки: пусть останутся целыми на память о дедушке, которого никогда не видела. Случалось, что перед сном все-таки брался за щетки, но при свече теперь видел все хуже, да и с женой надо было когда-нибудь поговорить: порассказать, что было в роте, и ее послушать.
Хотя и начал чувствовать, что стареет — одолевала одышка на лестнице с вязанкой дров, — но был счастлив как никогда. Подумать только — вышел в офицеры без всяких экзаменов да еще с жалованьем, какого в другой части не получишь. А служба хотя хлопотная, но самая подходящая, раз выше смены дежурных никем не командует, и начальника лучше Качмарева не сыщешь.
Пятилетие свадьбы, которое пришлось на воскресенье, праздновали только вкусным ужином. Пригласили всего двух ближайших Анютиных подружек-белошвеек и писаря Тёмкина. Когда после изобильного жаркого хозяйка поставила на стол подносы с пряниками, изюмом и винными ягодами, Федота попросили почитать стихи. Он сказал наизусть несколько басен Крылова и показал в лицах, как толстый Крылов, идучи к Жуковскому, кряхтя влезает зигзагом по лестнице. После этого прочел уже по тетрадке недавно напечатанную сказку про Конька-Горбунка. Слушатели смеялись до слез, но, когда закончил, одна из барышень сказала, что все ж таки стихи Пушкина лучше всех, и просила прочесть хоть небольшое его сочинение. Анна Яковлевна поднесла чтецу стаканчик наливки и послала Лизавету, также слушавшую чтение, ставить самовар. Тёмкин предложил свою излюбленную «Полтаву». Но ее уже слышали — допрос, казнь, сражение, — все такое страшное. Не выберет ли что другое? Тогда прочел «Песнь о вещем Олеге».
Стихи были первые нешуточные в этот вечер, и разговор пошел серьезный. Сначала Федот рассказал, что знал про Олега и Ольгу, что за «щит на вратах Цареграда» и что такое «тризна». Потом стали вспоминать, какие верные бывают предсказания.
— А помнишь, Анюта, как цыганка Кате беленькой иностранца нагадала за год, как пекарь Шольц присватался? — сказала одна из мастериц. — А ведь немцы чаще на своих барышнях женятся.
— Мне тоже ворожея сулила, что дом каменный наживу, — заметил Тёмкин. — А пока за душой только тетрадки со стихами, гребешок да щетка, которую Александр Иванович подарили.
— Твое время не ушло, — заверил Иванов. — Выйдешь в чиновники, женишься на богатой — вот и дом готовый.
— А тебе как верно, Сашенька, — напомнила Анна Яковлевна, — барыня в Лебедяни нагадала: все по ее слову сбывается.
Иванов рассказал, как в 1818 году едва не наложил на себя руки от жестокости эскадронного командира, как стараниями двух боевых товарищей был переведен в ремонтерскую команду, шедшую в Лебедянь, и там через унтера Красовского увидел одну барыню, у которой бабка была цыганка, и что предсказала ему по руке и на картах. Рассказал и то, как часто пенял ей, пока казалось, что зря сболтнула, будто «в сорочке родился», а потом вдруг попал в роту, через два года нашел Анюту, а нынче еще в «благородия» вышел.
Тут переглянулся с женой — дальше надо бы рассказать, что обещала Дарья Михайловна исполнение самого главного, о чем тогда даже не мечтал, но вскоре замыслил и к чему сейчас почти приблизился. Но об этом ведь никому не говорено. Смолчал и теперь.
Вскоре гости ушли. Анюта с Лизаветой стали мыть посуду. Иванов хотел было им помочь, но сказали, что справятся, и остался один за столом. Вот ведь дожил, что может посидеть при свече без дела, раз еще спать не хочется… Конечно, Пушкина стихи про Олега — не больше как сказка старинная, но ведь бывают же верные предсказания… По Дарьи Михайловны словам все пока исполняется. Только бы еще своих выкупить. А последнее предсказала о пламени и дыме. Что оно значит? Как Красовский тогда шутил, геенну огненную, в которой за грехи гореть будем?.. Да что про то думать! Выполнить бы заветное, а там поглядим…
Перед рождеством выплатили жалованье за последнюю треть 1834 года, и унтер понес Жандру сто пятьдесят рублей. Шел и думал: значит, теперь в казне три тысячи триста пятьдесят рублей, — сумма знатная, и, видать, она пойдет прирастать куда быстрей. Пожалуй, можно бы уже начать прицениваться к покупке, кабы додуматься, как лучше: самолично, взявши отпуск, съездить в Козловку а ль сначала отписать? И кому писать-то? Самому ли Ивану Евплычу или отцу с братьями, чтоб верней все расчесть. Так письмо-то получивши, кого-то грамотного читать позовут, отчего сряду же барину станет известно…
Сдавши деньги Жандру, пересказал, что думал, и услышал:
— И мы про то же судили, да вспомнили, что у покойного Грибоедова в твоих краях друг закадычный живет, у которого «Горе» свое дописывал. — Жандр открыл записную тетрадь.
— Как же, — подтвердил Иванов, — они и мне про то изволили поминать, спрашивали, близко ли нашего села вотчина генерала Измайлова, которого за сущего кровопийцу в округе почитали…
— Нашел, — прервал его Жандр. — С тех пор у меня и значится, как писать отставному полковнику Степану Никитичу Бегичеву в деревню и в Москву. Сейчас-то, верно, в Москве живет. Так вот, мы с Варварой Семеновной и придумали ему как человеку самых благородных правил все дело описать и совета просить, не знает ли помещика, кому принадлежат твои родичи, или дворянского предводителя и кому лучше к ним обращаться: мне ли, с превосходительным чином, представляя себя посредником, или тебе как покупщику.
— Понятно, хорошо бы такое письмо отписать, — согласился Иванов, — хотя и совестно их да и вас беспокоить.
— Чего совеститься, когда друг наш общий тебя при мне обнимал и целовал, что в письме сем не премину сообщить, — сказал Жандр. — И речь ведь пойдет о деле подлинно благотворительном. Ну, диктуй, как деревня твоя и как помещик зовутся… Евплыч? Экое отчество редкостное!.. Да постой прощаться. Хочу еще спросить: читал ли вам писарек, про которого сказывал, новую поэму Пушкина про наводнение двадцать четвертого года?
— Никак нет.
— Ну и не надо, особенно Анюте, того слушать. Бедствие ужасно изображено. Что старше Пушкин становится, то сильней пишет…
На другой же день унтер спросил Тёмкина:
— Знаешь ли господина Пушкина новые стихи про наводнение?
— Как же, знаю-с, хотя нигде не печатаны.
— А чего же нам не читывал?
— Боюсь, Анна Яковлевна плакать станут. Там ведь про старушку с дочкой-девицей потонувших. Как ей своих не помянуть? А вам извольте, хоть сейчас наскрозь прочту.
— Ужо с дежурства зайду. Так хорошо писано?
— Хорошо — слово тут слабое. Душу лихорадкой бьет от восторга и жалости, ей-богу-с! А сказывают, что тогда в Одессе находились, но чисто как чародей все увидели… А я вот каков невезучий — ни разу им в лицо близко не взглянул. Все со спины аль с бочка, да мельком. А вы их поблизости видели?
— Нет, чтобы совсем вплотную, того еще не случалось.
Через день, будучи дежурным по смене, Иванов после очередного обхода постов пришел в канцелярию, когда Федот уже складывал бумаги в стол. И тут, присевши насупротив писаря, выслушал всю историю про бедного Евгения. Когда чтец дошел до строк:
у Иванова перехватило дух. Как сейчас увидел 7-ю линию — ломаные заборы, размытую мостовую, зловонные помойки и воду на полу подвальной комнаты, где захлебнулись дорогие Анюте люди…
Правильно Тёмкин сказал, что восторг и жалость слушателя колотят. А как Петербург вначале описан! «Красуйся, град Петров…» Да, такого сочинителя надо получше разглядеть…
Случай к тому пришел через несколько дней.
Во время торжественной обедни в соборе обходивший посты в парадных залах Иванов неслышно вошел в Военную галерею. Увидел Пушкина и, замедлив шаг, повернул ему навстречу. В полной камер-юнкерской форме Пушкин стоял с каким-то офицером гвардейской артиллерии и, кивая на портреты, говорил:
— Как Дова ни брани, а деньги не даром брал — сходство портретов удивительное. Ежели, понятно, с натуры писано. Вот Николай Николаевич Раевский совсем как живой, когда строг бывал. Взгляну и будто слышу: «Полно дурачиться, Пушкин!..» А у доброго Инзова только лоб да глаза схожи…
Скосился на миг на проходившего унтера, и тот увидел под рыжеватыми курчавыми волосами смуглый высокий лоб, чуть пригнутый кончик носа, крупные губы, за которыми блеснул ряд зубов. Но главное — в глазах! Никогда этаких не видывал. У Василия Андреевича грустные, добрые… А из этих словно искры брызнули…
В конце марта, наведавшись на Мойку, унтер узнал, что от Бегичева пришел ответ из деревни, куда переслали адресованное в Москву письмо. Он советовал Жандру написать епифанскому предводителю дворянства отставному гвардии капитану Левшину, просить его совета, а может, и содействия в совершении покупки и рассказать о доблестном офицере из солдат, который хочет выкупить родителей. А сам Бегичев еще до весенней распутицы повидает известного ему с хорошей стороны предводителя — имения их в двадцати верстах — и от себя объяснит дело словесно. О результате такового визита будет тотчас отписано Андрею Андреевичу, о котором столь много наслышан от незабвенного обоим Грибоедова.
Прочтя все это вслух, Жандр добавил, что уже написал предводителю, ждет теперь ответа и полагает, что его посредничество при покупке людей вреда не принесет.
Во время пасхальной заутрени Иванов снова был на дежурстве и, обойдя посты, пришел в Предцерковную, чтобы помолиться за близких и за то, чтобы будущие великие праздники встречать с ними. Здесь, впереди его, оказался поджарый седеющий камергер, которого, кажись, раньше не встречал во дворце. То, что он стоял в Предцерковной, говорило только об опоздании к началу службы или, может, что не любит духоты. Несмотря на высоту помещения, в соборе, где горели тысячи свечей и стояло множество людей, бывало душно и жарко. Сначала камергер привлек внимание Иванова тем, как стоял — плечи развернуты, локти к телу, каблуки сдвинуты. А когда полуобернулся, пропуская выходившую даму, стали видны ордена, медали за 12-й год и Париж, Кульмский крест. Тут же показалось что-то знакомое в чертах лица, посадке головы. Может, раньше видывал? Многие господа в отставку ушли, по усадьбам живут и сюда изредка наезжают.
Когда началось христосование, Иванов пошел проверять посты и вдруг сообразил:
«Да никак это полковник Пашков, Дарьи Михайловны муж! Но отчего похудел, постарел так? Однако с тех пор, как только мельком видел его, прошло целых шестнадцать лет. Значит, возвратились из-за границы и его в камергеры пожаловали. Но в великий праздник и она, как супруга придворного чина, должна быть рядом на церковной службе, а ее не рассмотрел — вот обида-то! А так бы хорошо поздравить с праздником, поблагодарить за посланные, хоть и не дошедшие деньги… Ну ничего, приедет же ко двору снова камергер, и хотя бы рядом с ним барыни не увижу, то подойду, отважусь… По тому, что от Красовского слышал, не должен осердиться за такое обращение…
Весна выдалась редкостно теплая и солнечная. 23 апреля, в день именин царицы, стояла совсем летняя погода. В десять часов утра опять дежуривший Иванов дворами вышел на набережную и направился к Иорданскому подъезду, чтобы через него и Салтыковскую лестницу подняться к постам у царских комнат. Выбрал такой путь потому, что, идучи по залам, пришлось бы непрерывно делать фрунт встречным генералам и офицерам. Хотя сейчас и сам в чине армейского прапорщика, да форма мало отличается от рядового гренадера — поди-ка объясняй…
На главном дворе шел съезд к большому выходу. От ворот к пандусу Иорданского подъезда двигалась вереница экипажей, которые, высадив перед дверью господ, тянулись мимо платформы пешего караула и, выехав на площадь, выстраивались у дворцового фасада.
Когда Иванов пересекал вестибюль, мимо него прошел, направляясь к парадной лестнице, только что приехавший камергер Пашков — это, несомненно, был он! Подбежав к окну, унтер увидел спускавшуюся шагом с пандуса на двор двухместную каретку, запряженную парой вороных, заметил темно-серые ливреи кучера и лакея на запятках, обшитые серебряным позументом.
Обойдя своих дежурных, вышел на площадь и разыскал экипаж камергера. Молодой толсторожий лакей, соскочив наземь и скинув шляпу, расчесывал гребешком курчавые волосы.
— Скажи, любезный, господа твои где ноне квартируют? — спросил Иванов.
Окинув нахальным взглядом медвежью шапку с золотым кутасом и расшитый галуном мундир, парень весьма бойко ответил:
— В собственном дому на Сергиевой улице, недалече Таврического саду. Однако господ у нас покуда один барин, хотя сговор с сиятельной княжной Козловской объявлен. Так что вскорости траурные кафтаны скинем и понарядней оденемся.
— А не ошибся я, что камергера Пашкова люди? — спросил Иванов.
— Они самые, — подтвердил с облучка пожилой кучер и, неласково глянув на развязного лакея, спросил: — А ваше благородие, может, в Конной гвардии с нашим барином служили?
— Истинно, друг любезный. Там почти двадцать лет состоял, — подтвердил Иванов, — а ныне тут, при дворце.
— Может, и барыню Дарью Михайловну помните, царство ей небесное? — Кучер взял все четыре вожжи в левый кулак и, сунув шляпу под мышку, перекрестился.
То же сделал унтер, за ним и присмиревший лакей.
— Где же и когда они скончались? — спросил Иванов.
— Пять уже лет, как горлом изошли в городе Турине. Там и схоронены, — сказал кучер, когда все накрылись и он разобрал вожжи. — А за доброту ихнюю поднесь бога молим все — и я и он, племяш мой, телячья башка, — кивнул он на лакея.
— Экая новость печальная! — сказал унтер. — А дозвольте спросить, долго ли мучилась и был ли полковник при них?
— Они-то были, но как все случилось, ежели знать желаете, то пожалуйте в наш людской флигель к фершелу Николаю Евсеичу. Он до последнего дня при них состоял. А барин хотя добрейшие и вас увидеть обрадуются, раз конногвардейцы, однако про ихнюю кончину слова николи не обронят. Еще вашему благородию совет дам: ежели с Евсеичем повидаетесь, то пригласите в трактир, он чай любит и уважение чувствует.
Часы на крепости отзвонили одиннадцать, и унтер, поблагодаривши кучера, пошел к Шепелевскому дому. Хотелось хоть на полчаса запереться в канцелярии. Весть о смерти Дарьи Михайловны сильно его опечалила, как и то, что полковник снова женится. Хотя что же? Пять лет прошло. Но отчего о ней не говорит? Оттого, что забыл или что печаль до сих пор велика?
И еще смущало, почему камергером обернулся и ко двору ездит. Неужто невеста-княжна на то надоумила, чтобы самой сюда протиснуться?.. Служа в роте, доподлинно узнал, что нет места бездельней. За стенами дворца военное сословие учения да караулы несет, чиновники бумаги пишут, купцы товары возят да торгуют, не говоря про мастеровых да крестьян. А господам придворным вечный праздник. Только и слышишь про выходы, балы, концерты, маскарады, визиты, катанья, примерки нарядов, награды. И все сплетнями переслоено… Так зачем умному и доброму барину, который много лет с Дарьей Михайловной прожил, в такое месиво лезть?..
Сменившись с дежурства, пересказал Анюте услышанное и что хочет сходить узнать в подробности, а потом отписать Красовскому. Он-то хорошо знал и почитал покойную. Анна Яковлевна, которой не раз рассказывал про Дарью Михайловну и про деньги, перехваченные Кузьмичом, поддержала, что нужно все расспросить у фельдшера.
Через несколько дней утром без труда нашел дом полковника и в его флигеле — обросшего седой щетиной тощего старика в ситцевом халате, игравшего в шашки с дворовым мальчиком. Через комнату был протянут шнур, и на нем сушились пучки трав и веточки с листьями. В углу, рядом с печкой, сложена небольшая плита. На столе среди бумаг — фарфоровые банки, ступка и пестик. Видимо, фельдшер был и аптекарем. Пояснив цель своего прихода, Иванов, памятуя совет кучера, пригласил Евсеича в трактир на Фурштадтскую. Подождал, пока тот побрился, надел сюртук, и пошли. За чаем с теплыми ватрушками гренадер упомянул, где видел Дарью Михайловну, как был ею обласкан, и в ответ услышал обстоятельный рассказ о долгой болезни в Италии, при которой то обнадеживала выздоровлением, то вновь начинала кашлять кровью.
Почувствовав доверие к толковому старику, Иванов, понизив голос, хотя в трактире было почти что пусто, спросил:
— А волю свою насчет облегчения крепостных людей господина полковника удалось ли барыне сколько-нибудь выполнить?
— Сие я сейчас изъясню, но всем нам то особенно горестно, что как раз от оной материи и началась ихняя болезнь, — ответил Евсеич. — Нонешние итоги ихней доброты, как я разумею, таковы: окромя тех трехсот душ в Калужской вотчине, которые в тысяча восемьсот двадцать седьмом году безвозмездно в свободные хлебопашцы переписаны, Павлу Алексеевичу еще столько же из разных деревень небольшими партиями за малые выкупы отпустить удалось…
— Да разве является барину трудность какая в том, чтобы людей своих на волю отпущать? — удивился Иванов.
— Порой истинная трудность, и немалая, — подтвердил старый фельдшер. — Я, как и вы, ранее полагал, знаючи, что любому своему человеку или отдельному семейству господин душевладелец может законным порядком вольность предоставить. Но коли до целого селения или иного знатного числа душ доходит, то иначе все оборачивается, оттого что вышние власти того не одобряют… — Теперь и Евсеич говорил вполголоса. — Так вот-с как оно было. Прибыли в том году господа отсюда в нашу Калужскую вотчину, кажись, в конце сентября, но не в дому барском засели, а туда-сюда вместе по деревням поездили, благо погоды стояли сухие. Да все без управителя, старым барином поставленного. Расспросили бурмистров, сходы выслушали, со стариками потолковали. А покончив разъезды, турнули управителя, прямо сказать, взашей. И справедливо: ба-альшой был плут и с людьми жесток — колодки никогда не пустовали, на палки перелески изводил. И тут же господа нам объявили, что половину вотчины на волю отпустят с землей и без выкупа — те селения, где крайнюю бедность наблюдали, а других, где получше жилось, с самой тяжкой барщины на милостивый оброк переводят… Вот как раз-то в сие время первая простуда барыне и приключилась — видно, где в разъездах продуло. Стали меня постоянно призывать, отчего все в подробности узнал, что дале и доложу. Но, понятно, также дохтора из губернии выписали, он микстуры и порошки прописал и мне, подлекарю, поручил за исполнением приглядывать. А вместе с тем дохтором вызвали Павел Алексеевич чиновника одного отставного, весьма сведущего, который за составление бумаг засел, необходимых для перемены нашего быта.
Однако без прогнанного управителя, который некоторые самонужные бумаги, уезжая, выкрал, проканителились больше месяца, да самого санного пути, когда тронулись в Калугу. А за тое время бывший управитель поспел к губернскому предводителю дворянства, а затем и к губернатору проникнуть и расписал, будто Павел Алексеевич не в своем уме и собирается всем подданным своим, коих в четырех губерниях числилось до шести тысяч душ, вольность предоставить, да что еще с чужой женой блудно проживает. Однако и того показалось кляузнику мало: отписал брату двоюродному барина, который свое имение прокутил и себя наследником полковника почитал. Сильнейше того взбаламутил, будто имение все по ветру пустит от вольнодумного помешательства ума. Подпустил еще, будто дружился с теми, кто в двадцать пятом году бунтовал, но начальством не замечен…
От сего так вышло, что, когда барин в казенную палату приехали, там бумаги принять отказались и передают приглашение пожаловать к губернатору. А тот уже его купно с предводителем ждет. И оба превосходительства в один голос давай вопрошать: верно ли, что всех своих крепостных людей на волю отпустить полагает? Тут полковник и взорвись, подобно гранате: «А с каких то пор дворяне российские в подобных делах должны кому-либо ответ давать? Укажите мне таков закон!..» Ну, накричались все трое вволю. Но начальники оба на то напирали, что в освобождении знатного числа крестьян есть соблазн для соседних владений, где мужики того же восхотят. Хорошо, что у губернатора с предводителем, как водится, вечные распри и губернатор сам военный и с гвардией в Париж ходил, так накричавшись, сказал, что просит полковника повременить, покуда сам в дело вникнет.
Павел Алексеевич обратно в гостиницу приехал, и тут ему коридорный доложил, что, мол, братец ваш двоюродный также в сей гостинице ставши и сейчас к губернатору призваны. Полковник от того в недоумении к Дарье Михайловне при мне пришли и рассказывают, что было. А тут чиновник, который бумаги у нас в деревне составлял, доложить явился насчет плутней управителя, о чем у писцов в казенной палате вызнал. Взъярился наш барин пуще прежнего, как узнал, зачем братец двоюродный пожаловал. На свое счастье, сей родич из гостиницы в тот же день съехал — прослышал, видно, от прислуги, чем наш-то ему грозил. Однако назавтра приглашает Павла Алексеевича губернский предводитель и вздумал дворянской опекой грозить и про Дарью Михайловну заикнулся. Павел Алексеевич сообразно ему отвечал, но, возвратившись оттоль, уговорил наконец ее под венец идти, чтобы все сплетни разом прикончить и на огорчение братцу-наследнику. Так надо же, чтобы в церкви она от легкого туалета и простудилась пуще… Жар, кашель, кровь впервые показалась — беда! Надо скорей в теплые края. Поехал Павел Алексеевич к губернатору, дал тому слово, что, окромя трехсот душ, что в готовых бумагах прописаны, не станет в ближние пять лет без выкупа более никого на волю отпущать, рассказал и про братние происки и про угрозу опеки. А про венчание ихнее губернатор и так уже знал. Да в пику предводителю и дал приказ палате немедля все бумаги принять и по ним отпуск на волю учинить. Тут же, по указке губернатора, нанял полковник отставного израненного капитана в управители, чтобы все по доверенности до победного исхода довел. А сами в Одессу, на корабль — и в Неаполь. И меня с собой взяли-с…
Старый фельдшер потрогал рукой остывший чайник. Иванов подозвал полового, приказал подать горячего и еще ватрушек, да посочнее. Николай Евсеич поблагодарил и продолжал:
— Этакая поспешность, надобно полагать, жизнь барыни весьма продлила. Одно время будто вовсе поправились, даже запели полным голосом. Но через год снова от легкой простуды кровохарканье пришло, и в апреле 1830 года отошли к праведникам… Вот-с… А возвратившись в отечество, Павел Алексеевич, по слову губернатору, отпущали из разных вотчин человек по двадцать — тридцать, деревеньками, за самый малый выкуп. Нонче же, как срок обещанию истек, снова уже готовят из Новгородской вотчины двести душ на волю безвозмездно. Словом, завещание супруги сполняют свято…
— Однако, сказывают, жениться собрался, — заметил Иванов.
— И то по ее воле.
— Неужто?
— Истинно-с. При болезни последней не раз повторили, чтобы взял за себя княжну Козловскую, которая за ней, будто сестра кровная, ходила. Как есть бесприданница, лет ноне за тридцать, родственница бедная нашего посланника в Турине, с которой в Италии сдружилась. Барин и то сколько лет откладывали. Тут любви плотской, верьте, нисколько нету, а одна душевность. И на случай, ежели сами раньше ее помрут, чтобы продолжала подданных облегчать, опять же по Дарьи Михайловны завещанию…
«Вот как все иначе оборачивается, когда поближе узнаешь, — думал Иванов, возвращаясь домой. — И надо всю историю Красовскому отписать… Вот четвертина крови цыганской в ней считалась, а есть ли среди господ чисто русских из знатнейших фамилий, которых во дворце видаю, чтобы такой любовью к бедным людям жили? И такое создание прекрасное чахотка сгубила! Поляков хоть от горестной судьбы сгас, а тут и любовь мужняя, и края теплые, и лекаря самолучшие… Надо в поминание Дарью Михайловну вписать… А любопытно бы знать, предвидела ли свою судьбу? Ведь на себя, поди, карты раскладывала и на ладошку глядела… Но удивительней всего, как на полковника губернатор с предводителем наседали, чтобы на волю целыми деревнями не выпускал. Крепко держатся господа, чтобы порядок свой не дать нарушать. Где же было молодым да доверчивым, как князь Александр Иванович с друзьями, этакую силу одолеть? Правду старый Никита говорил: не отдадут они свое царство…»
Полковник Бегичев отписал Жандру, что съездил к уездному предводителю и нашел человека воспитанного и образованного. Просил содействовать Иванову и получил обещание всяческой помощи. Такой аттестации полностью соответствовало пришедшее следом письмо капитана Левшина, которое Жандр прочел Иванову. В нем говорилось, что, хотя предводитель не знаком с господином Карбовским, каковой уже два трехлетия не показывается на выборах, оправдывая это параличом, но, по собранным справкам, продолжает вести жизнь невоздержанную, постоянно играя в карты с соседями, что сопровождается возлияниями и обжорством. От бесхозяйственности и убыточной карточной игры денежные дела Карбовского находятся в расстройстве, которое тщится поправить займами у одного из партнеров и дальнего родственника, отставного поручика Вахрушова. Оный, владеющий деревней в двенадцати верстах от Епифани, как думают, имеет в виду, предъявив заемные письма ко взысканию, завладеть Козловкой. В заключение спрашивалось, следует ли при встрече заводить речь с поручиком о будущей покупке.
— А теперь думай, что отвечать, — сказал Жандр, окончив чтение. — После благодарности сему доброжелателю о чем просить его?
— По-моему, разговор заводить рано, — сказал Иванов. — Ведь до того лета я денег нужных не накоплю. А хорошо бы цены нонешние на крестьянский двор справный, на десятину земли, а главное, на людей всех возрастов от них узнать.
Жандр одобрил такое решение, и на том они расстались.
А Иванов со следующего вечера засел за письмо Красовскому. Надо известить о встрече с камергером, что услышал от фельдшера. Да и в своей жизни накопилось немало: о том, как встретил Анюту, о маленькой Маше и, наконец, об офицерстве. Таких длинных писем Иванов никогда не составлял и по частям читал Анне Яковлевне. Она одобряла, а порой и дополняла. Посоветовала сообщить, что через год собирается на родину торговать свою родню. Раз Красовский заезжал в Козловку и отписал о том обстоятельно, то по справедливости надо ему об ихней судьбе все знать.
Понятие справедливости Анна Яковлевна почитала самым важным в жизни. Муж как-то заметил: много ли они оба ее видели? Но она горячо возразила, что тем больше обязаны по ней поступать. И тут же назвала тех, кто хотя по-разному, но по ней живут: своих родителей и мадам Шток, князя Одоевского и его друзей, вахмистра Назарова, Жандра и Качмаревых. Заключила этот, видимо не раз обдуманный перечень Дарьей Михайловной с мужем, который продолжает ею завещанное доброе дело наперекор «правителям», как называла всякое начальство.
В это жаркое лето 1835 года двор выехал в Царское в начале мая и пробыл там до сентября. У Ивановых часто выдавались такие долгие, спокойные вечера, какие случались только до рождения Маши. Теперь Анна Яковлевна не так уставала: девочке шел пятый год, она много играла в своем углу, спала спокойно и крепко, а подросшая и окрепшая Лизавета все больше делала по хозяйству. Потому и выходило, что унтер с женой могли по нескольку часов вечерами сидеть за шитьем и за щетками. Рассказывали друг другу, что видели за день, а то слушали, как Лизавета читала им вслух принесенное воскресным гостем Тёмкиным. Писарь стал вхож к лакею Жуковского, и Василий Андреевич разрешил ему брать книги из одного шкафа своей библиотеки, которые иногда давал Ивановым на несколько дней.
Благодаря легкой службе Иванов этим летом стал гулять с дочкой по набережной Мойки или в Летнем саду, куда из всех солдат впускали только дворцовых гренадер. Тут по утрам в боковых аллеях бывало немного гуляющих, и он мог спокойно посидеть на скамейке, в то время как Маша бегала около. В это лето он впервые близко присмотрелся к дочке и радовался ее разуму и доброте. Несколько раз водил ее во Дворец и Эрмитаж, показывал разные диковины: часы «Павлин», которые при них задвигались и отзвонили время, сад с цветами во втором этаже, «китайцев», качавших головами, мраморные статуи и огромные картины, царский серебряный трон, Военную галерею и сверкающий позолотой собор. Конечно, она залюбовалась золотым хвостом павлина и старалась громко не смеяться, когда, скользя на блестящем паркете, хваталась за отцовскую руку. Везде внимательно слушала его пояснения и только в двух случаях их упредила. Войдя в розовый мраморный Тронный зал, остановилась и прошептала:
— Вот где красиво-то! Хоть бы мамонька тут побывала!
А в залитом солнцем соборе сказала:
— Здесь и молиться, наверное, весело!..
После этих прогулок Иванов стал больше думать о будущем дочери. Вот на пятом году она охотно запоминает буквы и уже читает склады. Тёмкин берется учить ее чистописанию и арифметике, рассказать по истории, что в книгах вычитал. Ну, а дальше? Если бы родилась теперь, когда именуется благородием, то определили бы в Павловский институт на Знаменской улице, как уже двух унтерских дочек, достигших семи лет. А раз родилась, пока был в солдатском звании, туда дороги нет. А куда есть?.. Коли удастся выкупить своих, то с нонешним жалованьем можно и в хороший пансион определить, как советовала Настасья Петровна. Ну, то все впереди, а пока такая радость идти рядом, отвечать на ее вопросы, чувствовать ее ручку на своей ладони!..
Вскоре по возвращении двора в Петербург, после первого большого выхода в собор Иванов встретился с камергером Пашковым, который, опоздав к началу церемонии, но не слишком торопясь, пересекал Гербовый зал. Оглядев молодцеватую стать вытянувшегося перед ним унтера, Пашков остановился и спросил:
— В каком полку, братец, служил до царевой роты?
— Лейб-гвардии в Конном, ваше высокоблагородие!
— Однополчанин! В каком же эскадроне и с какого года?
— С Тарутина все в третьем эскадроне, только раз на полгода в ремонтеры откомандировали, с ними в Лебедянь ходил.
— В Лебедянь? — воскликнул Пашков. — Может, и унтера Красовского знавал?
— Александр Герасимович, как родной, меня привечивал. К мастерству приставил и грамоте выучил.
— А не знаешь, где он сейчас? Все на Беловодских заводах?
— Не могу знать, ваше высокоблагородие. Послал ему туда сим летом письмо, но ответа еще не получил.
В это время поспешно проходивший мимо седой сановник с синей лентой через плечо подхватил камергера под руку.
— Полно, Павел Алексеевич, сражения вспоминать! — сказал он. — Вот вам Литта за опоздание такую картечь пропишет…
— Сейчас, князь, — отозвался Пашков. — Один вопрос еще старому соратнику. В котором году в Лебедяни был?
— В восемнадцатом.
— Так не ты ли с Красовским нас охранять приходил да из сада пение барыни слушал? Не ты ли за крепостных родичей радел?..
Черты камергера изобразили волнение. Он вежливо, но решительно освободил локоть от руки сановника, который, пожав плечами, пошел в Статс-дамскую, а Пашков продолжал:
— Видно, нам надобно, братец, не тут потолковать. Но завтра утром я месяца на два отъеду Дарьи Михайловны завещание выполнять… Слыхал ли, что она скончалась? Помнишь ли ее?
— Их, раз увидавши, разве можно забыть? — ответил унтер. — А я не раз их пение слышал и добрым словом ободрен.
— Ну, спасибо, брат, — наклонил голову камергер. — Как прозвание твое, чтобы сыскать в вашей роте, когда возвращусь?.. Но позвольте, отчего же на сабле у вас темляк офицерский?
Иванов назвался и объяснил свой чин. В это время часы по всем залам дворца и на фасаде пробили десять. Пашков обнял его за плечи, поцеловал в висок и поспешно пошел в собор.
Ответ Красовского пришел в ноябре. Это было первое письмо с надписью на конверте: «Его благородию Александру Ивановичу Иванову». После поздравления с законным браком, с чином и пожелания здоровья ему, супруге и дочери Красовский объяснял причину, почему отвечает не сразу: на два месяца посылали инспектировать Яновский завод в Седлецкую губернию, а потом завернул в Лебедянь, на Покровскую ярмарку, которая хотя уступает Троицкой, раз на ней отсутствуют ремонтеры, но все же служит местом встреч любителей и коннозаводчиков.
Как ответ на недавний разговор с камергером Иванов прочел вторую половину письма: «В Лебедяни не раз вспоминал я добрую Дарью Михайловну, о кончине которой дьякон Филофей не был осведомлен, ибо дом, в котором проживал, полковник подарил церковному причту, чем сношение с бывшим его владельцем прервалось. В покойной особе, кроме редкостного разума и сердечной доброты, впору оплакивать еще и голос чисто ангельский, коего звуки до смертного часа буду помнить. Утешением от известия про кончину ее оказалось сообщение твое, что камергер следует ее воле много лет после кончины, что возвышает в его лице род человеческий, о котором я мнение за сии годы не повысил. Ежели будет к тому случай, передай мое соболезнование и почтение. Из Лебедяни отправился я восвояси к месту служения на брегах тихоструйного Деркуля уже не одинок. Ты, верно, ждешь здесь наконец-то прочесть о браке с некоей девой или вдовицей? Но нет! Поехал я в приятной кумпании с Филофеем, ныне отставленным церковнослужителем, которого едва уговорил отныне разделять холостяцкую обитель знакомого тебе майора, собирающегося через год, когда исполнится ему шестьдесят лет, выйти в отставку. Сын оного Филофея под воздействием злой жены превратился в заурядного хапугу, от известий о деяниях коего голубиная душа отцова терпела повседневные страдания…»
Письмо взволновало Иванова. Вспомнил, как медленно оживал по пути в Лебедянь под опекой Красовского, услышал стоголосый гомон ярмарки, увидел встречу с барином и Степкой-катом, с ласковым подростком Мишкой, испытал снова боль от вести, что изверг заколотил беззащитную Дашу, и потом, ночью в саду, от пения Дарьи Михайловны, надорвавшего сердце… Даже слова те же написал Красовский, что тогда говаривал: «ангельский» голос, «голубиная» душа дьякона…
Хоть бы еще раз повидаться, поговорить со старым другом! Вот он и в штаб-офицерских эполетах остался чудаком бессребреником; не женился на богатой, а повез к себе на харчи бедняка Филофея… Далеко ли от Епифани до Беловодска? Надо Федота спросить, сколько верст по почтовому тракту. Он как-то умеет высчитать. Другой-то раз навряд ли удастся выбраться в такую даль. Годы незаметно бегут: Красовскому под шестьдесят, ему самому сорок шесть стукнуло…
13
Во время устройства парадных залов близ Иорданского подъезда рядом с ними, в начале Министерского коридора, выгородили две небольшие комнаты для дежурного флигель-адъютанта. Днем он находился в приемных государя, докладывая о прибывших и готовый нестись, куда пошлют с поручением, а вечер и ночь проводил здесь в готовности явиться по первому зову.
Однажды, сменив часовых с парадной лестницы, Иванов сошелся в Фельдмаршальском зале с направляющимся в дежурку ротмистром Лужиным, одетым в новенький свитский мундир.
— Здорово, Иваныч, — сказал ротмистр.
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! Честь имею поздравить с новым званием.
— Спасибо, братец. И ты в каком-то новом обличии: шляпа и темляк офицерские, а погон — как у всех ваших гренадер.
— В унтера меня произвели. А вы и полка больше не касаемы?
— Нет, я от фронта не отчислен, всего раз в месяц тут дежурю. Про прежних наших командиров могу сказать, что Бреверн хорошо полком командует, Пилар в генералы произведен. А общий недруг Эссен в отставке с чином полковника и в Чухландии мужиков тиранит. Все-таки обскакал я его! — Лужин с гордостью указал на аксельбанты и царские вензеля на эполетах.
Они подошли к двери Министерского коридора.
— Скажи, не могу ли чем тебе помочь? — спросил на прощание ротмистр. — Я, право, всегда рад…
— Покорно благодарю, ваше высокоблагородие, только ничего мне не нужно, — ответил унтер, и Лужин, кивнув, исчез за дверью.
«Аксельбантом гордится, что Эссена «обскакал» похваляется, а про князя Александра Ивановича не вспомнил», — с горечью подумал Иванов.
Второе письмо епифанского предводителя пришло в декабре. Он сообщал, что поручик Вахрушов представил заемные письма ко взысканию и Козловка вот-вот перейдет в его собственность с какой-то доплатой нонешнему владельцу, который останется доживать здесь бесправным приживалом, что вполне заслужил распутной жизнью. По поводу цен на людей предводитель писал, что за здорового, не старе тридцати лет мужика-работника дают, как и за рекрута, до ста рублей серебром, за баб тех же качеств — до шестидесяти, за пожилых, еще способных работать, и за подростков — по тридцать — сорок рублей, а за малых детей и за стариков, ежели кто таковых покупает с семьями, — по пятнадцать — двадцать рублей. Что же касается надела в одиннадцать десятин и усадьбы с исправной избой, гумном, скотом и мелкой живностью, то все сие господин Левшин оценивал примерно во столько же, как и семейство Ивана Ларивонова, расписанное ему по полу и по возрасту, то есть в пятьсот рублей серебром или две тысячи ассигнациями. Таким образом, на всю покупку, даже с запросом Вахрушова, следует иметь около четырех тысяч ассигнациями, в каковом виде такую сумму легче и безопаснее перевозить на дальнее расстояние. Свое письмо Левшин заключал советом обязательно запастись перед отъездом письмом от преимущественно военного чиновного лица к тульскому губернатору генералу Зурову с просьбой содействовать ускорению сделки. Купчие крепости на людей с землей заключают в губернской палате гражданского суда и только ввод во владение совершают в уездном суде, не раньше как по прошествии полутора месяцев, предоставляемых законом для протеста лиц, имеющих на то право. Но так как покупатель будет связан сроком отпуска из части, то важно, чтобы чиновники сих мест действовали без проволочек, чего без прямого указания губернатора ждать невозможно. Однако даже при всех благоприятных обстоятельствах покупщику надо иметь, кроме означенной суммы, еще сотни три ассигнациями на оплату пошлины, гербовой бумаги и прочих законом определенных расходов при покупке и столько же для награждения небольших чиновников, кои и суть совершители формальностей, каковые могут под различными предлогами затянуть, несмотря на приказ начальства. В заключении письма сообщалось, что, находясь в Петербурге, не столь трудно сыскать лиц, близко знающих генерала Зурова, служба коего прошла в гвардии, потом при фельдмаршале Дибиче и даже несколько лет флигель-адъютантом государя.
Окончив читать это пространное письмо, Жандр сказал:
— Сей барин заслуживает благодарственного послания. Все здесь умно и к делу. Хорошо, что у нас есть время сыскать нужных лиц. Может, и у тебя кто остался, которые в роту впихивали?
— Генерал Захаржевский и полковник Бреверн ноне где-то в армии командуют, а вот ротмистр Лужин сами флигель-адъютантом пожалованы и намедни помощь предлагали.
— Его запомним, но поищем чином повыше, — сказал Андрей Андреевич. — А пока давай считать. По сему расчету надобно тебе иметь при отъезде пять тысяч ассигнациями. У меня твоих ровно четыре тысячи. В ближние дни внесешь еще двести пятьдесят. Первого мая еще столько же, вот уже четыре с половиной налицо. На первое сентября еще двести пятьдесят. Значит, отпуск тебе надлежит просить на осень. Нехватающие мы тебе в долг поверим.
Вечером, пересказав жене письмо предводителя, Иванов закончил:
— Захаржевского разыскать Лужин, верно, поможет. А гвардейцы, которые до генеральства дошли, все промежду себя приятели.
— А по-моему, ты про то не думай, раз Андрей Андреевич сам взялся, — посоветовала Анюта. — Мало ли у него знакомства?
— А про что же мне и думать, окроме как заветное дело исполнить? — не без обиды спросил Иванов.
— Думай, как заживем, когда все в Козловке хорошо пойдет, — посоветовала она, — и станешь со спокойной душой семейством своим радоваться. Я знаешь про что перед сном думаю? Как бы летом где-нибудь на Выборгской дороге изобку сыскать, чтобы Маша настоящую траву, бабочек и жуков увидела, чтобы грибы не деревянные под стулом, а во мху под деревом сама собирала. А то папенька мой для меня все детство об этаком мечтал, но сначала служба разъездная, а потом нога калеченая мешали. И то ведь мы с ним, бывало, на Голодай-остров ходили, и там я из песку домики строила, а он, рядом сидя, на небо да на воду любовался… Потом еще думаю, что после поездки твоей за щетки больше упрошу не браться. Сам-то не замечаешь, как горбишься над ними и глаз краснеет… Даже если с каждого третного жалованья будем и впредь родителям твоим по сто рублей отсылать, так и тогда прямо по-царски заживем.
— Тогда, поди, надо и квартиру получше снять, — сказал Иванов. — К Маше, если в пансионе учиться станет, подружки придут, так чтобы не хуже, как у них…
— А я про пансион сомневаюсь, — созналась Анна Яковлевна.
— Что ж так? — удивился Иванов.
— Напротив нашей мастерской француз с женой пансион для девочек держали. Родители платили, кажись, рублей по пятьсот за год. А житье детям было не сравнять хуже, чем нам у Штокши. Учения совсем мало, только что по-французски да приседать ловко умели. А кушанье скудное, белье нечистое и во всем несправедливость. Старшие очень малышей обижали — прозвища стыдные давали, по ночам пугали. Сладкое или ленточку какую отнять — самое обычное дело. И что ни услышат — все француженке перенесут. А та их секла и на горох коленями ставила. В дурацком колпаке ходить за наказание не считалось.
— Ну и пансион! — сказал Иванов. — А вы как всё узнавали?
— Горничная тамошняя, которая постели девочкам убирала, воротнички да рукавчики крахмалила, в мастерскую забегала. И та ушла от французов, не могла такую несправедливость видеть.
— Так не все же пансионы такие! — сказал унтер. — Узнаем, расспросим, прежде чем отдавать.
— Не иначе, — согласилась Анна Яковлевна. — Наверно, и справедливые заведения есть. Но с годик я сама еще поучу шить, читать и писать. Смотри, как Лизавета бойко читает, и никогда ее в лавках не обсчитывают. И еще, знаешь ли, про что мечтаю?
— По-французски чтоб умела? — усмехнулся Иванов.
— Вот и не угадал! Фортепьяно купить и учительницу нанять. Ты слышишь ли, как поет? Что услышит летом от уличных музыкантов, все сразу и запомнит. Ведь и ты часто за работой мурлычешь. Она все твои песни знает. Про солдатушек-уланов слово в слово…
— Хорошо бы, — ответил Иванов. — Как во дворце концерты дают, я всегда послушать стараюсь. Жалею, что ты со мной вместе не можешь. А те, кто там сбираются, многим музыка будто в тягость.
— А господина Пашкова давно видел? Он-то, наверно, тульского губернатора знает? — спросила Анна Яковлевна, видно забыв, что сама советовала мужу не думать о письмах.
— Может, и знает. Хотя двадцать лет в отставке и будто в Тульской деревень у них нет.
— А всё спроси. У господ везде знакомство или свойство. Не с губернатором, так с женой, может, родня.
— Спрошу. Ему теперь все дело открыть можно, раз деньги почти накоплены, и про жалованье хорошее скажу.
Только в феврале они встретились. Снова опоздавший к началу обедни камергер спешил в собор. И опять остановил унтера:
— Ты завтра свободен, друг мой?
— Никак нет, в суточном наряде.
— Так послезавтра приди на Сергиевскую в полдень. Можешь?
Услышав о приглашении, Анна Яковлевна настояла, чтобы взял с собой письмо Красовского, раз про него спрашивал осенью.
Верно, хозяин отдал приказ о его приходе, потому что едва подошел к парадной двери, как ее распахнул швейцар, приговаривая:
— Пожалуйте! Его превосходительство приказали просить.
Стоявший тут же лакей помог унтеру снять полусаблю и шинель, принял шапку и пошел впереди, из почтения ступая боком по устланной ковром лестнице и дальше по парадным комнатам.
Убранство их было нарядно, но, видно, осталось от отца камергера. Шелковые обои и обивка мебели выцвели, позолота потускнела. Пашков встретил гостя на пороге своего кабинета, а может, библиотеки — вдоль стен высились шкафы с книгами. У письменного стола на серой ребристой тумбе стоял беломраморный оплечный портрет женщины, в котором Иванов тотчас узнал черты Дарьи Михайловны.
Перехватив его взгляд, камергер спросил:
— Похожа?
— Оченно, — сказал унтер. — Еще Красовский их со статуей в парижском каком-то музеуме равнял. Сказывал, на богиню какую-то древнюю схожи… А тут сами на себя-с.
— И мне он то же говорил. Но я с тех пор в Париже не бывал, проверить его мнение не мог, — отозвался Пашков. — Да садись, пожалуйста, Александр Иванович. Ведь ты теперь офицер. Пока ты стоишь, и мне, хозяину, сесть неудобно.
Иванов сел и подал письмо Красовского камергеру. Тот прочел, перечел еще раз и, возвращая, сказал растроганно:
— Истинно благородное и чистое сердце! — Помолчал и стал спрашивать: — Уже майор? Быстро в чинах проскочил… Ах, вот что? Ну, хоть и от цесаревича кому-то польза была. Так каков же адрес?.. Я ему настоятельно напишу, что буде в отставку пойдет, то не искал иного места, как у меня в дому. Только Филофею какова здешняя сырость покажется?.. Могут как гости жить, сколько захотят, а то Герасимыч ко мне на службу вступит. Мне честный человек вот как нужен. Скажу тебе, что из шести тысяч крестьян, что в наследство получил, освободил я пока тысячу двести, которых совсем безденежно, которых с малым выкупом, а остальных перевел на легкие оброки, что, однако, требует постоянного надзора, ибо в честности многих приказчиков не уверен. Отсюда понимаешь, насколько Красовский был бы полезен, и что он в штаб-офицерском чине, тоже весьма кстати для начальства всех мастей. Зиму бы здесь оперу слушал, — на этом слове Пашков будто поперхнулся, глянул на мраморную Дарью Михайловну, нахмурился, но продолжал, — а летом в моей коляске в любое имение с ревизией да с расспросами крестьян о поставленных мной управителях. Прошу, отпиши ему о сем же. Ведь ради успеха дел своих я и камергерский мундир надеваю и во дворец езжу. Мне звание такое не нужно, но в любой губернии, где по делам крестьян приходится в Гражданской палате побывать или губернатора визитировать, и здесь, вплоть до Сената, везде камергерство успеху содействует… Но супруга моя, представь, не хочет ко двору представляться, все больной сказывается. Я-то ее понимаю, что там хорошего? Но старый граф Литта ко мне пристает… Однако постой, высказан лишь один пункт беседы, для которой нынче пригласил: просьба Красовского ко мне на службу привлечь. Письмо, тобой принесенное, очень меня в том обнадеживает. А второй — о твоих делах. Помнится, Дарья Михайловна говорила, что замыслил родных из крепости выкупить. Так ведь?
— Так точно. И мысли сей не оставляю семнадцать лет, — ответил Иванов, после чего вкратце рассказал о капитале, накопленном благодаря щеточной работе и жалованью, и что хранит его деньги уже много лет статский генерал Жандр, к которому в дом привело его ремесло, еще когда служил в Конной гвардии.
По мере рассказа видел, как смягчалось лицо Пашкова.
— С господином Жандром я не знаком, — сказал он, когда Иванов кончил, — но как театрал записной в дни молодости помню пьесы, им весьма остроумно переведенные, а теперь наслышан как о честнейшем и дельном директоре департамента. Радуюсь, что случай помог тебе сыскать такого банкира.
— Они уже с епифанским предводителем дворянства в переписку вошли. И по сему делу у меня к вам, Павел Алексеевич, покорная просьба. Советует предводитель при поездке моей заручиться письмом к тульскому губернатору генералу Зурову…
— К Ельпидифору Зурову? — воскликнул Пашков. — Он Ельпидифором Антиоховичем зовется — вот имя-отчество замысловатое! Но сам-то для нашей земли овощь самая обыкновенная… Знавал его близко. Раз даже из небольшой беды помог выпутаться, тогда еще юнкеру в Дворянском полку. И что губернатором назначен, тоже слышал. Чудны дела твои, господи! А может, не тот еще Зуров? Не знаешь, был он адъютантом при Дибиче?
— Они самые, так предводитель епифанский пишут.
— Ну, так я ему такое послание настрочу, которое, думается, пользу тебе принесет. И супруге любезностей подпущу. Он на вдове графа Стройновского женился. Красивая была барышня лет двадцать назад. Ее папенька все состояние прокутил и за старика замуж выпихнул: ей восемнадцать, ему семьдесят. А граф вскоре попал под суд, хотя был сенатором, блюстителем законов. На счастье молодой супруги, тут и помер, оставив ее, правда, без копейки, отчего рада была за Зурова пойти. Он собой вроде вареного рака… Ну, я злословить пустился, чего Дарья Михайловна терпеть не могла… Так называй мне прозвание помещика, у которого своих покупаешь, да сколько их душ. И незачем Зурову, по-моему, знать, что ты им волю готовишь. Он чувств таких не понимает. А что прапорщик хочет крепостными обзавестись, ему вполне по душе… А теперь позавтракай со мной, сделай удовольствие, как былому конногвардейцу. И не стесняйся, жена моя, Ольга Николаевна, поехала больную тетку проведать, раньше обеда не будет.
Здесь же, в библиотеке, но на другой, круглый стол два лакея накрыли скатерть, поставили приборы, принесли жаркое, пирожки, кофе. Отослав их, Пашков все сам раскладывал и разливал. Вспоминали Конный полк, походы, Париж.
Когда собрался уходить, хозяин подал ему конверт.
— Что же тут?
— Долг мой, что вор-музыкант когда-то перехватил.
— Увольте, Павел Алексеевич, я ведь и так, слава богу, как докладывал, к нужному капиталу почти что подошел.
— Не могу уволить, раз то Дарьи Михайловны воля была.
— Но откуда узнали такое давнее?
— Второй музыкант, Алексаша, на неделе пересказал. Он здесь в Большом театре в оркестре играет. В среду его четвертого младенца крестил. Вот на крестинах и вспомнил, как ты нас на Литейной не застал и писать Дарье Михайловне запретил, чтоб не расстраивалась. Я хотел в сей же конверт еще прибавить, но раз у тебя столь благополучно, так те другому лицу отдам, а что Дарья Михайловна посылала, прими в свою кассу.
Иванов шел домой и подсчитывал капитал. Неужто наяву подходит к исполнению заветного желания? Сколько раз казалось не больше как мечтой. Да, верно, так бы и вышло, если бы не попал в роту, а потом еще получил производство. Близится время доложить полковнику про отпуск, притом не на двадцать восемь дней, как другим, а месяца на три, чтобы дело до конца довести. Придется притом все объяснить. А он жене расскажет, и от ихней прислуги вся рота узнает. Надо его просить помолчать, хоть пока…
В первых числах марта, идучи на рынок, Иванов глянул на дверь трактира, в которую ныряли посетители, и вспомнил Варламова. Будто вчера бежали от будошников по Аптекарскому. А ведь не сегодня-завтра стукнет пять лет, как нету Карпа на свете. Какого же числа помер? Надо у Павлухина спросить да на кладбище панихиду отпеть…
На обратном пути сделал крюк, завернул в роту. Узнал, что свободный от нарядов Савелий ушел в город. Наутро заглянул в табель — где стоит? В Эрмитаже. Не по дороге к нонешним постоям. Возвратясь со смены, спросил Тёмкина, нет ли записи, когда кто из гренадер помер. Федот вычитал, что Варламов скончался 4 марта. Ах, мать честная! В самый день, когда у трактира вспомянул! Теперь и у Павлухина спрашивать совестно.
Назавтра Иванов вложил в медвежью шапку стеганое донце, под сюртук вздел овчинную безрукавку, так что едва застегнул шинель. К Чесменской богадельне не близко, а мороз — январю впору. На Московской дороге ветер колет лицо иголками. Пробежаться бы для согрева, да неловко в такой форме. Знай хлопай руками крест-накрест, как кучер. Вот наконец Триумфальные ворота, дальше и домиков нет, одни огороды. Тут и припустить можно.
Вот и Чесма за рощицей. Свернул на разметенную дорогу и снова перешел на строевой шаг. Вошел в просторные чистые сени — сразу видно, что недавно открыли богадельню. Дежурный инвалид, гревший спину у печки, не попросил, а скомандовал:
— Прикрывай плотней двери! Тут швейцаров нету! Да иди греться. Говори, чего пожаловал. Проведать кого хочешь?
Ростом мал, ноги кривые, но на затертом сюртуке «Егорий» и три медали, сбоку Кульмский крест и на рукаве четыре галунных шеврона. Видно, отслужил довольно.
— Хочу панихиду заказать, друга помянуть, что у вас схоронен, — сказал Иванов, скинув вареги и грея руки о печку.
— Наш поп в город до вечерен покатил, так что дело твое несбыточное. Да не по Варламову ли панихиду хотел отпеть?
— Как ты догадался? Ведь у вас трое наших уже схоронено.
— Трое схоронено, а за одной могилой пригляд настоящий, хоть у других, сказывают, и женки оставши. В самый день Варламова кончины уже гренадер был и панихиду заказывал. Тот самый, что плиту на могилу ставил. Прибаутошник такой.
— Ну, коли так, — сказал Иванов, — то на могилу схожу да обратно. Ты мне, однако, скажи, как ее сыскать? Я с похорон не бывал, а крестов, верно, немало наставили.
— Мрём, конешно, на то и богадельня, — сказал инвалид. — А ее сряду сыщешь, как на кладбище взойдешь. Ваш-то как был, так размел, песочком да ельником убрал. Все любоваться ходим.
— А где же служил, браток? — спросил Иванов.
— Отседа рукой подать, в Софии, в лейб-гвардии гусарском полку, — отрапортовал инвалид. — Первым ездоком считался, вахмистром шефского эскадрона состоял. Тридцать лет отбухал, пять ран имею — сколько наград, столько и ран. Зато сюда и сдали помирать на казенные харчи… А ты где красовался?
— В Конной гвардии, тоже вахмистром.
— То-то ростом тебя выгнало.
— Я из средних был.
— А толку что в росте? Мал золотник, да дорог. Большого рубить да стрелять легше, какими железками ни покрывайся.
«Экий задира! — подумал Иванов. — Ведь видит, поди, офицерский темляк, да что ему, тут-то живучи…»
— Ну, будь здоров, братец.
— Будь и ты, гренадер.
Натянул вареги, вышел, свернул за здание. Да, крестов уже десятка три стоит. «Мрём, конешно, на то и богадельня».
Сразу видны Савельевы труды. Ельник да песок могилу выделяют. Подошел, чугунная плита, как у знатного барина, на тесаных камнях уложена. Рядом веничек, снегом полузасыпанный. Обмел и прочел выпуклые строки:
На сем месте погребенГренадер дворцовой роты и кавалерКАРП ВАСИЛЬЕВ ВАРЛАМОВСкончался 4 марта 1831 годаЖития его было 45 лет.
«Ай да Савелий! И никому ничего». Снял шапку, перекрестился. Ох ты, как сряду голову прохватило — волос-то немного осталось. Ну, теперь домой скорей. Будто ветер в спину на обратном пути. Или он в Петербурге со всех сторон?..
Как вышел на Московскую дорогу, сразу потрафило: подсел на дровни к пулковскому огороднику, ехавшему на Сенной рынок. А тут уж и до дому рукой подать.
От рассказа мужа Анна Яковлевна даже всплакнула.
— Вот видишь — зубоскал и гуляка, а какой душевный! Ведь плита заказная, немало стоит. Позвал бы его к нам в гости.
— Нет, матушка. Ему за стол без полуштофа не накрывай, а того у нас заводить не стану. Лучше вместе в Графский зайдем, Карпа помянем.
— Ну, как знаешь.
Встретясь назавтра во дворце, унтер сказал:
— Был в Чесменской. Настоящую годовщину Варламова прозевал, так хоть после. Видел твое устройство. Вот уж истинно красу навел нельзя лучше и денег не пожалел.
Павлухин ответил, по обыкновению, виршами:
Савелий помолчал, шевеля губами, видно, искал нужные слова.
А Иванов смотрел в его лицо, сейчас вовсе не похожее на обычное дурашливое, и думал: «Что ж, и твоя душа за то горит, что 14 декабря на площади не рванулись своим братьям помочь…»
Но Павлухин перевел дух и закончил:
В конце апреля Иванов принес Жандру двести пятьдесят рублей из жалованья и двести — полученных от Пашкова.
— Теперь ты уже и ехать бы мог, — сказал Андрей Андреевич. — Четыре тысячи семьсот рублей налицо. А ежели отпуск выйдет в сентябре, то все пять тысяч своих накопишь. И письмо нужное генерал-адъютант князь Белосельский-Белозерский мне обещал. А он член Военного совета и Зурову ох как пригодиться может.
Иванов пересказал разговор с Пашковым.
— Что ж, как говорится, маслом каши не испортишь. Камергеру твоему к пасхе «Владимира» за благотворительность пожаловали, о чем Зуров, конечно, где следует прочитал. Из сего поймет, что при дворе даже после долгого отсутствия его отмечают, значит, когда-то понадобиться может.
— Так они и знакомые давние, с первых чинов, — заметил Иванов.
— Оно хорошо, но про Зурова слух идет, что ему нонешнее прежнего важней.
Близилась пора просить полковника о небывало длинном отпуске, а значит, рассказать, зачем нужно ехать в Епифань, оттуда в Тулу и опять в Епифань, про срок в полтора месяца между присутствиями и про письма, которые уже пишут о нем губернатору. Но такой разговор унтер откладывал до подходящей минуты.
В конце мая царская семья и двор выехали в Петергоф, в Зимнем наступило обычное летнее затишье. С утра залы обходили с самой малой уборкой камер-лакеи, полотеры и приглядывающие за порядком гоф-фурьеры да со дворов доносилась команда пожарных офицеров. Там экзерцировали дворцовые роты со своими ручными помпами и подъемными лестницами. Раз в неделю механик-англичанин топил печь в подвале, поднимавшую воду в бак под крышей. Утром этих дней пожарные появлялись в парадных залах и выпускали прежний запас через краны и рукава на мостовые дворов, в резервуары для поливки Висячего и Зимнего садов.
А часам к двум все во дворце затихало. Неслышно прохаживались по залам дежурные гренадеры, раз в два часа обходили посты унтера. В Эрмитаже хоть иногда бывали господа, любящие поглядеть на тамошние сокровища, или художники, копировщики. Осматривали картины Лабенский с Митрохиным. А в дворцовых залах — полная тишина. Остановись и слушай, как тикают часы, потрескивает паркет, глухо гудит за стенами город…
Несколько гренадеров уехали в отпуск, многие ходили в свободное время удить рыбу за Воскресенский мост, другие — купаться на Петровский остров. Даже капитан Лаврентьев этим летом реже проверял дежурных, не делал строевых учений и вечерами отправлялся куда-то, надушившись так, что Тёмкин уверял, будто в канцелярию сквозь потолок протекает туалетная вода.
— А с шести утра учится на гитаре играть, — говорил Федот. — Месяц одно колено долбит, как ружейные приемы полирует. Бога молю, чтобы за второе взялся. Не иначе, как влюблен без взаимности. То ли дело поручик Крот! Цельный день делом занят. Когда на Миллионной тихо, я слышу, как вода в канавке плёхает да он на счетах внизу щелкает. На все имущество шнуровые книги ведет. И прошлый год у меня прописи взял и почерк выправил. Не то что крикун малограмотный с гитарой.
Большинство гренадеров тоже не любили Лаврентьева 1-го. Сам пятнадцать лет в нижних чинах провел, а по всякому пустяку служивым старей себя придирки строит, только что в рыло, как рекрутам, не лезет. Должен бы уж понять, что никто его по строю не подведет, и обходиться иначе. А то: «Чего плечо завалил, будто баба под коромыслом?.. Играй носком, осиновый пень!..»
Эти чувства разделял и Павлухин, на которого капитан не раз накричал. Зайдя к Иванову, сидевшему в воскресенье между сменами дежурных в канцелярии, и услышав наверху шаги, Савелий сказал:
— Думаешь, Иваныч, я про одних гренадер сочинять могу? Нет, брат, вот, к примеру… — Он указал на потолок: —
— Ты лучше бы забыл такое сочинять, — посоветовал Иванов.
— Так я же только тебе одному.
— Мне ничего, а сболтнешь кому, и задаст тебе Петух жару.
— При полковнике бояться нечего, а вот если в командиры роты выйдет, тогда натерпимся… Но, понятно, твоя правда. Знаешь, как умнейший Иван Андреевич Крылов написал: «Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют». Что господа друг другу тут же во дворце шепчут, нам и запоминать бы не след. Хотя бы насчет нонешнего государя. Те же, кто в перегибе перед ними сейчас обмирали, через минуту за углом друг другу:
Верно, и при тебе болтали? А понятно, каждый из нас, такое услышав, своих лучших офицеров помянет, которые за двадцать пятый год пострадали. Разве я когда забуду, к примеру, ротного своего Михайлу Михайловича Нарышкина? Солдата пальцем не тронул, не обругал разу. Или Бригена Александра Федоровича? Или Богдановича, который 15-го числа сам застрелился? Однако то всяк про себя таит, а вслух… — Савелий хлопнул себя ладонью по губам: — Ну, баста!
В июне Иванов решился наконец доложиться полковнику и, будучи в канцелярии один на один, попросил отпуска осенью.
— Когда хошь, братец, свои двадцать восемь ден получишь, — сказал Качмарев. — Мы даже с Настасьей Петровной удивлялись, отчего не съездишь сродственников поглядеть. И не так ведь далече. Есть гренадеры, которые в Малороссию и даже один в Уфу ездил.
— А мне, Егор Григорьевич, надо сряду на три месяца отлучиться.
— Зачем столько? Ведь ты же из-под Тулы взят.
В ответ унтер рассказал свое дело от первой мысли о выкупе близких до нынешнего дня.
— Ну, Иванов, опять надивил! — качал головой полковник. — Хотя, по правде, мне не раз на ум приходило, что деньги зачем-то копишь, а на торговых людей или скаредов с Анютой вовсе не схожи. Однако такое и разу не взошло. А дело, прямо сказать, божеское. Только как же князю пояснить? Может, доложить, что в Сибирь едешь и туда подорожную выписать? Так не люблю я начальству врать. И князь тебя отличает: «От Иванова, мне сказали, ни разу водкой или табаком не воняло — редкий служака». И недавно опять хвалили: «Вот у кого все вовремя и по уставу. Часы по его смене проверять можно. Побольше бы таких унтеров». Может, тебе и три месяца дозволит… Ну ладно, дай подумать, как лучше докладать, раз время до осени… Только вот что: гляди, в роте пока никому. А то пойдут звонить да роптать, что тебе отпуск больше ихнего хлопочу. А будет от князя приказ, тут уж все рты разом захлопнут.
Иванов хотел было просить полковника, чтобы сам не обмолвился жене, да посовестился. Но Качмарев сам, помолчав малость, сказал:
— И я, братец, тоже никому. Уж согрешу против супруги. И вот еще что: я как князю докладать стану, то умолчу, что сродственникам волю давать сбираешься. Стал офицером и захотел хутор завесть, для того и покупаешь души. Прозвание-то другое у них?
— По отцу моему, Ларивоновы идут… Вам видней, господин полковник, как лучше доложить, — сказал Иванов.
Когда вечером пересказал разговор Анюте, она спросила:
— А почему князю все, как есть, не рассказать? Не каменное же у него сердце?
— Верно, оттого, что господа полагают: в каком звании родились, в том и оставаться навек должны, — пожал плечами унтер.
— Несправедливые люди так думают. Небось сами чинов и богатств себе хотят. И как же полковник князю соврать будто боится, а тут придумал превратно представить, будто ты собственности ищешь. Разве то не вранье будет?
— Вранье, да, видно, для отпуска так надежней.
— Ну, а потом как? Выйдет отчего-нибудь, что сряду освободить не придется, и через год для того снова отпрашиваться? Все такое, Санюшка, разузнать сейчас надо. А то одно лганье за собой другое потянет.
— Ладно, спрошу у Павла Алексеевича, он все досконально знает, раз столько народу на волю отпустил, — ответил Иванов. — Может, сделать придется, будто потом за деньги выкупились.
Анна Яковлевна передернула плечами, но ничего не сказала.
Однако камергер выехал с супругой на лето под Новгород, и, чтобы посоветоваться, унтеру пришлось отправиться к Жандру.
Нынешним летом они снимали домик на окраине парка графа Кушелева в Полюстрове, и, сменясь с дневного дежурства, Иванов выступил туда походом. Уже на Выборгской его окликнул ехавший на дрожках Андрей Андреевич:
— К нам, Александр Иванович? Садись, поедем.
— Нам в городских экипажах ездить нельзя, — ответил Иванов.
— Но ведь ты же прапорщик теперь.
— По правам точно, что прапорщик, а по званию в роте — унтер. Встретится придирчивый начальник, и брани не оберешься.
— Ну, тогда и я пройдусь, — сказал Жандр, отпуская извозчика. — Я в клубе обедал, так прогуляться весьма полезно.
Выслушав сомнения унтера, он сказал:
— Пусть Анна Яковлевна не тревожится. Отпуск на волю одной семьи — дело пустое. Ты отсюда пишешь бумагу в епифанский суд, и там за причитаемую казне сумму всё местные крючки произведут, хотя, конечно, придется их «подмазать», чтобы не тянули. Освобождение с землей несколько хлопотнее. Однако никто тебе помешать не может написать, будто выкупились и за надел заплатили… Но в рассказе твоем меня заняло, что умный и опытный Пашков употребляет такой ход в письме, чтобы понудить губернатора ускорить процедуру, и не менее опытный Качмарев доходит до того же в докладе министру двора. Как у нас все начальствующие лица слова «вольность» боятся! Покупке крепостных охотно посодействуют, но если им же пожелают свободу доставить, так сразу вопросы: кто, зачем, почему?.. Не будет ли от сего нарушения «священного» порядка?.. Не зря наших с тобой знакомых давних всё еще забыть не могут. На важнейшие права посягались!.. — Жандр осекся и огляделся. Но вблизи никого не было, и он закончил: — Так что делай, как умные люди советуют. А с купчей крепостью в кармане, может, тебе для начала их и точно на небольшом оброке в свою пользу оставить? — Жандр покосился на собеседника.
— Что вы, Андрей Андреевич, Каин я, что ли?
— Ну, ну, пошутил… А вот и наше палаццо, где Варвара Семеновна у калитки. Сейчас будет нас обедом потчевать.
— Так мы же оба обедали.
— Знаешь поговорку: палка за палкой плохо, а обед за обедом хорошо. Не будем ее огорчать.
«Палаццо» оказалось большой избой из двух комнат с людской и кухней. Правда, обед на обед вышло вполне хорошо, по крайней мере Иванову, прошагавшему верст шесть-семь. Но даже запахи вкусных блюд порой перебивал аромат цветов на клумбах под окнами. А после обеда Варвара Семеновна сказала:
— Ведь я по привычкам помещица. Кабы не служба Андрея Андреевича, разве бы в городе жили? Вот погляди-ка, какие у меня кормушки птицам устроены. И ежика ручного как позову, сейчас вылезет. Фыря, Фыря, Фыря!
И правда, из кустов выкатился еж и направился к Варваре Семеновне, которая подставила ему блюдце с молоком.
— Так ежели тебе самому, друг любезный, сюда прийти недосуг, — сказала госпожа Миклашевич, — то пришли в любой день жену с дочкой. Что все средь камней да дворцов?
Иванов добрался домой, когда Маша и Лизавета давно спали, и Анна Яковлевна начала уже тревожиться. Когда, по обыкновению, рассказал все по порядку, она сказала:
— Андрей Андреевич человек знающий, так что пусть так и криводушничают… А вот нам бы на будущее лето вроде такого домика сыскать. Наверное, с генералов-то дорого берут. А я у мастерицы нашей бывшей спрашивала, которая за чиновника вдового вышла, так у Лесного корпуса за полсотни в лето избушку — комнату с кухней — сымают. Ему, правда, далеко в должность ходить, а место, сказывала, — сосны да песок кругом. Вот бы и нам такое…
— Коли разбогатеем, обязательно снимем, — ответил Иванов, которому самому всю обратную дорогу мерещилось, как Маша, присев на корточки, разглядывает Фырю.
14
— Составили бы с Федотом рапорт насчет твоего отпуска, — сказал полковник Иванову, встретив его во дворце. — Тут надо чего-нибудь почувствительней. К примеру, что, надеясь прослужить в роте, доколе угодно попечительному начальству, унтер Иванов озабочен, однако, судьбой жены и дочери, о приданом коей обязан пещись, а посему вознамерился приобресть в собственность столько-то душ. Ну, и в сем роде узоры. Сочините?
— Постараемся. А велик ли весь рапорт должен быть?
— Не больше странички. Его сиятельство долгих не любит. Нечего, говорит, казенную бумагу зря переводить.
Придя в канцелярию, унтер передал Федоту слова полковника. Суть дела он рассказал писарю раньше, у себя за воскресным пирогом.
— Что ж, «эта службишка не служба», как говаривал Конек-Горбунок, — сказал Федот. — Вот придете со смены дежурных, и прочту вам бумагу, набело переписанную.
— Зачем набело? Вдруг полковник что переменит?
— Ничего не станет менять. Хотите об заклад побьемся? Разве Петух заведет свою польку, так что перевру.
Действительно, через час под рапортом полковник уже вывел подпись и сказал унтеру:
— В понедельник в Царское повезу, где сейчас тихо, государь на маневры в Курск уехал. А ты, Иванов, в тот день свечку Петру и Павлу ставь, чтобы князь в добром духе случился.
В понедельник унтер дежурил, свечи ставить не бегал, но очень тревожился. Ежели отпуска не дадут, надо в отставку идти, все исполнить и опять за щетки, с плохим-то глазом!..
С такими мыслями вышел из Шепелевского дома около четырех часов — время приезда полковника из Царского. Посмотрел на редких прохожих и еще более редкие экипажи — с Миллионной почти все господа с двором или по поместьям… Да, доходнее здешней службы не сыскать… Разве камергер возьмет с Красовским по имениям ездить, бурмистров проверять. Такое за счастье почтешь, когда к пенсии в треть основного жалованья подспорьем щетки останутся по шести гривен за штуку… Ежели не разрешат, придется идти в отставку, хоть в следующую осень, когда десять лет в роте стукнет и пенсия удвоится. Значит, на год выкуп отложить?.. Ох, половину пятого пробило, надо смену вести и Тёмкина просить полковника постеречь, хотя службе писаря в четыре часа конец.
Когда Иванов возвратился, Качмарев, стоя в канцелярии, отряхивал пыль со шляпы и строго посмотрел на вошедшего.
— На, получи, — сказал полковник, передавая папку стоявшему навытяжку писарю. — Здесь унтера Иванова судьба сокрыта… — И вдруг, не выдержав роли, улыбнулся и сказал: — Разрешены тебе все три месяца, раз до сих пор николи отпуска не брал. Однако, как всегда, князь поворчал: «Не успеют в благородия выползти, а уж хутора подавай, а потом деревни. Ты гляди, Качмарев, чтоб в отставку раньше шестидесяти не просился… Пусть истинно в приданое дочке покупает…» А сейчас читай, Федот, какую надпись учинили. Я очки не хочу доставать.
— «С первого октября дозволяю отпуск на три месяца для покупки крестьян со двором по сему рапорту», — прочел Тёмкин.
— Вот тебе и все! — сказал Качмарев. — Нынче у нас девятнадцатое июля, более двух месяцев тебе на приготовление к вояжу. И опять скажу обоим: до времени никому ни слова.
…Пошел к Жандру, доложил, что отпуск разрешен.
— Будет письмо от князя Белозерского. Он посоветовал и мне губернатору написать. А ты добывай от Пашкова. Чтоб они у тебя наготове за пазухой, так сказать, лежали…
На Сергиевской сказали, что господа еще в деревне. Приедут в конце сентября. Отправился к фельдшеру Николаю Евсеичу, который так похудел, что едва его узнал. В комнате было прибрано, и на столе — нетронутая тарелка с жарким, а сам толок в фарфоровой ступке что-то, но тотчас оставил, обрадовавшись гостю. Хорошо, что у Иванова оказались с собой деньги: пригласил, как в прошлый раз, в трактир. Угощал чаем с сахарными кренделями, и старик оживился, подбодрился. Рассказал, что Новгородскую вотчину барин раньше не любил, раз поблизости находились военные поселения, а теперь их изничтожили, вот и поехал над Волховом пожить. Продиктовал Иванову адрес господ и рассказал, что с новой женой камергер живет дружно. Она ему вечерами читает вслух, а он пасьянс раскладывает. Но где же до того, что с Дарьей Михайловной бывало! Там восторги и счастье, а тут тихость, будто разом старые стали, как он сам, Евсеич…
В тот же вечер сочинил просьбу о присылке письма, наутро дал проверить Тёмкину по части ошибок и отправил.
Он все время старался теперь заняться чем-нибудь, чтобы не думать о поездке. А то прямо лихорадкой колотило, как вспомнит, что скоро увидит отца с матерью, братьев, родное село. Шутка сказать — через двадцать восемь лет туда приехать! Не говоря уж, что выкупать своих из кабалы отправляется. Господи боже! Восемнадцать лет назад по той же дороге проехал с ремонтерской командой и даже не мечтал про нонешнее. Царство небесное вахмистру Елизарову, что в первом разговоре при купании не высмеял его, а поддержал, рассказал про улана, который на выкуп любимой девицы деньги копил… А в перерыве полуторамесячном меж присутствиями и правда до Красовского бы доехать и уговорить к Пашкову перебраться на службу. На самое доброе дело остатки силы отдать. И уж жили бы с Филофеем, как у Христа за пазухой, вот как Евсеич — на дом кушанье носят…
В одно из суточных дежурств мужа Анна Яковлевна с дочкой и Лизаветой съездили на дачу к Жандрам. И назавтра у Маши только и было рассказов отцу про ежа Фырю.
— А животик у него без колючек, тепленький, и как его подхватишь, то иголки опустит и сидит смирно. Видно, ему на моей ладошке хорошо было. Меня Варвара Семеновна научила его не бояться и под брюшко брать. А ножки у него с коготками, но меня разу не царапнул и все подглядывал из-под лобика. — Маша изобразила, как подглядывал еж, опустив голову и наморщив лоб. — Фырей его прозвали за то, что фыркает, когда бегает. Я хотела его к нам в отпуск отпросить, пусть бы и ты на него налюбовался, да мамонька сказала, что без травы и без червяков жить не может. Правда ли, что бедных червяков ест?
— Раз мамонька сказала, значит, правда.
Тёмкин, бывший в курсе дел Иванова, советовал ехать до Москвы и дальше дилижансом, ежели они ходят до Тулы.
— Все на людях будете, — говорил он, — одному деньги большие на почтовых везти прямо-таки боязно.
— Чего бояться? — возражал Иванов. — Я еще за себя постою, да и при оружии. В дорогу в вицмундире и в шляпе поеду да при сабле. Может, еще пистолет у полковника попросить? — пошутил он.
Шутки шутками, а как везти большие деньги и как оборонить себя от лихого попутчика или соночлежника? Что мыться в бане не придется неделю или десять дней, то еще не горе. То ли в походах бывало. Но, видно, опять черес придется под рубаху надеть и деньги крупными ассигнациями в него зашить.
— В дилижансе попутчики перезнакомятся и на людях украсть трудно, — сказал Жандр, которого просил обменять капитал на сторублевки. — Но пять суток едут. А ежели почтой да чаевых не жалеть, то за трое в Москве будешь.
Сходил в заведение дилижансов. Узнал, что место до Москвы в карете стоит семьдесят пять рублей ассигнациями и едут будто четыре дня. Тут же выслушал разговор двух торговых людей, что внутри ехать душно, обязательно какая-нибудь барыня окошки открывать не дает. А снаружи, рядом с кондуктором, конечно, воздух чистый и стоит место тридцать рублей, но зато ежели дождь, то укрывайся как знаешь… Вот и думай, раз ехать в октябре!
И вдруг все тревоги разрешились. Толстомордый лакей передал приглашение на Сергиевскую. Назавтра пошел к полудню.
Швейцар доложил, что господа третий день, как прибыли из деревни, ныне барин уже выехали со двора, а барыня велели просить наверх. Лакей проводил в гостиную, где хозяйка сидела за рукодельем. Белокурая, в веснушках, с круглым миловидным лицом, одетая в простое, синей шерсти платье с белым воротничком, встретила унтера приветливо и просила садиться. Объяснила, что Павел Алексеевич уехал в Сенат, где разбирают претензии его двоюродного брата, и поручил ей принять гостя и предложить сделать путь до Москвы с ними. На 6 октября назначено венчание ее младшей сестры, на котором они хотят присутствовать. И еще просил передать, что к тому времени вызывает с отчетом в Москву приказчика из рязанской деревни, так что до Тулы доедет без почтовых с верным человеком.
Иванов благодарил, радуясь вести. Радовался и тому, что у Павла Алексеевича такая приветливая супруга и никак не изукрашена — колец, браслетов, серег на себя не нацепила. Только вокруг шеи жемчужная нитка два раза обвита. Не та ли, что Дарья Михайловна носила?.. И, будто прочтя его мысли, барыня сказала:
— Узнаете жемчуг? Перед смертью мне надела и сказала: «Носи всегда, я его любила». Я сначала сняла, Павлу Алексеевичу не хотела напоминать. Но и он те слова слышал и пенял, что их забываю. Вот и ношу, только часть под платье прячу. Что красавице идет, на обыкновенных женщинах неуместно…
Иванов не нашелся, что сказать, так явственно вспомнил жемчужную нить, игравшую на светло-зеленом платье, когда пела на Литейной с виолончелью и роялем. Так пела, что до сих пор помнит восторг, забвение всего, которые тогда охватили…
А эта, видать, добрая барыня. Евсеич говорит, что до Дарьи Михайловны далече — так разве ту повторить возможно?
И в это лето гулял с Машей по Мойке, по Летнему саду, добирались до столь памятного родителям Екатерингофа, побывали еще у Жандров в Полюстрове. Гораздо больше, чем домашние игрушки, Машу занимали цветы и травы, насекомые, зверьки. Однажды, когда в Екатерингофе набрели на дохлого крота, так расплакалась, что едва успокоил, уверяя, что крот состарился и без болезни заснул, как вянут цветы, как листья осенью опадают.
— Но вы с маманей ведь еще не старые? — спросила Маша. — Вы не заснете, меня одну не оставите?..
С другой прогулки принесли домой серого котенка, который долго бежал по Конюшенной площади около самых ног, не боясь проезжавших рядом экипажей, и все, задрав голову, смотрел на Машу, пока не взяла на руки, сказавши отцу:
— Папаня, ведь он к нам в кошки очень хочет. Давай маму просить, чтобы позволила оставить. Слышишь, как сряду запел?
Они попросили вместе, Анна Яковлевна разрешила, и котенок, названный Мурликом, водворился в квартире.
А однажды, когда он укладывал дочку спать, сказала:
— Из деревни привези живого зайчика. Они хорошие, Лиза говорит, никого живого не едят, только капусту да морковку.
И пришлось объяснить, что звери, которые родились на воле, не могут жить в комнате, что зайчик прыгнет в окно и разобьется, а в клетке ему совсем плохо будет. Насчет того, что Мурлик непременно перегрызет заячье горло, Иванов, понятно, не рассказал, но подумал, что, если Маша увидит, как ее кот ест мышонка, — вот слез-то будет! Но ведь все равно их не миновать…
Дни заметно стали короче. Пожелтел Летний сад. Двор возвратился в Петербург, и для гренадер потянулась обычная служба. Ездившие в отпуск возвратились, а Иванов все молчал о своем.
Однажды под вечер, проходя Фельдмаршальский зал, он увидел флигель-адъютанта Лужина, разговаривавшего с начальником конногвардейского караула, отдал честь, как теперь положено, уже по-офицерски, двумя пальцами к шляпе, и прошел мимо.
— Александр Иванович! Нехорошо старых друзей не признавать! — раздалось сзади с немецким акцентом.
Оказывается — поручик барон Фелькерзам, один из молодых офицеров, что заступились за него перед Эссеном. Но без каски, которую держал под локтем, не узнать его, так к тридцати годам облысел. А улыбка та же — добрая и открытая. Расспросил про службу, поздравил с производством. Потом сказал:
— Ну, господа, я пошел на свой караул.
— К своему караулу, Карлуша! — поправил Лужин. — Вот ты так при государе скажешь, он рассердится.
— Я при государь о дне команды кричу, которые не ошибусь. А в светской беседе по-французски я твердый.
— Душа у тебя, слава богу, твердая, — шутя обнял его Лужин, после чего удержал за локоть Иванова: — Торопишься? А помнишь, как с Бреверном в этом карауле стояли под самое наводнение?.. Зайдем ко мне. Барону нельзя отлучиться, а я один вечер коротаю. Их величества запросто в гости уехали. Эй, подай нам огня! — крикнул он лакею, маячившему в Министерском коридоре.
Вошли в дежурную комнату, освещенную пока только из двери. Лужин присел за письменный стол, унтер — напротив на диван, крытый сафьяном. Лакей внес свечу, зажег канделябры на столе. Ротмистр набивал трубку, а сам говорил:
— Расскажи, как живешь. Женат? Дочка есть? И я вот недавно женился, сыскал наконец невесту по сердцу. Не раз бывал влюблен на неделю, а до женитьбы дозрел только за тридцать лет. — Он скрутил бумажку, зажег от свечи и раскурил трубку.
Иванов поздравил, как полагается, а сам думал: «Спросить про Зурова? Ведь предлагал помочь, если понадобится…»
— Иван Дмитриевич, — решился он, — знаком вам генерал Зуров?
— Который в Туле сейчас? Даже весьма. Старшим шафером на его свадьбе был. А на что он тебе понадобился?
«Не разболтает?» — подумал Иванов и начал:
— Мне вот как письмо к ним требуется. Я в тульские края в отпуск собираюсь. Родом я оттуда, и надобно покупку одну совершить, которую без ихнего приказу, люди сказывают, чиновники так затянут, что никакого отпуска не хватит.
— Письмо рекомендательное с удовольствием напишу и думаю, на пользу пойдет. Но что за покупка у тебя? Или секрет?
— Вам скажу, только, будьте добрые, никому не передавать.
— Изволь. Сглазу боишься? То, братец, одно суеверие.
Иванов рассказал все без утайки. Ротмистр слушал, окутанный табачным дымом. Когда унтер смолк, Лужин сказал:
— Ну, спасибо, брат, за откровенность. Еще раз убедился, что не зря тебя тезка твой любил. Будет письмо Зурову и второе — к его супруге. Губернаторши порой важней губернаторов.
— А про князя не слышно чего? — спросил Иванов и выглянул в коридор — лакей сидел далеко, на повороте к покоям министра.
— Все по-прежнему, — ответил Лужин. — Просился на Кавказ рядовым, но отказано. Между тем Александра Бестужева два года как туда перевели, и за отличие в прапорщики представлен. Отменную храбрость выказал и на бивуаках романы пишет, которые разрешено печатать, хотя под чужим именем. А ставши офицером, может отставку взять… Так-то, Александр Иваныч, у нас с тобой одна судьба — во дворце сидим в тепле и чистоте, про них вспоминаем, а им, чтобы на волю выбиться, какие испытания надо пройти!.. Ну-с, как снова маршировать мимо будешь, загляни-ка сюда. Я сейчас Зуровым стану писать, благо все тут по должности — конверты, бумага, сургучи.
— Только, Иван Дмитриевич, не обмолвитесь кому-нибудь…
— Э, чудак! Кому мне сказать? Слово даю.
Через полтора часа Иванов получил письма на имя тульского губернатора и его супруги Екатерины Александровны.
А спустя несколько дней в полутемных сенях Шепелевского дома его окликнул Жуковский:
— Постойте, друг мой. Ведь вы Александром Ивановичем Ивановым зоветесь? Так проводите меня, ежели имеете время.
— Куда прикажете. Служба моя ноне окончена, — ответил унтер.
Они вышли из подъезда и, перейдя Миллионную, направились по набережной Зимней канавки. Потом свернули по Мойке к Невскому. Идя ровной, неспешной походкой, Жуковский заговорил:
— Я вчера в гостях встретил господина Жандра, давнее знакомство возобновили, и он пожаловался мне, что князь Белосельский, нежданно государем на Кавказ посланный, не оставил письма, обещанного по вашему делу. Мы и условились каждый от себя генералу Зурову написать, обозначивши все чины и должности, — авось двое статских за одного военного потянут. — Жуковский, улыбаясь, вынул из кармана конверт и подал Иванову: — Вот, получите, и желаю успеха в прекрасном намерении.
— Уж и написали, Василий Андреевич!
— Долго ль умеючи? Ваше дело — нас охранять, а мое — пером скрипеть. Хотел давеча в канцелярии оставить, да вас самого встретил. Ведь Федот — верный человек, не забыл бы отдать?
— Во всем и всегда вернейший. Покорнейше благодарю, Василий Андреевич. Дай вам бог доброго здоровья!
— Вот лучшее пожелание, — закивал Жуковский. — И чтоб брюха сбавить. На антресоли стало трудно лезть. Вам сколько лет?
— Сорок семь без малого.
— А талия как у девицы. Я на шесть лет старе, но все-таки стыдно, что едва жилетом стягиваю, чтобы сюртук застегнуть.
Откланявшись Жуковскому на углу Невского, Иванов решил дойти до квартиры Жандра, доложить о полученных письмах.
Андрей Андреевич еще не приехал из присутствия, но Варвара Семеновна кликнула Иванова в гостиную, усадила и сказала:
— Нынче от князя Белосельского принесли-таки письмо к губернатору Зурову. Видно, оставил, на Кавказ уезжая, а супруга не торопилась переслать. Вот письмо-то. А вчерась Андрей Андреевич на твою мельницу от себя слезницу сочинил. И про Жуковского мне еще сказывал, который мастер писать да и наследников воспитатель. Так что теперь у тебя три письма в руках.
— Пять, сударыня, и еще шестое будет, — поправил Иванов.
И рассказал про флигель-адъютанта Лужина, про его письма к супругам и про обещание камергера Пашкова.
— Ну, тебе хоть сумку, как фельдъегерю, навесить, — засмеялась Варвара Семеновна. — Аль в шапку высокую затолкаешь?..
— Ну как не поверить, что в сорочке родился? — говорила Анна Яковлевна. — И писем от превосходительных целый ворох, и едешь в барской карете. Выходит, надо начинать собирать тебя, раз неделя до отъезда осталась. Первое — нужно укладку приобресть, приличную офицерскому званию, в которой парадную форму не смять да поместить две смены белья и подарков хоть всем женщинам…
Федот радовался за Иванова наравне с Анной Яковлевной, сообщал унтеру, что князь приказал уже послать в штаб гвардии бумагу о выписке подорожной, что заготовили отпускной билет на три месяца. Обещал так учить Машеньку, чтобы к своим пяти годам, к отцовскому приезду, стала читать, как взрослая.
Во время одного из подобных разговоров, происходивших сентябрьским днем в канцелярии, писарь вдруг замер на полуслове. Иванов решил, что Петух над ними снова заиграл на гитаре или еще что выделывает, но Тёмкин указал на открытое окно, где слышались голоса, и унтер уловил такой знакомый звук — звяканье колец на ножнах палаша, когда его поддерживают за эфес.
— Ш-ш-ш! — прошептал Федот благоговейно. — Пушкин!
Он на цыпочках подкрался к окну и, прилегши на подоконник, выглянул на Миллионную.
Иванов тихонько подошел следом и также посмотрел на тротуар под окнами.
Там остановились трое знакомых унтеру господ. По тому, как стояли, можно было предположить, что шедшие из Шепелевского дома Жуковский и Пушкин встретили здесь ротмистра Лужина.
— Ну, прощай, сват. Не проиграйся нынче, как третьего дня. Хотя, знаю, давать советы куда легче, чем самому вовремя отойти от стола, — говорил Пушкин. — А ты знаешь ли, Василий Андреевич, что Лужин — мой сват?
— Как же! — ответил Жуковский. — Тебя сосватал, а сам еще долго на такой шаг не отваживался. Однако и сейчас ротмистера по старой памяти к фрейлинскому подъезду притягивает.
— Полно, Василий Андреевич, — смеялся Лужин. — Вам не к лицу злословить. К тому же именно вы частенько по Комендантской лестнице из парадного этажа не вниз, а вверх направляетесь.
— Ну, я-то «монашеским известен поведеньем», как покойный Грибоедов писал…
«Какой же он сват? — думал Иванов, когда они разошлись. — Будто Тёмкин говорил, что жену Пушкин из Москвы привез…»
— А вы знаете сего офицера? — спросил Тёмкин.
— Один из благодетелей моих, старанием коих в сию роту попал, — ответил унтер и рассказал про Лужина.
Накануне отъезда Иванов разводил дежурных в Эрмитаже. В Предцерковной встретил полковника, шедшего с доклада министру.
— Освободясь, приди к нам на квартиру, — приказал он.
«Верно, наставление хочет дать», — решил Иванов.
Когда унтер вошел в полутемную прихожую, Качмарев сам закрыл за ним дверь на задвижку.
— Горничную услали, кухарка вовсе оглохла, так что болтать никто не будет. Жена моя хочет тебя в дорогу благословить.
Чувствительная полковница ждала около накрытого стола, на котором блестел поднос с бутылкой, рюмки и ваза с печеньем. А пониже груди она прижимала иконку в серебряном окладе.
— Хочу тебя, Александр Иваныч, напутствовать, — сказала Настасья Петровна и слегка шмыгнула уже мокрым носом.
— Спасибо, матушка, — сказал унтер. «С чего бы она, как поп какой? Или оттого, что детей нету?..»— подумал он.
— Стань на колени, — шепнул Качмарев.
Иванов сделал как велено, и Настасья Петровна крестообразно осенила его иконой и дала поцеловать, приговаривая:
— Ну, дай бог всему задуманному тобой сбыться… — Что-то еще пошептала и добавила: — А образ сей с собой всюду вози, он тебе поможет. Ну, вставай теперь. Наливай, Егорушка, наливку. Положи, положи икону на стол, не пей с ней в руке…
— Как на войну меня провожаете, — сказал Иванов, беря рюмку, протянутую Настасьей Петровной.
— На подвиг едешь не хуже военного, — наставительно молвил Качмарев. — Часто ли такое видим? Говорю, как сыну, что горжусь, что ты в моей роте сыскался. Ну, поцелуемся, и ступай, готовься к отъезду.
В этот вечер засиделись за самоваром, обсуждая поездку. Анюта уже уложила чемодан и теперь зашивала ассигнации в новый черес.
— Я почти все деньги с собой беру. Тебе на три месяца всего двести рублей оставлено, — говорил унтер.
— Мне бы спокойней, кабы все дочиста взял, — отвечала жена. — Я здесь всегда занять у Карловны, у Качмаревых могу, да еще в копилке рублей тридцать. А тебе где взять, ежели, как липку, чиновники обдерут? Обратно пешком пойдешь?
— Не бойся, до Москвы доберусь хотя на своих конях, а там князя Ивана Сергеевича сыщу. Мне на дорогу поверит. То уж самый крайний случай… Ну, пора, матушка, на боковую.
— Обещайся только, Санечка, что дрожки возьмешь, не потащишь на плечах укладку в такую даль. Не жалей двугривенного…
…Сговорено было, что с Сергиевской тронутся в девять, но Иванов подъехал к дому Пашковых, когда не было восьми и дворники кончали мести улицу. Отпустил ваньку, поставил чемодан у подъезда. И чего Анюта так рано отправила? Сама опоясала чересом, торопила бриться, кормила, поила. Когда уже поцеловал сонную Машу и простился с Лизаветой, еще долго крестила. Когда уже шел по двору, то окликнула в окошко, и он помахал ей свободной рукой.
Но вот дорожная карета четвериком в ряд выехала со двора и завернула к подъезду. На задке притянуты ремнями большие чемоданы. Одновременно швейцар распахнул парадную дверь:
— Пожалуйте, ваше благородие, господа наверх вас просят. Шинель и шляпу позвольте, чумадан велю на карету вязать.
Лакеев нынче не видно, пошел один. Заслышав шаги, Павел Алексеевич вышел из неизвестной еще унтеру столовой комнаты.
— Иди сюда, Иваныч. Съешь что-нибудь на дорогу, выпей.
— Покорно благодарю, жена до отвалу накормила.
И вот уже расселись в карете. Господа — на заднем сиденье, он с пожилой горничной Верой Осиповной напротив, на почти таком же широком и мягком диванчике. На наружной скамейке за кузовом с подъемным кожаным верхом — двое в синих ливреях: пожилой камердинер барина и молодой, толстомордый, с кожаной сумкой через плечо, которого со слов дяди-кучера Иванов звал про себя «телячьей башкой». Подножка закинута внутрь кареты, дверца захлопнута швейцаром. На широкие козла рядом с кучером сел почтовый ямщик, что поведет обратно лошадей с ближней станции.
— С богом, трогай! — говорит Павел Алексеевич.
И хотя кучер слышит его через открытое окошко, «телячья башка» повторяет повелительно:
— Трогай! Пошел!
Провожающие у подъезда машут платками, шапками. Качнувшись, тронулась карета. И рессоры какие мягкие, даже на колдобинах мостовой только чуть тряхнет да мотнет туда-сюда в стороны.
Оттого что мало спал прошлой ночью, Иванов не раз задремывал в первый день пути. Но и такой случай предусматривало отличное венское устройство: от спинки отвертывалась выстеганная боковинка, которая отгораживала от Веры Осиповны, чтоб не мог, заснувши, ее беспокоить. А спереди застегивался ремень против груди и сверху спускалась занавеска. Дремли, как в отдельной люльке. Дремали и Пашковы, посапывала за отгородкой соседка-горничная.
А в перерывах дремоты Иванов раздумывал, какое чудо совершилось в его жизни. Восемнадцать лет назад по этой дороге ехал в строю он, забитый ефрейтор, считавший великим счастьем, что на полгода избавлен от истязаний барона Вейсмана, что хоть на время ушел от неизбежного самоубийства. А нынче?.. Сам, ставши «благородием», едет в заграничном экипаже со знатными господами и везет честно накопленных почти пять тысяч рублей, чтобы выкупить семейных из крепостной кабалы. Не сон ли видит?
И чего только в такой карете не устроено для удобства путешествия! И на заднем сиденье, понятно, выдвигается такая же мягкая загородка для удобного сна в сидячем положении, и подхват под грудью, и занавеска спереди. А под сиденьями и на боковых стенках в футлярах и карманах ловко размещены погребцы с серебряными столовыми приборами, с туалетными принадлежностями, с бутылками и графинами, походным самоваром и кофейником, не говоря о судках с приготовленной в дорогу едой. А под крышей в сетках лежат свернутые одеяла, подушки, простыни, матрасики. Словом, целый дом с хозяйством для дальнего пути.
Та ли это карета, в которой Дарья Михайловна в последний раз от Калуги до Одессы проехала, уже в горле смертную хворь чувствуя? Чувствовала и глядела за оконце, прощаясь с нищей, бедной родиной, с такими вот курными избами под соломой в придорожных деревнях; с мужиками в домоткани и лаптях, везущими кладь на мухратых лошаденках; с бабами, что выносят на почтовые станции печеные яйца, топленое молоко, огурцы, хлебы и жареных кур, которых покупают путешественники попроще. Выносят, отрывая от своих семей, чтобы выручить гривенники, без которых не свести концы нищего крестьянского хозяйства.
Толстомордый лакей, которого по-крещеному звали Корнеем, оказался донельзя расторопным в дороге. Едва успевали остановиться перед станционным домом, он кубарем скатывался со своего «насеста», как называл Пашков наружное сиденье, и взлетал на крыльцо, еще на ходу расстегивая сумку. И тотчас из окна смотрительской слышался его пронзительный голос:
— Его превосходительство господин действительный камергер двора его величества с супругою спешат в Москву на свадьбу сродственницы ее сиятельства княжны Козловской! Вот подорожную пиши в книгу да лошадей прикажи поскорей перепрячь. Подручным на водку, тебя наградим и обратного ямщика не обидим. Считай, сколько за прогоны следует.
Все выпаливал скороговоркой, и редко бывало, чтобы через несколько минут вокруг кареты не начиналась суета. Одни конюхи выпрягали прежний четверик, другие вели новый, еще кто-то подмазывал колеса, а смотритель с поклоном выносил прописанную подорожную и, получив пару целковых, желал «счастливого пути их сиятельствам» и просил «поберечь лошадок». А Корней уже вскочил на свой «насест» и кричал: «Ну, трогай, пошел!» На что его дядя-кучер отвечал внятно: «Мало я тя учил, телячья башка!»
Камердинер Василий Петрович, спокойный, молчаливый, вместе с горничной Верой Осиповной накрывал на стол на тех станциях, где останавливались, подавал кушанье и устраивал все к ночлегу. Покупать съестное стали только на третий день, да и то больше для «людей». Господа ели немного — сыр, печенье, яйца, пили кофе и чай. На ночлег располагались в новых каменных станционных домах или чистых избах, кроме Иванова и камердинера, спавших в карете, раскинув подставное сиденье, отчего образовывались две широкие постели. Василий Петрович спал чутко, раза два в ночь обходил карету, осматривая, все ли пристегнутое на запятках цело. Ощупывал фонари, дверные ручки и прочее, что, случалось, крали на ночлегах. Кучер уходил спать на сеновал, но тоже ночью наведывался наблюсти карету и сложенную на «насесте» сбрую.
Погода стояла теплая и сухая. Дорога в тех болотистых местах, где восемнадцать лет назад была мощена бревнами, на которых лошади ломали ноги, а проезжие прикусывали языки, теперь была осушена канавами, засыпана щебнем. Езда поэтому не была особенно тяжела для коней, но все же на песчаном грунте камергер командовал ехать шагом и всем мужчинам идти пешком. В таких случаях он шел рядом с Ивановым, вспоминая войну, походы, однополчан. Василий Петрович следовал за ними и порой подавал голос — он служил барину с конногвардейских времен. Почтовый ямщик шагал обычно рядом с лошадьми, которых ему предстояло вести обратно на свою станцию. А Корней плелся сзади всех, отдуваясь и скинув ливрею, которую оставлял на сиденье.
— Тебе бы до Парижа так промаршировать, — шутил Пашков.
— Я бы при вашем превосходительстве служил, — нахально отвечал «телячья башка». — Меня бы лошадь возила.
— В Конную гвардию таких жирных не берут. Гляди, мы с Александром Иванычем каковы и в пятьдесят лет. Шагай, пехота, живей.
В день проезжали по три, а то и четыре станции — девяносто — сто двадцать верст.
— Едем, как в дилижансе, — сказал камергер, — только с нами тебе удобств больше, там, сказывают, ногам тесно. Но зато пассажиров прогуливаться пешком никто не заставляет.
Однажды, когда шагали вдвоем по стежке вдоль леса впереди кареты, медленно тащившейся по песку, Пашков сказал:
— Хочу тебе наставление дать. С владельцем родичей торгуйся, как самый последний маклак. Их двенадцать душ?.. Какого возраста?.. Работников, значит, настоящих всего четверо. Значит, в среднем никак не дороже сорока рублей плати за душу, то есть за всех никак не более пятисот рублей серебром. И поверь, что дашь дороже, чем кто другой. Да помни, что дети, рожденные после последней ревизии, ни во что не идут. В придачу, так сказать. Если не хватит денег, пиши экстрапочтой в Москву — вышлю сразу же. А после пятнадцатого октября — в Петербург…
В карете господа иногда говорили по-французски или по-итальянски, и горничная отвечала на этих языках. Говорили все так спокойно и просто, что Иванов опять думал: «Конечно, не то, что было с Дарьей Михайловной, но дай бог всем такого домашнего лада».
Только раз камергер заговорил о прошлом. Идучи далеко за каретой в желто-красном лесу под Тверью, он спросил:
— Ты сколько же раз пение Дарьи Михайловны слышал?
— Всего три. Два раза в Лебедяни; раз вы с ними в два голоса пели по-итальянскому, потом они одни про сизого голубка под гитару — век того не забуду. Да на Литейной с двумя музыкантами самое долгое время, и как живых вижу…
Пашков долго шел молча, не поднимая глаз, потом спросил:
— А гадала она тебе?
— Как же, по руке и на картах. И все сбывается, отчего теперь в удачу своего дела верю. А вот Красовский ни за что не хотел, чтобы ему погадали. Какую-то поговорку древнюю приводил, что наперед человеку знать своей жизни не след.
— Quid crastina volveret actas scire nefas homini…[71] — произнес задумчиво Пашков. — Нового письма от него не получал?
— Никак нет. Но хочу, раз столько от купчей до ввода во владение ждать, сам к нему на завод съездить, повидаться.
— Тогда прошу еще раз, зови в Петербург ко мне на службу или на житье желанным гостем, ежели разъезды ему не в силу.
В Москве в небольшом небогатом доме князей Козловских шла предсвадебная кутерьма. Но и здесь Пашков позаботился о прежнем однополчанине. Иванову отвели отдельную комнатку в мезонине, где среди запыленных сундуков поставили кровать. Спрятавши черес в рукав мундира в чемодане, сходил в торговую баню, выпарился на славу и, возвратившись в мезонин, проспал десять часов сряду. А за это время камергер принял отчет рязанского приказчика, и тот изготовился в обратный путь.
Не прошло двух суток с приезда в Москву, а Иванов уже трясся по тульскому тракту в безрессорной бричке рядом с молчаливым бородачом, который изредка гудел церковные напевы да понукал кучера в сермяге, правившего тройкой сытых разномастных коней. Однако редок на Руси человек, который не разговорился бы с попутчиком. На второй день приказчик объяснил его благородию свой взгляд на мужика. Увольнять на легкий оброк — пусть бы. Но ежели год, а то два денег не вносят, а виляют да плачутся — таких надо на барщину вертать, греть в хвост и в гриву, а не прощать недоимки. И уж вовсе не дело за малый выкуп увольнять вечно на волю. Пущай деньги хорошие платят. Тогда ею и дорожить больше станут. А то от воли многие запивают, «балуются», а господину камергеру за них же, чертей, неприятности от начальства — зачем порядок нарушает…
В Тулу добрались к вечеру второго дня и остановились на постоялом дворе. Бородач вышел заказать кушание, а возвратившись, сказал, что тут же продается почти новая дорожная тележка, которую советует купить его благородию на дальнейший путь перекладными. Вышли осмотреть тележку, на каких идет по всей России почтовая гоньба. Приказчик и его кучер стали выстукивать и ощупывать дощатый кузов, представлявший подобие глубокого корыта, с выемкой спереди, где садится ямщик, и низкой скамьей сзади для седока.
Испытали и двухосные дроги, на которых укреплено корыто, проверили на весу колеса. Потом приказчик торговался с продавцом и выторговал-таки пять рублей из двадцати, назначенных поначалу, после чего пошли ужинать.
Какие дела ожидают унтера за Епифанью, приказчик, видимо, знал от своего барина и не одобрял их, раз еще в дороге обмолвился, что родичам помогать бог велит, но себя не раздевай притом до рубахи. Однако и на другое утро продолжал заботиться об Иванове: посоветовал на обратном пути купить жене в Туле подарок здешнего изделия из стали, граненной «под алмаз», но обязательно поторговавшись, рассказал, как пройти на почтовый двор, заказать перекладных. Наконец, прощаясь, облобызал унтера, как бы обмел бородой по щекам, и сказал:
— А как ты, кавалер, вовсе прост, то помни, что более тридцати рублей серебром на круг за душу никто не дает, ежели со старыми да малыми торгуют. И сбить себя не допущай.
Выйдя с постоялого, Иванов подумал было пойти представиться губернатору или хоть сдать в канцелярию письма. Но потом решил, что только после встречи в Козловке с новым помещиком будет ясно, о чем просить Зурова.
На почтовом дворе Иванов, предъявляя свою подорожную смотрителю, опустил в его карман серебряный рубль. Но в ответ услышал, что тракт, по которому поедет его благородие, самый захолустный, на который не сразу сыскать ямщика и пару добрых коней. Пообещав опустить в карман еще рубль и не поскупиться на водку ямщику, ежели выедет без задержки, унтер увидел ухмылку в лице смотрителя; подорожная была тут же записана в книгу, а после получения второй монеты в окошко кликнут ямщик и отдан приказ везти его благородие до какого-то Лукича.
Назвав ямщику постоялый двор и увидев, как на одной лошади с дугой на плече и ведя на поводу другую, он потрусил куда нужно, Иванов зашагал следом. По дороге на площади увидел двухэтажный дом с часовым у подъезда, взявшим ему на караул.
— Не тут ли господин губернатор квартируют? — спросил Иванов у вышедшего из ворот чиновника.
— Тут, да вчера отбыли в Венев на неделю.
Через час тележка Иванова миновала городскую заставу.
— Сколько до Епифани верст считают? — спросил Иванов у пожилого ямщика с рыжей бородкой.
— Поболе семидесяти, — отвечал тот.
— Сколько же станций?
— А всего две.
— Так к ночи и доехать можно?
— Можно бы, да Лукич подставы не дает.
— Какой Лукич?
— Ставщик в Юдине. Почта тут не казенная, ён держит. Сыны ямщиками ездят, и на ночь их не пущает, — пояснил ямщик.
— А ежели хорошо на водку дам? — спросил Иванов.
— Без водки живут, староверы. А на ночь сынов не пущает.
— Да сколько ж у него сынов?
— Шесть да зятьев двое.
— А разве у вас тут шалят?
— Того не слыхать, а годов никак двадцать братана его на обратном коне волки зимой загрызли.
— Так зимой, а сейчас разве волк на человека выйдет?
— Оно верно, да Лукич зарок дал. Ен и мне толковать станет, чтоб до утра в Тулу не ворочался…
«Ах ты господи! Неужто же нонче не добраться?»— думал Иванов, потряхиваясь в своей тележке.
Трусцой бежит пара тощих ямских лошадок, тянет невнятную песню ямщик, убегают назад перелески, пустые поля, деревеньки с низенькими избами, за которыми от гумен слышен перестук цепов — идет молотьба. Лают на коней, несясь рядом, деревенские собаки, чтобы за околицей, выполнив обязанность, задрать хвосты и не спеша вернуться домой. Встретили обоз с кожами, возчики кланялись шляпе и красному воротнику его благородия. Верно, что тракт захудалый, даже верстовых столбов нету… И темнеет рано. Неужто же только завтра увидишь родную Козловку? Ныне бы на зорьке встать, так поспел бы. Соображаешь все погодя, пентюх…
Ставщик в Юдине, высокий мужик с седой бородой, с первого слова у крыльца ответил то самое, что предсказал ямщик.
— Завтра чуть свет изволь, барин, а ноне нету. Ночуй на деревне. Я избу чистую укажу, где пристать.
— Двадцать восемь лет в родном дому не бывал, дедушка, сердце изныло! — взмолился Иванов.
Ставщик посмотрел пристально:
— Бога благодари, что через столько годов вертаешься. Братан мой в солдатах сгинул, а где, незнаемо… Табак куришь ли?
— Не курю и не пью вовсе.
— Тогда у меня ночуй. За твои заслуги накормим и спать на перину положим. А кто твои в Епифани-то?
— Не в Епифани, а в Козловке, под городом самым крестьянствуют. Семья немалая: отец с матерью, братья с женами, сестра, у всех дети, внуки, коли за последние годы кого бог не прибрал, — пояснил Иванов. — Ну, видно, не упросить тебя. Веди в избу.
— Пожалуй за мной. А малый тючок внесет и умыться подаст.
Когда вошли в чистую избу и унтер, перекрестясь, сел на лавку, хозяин, оставшись у порога, сказал:
— Мог бы я те во уважение коня доверить, а завтра за ним верхи малого прислать. Так ведь скоро тёмно станет, когда доберешься? Всех перебулгатишь, спугаешь стариков. Да мостки на дороге плохи. И днем под уздцы надо коней вести. Аль все ж запрячь?
Иванов подумал с минуту. И верно, что за встреча средь ночи? Ждал столько, пожду еще полсуток.
— Нет, Лукич. Спасибо. Дождусь света.
— Ну, видать, не зря благородьем пожалован, рассуждением умудрен. Пирога с брюквой откушаешь? День постный ноне.
— Спасибо, поел бы. А перины не надо, подушку бы да чего подстелить малость, вроде войлочка.
— Все тебе будет…
15
Чуть брезжило, когда хозяин тронул Иванова за плечо:
— Ставай, барин, облакайся, закладывают. Покушать изволь. Думал, поди, не заснешь, а храпел — аж через сени слыхали.
Да, вчера Иванову казалось, что всю ночь будет глядеть на едва видное окошко, ждать рассвета…
И вот опять дорога, дорога… Сжатые поля, ветер. Хорошо, шинель из доброго сукна строена, а то пробрало бы утренним холодком… Да от него ли трясет минутами или от нетерпения? Хоть бы теперь заснуть, чтобы не замечать времени. А лошади нонче ходкие, сбруя исправная и парень видный на козлах.
— Кто ж Лукичу будешь?
— Сын меньшой. А ты, барин, приляг на сено, я поболе подмостил. Отец сказывал, заслуженный, весь у ворогов изранен.
— Служил долго, в боях бывал, а раны ни одной нету…
— Во еще как! — удивился парень. — Заговоренный, что ли? Аль молились за тебя много?
— Кабы молитва обороняла, и дядя твой не сгинул бы.
— И то правда…
Не заметил, как задремал. Угрелся на сене и голову вместо шляпы платком повязал. Никак ее не приладишь, чтоб не смять. Прогремел под колесами мостик, еще другой, и опять дрема.
И вдруг:
— А вона, барин, и Епифаню видать.
Как же схватился! Платок с головы долой, шляпу чуть из тележки не выронил. Да, вон на первом солнце на горе каменные белые и желтые дома под железом вокруг нового, не виданного им еще большого собора с колоннами. А ближе, на другом холме, — вторая церковь, поменьше. Эту знает с детства, Успенская…
— Тут повертка справа будет на Козловку нашу…
— Пожди, барин, дай в Мельгуново въехать, там и повертка.
И то. Про Мельгуново забыл. А Дашина мать оттуда взята была.
— Ну, погоняй, малый! — торопил Иванов и от нетерпения стал на колени за спиной парня. Скинул шинель, так в жар ударило!
Сколько тут неба! В Петербурге оно высоко, над доминами, не из всякого окошка видать, а тут все кругом, и какие избы низенькие.
Наконец-то свернули. Козловка! Впереди церковь на солнце белеет. Тоже маленькая, а ведь казалась большой да высокой…
— Теперь направо вороти. Третья изба, где ветлы толстые.
«Неужто доехал? Что ж никого на улице не видать?..»
Соскочил перед домом с тележки, бросил в нее шляпу.
Дверь в сени отворена. С детства знакомый дух солода, хлеба, мяты, печного тепла. И в избу дверь настежь. У стола старушка в черном повойнике и кубовом сарафане валяет лепешки. На лавке двое ребят белоголовых, года по три, уставились на него, открывши рты…
— Матушка! — сказал Иванов не своим голосом. И хотя пригнулся, но все чиркнул теменем о притолоку, переступая порог.
Повернулась, разогнулась, отвела оборотом ладони прядку седых волос, выбившихся на лоб. Прижала руки к груди накрест, забывши, что они в муке.
— Санюшка! Сыночек! Привел господь!.. — Припала к нему, низенькая, ему до сердца, легкая, одни косточки. Но вот оторвалась, глянула в глаза, испуганно и растерянно моргая. Потом обернулась к замершим ребятам: — Деда! Деда скореича! Со двора кричите, он у риги, должно… Аль самы пойдем?.. Да ноженьки не идут… Неужто воистину ты? Да скажи хоть что-нибудь…
— Матушка, родимая, что ж я скажу, коли сам себе не верю…
А она вырвалась и — откуда прыть взялась — в дверь, за дедом!
Огляделся: темно как да низко. Пол земляной, стены бревенчатые, из нетолстого леса на льняной конопатке, окошки малые, слеповатые. Шагнул, сел на лавку против двери, на ту, что передником зовется, чтобы сряду увидеть, кто войдет… В сенях топот — не вошел, вбежал, скакнув через порожец, небольшой седой старик. Неужто отец? Раскинувши поднятые руки, охватил за шею вставшего с лавки сына.
— Светы мои, угодники! Санька наш объявился! — ткнулся в губы его седой, с мякинной пылью маковкой и захлюпал. Поплакал малость, откинулся, оглядел: — Ох, и ты уже сивый, сынок… Ну, садись к окошку, дай на тебя наглядеться. Дождались-таки! Мишка баял, что приедешь, так не верилось.
— Вот и приехал, папаня… Да надо ямщика отпустить. Тележка — моя, покажи, где выпрячь. Вот полтину ему награды.
— Куда столько! Четвертака довольно.
— Дай на радостях, не жалей. Ты неси шинель, шляпу, саблю, а укладку пусть ямщик внесет.
Как отец вышел, матушка села рядом, сунулась в плечо и затряслась — вот когда у ней наконец слеза пошла.
— Да полно, полно, родимая. Вот ведь я самый, живой, здоровый. — Он обнял за плечико, целовал морщинистый теплый лоб.
— Надолго ли, сынок? Нагляжусь ли на тебя?
— Наглядишься. А захочешь — так и вовсе с собой увезу.
— Как же увезешь, мы же господские.
— Бог даст, мои станете, вот с папаней обговорим.
Смотрела и не могла насмотреться. Гладила жесткими, узловатыми пальцами по щекам, по шее.
Отец вошел с поклажей. Саблю и шляпу положил на лавку, шинель повесил на гвоздь у двери, погладил.
— Эко сукно! Чистый плис, а на плечах золота сколько!
Снова вышел, чтобы внести чемодан, и, обернувшись, закричал в сени:
— Иди, Яков, скореича! Погляди, каков гость у нас!
Неужто Яков такой?.. Попрямей отца, а тоже старый мужик. А за ним Наталья? Экая баба гладкая была, а что время сделало!..
Первый день прошел как в чаду. Чередой проходили свои семейные и соседи. Ели, пили, дивились, говорили наперебой, ахали, причитали. Вспоминали старое, спрашивали про Петербург, про службу, про дворец, про царя. В избе стало так жарко, хотя двери в сени настежь, что Иванов сидел без мундира.
Под вечер схватился, что не побывал у барина, да оказалось, что в исконной своей деревне, только завтра сюда будет.
— А ты со мной, Санюшка, к Николе сходи, молебен отслужим, я зарок дала. Пусть день без меня у печки потопчутся.
— Пойдем, матушка, хоть куда хошь.
Едва угомонились в сумерках. Предлагали лечь на печке или на полатях, но попросился в сени на рундук с зерном, где посвежей.
Михайло набил горой сенник, покрыли холстиной, взбили подушку, братняя дочка Матрена принесла одеяло чистое, крытое китайкой, стеганное на вате — приданое какой-то Агаши, видать, разу не стеленное. Улегшись, подумал: «Матрена Сергеева дочка, а Агафья чья же?.. Голова кругом, не рассмотрел всех. Михайловой Степаниды будто не видел. Ну, ужо разберусь…»
Хотел было отцу сдать черес, да пока постель в сенях готовили, старик заснул на печи. Завтра, все завтра успеется. Радуйся нонче, что добрался!
Ночью слышал, как горланили петухи, как за стенкой переступали и вздыхали коровы. Переворачивался на другой бок и опять засыпал еще слаще, вспомнив, что ночует в отчем доме.
Когда встал, никого в избе не было, кроме бабушки и племянницы Катерины, молчаливой, темноликой, что орудовала у печки. Потом прибежали вчерашние мальчик и девочка, брата Сергея внуки, ребята той самой Агафьи, чьим приданым одеялом покрывался. А она, сказали, из Рождествена взята, от своего барина выкуплена для братнего младшего.
Ну, наконец-то будто с домашними разобрался. Дал ребятам пряников из привозных гостинцев, и убежали куда-то.
Умылся, побрился, поел лепешек со сметаной, обрядился, и пошли с матерью в Епифанский собор. Она поверх сарафана надела черную кофту с медными пуговками. Он — в вицмундире с крестами и медалями, в шляпе с черным султаном, при сабле.
По Козловке шли молча, рядом. Все им кланялись, кто попадал навстречу или выглядывал в окна. Когда вышли на стежку вдоль Дона к Мельгунову, где мост перейти, матушка сказала:
— Ну, говори про дочку свою, звать-то как?.. Жену Михайло много одобрял. А девочка здоровая ли? В городах, слух идет, ребята все больше тощие да лицом белые. Молочко пьет ли?
Иванов рассказал про Машу, о том, что лицом круглая и румяная, как любит ежа и котенка, просила привезти живого зайца, и матушка, улыбаясь, кивала головой, приговаривая:
— Ох, милушка моя!..
Тут унтер сказал, что привез столько денег, что надеется всех выкупить на себя, а потом и совсем на волю отпустит.
— Да где ж деньги у тебя? — ахнула матушка.
— На себе, в чересе ношу. Нонче деду отдам на сохран.
— А откуль же взял столько? Солдатов, сказывают, таково голодом морят, что кажну копейку на харч берегут.
Рассказал про годы мастерства, про теперешнее большое жалованье, что и жена — рукодельница, на продажу искусно шьет.
— Ох, Санюшка, что нас-то с дедом ослобождать? И так доживем. Лучше бы деньги Маше своей в приданое сберег. Жена не перечила, что за тем сюда поехал?
— Жена как душа одна со мной, — ответил унтер. — Выкупить всех хочу, матушка. На то двадцать лет трудов положено, а Машино приданое дале копить начнем. То второе наше дело…
Медленно идя в гору по дороге, сын прикидывал, сколько же лет его родительнице. Понятно, за семьдесят. Он младший из братьев, Яков, кажись, на десять лет его старе. А зубы у нее никак все целы. И отец хоть сгорбатился, а как охватил его вчера! Видно, и правда здоровей в деревне жить. Только Анюта сюда и под старость не поедет. Городская она. А сам поехал бы?..
Когда шли через площадь, встречные пялили глаза на форму и на ордена Иванова, многие ему кланялись. Обедня только что отошла, и богомольцы выходили из храма. Сказал старосте, считавшему выручку у свечного ларя, что просит отца протопопа отслужить молебен Николе, и подал пятирублевую ассигнацию.
— Сейчас доложу отцу Димитрию, ваше благородие, — закивал староста, косясь на крестьянское обличье Анны Тихоновны.
Собор богатый, купцы не пожалели денег — много лепнины, еще больше росписи и позолоты. Пол из чугунных гулких плит с узором, по которым шаги старосты были слышны до самого алтаря.
Возвратившись, сказал, что отец протоиерей сейчас снова облачится и просит передать его благородию, что ежели с полным причтом и хором, то надо бы вторую синенькую пожаловать.
— За тем не постою, но чтоб без спешки, — сказал Иванов.
— Со всем благолепием, — заверил староста.
Матушка зашептала, что без хора обойдутся, но унтер сказал:
— Тридцать почти лет разлуки нашей. За радость такую пришли угодника благодарить. Гляди, и солнце в купол ударило…
Подошли к самому амвону и встали под любопытными взглядами певчих перед одетым в серебряную ризу Николой. Из алтаря слышались шаги и прокашливание. Только все смолкло, как сзади застучала частая походка, и, обернувшись, увидели Ивана Ларионыча в сапогах и чистом кафтане. Не выдержал, бросил молотьбу. Лицо умыл, волосы и бороду расчесал.
Слушая знакомые возгласы и песнопения, крестясь и кланяясь, когда крестилась матушка или когда в их сторону плыло облако кадильного дыма, Иванов смотрел в знакомое суровое мужицкое лицо Николы-угодника — деревянного, расписного, вырубленного из толстой тесины и одетого, кроме рук и лица, в серебряную ризу с омофором через плечо и митрой на седых волосах. В одной руке святой держал церковку о пяти главах, в другой — кривую саблю. Унтер смотрел в строгие глаза под белыми бровями, на седые усы, каждая волосинка которых выписана старательно и, наверно, со страхом перед грозным владыкой. Смотрел и вспоминал слова полковника о святых на картинах в Эрмитаже. Уж, наверное, иначе он-то написал бы Николу — мягче, добрее, каков сам… «Что ж такое я думаю вместо молитвы? Или то и есть молитва, чтобы не был к нам суров Никола, помог в добром деле?..»
Когда служба окончилась, протоиерей, дав приложиться всем троим ко кресту, сказал Иванову:
— С приездом, ваше благородие, в родные места. Пожалуйте в воскресенье к обедне, соборне будем служить…
А когда повернулись идти к выходу, то сзади оказалось много зевак: кто давеча шел от обедни, вернулись в храм, чтобы поглазеть на форму и кресты унтера.
Выйдя из собора, Иван Ларионыч сказал:
— Ступайте домой, а я к целовальнику, надобно вина купить, вечером с суседями отпраздновать.
— Деньги изволь, папаня, но сам, гляди, в рот не беру.
— Деньги все равно твои трачу, — усмехнулся отец. — А что не пьешь, то и я к нему не охочий, однако суседей угостить обычай велит. Куплю нонче всего штофа три, а то попрекают, что вчерась не праздновали. У тебя, поди, от народа в глазах рябило, а старики твое благородие мальчишкой помнят.
— Мне бы нонче с тобой по делу нужнейшему потолковать.
— Вот гостей выпроводим да на огороде над Доном сядем. А то баньку вытопить велим. Где ж лучше говорить?
Иван Ларионыч подмигнул сыну и свернул в проулок.
— Верно, что не охоч? — спросил унтер.
— Сам ни-ни, а поить в праздник страсть как любит.
Перед началом спуска с площади их ожидала целая кучка старух, которые, глядючи во все глаза, кланялись Иванову.
Он в ответ снял шляпу и, как прошел, услышал шепот:
— Во счастье бабе! В благородные вышел, а матку не забыл.
— Чистый орел! — отозвался другой голос.
— Слышал, Санюшка? — спросила Анна Тихоновна, и сын увидел счастье в ее глазах и гордость в улыбке. — Недаром кажный год Николе гривенник в кружку клала. Ты помнишь ли, как меня спрашивал, правду ли с Москвы его привезли. Тогда Москва тебе невесть где чудилась, а потом самого куда заносило…
Как не помнить рассказа, который они с братом Семеном просили без счету повторять, про то, как ехали из Москвы афонские монахи на теплое море и везли на возах иконы, хоругви, аналои, паникадила. Около Епифани заночевали, а утром воз, на котором деревянный Никола лежал, с места не сходит…
— Запрягли четверик — не скрянуть, запрягли шесть коней — копыта в землю уходят, а воз стоит, — рассказывала Анна Тихоновна. — Монахи скопом толкают, за колеса тянут — нет, не сдвинуть! Ну, видят, угодник-батюшка с нашего места идти не хочет. Делать нечего, сняли с воза — разом его вперед рвануло, кони играют, бежать рвутся. Тут и оставили. Сначала часовенку над ним срубили, после церкву, а вот и соборный храм.
— А серебряну одежу когда ж на него надели? — спросил унтер, точно как в детские годы, чтоб могла рассказать любимое.
— Мир его обряжал, — наставительно кивала Анна Тихоновна. — Афонские старцы в одной крашенине святителя оставили, а в ногах кружечку приладили — кто грошик, а кто семишник пустит. Вот и собрали за триста лет на серебряну одежу.
Иванов помнил и другое предание, которое матушка не любила, как все, до войны касаемое. Будто Николу завезли сюда литовцы, когда шли на Куликово поле татарам на подмогу. Да не поспели к сражению, узнали, что татары разбиты, и, побросавши обоз, побежали в свою землю. А русские средь другого добра сыскали Николу и поставили в часовенку.
— А зачем, маманя, он саблю да церковь в руках держит? — спросил унтер, опять как, бывало, в детстве.
— Чтобы храмы божьи от ворога сберегать, — отвечала она. — С татарских времен к нам никто не бывал. В Москву и то француз зашел, а сюда угодник не пустил…
Вот и Козловка. Белеет церковь, около — кресты меж деревьев.
— Зайдем, маманя, к Да шуте на могилку, — сказал Иванов. — Помнишь, где схоронена?
— Как не помнить. Да не здесь она. Тут господа да дворовые, а хрестьяне — за околицей, на погосте. Забыл, видно?..
— Так пойдем туда аль устала?
— Какая усталь!
За церковной оградой, вдоль которой теперь шли, увидел высокий крест, окрашенный голубой краской.
— А тут кто же?
— Барин прежний, Иван Евплыч.
— Прибрался-таки. Когда же? — приостановился унтер.
— Под троицу. Сказывали, выплатил новый каки-то деньги, вот и закутил — опять вино разное, дичина, баб дворовых песни играть да плясать заставил. А сам все пил да пил. Так с куском во рту и завалился. Сходи, коли хошь, поклонись…
Иванов не ответил и пошел дальше рядом с матушкой.
В полуверсте за околицей, окруженное пашней и огороженное валом, желтеет деревьями крестьянское кладбище. Тропки ведут к могилам, вокруг других трава высокая — давно никто не бывал.
— Вот Дашута, сынок, и с младенчиком…
Обложенный дерном холмик, серый от дождей, некрашеный, но крепкий крестик.
Иванов стал на колени, поклонился в землю:
— Даша, Дашенька… И лицо твое запамятовал… Что-то светлое, туманное видать будто, да волосы русые, да глаза лазоревые… А Кочет проклятый не объявлялся? — спросил, встав с колен.
— Откуда же ему взяться? — ответила Анна Тихоновна. — Верно, на отъезде и порешили его мужики за добрые дела.
— Сболтнул кто-нибудь про то спьяна? — спросил Иванов.
— Никто не болтал, и ты забудь мой глупый сказ. Всяк бы ведь хотел, чтоб уходили проклятого… Вот и еще могилка наша… — Она перешла к соседней, с дубовым крестом, поклонилась.
— А тут кто же?
— Степанида, Михайла нашего жена.
— То-то вчера ее не видел. Да и спросить забыл, как в глаза не знавал. Что же с ней попритчилось?
— Бык господский прошлую осень забодал. Сорвался с цепи, к стаду бёг да по дороге ее и поддел на рога. А уж вот божья душа была! Ладно, что хоть тут же и дух вон.
— А Михайло как?
— Как?.. Раньше, бывало, к солдатке одной в Голино хаживал, а как Степанида померла, ни на кого не глядит. И то сказать: такую еще разве сыщет?..
— Матушка, а где же Сеня-братец, что после крестного хода на Куликовом поле помер?
— Вот. — Она указала на еще один дерновый холмик со старым крестом. — Тут, Санюшка, и еще двое старшеньких, которых не помнишь… Что слез пролито — море!
Помолившись, вышли с кладбища.
— А новый каков? — спросил Иванов. — С ним толковать завтра.
— Покуда три шкуры не дерет, баб да девок не трогает. Сказывают, денег на казенной службе много нагреб. То дед знает, от его дворовых слыхал, что десять лет казаков каких-то усмиряли да обдирали. С таким, сынок, торгуйся, как с цыганом, да пужни, что от царя близко служишь.
— Хоть близко, да чином низко, — сказал унтер и засмеялся.
— Чего ты? — удивилась Анна Тихоновна.
— Есть у меня приятель, служим вместе, так он завсегда эдак складно болтает, как у меня сейчас вышло.
Пока ходили в город и на кладбище, дома бабы по приказу деда напекли и наварили столько, что к обеду пришли шестеро соседей. Трое из них и брат Яков быстро захмелели, завели было песни, но, добавивши, сникли и были стащены на сеновал. А оставшиеся, из которых Елисей в юности был первый приятель нонешнего благородья, пили немного и стали спрашивать про службу. Дивились его рассказам, но не верили, что Зимний дворец выше Епифанского собора и раз в пятьдесят больше, раз в нем сотни залов, комнат и кладовок. И живут там, кроме царской семьи, еще до трех тысяч человек придворного люда — куда больше, чем во всей Епифани. Только подтверждение Михайла про величину дворца, который обошел вокруг, ища дядину роту, и то еще, что дед вынес показать развешанный в сенях мундир в золотых галунах и штаны с золотым лампасом, пожалуй, дали веру словам рассказчика. Раз такую одежу услужающим шьют, так все быть может.
Когда гости простились, Иван Ларионыч с унтером пошли в баню, стоявшую над самым Доном. Прежде чем идти, Иванов снял в сенях все верхнее, кроме сапог, и накинул шинель, а отец шел впереди в белье и босиком, точь-в-точь как тридцать лет назад, только оказался куда ниже сына, а тогда были одного роста.
Раздевшись в предбаннике, унтер сел рядом с отцом на лавку и, сказав, на что привез деньги, отдал на сохран черес.
— Неужто вправду нас выкупать хочешь? — дрогнувшим голосом спросил Иван Ларионыч. — А деньги откуль взял?
Сын рассказал, как и сколько скопил, от кого известился, почем у них души, и что привез письма от важных господ к самому губернатору, чтобы не тянули с купчей. Старик слушал, прижав к груди черес и глядя в рот сыну. А когда тот окончил, то одной рукой обнял за шею и вымолвил:
— Сказать что — не знаю… Хоть бы бог тебя наградил! Ведь как Мишка опосля Лебедяни про тебя сказывал, а потом во дворце повидал, то все сомлевался, откуль деньги берешь.
— Теперь, папаня, только как с барином сговорюсь.
— Сговоришься. Не с прежним дураком нашим. Новый своего гроша не упустит, но и кобениться не станет. Ты стой на своей цене и как все прознал поясни, чтоб видел — не лыком шитой. А ему сейчас деньги нужны — слышно, лес около своей родовой торгует. Нашу-то дуром у пьяницы взял, за полцены.
— Матушка молвила, будто на казаках каких-то нажился?
— От его людей слух идет, что в Новочеркасском городе при генералах каких-то пером скрыпел да с просителей драл. В чины знатные не вышел, а кису толстую набил и жену взял от начальника, евону полюбовницу, себя старе, да с хорошим приданым. А мужикам оно все едино. После Ивана-то Евплыча не зверь да не блудник, то чего не жить? Ты ему барщину отработай — и ладно. Пока плохого не видели. Так что можно бы тебе опять нам малу толику оставить, а остальное все обратно увезть.
— Нет, папаня, то дело решенное. Ежели столкуемся, так вас пока на свое имя куплю, чтобы только на себя работали, мне барщины не надо. А может, и сряду, ежели денег хватит, на волю перепишу. Ну, пойдем-ка, я тебя попарю.
— И то… А чересок туда возьму. На гвоздок взвешу… Ты помни, Саня, что земли у нас одиннадцать десятин: девять под пашней да по десятине луговой и выгона. Чтоб как не обдул.
Когда уже лежали на полке, вдыхая жаркий воздух, Иван Ларионыч спросил:
— А у царя-то банька есть?
— Для него только одного и есть в полподвале.
— Ну, слава богу, хоть он чистый ходит. А дворские как же?
— Господа в тазах да лоханках полощутся, а простой народ в торговые бани ходит.
Смеркалось, когда вышли в предбанник, но унтер рассмотрел, что дед раскраснелся, как молодой, и дышит не чаще его. Напились квасу, поставленного под лавкой. Вот это так баня!
— Лучше, Санюшка, ты его снова опояшь, — сказал Иван Ларионыч. — Я ведь и сна лишусь, коль на мне будет, а ты привычный. Аль в подполье схоронить и тебе отдох дать?.. Ин ладно, поспи послаще ночку-другую. Ну, пойду окунусь. А ты как?
— Схожу, как возвернешься и тебе караул сдам.
— Ан первый иди. Дорогу-то не забыл?
Да прошло ли тридцать-то лет? Все как бывало до службы, когда бежал по траве к Дону и с мостков ухал в студеную воду…
А на пороге уже отец дожидается — и бегом к мосткам. Ну и крепок! Куда дольше его плавал и как вскочил, пожимаясь, в предбанник, то сразу же:
— А скажи, сынок, страшно воевать было?
— Воевать, папаня, не так страшно, раз всем одна судьба, кто рядом скачет — солдат ли, генерал ли. А в команду офицеру злому попасть — вот где страх. Чисто как заяц перед волком. Два раза мне такое выпадало, да выручали добрые люди.
— А ты тех людей в поминание аль за здравие записал?
— Как же, все где положено.
В эту ночь, после бани и без череса, Иванов спал еще крепче, не слышал коров, а петуха только на зорьке, когда пробрало холодом и увертывался получше в приданое одеяло.
А утром, когда уже поел и думал, не пойти ль помолотить, чем без дела прохлаждаться, прибежал малый и сказал: барин приехал, чтоб дядя Саня к нему шел, не то по ригам уйдет.
— Чей паренек-то? — спросил Иванов матушку.
— Елисеев-меньшой, восьмой никак.
Побрился, подчернил усы и баки, надел полную парадную форму, белые перчатки, водрузил на голову медвежью шапку и пошел.
И вовремя. Барин в сереньком сюртучке и военной фуражке вышел на крыльцо. Увидел Иванова и, поднявши брови, остановился. Видно, никто не упредил о приезде такого гостя.
Подойдя на три шага, унтер поднял два пальца к шапке:
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!
— Здравствуйте, — ответил Вахрушов, уставясь на невиданный галунный погон унтера, потом опустил глаза к темляку на сабле и добавил: — Чина господина офицера не имею чести знать.
— Прапорщик Иванов почел долгом представиться по приезде в деревню вашего высокоблагородия! — отрапортовал унтер.
— Весьма приятно. Пожалуйте ко мне, — ответил Вахрушов. — Но прошу простить за неустройство, я здесь по-походному.
Через переднюю вошли в большую комнату, занимавшую угол дома, верно прежнюю залу. Но сейчас в ней стоял только овальный стол перед диваном, застланным постелью, три стула да бюро.
Хозяин указал гостю на стул, сел сам и спросил:
— Вы где же служите и по какой надобности пожаловали?
— Служу в роте дворцовых гренадер при собственном его величества Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, а прибыл в отпуск к родителю своему, крестьянину вашего высокоблагородия Ивану Ларивонову. — И, достав из-за борта мундира отпускной билет, Иванов подал его хозяину.
Тот глянул, уважительно склонил голову перед подписью министра двора и возвратил со словами:
— Милости просим. Припоминаю, что дядюшка Иван Евплыч говорил мне про вас, но последнее время столь невнятно выражался… Так не угодно ли чаю, кофею? Я сейчас прикажу.
— Никак нет, не извольте беспокоиться. Поспешил принести вам почтение. — Иванов встал. — Честь имею-с.
— Однако мне крайне интересно расспросить про службу вашу, про дворец и прочее в столице. Может, пожалуете запросто часа в два? Но не взыщите, я тут по-холостяцки, чем бог послал…
— С превеликим удовольствием, — сказал Иванов и вышел.
Молодой смазливый лакей и подросток-казачок, заглядевшись на его форму, оторопело отскочили, сторонясь у выходной двери.
«Да, по обхождению не Евплычу чета. Но взгляд вострый, наметанный, — думал Иванов, шагая по улице. — Раз запросто звал, следует вицмундир надевать и со шляпой. Да письма прихватить, ежели речь нынче же про купчую зайдет. И подсчетную свою бумажку достать да перечитать, которую с Андреем Андреевичем составляли».
В назначенный час он снова подошел к крыльцу барского дома, во всю дорогу от отцовской избы не надевши шляпы, в которую для сохранности печатей положил рекомендательные письма.
Хотя Вахрушов жил по-походному, но стол был накрыт свежей скатертью и приборы исправные, в графине и бутылке с иностранной наклейкой зеленели и желтели напитки. Постель была убрана, хозяин тоже приоделся в военный сюртук без эполет, из-под которого глядели свежие воротничок и манжеты.
— Однако парадная форма вашей части отменно красива, — сказал Вахрушов, когда они сели. — Прямо камергером выглядите. Мне довелось служить при сенаторе и камергере Болгарском, так у него точно такое шитье на груди и рукавах было.
— Сказывали, сам государь нам форму придумали и нарисовать изволили, — ответил Иванов.
— А что за мех на том кивере?
— Медведь-с.
— Весьма внушительно! Эй, Ваня, прими от господина офицера шляпу и саблю. Да подавай кушанье.
Вот когда пригодились уроки поведения за барским столом, все виденное в домах Одоевского, Жандра и Пашкова. Едва не забыл снять перчатку, да вовремя спохватился и небрежно бросил к другой, положенной вместе с шляпой и письмами рядом.
Хозяин не уговаривал пить, так что за весь обед пропустили по две рюмки дреймадеры, а к водке не притронулись. И суп, и рыба, и жаркое — все оказалось превкусное, видно, повар Вахрушова был мастер, что унтер и похвалил.
— Недаром же в Полтаву на кухню князя Репнина учиться отправлял и двести рублей выложил, — ответил хозяин.
Во время обеда и особенно после него, когда закурил трубку в ожидании кофею, поручик задавал гостю вопросы по части дворца и двора, довольствия роты и ее численности.
Когда же подали кофей, то Вахрушов пошел напрямик:
— Однако, любезный Александр Иванович, сколь я знаю людей, то могу предположить, что вы, помимо свидания с сородичами, имеете в сих краях и еще какое-либо дело?
— Так точно, Николай Елисеич, — подтвердил Иванов. — Перед испрошением отпуска у его сиятельства господина министра двора, которому одному подчинена наша рота, я через высоких покровителей обращался за справками к господину здешнему предводителю, чтоб узнать, жив ли прежний хозяин Козловки, который по неумеренности мог уже давно скончать дни и с коим вовсе не хотел иметь дел-с. А весной осведомился, что вы стали владельцем родной моей деревни, и тогда же получил отзыв о наилучших качествах вашей обходительности, после чего решился отправиться на родину, на каковой отпуск благодетельное начальство даровало мне цельных три месяца…
Господин Вахрушов молча смотрел на Иванова, без запинки произнесшего столь длинную речь и всего на миг остановившегося, чтобы отхлебнуть глоток кофею, и затем продолжавшего:
— …с целью просить вас продать мне по ценам, каковые существуют в губернии и о которых осведомлен как через письма господина предводителя, так и будучи проездом в Туле в канцелярии господина губернатора, все мое семейство, как-то: отца, мать, двух братьев и сестру с их потомством, а всего двенадцать душ с крестьянским их имуществом и наделом земли.
Сболтнув о справках в губернаторской канцелярии, Иванов на миг запнулся.
— Даже губернатору о вас писано? — осведомился Вахрушов.
— Генералу Зурову и супруге их имею о своем деле не одно письмо. Но его превосходительство выехали в город Венев. Обратно будут завтра, как мне сообщил чиновник в канцелярии.
Наступило короткое молчание. Поручик, очевидно, соображал, как повести дело дальше.
— А какие цены на людей вам сообщили? — спросил он.
— На здорового работника восемьдесят рублей серебром, на бабу таких же качеств — пятьдесят, на стариков и детей — десять — двадцать рублей, — ответил Иванов.
— Та-ак-с, — протянул Вахрушов. — Хотя цены занижены, но посмотрим допрежь всего, что за семейство, сколько в оном и какого возраста душ. Я не то что Иван Евплыч, торговать людьми не в моих правилах, но бывают случаи… — Он встал, подошел к бюро, отомкнул его ключом, достанным из кармашка где-то на груди: — Вот-с купчая крепость от февраля двадцать пятого дня сего года. Семейство Ивана Ларионова, не так ли? — Он подсел к столу, отодвинул свою чашку и разложил бумаги.
Иванов вынул из шляпы записку с ценами вместе с письмами и положил около своего прибора. Вахрушов покосился на них.
— Это что же-с?
— Письма к господину губернатору от покровителей моих на тот случай, ежели с вами сойдемся в ценах и понадобится, чтобы без задержки выполнили сделку в гражданской палате.
Поручик не выдержал:
— Позвольте полюбопытствовать, от кого-с?
Иванов прикрыл их рукой:
— Зачем же, Николай Елисеич? Выйдет, будто я именами сановников козыряю. Прежде ваше слово…
— Ну что же, за тех, кого по восемьдесят назвали, я менее ста взять никак не могу.
— Так ведь сотню за рекрута безупречного девятнадцати лет дают, а тут один всего такого возраста, брата моего Сергея внук, а остальные двое — братья мои, возрастом за пятьдесят, и племянники тридцати пяти и тридцати трех лет. Возможно ли их с рекрутами равнять? — возразил Иванов.
— Вам ли не знать, Александр Иванович, каких рекрутов часто в присутствие сдают? — усмехнулся Вахрушов. — А племянник ваш Михайло столь сметлив и телом здоров, что за него и двести рублей взять мало… Однако позвольте узнать ваши наметки. Я буду их себе записывать, чтобы после иметь суждение.
— Извольте-с. Иван Ларионов, родитель мой, хотя ему за семьдесят и в работу вовсе не годен, оценен мной в тридцать рублей, а матушка Анна Тихоновна, тех же лет, — в двадцать рублей; братья Яков и Сергей, оба под шестьдесят, — в пятьдесят каждый; женки Наталья и Домна — по тридцать рублей. Итого за два старших поколения всего двести десять рублей серебром. Дети последних Михайло и Сидор — по семьдесят рублей, Екатерина и Матрена — по тридцать, итого двести рублей. А самое младшее поколение из торгуемых, Яков и Агафья, оба семнадцати лет, — в шестьдесят и сорок рублей, вместе сто рублей. Итого двенадцати душам красная цена пятьсот десять рублей.
Вахрушов подвинул себе бумажку унтера и, приподнявши брови, спросил:
— Сие вы писали?
— Я-с.
— У вас отменно красивый почерк. Где обучались?
— Унтер один грамоте выучил, в ротной канцелярии упражнялся.
Вахрушов, вздохнув, покачал головой:
— Однако с сими ценами я никак согласиться не могу.
— Которая же вам неудобна?
— Да все против здешних обычных весьма занижены.
Унтер решил напрямик атаковать:
— Но позвольте спросить, Николай Елисеич, почем вы сами покойному родственнику платили?
Господин Вахрушов насупился:
— Моя покупка совсем иное-с. Именно по родству все шло. Так ведь и сказано в купчей: «Продаю племяннику моему поручику Вахрушову», — он ткнул в бумагу перстом. — А мы с вами в родстве не состоим.
«Кажись, испортил все дело», — подумал Иванов с огорчением.
Но собеседник его уже овладел собой:
— Однако хочу полюбопытствовать, от кого же сии письма к господину губернатору?
— Извольте-с. На каждом внизу проставлено имя и чин писавшей особы. Но я крайне ихние печати оберегаю, чтобы в целости вручить. Сие от действительного статского советника Жандра, ныне ведающего канцелярией морского министра, а до того управлявшего военно-счетной экспедицией. Второе — от действительного же статского советника Жуковского, воспитателя наследника-цесаревича. Третье и четвертое — к генералу и генеральше от флигель-адъютанта Лужина, который был шафером на свадьбе господ Зуровых. Пятое — от генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского и шестое — от камергера Пашкова, богатейшего помещика и в прошлом сослуживца господина Зурова.
Вахрушов внимательно просматривал надписи на конвертах и печати, после чего сказал с выражением сожаления:
— Письма сильны-с. Но цены, вами объявленные, все же низки.
— Они вполне согласованы с теми, что сообщены из сих мест господину Жандру, который вел переписку с предводителем, а также названы мне в Туле в губернаторской канцелярии, — возразил Иванов, подумавши при этом: «Врать так врать!», и добавил: — Также руководствуюсь капиталом, каковым располагаю на покупку не только сих душ, но и надела их в одиннадцать десятин, строений, скотины и прочего имущества.
— Каков же капитал, дозвольте узнать? — спросил поручик.
— Три тысячи пятьсот ассигнациями и ни копейки более.
— Однако можно на недостающую сумму выдать долговую расписку с последующей досылкой из Петербурга.
— На сие я никогда не решусь, ибо все под богом ходим.
— Так-с. — Вахрушов поднял глаза к потолку. — Ежели по моим подсчетам души надлежит оценить в семьсот рублей, и то исключительно по уважению к вашим покровителям, — последнюю фразу он пробормотал скороговоркой, кивнув в сторону стопки писем, — то на все остальное остается сто семьдесят пять рублей серебром… Нет, нет, или вы прибавьте значительно, или дело наше врозь. Видит бог, не могу отдать за три тысячи пятьсот с наделом, постройками и живностью. Прибавьте тысячу ассигнациями, и по рукам. Хоть завтра же в Тулу на моих лошадях. У меня туда как раз дело.
— Не могу, Николай Елисеич. Имею сверх трех тысяч пятисот рублей только еще триста, чтобы оплатить казенные сборы и на обратную дорогу столько же.
— У вас казенная подорожная и тележка своя, как я слышал.
— Но поверстная плата все равно остается.
— Сие составит сто двадцать рублей за две лошади, ибо вас Михайло на своих до Москвы доставит. А там попутчика с половинной оплатой сыщете.
— То долго выйдет, а из отпуска я в срок явиться обязан.
— Ну что ж, разойдемся, ибо не могу продать себе в убыток… Еще чашечку кофею. Я свежего велю сварить. Турецкий, настоящий. У донцов любовь к кофею перенял, а они — от турок.
— Нет, покорно благодарю, я уж тогда пойду восвояси.
— Сейчас видно, что вы в торговом деле новичок.
— Из чего же сие заключаете?
— Да как же-с! Вы прибавьте, я спущу немного. Ну же платите мне четыре тысячи двести пятьдесят, и сейчас набросаем черновую купчей крепости.
— Но я таковой суммы на покупку не имею.
— Так я же говорю, что распиской удовлетворюсь, даже без свидетелей писанной, под одно ручательство таких писем.
— Покорно благодарю, но никогда долгов не делывал. Могу прибавить двести пятьдесят рублей, но то мой последний предел, ибо за положенными казной расходами придется в Петербург пешком идти.
— Да вы мундир расстегните, Александр Иваныч. Мы люди уже свои, какие церемонии, а то у вас весь лоб в поту. Прибавьте еще пятьсот рублей, и по рукам.
— Нечего мне прибавить. Вы спускайте цену, Николай Елисеич.
— Так я же спустил. Просил четыре тысячи пятьсот, а отдаю за четыре тысячи двести пятьдесят.
— Вам надобно еще спущать. Ведь вам получать, а мне отдавать кровное. С родных разве смогу настоящий оброк брать?
— И напрасно-с. Их не разорите, а свои затраты в десять лет покроете. Если бы дядюшка был разумным помещиком, то со здешних крестьян в достатке до ста лет дожил. Ваш Михайло и таких еще трое могут большой оброк вносить и в купцы выйти.
— А они всё в карты проигрывали, господин предводитель писали, — сказал Иванов. И осекся: ведь и Вахрушов с карт здешнюю наживу начал…
Но поручик нисколько не смутился — верно, не думал, что Иванову столь подробно все известно.
— И еще обжора, бабник, даже когда паралич ударил, — подхватил он. — Да расстегните хоть крючки на воротнике, право. Сам мундир носил, знаю, а ваш еще такой щеголеватый, как облитой сидит… Ну-с, я еще пятьдесят рублей спущу. Четыре тысячи двести будет. Ведь земля у вашего семейства хороша, и пашня, луг, выгон — все есть. И скотина навозу вдоволь доставляет. А потом, Александр Иваныч, от того, что один двор в деревне будет чужой, я как помещик терплю ущерб своей власти.
— Какой же ущерб? От одного помещика перешли к другому. Сколько таких деревень, где по два и три двора разным владельцам принадлежат, — возразил Иванов. — А что мне платить мало будут, то никого не касается, я настрого прикажу, чтоб о том молчали. А в случае моей кончины, как жена моя распорядится, того, право, не знаю, наверное оброк повысит.
— Помилуйте, какая кончина! Вы сто лет прослужите, такой молодец. Только в чины вышли и выше пойдете. Подумать только! У государя на виду! Его величество вас в лицо знают?
— Того не могу сказать уверенно, но его сиятельство министр императорского двора точно что знают и отличают.
— Вот видите-с, — обрадовался Вахрушов. — Значит, и повышение у вас будет скоро, а вы прибавить цены не хотите.
— Не могу-с. Ведь все рассчитано вплоть до расхода по купчей крепости. Ведь я за нее платить должен.
— Само собой, таков уж закон. Я даже скажу точно, что на таковскую сумму вы заплатите сто восемьдесят или двести рублей. Ведь я сам весной с покойным дядюшкой купчую оплачивал.
— А у меня еще дорога обратная и дома жене с дочкой ничего не оставлено. Верно, в долги войдут…
— Все понимаю, но спустить более не могу, — вздохнул Вахрушов. — Я со своей цены триста рублей убавил.
— И я со своей двести пятьдесят прибавил…
Торг замер. Собеседники сидели мокрые, красные, усталые. На столе появился самовар. Выпили чаю со сладкими пирожками. На колокольне ударили к вечерне — пять часов. Хозяин рассказывал, как служил в комитете преобразования Войска Донского, как председатель его граф Чернышев, нынешний военный министр, боролся с атаманом Денисовым, потом с Иловайским, как бунтовали казаки и крестьяне близ Таганрога, требовали вольности.
Тут у Иванова вдруг стали слипаться глаза, да так, что пришлось протирать их платком. Две рюмки вина, что ли, сказались, или от торга утомился, будто от тяжелой работы.
Заметив это, господин Вахрушов приказал убрать со стола и, когда унтер стал застегиваться и взялся за шляпу, сказал:
— Ну вот-с. Мое последнее слово, твердое и окончательное, от которого и на копейку не отступлю, — четыре тысячи, и берите своих родичей со всем их скарбом, наделом, строением…
— Ежели на ваших лошадях в Тулу и обратно, да не откладывая, пока губернатор снова куда не отъехал, — сказал, как бы колеблясь, Иванов. — Ох, как-то в Петербург доберусь… — И он пожал протянутую руку.
— Ничего-с, с братцев часть оброку вперед возьмете, — посмеивался поручик. — А в губернию я послезавтра сбираюсь, так что утром рано за вами заеду. Теперь уже на законном основании надо еще по рюмочке. Да сейчас же и купчую набросаем. Мне завтра некогда будет…
16
Он шел в сумерках по деревенской улице, нес в одной руке шляпу с письмами, а другой придерживал саблю, которую едва не забыл на стуле, шел, чувствуя такую усталость, что, казалось, едва дойдет до родной избы, и думал: «Если бы еще поторговаться, то, может, уступил бы сотню-другую. Но ведь и так довел до намеченной цены. Теперь бы при переписке купчей в палате чего не смазурил — всех и всё перечислил, вот за чем присмотреть… Ну и дреймадера! От трех рюмок ноги плохо идут. Или отсидел их? Ведь, поди, часов пять за столом перекорялись… Чует ли Анюта, что сбываются мои надежды?..»
Все шесть мужиков сидели за ужином, с краю стола примостились бабушка и две снохи Ивана Ларионыча. Катерина и молодуха подавали. В честь гостя жгли сальную свечу в фонаре. Когда вошел, все, как по команде, положили ложки и повернулись к нему.
— Будто что сладились, — ответил унтер на немой вопрос.
— И с наделом? — спросил отец.
— Двенадцать ревизских душ, со двором, домом и скотиной, одиннадцать десятин земли — все в купчую вписано…
— Сколько ж взял?
— Просил четыре тысячи пятьсот ассигнацией, я давал три тысячи пятьсот, сошлись на четырех тысячах.
— Ох ты! — громко выдохнул Иван Ларионыч.
— Когда ж в Тулу? — подал голос Михайло. — Может, отвезть?
— Послезавтра сам меня везет. Сказал к утру готовиться.
— Ну, дай тебе бог, Санюшка, — сказал отец. — Хоть помрем с бабкой вольными.
— Живи, батюшка, до ста годов, — ответил унтер. — Ведь и дале, пока служу, сколько-нибудь помогать буду.
— Вольными станем, сами справимся, — уверенно сказал Михайло. — Еще тебе с хозяйкой, бог даст, гостинцев навезем.
— Не хошь ли, сынок, кашки? — спросила Анна Тихоновна.
— Спасибо, матушка, все за столом сидели, а устал, будто цепами меня на току молотили. Снять бы мундир да умыться.
— Сейчас тя умоем да уложим, кормилец наш…
Господин Вахрушов сделал, как сказал: на рассвете подкатил к избе Ларионовых на тройке буланых, запряженных в бричку с откидным верхом. Барин полулежал на подушках в теплой шинели, а на козлах рядом сидели кучер с молодым лакеем в одинаковых добротных рыжих кафтанах. Сытые лошади лоснились, на сбруе блестел медный набор. Сразу видно, что едет состоятельный помещик, у которого дворовые ходят по струнке. Даже хвосты у лошадей на случай дождя подвязаны как-то особенно аккуратно.
Чтобы не мозолить глаза барину, проводить вышли только отец с матушкой, еще раз перекрестившей унтера, приговаривая:
— Помоги тебе матерь-владычица…
Ночью небольшим дождем прибило пыль на Богородицком большаке, по которому резво взяли кони. Подоткнутые седокам под бока сафьяновые, набитые волосом подушки покоили их на ухабах наравне со стараниями кучера, который, видать, хорошо знал дорогу, потому что нет-нет да и сдерживал тройку. Если же где все-таки встряхивало бричку, то дремавший поручик, откашлявшись, окликал:
— Ну, ты, ракалион! Гляди, куда правишь!
На что кучер с лакеем разом втягивали головы в плечи, и унтер заключил, что барин не всегда ограничивается словами.
Да, у него не то что у Пашковых. С козел вовсе не слышно разговора или всероссийского кучерского мурлыканья.
Через пять часов езды пристали у суетливого мужика Терешки, который, чмокнув поручикову руку, бросился греть его походный самовар. Два часа сидели, беседуя, пока кормили лошадей. Увидевши в окошко, что кучер и лакей на крыльце едят хлеб с огурцами, Иванов отдал им матушкины подорожники, раз поручик настойчиво потчевал его своими закусками. На это барин неодобрительно покрутил головой, но продолжал расспросы про большие выходы и поднесение алмаза «Шах», о котором читал в газете. Унтер осведомился, почему едут не через Юдино — там, говорят, до Тулы ближе. И узнал, что поручик любит оживленные тракты. Даже когда ездит почтовыми, то лучше подождет на станции в беседе с проезжими. Да еще, как подобает коронному чину, не терпит староверов вроде Лукича.
В дальнейшей дороге Вахрушов для удобства разговора приказал подвязать колокольчик и расспрашивал о семействе унтера, за сколько снимает квартиру, какое взял за женой приданое, чем заработал деньги. Должно быть, не верил, что отдает все накопленное за двадцать лет, потому что сам бы так не сделал.
В Тулу въехали уже при луне и пристали в «Венской гостинице», где заняли смежные комнатки с передней, в которой на скамейке устроился лакей поручика.
Наутро, нафабрившись, надевши полную парадную форму и завернув письма в платок, Иванов отправился в губернаторский дом. На улице невиданный в Туле мундир и медвежья шапка заставляли встречных пялить глаза и купцов выскакивать из лавок. Часовой у будки перед подъездом лихо взял на караул, а швейцар в прихожей почтительно осведомился, что угодно его высокоблагородию. Его превосходительство нонче не принимают, как поехали по городу, а у ее превосходительства прием с двух часов.
— Привез из Петербурга пакеты. Передать наказано самому генералу, — решительно сказал Иванов.
— Они нонче богадельню ревизуют, — доверительно доложил швейцар. — Не угодно ли обождать, где у нас чиновники дежурят. — Он распахнул дверь в комнатку со столом и диваном.
«Все моя форма делает», — подумал Иванов. Он вынул из платка письма, снял шапку, пригладил перед зеркалом волосы, снявши перчатку, подправил усы и баки. Здесь надо представиться по уставу — с шашкой на левой руке, а правой подать письма.
Перед окошком — подъезд и будка. По виду окаменевшего вдруг часового унтер понял, что показалась губернаторская коляска. Через минуту она подкатила, и молодой чиновник, проворно выскочив, подхватил под локоть не спеша вылезавшего генерала в шинели и шляпе с плюмажем. Иванов поспешил выйти в прихожую и замер у лестницы, ведшей во второй этаж.
Пашков был прав — генерал Зуров донельзя походил на вареного рака: лицо очень красное, а усы, брови и глаза очень черные. Сунув шляпу чиновнику и сбросив шинель на руки швейцару, он молодцевато передернул плечами, отчего все висюльки на эполетах затряслись и заблестели, выкатив грудь, оправил Владимирский крест на шее и тут увидел Иванова.
— Ба-ба-ба! Дворцовый гренадер к нам пожаловал! — воскликнул он. — Здорово, кульмский товарищ!
— Здравия желаю, ваше превосходительство! — отчеканил Иванов. — Унтер-офицер роты дворцовых гренадер, армии прапорщик Иванов с покорнейшей просьбой к вашему превосходительству.
— Но я, друг любезный, нынче не принимаю. Приходи завтра об сие время, выслушаю старого гвардейца.
Генерал снова молодцевато тряхнул плечами и, заложивши руки за спину, пошел было к лестнице.
— Имею письма к вашему превосходительству из Петербурга, — уже в спину сказал ему унтер.
— От кого же? — остановился генерал. — Ивицкий! Прими!
Мигом подскочивший чиновник взял от Иванова всю пачку и начал читать подписи. Генерал слушал, стоя вполоборота. После чина и должности Жандра Зуров сказал, не меняя позы:
— Хотя слышал, но не имею чести знакомства.
На имя Жуковского повернулся уже почти лицом к Иванову:
— Почтеннейший Василий Андреевич!..
Услышав о Лужине, испустил хохоток, похожий на ржание:
— Ах, Иван Дмитриевич, старший шафер наш с Катериной Александровной! А теперь сам супруг прелестной графини Васильчиковой!
На письмо Пашкова воскликнул:
— Батюшки! Мой эскадронный! Слава богу, в свет вернулся!
А при звании и чине князя Белосельского только развел руками, после чего взял в руки всю пачку и отнесся к Иванову:
— Ну, друг любезный, с такими козырями до завтра ждать тебе не придется. Проследуй в приемную да поскучай там, пока я к жене зайду ей адресованное передать, подпишу кое-что неотложное и все сие прочту со вниманием. Проводи, Ивицкий, прапорщика в приемную да подай «Инвалида» для развлечения.
И вот Иванов сидел один в длинной комнате с портретами в рост Екатерины II и Александра Павловича и старался припомнить, видел ли Зурова, когда флигель-адъютантом дежурил в Зимнем. Нет, такого рака, наверное, запомнил бы. Должно, как Лужин, дежурил раз в месяц, вот и не встретились…
Верно, любопытство пересилило неотложные бумаги, и генерал сразу взялся за письма, потому что через четверть часа давешний чиновник снова появился в приемной.
— Его превосходительство просят вас в кабинет, — и сам распахнул двери.
Здесь висел поясной портрет царствующего государя вроде тех, что писал Поляков. За столом сидел генерал Зуров.
— Садись, братец мой! Садись, садись, раз я тебе велю. Ведь нам с тобой поговорить надо.
— Покорно благодарю, ваше превосходительство. — Иванов присел на край стула у двери.
— Так ты уже сторговал нужных тебе крепостных у сего… — генерал ткнул пальцем в письмо, — как его? Ватрушкин, что ли?
— Так точно, ваше превосходительство, с ним сюда приехали. Дело за составлением купчей в палате гражданского суда.
— И деньги все с тобой?
— Так точно-с.
— Тогда я тотчас пишу записку председателю, и ты сам ее отнесешь. Или с курьером послать?
— Вам виднее, ваше превосходительство, как лучше-с.
— А вот мы супругу мою спросим, — сказал Зуров. — Она только что письмо Ивана Дмитриевича прочла и тебя спросить что-то желает. — Генерал привстал и откинул портьеру от двери, бывшей почти за его креслом: — Екатерина Александровна! Пожалуй сюда.
В кабинет вошла дама в нарядном фиолетовом платье. Пашков сказал правду — не молодая, она все же была красива. Рослая, стройная, с нежным румянцем правильного лица.
— Здравствуйте, прапорщик, — сказала генеральша приветливо поспешно вставшему Иванову. — Иван Дмитриевич пишет, что вы давние сослуживцы, знаете его с юности.
— Так точно, ваше превосходительство. Они в Конную гвардию юнкером поступали, когда я там унтер-офицером служил. И всегда ко мне заботливы были, дай им бог здоровья.
— А не видели вы его супругу? Хороша ли собой?
— Слыхал только, ваше превосходительство, что женились, а саму барыню не видывал.
— Мне говорили, что флигель-адъютантская комната теперь на новом месте, — сказал генерал.
— При самом Министерском коридоре, рядом с новым Фельдмаршальским залом, ваше превосходительство.
— Il faudra faire tout ce que il desire, Jean. Il gardera toujours le cachet de sa basse naissance, mais si brave et respectueux! C'est pour cette raison qu'il a de tels protecteurs[72]. У вас есть семейство, прапорщик?
— Так точно, ваше превосходительство, жена и дочка пяти лет.
— А жена из какого сословия?
— Мещанка, белошвейной мастерицей была у госпожи Шток.
— На Пантелеймоновской? Очень хорошая мастерская. Помнишь, Elpidi, мы ездили ей заказывать.
— Как же, ма шер, еще потом, пешком прогуливаясь, его высочество встретили, он нас поздравил и какой-то каламбур сказал.
— Поздравил-то он тебя! — поправила с улыбкой генеральша. — И в ответ на мою шутку о твоих усах очень мило срифмовал Catharine и badine[73]. Так ты сейчас же напиши, чтобы не задерживали прапорщика. Может, и мне добавить от себя председателю? От двух просьб дело быстрее пойдет?..
Иванов вопросительно взглянул на генерала. Тот, радостно выпучив рачьи глаза, любовался своей супругой.
— Явите такую милость, ваше превосходительство, — поклонился унтер генеральше.
— А письмо Жуковского, мой анж, мне отдай для альбома. Тем более, что закончено любезностями по моему адресу. Я его той стороной вклею, где мне комплименты и подпись поэта.
Она кивнула Иванову и вышла, оставив в комнате запах ландышей. Генерал уселся поудобнее и водрузил на нос очки.
— Да садись, садись, братец, а я писать стану.
Иванов сел, а губернатор попробовал ногтем кончик пера, посмотрел его на свет, вздохнул и застрочил.
— Поручик-то Вахрушов, ваше превосходительство, — решился подать голос унтер.
— А? Да, да, я его чуть не переделал…
Генерал подписался и позвонил в колокольчик. В дверях вырос дежурный чиновник.
— Подайте огня, сургуч растопить, — приказал генерал и присыпал письмо песком.
Чиновник внес горящую свечу.
— Запечатайте, — приказал Зуров, подавая снятый с пальца перстень. — Теперь отнесите свечу Екатерине Александровне, она тоже письмо пишет. Вот, получи, братец. Ты сейчас же иди в палату и никому писем не отдавай, кроме самого председателя. Я ему перечислил, какие лица за тебя просят. Ежели что будет оттягиваться, то послезавтра явись утром ко мне. Я их расшевелю! — Брови генерала грозно нахмурились и глаза пуще выкатились.
— Покорнейше благодарю, ваше превосходительство!
— Но если там надо, кроме пошлины, что-нибудь писцам сунуть за спешную работу, ты уж не скупись, дай «барашка в бумажке». У них жалованье сам знаешь… Ты сколько получаешь?.. Да что ты! Истинно по-царски! А вот и письмо от генеральши…
Тот же молодой чиновник подал Иванову маленький конверт, запечатанный золотистым сургучом.
Палата оказалась в квартале от губернаторского дома. И здесь форма Иванова произвела переполох. Когда вошел в первую комнату и сказал, что прислан губернатором к председателю, то один из чиновников убежал с докладом, а другой юркнул в соседнюю комнату, и тотчас из ее дверей стали показываться головы, которые явно нехотя уступали место следующим. И все таращились на медвежью шапку с золотой кистью, галуны мундира и лампасы.
Через считанные минуты первый чиновник появился и сказал, что его высокородие просит его благородие к себе. Пройдя через зал присутствия, где стол был застлан зеленым сукном в чернильных пятнах и стояло золоченое трехгранное зерцало, унтер вошел в небольшую комнату, где под портретом государя восседал седой чиновник в свежем вицмундирном фраке, но с подозрительно красным носом, в цвет эмали Анненского креста, висевшего на шее.
Остановясь близ порога, Иванов отрапортовал:
— Прапорщик Иванов из роты дворцовых гренадер государя императора в Санкт-Петербурге честь имеет явиться вашему превосходительству. Дозвольте вручить письма от господина генерал-майора Зурова, а также от ихней супруги.
— Прошу садиться, господин офицер, — благосклонно сказал председатель, которому титулование превосходительством явно пришлось по нутру.
Взяв письма, он прочел сначала заключенное в маленьком конверте, причем в комнате, где пахло сургучом и плесенью, сразу повеяло ландышем. Приятно осклабясь и покрутив красным носом, председатель взялся за губернаторское.
— Так каково же дело ваше? — спросил он, прочтя и это.
— Имея ограниченный сроками отпуск, прошу ваше превосходительство не задержать совершение купчей записи на крепостных, приобретаемых мною от помещика Вахрушова.
— Вахрушов? — переспросил председатель. — Он, кажись, в сем году совершал у нас уже купчую?.. Где же он пребывает?
— В гостинице ожидает решения вашего превосходительства.
— А необходимые для сделки бумаги и денежные средства?
— Все в указанный час будет представлено.
— Какова же сумма, вами платимая, дозвольте спросить?
— Тысяча рублей серебром за двенадцать душ различного возраста, одиннадцать десятин земли и один крестьянский двор.
— Так, так, — глубокомысленно покивал головой председатель. — Раз просят такие лица, а, как явствует из письма, к ним обратились еще более высокие особы, мы вас не задержим. — Он, не сходя с места, трижды стукнул линейкой о ближнюю стенку взамен колокольчика, которого в соседней комнате, верно, не было бы слышно.
Через несколько минут вошел столь же пожилой чиновник, но с орденом Станислава на шее и в потертом вицмундире.
— Вот-с, Олимпий Антипыч, познакомьтесь с господином офицером из дворцовой роты самого государя императора, — начал председатель, и новые знакомые обменялись поклонами, — которому угодно приобресть несколько душ от уже известного нам помещика Вахрушова. Сами Ельпидифор Антиохович, а также их очаровательная супруга обратились ко мне с просьбой не задержать заключение купчей, а за сими лицами стоят просьбы весьма высоких особ из столицы. Все необходимые бумаги находятся налицо, так же как и средства на покупку и оплату надлежащих сборов. Не так ли, господин офицер?
— Так точно, ваше превосходительство.
— Однако, ввиду того, что продавец может прибыть в присутствие только через некое время, я полагал бы назначить сие дело на завтрашнее утро, с тем, чтобы ежели не встретится препятствий в отношении законом предусмотренных условий, то и закончить его завтра же. Согласны ли вы, Олимпий Антипыч?
— Совершенно-с, Андрей Петрович. Хотя наши чиновники заняты срочными делами, но раз такие особы просят, разумеется, все отложим. Пожалуйте со мной, господин офицер, я задам несколько вопросов, дабы завтра не задержать заключение купчей.
Откланявшись председателю, Иванов прошел через две комнаты, занятые склоненными над столами чиновниками, и оказался уже в третьем в этот день кабинете с двумя шкафами по боковым стенам, набитыми пыльными делами, огражденными от посетителя вместо стекол частыми проволочными сетками. В глубине между ними был втиснут стол Олимпия Антипыча, за которым на стене, однако, висел царский портрет, правда, уже не живописный, а литографский, но зато в короне и мантии.
Усадив посетителя, Олимпий Антипыч расспросил и записал что следовало, назначил Иванову и Вахрушову явиться сюда к девяти часам утра и напомнил, что, кроме суммы, потребной для покупки, которая будет при надлежащих свидетелях вручена продавцу, надлежит также уплатить пошлину и другие казенные сборы.
— Сколько же, ваше высокородие, на то надобно принести?
— Сумма ваша четыре тысячи ассигнациями, — наморщил лоб Олимпий Антипыч, взявши в руку карандаш. — Пошлины с нее сто пятьдесят семь рублей, сбору с акта — десять рублей, на припечатание — одиннадцать рублей сорок копеек с полушкою и за гербовую бумагу — восемь рублей; следовательно, казне с вас получить сто восемьдесят шесть рублей сорок с половиной копеек.
— Что ж, раз столько надо по закону… — сказал Иванов.
— Кроме того, должен упредить, — продолжал Олимпий Антипыч, — что ежели вы желаете все сделать быстро-с, как приказывает генерал Зуров, то вам надлежит еще прихватить некую сумму для оплаты свидетелей. Вам сие непонятно-с? А суть дела в том, что при совершении купчей, кроме продавца и покупателя, должны присутствовать четыре лица, известные палате как дееспособные, значит, совершеннолетние, не бывшие под судом и владеющие недвижимым имуществом, что служит порукою их полезности обществу. У вас есть здесь знакомые?
— Никак нет, я в Туле впервой.
— Вот видите-с. Отсутствие свидетелей и может задержать совершение купчей, несмотря на приказание его превосходительства. Закон сильнее нас. Закон для всех писан государем…
— Так что же надобно сделать? — спросил Иванов.
— Вы препоручите сию миссию мне, я передам ее одному чиновнику, тульскому старожилу, а он уж устроит так, чтобы завтра к трем часам пополудни, когда будут приготовлены все акты, тут же присутствовали и необходимые лица — местные жители, имеющие чины государственной службы и недвижимость. Но, понятно, их придется поблагодарить за таковое участие, без коего купчая не может быть подписана и вам выдана.
— Сколько же? — спросил Иванов.
— Рублей по тридцать ассигнациями каждому, я полагаю.
— Помилуйте, за одну подпись по тридцать рублей! Ведь это составит для меня новый расход в сто двадцать рублей!
— Зато завтра же будете держать в руках купчую крепость по всей форме. При расходе в четыре тысячи за такую быстроту канцелярских трудов, поверьте, сия добавка совсем невелика.
— Но господин губернатор мне приказали в случае любой задержки сразу же ему рапортовать, — сказал Иванов, беря в руки шапку, будто хочет покинуть кабинет Олимпия Антипыча.
— Ну что же-с, рапортуйте, а мы отпишем его превосходительству, что не представили необходимых по закону свидетелей за отсутствием знакомства в городе, а посему купчая совершена быть не может, — развел руками чиновник. — И пойдет вполне законная, заметьте, проволочка не одной недели. А отпуск ваш тем временем… Верьте, что предлагаю вам самолучший способ сделать, как в сказках бывает, «по щучьему веленью» в один день, и то, конечно, только из расположения к вам начальника губернии… Знаете ли, какую кропотливую работу составляет написание купчей крепости даже для опытного чиновника? Ее пишут сообразно представленных продавцом прав на владение, последних ревизских сказок, квитанций об уплате податей и немалого числа других документов. Я ничего не прошу у вас собственно для чиновников, которые станут над сим трудиться, в надежде, что свидетели, кои упомянутся в конце купчей, с ними доброхотно поделятся… Как же решаете?
— Пусть будет по-вашему, — сказал Иванов. — Завтра с Вахрушовым будем сюда утром, сто двадцать рублей я вам вручу, а кому их определите — дело ваше.
— И поверьте, что все столь быстро устроится только по воле господина губернатора, за коим, я слышал, видятся еще более высокие лица… Честь имею, господин офицер.
Вахрушов ждал унтера в гостинице, сидя за накрытым столом, украшенным дорожным графинчиком настойки.
— Вышло ли что? — спросил он, проворно выходя в переднюю.
— Губернатор приказал, и в палате обещаются завтра все сделать, — отвечал Иванов и пошел разоблачаться.
Когда за обедом поручик услышал о сказанном генералом Зуровым и обоими чиновниками, то воодушевился чрезвычайно.
— Если так сбудется, то вы, право, счастливец. Разве не чудо из рекрутов офицером во дворце преобразиться и сильных покровителей в Петербурге получить?.. А насчет ста двадцати рублей, то ежели Олимпий премудрый ими ограничится, то считайте также чудом, ибо, видно, канцелярских нравов не знаете… Еще рюмочку? Ваше здоровье! А скажите, батюшка, все ж таки, как вы деньги носите? Ну, вот сейчас, при себе, в дороге то есть?
— По самому простецкому, в набрюшном чересе, — ответил Иванов, не ожидавший вопроса. И добавил: — Оттого и сплю вполглаза, всегда готовый отпор дать, как уже однажды случилось…
— Так прошу вас тот черес мне завтра уступить, — умильно прижал руки к груди Вахрушов. — Сознаюсь, я несколько суеверен, и мне, полагаю, будет не лишним. Ведь старик, ради которого сюда приехал, вместо целого леса, мне нужного, только на малую вырубку записку дал. Значит, обратно с вашими деньгами и со своими поеду.
— А я как же с остальными? Ведь мне на них домой добираться, — возразил Иванов. — А карманов, сами знаете, в военной форме не положено, окромя нагрудного, в котором малые бумаги носят, да в фалдах, где кошелек да платок вместятся.
— Так ведь главную-то часть вы мне вытряхнете, — засмеялся поручик, — а я вам казанского сафьяну бумажничек и кошелек поднести счастьем почту в обмен на чересок счастливый.
— За то, что хотел с меня черес снять, один кирасир жизни лишился, — сказал унтер, которому стала неприятна такая настойчивость суеверного и несколько охмелевшего поручика.
— Как так?
Тут Иванов рассказал давнишнюю историю о попытке обокрасть его сонного и что затем произошло, вплоть до гошпитальной часовни с гробом Алевчука. Но от услышанного поручика только крепче забрало желание приобрести солдатский черес.
— Тем всепокорней прошу мне чересок уступить, раз и грабителю не дался. А я в новые кошелек и бумажник на развод достойное начало опущу.
— Дайте завтрашнее дело покончить, — встал из-за стола Иванов. Стоило ли рассказывать, что старый черес Михайло отвез отцу с деньгами? Авось до завтра забудет эту блажь.
— Да постойте, мигом чай подадут… Знаете ли, сколько я тут с купчей на Козловку прожил? — не унимался Вахрушов. — Месяц и три дня! Да все то время трясся от страху, что Иван Евплыч помрет и все дело к черту… И заемные письма его и доверенность, по которой тут некий чиновник за него действовал, — все разом в пустую бумагу обратится, ибо жди, что наследники какие-нибудь объявятся, и судись с ними… А чиновника того я весь месяц за свой счет поил, кормил и Олимпию премудрому пять сотен передал, чтобы производство ускорил, кроме, конечно, сборов, не вашим чета, и тех же ста двадцати рубликов на свидетелей, которыми счастливо отделаетесь… А ежели что, вы прямо к губернатору…
— И побегу, — заверил Иванов. — А вы в постель бы легли, Николай Елисеич, чтобы завтра в палате за всем присмотреть.
— Лягу, лягу… Вот только чайку. Чувствую, что лишнего перехватил. Но старик-то каков кряж! Тот, который лесок продавать думал. Поил его, поил, балыком, икрой кормил, а он только на вырубку и продал двести дерёв. Ну, я такие отберу, что балыки с икрой оправдаю… А потом еще с губернским архитектором выпить пришлось, которому заказ хочу дать…
На этом месте речи Вахрушова унтер вышел в свою комнату и через переборку долго слышал голос, обращенный уже к лакею.
— Ну, раздевай меня, ракалион! Прежде пуговки расстегни, пень деревенский. Знаю, что будешь сейчас из рюмок лакать, тарелки долизывать. Думаешь, что смазливая харя да Диомидкой окрестили, так и барыню прельстишь? А вот как сдам в солдаты, так забудешь, какая у тебя рожа. Там по зубам не по-моему…
— Что же вы, сударь, меня все пужаете, — отвечал плаксивым голосом лакей. — Вон его благородие из солдатов до чего дошли. Может, солдатская-то служба не хуже, как бесперечь подзатыльники примать. Разве я телепень какой? Уж как стараюсь…
— Вот чурбан! Только и знаешь, что «бесперечь» да «телепень», а не разумеешь, что судьба, как у господина Иванова, одна на сто тысяч солдат, а остальные с голоду, от скорбута да от начальственного кулака дохнут. То и с тобой ужо будет. Ну, гаси свечу, марш вон, утром все приберешь…
«Вот он, тихий да вежливый барин! — думал Иванов, поворачивая так и этак подушку. — И чего ругает бедного парня? Или не зря свою супругу помянул? Лакей-то, верно, лицом вышел…»
Назавтра все прошло как по маслу. Свидетелями расписались весьма потрепанные господа чином не выше губернского секретаря. При них Иванов отсчитал ассигнации господину Вахрушову и получил из рук Олимпия Антипыча купчую крепость, в обмен на которую вручил 187 рублей казенных податей и 120 рублей «на прочее».
В заключение сделки Олимпий Антипыч посоветовал запастись двумя заверенными копиями с сего документа. Иванов подумал, что и верно надо бы одну отцу оставить на случай, если отложатся хлопоты по освобождению, а другую отправить в Петербург почтою Анне Яковлевне. Когда же высказал желание заказать таковые, то они тотчас же были поданы совершенно готовыми на заверку и потребовалось по двадцать рублей за штуку. Ведь писаны были искусно и на гербовой бумаге.
Засунув все документы в услужливо поданный неким чиновником большой конверт, унтер вышел из палаты.
Шел и думал: сколько же заплатил сверх покупки? Выходило 367 рублей. Значит, осталось около шестисот. В Епифани, считай, при вводе во владение еще рублей сто слупят, да за выпуск на волю тоже надо платить что-нибудь в казну. Как об этом не спросил Павла Алексеевича?..
На этом месте размышлений его перегнал Вахрушов, задержавшийся в палате, и на ходу сказал:
— Вы, Александр Иванович, в гостинице обед заказывайте, а я забегу бутылочку шипучего куплю, покупку спрыснуть, да еще бумажник и кошелек в обмен на ваш черес счастливый.
«Эк ему приспичило!.. Отдам, ну его к ляду… Остатние деньги по карманам да в бумажнике носить можно, — подумал Иванов и продолжал вычисления: — Рублей тридцать отцу дать надо на угощение односельчан, раз от помещика семья откупилась. Да сотни полторы ему же при отъезде — вот еще сто восемьдесят рублей нету. Сколько же осталось? Меньше трехсот… А ежели до ввода во владение в Беловодск съездить, то и тут на прогоны сколько-то, а потом на свой кошт в Петербург…»
Придя в гостиницу, Иванов снял вицмундир и прилег на кровать. Ох, устал! А чего делал? Надо бы сегодня же губернатора благодарить, а вот как не хочется никуда идти, парадную форму напяливать. Да и прием у него уже, верно, окончен.
Кликнул лакея Диомидку, приказал заказать обед, какой вчера подавали, или еще лучше, по вкусу своего барина, а когда вышел, накинул крюк на дверь, стащил сапоги, укрылся шинелью и заснул так крепко, что поручик едва достучался.
Обеду Вахрушов придал торжественность, которой, должно, выучился на службе при больших начальниках. Выпив за здоровье Иванова и членов его семейства, пожелал унтеру высоких чинов и просил не оставить протекцией, ежели дела приведут в Петербург. Иванов тоже пожелал поручику здоровья с семейством и успеха в хозяйстве. Потом передал пустой черес с завязками и получил красные сафьяновые бумажник и кошелек. В первом лежала десятирублевая ассигнация, во втором — золотой пятирублевик.
«За пропотевшую тряпицу такие подарки отдает, — подумал унтер. — Но для меня тот черес верно счастливым вышел…»
И сегодня Вахрушов, выпив лишнее, вскоре пустился в откровенности. Сказал, что, помимо продажи Иванову крестьян и дела с соседним лесом, поспешно отправился в Тулу, чтобы стребовать долг от одного здешнего баринка, который только что получил наследство, о чем по почте известили доброхоты, тоже не безденежно старавшиеся. Тут следует сряду свое хватать, а то пустит наследство по ветру или в столицу укатит. И все с хорошим процентом взял… Вот почему черес счастливый особенно нужен… Опять же рад ехать обратно с воякой бесстрашным при сабле. Он-то хотя поручиком именуется, но по письменности службу проходил…
Когда Иванов ушел к себе, то услышал, как канцелярский поручик приказал Диомиду подать иглу с двойной белой ниткой, выйти и закрыть двери. Потом долго раздавался шелест бумаги, сопение и невнятное чертыхание. Должно быть, Вахрушов раскладывал ассигнации, зашивал их в черес и с непривычки колол пальцы. Наконец последовал приказ Диомиду войти, раздеть барина и убрать со стола, да не греметь. А кучеру рано утром подавать в обратную дорогу.
«Вот насосался! Часов восемь, а уже задрых, — думал Иванов. — Даже мне не сказал про отъезд. Как я, не поблагодаривши губернатора, уеду?.. Нет, раз защитник с саблей нужен, то пусть ждет, пока хоть в вицмундире схожу. А нонче соберусь-ка».
Уложил в чемодан парадную форму, сунул было под нее конверт. Но потом снял нагар со свечи, вынул купчую и перечел:
«Лета тысяча восемьсот тридцать шестого, октября в девятнадцатый день, поручик Николай Елисеев сын Вахрушов, продал я прапорщику Александру Иванову сыну Иванову крепостное мое недвижимое имение, дошедшее ко мне по купчей от сего же тысяча восемьсот тридцать шестого года, февраля двадцать пятого дня, от капитана Ивана Евплова сына Карбовского, состоящее в Тульской губернии, Епифанского уезда, в селе Козлово, в коем написанных за мною по нонешней осьмой ревизии крестьян: Ивана Ларивонова с женой Анной Тихоновной, с детьми их Яковом, Сергеем, с Якова женою Наталией, с их детьми Михайлой, Сидором и дочерью Екатериною, с Сергеевою женою Домною, с дочерью их Матреною и внуком Яковом, его женою Агафьей и с рожденными после ревизии детьми, с их крестьянским имуществом, строением, скотом, крупным, мелким, с лошадьми и со птицею, с хлебом молоченым, в землю посеянным и в гумнах стоячим и с принадлежащей им землею в оном селе Козлове, состоящею под усадьбою, выгоном и под огородом одна десятина, луговой одна десятина и пашенной девять десятин, а всего одиннадцать десятин указанной меры, за которой именно взял я, Вахрушов, с него, Иванова, денег государственными ассигнациями четыре тысячи рублей; коих крестьян для платежу податей перечислить ему покупщику на себя…»
«Да, все толком пересказано. Ну, надо день сей навек запомнить и о нем Анюте отписать. А теперь и мне на боковую…»
В девять часов Иванов направился к губернаторскому дому. Несмотря на вчерашний приказ, поручик спал, и Диомид в третий раз принимался его будить, докладывая, что лошади поданы.
Унтер шел не спеша и думал, как почувствительней сказать генералу о своей благодарности. Выйдя на площадь, увидел, что у губернаторского дома стоит коляска, и ускорил шаг. Зуров вышел из подъезда в сопровождении того же молодого чиновника и сразу увидел Иванова, застывшего с рукой у шляпы.
— А, здорово, братец! Вчера председатель мне доложил, что все тебе уже сделал.
— Шел вас с ее превосходительством благодарить, — сказал Иванов. — Вчерась не решился, как приемные часы уж кончились.
— Очень рад был услужить твоим покровителям. Не хочешь ли на учение будошников поглядеть? Еду им смотр делать.
— Покорне благодарю, но сейчас с попутчиком в Епифань еду.
— Ну, счастливо помещичать!..
И вот опять бодро бегут буланые лошади с аккуратно подвязанными хвостами. И на этот раз не зря — только выехали из Тулы, как заморосил дождь. Укрытый поднятым верхом брички, Иванов смотрел, как, намокая, чернеют кафтаны кучера и Диомидки. Через час, поди, до нитки вымокнут, бедняги…
До самого Терешкиного двора Вахрушов похрапывал, катаясь головой по подушкам, а когда проснулся при остановке брички, первым делом ощупал под сюртуком — тут ли черес?
Близко к полуночи Иванов простился с поручиком у его крыльца и, шлепая по лужам, добрел до родительского дома.
Иван Ларионыч сказал, что надо собрать соседей на обед да всем односельчанам выставить водки. И без объяснений Иванов помнил, что, кроме воскресений, в которые при Иване Евплыче никто в деревне полный день не отдыхал, праздниками у крестьян бывали рождество, пасха да двунадесятые, когда спали вволю, а главное, ели, сколько вмещала утроба. Сейчас, после покрова, все такие дни далече и повод к празднованию чего законней? Крестьянский сын в офицеры вышел, семью родительскую на себя откупил и сулится с нее оброку не брать.
Утром в субботу в Епифань поехали отец с Яковом и Михайлом закупить на базаре что нужно, кроме домашнего припаса, для праздничного обеда, еще пряников и орехов для угощения девушек и ребят да четыре ведра простого вина на всех, кто захочет выпить за Ларионовых. Услышав про водку, унтер спросил:
— А не обопьется ль кто до смерти, папаня?
— Не бойся, своей рукой наливать всем стану. И Михайло мне в помощь, чтоб, ежели кто бунтовать зачнет, взашей дать.
— А он сам как?
— Весь в меня. У нас один Серега меры не знает.
Все вышло, как говорил дед: они с внуком подносили тем, кто сидел в избе, а потом за другим столом, который сколотили на улице перед домом, благо погода опять встала сухая.
Конечно, через час кое-кто так набрался, что развели к ночлегу. Но большая часть гостей только раскраснелась, пели песни, а молодые плясали на улице. Двое парней подрались было за девушку, да их растащили те же дед с Михайлом.
Унтер высидел за столом больше часу, но, когда пошло самое веселье, соседи старались петь все громче, а в избе стало душно, он вышел в сени и через двор огородом спустился к Дону. А тут присел на порожек баньки.
Все сделал, за чем приехал, на все, что помнил, и тех, кого помнил, нагляделся, а дальше что? От здешних дел оторвался, все заняты, он один, как приехал из Тулы, слоняется ни при чем. Можно, понятно, вздеть братнюю рубаху да порты и встать молотить или еще что по хозяйству делать. Но много ль толку от него будет? Не лучше ли в Беловодск съездить?..
Однако холодно тут сидеть. Вышел в расстегнутом вицмундире, и теперь пробрала дрожь. Застегнулся, поднялся на ноги.
— Дядя Александра! — окликнул близко Михайло. — Застыли? — Он накинул на Иванова шинель, подал шляпу. — От шуму ушли?
— Да, брат, кричат больно громко. Да и пьяных не люблю. Сейчас целуются, а сейчас и раздерутся.
— Три ведра с дедом разлили, и всё вызукали. Четвертое прибрали, а то и вправду кто окочурится с перепою. Будем помалу отцу да дяде Сереге в праздники давать. Ну, побегу, а то эвон буднят, — сказал Михайло, прислушавшись к разноголосице у избы. — А вы тут походите, пока расползутся. Я прибегу, как постелю вам сготовят. Да в колдобину не оступитесь…
Выбрался через соседский огород на темную улицу и пошел к церкви. Постоял около могилы Ивана Евплыча. Вот кого никто добром не помянет… И неужто Кочет проклятый припеваючи где живет?..
Прошел бы на кладбище за околицу, да около отцовой избы пьяных не миновать. И в темени Дашину могилу не сыщешь.
Сел на лавочку около церкви, что для старых богомольцев издавна поставлена… Но вот шаги, тихие, лапотные, и стук палки оземь. Верно, ночной сторож Федор идет, старик бобыль.
— Эй, кто тут притулился? — окликнул, подойдя и всмотревшись. — Никак его благородие? Ясны пуговки тебя выказывут. Неужто сгрустнулся по барину любезному?.. А ведь и я за твое здоровье кусок съел и выпивши. Чего сам-то сюда укрылся?
— Больно в избе жарко стало.
— Оно правда, в избе — что в бане. Так тебя ж празднуют.
— И на здоровье. А про Кочета, дядя Федор, чего не слыхал?
— Помнишь ясного сокола? Чтоб ему, коли еще живой, без покаяния сдохнуть. Зла с барином натворили, будто татары лихие… Нет, куда делся, не знаю. Голоса не подаст. Верно, где купцом заделался. — Федор шагнул еще ближе, наклонился и спросил вполголоса: — А ты скажи, Александра Иванович, твое-то богатство откуль? Шутка ли денег набрал, что своих всех искупил. На войне так разжился аль жену богатую взял?
«Что ему про щетки толковать, которые меньше четверти капитала собрали?»— подумал Иванов и сказал:
— Жалованье нам большое положено, раз царя охраняем. От него половину не один год откладывал. Деньги не ворованные. И жену взял такую рукодельницу, что за месяц рублей двадцать в дом несет.
Дед помолчал и еще подвинулся к унтеру:
— А на что те надо своих выкупать?
— Чтоб им легче жилось, — ответил Иванов.
— И так куда полегшало при новом-то. Работай исправно барщину — и взятки гладки. А на оброк тебе своих переводить не след. Один дед Иван голова, а остатние только что хрестьяне прямые. Избалуются, как дед помрет. Разве Михайлу переведи, он сверх оброка принесет.
— Чем же заработает? — осведомился Иванов.
— Да чем хошь. Хоть офеней, хоть в прасолы — только слободу дай да деньжонок на разживу… А вот и он никак, легок на спомине, — повернулся дед к подходившему в белой рубахе Михайлу.
— Пожалуй, дядя Александра, постеля готова. Едва сыскал вас. Только что издаля заслышал, что с дедом Федором гутарите.
— Про тебя в самый раз речь зашла. Советовал его благородью тебе большой оброк назначить.
— Спасибо, дед Федя! А я-то, дурак, тебе давеча второй стаканчик поднес! — засмеялся Михайло.
Стало тихо, только в конце улицы вскрикивали двое.
— Братанов Пешкиных бабы домой тащут, — пояснил Михайло.
— А правда ль, что ты не прочь в торговлю пуститься? — спросил Иванов, когда шли к дому.
— Насчет торговли пустое, а свет поглядеть — вот чего охота. К примеру, од нова мне обмолвились, что к офицеру в Слободскую губернию съездить хотите, — вот и возьмите за кучера. Лошадей пару запрягем в вашу тележку да так-то славно покатим. Я б многое расспросил, и сам, может, что рассказал…
— А без тебя да без коней по хозяйству обойдутся?
— Чего не обойтись? Коней им пара здоровых останется, а я хоть свет малость повидаю.
— Тот свет не дальний. Ден в десять и доехали бы.
— А мне все внове. Сказывали, они на конном заводе начальники, а я таков до коней охотник! Хоть нагляделся бы на них, пока с офицером беседуете…
Ночь Иванов спал плохо — мешали коровы, петухи, собаки, а главное, не мог согреться, как ни увертывался в одеяло.
Назавтра уговорился с дедом о Михайле. Поворчал, но сдался, когда обещал деньги за прогоны отдать на хозяйство.
— Пущай три дня в молотьбе приналягет, — сказал дед, — а в четверг и поедете.
В этот день не готовили — ели лапшу с курятиной и жареного барана, — от гостей осталось столько, что снова позвали двух соседей. А на ночь унтер попросился на печку, которую нынче чуть подтопили, разогревая вчерашнее.
— Аль простыл в клети? — догадался Иван Ларионыч.
— Может, малость, да и охота спомянуть, каково там спится.
— Глотни водочки с редечным соком, сряду оздоровеешь.
Унтер с детства помнил любимое отцово лекарство от всех болезней, в которое сыпал иногда еще соль с перцем.
— Ну, поднеси, что ли, — сказал он.
И за ужином проглотил стакан зелья, от которого едва не задохся.
Может, от него на печи на тулупе спалось преотлично, а когда проснулся, в избе было пусто, двери в сени открыты, оттуда шел приятный свежий воздух, в печи потрескивали дрова, и тихий голос невидимой сыну Анны Тихоновны говорил знакомую с детства сказку про хитрую лисицу. Рассказывала она, как и сорок лет назад, на два голоса. Вот за лису, которая спасается от догоняющих ее собак и юркнула в чью-то нору.
— «…Ох вы мои глазыньки, что вы смотрели, когда я бежала?»— спрашивала матушка обычным голосом, разве больше нараспев. «Ах, лисанька, мы смотрели, чтобы ты не споткнулась», — отвечала она тоненьким голоском. «А вы, ушки, что делали?» — «Мы все слушали, далеко ли псы гонют». — «А ты, хвост, что делал, как я бежала?» — «А я все мотался под ногами, все старался, чтобы ты упала да собакам в зубы попала». — «Ах так! Пусть же тебя собаки и съедят! — Выставила из норы хвост да закричала: — Ешьте вы лисий хвост!» Собаки за хвост ухватили и лису закомшили… Так часто бывает, что от задиристого хвоста глупая голова пропадает, — нравоучительно заключила матушка уже своим обычным голосом.
— И тоды лиску съели? — спросил мальчик.
— Да уж от собак ей куда деться?..
— А может, хоть без хвоста, да пожила, — вздохнула девочка.
— Может, и так, Глашута, а может, спаслась, им зубы заговорила, — утешила правнучку Анна Тихоновна.
Иванов высунулся с печи и сказал:
— Вот Маши моей нету, чтобы сказок твоих, матушка, послушать. Она тоже, верно, лису б пожалела.
— Уж я б ей порассказывала. Чего не взял с собой?
— Будущий раз, как поеду, беспременно привезу.
— Ну, слезай, светик мой, лепешки есть да баранину… А вы, ребята, бегите на двор…
В этот бездельный день унтер попросился у отца помолотить.
— Чего вздумал! — сказал Иван Ларионыч. — Нас вся деревня засмеет. Отдыхай перед новой дорогой.
Отдыхать? Но что делать-то? Даже письма Анюте написать не может — с собой только карандаш да бумажка, на которой раскидывал цены семейству. Поручик в деревню не показывался, а то у него бы попросил письменные принадлежности. В Епифань идти не хотелось — больно там на него глаза пялят…
Сходил один на кладбище за околицу, нашел могилы Даши и Степаниды, постоял над ними. Вот не сдали бы в солдаты, женился бы на Даше и сам когда-то лег в эту землю, в которую отец и матушка, братья и племянники сойдут в свое время. А теперь куда повезут под грохот барабанов и свист флейт? На Чесменское? Недалече от Варламова положат под салют холостыми патронами, и Павлухин, обратно идучи, будет вирши про него плести…
Следующим утром опять слушал сказку. Проснулся от тихой возни. Выглянул: ребята и бабушка на столе горох перебирают.
— А сед ни про мышку со звонком, — вполголоса попросила девочка.
— Ладно, слушайте… Да сами помогайте, а то всё мне в рот глядите… Ну вот, женился мужик вдовый на вдове, и у обоих по дочке. Мачеха была ненавистная, отдыху не дает старику: «Вези свою дочку в лес, в землянку, она там больше напрядет». Послушал мужик бабу, свез дочку в землянку и дал ей огнивца, трутку и кремешок да мешочек круп. И говорит: «Ты огонек не переводи, кашу вари, сама сиди, да пряди, да избушку-землянку прибери». Девка затопила печурку, заварила кашку. Откуда ни возьмись — мышка, и говорит: «Девица, дай мне ложечку кашки». — «Ох, моя мышенька, разгони мою скуку, я тебя досыта кормить буду!» Поела мышка и ушла. Настала ночь, и вломился в землянку медведь: «Нут-ка, девица, туши огонь, давай в жмурки играть». Мышка взбежала на плечо девицы и шепчет на ушко: «Не бойся, скажи: «Давай», а сама потуши огонь да под печку полезай, а я буду бегать и в колокольчик звонить». Так и сталось. Гонялся за мышкой медведь, никак не поймает. Устал и говорит: «Мастерица ты, девушка, в жмурки играть, за то пришлю тебе утром табун лошадей да воз добра».
Наутро жена говорит старику: «Поезжай проведай дочку, что напряла за ночь». Уехал старик, а баба ждет, как он дочерины косточки привезет. Вот собачка: «Тяв, тяв, тяв! Вижу: со стариком дочка едет, табун коней гонит и воз добра везет». — «Врешь, Шавка поганая, это в кузове ее кости гремят». Вот ворота заскрипели, кони во двор вбежали, а дочка с отцом на возу добра сидят. У бабы от жадности аж глаза, как уголья, горят, и кричит: «Эка важность! Повези-ка мою на ночь! Моя два табуна коней пригонит, два воза добра добудет!» Повез мужик и бабину дочку. И так же снарядил едою и огнем. Заварила и она к вечеру кашу. Вышла мышка и просит угощенья. А Парашка кричит: «Ишь, гада какая!» — и швырнула в нее ложкой. Мышка ушла, а Парашка уписывает кашу, огни позадула и в углу прикорнула. Пришла полночь, вломился медведь и говорит: «Эй, где ты, девушка? Давай-ка в жмурки играть с колокольчиком». Девица молчит, только зубами стучит. «Ах, вот ты где? Бери колокольчик да бегай, а я буду ловить». Взяла девка колокольчик, рука дрожит, колокольчик бесперечь звонит, а мышка из-под печки кричит: «Тебе живой уж не быть!..»
Баба мужа опять в лес шлет: «Ступай, дочка уже два воза добра везет и два табуна гонит». Уехал мужик, а баба за воротами ждет. Вот Шавка: «Тяв, тяв! Хозяйкиной дочки в кузовке кости гремят, а старик на пустом возу сидит!» — «Врешь ты, Шавчонка! Дочь табун гонит, а старик возы ведет!» Глядь, а старик уж у ворот жене кузовок подает. Баба кузовок открыла и на косточки завыла. И так была зла, что от злости и померла. А старик с дочкой век доживали и хорошего зятя в дом принимали…
— Ну, матушка, спасибо, что напомнили. Эту сказку я теперь Маше своей перескажу, — подал голос Иванов.
— Сказала тебе — сюда вези, — отозвалась Анна Тихоновна. — Я уж сыщу, чего ей рассказать из старых побасок.
17
Михайло сказал, что по нонешней погоде нельзя ехать без «кибитки», и весь четверг возился с ее устройством. Приладил плетенные из прутьев полукруглые ребра, натянул на них три слоя промасленной холстины. А в пятницу дед не велел ехать — день тяжелый. Выехали утром в субботу.
Пара рыжих гладких лошадок бодро везла тележку, в которой рядом сидели дядя с племянником, а за спинами — чемодан да короб подорожников.
— Сколько в день на твоих рысаках проедем? — спросил унтер, когда выехали на Богородицкую дорогу.
— По сорока верст без натуги, — уверенно сказал Михайло. — Ну, еще погода какая. А вы сколько на конях походом проходили?
— На войне и по семьдесят верст случалось, а на маневрах так коней берегли, что быстрей нас пехота шагала…
Кибитка оказалась весьма нужной: стояли последние дни октября — нет-нет и заморосит дождь, да и ветер холодный налетал постоянно. И правда, проезжали до сорока верст в день, вовсе не изнуряя коней, часто шедших шагом. Если унтер не дремал, Михайло расспрашивал про походы, заграничные земли с ихними порядками, про тяжкую службу мирного времени, про теперешнюю дворцовую и как скопил столько денег на выкуп.
— А может, Федор все же правду сказал, что, если деньгами ссудить, свою торговлю заведешь? — спросил как-то Иванов.
— Брехал старик. Может, оттого вздумал, что при барине в Лебедянь с охотой ездил. Любо было на многолюдство, на товары разные наглядеться, а главное, на коней, которых туда пригоняют. Да что скрывать, и от Степаниды уехать рад был, а теперь про нее такая тоска берет…
— Про солдатку какую-то я слыхал…
— Что ж солдатка! То дело давнее. Первое — после Стешиной смерти отшибло от нее, а второе — хотя баба добрая, да не вдовая, замуж не возьмешь… Но ты вперед скажи, сколько оброку назначишь, чтоб свои дела мог прикидывать…
— Какой оброк? Как денег снова подкоплю да кой с чем в своей семье справлюсь, вас вовсе на волю выпишу. Ведь и за то пошлину казна берет, а денег у меня мало осталось. Однако, может, и нонче половину отпущу, когда купчую утвердят…
— А хозяйка твоя поперек не станет говорить? Коли нам расселиться да земли прикупить, то на три исправных двора работников хватит и оброк тебе не пустой брать можно.
— Да полно, дурень! Сам видел мою Анну Яковлевну. Коли надумаешь от деда отделиться, я на устройство помощь подам…
За Воронежем пошли дожди, дороги размокли. Хорошо, что тележка оказалась прочной — не ломалась, хотя и кренилась с боку на бок, как пьяная. А кругом за черноземными полями белели хатки, окруженные облетавшими садами. Проезжих встречалось мало. Только однажды остановил их рьяный капитан-исправник, но, заглянув в отпускной билет Иванова, раза три извинился и приглашал к себе обедать и ночевать.
«Как бы не оказалось, что Красовский куда уехал и даром такой путь отломаем, — думал Иванов. — Надо бы еще из Петербурга написать, что долгий отпуск получаю и полтора месяца от одной канцелярии до другой перерыву. Ну, авось…»
В полдень 10 ноября сквозь сетку дождя завиднелись ряды белых домиков, сады, за ними купол церкви, колокольня. Встречный верховой драгун, окликнутый Ивановым, сдержал коня.
— Он и есть самый Беловодск, ваше благородие.
— А где квартиру майора Красовского сыскать?
— Насупротив церкви, на площади, всяк укажет дом со светелкой. Только их высокоблагородие в постеле лежат, так что ежели по службе, то пожалуйте к ротмистру Мухину.
— Чем же болен? — встрепенулся Иванов.
— Конь оземь бросил и ногу раздавил, ваше благородие.
— Давно ли?
— Да уж ден никак десять будет. Бают, обе кости враздроб.
— А окромя ноги все ли цело?
— Будто, что все. Я при том не случился, ваше благородие.
— Ну, спасибо, братец! Трогай, Миша…
«Такого наездника, как Красовский, чтобы конь сбросил! Или уж состарился, что в седле не крепок… Сколько же ему? С Суворовым в Тульчине за писаря был, тому не меньше сорока лет. Да сам писал, кажись, что шестьдесят. Для наездника не так и много…»
Дом нашли сразу — один и был на площади с мезонином. Иванов взошел на крыльцо и толкнул дверь. В передней два денщика хлебали из чашки щи и вскочили при входе офицера.
— Как доложить, ваше благородие? — спросил усач с галунами ефрейтора.
— Покажи ход к Александру Герасимычу. Бранить не станет…
— Пожалуйте.
В большой комнате у стены против окон на диване под одеялом лежал Красовский, обращенный лицом к двери, поседевший, худой, в очках и с книгой в руке. А у его изголовья в кресле, с белым пухом вокруг лысины, в сером подряснике, дремал отец Филофей, маленький, будто ссохшийся, кроме чрева, которое круглилось под тканью.
— Батюшки! Александр Иванович! Друг милый! — воскликнул Красовский, отбросив очки, книгу и широко раскрыв руки: — Pectus — amico!..[74]
Дьякон проснулся и таращился на приезжего, склонившегося через него, чтобы поцеловаться с приподнявшимся Красовским.
— Да как тебя угораздило, наездника знаменитого?! Ушам не поверил, — разгибаясь, сказал унтер и чмокнул Филофея в темя.
— Но кто же тебе уже рассказал?
— Драгуна встретили, про квартиру расспрашивали.
— Вот и угораздило на старости лет, — пожал плечами майор. И продекламировал:
как поэт Дмитриев писал… Да на чем ты? На почтовых? Почему колокольчика не слышали? Надо ямщику, отпуская, на водку дать, за привоз гостя такого. — Он достал из-под подушки кошелек.
— На своих из родной Козловки, племяш меня привез, которого, как и коней, накормить и постоем ублажить прошу. А колокольцев в мужицком быту не водится, — отвечал Иванов.
— Коль захочешь, дюжину тебе подарю за то, что приехал!.. Эй, Алеша!
В двери, утирая усы, вскочил ефрейтор.
— Прими и устрой наилучше возницу друга моего, коней и тележку.
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! У нас мигом.
— А ты допрежь всего в баню захочешь? — спросил майор.
— Не откажусь, две недели ехавши.
— Сейчас затопят. Жаль, с тобой попариться не могу. А пока рассказывай, с чем в Козловку добрался. И ко мне надолго ли?
Через два часа Иванов в чистом белье и в халате хозяина сидел у придвинутого к дивану стола, на котором допевал свою песню самовар, ел за обе щеки и, пересказав все о поездке в Епифань и Тулу, спросил объяснения, как случилось несчастье с ногой, недвижно лежавшей в лубке и бинтах. Но хозяин, у которого, как уверял Филофей, впервой за две недели проснулся аппетит, тоже подналег на жаркое и, только когда дьякон по всем правилам заварил и разлил чай, начал повествование.
— Ну, слушай же, ab ovo[75] чтобы все должным образом себе представить. Завел я здесь на заводе такое правило, чтобы каждую лошадь, ежели решено пристрелить по болезни или иной причине, обязательно мне перед тем казали. До меня как бывало? В десяти, скажем, верстах отсюда, в степи, где-то конь ногу сломал, с сурчину оступился, его застрелили и бумагу составили. А потом глядь — под кем-то того коня в Лебедяни или в ином месте через год аль два встречаешь. Вот я и приказал при каждом несчастье или болезни заразной ко мне верхового гнать и сам туда сломя голову скакал, чтобы убедиться в истине, приказать при мне пристрелить и труп закопать. Себя не жалел, но и порядок навел… Разом убыль против прежнего весьма сократилась. Так уж шесть лет прошло, с тех пор как de facto[76] начальствую… Ну-с, а в прошлом месяце, шестого числа, привели со Стрелецкого завода, он отсюда двадцать верст, кобылу-трехлетку золотистой масти мне напоказ перед тем как прикончить. Такая красавица беспорочная, что хоть под царское седло, ей-богу. Ноги, шея, грудь, репица на отлет, глаз огненный, ноздри розовые — цветок, да и только… «Отчего стрелять решили?» — спрашиваю. «Двух ездоков убила: нежданную свечку дает, назад себя падает и всаднику — грудь всмятку. А сама вскочит, и хоть бы что! Табунщика-калмыка, а потом драгуна опытного так убила». Ну, слушаю, на нее гляжу, а сам думаю: знать, плохие ездоки были! Errare humanum est — человеку свойственно ошибаться… От бывалых и разумных наездников знаю, что разные способы прилагали от такого норова отучать. Цыгане кулаком бьют между ушами что есть силы, но от того слух у лошади теряется и ушам паралич бывает. Англичане, сказывают, сырые яйца у ней на темени бьют и потом с глаз и ноздрей не стирают, пока все не засохнет, — будто от такой неприятности, не раз повторенной, она дыбиться бросит. А я-то думаю, что верней в карманах яичница делается, прежде чем до конской головы дойдет. Но самое разумное средство в том, чтобы все время на очень тугом поводу мундштуком ей голову держать. Не может она дать свечку, если головой вверх не дернет. Поэтому у немцев средство придумано, шпрунт называется, — крепкий ремень от подбородника к подпруге протягивать… Вот я и помиловал эту кобылу — Стрелкой ее звали. Приказал не убивать, а себе на другой же день под седлом привести. Ротмистр Мухин убеждал: «Бросьте с огнем играть, ну ее, ведьму! Или уж хоть шпрунт шорнику закажите». Но как тому поверить? Других убила, меня же никогда…
Стал ежедневно на ней ездить в степь по дороге. Ход — лучше не бывает: рысь широкая, галоп легкий, карьер ветру подобен. Не лошадь — наслаждение. Три недели ездил, до двадцать восьмого числа. Все в восторге — выездил-таки майор, вот она, Конная-то гвардия! А тут и опростоволосился. Вернулся с двухчасовой поездки, еду почти перед домом своим. Вдруг засвербило в носу и стал чихать — раз, два, три подряд, аж сопли на усах, что штаб-офицеру вовсе на людях невместно. Платок нужен. Ну, за пазуху полез, а она, подлая тварь, мигом почуяла, что руку ослабил, дала свечу да назад и грох! Едва поспел ноги из стремян и вбок выброситься… Но, чувствую, как правая под нею — хряск! А кобыла поднялась да галопом к конюшне… Ну, сбежался народ, выскочили мои денщики, на доску гладильную положили, в дом внесли. Хорошо, у нас тут отставной штаб-хирург при дочке, вдове-офицерше, живет. Семьдесят лет, а руки как у молодого. Прибежал, вспорол рейтузы, сапог, оглядел ногу. А она уже синяя и вот эдак торчит, — Красовский согнул палец под прямым углом. — Стал он ее поворачивать, я только волком не вою, а Филофей слезами плачет, на меня глядючи.
— Ты истинно, яко зверь лютый, зубами в подушку вцепился и так ее прокусил, аж перо изо рту торчало, — заметил дьякон.
— Вцепишься от такой боли… Ну, выправил он ее как надо, лубки у него с собой, бинты. Уложил, увязал. «Лежи месяц и благодари бога», — сказал. «За что же, — говорю, — когда боль адская?» — «А за то, — отвечает, — первое, что грудь целу сохранил, а второе, что концы костей переломленных наружу не вышли, отчего приключается заражение раны. И, наконец, что месяца через два опять на коня сядешь, раз жилы целы, которые движением стопы управляют…» — «Ну, тогда, — я говорю, — ее, растакую-этакую, все равно объезжу». — «Нет, — говорит, — никто уже не объездит, раз ротмистр Мухин ей своей рукой пистолет в ухо сунул, и все-с…»
— А сейчас болит ли? — спросил Иванов.
— Ежели не двигать, то нисколько. Но зад ужас как отлежал, мяса на нем, видать, мало осталось. Приходится на бок поворачиваться, а Филофею, у него рука самая легкая, ногу ломаную осторожненько передвигать. Тогда покрёхаешь… Да что теперь! Ночи сплю напролет, а с нонешнего дня благодаря тебе и аппетит обрел. Ногу-то хирург истинно хорошо сложил — пальцами двигаю и синь прошла. Ну, dixi!..[77] Рассказывай теперь подробнее про патронов, кои рекомендации писали, про губернатора и гражданскую палату. А есть ли бумаги с собой?
— Как же! Копию с печатями отцу отдал, а подлинник и вторую копию в сем вьюке вожу, — указал Иванов на свой багаж.
— Так доставай да читай вслух.
— Но то пока только купчая на меня, а воли еще не дано…
— Шаг важнейший сделан, второй, как сможешь, не замедлится. А, признаюсь, когда начинал ты сей искус, мы с Елизаровым на него взирали лишь как на отклонение мыслей от муки, претерпеваемой через эскадронного изверга… Как его?..
— Барона Вейсмана, — подсказал Иванов.
— Вот-вот. И не чаяли, что про завершение услышим.
— Семен Елизарыч и не услышал… Но совершить сейчас смог только благодаря роты нашей высокому жалованью.
— Нет, брат, благодаря доброй воле да упорству. Видно, и супруга твоя того же поля ягода, раз не перечила.
— От нее за то одну похвалу имел, — ответил Иванов.
— Благословенна жена сия, — закрестился за самоваром Филофей.
— Истину глаголешь, — согласился майор. — Ну, читай же.
Когда унтер окончил чтение вплоть до подписи последнего свидетеля, майор со странно заблестевшим взором воскликнул:
Это Филофей меня своим Дмитриевым так напичкал, что всюду его леплю. Но и в самом деле, ежели б мог, откинул бы на радостях некий галопа д. Молодец ты, Александр Иваныч! Давай, Филофей, бутылку заветную. Недаром ее берегли. Привез мне ротмистр Мухин к шестидесятилетию дюжину Клико настоящего из Харькова. Вот уж подлинно лучшее вино на свете! Правду Батюшков написал:
Только две бутылки осталось. Одну сейчас разопьем, а другую… И надо сулею наливки пожертвовать моим усачам и Михайлу.
— Он-то и не пьет вовсе.
— Пущай хоть пригубит, а они попразднуют. И вели, Филофеюшка, самовар подогреть. Рассказывай, какова служба во дворце? По-французски еще не обучился от царедворцев, как мы, бывало, в Париже: «Божур, же ву при, же ву зем, вив Анри Катр…»
Однако рассказы унтера скоро прервались. Утомление дорогой, жаркая баня и обильная трапеза, запитая шампанским, потянули ко сну. Видя это, хозяин, также выпивший три бокала, отложил продолжение беседы, а отец Филофей с одного бокала прикорнул к изголовью майора, так что Иванов почти донес его до кровати в соседней комнате, где, стянув сапожки и подрясник, укутал, как дитя, одеялом, после чего рядом обрел вторую, приготовленную для себя постель.
На другое утро в окна глянуло солнце, и после чаю за дьяконом забежали трое ребят, с которыми он отправился куда-то, а друзья возобновили разговор с прерванной вчера темы.
Иванов рассказал, как во дворце узнал полковника Пашкова и что услышал от его лакея и кучера.
— Подробней мне изъясни, сколь блюдет волю покойной насчет крепостных, — попросил Красовский.
И пошел рассказ о том, что узнал от старого фельдшера, как Пашков выполняет заветы Дарьи Михайловны, какова новая его супруга, как везли до Москвы и отправили оттуда с приказчиком.
— Ну, слава богу, — сказал Красовский. — А то, про камергерство прочитав, я опять Дмитриева вспомнил, у которого лисица в басне про дворцовую службу рассказывает, что в ней: «Где такнуть, где польстить, пред сильным унижаться…» А если так, то пускай любой мундир взденет. Разговор сей к письму его меня приводит, на кое еще не отписал из-за лежки вынужденной. Теперь стану от души благодарить за приглашение, но приму ли — бог весть. Как нога служить будет, несмотря на пророчество лекарское? В бричке табуны не объедешь.
— А заводы оставить жалеешь?
— Жалею. Ведь их начальник полковник Чертков больше в Харькове живет, жиром заплыл и все мне доверил, помощнику своему. — Красовский указал на письменный стол, на котором лежали конторские книги и бумаги. — Но, сказывают, в отставку сбирается, и тогда что? Цесаревича, которого, помнится, тебе поругивал, более нету, чтобы чины мне дальше лепить. Восемь лет майором служу, что, впрочем, немного для армейского штаб-офицера. При отставке, может, подполковника дадут, а начальником заводов не поставят — место полковничье.
— Так и ехал бы к Пашкову в Петербург. Там хотя не с конями, а с людьми, но дело как раз по тебе, — сказал Иванов. — Лучше, право, не сыскать, раз научился в бумагах разбираться.
Разговор прервал приход ротмистра Мухина и хирурга Гениха. Первый кратко доложил дела по заводам, второй, осмотрев ступню Красовского, обнадежил, что будет вполне владеть ею. Подали завтрак — закуски, ветчину, настойки. Унтера просили рассказать о Зимнем дворце, про выходы и церемонии. Вот уж неизменная тема расспросов у собеседников всех сословий и чинов!
Когда гости ушли, Красовский попросил написать под диктовку письмо Пашкову. Благодарил за приглашение, объяснял, почему не сразу отвечает и нерешительность о дальнейшем, ибо еще не знает, предстоит ли покинуть дело и места, которые полюбил. Закончив это письмо, Иванов принялся за свое Анне Яковлевне, которое запечатал в данный в суде конверт толстой бумаги вместе с копией купчей крепости.
Потом обедали. Филофей резал и нацеплял на вилку Красовского куски жаркого. Майор мог обойтись без этого, как вечером и давеча, но, когда дьякон вышел, шепнул Иванову:
— Не хочу огорчать, пусть еще покружится вокруг меня малость. Видишь, каков одуванчик стал, уже вчерашнее забыл…
Действительно, однокашник по семинарии крепкого, жилистого Красовского Филофей выглядел сущим стариком. Руки и ноги его были худы, только чрево выпячивало подрясник. Вокруг лысины вился белый пушок, и такие же были жидкие усы и бородка. Он был сравнительно бодр с утра, когда в хорошую погоду уходил гулять с соседскими ребятами, а в плохую рассаживал их у себя, и за стеной комнаты майора было слышно, как что-то рассказывает или читает вирши. Дьякон больше не спорил с Красовским о вере и обрядности, как бывало раньше, а после обеда дремал в кресле или искал терявшиеся очки, ключи или книжку, которую читал. Иногда в полусне запевал дребезжащим голоском что-нибудь церковное, вроде: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобой…», или причитал жалобно: «Ох, Сашенька, чадо мое любезное…»
— О ком он? — удивился Иванов, услышав такое бормотание, донесшееся из соседней комнаты.
— О внуке, что в Лебедяни остался.
— А сын что?
— В секретари произведен, со всех, с кого может, мзду дерет, кому надобно, руки и зады лижет. Дом построил, деревню купил. Его-то Филофей проклял, а вот за внука страждет, что по той же дорожке пойдет.
— А согласится в Петербург переехать? — спросил унтер.
— Он-то согласится, но не знаю, как от степи оторву. Ты осенью приехал, да все со мною сидишь. Впрочем, сейчас кругом мокро да серо. А весной, братец, как хорошо! И летом в ином роде прекрасно. Не верь слепцам, которые говорят, что как выгорит трава, то степь тоску наводит. Им везде на природе тоска. Какие тут дали! Какой воздух чистый, за двадцать верст с пригорка все как на ладони. Про весну и не говорю, когда степь цветет. Едешь на коне, а травы душистые тебе по коленям шуршат, топтать их жалко… Так вот Филофей-то с ребятами здешними целые дни в степи пропадает, цветы собирает, на птиц смотрит, виршам с голоса их учит. Тут дурак один — чиновник именуется — пришел ко мне жаловаться, что дьякон богопротивное детям внушает. Едва добился, что он слышал да сдуру не уразумел. Оказалось, Ломоносова «Кузнечика» детям Филофей читал и толковал:
Хорошо, я сообразил, о чем речь, когда мне дурак-то про царя и свободу толковать стал, да носом его — в печатную книгу, где стоит, что цензурой разрешена. Тогда отстал. А то, видишь, царем стрекотуху назвал. Но, словом, Филофею на природе хорошо, а в городе не захирел бы.
— А ежели тебе его в разъезды по поместьям Пашкова брать? Коляску дадут покойную и жить везде не по недели придется.
— Уж и не знаю. Больно слаб становится.
Но случались вечера, когда дьякон, всхрапнув после обеда, бодро подсаживался к свече и читал приятелям вслух любимых поэтов. Иванов не прочь был послушать, а майор, который знал все наизусть, через полчаса говорил добродушно, но твердо:
— Ах, Филофеюшка, дай мне с другом наговориться. Ведь еще не все я узнал, sine qua non…[78]
А память у Красовского оказалась острейшая. Он помнил происшествия, случившиеся в Стрельне, прозвища, прибаутки и привычки кирасир, наездников и офицеров. Не забыл и рассказанного Ивановым восемнадцать лет назад в Лебедяни.
— А Ястреб, Кречет?.. Ну, псарь и палач барина твоего.
— Кочет? Пропал. Сбег от благодетеля, как почуял, что конец его близок да от мужицкой расправы пора спасаться…
Вспоминали Дарью Михайловну, ее доброту и простоту обхождения, удивительный голос и музыку, слышанные на Литейной.
— Вот чем Петербург больше всего меня влечет, — признался майор. — Ежели представлю себе, что в опере настоящей или на концерте хорошем сижу, как взмыли к небесам согласные голоса двадцати скрипок в великом творении Моцарта… — Он зажмурил глаза и полежал, откинувшись на подушку. Потом открыл их и закончил с усмешкой: — Вот и не знаешь, Гайден и Моцарт или кони степные перетянут… Во дворце бывают ли концерты?
Иванов рассказал, чему был свидетелем на концерте немецкой певицы, о том, как Жуковский, всегда такой добродушный, ворчал на небрежение придворных к музыке.
— Подумать только, — качал головой Красовский, — ты с самим Жуковским говорил, от него письмо губернатору привез, а я «Певца во стане» и «Светлану» двадцать лет как вытвердил и разу самого не видал…
— Так ведь, кроме дворца, я их постоянно в доме видаю, где в нижних покоях наша рота квартирует, а наверху они живут. Туда и господин Пушкин к ним часто ходят.
— Ты и Пушкина живого видел?! — сел на постели Красовский.
— Как не видать? И на нашей лестнице и во дворце, раз они уже три года камер-юнкером состоят.
— Пушкин — камер-юнкер? — огорченно переспросил майор. — А ему-то сие на что?.. Столько ума да таланта — и придворной дрязгой прельстился. Вот уж истинно homo sum[79].
— Он-то вовсе не своей волей. Царь захотел — попробуй откажись, — сказал Иванов. — Вот что я однова слышал. — И рассказал, что говорили Жуковский и Тургенев в Статс-дамской.
— Ну, так еще ладно, — проворчал Красовский. — Ведь пишет как! Филофей не понимает, а все прежние ему по плечо аль по колено. Я «Царя Бориса», кажется, наизусть знаю…
— И про наводнение как страшно писано, — сказал Иванов.
— Такое до нас еще не дошло. А тут совсем недавно я «Историю Пугачевского бунта» прочел. Не читал ты? Вот так сочинение! И тут всех превзошел! Где Карамзину почтенному, которого доселе читал и перечитывал. С одинаковой правдивостью описал как притеснения и несправедливость начальников, что к восстанию привели, так и зверства восставших, ответом на то бывшие, зверства, от которых содрогаешься. И Пугачев как живой, честное слово, — смельчак, отчаянная башка. А конница его как преследует! Будто сам с теми гусарами в погоню летишь… Или как подлецы казаки Пугачева предают, свою шкуру спасая, руки ему вяжут… Ну перо! Боже мой, хоть бы раз на этого сочинителя взглянуть! Ты, право, счастлив, Александр Иванович…
Незаметно летели серенькие дни. Иванов редко выходил даже на крыльцо: все о чем-то говорили, а то ели или спали.
Племянника почти не видел; с разрешения майора с младшим из денщиков они то верхом, то в тележке осматривали заводские конюшни, выездку под седло и уезжали далеко в степь к табунам. У Михайла бывало неизменно счастливое лицо, и с денщиками он держался хоть уважительно, но по-свойски.
Подходила к концу вторая неделя в Беловодске. Пора собираться в обратный путь — ведь по осенней слякоти поедут еще медленней. Красовский начал с костылем ковылять по комнате, присаживался к столу и к окошку, за которым моросил дождь. Он уговорил Иванова отложить еще на день назначенный было отъезд и наказал Михайлу заменить холщовую кибитку на тележке друга снятой со своего тарантаса кожаной да приспособить такой же фартук над ногами седоков. По заказу майора кухарка хирурга пекла в дорогу пироги, жарила барана.
— Хочу знать, что от меня сытые и сухие поедете, — пояснил он Иванову. — А племяш твой молодец. Мне нонче Сидор рассказал, как во все на заводах вникал и коней нисколько не боится. И они его сряду принимают. Словом, наша с тобой кость…
В канун отъезда, как водится, засиделись за ужином, после телячьего окорока, съеденного под анисовку, осушили самовар. Гости — Мухин и Гених, — простившись, ушли с фонарями, шлепая по лужам; их шаги долго слышались сквозь форточки, в которые вытягивало табачный дым. Филофей в кресле поклевывал носом.
— Кажись, не первый раз говорю: вот что старость делает! — кивнул на него Красовский. — Ты еще поживешь, Александр Иванович, немало. Тебе дочку растить и замуж выдать, а я как ни хорохорюсь, а понимаю, что также в конце пути. По бумагам мне шестьдесят первый, а по правде — шестьдесят четвертый. Грешен: сам, когда в Конную гвардию из Тульчина переводили, вместо тысяча семьсот семьдесят первого года тысяча семьсот семьдесят четвертый поставил, уголок один прибавил, болван стоеросовый. Зачем, спросишь, когда то срок службы удлиняло? Да в гвардию наказано было переводить отменных ростом, силой, ездой и чтоб не старе двадцатипятилетнего возраста, а мне уж двадцать восьмой шел. Вот и черкнул, так испытать фортуну в столице захотел. А уж потом и клял же дурь свою!.. Ш-ш-ш!.. Ни одна душа о том не знает. И Филофея убедил ведь, что я моложе. Впрочем, ему все равно теперь… Да, старость пришла, но тянет меня опять в Петербург, хотя по другим причинам. Никак, с каждым днем все сильней хочу музыку настоящую хоть изредка слышать. Но как его везти? Сам видишь, каков слаб.
А ведь когда я в карцере лежал, до полусмерти запоротый за то, что на лекаря учиться для пользы общей хотел, он один из всех семинаристов, на дерево под окошком взгромоздясь, мне в решетку калачей побросал и бутылку воды с уксусом подал, чтобы к иссеченным местам на тряпице приложил. Поймали бы тогда на сострадании, так под пару мне отделали. Разве такое забыть можно? И представить себе трудно, каков богатырь был. А что осталось? Правда, что выпить всегда любил. Вино на час силу прибавляет, а с годами такую метаморфозу чинит.
— Но ты, Александр Герасимыч, право, совсем молодцом, — возразил Иванов. — Хоть под венец становись.
— Поздно, братец… Turpe sinelis amor[80]. А впрочем…
— Ну, уж говори до конца.
— Да есть тут вдовица бездетная, как раз сего Гениха дочка. Так со своей харей и подступиться боюсь, потому что хотя сорока лет от роду, но собой весьма пригожа.
— А еще суворовский ученик! — упрекнул Иванов. — Для других его «Науку побеждать» переписывал, а сам оробел.
— Запомнил! — усмехнулся майор. — Да знаешь ли, как загадал: коли объезжу ту кобылу — буду руки просить, а вместо того…
— Но какая ж тут связь? Разве что у дамы характер норовистый? — развел руками Иванов.
— Да нет, кажись… А началось знакомство с того, что отец ее — единственный здесь, кто латинский язык любит и понимает; Филофей, что и знал, давно забыл… Так знаешь ли, что тебе на прощанье скажу? — спросил Красовский.
— Что, костыли оставя, отважишься к твердыне сей подступить?
— Может быть. Но сейчас не о том хотел. А что за годы, которые не видались, ты много в образовании преуспел. Да нет, не в образовании, а в воспитании, что ли. Созрел как-то, по-солдатски сказать — обтесался. Говорить и держать себя иначе стал.
— Неужто?.. Оттого, может, что по многу часов в канцелярии за бумагами провожу, а писарь там такой книжный, каждое воскресенье у нас обедает и вслух Пушкина или еще кого читает. Обхождения же больше набрался от нескольких господ, которые много добра мне сделали. И от Анюты, понятно… От нее слова плохого никогда не слышал… Так как же насчет вдовой госпожи напоследки скажешь?
— Немало в сем случае от средств денежных зависит. У ней ничего нету, кроме пенсии мизерной за мужа, отцовской тоже пустяковой да домика здешнего с садом, а у меня скоплено за все офицерские годы всего три тысячи ассигнациями. На что жить станем, ежели из-за ноги в отставку пойду, казенной квартиры и прислуги лишусь и сам на пенсию малую сяду?
— Вот к Пашкову на службу и поезжай с женой, тестем и Филофеем. Не хуже здешнего жить будешь.
— Частная служба неверная. Сегодня камергер жив, а завтра? Respice finem[81], то есть старайся в будущее заглянуть…
— Так ведь и все мы не вечны…
— Хорошо. На что решусь, тебе тотчас отпишу. А пока веди-ка Филофея спать да сам ложись. Просить еще откладывать отъезд совесть не велит, хотя и жаль расставаться.
Кожа на кибитке и фартук оказались весьма к месту. Непрерывно сеял осенний дождь. Лошади шли почти все время шагом. Через час от них повалил пар.
— Этак в сутки одну станцию едва проедем, — сказал Иванов.
— Только нонче так прошлепаем, — возразил Михайло. — Разленились на даровом овсе, а ужо разбегутся.
— Не жалеешь, что меня сюда повез?
— Что вы, дяденька! Век бы на сем заводе служил. В последние конюхи, не то в табунщики пошел бы. И жить безбедно можно: всем огороды отводят, да строй мазанку — хитрое ли дело?
— А вот майор мой, ежели нога полностью не выправится или если начальник завода, что в Харькове живет, в отставку уволится и нового ему на шею посадят, видно, отсюда уедет.
— Все слышал от ихних денщиков. Однако и господин Мухин меня на завод звали. А вольных табунщиков и конюхов там больше, чем солдат, и жалованье им такое, что со своим огородом прожить можно.
— Чего же раньше не сказал? Я бы Красовскому тебя рекомендовал, пока за начальника командует. Да ведь и неизвестно, пойдет ли в отставку. Тоже с конями расставаться жалеет.
— Так я там не сознавал, а как поехали, то и защемило, что более не увижу такой красы.
— Хороша краса в дождь и слякоть по степи мотаться.
— Все равно, лучше коня животной нету. С жеребятами век бы возился. Такие игруны — глаз не оторвешь!
«Кому что, — раздумывал Иванов. — Вот я полжизни около лошадей кружился, но чтоб лучше таких заводов места не сыскать, никак не скажу. А в Козловке на нонешний надел и без него работников довольно».
На четвертый день пути похолодало, на пятый мороз сковал грязь, отчего коням стало легче, но путников трясло куда сильней. На восьмой пошел снег и в сутки угладил дорогу. До дома добрались на двенадцатый вечер, и унтер первым делом просил истопить баню.
И снова выдалось блаженное утро, когда проснулся на печи от потрескивания растопок и услышал матушкин негромкий голос, задававший тем же ребятам загадки:
— «Сел на конь да полезай в огонь». Ну, глядите, от вас вовсе недалече конь-то рогатый стоит.
— Горшок с ухватом, — догадался мальчик.
— «Еду не путем, погоняю не кнутом. Оглянусь назад — следу нет». Что ж такое?.. Ну, в лодке же едут… Запомнили? А то еще: «Лежит свинка, железная спинка, хвост а льняной…»
— Иголка с ниткой, — подал голос с печки Иванов, помнивший эту загадку с детства.
— Проснулся, Санюшка? Отошли ребрышки с дороги? Вот тебе катанки. Ступай-ка умываться да садись яишенку снедать.
В уездном суде все прошло гладко: вписали купчую в шнуровую книгу, сняли с нее копию, которую вшили в другую книгу, взыскали за гербовую бумагу десять рублей, выпросили еще двадцать пять на «спрыску» чиновникам и поздравили нового помещика. А в дверях суда Иванова облапил краснорожий городничий с теми же крестами и медалями, что у него, рекомендовался бывшим фельдфебелем гвардейской артиллерии, а потом гарнизонным поручиком и пригласил на обед. Как отказать? Ведь мало ли с чем родичам, которые под самым городом живут, случится к нему на зуб попасть.
Просил только полчаса отсрочки, чтобы уездного предводителя поблагодарить. Городничий уверял, что в Епифани его нет, уехал в свою деревню. Но Иванов настоял, что зайдет, — пусть об его приходе хоть слуги господину Левшину доложат.
Обедали с городничим и судьей часа четыре. Городничий оказался сослуживцем полковника Качмарева по батарее.
Впрочем, все разговоры за трапезой Иванов вспоминал будто в дыму — так много выпили. А что привезли домой на дрожках судьи и разоблачали отец с Михайлом, узнал из рассказов. Утром матушка подала огуречного рассолу, а Иван Ларионыч добавил водки с редечным соком. Но все же полдня прошло, пока до конца очухался.
Шестнадцатого декабря уже в своей деревенской церкви отслужили напутственный молебен. После него собралось большое застолье с той водкой, которую приберегли 5 ноября. Уже затемно, выпарившись еще разок с отцом в бане, унтер залег с ним рядом на печку. Иван Ларионыч скоро заснул, а «новый помещик» ворочался и думал, как летит время, — два с половиной месяца будто один день проскочили. Ждал почти тридцать лет отпуска, а вышло, что с матушкой родимой разу толком не поговорил. Разве в первое воскресенье, когда ходили Николе молебен служить, а потом на погосте дорогих покойников навестили. А ведь сколько вспоминал ее, сколько ждал встречи… И вдруг почти рядом шепот:
— Не спишь, Санюшка?
— Нет, маманя.
— Слезь-ка да деда не разбуди. Побуднить шепотком хочу. Вот катанки вздень, понизу дует горазд.
И вот сидят рядом на конике. Чуть мерцает лампадка, что зажгла матушка на его завтрашний отъезд.
— Ты жене с дочкой мое благословение отвези. Скажи, за них каждый вечер молюсь, своими кровными почитаю… А тебя увижу ль еще, радетеля нашего?..
— Теперь-то увидимся, матушка. Год, много два пройдет, и снова приеду вас всех на волю отпущать.
— Нам с дедом той воли не надо. Зря деньги извел. Что с нас барину взять? А детям да внукам-правнукам она надобна. Хоть боюсь, не забаловались бы, как дед помрет. Он старый-старый, а всех в струне держит. Ну, дай-ка перекрещу, кормилец наш. И не надеялись до такого дожить. В поминанье сколько лет писали. А вот привел бог… Ну, лезь на печку. Выспись в дальнюю дорогу.
— Мне в дороге только спать. Михайло конями правит, а мне хотя храпи до самой Тулы.
— Ватрушек напекла, а утром курятины с лапшой покушаешь. Не сходили мы нонче на могилки-то. Или туда отлучался?
— Сходил, матушка, ко всем один сходил…
…Наезженная зимняя дорога гладка, как стол. Одна лошадка, запряженная в поставленный на полозья кузов той же тележки, резво бежит, пофыркивая, бросает в передок комья снега подкованными по-зимнему копытами. Легко обгоняет вереницы дровней, груженных деревенской снедью, которую везут по первопутку из усадеб помещикам, перебравшимся в города. Идут обозы с хлебом, сеном, дровами и прочим, что предназначено на продажу теми же барами, чтобы добыть деньги на игру в карты, на наряды женам и дочкам. Шагают рядом возчики в армяках и тулупах, провожают глазами убегающую вперед крытую кожей кибитку.
Первую половину пути, до того, как пристали у Лукича, где обогрелись и накормили коня, Михайло сидел по-кучерски впереди. Но верстах в тридцати от Тулы пересел к дяде и попросил:
— Напиши, сделай милость, господину майору, что ежели попрошусь на завод, чтобы испробовал. Коли сам дозволишь из Козловки отъехать.
— Наперед дозволяю, что выберешь, раз четвертый десяток идет. А как дед на то взглянет да отец твой?
— Отпустят, ежели хоть в письме слово замолвишь.
— А кто ж письмо прочитает?
— То и я сумею, коль разбористо напишешь. Обучился у псаломщика нашего нового чтению… Я из Козловки все одно уйду.
— По Степаниде тоскуешь?
— И по ней. — Михайло отстегнул фартук, высунулся из кибитки, глянул по сторонам, снова опустился рядом с дядей и спросил: — Никому не откроешь? Побожись, дядя Саня.
— Кому мне открывать? Ну, вот те крест, — сказал Иванов, а у самого будто страхом захолонуло сердце.
— Ведь Кочета я уходил, — негромко сказал Михайло и уставился вперед на круп коня, потом перевел взгляд вбок, на дорогу.
— Один? — спросил, помолчав, Иванов. — Как же его осилил?
— Хитростью взял. В зенки нюхательного табаку бросил, а потом топором по башке.
— Так ведь ты ж говорил, он за лекарем барину поехал.
— Уехал, да не доехал. Слушай, как было. Загубил он себя, раз ночью поехал, чтобы в деревне никто не знал. Ты повара Илью помнишь?
— Как же. Еще в Лебедяни видались. А ноне сказали, что помер.
— Так Кочет сначала к его жене хаживал, а потом дочку, как подросла, испортил. Вот его Илья и возлюбил. В тот вечер иду я по деревне поздно, домой возвращаюсь, а навстречу Илья от барского дома, сильно выпивши, и все мне про Кочета пересказал, под барской дверью подслушанное, что сбирается за лекарем гнать в Тулу. А Илья-то говорит, не сбежать ли норовит, раз барин плох, и не в Тулу ударится, а в другую сторону — может, на Скопин, а верней, что на Лебедянь, куда много разного народу на Покровскую ярмарку как раз ехало… Вот мы разошлись с Ильей Егорычем, а я и думаю: «Надо бы мне его перехватить да порешить изловчиться…» Рассказать нельзя, как я его ненавидел. Ведь и Степанидиной матке, брата своего жене, проходу, кобель, не давал, сестре Катерине всю жизнь сбил, Дашу твою в гроб вогнал, да мало ли за ним было?! Ну, как Илья своей дверью стукнул, я — к нашей избе, а сам смекаю, что взять надо и как тише. На счастье, дяди Сереги кафтан в сенях висел, а в кармане — тавлинка; я ее прибрал, веревку во дворе отвязал длиной в сажень да топор в клети прихватил. Про табак я слыхал, будто цыгане так одного своего же парня за обман табора сначала ослепили, а потом порешили… И ударился я задами по нашему селу до самого Мельгунова. Туда он всяко поедет, будто на Богородицкую дорогу. А дальше? Ежели вправду на Тулу, то, нечего делать, уйдет. Негде мне его укараулить, место вовсе чистое, полевое. А ежели на Лебедянь, то через Шевырево ехать надо, и так пробраться он постарается, чтоб не заметили. Верно, вдоль Дона проселком подастся, а у Людонихи, хоть и крюку даст, через мосток переедет — да на Лебедянь… Оно бы мне боле всего на руку, раз там над Доном лесок, помнишь, может? Вот в него я и прибёг. Так бежал, аж весь мокрый под армяком. Затаился и жду на опушке. Место глухое, тихое, слышно далече. Никак часа два аль три там просидел, задрог весь. Но вот далече копыта бьют, едет парой кто-то, и бричка побрякивает. Здесь по большаку, в Шевырево не въезжая, ему на мой проселок надобно своротить… Ага, слышу, ко мне пошел, знать, верно я мысли его угадал… Ближе да ближе трусит, я с опушки в лесок под дерева схоронился. Темень осенняя — глаз коли, а вдруг другой кто-то? Безвинного человека загубишь аль тот меня?.. Тут, слышу, коней костит, как у нас на селе, окромя его, никто не ругивался… Шагом уже едет, верно, чтобы глаз ветками не выхлестнуло. Ну, я решил, как поравняется, то выскочу да в морду ему табаку брошу — авось сколько-то в глаза попадет. А в левой топор держу… Так все и сделал. Как от веток нагнулся, то всю горсть ему в рыло метнул. Ох, и взвился же да кнутом в мою сторону, но тут я, топор в правую перехвативши, по башке его обухом. Он с брички кувырк да вожжи, на счастье, не отпустил, так что кони встали… Я дух перевесть боюсь, подвоха жду, отступивши, прислушиваюсь. Рассмотрел — лежит врастяг и не шевелится. Тут еще для верности по башке его…
— Куда ж ты его девал?.. И как с конями да с бричкой разделался? — спросил Иванов, дрожа от волнения.
— С ним-то просто сумел. Еще пока на опушке сидел, камень пуда на два, вроде бруса, под самые ноги попал, который тут ему поперек брюха подвязал да в Дон стащил. А дело ведь двадцатого сентября было, уже дожди пошли, вода высокая, холоднющая. Скинул одежу, затащил его, где мне по грудки, да и пустил… С брички около самой воды колеса снял — окованные, втулки железные — да туда же их катком по дну, подальше. И бричку на себе за оглобли как мог дальше заволок и камней на сиденье натаскал. Продрог — страсть. Едва согрелся, прыгавши уж в одеже…
— А с конями? Неужто их тоже порешил?..
— Кабы мог без следов утопить, то, может, и порешил бы, хоть жалко тварь неповинную. Так ведь всплывут, на них камней не навяжешь. Пока от Козловки бёг да в лесу сидел, и то обмозговал. Того дня кто-то обмолвился, будто прошел через Мельгуново на Лебедянь табор цыганский, видно на ярмарку, которая до третьего октября торгует. Вот и надумал прогнать к тому табору да пустить. Какие цыгане присталого коня не присвоят? Однако, чтоб их догнать, надобно было на большую дорогу возвернуться, насквозь Мельгуново и Шевырево проехать да табор за ними в поле сыскать. Ну что ж — пан аль пропал. В каторгу засудят, морду заклеймят и кнутом исполосуют, так зато ведь злодея порешил… И пронес господь! До большой дороги гнал, а по деревням почти что шагом проехал, будто не спеша. И час самый глухой выдался, за полночь. Собаки побрехали, и все. А версты за три за Шевыревом табор увидел — костры догорают и телеги стоят. Слез с коня, перекрестил их, сердечных, да и огрел Кочетовым кнутом что было силы. К табору и поскакали. Они туда, а я обратно, в Козловку… Вышло, как рассчитывал: пропали кони, будто век их не бывало. Сказывают, цыгане даже масть перекрасить могут.
— А как же в Петербурге, помнится, рассказывал, что около Мценска коней тех нашли и барину полиция представила?
— Как Иван Евплыч розыск на Кочета объявил, что его обобрал, да приметы перечислил, то месяца через два пригнала полиция двух кляч, будто под Мценском отысканных. Рост и масть подходящие, а по зубам лет на десять старе и прямо с живодерни — одна кожа на костях. Так разве с полицией поспоришь? Покричал было барин, исправник на него вдвое, да сказывали, грозился, коли за привод не заплатит, в суд подаст. Ну, Евплыч и сдался, а кляч татарину продал. Сказывали, пять рублей выручил.
— А ты к утру домой добежал?
— И как мальчишкой был, таково бегать не случалось. Надо было к свету домой быть, а конец, сам знаешь, не малый. Хорошо, все тропки исхожены. На большак не возвернулся, а перебежал от табора полями опять к Дону, почти против места, где Кочета и бричку на дно спустил, да вдоль берега и почесал как мог быстрей. У Шевырева через мост, как заяц, махнул — и опять по берегу до самой Козловки. Чуть светать стало, а уж с задов на двор в конскую выгородку, благо они еще на выгоне ночевали, да на солому и прилег. Одна бабушка, поди, и заметила, что меня в ночь не бывало. Да я тогда, грешен, у солдатки загуливал…
— Мне матушка обмолвилась, что, может, Кочета мужики уходили.
— Видно, догадалась. Недолго я в ту ночь спал, а как схватился, то онучей околь нету. Пошел в избу, а они в корыте мокнут, оттого что заношены были, а может, и кровь на них увидела, как на меня заглянуть зашла, да от всех и скрыла. Слова про ту ночь промежду нас не было. Другой раз корила за солдатку, а тут ничего… — Михайло помолчал, обгоняя дровни с кладью, и заключил: — Вот, дядя Саня, каков племянник твой душегуб. Восемь лет прошло, а как вчерась все…
— А по мне, Миша, коли грех, то не велик. Может, оттого так говорю, что сам бы то же сделал. Все равно что гада раздавить, который всех жалит. Ничего, что обличьем человеческим прикрылся. Думается, не бог таких творит, а бес ему назло. И не одного Кочета, я и барина старого не пожалел бы…
Они помолчали. Потом дядя спросил:
— Неужто совесть гложет?..
— Нет, того не скажу. А лесок, где все случилось, до сего дня стороной обхожу. Когда коней погнал, я там топор под берегом зарыл. На другой вечер сходил, домой принес. Дед-то и веревки обыскался — хозяин ведь. А больше туда ни ногой.
— А не всплыла бричка?
— Не слыхать. Видно, на совесть камней навалил, недаром заледенел, в воде толкавшись. А если б и всплыла, то сочли бы, что Кочет ее утопил да верхи дальше на двух конях погнал. А самого я так завязал, что, видно, рыбы да раки начисто обглодали.
— А деньги с него не взял?
— Нет. И не подумал. Убить да еще обшаривать… Я ровно в лихорадке был, себе не верил, что единым махом его прикончил. Сбирался ведь насмерть с ним драться, а тут табак помог.
— А не хватился Серега тавлинки своей?
— Тавлинку я на дворе на камушек ночью, как прибёг, поклал, будто обронена, и табак остатний рядом рассыпал… Так не казниться мне? Не взыщет бог за душегубство?..
— Жена моя, Михайло, выше всего справедливость почитает, и, должно, правда. Так тут, по-моему, только по справедливости воздал ты Кочету за дела его. Я тебе правду говорю, что, случись мне один на один с ним повстречаться, тоже на него пошел бы. Оттого я тебе не судья, а, как солдат бывалый, похвалить могу, что на такое отважился.
— Ну, спасибо, дядя Саня… А вот житье мне с тех пор в Козловке вовсе обрыдло. Ведь там у четырех баб Кочетовы ребята у меня на глазах растут и все на него схожи. Да двоих парней, сыновей его, Иван Евплыч по злобе в солдаты сдал и дочку за Михея, кривого вдовца с четырьмя детьми, выдал.
— Не зря я говорю, что и барину карачун бы сделал, — не выдержал унтер, — раз на детях безвинных злобу вымещал.
— Оно так, но мне-то Кочет по все дни глазами ястребиными аль еще как в Козловке мерещится. Как сынков его вижу, так и встанет все, что в лесу было, — весь род его рядом со мной…
— Потому к майору и захотел отъехать?
— Отъехать давно хочу, да куда крепостному от своего места деться? На оброк Евплыч никого не отпущал. А после Стешиной смерти и того пуще из Козловки тянет. Может, не так, как положено, а любил я ее… И до коней охотник большой. Вон Лысатка прошлый год поколела, так до сего дня ржание ее слышу, как встречала меня по утрам.
— Чего ж попритчилось? Старая была?
— Да нет, десятый год шел. Загнал дядя Серега на святой, из Рождествена от кумовьев ехавши, да спьяна и напоил сряду. За то и дал ему дед дёру.
— Мужику-то седому?
— А что? Дед в своем праве. Да и мои, ох, руки чесались!
— Ладно, попрошу Красовского и тебе отпишу, что ответит, — пообещал Иванов.
— По-печатному пиши, чтоб мне разобрать ловчей.
Переночевали в Туле, и утром Михайло тронулся в Козловку. Глядя ему вслед от ворот постоялого, Иванов подумал, что недаром так приглянулся в Лебедяни этот племяш, тогда почти подросток. Чего самому не довелось сделать, того не побоялся…
На почтовом дворе сряду повезло: первый встречный, приказчик здешнего купца, искал попутчика до Москвы в половину расходов на прогоны и брался сразу умаслить смотрителя, чтобы сегодня же до полдён выехать. Едва поспел забежать в лавку, купил четыре пряжки здешней работы к женским поясам, стальные с позолотой и в гранях «под алмаз», да два перстня, тоже стальных. Один дорогой, подложенный золотом, на широкой печатке которого тут же мастер выбил буквы «Е» и «К» под дворянской короной, и второй потоньше, хотя тоже на золоте, с готовой уже буквой «Т». Зашел на постоялый за чемоданом, расплатился — и на станцию.
Приказчик и правда был на почте своим человеком: только увидел унтера, как схватил подорожную, деньги и убежал в смотрительскую. А через полчаса запряжка парой уже стояла у крыльца. Сели и покатили. Но почтовым санкам куда до своих — кибитка рогожная, насквозь ветер свищет, а полость ветхая и узкая, с боков под нее поддувает. Закопали ноги в сено, надо терпеть. Зато через полтора суток были в Москве.
Переночевал в доме князей Козловских, где сказали, что «молодые» гостят у Пашковых в Петербурге. Утром зашел в игрушечную лавку, купил зайчика на колесах, в настоящей шкурке, с розовыми суконными ушками, и у серебряника золоченое колечко с синим камушком для Лизаветы. Да скорей на почтовую станцию.
— Лошадей нет, хоть убейте, к празднику такая гоньба, — сказал чиновник, что стоял за конторкой под надписью: «Запись подорожных». — Документ пожалуйте, я его в очередь подложу, и завтра наведайтесь. Может, попутчик навернется.
Иванов отдал подорожную. Вот тебе и добрался! До рождества осталось четыре дня. Понятно, все спешат. А такому чиновнику сколько и как в карман сунуть, чтоб ноне отправил?
— Не угодно ль карту на дилижанс? За полцены отдаю. Место заднее, уходит в полдень, — выкликнул немолодой барин.
— Отчего ж сами не едете? — спросил Иванов.
— Сын заболел. Убедитесь, господин офицер, что билет настоящий. У вас багаж при себе?
— Нет, но поблизости, — ответил Иванов.
Чиновник заверил, что карта вчера куплена, исправная. Заплатил тридцать семь рублей, побежал за чемоданом, и в полдень тронулись под трель рожка кондуктора с саблей и сумкой на боку.
Попутчики в карете оказались старуха барыня с горничной, немец-кондитер и два юноши из Казани, ехавшие в столицу искать службы. И здесь, когда дознались, что Иванов из «золотой» роты, принялись спрашивать про дворец. Барыня — про убранство комнат, кондитер — про пирожные, молодые люди — про освещение на балах и костюмы придворных дам. Иванов отвечал вежливо, но, когда надоели, сделал вид, что задремал, уткнувшись лицом в воротник шинели и надвинув поглубже шляпу. А сам вспоминал да вспоминал три месяца, ставшие будто сном: встречи с родными, поручиком Вахрушовым, генералом Зуровым, получение купчей, поездку в Беловодск и последний разговор с Михайлом. Нет, не винит он племянника, хотя по православной вере и нельзя убивать даже жестоких и злобных. А разве сам Кочет жил, как бог велит? Дашу в гроб вогнал, сколько семей опоганил, скольких крестьян и дворовых по баринову приказу истязал. Еще легко издох, проклятый. И барин ему под пару — парней в солдаты сдать в отместку отцу, которого сам на мерзкое посылал…
Подремавши уже по-настоящему и проснувшись от толчка кареты на глубоком ухабе, стал думать, что везет домой всего сотню рублей. Ведь толком не узнал даже, сколько надо уплатить за волю всего семейства. Ну, пусть пока под отцовой рукой оглядятся да вздохнут повольней. Теперь откладывать каждую треть сколько-то на ихние дела, а остальное все на Анюту и Машеньку. Дожили, что можно перестать копейки считать, квартиру снять просторней, чтобы у Маши своя комнатка была. А летом домик, хотя в Лесном, где впервой бы шелеста листьев наслушались вместо цокота копыт и скрипа телег, что везут по набережной Мойки товары на Круглый рынок. И он туда в свободные дни шагал бы… А вечерами в новой квартире Анюте над шитьем глаза не слепить и самому щетки бросить. Восемнадцать лет их делал и счета не вел, сколько сбыл. Или Маше сделать самую последнюю пару на память с ее литерами?
Похрапывает немец, охает на толчках барыня, велит горничной кутать колени, шепчутся молодые люди про какую-то Алину… Бегут за окном снежные поля. Вот верстовой столб проехали. Мелкой рысцой трусят почтовые лошади. Где четверику ямских кляч быстро везти такую махину, да еще на колесах? На полозья не додумались поставить. Верно, с тех государств образец берут, где зимы не бывает?.. Хотя расписание на станциях вывешено, но за двое суток уже на три перегона от него отстали. Дует по ногам откуда-то. Хорошо, что Анюта чулки теплые заставила взять, а вон горничная, бедная, все норовит под себя ноги поджать. И каково кондуктору на запятках!
Под праздник доехали до Любани. Люди рождество встречают с семьями, а они шестеро на станции за самоваром. И проезжих, кроме них, ни души.
Сложились, что у кого было, на ужин. Один немец спал на диване, ихнее рождество давно миновало. Смотрительница принесла жареного гуся и сладкий пирог, смотритель — два графинчика настойки. Хоть согрелись и кондуктора славно угостили.
18
На рассвете выехали. Опять дремали и мерзли. В Петербург въехали в сумерках. Иванов соскочил у Мойки и побежал домой.
Войдя во двор, поднял глаза. Свет во всех четырех окошках — значит, и Маша не спит. Первая с ней и Анютой разлука, да на целых три месяца. И отписал всего один раз. Дошло ли?
Дверь заперта на крюк. Постучал по-своему, как возвращаясь из роты: раз — два, раз — два. И сразу за дверью крик Лизаветы:
— Анна Яковлевна! Александр Иванович жалуют!
Откинут крюк, распахнута дверь, вступил в кухню и едва опустил чемодан на пол, как разом на шее повисла Анюта, к коленям припала, охватив их, Машенька и в плечо целует Лизавета.
— Остудитесь все, я с холоду!
— Грей обед скорей, Лиза.
— Нет, Анютушка, я допрежь всего в баню. Грязен с дороги.
— Какие же бани на рождество? Все празднуют. Придется тебя дома в корыте, как Машу, вымыть. Затопляй печку, Лиза. Ставь большой котел, буду хозяина мыть, хотя, может, грех в рождество тем заниматься!.. Но скорей скажи, во владение тебя ввели?
— Ввели. Ужо все перескажу. А ты из чемодана Маше зайку на колесах достань. Живой не дался, хоть такого привез.
Ах, как славно скребла и терла его в корыте Анюта! Лиза с Машей давно спали, когда сели ужинать. В первый раз за семь лет супружества засиделись до глубокой ночи. Все надо было рассказать в подробностях. Сгорела свеча, потом еще одна, а дошел только до поездки в Беловодск. На крепости пробило три часа.
— Ну, баста! Завтра остальное…
— Скажи только, жив ли старичок Филофей? — спросила Анна Яковлевна, вставая. — Ты об нем ведь и слова не написал.
— Жив и вирши с ребятами разучивает, гулять в степь водит.
Назавтра Иванов спал до полудня. Разбудила Маша, с новой игрушкой влезши на кровать, чтоб пощекотать отцу «козой» вымытые баки. И, еще лежа, пересказал ей бабушкины истории про мышку со звонком, про старикову дочку и медведя.
В этот день никуда не пошел — с дороги разломило поясницу, и Анна Яковлевна натерла ее какой-то мазью, а потом обвязала фланелевым бинтом, так что не мог застегнуть даже старого сюртука и облекся в женину кацавейку. Увидев отца таким, Маша от смеху чуть не упала со стула, повторяя:
— Папаня — как тетя с усами!
На счастье, никто не пришел в гости — Федот и подруги Анны Яковлевны были вчера к обеду, — и можно было так проходить весь день, а вечером, уложивши Машу, продолжать рассказ, что было у Красовского и в Епифани до отъезда.
Одного не рассказал жене — что узнал перед Тулой от Михайла. Не зря же побожился.
Мазь, бинт и тепло оказали нужное действие. Утром встал как встрепанный, оделся по форме и собрался в роту. До конца отпуска еще пять дней, но как не явиться по команде?
Полковника в канцелярии не оказалось — праздновал дома. Тёмкин сидел какой-то нахохленный. Подарил ему перстенек с печаткой — малость прояснился и спросил о поездке, хотя главное знал от Анны Яковлевны. Но лицо оставалось невеселым.
— Ты, Федот, здоров ли? — спросил Иванов.
— Вполне-с, — уверил Тёмкин. — Вам-то могу сказать: за господина Пушкина тревожусь.
— Что ж такое? Захворал, что ли?
— Никак нет, телом крепки, а в семье у них нелады.
— А ты откуда знаешь?
— Все от Максима Тимофеевича. Он барина своего разговоры с князем Вяземским и господином Тургеневым слышит.
— Что ж там случилось?
— За барыней Пушкиной француз один, кавалергардский поручик, уже года два увивался. Где она, туда и он, все рядом — на балах и в гостях зимой, а летом на дачах в Новой Деревне, где кавалергарды лагерем. А господин Пушкин ревнивы очень. Африканская кровь ихняя, господа говорят, того вовсе не позволяет. Вызов французу послали. Тут все всполошились, как бы дуэли не допустить. У поручика отчим есть, голландский посланник, барон какой-то, так тот особенно уладить старались. А тогда и выкини француз фортель — к свояченице Пушкина посватался, будто не ради барыни около вертелся, а ради сестры.
— Раз на ней женится, все и образуется, — успокоил унтер.
— А господин Пушкин все в сердцах: видно, думают, что для отвода глаз сватовство придумал. Та барышня не такая собой прекрасная, как сестрица, да и старе жениха на пять лет.
— Увидишь, уладится. Кто женитьбой шутить станет? А я пошел полковнику доложиться. Тебя же Анна Яковлевна обедать зовет, да захвати чего для чтения. Майор Красовский мне таково сочинение Пушкина про Пугачева хвалил, что, мол, лучше и не читывал.
— Еще бы! — с жаром воскликнул Тёмкин. — Знать, и туда слава его доходит…
Качмаревых застал за кофеем. Поднес подарки, рассказал, что следовало, получил поздравление, и Настасья Петровна, любуясь тульской пряжкой, уронила слезу от чувствительности, что сын стал владеть родителями. Полковник же, сделавши на воске оттиск новой печатки, остался доволен и приказал, чтобы первого с утра являлся на дежурство в парадной форме.
— Хорошо, что вовремя приехал, — похвалил на прощанье. — Князь вчерась перед парадом меня спрашивал: «Прибыл помещик твой новый?» Ты как его сиятельство встретишь, то ежели одни будут следовать, поблагодари за месяцы-то.
— Слушаюсь, Егор Григорьевич.
В этот же вечер пошел к Жандру. И туда снес тульскую пряжку, которая понравилась. Рассказав Андрею Андреевичу про торг с Вахрушовым, унтер спросил, что за служба могла быть у поручика на Дону под начальством нонешнего военного министра, на которой, сказывают, весьма обогатился.
— Такой и сейчас Комитет по устройству злосчастных донцов заседает, — подхватил Жандр. — Граф Чернышев — только в сих стенах говорю — человек корыстный и лживый. А помощником у него сенатор Болгарский, плут отъявленный, прославленный взятками. Вот они и ободрали всех казаков зажиточных. Обвиняли во всех смертных грехах, а те откупались чем могли. Раз Вахрушов там послужил, то истинно рыло в пуху.
— Ведь как раз про графа Чернышева в комедии у Хмельницкого стихи были? — напомнила Варвара Семеновна.
— Говорили, что про него. Хотя то переводная пиеса, французская, Андре Буаси, — ответил Жандр и пояснил Иванову: — Похвастаться господин министр любит подвигами, так у одного писателя такой герой сочинен, который говорит:
— Как вы помните! — удивилась Варвара Семеновна.
— Чужими и своими стишками голова смолоду набита, — усмехнулся Жандр, — но полностью, кажись, теперь только «Горе от ума» помню, оттого что все не в бровь, а в глаз. Вот и губернатор тульский хотя помог отменно, но по нонешнему описанию, согласитесь: «хрипун, удавленник, фагот, созвездие маневров и мазурки»… — Он повернулся к унтеру: — Так у Грибоедова один вояка бравый описан…
…А в последнее утро отпуска пошел на Сергиевскую. И здесь пересказал все Павлу Алексеевичу и барыне. Молодые к Новому году отправились в Москву, в особняке было тихо, и его приходу явно обрадовались. Особенно подробно камергер расспрашивал про Красовского и дьякона. Потом рассказал про русскую оперу, которую впервой показали в Большом театре. Так рассказал и сыграл на рояле мотивы задорных польских танцев и торжественного последнего хора, что Иванов почувствовал — думает, как бы Дарье Михайловне музыка понравилась.
Дома в этот день вкусно обедали со всегдашними гостями — Федотом и Феней, подружкой Анны Яковлевны. Потом Тёмкин читал вслух «Капитанскую дочку». Маша, поиграв в своем углу, тихо взобралась к отцу на колени, слушала, тараща глаза, и тут же заснула. А взрослые так и просидели как зачарованные до последнего слова повести. Только в начале чтения в руках у женщин было рукоделие. Но вот иглы остановились, работа легла на колени. Судьба Маши и Гринева стала их судьбой.
— А Пугачев-то! Заячий тулупчик небось не забыл, — сказала всегда молчавшая Феня.
Тут часы на дворце пробили одиннадцать, и, рассуждая о прочитанном, стали снова накрывать на стол для встречи 1837 года.
Чокнулись наливкой и выпили три тоста: за счастье и здоровье присутствующих, за родственников и друзей, которых нет с ними, за сочинителя «Капитанской дочки» — пожелали ему еще писать такое же, что, услышав, никогда не позабудешь.
Первого января на Большом выходе во дворце Иванов видел Пушкина. И верно, от недавних волнений сильно изменился — лицо желтое, глаза сердитые, и даже щека дернулась два раза, пока на него смотрел, так резко, что зубы сверкнули, — чисто конь мундштук грызет, когда шею насильно сгибают.
Видел и флигель-адъютанта Лужина в конногвардейском белом мундире с аксельбантами и вензелями на эполетах. На одну минуту, отделясь от процессии, подошел к унтеру и спросил:
— Пригодились ли письма?
— Покорнейше благодарю. Генерал с генеральшей расспрашивали, как изволите здравствовать.
— А купчую привез?
— Так точно-с.
— Ну, поздравляю!
Через полчаса Иванов вел от Комендантского смену дежурных в парадные залы и снова увидел ротмистра. На этот раз Лужин показывал Военную галерею молодому человеку в иностранном мундире и, когда гренадеры поравнялись с ними, сказал:
— Остановись на минутку, Александр Иванович.
— Смена, стой! — скомандовал унтер. — Что прикажете, господин ротмистр?
— Ты ведь в Париже был в тысяча восемьсот четырнадцатом году? — спросил флигель-адъютант, указав на вторую серебряную медаль на груди Иванова.
— Так точно. Два месяца в казармах Военной школы стояли.
Лужин что-то сказал своему знакомцу по-французски и снова повернулся к четырем сменным гренадерам:
— И вы, вижу, там побывали. В каких полках, почтенные?
— В Преображенском… В Кавалергардском… В Конной гвардии… В Измайловском, ваше высокоблагородие, — закончил Павлухин, стоявший замыкающим.
И снова ротмистр сказал что-то французу, указывая на трех бывших кирасиров, после чего пояснил гренадерам:
— Господин виконт вспомнил, как наша гвардия в Париже гостила, когда он ребенком был… Веди смену дальше, Александр Иванович.
— Шутник барин, — бубнил под нос Павлухин, идя Аванзалом:
Вероятно, Иванов вскоре забыл бы об этой встрече, если бы на другой день Лужин не окликнул его в одном из залов:
— Удивился, верно, когда я про Париж расспрашивал?
— Да, французам, поди, не особо лестно те годы шевелить.
— Конечно, но он мне только что рассказал, как его малым ребенком в Париже наш солдат из фонтана вытащил, куда по недосмотру няньки кувырнулся. Все со слов своего деда знает, который свидетелем был. Так вот, виконт этот, что при посольстве здесь служит, мне толковал, что очень хочет спасителя своего сыскать, но от деда только и знает, что Иваном звали да в белом мундире ходил. Тут я ему и сказал, что у нас все кирасиры в белых колетах, и пример на вашей смене привел, сколько их было.
Унтер собрался ответить, что перед ротмистром стоит тот самый Иван, которого ищет француз, но решил сначала узнать, что за человек вышел из обмокшего тогда малыша.
— А хоть стоит ли господин тот, чтобы его нашему солдату спасать? — спросил он.
— Да, молодой человек добродушный, хотя близко его не знаю, но уж за него говорит, что Ивана того сыскать желает, — ответил Лужин.
Услышав ответ ротмистра, Иванов подумал, что, пожалуй, стоило бы признаться. Но тогда, может, подумает, будто награду за спасение ищешь?.. Надо с Анютой посоветоваться.
Анна Яковлевна, выслушав рассказ мужа, ответила:
— Все-таки больших чудес, чем в настоящей жизни, никакой сочинитель не придумает. Нам, бывало, под шитье Амалия Карловна такие удивительные истории рассказывала. И кошелек тот с кольцами у меня припрятан, и на нем буквы какие-то вырезаны. А признаваться ли тебе, дай подумать сколько-нибудь.
И побежали дни службы, такой знакомой и привычной. Караулы и дежурства, крещенский парад с водосвятием, балы, приемы и спектакли, только не спутай, когда являться в полном параде в строй, а когда — в вицмундире, чтобы обходить дежурных. Остальное все выучено так, что идет само собой, как дыхание. Черты лица на постах при проходе начальства сами принимают, как долбит Петух, «вид веселый, но отнюдь без ухмылки», ноги в строю печатают шаг, а на дежурстве ступают неслышно.
Во второй раз в жизни Иванов переживал счастливую пору. В первый — когда нашел Анюту, и нынче, оттого что почти завершил заветное дело. К тому же дома наступило полное довольство от жалованья, полученного за последнюю треть прошлого года. И Анна Яковлевна стала похаживать по лавкам, подбирая, что, кроме тульской пряжки, подарить Амалии Карловне, которой 15 января стукнет шестьдесят лет. Правда, мастерицы шептались, что по-настоящему надо бы еще пяток прибавить, но не все ль равно, раз женщина добрая? В дни суточных дежурств унтера Анна Яковлевна, гуляя с Машей, приносила в канцелярию вкусный обед, от которого перепадало и Тёмкину.
Теперь писарь стал спокойнее, ел с аппетитом, но часто задумывался и вздыхал.
— Ну что тебя точит? — спросил как-то Иванов. — Женился француз на свояченице Пушкина?
— Десятого января повенчаны два раза — по-католическому и по-православному. Да что-то Василий Андреевич все хмурые ходят.
Действительно, Жуковский был так рассеян, что не ответил на приветствие унтера, чего никогда не случалось. Иванов даже не решился благодарить его за письмо Зурову, отложив до другого разу.
Теперь все гренадеры узнали о причине небывало долгого отпуска Иванова и при встрече поздравляли, что стал помещиком. У многих по приданому от жен были дома в городе и в предместьях, но крестьянами не владел никто. Большинство открыто завидовали, иногда спрашивали, зачем так далеко покупал, когда под Петербургом сколько хочешь продажных дворов. Другие хвалили за хозяйственность, и только Василию Крылову, старому конногвардейскому товарищу, Иванов с первой встречи сказал правду — его знал за человека душевного и молчаливого. И малость погодя пришлось сказать Павлухину. Встретив у подъезда Шепелевского дома, Савелий, как всегда дохнув водкой, схватил унтера за рукав и забормотал нараспев:
— Да полно тебе молоть, — прервал его Иванов. — Спроси сперва, кого и зачем я покупать ездил, сорока ты бестолковая!
Выслушав объяснение унтера и просьбу, чтобы не болтал про то в роте, Павлухин расплылся в улыбке и забормотал:
Иванов рассмеялся и пошел своей дорогой.
В этот же день Анна Яковлевна сказала:
— А кошелек, Санюшка, все-таки надо французу показать. Может, и точно дедовой памятью окажется и его обрадует. Мне ведь любая папенькина вещица дорога, хоть самая пустяковая… Но тебе, думается, лучше Лужину сказать, будто от приятеля давнего перешел, который сходный случай про Париж рассказывал.
— Не поверит мне, — ответил Иванов, — я вовсе врать не умею.
— А тут и соврать не грех, раз из скромности одной, — уверила его жена. — Только ты заранее придумай, как отвечать, если прозвище спросит солдата, что кошель подарил.
Так научила, и все прошло гладко. Отдал при встрече Лужину кошелек, рассказал про давно умершего приятеля-кирасира и просил передать французу. Иван Дмитриевич внимательно рассмотрел ветхую ткань, прочел вырезанное на кольцах и сказал задумчиво:
— Все может быть… Вензеля и корона подходят. А как звали того кирасира и в котором году помер?
— Звали Иваном Малюгиным. После войны стал он загуливать да и отдал богу душу году в восемнадцатом, — без запинки соврал Иванов.
А через день, 24 января, Лужин разыскал унтера в Эрмитаже.
— Представь, Александр Иваныч, кошелек-то дедовский — его девиз и вензель вырезаны. Виконт как дитя радовался, а потом опечалился, когда узнал, что Малюгина никогда не увидит. Я уж не сказал, что спился. Просил по-русски, и по-французски его прозвище на память записать.
— А что за титул такой — виконт, Иван Дмитриевич? — спросил Иванов, чтобы скорей отойти от своего вранья.
— Во Франции так младших сыновей графов называют.
А 28 января, придя еще затемно в канцелярию — с девяти часов он заступал на дежурство по парадным залам, — Иванов застал Федота со сбитыми на лоб волосами, которые всегда держал в порядке, и смотревшего в пол, будто в оцепенении.
Первая мысль унтера была, что от своих расстройств в бумагах напутал, а может, капитан Петух обидел.
— Что с тобой, Федотушка? — спросил он.
— Господина Пушкина на дуэли француз ранил, да тяжело, в живот, — поднял глаза Тёмкин, и слезы поползли по щекам.
«В живот угодила, на тот свет проводила», — вспомнил Иванов солдатское присловье. И спросил:
— А сам цел остался?
— Легко в руку ранен, навылет.
— Ну, будет ему, под военный суд отдадут, — утешал Иванов.
— Что толку, ежели Пушкина не станет!
— Когда же случилось?
— Вчера, под вечер домой привезли… Ох, Александр Иванович, вы тут малость побудете? — Тёмкин схватился с места.
— С полчаса, пока со сменой не пора идти. А тебе что?
— Сбегаю к ихней квартире, спрошу, каково там.
— А где живут-то?
— На Мойке, в доме нашего князя. Я мигом… — И, надевая на ходу шинель, Тёмкин выскочил из комнаты.
— Застегнись по форме! — крикнул вслед унтер.
Писарь возвратился очень скоро. Иванов только собрался запереть канцелярию и отдать ключ дневальному в роте, как Тёмкин вошел и, скинув шинель, сел на свое место. Вынул платок и вытер виски и шею, видно, бежал всю дорогу.
— Ну? — спросил Иванов.
— Живы, но маются очень, говорят. Докторов лучших привезли. Василий Андреевич там, князь Вяземский, друзья самые близкие. Перед квартирой народ толпится…
— Пулю-то вынули? — спросил Иванов.
— Не знаю, — мотнул головой писарь и закрыл лицо руками.
Идучи домой после смены в пятом часу, унтер отклонился от обычного пути и с другой стороны Мойки поглядел на дом Волконского. И верно, около ворот и под окнами стояла толпа. Некоторые, спросивши, шли дальше. Громкого разговора не было слышно. Сани и кареты мимо не ездили, видно, их заворачивали в сторону. Унтер увидел, что кто-то снял шапку и перекрестился.
«Неужто помер?»— подумал Иванов и пошел домой.
Нет, весь этот день Пушкин был жив. Зайдя на другое утро в канцелярию, Иванов не застал писаря. Окликнув унтера через перегородку, полковник сказал:
— Отпустил я его. Только напутает в бумагах… Видал? Камер-юнкер всего, а слава какая! Ноне, пока до роты шел, — долго ли по канавке? — трое господ спрашивали: «Жив ли Пушкин-то?..» Еще вчерась как ветром по дворцу переносило. Тут да там: «Пушкин, Пушкин». А я вчерась не понял, к чему оно…
— А вы читали, Егор Григорьевич, его хоть что-нибудь? — спросил Иванов.
— Нет, брат, не случилось. А ты?
— Нам с женой Федот его сочинения читал. Складно и душевно писано. А про капитанскую дочку так просто за сердце взяло, и все как есть понятно.
— То-то шум подняли. На моей памяти сколько офицеров на дуэлях застрелено, такого не бывало. А ты видел ли хоть Пушкина-то?
— Как же! И вы во дворце беспременно не раз их встречали. И на лестнице нашей. Они к господину Жуковскому часто хаживали. Кучерявые такие, зубы белущие, а глаза как у коня хорошего — покосится, как огнем опалит… А теперь, видать, конец бедному приходит, сами знаете, раз в живот рана.
— Да, ежели в кишки пуля вошла, то читай отходную.
В этот день Иванов помогал по канцелярии, а идя домой, опять свернул на своей стороне Мойки и встал против дома Волконских. Сегодня толпа была куда больше. Но никто не стоял, а медленно двигались, входили под ворота и выходили, часто снявши шапки. Две жандармские каски торчали над толпой.
«Кончился. Прощаться народ пускают, — понял Иванов. — Надо бы пойти, да в солдатской шинели, хоть и нашей роты, как бы от жандармов чего не было. Не зря поставлены…»
Кто-то тронул за рукав. Рядом стоял Павлухин в полной форме — в медвежьей шапке и шинели со всеми наградами, с полусаблей на галунной портупее. Кивнул на тот берег и сказал:
— Когда же скончался? — спросил Иванов.
— Без четверти в три часа. А с час, как пущать народ стали. Я еще поспел, пока жандармов не поставили, приложился…
— А ты разве знал господина Пушкина? — удивился Иванов.
— Тёмкин мне все темя продолбил, чтоб не болтал виршей, раз такой барин близко от нас живет да еще в наш дом часто заходит. И мне ихнее не раз читал в поучение… Что ж, я слышу, какая краса. Так ведь каждому свое. Тёмкину легко учить, а я без своего не могу…
— Значит, и тебя ихние стихи прошибли?
— Вестимо, лучше не бывает. Оттого и зашел поклониться. Порядочные господа на дуэлях в голову да в сердце целят, а француз проклятый в брюхо. За одно за это убить мало. Брат, сказывают, у Пушкина есть, офицером на Кавказе служит. Хоть бы прискакал да вызвал. Который Пушкина друг при дуэли был, подполковник, вчерась мне показали, у того рука на повязке, на войне раненный, от него что толку?.. Сказывают, послезавтра в Казанском отпевание. Туда без толкотни сходим. Пойдешь?
— Непременно, — сказал унтер. — Когда в церковь перенесут?
— Завтра под вечер.
Они вместе дошли до Конюшенного моста, и Савелий бормотал:
Дома застал Анну Яковлевну и Лизавету с опухшими от слез лицами, обе знали уже о смерти Пушкина и поспели сбегать ему поклониться. Послали Лизавету разыскать Тёмкина и привести к ним. Не нашла, в роте его не оказалось. Часов в восемь пошел Иванов, решивши, что, ежели не найдет в роте, пойдет к квартире покойного. Но Тёмкин спал в роте, укрывшись поверх одеяла шинелью. Гренадеры сказали, что пришел к ужину, но не ел, а залег спать. Иванов послушал его ровное дыхание, заглянул под шинель в лицо, успокоенное сном, и пошел домой.
А на другой день, под вечер, разгласилось, что вместо Казанского собора, куда на похороны уже были отпечатаны билеты, тело Пушкина перенесли в Конюшенную церковь. Сюда и подумать войти было невозможно. Половину площади заняла толпа — церковь-то маленькая и во втором этаже, Иванов с Анютой постояли близ двери, ведшей к лестнице, посмотрели на окна, неярко освещенные панихидными свечами, и пошли домой, удивляясь, зачем сюда вносить покойного, ежели столько народу хочет помолиться за упокой его души. Решили завтра встать пораньше, прийти к утренней панихиде. Но Лизавета их упредила — вскочила чуть свет и побежала. Да сразу же вернулась. Церковь заперта, гроб с телом Пушкина, сказали, ночью на почтовых увезли в Псковскую губернию, в его деревню.
В канцелярии за своим столом сидел Тёмкин. Похудевший, серый, не евший толком пять дней, с небывалым раньше колючим взглядом из-под насупленных бровей.
— Расскажи ты мне, отчего не в Казанском соборе и зачем такая спешка с отвозом? — спросил Иванов.
— Затем, что, видно, боялись как живого, так и мертвого, — негромко и глухо сказал Федот. — На все приказ был…
— Чей же? — недоуменно спросил Иванов.
Федот ткнул вверх и вбок, в сторону Зимнего дворца.
— Царь, что ли? — шепотом спросил унтер.
— Он и те, что около. Им смирять его надо было, чтобы самим крепче держаться… Просился за границу съездить — не пустили. Отпрашивался в деревню — и то нельзя. Да еще ко двору привязали. А тут разве ему спокойно жилось?
Полковник был прав: во дворце, кого ни встречал — придворных, офицеров, чиновников, — все вполголоса поминали Пушкина. Имя его истинно у всех на устах. Мужчины обсуждали, к чему военный суд приговорит Дантеса. Самое малое — к разжалованию в солдаты на Кавказ. Фрейлины шептались о жене Пушкина и ее сестрах.
Но тут все были только слухи, а истинные подробности узнавал от Тёмкина, которого осведомлял Максим Тимофеевич. Стало известно, что сопровождать тело Пушкина отправился тайный советник Тургенев, тот самый, который когда-то в Статс-дамской обсуждал с Жуковским, как уговорить строптивого камер-юнкера ездить ко двору. Оттуда же услышал, что царь велел все бумаги Пушкина разобрать Василию Андреевичу у себя на дому. Но не одному, а вместе с жандармским генералом.
И через сутки Иванов стал свидетелем, как к подъезду Шепелевского дома подъехала казенная фура и четыре жандарма, грохоча по лестнице ножнами палашей, потащили наверх сундук, опутанный веревкой с сургучной печатью, потом второй и третий…
А сам Василий Андреевич ходил истинно краше в гроб кладут, желтей восковой свечи, в широком, как чужом, платье.
Через несколько дней, войдя в канцелярию, Иванов снова увидел на лице Федота беспокойство и оживление.
— Что опять стряслось? — спросил унтер. — Аль над французом приговор в суде сделали?
— Истинный приговор ему произнесен, да только не судейский, — ответил Федот негромко и помахал исписанным листком. — Дозвольте после службы к вам зайти.
— Приходи. И моей смены в четыре конец. Прочесть что принесешь?
— Угадали. Весьма замечательное, и к скорбному случаю…
Придя на Мойку, Тёмкин рассказал, что по городу ходят стихи на смерть Пушкина, которые, понятно, печатать не допустят. Да и офицеру молодому, который их сочинил, несдобровать: самое малое — из гвардии в дальний гарнизон переведут. Рассказавши, помолчал, достал листок и начал читать:
За годы службы в роте совсем иначе стал Федот читать стихи. Научился в каждое слово вкладывать смысл, выговаривать всю их выразительность и звонкость. Или эти стихи были особенные, вроде какого-то словесного пламени, что ли?.. Но только, когда произнес упавшим вдруг голосом:
Анна Яковлевна с Лизаветой заплакали, и унтеру так перехватило горло, что едва прокашлялся.
Федот дочитал стихи, высморкался и, будто невзначай, утер глаза. И тут все услышали, что Машенька, про которую эти четверть часа все забыли, потому что занималась в своем углу игрушками, теперь тоже тихонько всхлипывает.
Отец взял ее на руки.
— Что с тобой, Машута?
— Пушкина жалко! — протянула она и уткнулась в его плечо.
А назавтра в суточном дежурстве унтер поговорил о том же с флигель-адъютантом Лужиным. Мельком видевши днем на царской половине, Иванов под вечер сам впервой завернул в дежурную комнату.
— Входи, Александр Иванович! — : пригласил ротмистр, откладывая книгу. — Садись, гостем будешь. Давай чего-нибудь из давнишнего повеселей вспомним, а то этак на душе мерзко.
— И вы про господина Пушкина печалитесь, — сказал Иванов, вспоминая разговор, слышанный из окна канцелярии.
— Как не печалиться? Хоть не самые близкие, а приятели были много лет. И представь, я чуть не первым сватом его оказался. В Москве в тысяча восемьсот тридцатом году на балу одном подошел ко мне и просил, чтобы у матушки его жены будущей, госпожи Гончаровой, осведомился, как примет, ежели посватается. Можно ли в такой услуге приятелю отказать?.. А вот теперь сосет за сердце, зачем участвовал в том, что к такому несчастью привело…
— А как же француза того, Иван Дмитриевич, накажут?
— Эх, братец, толкуют, будто ничего с ним не сделают!
— Да как же?.. Ведь под военный суд отдавали?
— А так, что он иностранный подданный, хотя и нашей службы поручик. И поручик-то из рук вон: службы не знает, командовать не может, больше в штрафах, чем в строю находился… Но правда, что Пушкин такое письмо его приемному отцу написал, после которого без поединка не обойтись…
— Ну ладно, а зачем в брюхо метил? Пусть бы в голову аль в грудь, — возразил Иванов.
— Что ты меня уговариваешь? Француз дрянь последняя. Но может случиться, что только чина лишат да за границу вышлют.
— Так разве оно справедливо? Убил человека, будто муху прихлопнул.
— Убил на дуэли и сам был ранен. А что легкая рана вышла, то, сказывают, от пуговицы подтяжек пуля рикошетировала.
— А брат господина Пушкина не может в то дело вступиться и с французом снова стреляться?
— Может. Он на Кавказе и, говорят, офицер храбрый. Но за что ему драться? По правилам все, зацепиться не за что. Француз под пистолетом Пушкина стоял хорошо и счастлив, что жив остался. Много ли толку будет, если и другого брата убьет?.. А как вовремя виконту кошелек от тебя перешел…
— Не пойму, Иван Дмитриевич, к чему кошель помянули? — удивился Иванов.
— Так как раз виконт секундантом Дантеса на той дуэли был и уже по государеву приказу на свою родину выслан. Ко мне проститься перед отъездом заезжал и очень горевал, что в таком деле участвовать довелось. «Меня, — сказал, — от смерти русский солдат спас, которого даже поблагодарить не удалось, а мне судьба послала свое имя навсегда со смертью самого знаменитого русского связать…»
Помолчали, и унтер подумал, что раз виконт этот совестливый, то, может, и не мешало ему знать, что на деньги деда хоть одна крестьянская семья из нищеты выправилась?.. Тут заметил, что Лужин ждет ответа на свое сообщение, и сказал:
— Да, не повезло ему, особливо если по службе нагоняй дадут. А стихи, что какой-то поручик написал, читали?
— Читал. Сильные стихи!.. Их мигом вся столица затвердила, и, верно, уже по почте и по рукам во все концы царства летят. Но корнету этому, который Лермонтовым зовется, за них, верно, нагорит куда крепче, чем Дантесу за дуэль.
В Министерском коридоре раздались легкие шаги — проходил дежурный камер-лакей, — и ротмистр поднял палец к губам.
Лужин оказался кругом прав. Вскоре узнали, что Лермонтов арестован за стихи и переводится прапорщиком на Кавказ, а Дантес, убивший Пушкина, разжалован и выслан за границу. При этом многие придворные громко славили доброту государя — он не подверг наказанию секунданта Пушкина.
Даже всегда сдержанный Качмарев, слушая такие разговоры, сказал Иванову, когда они были одни в канцелярии:
— Чудны дела твои, господи! Есть отчего порой и руками развесть, когда про справедливость тебе любезную думаю.
— Вы насчет чего же, Егор Григорьевич?..
— Да вот, вишь, всё толкуют, как велика милость в том, что подполковника, который при Пушкине секундантом был, государь помиловал. Оно, конечно, хорошо. Но я нонче утром затесался на Салтыковской и кого же там вижу? Двух больших сановников: один с доклада от государя вышел, другой для того же входить собрался, и лакей его щеточкой охорашивал. А обоих мы, старые артиллеристы, знаем за самых бессовестных и бесчестных.
— Кто ж такие?
— Ох, Иваныч, язык мой — враг мой… Не проболтаешься?
— Как можно, Егор Григорьевич!
— Один при Аракчееве, нашем инспекторе, адъютантом был, а потом начальником штаба военных поселений — подлипала, угодник и палач Клейнмихель. Он первый от графа своего отплюнулся, которому до того сапоги лизал. Ноне дежурный генерал Главного штаба. А второй, пожалуй, еще гаже — Сухозанет зовется. Распутник, грязней которого нету. Он, видишь, всеми кадетами ноне ведает. Хорошему, поди, научит!
— И он же, сказывали, четырнадцатого декабря артиллерией скомандовал.
— Скомандовал-то по его приказу полковник первой бригады Нестаравский, который потом, денщики передавали, одной ночи без крику не спал. Все ему бабы да дети под картечью мерещились… Ну, то давай все забудем. А чего нам с Федотом делать?
— Да ничего, временем все образуется.
— Думаешь?
— От Василия Андреевича плохого не наберется.
— Уж больно плаксив стал. Чуть что — в слезы.
— То все пушкинские дела его за душу теребят. Как кончит последние бумаги дописывать, то и встанет снова на ноги.
Иванов успокаивал полковника, а сам не меньше тревожился за Федота. Ведь именно благодаря ему Тёмкин работал теперь вечерами у Жуковского.
С неделю назад, встретясь с унтером в подъезде, Василий Андреевич, снова начавший узнавать его и здороваться, спросил:
— А каков почерк у вашего писаря? Мой Максим говорит, что отменно хорош, но как вы думаете, раз там же часто сидите?
— Я, ваше превосходительство, сам малограмотный, но знающие люди толкуют, что почерк редкостный и вполне грамотен. Он в батальоне кантонистов писарскую школу с похвалой окончил. Не говоря, что для вас заняться за честь почтет.
— А вечерами он что делает? — спросил Жуковский.
— Себе читает или у нас в гостях вслух что-нибудь…
— Ну, благодарствуйте, друг мой.
Со дня написания рекомендательного письма Зурову Жуковский частенько так называл Иванова.
И вот теперь по вечерам Тёмкин работал в верхнем этаже да иногда там и ночевал, не спускаясь в роту ужинать, — от Максима, видно, перепадало что повкусней казенной каши. Целыми вечерами он переписывал с черновиков Жуковского его доклады царю и графу Бенкендорфу о разборе бумаг Пушкина, снимая копии с записок врачей и других свидетелей последних часов поэта, с письма отцу покойного, отправленного Жуковским.
— Василий Андреевич — господин доброты удивительной, — говорил он Иванову. — И при этом очень смелые. В письме графу так его упрекают в несправедливости к Пушкину, аж мне за них страшно стало. Набрался духу, спросил: «Не надо ль тут смягчить, Василий Андреевич?» А они: «Нет, пусть знает, что все его вины против покойника мне ведомы и для будущих поколений записаны. Для того и копии со всего снимаем, чтоб в бумагах моих остались и после все прочли, кто про Пушкина справедливо писать станет. А таких, поверь, десятки ученых будут. Бенкендорф помрет, и я помру, — сказали, — а Пушкин бессмертен». Вот как судят… Но, Александр Иванович, они с меня слово взяли, что про нонешние работы никому…
19
Вот уже миновала масленица с балами во дворце и маскарадами в театрах, о которых стрекотали придворные щеголихи, с катанием по Неве, по набережным и вокруг Александровской колонны на рысаках. Поплыл великопостный звон сотен колоколов. Парадных часовых во дворце сняли, как всегда, до пасхи.
Не берясь больше за щетки, Иванов свободные дни проводил с дочкой. Мастерил тележку и упряжь деревянной лошадке, чтобы возить куклу Катю по комнате, потом седло, когда Катя пожелала ездить верхом. А то отправлялись гулять и заходили к Жандрам, где появилась маленькая собачка Белка, очень веселая и ласковая, которой Маша носила кусочки сахара.
В марте Варвара Семеновна рассказала, что сняла дачу по Петергофской дороге, близ шереметевской Ульянки, и при той даче есть флигелек. Так не захочет ли отправить туда Анну Яковлевну с Машей? Иванов поблагодарил и сказал, что пришлет свою Анюту потолковать в подробности. Потом Андрей Андреевич, оставив Машу играть с Белкой, увел унтера в кабинет и, закрывши двери, рассказал, что узнал недавно: Вильгельма Карловича, который десять лет пробыл в какой-то финляндской крепости, отправили наконец-то в Сибирь, в глухое село, на постоянное жительство. Однако за столько лет в казематах здоровье его совсем расстроилось и глазами очень слаб.
— Экое наказание бедняга вытерпел за то, что будто на площади в великого князя из пистолета целил, — говорил Жандр. — Зато Александра Бестужева наконец-то произвели в прапорщики. Теперь в отставку выйдет и все время литературе посвятит.
Рассказал, что сочинения Бестужева-Марлинского идут нарасхват, так интересно пишет про кавказских горцев и про войну. И еще оттого печатание их радует, что ведь здесь осталась старая матушка всех сосланных братьев, которая от своей пенсии им в Сибирь посылала, а сама очень скудно с дочкой жила. Теперь же от сочинений будет всей семье знатное подспорье.
— Ну, хоть у Александра Александровича дела на лад пошли, — сказал Иванов. — А о князе нашем нет новостей?
— Был слух, — сказал Жандр, — что и его осенью на Кавказ солдатом отправят. Авось и он там выслужит эполеты.
На другой день, придя в канцелярию, Иванов спросил:
— Федот, ты читал ли сочинения господина Марлинского?
— А как же! Очень даже люблю. Могу к вам на вечер что-нибудь принесть. Жалеть, право, не будете.
— Не хуже Пушкина пишет?
— Ну, нет-с, — замотал головой Тёмкин. — Куда же!.. Но другие очень одобряют. Да и по мне «Аммалат-Бек» или «Лейтенант Белозор» вполне хорошие повести. Говорят, в «Инвалиде» было, что их за геройство в офицеры произвели.
— И мне говорили. Так неси чего-нибудь, не забудь.
Три воскресенья читал Тёмкин повести Бестужева, и развесив уши слушали их хозяева, две подружки Анны Яковлевны и Лизавета. Впрочем, унтеру порой казалось, чего-то лишнего наверчено. Но под это чтение сделал три щетки с буквами Машеньки, как взрослой, «М.А.И.», окончательно сложил в ящичек все инструменты и поставил в чулан. Баста!
За три недели до пасхи написал Красовскому: спрашивал, дает ли нога садиться на коня и как здоровье Филофея. Упомянул о горьком сокрушении смертью Пушкина. Наконец, просил, ежели приедет племяш Михайло, принять конюхом на завод.
Нежданно скоро получил ответ, видно, Красовский сряду засел за него. Сообщал, что нога хотя на ходу хороша, но твердости в стремени пока не чувствует, что о Пушкине ежечасно умом и сердцем скорбит, как и все читающие русские. А насчет смены службы, то по выслуге чин подполковника ему положен при отставке с будущей осени, тогда, наверное, на то и решится. Жалко также Филофея на лето от ребят и степи оторвать, хотя, конечно, охотников с ним гулять и грамоте между рассказами и виршами учиться везде средь детей немало сыщется. А чтоб о Мишке не беспокоился: ежели заявится, то будет принят в службу на заводах.
На пасхальной торжественной заутрене во дворце Иванов видел камергера с супругой. Знать, добился своего граф Литта. А на второй день праздника пошел с поздравлением, захвативши письмо Красовского. Павел Алексеевич читал его вслух жене, после чего сказал:
— На любимом языке Герасимыча могу одно произнесть: at spes non fracta. Что сие значит, ученая моя супруга?
— Надежда еще не разбита, — ответила Ольга Николаевна.
— Однако на его приезд в ближнее лето она все же пропала, — пожалел Пашков. — Но такого помощника готов и подождать. Прям, честен, смел да осанка такая, что уверен, дамы многие и про нос, в бою перебитый, забывали. Как там насчет дамского общества? Видывал ли кого?
— Нет, не случилось. Но будто имеется поблизости некая вдова, к которой не совсем равнодушный.
— Bene! — одобрил Пашков. — А про Пушкина что вы говорили?
— Хвалил очень «Историю Пугачевского бунта», а я ее и не знаю, только «Капитанскую дочку» недавно услышал…
— Вот, мой друг, — снова отнесся Пашков к жене, — серьезный вкус сразу виден. Не зря мы с тобой к Гиббону ту работу Пушкина приравнивали. Умер в нем не только поэт и писатель гениальный, а также прекрасный историк. Его правдивый «Пугачев» звучит как предостережение господам помещикам, если между строк умеют читать… Но знаете ли, друзья мои, я весьма горжусь, что, несмотря на низкий чин и внешность Красовского, с первого разговора почувствовал в нем умного человека. А главное, ведь именно ему обязан, что латынь полюбил. Благодаря французскому она мне, правда, не трудно далась, но радости столько от Цезаря, Тацита, Цицерона в подлинниках! И туда же Ольгу Николаевну потащил, учиться в Италии латыни посоветовал, раз на сем языке древние ее обитатели изъяснялись…
— С тех пор как вас с Дарьей Михайловной узнала, я будто заново родилась, — сказала, покраснев, госпожа Пашкова.
За эти слова Иванов готов был ей в ноги поклониться: истинно благородная душа, раз Дарью Михайловну не забыла. Как-то особенно ласково посмотрел на жену и Пашков.
— Однако в итоге сего послания, — сказал он, возвращая Иванову письмо, — надо думать, что с получением чина по отставке будут здесь не ранее начала тысяча восемьсот тридцать восьмого года. А пока прикажу отделать квартиру во флигеле, соединивши старую управительскую с комнатой покойного Евсеича. Вдруг приедет не только с другом, но и с подполковницей.
— Разве Николай Евсеич померли? — опечалился Иванов. — А я к ним метил от вас зайти, яичко нес им похристосоваться.
— Погас на пятой неделе. Утром посидел на солнышке на дворе, возвратясь домой, прилег и будто уснул, — сказал камергер.
— И до конца все кого-то лечил, — вспомнила Ольга Николаевна, — травки и ягоды собирал, сушил, лекарства составлял.
— Добрый был старик, но хорошо, если себя на тот свет каким-нибудь снадобьем не поторопил. Без указания настоящего аптекаря лекарства готовить весьма опасно, — заметил Пашков.
Иванов вспомнил ступки, банки и сухие растения в комнате старого фельдшера. Что ж, может быть, и сварил себе что-то не впрок. А все прожил за семьдесят…
— А Николай Евсеич одинокий был? — спросил унтер.
— Одинокий, по милости моего папеньки, — кивнул камергер.
— Запретили им жениться?
— Хуже было, говорят. Просил себе в жены девицу дворовую, а покойный батюшка сам на нее внимание обратить изволил. И вместо женитьбы приказал ехать в Москву в фельдшерские ученики. Евсеич повесился было в чулане, так подкараулили, из петли вынули, отпороли и под конвоем в Москву отправили.
— А девушка та? — спросила дрогнувшим голосом Ольга Николаевна, видно впервой слышавшая историю старого фельдшера.
— И она счастливей Евсеича не была, — поморщился камергер. — Сначала в том же чулане на той же веревке вешалась, и те же соглядатаи ее из петли вынули. Потом мой батюшка над ней натешился и в подарок какой-то тетке отослал с условием, чтобы за мужика выдала. А когда Евсеич выучился, то приказал его в рязанском имении безвыездно держать, в котором сам не бывал. Боялся, верно, что подсыплет чего в кушанье.
— Что же вы мне того раньше не рассказали? — упрекнула мужа Ольга Николаевна. — Я бы к старику внимательней была.
— Вы и так ко всем добры, — ответил Пашков. — А ежели я вам все, что знаю про папеньку своего и его подвиги, пересказывать начну, даже только тех слуг касаемое, что сейчас живы, так вы в сих стенах обитать не пожелаете. Пока матушка была жива, он еще воздерживался, а когда скончалась и меня в Пажеский корпус определил, тут уж пошел дым коромыслом…
Анна Яковлевна с удовольствием согласилась на предложенный госпожой Миклашевич домик рядом с дачей, снятой ею в Ульянке. Сначала тревожилась, где муж ее будет столоваться, но полковник зачислил Иванова на довольствие в роту с оплатой по пятаку за день. Правду сказать, и сам унтер не прочь был подсесть к артельному столу рядом с Павлухиным, Крыловым или Тёмкиным. Последний ел за двоих, а все оставался тощ и бледен.
— Ты, Федот, как фараонова корова, — сказал как-то Иванов.
— Все за детство голодное не отъемся, — отозвался писарь.
— Так, сказывают, кантонистам полную солдатскую дачу отпущают, — заметил кто-то из гренадеров.
— Но воруют там в три раза больше, — ответил Тёмкин. — Вы за артельщиками своими присматриваете и, как зарвутся, сейчас смените, а ребята что могут? За все семь лет кантонистских не помню, чтобы досыта ел. И теперь во снах вижу тех мальчишек, с которыми кусок делил, какие у них глаза страшные с голоду да со страху бывали. Коли ад существует, то эконом наш, майор Редькин, там в масле сворованном век кипеть должен…
Если Иванов бывал свободен в воскресенье, то рано утром вместе отправлялись пешком в Ульянку — Тёмкин, как нижний чин, не имел права ездить на извозчике. Идти надо было верст двенадцать, но в хорошую погодку, по холодку от того только польза после маршировки по дворцу унтера и канцелярского сидения писаря. А придя, разделялись: Тёмкин оставался около Анны Яковлевны и Лизаветы «для домашних дел и посылок», как он выражался, а унтер поступал в распоряжение дочки. Они пересекали Петергофское шоссе и уходили, минуя обывательские огороды, версты за две, на безлюдный берег залива, где без конца строили из песка, прутиков и щепочек загоны для скота, крепости, города и деревни, населяя их травками, листиками, камешками, рыли канавы, перекидывали через них мостики. А когда уставали, садились в тени кустов на коврик-половичок, который вместе с запасом съестного и бутылкой молока давала с собой Анна Яковлевна, и смотрели на голубую, сверкающую под солнцем воду залива. По ней ползли в Петербург и обратно, распустив паруса, корабли или дымили высокими трубами пироскафы, которые теперь стали понятнее называть пароходами.
Если девочка задремывала на коврике, он обмахивал ее от мух веткой, а сам вспоминал, как сиживал на похожем берегу в Стрельне с Красовским у окраины солдатского огорода. Мог ли тогда подумать, что станет когда-то на лето свое семейство за город вывозить!.. Слов нет, хорошо тут, красиво, но все-таки жаль, что родные места только осенью видел. Следующий раз в Козловку в начале лета поедет, чтобы жаворонков наслушаться и увидеть, как хлебные поля ветер любовно гладит. Опять один поедет или с Машей, как матушка просила? Для него там родина, а ей каково будет?..
Иногда девочка среди рассказов о собаках и котятах задавала отцу житейские вопросы:
— Я слышала, как Поля-горничная прачке говорила, что ты офицер не настоящий, раз эполетов не носишь. А как же тогда ты бабушку и деда выкупил? Я им так и сказала: «Как же не настоящий, когда двенадцать людей на себя купил?»
— А они что сказали?
— Они сначала-то меня не заметили, я за крыльцом в траве с Белкой играла. А тут и говорят: «Ну, если так, то, знать, эполеты ему в новом чине дадут». Ведь тебя, папаня, произведут еще выше?
— Произведут, доченька, наверное, да еще не скоро.
— Ну, подождем и тогда им твои эполеты покажем.
В эту весну наследник отправился в далекое путешествие по России. В его свите поехал и Жуковский со своим Максимом. От него Тёмкин слышал, что Василий Андреевич надеялся показать своему ученику хоть издали, может, в церкви, ссыльных за 1825 год и упросить ходатайствовать о смягчении их участи.
А государь в середине лета выехал с огромным штабом в Вознесенск, где предстояли небывалые кавалерийские маневры из трехсот шестидесяти эскадронов. Ежели считать по сто человек в эскадроне, то уже тридцать шесть тысяч всадников да конная артиллерия, штабы, обозы — словом, до пятидесяти тысяч людей и коней. Сколько же следует подвезти туда на две недели сбора продовольствия и фуража? И какие нужны поля для маневрирования, если на Марсовом едва тесно строятся двадцать тысяч, две трети которых пехота?
Такие подробности рассказал Иванову, встретясь с ним в Белом зале за день до отъезда, флигель-адъютант Лужин. Он дожидался здесь бумаг, которые составляли в канцелярии коменданта, поэтому собеседники не спеша прохаживались туда и сюда.
— А есть ли от таких маневров, Иван Дмитриевич, польза для войск? — решился спросить Иванов. — Как вспомнишь наши красносельские, то, право, сомнение берет. Или, говорят, теперь государь в аллюрах порядок навел и выкладку облегчил.
— Да, кое в чем от глупостей Константина Павловича отошли, — кивнул Лужин. — Но эти-то маневры все равно не учебную цель преследуют, а всей Европе показать, какая сила у нас и какая выучка. Недаром на них иностранные послы приглашены, которые все генералы, раз государь статских дипломатов не любит. Я-то на войне настоящей не бывал, но подозреваю, что для нее все, что тут покажут, вовсе не нужно… Вот как в жизни случается: в юности о подвигах мечтал, а до тридцати пяти лет пороху не понюхал. К слову, за верное слышал, что князя Александра Ивановича рядовым драгуном в Нижегородский полк переводят, тот самый, куда и Лермонтова-гусара спровадили. Там война настоящая, не то что под Вознесенском. Так ты же, верно, Александра Бестужева-Марлинского у князя не раз видел. Недолго эполеты носил. Давно ли в прапорщики, а третьего дня пропечатано: «Исключить из списков…»
— Неужто, Иван Дмитриевич? Может, в плен чеченцы взяли?
— Да нет, там написано «убит в бою при высадке с флота на мысу Адлер». Так еще одного известного литератора Россия потеряла. Зарубили горцы в лесу. Сегодня кто-то говорил — зарвался вперед с охотниками-солдатами… Так что, знаешь, Александр Иванович, пусть уж лучше маневрами забавляются да Европу сотнями эскадронов пугают, чем в настоящую войну ввязаться… Не тужи, братец, — он хоть отмучился…
Этим же вечером Иванов с Тёмкиным отслужили у Пантелеймона панихиду по трем убиенным болярам Александрам — Грибоедову, Пушкину и Бестужеву. «Неужто же вскоре и четвертый Александр за ними последует?»— с горечью думал Иванов, слушая надрывные песнопения.
В Ульянке, когда Анюта рассказала мужу, как они с Лизаветой плакали, узнав от Андрея Андреевича о гибели Марлинского, унтер не сказал о переводе на Кавказ Одоевского. Но Жандру, когда прогуливались вдвоем, передал разговор с Лужиным.
— Наш Александр тоже весьма даровитый поэт, хотя стихи свои не записывает, — грустно сказал Андрей Андреевич. — И по званию ссыльного ждет его на Кавказе невеселая судьба. Правда, умные люди говорят, что в драгунах убыль меньше, чем в пехоте, в боях то есть. А насчет лихорадок да поносов все роды войск одинаковы… Да, не забыть, получил от предводителя епифанского письмо, в коем просит справку одну для него в Сенате навесть…
— Вот вам за меня забота. Я в их дому епифанском побывал, чтобы благодарить, но в деревню уехавши были.
— То он знает, и забота не велика. В Сенате знакомых много, справку настрочат. Но в заключение он спрашивает, когда собираешься вольную родичам давать, и содействие предлагает.
— С жалованья на пошлины по сему делу уже откладываю, — ответил Иванов, — и в году тридцать девятом туда съезжу.
— Ну, добро. А податные дела свои знаешь? Сколько тебе и куда за них в год платить надлежит?
— Отцу на три года на сей расход деньги оставлены, он считать по-хозяйски умеет, и племянник Михайло грамотный, за тем следит. Полагаю, что себя и меня подвесть не должны…
Легкий на помине Михайло вскоре прислал письмо — просился на Беловодские заводы. Если будет на то дядино согласие, то чтобы выправил увольнительную бумагу, какая положена от помещика. А подати за все три года вперед он сполна внес, и расписка деду сдана. Затем следовало сообщение, что господина Вахрушова обокрал его молодой лакей, снявши с хмельного при укладе ко сну пояс-черес со знатной суммой денег. Произошло это месяц назад в Козловке, куда барин приехал собирать оброк, и сбежавший вор пока не разыскан. Заканчивалось послание отдельной особо старательно выведенной строкой: «А писал сие вашего благородия всепокорный молитвенник псаломщик Иона Смысловский».
— Вот тебе и счастливый чересок! Ай да Диомидка-ракалион! — качал головой Иванов. — Хоть бы не поймали дурака, а то запорют до полусмерти и в солдаты чахотным сдадут. Диомид будто имя, а что такое «ракалион»? Ругательство, верно…
В Ульянке спросил Жандра, как писать увольнительный билет. Андрей Андреевич продиктовал и приложил свою печать с французскими литерами «АI», чуть ее нарочно сдвинув и сказав:
— На первый раз сойдет, а тридцатого августа я тебе русскую печать подарю. Гляди не вздумай сам покупать.
И верно, 30 августа утром рассыльный из Английского магазина на Невском принес на дом пакет в красивой обертке. В нем оказалась коробка с разноцветными сургучами от Варвары Семеновны и сердоликовая печатка с литерами «А. И.» в золотом перстне. Сургуч унтер с Машей после обеда перепробовали на картонке, а надеть кольцо не решился — пусть лежит с сургучами в комоде, не подходит оно к его простецкой руке.
Возвратясь с дачи, Анна Яковлевна занялась поисками новой квартиры. Сыскала светлую и сухую из четырех комнат, во дворе соседнего дома на Мойке. Пока белили, красили и заново оклеивали, пустилась покупать мебель. Все казенное полковник, оказывается, уже приказал «списать» как сломанное, и оно пошло в спальню и Машину комнатку, так что потребовалось купить гостиную, — ей обязательно хотелось с двумя трюмо, раз комната о трех окнах, и для столовой буфет, дюжину стульев и стол. Да еще подержанный рояль с круглой табуреткой. Перевезла мебель, занялась посудой — искала сервизы, обеденный и чайный. Наконец переезжали, вернее, переходили — носили вещи из двора во двор. Конечно, помогал Тёмкин, без которого кровати и диван Иванов затруднился бы нести, а писарь окреп-таки на гренадерских харчах.
В первое воскресенье октября устроили новоселье. Пригласили тех же почетных гостей, что когда-то на свадьбу. Но как все постарели!.. У Андрея Андреевича хоть звезда прибавилась, у полковника — Владимирский крест, но бедным дамам приходилось возмещать годы более пышными туалетами и ожерельями, а на Густаве был новый, отлично завитой парик. Постарели, пожелтели и две мастерицы, добрые и миловидные Феня и Оля, но все приглашенные по-прежнему ласково смотрели на хозяев, не спеша обошли и очень хвалили новую квартиру, ее обстановку и расселись в столовой.
Вечер прошел на славу — душой его был Андрей Андреевич. Он и тосты провозглашал, и дамам любезности говорил, а после обеда за роялем дал целый концерт. Сначала, посадив Машу к себе на колени, двумя ее пальчиками выстукал какую-то польку, так что она разрумянилась и его расцеловала, а потом уже сам лихо сыграл вальс, кадриль и спел смешные куплеты по-русски, по-французски и по-немецки. Потом отсел за небольшой столик с полковником, Густавом и хозяином и за разговором о главной новости — открытии железной дороги до Царского Села — выпили бутылку портвейна. А дамы, раскинув по дивану пышные юбки, делились кулинарными советами, после чего еще раз осматривали мебель и посуду. Наконец все пили чай и около десяти часов отбыли по домам.
Оставшиеся занялись уборкой. Иванов с Тёмкиным расставляли по местам мебель. Девушки и Анна Яковлевна на кухне мыли посуду, Лизавета укладывала спать сонную Машеньку. Притворив к ней в комнату двери, унтер открыл в гостиной форточки и присел на новый диван, когда услышал, что дочь зовет его.
В полутьме не сразу понял, что Маша стоит в своей новой кровати — их старом диванчике, повернутом сиденьем к стене, так что оказалась огражденной тремя решетчатыми бортами. Когда подошел, она обняла его за шею и спросила на ухо:
— А я так научусь играть, как Андрей Андреевич?
— Конечно. Варвара Семеновна еще лучше его играет.
— И поет также?
— Пения ее я не слыхал. Но другие дамы прекрасно, истинно как ангелы поют… А ты хочешь научиться играть?
— Так хочу! Так… Больше всего на свете.
— Скоро отыщем тебе учительницу, и будет к нам ходить.
— Спасибо, папаня, золотой, дорогой, сладкий, справедливый! — залпом выговорила Маша и, чмокнув отца в щеку, нырнула под одеяло.
А еще через час Тёмкин ушел проводить мастериц, Лизавета улеглась в кухне за занавеской, и супруги остались одни.
— Все ли, Санюшка, хорошо было? — спросила Анна Яковлевна.
— Все как следует, — сказал Иванов. — Только одним не доволен — тем, что быстро восемь счастливых лет пролетели. — Он посадил жену рядом и взял за руку. — Рад, что мебели сии тебе нравятся, а я к ним еще не привык. Сижу, будто в гостях… Так ведь еще и к тому не привык, что щетки делать не нужно, время свободное деть некуда. Надо, наверное, другое домашнее занятие придумать. Был бы папенька твой жив, то, право, за игрушки бы взялся — дело самое душевное, ребят радовать.
— И я так же, — созналась Анна Яковлевна. — Без иглы в руках день не настоящий. Ну, моей работы и на троих нас хватит.
Назавтра унтер дежурил, а все его семейство отправилось смотреть на железную дорогу. Кто-то посоветовал Анне Яковлевне встать у Обводного канала и ждать, когда поезд побежит через мост, тут его всего видней и не так страшно. Им повезло: паровик скоро показался, грохоча, распустив из трубы клубы дыма и шибко таща пять сцепленных больших карет с окошечками.
— Оттуда господа смотрели, и нам кто-то платочком помахал, — добавила Маша к рассказу Анны Яковлевны.
— А ты хочешь в такой карете проехать? — спросил отец.
— Разве с тобой… А то он страшный, точно Змей-Горыныч.
— Я даже порадовалась, что вас в Царское на караулы не требуют, — сказала Анна Яковлевна. — Разбежится еще шибче да где-нибудь на повороте и завалится. Или с моста в речку…
— Говорят, ночью о двух фонарях напереду бегает, чисто глаза горят — вот когда страшон, — подала голос Лизавета.
Ее слова все вспомнили вечером, когда зашедший «на огонек» Тёмкин рассказал, что в газете пропечатано, как паровик раздавил заснувшего между рельсами нетрезвого крестьянина и вышел приказ ему ходить только засветло.
— Уж лучше бы боялся, бедняга, — сказала сердобольная Анна Яковлевна, — а то спать видишь где улегся…
А еще через день произошло посещение, показавшее Иванову в новом свете характер его жены.
Идучи из роты домой обедать, унтер, ступив на свою лестницу, услышал голоса двух спускавшихся навстречу женщин и внятный шелест шелковых юбок.
— Нет, какова фуфулыга, гордячка! — шипела одна. — Что вспомнить вздумала!..
— Я же говорила, маменька, чтоб не ходить, раз сами ее отвадили, — отозвался второй голос, вслед за тем зашикавший, видно услышав шаги унтера: — Ш-ш-ш… Молчите!
Через десяток ступеней Иванов разминулся с двумя женщинами в бархатных салопах и шелковых платках, по костюмам — богатыми мещанками, а может, купчихами средней руки. Старшая — толстая, со злобно сощуренными глазами, которыми зыркнула на унтера. Вторая — лет под тридцать, худая, бледная, с опущенным взглядом.
«Кто бы это был? — подумал унтер. — Да, может, и не от нас…»
Когда вошел в прихожую, навстречу ему быстро вышла Анна Яковлевна с раскрасневшимся лицом.
— Встретил? — спросила она. — Родственницы объявились!
— Какие? Неужто с Выборгской? — удивился Иванов.
— Они самые. Прослышали, что ты офицером произведен, что крестьян купил и квартиру барскую сняли, вот и заявились родственную нежность выразить. Но я хотя не ждала их вовсе и поначалу растерялась от дерзости, однако нашлась, как поступить. Салопы не просила сымать, хотя в гостиную провела и присесть пригласила. Отвечала, что — да, офицером пожалован и крепостных купил, раз жалованье высокое положено, а квартиру и каково зажили в ней, сами, мол, видите. Но угощения никакого не предлагала, хотя от новоселья гора печенья и пирожков осталась. Когда же про родственность напомнили, то прямо отрезала, что какое ж родство, раз сами тринадцать лет назад мне, тогда сироте одинокой, объявили, что к вам ходить незачем… Скажи, разве не справедливо я их отвадила?
— Справедливо, да больно круто, — сказал унтер.
— Ах, Санюшка, я иначе не умею: либо всей душой, либо — никак. А обиду я, право, не за себя помню, а что про папеньку да про тетушку посмертно наговаривали. Клевету на покойников беззащитных вовек не прощу.
Иванов молча снимал шляпу, шинель, расстегивал портупею, а жена его, не дождавшись ответа, продолжала:
— Поверь, если бы в бедность впали и за помощью пришли, может, все бы забыла. Так ведь нет! Разодетые, руки в кольцах золотых и хвастают, что дядюшка подряды знатные получает. А я лучше десять нищих накормлю, чем таких лицемерок за наш стол сажать… Дочку-то мне жалко, всегда затурканная была, оттого, видно, в девках осталась.
— Но откуда про нас все узнали? — спросил Иванов.
— От гренадерши какой-то, прозвище не запомнила. Ох, мудрец ты, Санюшка, что в отдельности от ротных дрязг живем… Ну, умывай руки — да за стол. Машенька! Обедать!..
В конце октября Качмарев простудился, перебегая без шинели из Шепелевского на Комендантский, и впервые за командование ротой слег, после чего Иванову чаще пришлось помогать Тёмкину в переписке отпусков и другой черновой работе, которой обычно не гнушался полковник. Унтер посылал командиру поклоны и кухены Аннушкиного изделия через Федота, который ходил к больному с текущими делами и за приказаниями, что передавать в канцелярию министра. Капитан Петух отправился было один раз на доклад к Волконскому, но возвратился черней тучи и, сунув Федоту папку с бумагами, буркнул:
— Князь приказал все срочное секлетарю передавать.
Десятого ноября между сменами своих дежурных Иванов в канцелярии роты строчил списки, на которых потом Тёмкин разметит табель караулов, дежурств и дневальств на неделю. Рядом Федот готовился сочинять ответ на запрос о поведении и нравственности унтер-офицера Георга Етгорда, который сидел тут же. Этот образцовый служака, латыш пятидесяти пяти лет от роду, полгода как подал прошение, что желает перейти из лютеранства в православие. На вопрос удивленного полковника, зачем ему этакое понадобилось — ведь лютеран у нас даже среди высших чинов множество, — Етгорд ответил, что совсем не понимает немецкого языка, на котором говорят здешние пасторы, а латышской церкви в Петербурге нет. Но если бы и была, то, прослужив тридцать пять лет среди русских солдат, он почти забыл свой родной язык и ходит в Конюшенную церковь. После такого объявления рапорт Етгорда пошел по команде, был переслан от обер-священника гвардии в консисторию, и началась переписка, которой и через полгода не предвиделось конца. Роту запрашивали о том, где Етгорд родился, в какой кирхе крещен, потребовали представить метрику. Пришлось гренадеру впервой взять отпуск и ехать под Митаву, где не осталось родственной и даже знакомой души. Потом консистория отнеслась к лютеранскому епископу в Риге, для чего требовалась копия послужного списка Етгорда. Теперь понадобилось свидетельство начальства о его высокой нравственности.
— Я, понятно, Георг Петрович, про вас одно хвалебное отпишу, — говорил Тёмкин, перелистывая вшитые в дело бумаги. — Но они еще что-нибудь придумают, и переписке конца не будет.
— Ты хочешь мне советовать, чтобы я плевал и сказал тебе «брось»? — как всегда неторопливо, заговорил Етгорд. — Однако я того сделать не могу. Заварил кашу, так не говори, что не дюжий. Первое, что я хочу, — чтобы когда помру, то панихиду на понятном языке стали отслуживать. А второе… — Тут латыш немного замялся: — Чтобы мои деньги, скопленные от жалованья и трезвой жизни, не пропали и пенсия тоже, а потому полагаю вступить в свой первый законный брак, но невеста за иноверного идти никак не согласна.
— Вот так бы и сказали сряду. Сия причина, пожалуй, не для казенных бумаг, однако всех сильней, — ответил Федот и, придвинув к себе лист бумаги, спросил: — А давно ли невесту знаете?
— Около десяти лет мы испытание знакомства проходили, пока я сватать решился, — ответил Етгорд, улыбаясь. — Она девица, имеет от роду полных сорок пять лет и пропитание рукоделием промышляет, одеяла и халаты на пуху выстегивает по купеческим домам, как редко кто умеет. В клеточку, в турецкий огурчик и звездочками.
— А кого же, Георг Петрович, в крестные отцы к себе позовешь? — спросил Иванов.
— Уже просил нашего полковника честь оказать, — еще шире заулыбался латыш. — И они обещание давали.
— Ох, легко ли такого младенца его высокоблагородию в купель опущать? — пошутил Федот.
— Я уже знаю про то, что взрослых в купель не спускают, — серьезно возразил Етгорд, — а только повелят разуться и ноги, руки и лоб миррой мажут. Однако так при первом крещении, если мусульманин, но я ведь христианин, то мне и того делать не станут. Все на одной бумаге будет, и полковнику лишь расписаться…
— А ведь когда я командиру про сей запрос докладывал, — вдруг вспомнил Тёмкин, — они вам, Александр Иванович, велели, чтобы нынче к ним побывали. Они уже в кресла перебрались. Виноват! Похвальное свидетельство все из башки выбило!
После очередной смены дежурных Иванов пошел к полковнику. Качмарев действительно сидел перед окном, выходившим на канавку, одетый в крытый серой бумазеей ватный халат, из-под которого торчали войлочные туфли. Побледневшее лицо с отмытыми от фабры седыми усами и баками казалось старее и добрей обычного.
Подставив щеку для поцелуя, он указал на стул напротив:
— Садись и рассказывай, что у тебя дома деется. Про роту я от Тёмкина все знаю по сегодняшнее утро.
— А сейчас бумагу сочиняют про Етгордову нравственность, — сказал унтер.
Качмарев засмеялся:
— Мастера лютеранцы закорючки выдумывать! Кабы татарин в нашу веру переходил, то мигом бы, а из одного христианского толка в другой просится — и полгода мурыжат.
— От него, сознался, невеста того требует, — пояснил унтер.
— Знаю, — кивнул полковник. — Меня возил выбор одобрить, когда в крестные звал. А я все не удосужусь узнать, полагаются ли крестные отцы этаким переходящим или иначе обрядуют.
— Но какова невеста вам показалась?
— В работе своей искусная, хозяйка чистоплотная, но статями и лицом весьма на гусыню схожа. Длинношеяя, корпус весь в зад сошелся, лицом и волосом белая, а нос красноват.
— Ну, с лица воду не пить, — заметил Иванов.
— Небось себе-то красотку высватал, а Етгорду и гусыня хороша, — упрекнул полковник.
— Помилуйте, Егор Григорьевич! Ведь и он сам выбирает, да еще, сказывал, десять лет знакомство водит.
— И то верно. А как твои?
— Маша больно к музыке привержена, от рояля не отогнать, учительница не нахвалится, а мы боимся, не надорвалась бы.
— Тем, что своей охотой делает, не надорвется, — уверенно сказал Качмарев. — Вы от дочки много радостей ждите, раз доброе и смышленое дитя. Я на нее любуюсь, как с Яковлевной к нам зайдут. Может, то даже грех, но всегда ее вспомяну около любимой картины, где богоматерь на скамеечке ребеночком сидит. Знаешь?..
— Испанского художника, кажись?
— Да, Зурбараном звать. Еще только одну картину видел, которая детским ликом мне так душу тронула. Князю нашему спешные бумаги подписывать однажды на дом к зятю господину Дурново на Английскую набережную носил, и там, в приемной дожидаясь, картину видел. Христос свечу над верстаком держит, Иосифу светит, помогает ему. Так сряду по личику видно, что дите в любви и согласии домашнем растет, злобы людской еще не знает, от которой погибнуть ему суждено… — Полковник помолчал, глядя в окно на лоджии Рафаэля, и добавил: — Прямо тебе скажу, Иваныч, что вровень с ротой нашей держат меня здесь картины живописные. Дня не пропущу, чтобы хоть на одну взглянуть. Голландцы тоже комнатные виды мастеровито писали… А у «Снятия со креста» Рембрандта не один час, поди, простоял. Так бережно апостол Иосиф ношу свою горестную по лестнице в объятиях спущает… Или к Андрею Филипповичу Митрохину в мастерскую заверну, где живопись с помощником поновляет. Разве просто с такой службой расстаться, где каждодневно от картин радость получаешь?..
— Вы ведь про отставку еще не думаете? — обеспокоился Иванов.
— До сей болезни не думал, и Настасья Петровна про то речь заводить не решалась. А тут как отлежал в жару неделю, то и давай просить: уходи да уходи. Пенсию мне по болезни полную определят да скоплено еще сколько-то. «Купи домик на Охте, недалече от моей сестрицы, — просит. — Цветы насадим, кур, свинку заведем». Поросят маленьких она страсть любит в корыте мыть, а они копытцами по полу знаешь как славно топочут?.. Будем, говорит, на солнышке греться, не то что в сей квартере, где листка не вывесть. Ведь сюда солнце только летом малость заглянет, а то лоджия вовсе затемняет… Она и сегодня на Охту уехала. Там сестрина соседка именинница, так на пирог звана… А затоскуешь, говорит, по роте да по картинам, то и приедешь, впустят по старой памяти в казарму да в залы…
— А вы что же Настасье Петровне отвечали? — с еще большей тревогой осведомился унтер.
— Домик разрешил присматривать, ежели сестрица его зимой блюсти возьмется, — сказал Качмарев. — На лето туда моей супруге как на дачу переезжать, и мне хоть через день ездить на вечер, в саду цветки из лейки полить аль просто чаю под яблоней выпить, раз казенные дрожки князь за мной письменно утвердил. Конечно, перевоз гривенник в день возьмет, полтора рубля в месяц, так зато в тиши вечерами посидишь… А совсем роту пока оставить жалею. Был бы Лаврентьев — Крот первым по мне старшинством — и то ничего бы, хотя не так видный, но зато обходительный, грамотный, толковый. Ему роту сдать можно. А капитан наш… — Качмарев махнул рукой. — Не знаю, дошло ли до роты через девок наших, а Федоту нонче рассказать позабыл, что третьего дня сами князь меня навестили. Вот тут сидели, кофею чашку выкушали и мне так наказывали: «Лежи, Качмарев, сколько лекаря велят, не спеши на службу. — Я полагаю, что седины мои этакую жалость на них навели. — Но, — велели, — про отставку и думать не моги. Я, — сказали, — крикуна безмозглого, как Лаврентьев 1-й, утвердить командиром роты никак не согласен. В бою да в строю он годен — ни жизни, ни глотки для службы не пожалеет, — а командовать частью разве петушиное дело?..» Прослышал где-то его прозванье… После того и о тебе разговор был…
Полковник сделал паузу, а Иванов разом застыл: «Неужто чем недоволен князь? Будто все шло гладко, но кто ж знает?»
— Ну, чего обмираешь, будто заяц в борозде? — сказал Качмарев, увидев растерянное лицо унтера. — Одно хорошее говорено. Сказали его сиятельство, что раз десять лет Митин фельдфебелем, то пора его в прапорщики произвесть, то есть в подпоручики армии, а кого на его место поставить? Я сряду тебя назвал.
— Ох, увольте, Егор Григорьевич, я вовсе для такой должности не гожусь! — почти перебил полковника Иванов, мигом вспомнивший последний год службы в Конной гвардии. — Мне в самую пору сменным унтером быть, как ноне. И за то вам по гроб благодарен, отчего смог покупку заветную произвесть, а в фельдфебели над всей ротой вовсе не годен. Я за службу в огонь и воду, а от фельдфебелей увольте.
— Стой, стой! — прикрикнул Качмарев. — Что ты и верно, как заяц, уши приложил да ровно ума лишился! Чего испугался?
— Как не испугаться, господин полковник, когда в Конном полку недолго вахмистром пробыл, а вот что от своей неспособности испытал… — И тут Иванов рассказал про уход в отставку Жученкова, свое назначение и слабость с людьми, как ругал и бил его Эссен, навек повредив правый глаз.
— Так выходит, что благодаря сему увечью ты в нашу роту назначен, — возразил полковник, — а следственно, высокий оклад получивши и в унтера быв произведен, смог деньгами разжиться и ту самую заветную покупку произвесть. Разве не так? И разве ты один такой судьбы? Какой гренадер у нас да и офицеры, меня включая, разными начальниками не биты, раз солдатами служили? Не говоря про то, что я еще в отставку не собрался, а значит, тебя всегда подопру. И разве такова наша рота, как прочие части? Много ли за десять лет проступков по службе гренадеры оказали? А домашняя их дрязга все равно на мне останется, ко мне одному бабы жаловаться бегут…
— И старшинство мое унтер-офицерское всего два года, — продолжал Иванов, — совсем как Пилару в Конной гвардии.
— Положим, с тремя еще месяцами, — поправил полковник. — Но в том главное дело, что сам князь твое производство фельдфебелем одобрил, а значит, и государь утвердит. Да ладно, то не раньше рождества будет, а коли такого Лазаря петь станешь, так зачем тебя неволить? Я Сидора Михайлова представлю, — он и рад, поди, новому чину окажется. Однако все же таки ты с Яковлевной про фельдфебельство посоветовался бы.
— Верьте, господин полковник, что в сем на меня положится, раз готова была за конногвардейского унтера пойтить.
— Ну, как знаешь, упрямец! — махнул рукой Качмарев.
Полковник был прав. От дочки Ивановым было много радости.
Хотя Анна Яковлевна часто толковала, что девочка надорвется игрой на фортепьяно, однако сейчас для родителей не было большего удовольствия, как слушать ее игру.
За два месяца Маша выучилась тому, что, по словам учительницы, другие девочки постигали в полгода, и уже разыгрывала коротенькие пьески. Но при этом так кряхтела и сопела, что Анна Яковлевна сказала однажды:
— Ты, Машенька, этак и музыку свою пыхтеньем заглушишь.
— Так ведь я для того пыхчу, чтобы пальцев хватило, — ответила Маша, показывая ладошками вперед свои маленькие руки. — Когда подрастут, то и буду, как Алиса Францевна, тихо дышать. Зато, видите, какую я новую песню выучила, завтра придет, а я без нот ее…
Все прогулки с отцом Маша начинала с того, что вела его к Круглому рынку кормить голубей и воробьев. Притом, кроме хлебных крошек, которые давала Анна Яковлевна, покупали в мелочной еще пшена, и Маша уверяла, что птицы узнают их и летят навстречу. А сколько слез было, когда увидела мертвого голубя, лежащего, подвернув голову, под водосточной трубой, хотя отец толковал ей, что сам умер от какой-нибудь болезни и свалился с крыши.
— Давай, папаня, похороним его как нужно, — просила Маша, когда отец утирал ей лицо своим платком. — Завернем в бумагу, снесем в Летний сад и там сделаем похороны.
Едва убедил ее, что сторожа не позволят им там копать ямку, и сунул пятак дворнику, чтобы скорей убрал мертвую птицу.
Другой раз, в Аптекарском переулке, встретили собаку, бежавшую от рынка с отрубленной передней лапой. Собака ковыляла, истекая кровью, пятнавшей накануне выпавший снег. Она уже не выла, а только чуть слышно скулила и, к радости Иванова, свернула в одни из ворот Павловских казарм, прежде чем ее увидела Маша. Как объяснить жалостливому ребенку, что голодная собака сунулась на рынке стащить брошенный шматок мяса и за это злобный мясник ударил ее топором? Да, верно, не один, а с приятелем, который держал несчастную, чтобы верней ее изувечить…
Когда подрастет, он расскажет ей о Карпе Васильевиче Варламове, о его добром сердце, обидах и тяжком конце. Эх, что ей самой придется еще испытать и увидеть? Пока-то закрывать, заслонять своим телом от мира, где за кусок валящей требухи звери в образе человечьем калечат голодную тварь… А дальше что?.. Как не вспомнить, что чем выше чин родителя, тем дочке дорога спокойней и шире. Какая у него теперь другая задача важнее осталась? Своих на волю переписать? На то каждую треть деньги откладываются. Оно хотя через год-другой, а сделается… Так неужто фельдфебельское место взять, чтоб еще выше на ступеньку подняться?..
Анне Яковлевне он не передавал разговора с Качмаревым. Знал, что, помня рассказы о прошлом, будет отсоветовать, скажет, что нонешнего чина и жалованья вполне довольно. Нет, такие дела надо решать самому. Ведь полковник хворать начал, еще заболеет и в отставку уйдет, а на место его вдруг кто похуже Лаврентия 1-го со стороны найдется. Как с тем сладишь? Ведь и сейчас имеет право на две трети жалованья в пенсию — на пятьсот рублей в год… Но если фельдфебелем хоть года два прослужишь, то на семьсот пятьдесят выйдешь…
20
Только в начале декабря Качмарев пришел в канцелярию, и в тот же день начали подбирать с Тёмкиным бумаги к докладу князю.
— Так начисто отказываешься от повышения? — спросил он Иванова. — Ведь без фельдфебельства с прапора вовек не сойдешь.
— Увольте, Егор Григорьевич, — поторопился сказать унтер.
— Я-то князю доложу, что по характеру на должность не годен, а вот Анюта не станет ли мне пенять, что чином обошел?
— Не станет, господин полковник. Ведь она за унтера Конной гвардии пойти хотела.
— Слышал уже. А Машу куда учиться отдадите?
— В пансион немецкий, с музыканьшей, слышал, сговаривались. Куда ж иначе, раз в бытность нижним чином родилась?
— А все бы можно походатайствовать, когда фельдфебелем станешь, то бишь подпоручиком армии. В Павловском институте, сам знаешь, уже три дочери наших унтеров обучаются. Маслову Полю прошлый год определили, хотя в канун его унтерства родилась. Ежели князь государю доложит, так и бывает, помяни мое слово. А там и музыка, и языки иностранные, и обхождение.
— Так ведь мы с Анютой люди простые… — из последних сил возразил Иванов. — Дайте неделю подумать, Егор Григорьевич.
— Думать тебе три дня. В четверг мы с Тёмкиным представление составим к наградам на рождество. Его в старшие писаря князь обещался за почерк да за грамотность произвесть…
В этот вечер Иванов рассказал жене о разговоре с полковником и о своем решении стать фельдфебелем, раз Маше оттого может открыться лучшая дорога.
— И мне полковница тоже толковала, вчера у рынка встретившись, — ответила Анна Яковлевна. — Однако я, Санюшка, признаться, боюсь, не стала бы Маша нас, малограмотных, стыдиться, барышней воспитавшись. Или доброе сердце свое возьмет?
— Не должна бы, как твоя дочка, — сказал Иванов. — Но разве лучше, если когда-то хоть про себя нас упрекнет, что ей дорогу не угладили, сами немало нужды натерпевшись? А так всегда дочерью офицера будет числиться и приданое ей подкопим…
Через несколько дней, вернувшись с доклада от министра двора, Качмарев сказал унтеру:
— Считай себя к рождеству фельдфебелем. И насчет Маши я заикнулся.
— А они что?
— Бровями повел да молвил: «Придет возраст, тогда и доложить». А сие значит, что как станет семь лет, то не откажет.
— Покорно благодарю, Егор Григорьевич, — ответил Иванов. — Но ежели произведут, то где мне двадцать пятого декабря на параде стоять: за фельдфебеля или за унтера? О том надо капитана Лаврентьева упредить, раз они еще раза три репетицию сделают.
— Правильно сообразил, — одобрил полковник. — На параде должны уже по-новому встать, раз производство двадцать четвертого выйдет. Я Лаврентьеву про то скажу и Митину, чтобы эполеты покупал. А еще вот что тебе сообщу. Настасья Петровна домик на Охте сторговала и вчера купчую совершила. Да таков просторный, в шесть комнат, что хочет Яковлевну с Машей к нам на лето звать. А мы с тобой на казенных дрожках туда да сюда, трюх-трюх…
«Надо Анюте нынче все пересказать, чтобы с Жандрами не сговаривалась, — подумал Иванов. — Может, на Охте и не хуже, хотя залива нет. Но зато зверье домашнее поближе — стадо коров настоящее увидит, недаром с Охты молоко возят. А щенков да цыплят, поди, хоть отбавляй… Только как же с музыкой? У Варвары Семеновны рояль на даче есть, на котором теперь и Маша бы играла, а на Охте?.. Так ведь добыл же когда-то старый Никита князю рояль в захолустном Невеле. Неужто я дочке здесь не найду?..»
…Утром 17 декабря Иванов принял дежурство по личным комнатам царской семьи. Когда проходил с первой сменой через Петровский и Фельдмаршальский, почувствовал запах, будто от печеного картофеля. Шли на дежурство в сюртуках, и хотя строем, но чувствовали себя вольно. Поэтому унтер спросил шедшего рядом Крылова:
— Откуда тут кушаньем несет? Раньше никогда не бывало.
— И вчерась отзывало тем же духом, — ответил гренадер. — Должно, в аптеке в подвале что варят да в щели где-то проходит.
— Я вчера в наряде не стоял, — сказал Иванов. — Только на аптекарский запах не схоже.
— Будто где тлеет сухая лучина, — негромко подал сзади голос Павлухин. — Трубочистов нераденье тому причина.
Обратно пошел, как обычно принято, южным фасадом через комнаты покойной Марии Федоровны и подумал, что весной, когда двор переедет в Царское, надо снова показать Маше фарфоровых китайцев, которые сейчас провожали его, кивая головами. Теперь лучше их рассмотрит и прислушается, как славно ладошками о колени звякают. Что цыплят да утят любит, оно хорошо, но пусть-ка Тёмкин ей про китайцев почитает: где ихняя страна, отчего у мужчин прически девичьи и у всех глаза раскосые.
Когда вел вторую смену, дымный запах в Фельдмаршальском совсем пропал. Может, оттого, что через настежь открытые двери с Иорданской лестницы тянуло холодом из нижних сеней.
Как всегда, пробежал глазами по присевшим здесь свободным кирасирам конногвардейского караула. Никого знакомого — всё новые лица. Только одного офицера узнал — поручика барона Мирбаха. Опять против устава у дверей флигель-адъютантской болтает с ротмистром Лужиным, который, значит, нынче дежурный. Вот бы государь сейчас вошел, что бы барон сделал? Бегом в ботфортах и лосинах через весь зал к строю разве поспеешь?.. И не мудрено, что ни одного знакомого кирасира, — ведь десятый год в здешней роте служит. А форма дворцовая конногвардейская все прежняя, проклятущая, как была в памятный день наводнения… «Какой я счастливец, что Анюту свою нашел!..»
Когда шел с третьей сменой, то в Фельдмаршальском пришлось поторопиться — с Иорданской вводили партию рекрутов, которых государь и великий князь будут разбивать по полкам в Гербовом зале. А когда пошел в следующий раз, эта царская забава уже кончилась, и два скорохода сновали по залу с дымящими курильницами, а в Фельдмаршальском зажгли уже одну из трех люстр, ту, что ближе к длиннющей банкетке караула.
«Может, и давешний запах от курений этих лоботрясов шел? — подумал Иванов. — Хотя Крылов говорил, что вчера его слышал, а скороходы недавний рекрутский дух из дворца гонят».
В царских комнатах было тихо. Вошедший в Темный коридор с Салтыковской лестницы Лужин сказал, что царь с царицей, наследником и министром двора только что уехали в Большой театр.
— Как пойдешь обратно, то заверни ко мне, посидим в дежурке, поговорим, — пригласил он Иванова.
Из выходивших во двор детских комнат доносились в Темный коридор высокие голоса — все три девочки и младшие великие князья пели что-то хором по-иностранному под фортепьяно. Потом все разом засмеялись, — должно быть, спели что-то не так…
«А у нас Маша все одна. Разве с Лизой что споет под свою музыку. Но ведь та уже девушка взрослая стала, — подумал унтер. — Вот и худо, когда одно дите в семье».
Назад повел смену Светлым коридором, чтобы в Фельдмаршальском отпустить гренадер, а самому свернуть в дежурную к Лужину.
В зале снова явственно пахло дымом. Под средней люстрой стоял командир 2-й пожарной роты капитан Шепетов и, задрав покрасневшее от натуги лицо, смотрел на хоры над стеной, смежной с Петровским залом. Он был в сюртуке с эполетами, при сабле и в фуражке, должно быть, как обходил дворец. Рядом топтался денщик и, держа в руках шарф и шляпу, докладывал:
— Барыня вашему благородию надеть велят на случай, ежели государь встретятся.
Не отрывая взгляда от хоров, капитан приподнял руки, и денщик опоясал его шарфом. Потом снял со своего начальника фуражку и сунул ему под локоть шляпу, которая сейчас не удержалась бы на капитанской голове. В это время из Петровского к командиру, печатая шаг, подошел пожарный унтер и выкрикнул:
— Так что, ваше благородие, по Комендантской второй наряд на чердаки побег.
— Ладно! — отмахнулся капитан и крикнул на хоры: — Ну, заснул, что ли, Киткин? Чего там видишь?
— Как есть ничего, ваше благородие! Только что дымок здесь погуще над дверью, — свесился через перила хоров пожарный солдат.
Когда задержавшийся около капитана Иванов уже двинулся своим путем, с площадки Иорданского подъезда вбежал младший пожарный офицер поручик Корнев и доложил:
— Господин капитан! Арестованные водворены на гауптвахту.
— Да ну их! Двух трубников с подручными сюда, на краны! — отозвался приказом Шепетов. — Да живо! Мигом!..
Ротмистер Лужин стоя раскуривал трубку и пригласил:
— Садись на диван, Александр Иванович.
— А вы чего же, Иван Дмитриевич, в театр не поехали? — спросил унтер.
— Я этот балет уже с женой смотрел и князю сказал, что голова болит. Оно и правда, но от здешнего дыму, пожалуй, еще пуще разболится. В горле так першит, будто не во дворце, а в коптильне находимся. Пробую, авось трубкой перебьет.
— Там пожарные офицеры командуют.
— Давно пора им прочухаться, раз лакеи говорят, что третий день гарью пахнет, — сказал Лужин, усаживаясь в кресло. — Давеча мне капитан рассказывал, как полчаса назад в подвале тлеющую рогожу нашли, которой отдушину около аптечного очага затыкали, и трех мужиков-дровоносов, около спать прилегших, арестовали. Хороша чистота в аптеке, раз около варки лекарств мужики ночуют! Рогожу водой залили, дровоносов — на гауптвахту, а дыму все больше, кажись. Сейчас на крышу побежали, оттуда в дымовые трубы воду льют… Э, черт, не тянется, и голове еще хуже… — Он поставил трубку на подоконник: — Ну как? Тут будем сидеть или посмотрим, что там деется?
— Пойдемте поглядим, — встал Иванов.
Они вышли в зал в те минуты, когда по команде капитана Шепетова пожарный унтер с ломом подступил к середине стены между дверями в Министерский коридор и в Петровский зал. Здесь, обрамленная нарядными пилястрами, сверкала зеркалами в белых переплетах двустворчатая фальшивая дверь с золочеными ручками. Из-под нее густыми струйками непрерывно бежал дым.
Двое пожарных с медными трубами в руках стояли наготове против двери. От них через зал тянулись рукава к кранам, обычно скрытым дверями на площадку Иорданской лестницы, и около этих кранов застыли еще два пожарных, готовых по команде их открыть.
— Ты, Стёпин, легонько пошевели ее снизу, раз не отворяется, а потом на ручки наляг, — приказывал капитан. — А вы, ребята, — он обернулся к стоявшим у кранов, — как дверь отворится, сряду пущайте воду. Ну, Стёпин, давай!
Пожарный налег на лом, уставив его в середину той щели, из которой непрерывно шел дым. Дверь не подалась. Повертел и подергал за ручки — все так же. Тогда, подняв лом обеими руками, он ударил им в прежнее место…
И вдруг высокая дверь целиком рухнула в зал со звоном разбитых зеркал, сбив с ног и придавив Стёпина.
На миг открылся черный, дымный, с отсветами тлеющего дерева широкий проем. Но только на миг! Гулко ухнув, он весь разом залился ярким пламенем.
— Давай воду! — скомандовал капитан Шепетов, и две струи из брандспойтов ударили в пламя.
Шипение и клубы пара в тех местах, куда лилась вода…
Но что могли сделать две струи воды с огнем, который, видно, охватил всю внутренность деревянной фальшивой стены длиной восемь и высотой в пять сажен, заштукатуренную только с внешней стороны, из Фельдмаршальского зала?..
Иванов с подбежавшими от кранов пожарными приподняли упавшую дверь. Раскаленная, местами обуглившаяся внутренняя сторона ее жгла руки. Бесчувственного Стёпина оттащили к стене.
— Давай еще трубы! Раскатывай рукава! — кричал Шепетов.
А огонь уже показался на карнизе под хорами, как живой побежал по нему и вдруг от загоревшейся балюстрады перескочил на самую большую среднюю люстру, на которой уже плавились от жара восковые свечи и дымились обручи с подсвечниками, видно, деревянные под левкасом и позолотой. Лопнул и свернулся живописный портрет фельдмаршала Дибича рядом с рухнувшей дверью, открыв горящую крестовину подрамника и доски за ней.
Оставив ушибленного товарища, пожарные бросились исполнять команду Шепетова. Подхватив бесчувственного Стёпина со спины под мышки и пятясь, Иванов волоком втащил его в Министерский коридор, где с помощью подбежавшего лакея положил на ближнюю банкетку.
— Ничего, кажись, живой, — забормотал тот, очнувшись. — Эк она грохнула… Голову зашибла…
Из флигель-адъютантской выбежал Лужин. Он держал на руке шинель и шляпу, а под мышкой — журнал дежурств.
— Государю нарочного послать! — крикнул он, устремляясь в Фельдмаршальский зал, из которого в коридор валил дым.
«И мне надо к постам», — подумал Иванов и бросился следом.
Прикрывая голову руками, он в зале сразу взял вправо. Теперь вся стена до двери в Петровский пылала ярким пламенем. Четыре струи из брандспойтов заставляли огонь местами исчезнуть, но он все равно растекался все шире и выше. Дымилась дверь в Петровский, весь потолок застлало дымом. С хор падали обгорелые балясины перил. Средняя люстра догорала — на закоптелых цепочках качался проволочный остов. Кирасиры караула стояли вдоль стены у окон на большой двор, кашляли и жмурили глаза, которые ел дым. Когда Иванов догнал ротмистра в Светлом коридоре, тот приказал:
— Пошли в свою роту, чтобы полковнику доложили и все свободные шли мебель выносить из ближних залов.
— Думаете, не отстоят пожарные дворца? — спросил Иванов.
— Видел же? Горит, как свеча, несмотря на их поливку.
Иванов из Ротонды послал в роту дежурного и, оставшись один, подумал: «До смены добрый час. Надо через царицыну половину опять к пожару бежать. Ведь как в Петровский огонь прорвется, там вся ниша за портретом из дерева вязана. А за тем местом, совсем рядом, — конный портрет покойного государя… Вытащу из чулана лестницу да стану с кем-нибудь ближние портреты из рам вынимать…»
Он бежал рысцой по знакомым залам, освещенным отблеском огня из Фельдмаршальского, и думал: «Неужто всему огромному дворцу пропасть из-за одной фальшивой стенки, что возвели три года назад?.. Как пожарные офицеры пропустили, когда ее строили, что близко дымоходы остались, откуда в щели искры полетят и сухое дерево этак займется… Да нет, две роты с баком в четыре тысячи ведер остановят огонь, хоть, может, и не сряду…»
На площадке Комендантской лестницы закатывалась, вскрикивала, сидя на стуле, старая барыня, видно из фрейлин, только что услыхавших про пожар. Около нее суетились две горничные с флаконами и платками. Мимо них вниз бежали с узлами и баулами какие-то женщины. Им навстречу, расталкивая, поднимались пожарные с трубами и рукавами. У запертых дверей церкви четверо гренадеров из дежурных по парадным залам прислоняли к стене большую картину, в которой Иванов узнал «Петра со Славой».
— Пойдем, Александр Иванович, из Петровского серебряные торчары носить! — крикнул один из гренадеров.
Вытащили втроем стремянку из чулана, бегом отнесли в галерею, к новому, недавно поставленному красивому портрету царя Александра и побежали в Петровский. Тут над стеной, обращенной в Фельдмаршальский, уже горел потолок. Пламя будто текло к середине зала. Трон и торшеры выносили лакеи и гренадеры, среди которых Иванов увидел Етгорда и, ухватив за рукав, вывел в Гербовый.
— Там и без тебя справятся, идем в галерею. Ты человек бережный. Надо портреты вынимать, сюда сейчас пламя прорвется.
— А приказ на то есть? Не взыщут потом? — спросил Етгорд.
— Сейчас приказа ждать не приходится. Если что, я в ответе, — подтолкнул его в галерею Иванов. — Вынимай вот как: оттяни сбоку кнопку, рама отворится, будто шкапчик, а там завертыши… Понял? И ставь рядом к стенке… Вот тебе лестница для верхних, а я себе вторую принесу.
На пороге Предцерковной столкнулся с гренадерами, бежавшими из казармы, и задержал шестерых, которым приказал вынимать большие портреты, для чего приспособили вторую лестницу. Вынутые относили в конец галереи, к Предцерковной. Старшим тут назначил Крылова, а сам вернулся к Етгорду, стал принимать портреты, которые тот проворно снимал из верхних рядов.
— А не спутают потом, который кто? — спросил латыш.
— Разберут, если вынесем, а коль оставим, то сгорят и с именами. Давай, давай, Егорушка, не сомневайся…
Набежали еще гренадеры, которых поставил вынимать из рам портреты нижних рядов. За ними пришел полковник Качмарев.
— Кто велел галерею разбирать? — спросил он.
— Я, господин полковник, — отозвался Иванов. — В Петровской ротонда за портретом деревянная, как раз сюда прилегает, — он указал на угол галереи. — Вот-вот пламя пробьется.
И, подтверждая его слова, из-за балдахина над опустевшей рамой портрета царя Александра показались струйки дыма.
— Ну, хорошо, что распорядился, — похвалил Качмарев. — Я еще тебе людей подбавлю… А вы, братцы, лёгко портреты берите, глядите, чтоб не задеть, не царапнуть.
Полковник пошел было прочь, но Иванов догнал его:
— Егор Григорьевич! Как тушение идет? Неужто воды с чердака на заливку мало?
— Хватило бы с лихвой, да кранов всего четыре в суседстве — все равно, что плевками костер тушить, — отвечал Качмарев, моргая слезящимися глазами. — Слыхать, будто на чердаки уж огонь прошел, на стропила смоленые, что сто лет стоят. Где ж их залить, ежели корень пожара упущен?
— А я еще дежурных в собственных комнатах не сменил, — вспомнил Иванов.
— Ладно, я сейчас побываю. За счастье сочтут там стоять.
Качмарев кивнул и потрусил в сторону Предцерковной.
Подернутые дымом стены галереи стали похожи на пчелиные соты. Вся половина, в которой недавно красовались три всадника, чернела рядами опустевших рам. Уже вынуты портреты Кутузова и Константина, так же как окружавших их генералов. Етгорд с подручными передвинул лестницу к портрету Барклая. Иванов сделал то же, чтобы добраться до Веллингтона… Ох, как надо спешить! Дым валил все гуще, уже застлал бархатный балдахин, ест глаза, перехватывает дыхание.
Откуда-то вывернулся Павлухин и забормотал:
— И не знаю, Савелий, — ответил унтер, представляя, какая суета сейчас на Комендантском. — Пробегись-ка до двери Аполлонова. Упреди тамошний пост, что сейчас понесем.
Он вновь взялся было за ступеньки лестницы перед Веллингтоном, когда из Предцерковной показался царь во главе толпы офицеров и солдат Преображенского полка.
«Наконец-то соседей кликнули», — подумал унтер, вытягиваясь перед императором.
— Вольно! Продолжать работу! Сейчас к вам вернусь! — крикнул Николай и прошел в Гербовый зал.
Иванов едва успел отереть платком потное лицо и особенно слезившийся правый глаз, когда царь снова показался в дверях и, остановясь около унтера, спросил:
— Куда носить собираетесь?
— Полагал, ваше императорское величество, чтобы толчеи на лестнице избечь, через Аполлонов зал в Эрмитажную галерею вынесть.
— Что ж, дело. Спасибо за догадку. Однако торопитесь. Я сейчас прикажу обе двери в Эрмитаж кирпичом закладывать и переход из Половины прусского короля разрушить. Но пока кирпич понесут, пока состав разводят… Возьми преображенцев моим именем сколько надо на помощь. Да только бережно, ребята, бережно…
Царь ушел, как всегда прямой, на вид спокойный, с театральным биноклем в руке, кажись, один из всех здесь не ускоривший шага, а Иванов кликнул два десятка преображенцев и снарядил первый «поход»— каждому дал по два портрета под каждую руку. Большие оставил на второй раз, когда увидит, куда ставить в Эрмитаже.
В Георгиевском было светло из окон, выходивших на флигель-адъютантскую и соседние с нею комнаты канцелярии министра двора, за которыми полыхало пламя. Навстречу бежал Павлухин.
— Куда несете? Не пущает! — закричал он. — Как уговаривал дурака, а не пущает.
— Разве не наш там стоит? — спросил Иванов.
— То и дело, что лакей, белесая харя. Не велено, говорит, никого пущать и дверь наглухо замкнул. Хотел его по уху, да увернулся.
— Откроет государевым именем. Сам велел туда несть! — сказал Иванов. — А ты беги в галерею, помогай там да большие портреты хоть сюда, в Георгиевский, пока переправь.
Красного дерева высокая глухая дверь, ведшая в Эрмитажную галерею, была закрыта. Иванов повертел золоченую ручку-щеколду — не отворилась, заперта на ключ. Ударил несколько раз кулаком — никакого ответа. Вспомнил, что здесь две глухие двери, одна за другой на толщину стены. Видно, заперты обе, сколько ни стучи, не отворят… Что за «белесая харя»? Неужто Мурашкин?.. Но что делать? Надо скорей решаться. Тут, в Аполлоновом зале, как в мышеловке. И сам не выпрыгнешь и портреты загубишь. Значит, надо назад бегом и через Комендантскую лестницу. Но там из фрейлинских квартир, с чердаков, из церкви, из Статс-дамской, из комнат прусского короля мебель и все прочее тащат…
Он повернулся было к солдатам, но тут в комнату вбежал старый реставратор картинной галереи Митрохин. Он держал под руками две небольшие картины из Статс-дамской, а за ним четыре придворных лакея несли портрет «Петра со Славой», один из углов которого был порван и свисал лоскутом.
— Почему не входите, господин Иванов? — спросил, едва переводя дух, Митрохин.
— Заперто, и на стук не отвечает, — отозвался унтер. — А государь император мне приказали через сию дверь портреты в Эрмитаж внести, раз по Комендантской мебели и прочее носят.
Высокий, тощий Митрохин рванул дверь, застучал по ней кулаками, потом повернулся и стал бить каблуком.
— Дозвольте, Андрей Филиппович, — выступил вперед один из лакеев, доставая связку ключей. — Будто один у меня подходящий.
Он попробовал ключ, за ним другой и распахнул дверь. Митрохин бешено застучал каблуком во вторую, и ее тотчас открыл бледный, с перекошенным лицом Мурашкин, очевидно ждавший увидеть дворцовых гренадер.
— Ты что же, болван, баранье рыло?! — накинулся на него Митрохин. — Задушить нас там задумал?
— Так вы же сами… — бормотал, отступая, Мурашкин.
— Что? Что я сам, дубина? — кричал Митрохин. — Я тебе велел мебели не впускать, чтобы галерею не загромоздили. Или вздумал с гренадерами нынче счеты сводить? Погоди, я с тобой разберусь, душегубец!.. Господин Иванов, ставьте портреты по стене во второй галерее.
— Мы лучше скорей, Андрей Филиппович, за остальными побежим. Только не дайте ироду этому дверь снова закрыть…
— Ступайте. Да прихватите лестницу. Жалко здешнюю люстру бросать. Французская, две тысячи на моей памяти плочено… Эй, братцы лакеи, вносите портреты, и за Аполлона возьмемся…
Когда Иванов со своей командой вбежал в галерею, она была полна густого дыма. Сквозь него просвечивал огонь на потолке в том конце, где недавно были конные портреты.
Из дыма вынырнула фигура Етгорда.
— Всё поснимали! — доложил он, жмурясь и кашляя.
— Так несите скорей в Аполлонов. Да лестницы прихватите.
— Одну преображенцам отдал в церковь — иконы снимать, — прохрипел Етгорд. — Отнять прикажешь?
— Не надо. Еще в чулане добуду. Павлухин! Бежим, помоги.
Достали лестницу, вернулись в галерею и, пригибаясь, осмотрели, все ли портреты вынесены. Павлухин потащил стремянку в Аполлонов, уже не боясь царапать паркет, а Иванов закрыл двери в галерею — все меньше дыма пока будет в Георгиевском.
Отойдя, обернулся на прилегавшую к галерее часть потолка. Сейчас и сюда прорвется пламя. Вон уже стал чернеть угол. Значит, над ним стропила тлеют, а то и горят. Слышно, как наверху что-то воет, грохочет… Ну и щиплет же больной глаз — память проклятого Эссена! Здоровый пока только слезится. Но голова трещит от дыма, которого наглотался… Истинно как в аду — дым и пламя бегут по пятам, будто преследует грешников геенна огненная, чтобы жечь их вечным огнем…
Из Аполлонова зала, куда Иванов поспешно закрыл обе двери, выносили последние портреты. Статуя Аполлона с пьедесталом уже исчезла. Павлухин с Етгордом, стоя на двух стремянках, разбирали люстру, передавая вниз ее хрустальные части. Несколько преображенцев и лакеев стояли около.
— Уходите, ребята, кто не нужен. Вот ты, и ты, и ты, и ты, — приказал Иванов. — Отдышитесь на улице да с Комендантского или с Собственного подъездов беритесь вещи таскать.
— А ваше благородие что же? — спросил один из солдат.
— Я сейчас за вами, только люстру до конца при мне снимут.
— Раствор принесли, дверь начинают закладывать, — сказал, подходя, Митрохин. — Я велел сначала одну половину. Или бросить люстру, раз возни с ней столько?
— Нет, Андрей Филиппович, один обруч с подвесками остался.
Вот и его, бережно сняв, вынесли в Эрмитаж. Иванов, Павлухин, Етгорд и последний преображенец были уже около двери, за которой споро работали два каменщика, когда услышали перебранку Митрохина с кем-то, и навстречу через кирпичи перескочил капитан Лаврентьев. Видно, в последние минуты прорвался переходом от Комнат прусского короля, а до того побывал на пожаре — мундир весь осыпан кирпичной пылью, рукав разорван у плеча, руки и лицо в копоти.
— А серебряный трон где? — закричал он, потрясая кулаками. — Аль не ваше дело? Одни картинки на уме!.. — и бросился к двери в Георгиевский зал.
Когда распахнул ее, навстречу густыми клубами хлынул дым. Стал отчетливей слышен с чердака глухой вой пламени и грохот рушившихся стропил. Преображенец побежал за капитаном. Иванов, Етгорд и Павлухин тоже подступили к двери: ведь и правда — экой стыд! — про трон-то забыли!..
— Дым бородинский легше был… — прохрипел латыш.
А Павлухин бормотал:
— Молчи, пустомеля! — с сердцем крикнул Иванов. — Молись, чтобы живыми отсюда вышли!
Лаврентьев и преображенец вынырнули из огня, неся трон.
— Скамейку! — жмурясь и тряся головой, выкрикнул капитан. — Скамейку подножную возьмите, пни осиновые!..
Иванов бросился вперед, Етгорд схватил его за рукав:
— Куда? Она ж деревянная!.. Настоящая в чистку взята!..
Но унтер вырвался и побежал к тому месту, где только что сквозь наплывы дыма мелькнули ступеньки тронного возвышения. Вовсе перехватило дыхание, сами закрылись глаза от острой боли. Шарил руками, ища скамейку. Вот она наконец. И верно, по весу деревянная. Поднялся на ноги, протянул руку вперед, ища стену, чтоб по ней дойти до двери… Пусто… Неужто не туда повернулся в дыму?..
— Иваныч? Где ты? — раздался где-то близко голос Павлухина. — Загубил нас чертов Петух!..
И тут грохнуло наверху, засвистело, ухнуло рядом, осыпав горящими углями, головешками. Что-то ударило в спину и повалило. Почувствовал нестерпимый жар между лопаток. Рванулся вбок, но дымом начисто перехватило дыхание.
— Машенька, Анюта! Матерь божия, заступи их…
Эпилог
Весной 1949 года, просматривая в Центральном историческом архиве материалы, связанные с пожаром Зимнего дворца, выгоревшего дотла 17–19 декабря 1837 года, я встретил дело, озаглавленное «О выдаче пособий и пенсий вдовам погибших…». Вот один из составляющих его документов:
«Его сиятельству министру Императорского двора генерал-адъютанту генералу от инфантерии князю Волконскому.
Ваше сиятельство, милостивый начальник!
Покойный муж мой, служивший в роте дворцовых гренадер унтер-офицером в чине армии прапорщика Александр Иванов во время бывшего 17 декабря протекшего года в Зимнем дворце пожара погиб, оставя при мне дочь Марию от роду 6 лет.
Имея в помещичьем владении родного отца своего с матерью, двух братьев с их женами и детьми сих последних, а также сестру, всего же 12 душ мужеска и женска пола, и желая облегчить участь означенных родных своих, муж мой многие годы в свободное от службы время занимался различными ремеслами и не дозволял себе и мне с дочерью нашей малейших излишних расходов, вследствие чего смог приобресть всех вышеперечтенных родственников покупкою с принадлежащими им одиннадцатью десятинами земли и постройками у помещика Вахрушова за четыре тысячи рублей государственными ассигнациями, на что и совершена была 28 октября 1836 года купчая крепость в Тульской палате Гражданского суда с тем, чтобы впоследствии отпустить всех их на волю, но неожиданная смерть воспрепятствовала сие довершить. Намереваясь исполнить таковое его и вместе собственное свое желание, я в теперешнем состоянии не имею к тому никаких денежных средств, ибо муж мой на означенную покупку издержал все наши сбережения…»
Далее в обычной для тогдашних канцеляристов столь же длинной фразе излагалась просьба «повергнуть к высочайшим стопам» просьбу вдовы «даровать поименованным выше крепостным людям свободу без оплаты сего акта гербовым сбором, а также иными видами казенного обложения и предоставить им право избрать род жизни, каковой пожелает, или перечислить в ведомство казенных крестьян».
Под последней строкой выведено, как и все прошение, удивительно четким и красивым почерком:
«Вдова унтер-офицера роты дворцовых гренадер Иванова, Анна Яковлевна дочь, а за малой ее грамотностью прошение писал и по просьбе ее расписался оной роты писарь Федот Тёмкин».
А на первой странице, наверху, мелкими старомодными литерами:
«Государь император соизволил приказать означенных 12 душ беспошлинно переписать в сословие свободных хлебопашцев, а вдове прапорщика Иванова с дочерью назначить пенсию. Министр двора генерал-адъютант князь Волконский. 10 февраля 1838 года».
Ранее этого документа к делу подшита копия упомянутой в нем купчей крепости, а также краткая справка о службе Александра Иванова, из которой явствует его возраст, боевые награды, служба до дворцовой роты в Конной гвардии, рост — 2 аршина 95/8[82] вершка оклад жалованья, который получал, и что дочери его Марии было в декабре 1837 года 5 лет 11 месяцев.
За справкой о службе Иванова подшита подобная же на гренадера 2-й статьи Савелия Павлухина, также сгоревшего 17 декабря, холостого, 46 лет от роду. Обе справки подписаны полковником Качмаревым.
Читая эти документы, я знал, что, по житейским нормам времени унтера Иванова, солдат, уходивший из крепостной деревни, справедливо считал себя «отрезанным ломтем», навсегда становился «казенным человеком». Ведь разом изменялся весь строй его жизни, начиная с бритья бороды и первого часа жестокой муштры рекрута, отчего для сохранения душевного равновесия большинство солдат старалось как можно скорей забыть свою семью. Если в той крестьянской жизни было много горя, то солдату и своего нового вполне хватало. А если там было хоть малость посветлей, то зачем о том вспоминать, если все равно назад никогда не будет дороги и еще тяжелей покажется солдатчина?
Вот почему поступок унтера Иванова я счел необыкновенным и не мог о нем забыть. Постепенно складывался образ редкостно доброго и самоотверженного человека, подбирались возможные обстоятельства и люди, помогавшие образованию такого характера. Конечно, очень подкреплял меня в этом труде и поступок его жены. Ведь никто не поставил бы в вину Анне Яковлевне, если бы, оказавшись владелицей 12-ти крепостных душ, брала с них умеренный оброк, весьма существенно облегчивший бы ее существование на ничтожную пенсию вдовы прапорщика. Однако она предпочла, едва осушив слезы после утраты, подать дошедшее до нас прошение, стремясь скорей завершить самое важное дело жизни мужа, и упомянула, что тем удовлетворяет и «собственное свое желание». Достойную подругу выбрал себе унтер-офицер Иванов.
Добавлю еще, что о дальнейшей судьбе Анны Яковлевны и Маши мне ничего не удалось узнать. Очевидно, эта «обер-офицерская» вдова затерялась среди городской мелкоты, вернувшись к белошвейному ремеслу.
А как хотелось бы знать, что в награду за душевную чистоту и бескорыстие судьба послала ей и Маше мирную и согласную жизнь с теми только горестями и трудностями, которые посылает каждому средняя людская судьба.
Ленинград, 1968–1976