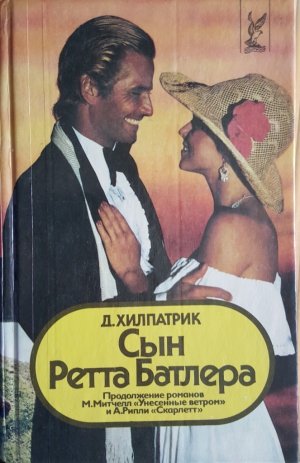
Часть первая
БОЛЬШИЕ ГОРОДА
Бегство
…Наконец все уснули.
Джон на всякий случай подождал еще немного. В доме было тихо.
Тогда он встал с кровати, стараясь не скрипеть половицами, достал из комода мешок, поднял оконную створку и выпрыгнул на улицу.
Джон бежал так, что ветер шумел в ушах. Но усталости не было. Так птица летит из силков, так зверь бежит из капкана, так невольник вырывается из пут. Они мчатся и мчатся, не замечая усталости, пока не свалятся замертво, пока не наткнутся на преграду, пока не умрут. Но Джон вовсе не собирался умирать или натыкаться на преграду. Он знал поля и перелески этого края лучше собственной ладони. На ладонь ему вообще некогда было смотреть, а по полям он бегал с самого раннего детства, стараясь поспеть за конем отца. Бывало, поспевал. Отец хохотал над сыном, не подозревая, что поощряет в мальчике не просто тягу к быстрому бегу, а стремление к свободе.
Джон навсегда покидал родной дом. Конечно, он мог сделать это и менее романтическим способом. Мог поговорить с матерью, мог подготовить ее, мог уломать, в конце концов, мог даже взять в свои соратники Уэйда. Старший брат был бы полностью на его стороне. Но Джон решил так — однажды ночью открыть окно и умчаться из дому куда глаза глядят.
Неужели вот так прямо — куда глаза глядят? Да нет же! Конечно, Джон был достойным сыном своей матери. Он все просчитал заранее и все продумал. Он как раз при очень быстром беге успеет на ночной товарняк со скотом, идущий прямо на Север Штатов. Он даже присмотрел загон на колесах, где переночует в компании мычащих коров, сонно жующих и шумно выдыхающих теплый кисловатый воздух. С утра он подоит одну из них и будет сыт целый день. А там…
А вот что будет дальше, Джон еще не придумал, и это свидетельствовало о том, что он еще и достойный сын своего отца.
Легкой, но досадной тенью скользнуло сожаление о том, что напоследок не взглянул на спящую мать, что мысленно не попрощался с домом, что даже не взглянул на конюшню, где стояла красавица Джильда, каурая трехлетка с легкими ногами, но тень эта только скользнула, тут же пропав за спиной, как пропадали тени платанов, кустов можжевельника и тополей, попадавшихся на дороге.
Джон бежал. Мешок ничуть не тяготил его. Да и чему там особенно было тяготить? Пара чистых сорочек, рабочие штаны и… У Джона от мысли о последнем предмете багажа сладко екнуло внутри. В мешке лежал бритвенный прибор отца. Старый, добротный, удобный в руке, которым Джон еще ни разу не пользовался, но обязательно воспользуется, как только окажется один. Пора. Джону уже пора бриться.
Можно было сбавить бег, можно было даже на минутку остановиться и просто поглядеть назад. Нет, Джон был чужд всякой сентиментальности, но ему казалось, что это очень по-мужски — остановиться, последний раз взглянуть на родные места и сказать что-нибудь вроде:
— Неплохие были денечки.
Разумеется, никаких слез, никакой грусти, наоборот, легкая и спокойная усмешка. И — дальше. Словно перевернул страницу книги.
Джон так и сделал.
Ни дома, ни самого городка, правда, уже видно не было. Джон стоял на дороге, превратившейся от лошадиных копыт, тяжелых колес и августовской жары в легкий порошок, наподобие того, каким мать иногда напудривала свой носик. По такой пыли приятно было ходить босиком. Ноги тонули в ней. Правда, тут следовало быть осторожным, а то запросто можно было напороться на свежую коровью лепешку.
«О какой ерунде я думаю!» — сказал Джон сам себе. И еще укорил себя за свои мысли, за мальчишество. Ведь он собирался начинать настоящую взрослую жизнь, а думал о каких-то пустяках, о коровьих лепешках. Надо думать о чем-то серьезном, о большом и важном, о мужском, одним словом.
И он постарался думать о мужском. Но, по правде говоря, не очень даже представлял себе, о чем думают настоящие мужчины.
Станция жила и ночью. Светили огни фонарей, гудели дымные паровозы, брякали сцепками вагоны, покрикивали черные и лоснящиеся от мазута путевые рабочие, что-то кричал в жестяную воронку детина в красной фуражке с желтым флажком в руке.
На Джона никто не обратил ровным счетом никакого внимания. Он спокойно присел на груду шпал, развернул свой мешок и живо переоделся. Вместо парадных шерстяных брюк он с наслаждением натянул грубые потертые джинсы, которые держались на нем безо всякого ремня, на бедрах. Теперь он мало чем отличался от окрестных ковбоев, пригоняющих на станцию скот, беспрерывно сквернословящих, черных от загара, от души хохочущих над любым пустяком, провожающих любую особу женского пола диким гиканьем и непристойными предложениями. Джон близко знал нескольких ковбоев и с удивлением отмечал, что все они люди скромные и набожные, у многих семьи, добропорядочные дома, милые дети. В кругу семьи эти парни выражались очень даже прилично, а собственной дочери, если бы та хоть раз попробовала прогуляться с парнем, всыпали бы по первое число. Но стоило им попасть в компанию таких же работяг, как они разительно менялись. Им вдруг становилось само море по колено. Впрочем, с некоторых пор Джон стал подозревать, что вся их залихватская манера поведения одними словами и ограничивается. Стоило какой-нибудь разбитной дамочке остановиться, услышав их дикие крики, и спросить, кто же из них собирается заняться с ней тем, о чем они только что так ярко вещали, как наши ковбои начинали страшно смущаться и кивать друг на друга. Обычно дамочки заливались хохотом от робости смелых на вид парней. Нет, Джон вовсе не завидовал ковбоям. На самом деле это были обыкновенные мещане — домик, меблишечка, жена, церковная служба по воскресеньям и наивные песенки под банджо. Обыватели.
Товарняк пришел вовремя. Джон вообще удивлялся, почему это на железной дороге все происходит вовремя? Вот Сэм Коллинз, городской столяр, был примером того, что часы в мире нужны только как игрушка или украшение. Он никогда ничего не делал вовремя, и все к этому привыкли, потому что и сами жили почти так же. Правда, до Сэма остальным было далеко. Сэм в этом смысле был рекордсменом. Если Сэм говорил, что табуретка будет готова к пятнице, надо было тут же спрашивать:
— К пятнице какого месяца, какого года и какого столетия?
Впрочем, такие уточнения тоже ничего бы не дали. Еще ни к одной пятнице никакая табуретка готова не была. Собственно, как и к другим дням недели. Сэм вообще удивлялся, когда его спрашивали про сроки. Он рассуждал вполне здраво — всю жизнь человек жил без этой табуретки, почему же теперь ему вдруг захотелось узнать, когда на свете появится то, чего никогда не было? Кто вообще способен предсказывать будущее?
Тем удивительнее было, что железная дорога действовала вопреки всем естественным человеческим законам и даже вопреки самому Сэму Коллинзу.
Итак, товарняк пришел вовремя.
И Джон оказался в том самом вагоне, который наметил еще месяц назад. И в нем действительно были коровы. Все оказалось так просто и неинтересно, что Джон даже заскучал. Вот он сидел в поезде, который через минуту тронется. Именно через минуту, сегодня, в четверг, двенадцатого августа 1899 года…
Скарлетт О’Хара
Скарлетт не спала.
Она прекрасно слышала, как Джон уходил. В глубине души она, конечно, надеялась, что он хотя бы заглянет в ее спальню, перед тем как уйти навсегда. Но Джон не заглянул. Это и огорчило Скарлетт и парадоксальным образом обрадовало ее. Обрадовало потому, что Джон-таки был вылитым Реттом Батлером. Если уж он ставил себе цель, то никакие сантименты не могли его остановить.
Скарлетт давно уже знала, что Джон собирается уезжать из дому. Она даже догадывалась — куда. Джон, конечно, поедет в Нью-Йорк. Куда же еще поедет молодой и необузданный мальчишка, желающий покорить мир? Она видела тайные и бесхитростные приготовления Джона, видела, как он бегал на станцию, собирал мешок с вещами. Словом, она все знала. Поэтому уже почти месяц по ночам спала очень чутко, а чаще всего не спала, потому что ждала этого дня. Другая мать на ее месте, разумеется, сразу же закатила бы сыну скандал, запретила, заперла на десять замков и постаралась бы выбить дурь из ветреной головы. В конце концов, просто помогла бы подготовиться сыну к отъезду. Заказала бы в Нью-Йорке гостиницу, купила бы билет на поезд, насовала бы в чемодан пирожков и свежих платков. Да сама бы проводила сына в большой город и помогла устроиться. Но Скарлетт ничего этого не сделала и была даже в каком-то смысле горда собой. Она уважала собственных детей. Она считала, что они сами должны пробиться в этой жизни. Вот уж если совсем туго придется — поможет. Но только тогда, когда попросят.
Джон был поздним ребенком. И самым любимым. Скарлетт рожала его очень тяжело. Возраст ее был уже далеко не юным, врачи вообще удивлялись, что она смогла забеременеть. Но мальчик родился здоровым и рос на удивление прекрасно.
Правда, после смерти Ретта с ним труднее стало справляться. Что-то затаилось в Джоне, упрямое и несгибаемое. Джон стал насмешлив и язвителен. Только большая любовь брата и матери могла вынести его насмешки. Особенно доставалось Уэйду. Уж как только Джон не издевался над ним. И деревенщиной обзывал, и коровьим ухажером, и обывателем, и мещанином… Уэйд только посмеивался, но Скарлетт видела, что улыбки Уэйда очень даже вымученные. Поэтому бегство Джона было предопределено заранее. Конечно, мальчишка должен был уехать в большой город, ему тесно стало в ухоженном доме, в маленьком их городке, вообще консервативный Юг стоял у Джона поперек горла.
Скарлетт давно смирилась с этой мыслью, но все равно бегство Джона было неожиданным.
В доме было тихо. Скарлетт встала с кровати. Стараясь не скрипеть половицами, прошла в комнату Джона и застелила его кровать. Она не плакала. Она гордилась сыном. Она была уверена, что Джон добьется в этой жизни куда большего, чем добилась она. Их маленький городок еще услышит о Джоне Батлере.
Тихая усмешка коснулась ее губ. Все-таки она оставалась нормальной матерью — в одну из сорочек, которые взял с собой Джон, Скарлетт вшила деньги. Не так уж много, но и не так уж мало — три тысячи долларов…
Попутчик
Утром поезд встал посреди поля.
Джон как раз и проснулся оттого, что мирный стук колес прекратился, его больше не укачивало движение вагона, наступила тишина, прерываемая только редким постукиванием копыт и шумным дыханием коров…
Джон открыл глаза.
Интересно, сколько миль они уже отмахали? В каком штате они сейчас? Какие реки и горы остались позади, а какие еще ждут их?
Джон сладко потянулся, вскочил на ноги и выглянул в зарешеченное окно.
Если бы он не знал, что поезд мчался на всех парах целую ночь, он подумал бы, что они так и не выехали из Джорджии. А может быть, они действительно не выехали? Вон почти на горизонте табун лошадей, такой же, какие видел Джон множество раз у себя дома, вон повозка тащится, совершенно знакомая повозка, вон негры ставят столбы. Негры тоже знакомые.
Джон улыбнулся — нет, это только кажется. Америка одинаковая в своем провинциальном быту, но если присмотреться внимательно, сразу видно, что Джон теперь далеко от дома. И трава, и деревья, и даже солнце здесь уже другие. Джон точно едет на север. Джон едет в Нью-Йорк!
Какое-то непонятное беспокойство еще с самой ночи волновало Джона. Самое противное, Джон не понимал, с чем оно связано. Даже во сне он что-то пытался понять, но безуспешно. Беспокойство возникло в тот самый момент, когда Джон пробрался в темный вагон, и вот до сих пор не оставляло его. А характер Джона не позволял ему долго находиться в неведении, ему нужна была ясность во всем и прямо сейчас.
Джон оглянулся, внимательным взглядом обследовав вагон. Ничего настораживающего — толстые доски, куча сена в углу, коровы…
Вот в чем дело! Только сейчас, при свете утра, Джон разглядел, что в вагоне были вовсе не коровы, а самые настоящие быки. Старые, жилистые, уставшие быки…
Джон расхохотался — да уж, попьет он молочка! Да уж, подоит он этих уставших стариков! Как же он не предусмотрел, что возможна такая смешная осечка? Это что ж выходит, ему всю дорогу придется голодать?
Джону стало не до смеха. Его молодой организм требовал еды. И тем сильнее и настойчивее, что еды этой не было. Впервые Джон почувствовал непримиримый конфликт с собственным желудком. Словно его желудок — это маленький и капризный ребенок, а он, Джон, терпеливая и заботливая мать. Сейчас он понимал Скарлетт, которая, бывало, и прикрикнет на сына, делающего все наоборот. От этой мысли Джону стало веселее.
Он пошире раздвинул двери вагона и выглянул наружу. Знак семафора впереди был опущен, что значило — дорога закрыта. Машинисты сидели на насыпи и курили трубочки, изредка поглядывая на семафор. Дверь вагона рядом была тоже приоткрыта. И Джон решил перебраться туда — вдруг повезет.
Он живо схватил свой мешок, потрепал по загривку черного быка и выпрыгнул из вагона.
Ноги ощутили твердую землю. Было уже довольно жарко, птицы пели в знойном утреннем воздухе. Джон вдохнул этот сладкий воздух умирающих трав полной грудью и побежал к соседнему вагону.
Со света трудно было что-либо разглядеть в темном нутре, тем более что дверь вагона была приоткрыта всего на ладонь. Джон потянул ее, она со скрипом подалась, и вдруг чей-то здоровый сапог чуть не пришиб Джона. Он еле успел увернуться.
— Эй, ты что?! — закричал он невидимому обладателю сапога. — Хочешь лишиться своей обувки вместе с ногами?!
Это ковбои научили Джона ругаться так витиевато.
— Пошел отсюда, сосунок! — гаркнул из вагона грубый голос.
Прямо так и пошел! Теперь Джон жизни не пожалеет, чтобы забраться именно в этот вагон.
Он отошел на пару шагов назад, разбежался и головой вперед влетел в раскрытую дверь. В следующее мгновение ему показалось, что лоб его врезался в противоположную стену, отчего она громко охнула и повалилась.
На самом деле Джон влетел головой прямо в живот самозваному хозяину вагона. А стеной этот живот причудился потому, что хозяин при ближайшем рассмотрении оказался худым и костистым, как скелет. Собственно, и живота у него не было никакого.
Побарахтавшись на полу, оба вскочили, сверкая ненавистью в глазах, и уставились друг на друга.
Усатое землистое лицо хозяина вагона было перекошено решимостью стоять за свою собственность насмерть. Но Джон углядел за этой решимостью и страх. Обыкновенный человеческий страх. Хозяину, честно говоря, было чего бояться. Даже в свои семнадцать лет Джон был куда крупнее и мускулистее его. Именно поэтому Джон опустил сжатые в кулаки руки, бросил в угол мешок и сказал:
— Места много, дружище, поедем вдвоем.
Хозяин понял, что сила не на его стороне, и тоже сменил гнев на милость.
— Лезут тут всякие, думают, они одни такие хитрые, — пробурчал он, отходя в другой угол вагона.
— Ладно, не пришпоривай, когда приехал, — сказал Джон. — Давай лучше знакомиться. Меня зовут Иоанн.
— Первый раз слышу такое дурацкое имя, — сказал незнакомец, довольный тем, что удалось уколоть непрошеного гостя.
— А я бьюсь об заклад, что ты это имя слышал раз тысячу, не меньше.
— Ха-ха, тебе откуда знать?! Говорю, не слышал, значит, не слышал.
— Так давай поспорим! — обрадовался Джон.
— Давай! — сказал незнакомец и протянул свою костистую руку.
Они поспорили на три щелбана, и незнакомец уже занес свои костлявые персты над лбом Джона, когда тот спросил:
— А тебя как?
— Мое имя самое популярное в этой Богом забытой стране. Догадайся!
— Иоанн, — сказал Джон и хитро улыбнулся.
— Сам ты это слово! — обиделся незнакомец. — Меня зовут Джон.
— Ха-ха-ха! — расхохотался парень. — Значит, ты это имя слышишь каждый день, мистер! Ведь Иоанн и Джон — это одно и то же имя! Только Иоанн — по-латыни. Понял? А мы с тобой, выходит, — тезки!
Хозяин растерянно хлопал глазами.
— Ну, подставляй лоб, Жан. Жан — это то же самое, но по-французски.
— Ученый, да? — почему-то обиделся хозяин.
— Я-то? Нет, просто грамотный.
Старый Джон снял свою потрепанную шляпу и покорно подставил морщинистый лоб.
— Ладно, верховный судья постановил — помиловать старого Я на…
— А это?
— Это по-славянски. И переменить наказание. Давай, старик, рассказывай о себе.
Джон уселся на солому и приготовился внимательно слушать. Но старик вовсе не собирался что-либо рассказывать.
— Нет, — сказал он твердо. — Я не хочу так, мы поспорили, я проиграл. Бей.
— Я прощаю тебя, — мирно улыбнулся Джон.
— А я не хочу твоего прощения, — сказал старик настойчиво. — Бей!
— Да брось ты, — отмахнулся парень. — Лучше расскажи…
— Бей!!! — вдруг дико заорал старик, вцепился в руку Джона и ткнулся в нее лбом. — Ты думаешь, если я старый и слабый, можно меня оскорблять?! Ты думаешь, ты кто?! Ты думаешь, я кто?! Бей, раз так положено!
Джон выдернул свою руку.
— Да ты что, кто тебя оскорблял? Что за дурацкие обиды?
— Я не дурак! Я не неудачник! Я сам отвечаю за свои дела! И они у меня идут прекрасно! Прекрасно, понял?! Думаешь, я испугался твоих щелбанов?! Я вообще ничего на свете не боюсь!
Джон смотрел на старика и диву давался, с чего это он так разошелся.
— Ха! Он решил меня облагодетельствовать! Он помиловал меня! А ты спросил — нуждаюсь я в твоей милости? Нуждаюсь я в твоем снисхождении? Я ни в чьей милости не нуждаюсь! Понял? Бей! Не хочешь? Ладно! Не надо.
Старик вдруг схватил с пола палку и со всего маху треснул себя по лбу.
Джон еле успел перехватить его руку, потому что старик собирался стукнуть себя еще раз. После минутной борьбы Джон вырвал палку из костистых рук и отбросил ее в угол, сжал старика крепким захватом и не отпускал, как тот ни бился.
— Ты прыщавый маленький ублюдок! — кричал старик тонким голосом. — Твоя мать — сука! Твой отец — сифилитик! А сестры твои — шлюхи! Отпусти меня, подонок! Отпусти!
Джон почему-то не обижался на старика. Он еще крепче сжимал руки, чтобы старик не вырвался, и тот вдруг перестал ругаться, биться и затих.
К своему удивлению, Джон вдруг увидел, что старик плачет. Джону стало жутко неловко. Он отпустил старика и отвернулся, чтобы не видеть, как тот размазывает по лицу слезы, как вздрагивают его худые плечи…
Джон ничего не понимал и думал, что попал в один вагон с сумасшедшим.
Что-либо спрашивать у старика Джон не решался. Он просто ждал.
Поезд дернулся и пошел. Старик сразу как-то успокоился, но с Джоном разговаривать не стал, а отвернулся обиженно в угол.
Поезд очень быстро набрал скорость, ветер стал гулять по вагону и поднимать с пола сено. Джону пришлось подняться и прикрыть дверь. Старик все так же неподвижно сидел на полу и смотрел в угол.
— Интересно, а где мы сейчас? — задал нейтральный вопрос парень.
Старик ничего не ответил. Только пожал плечами, что было уже обнадеживающим признаком.
— Ты знаешь эту дорогу? — снова спросил Джон.
Старик кивнул.
— А далеко до Нью-Йорка?
На этот раз старик обернулся к Джону и внимательно оглядел парня с головы до ног.
— В Нью-Йорк, значит? — произнес он, криво улыбаясь.
— Ничего смешного! — сказал Джон с вызовом.
— Это точно, — согласился старик. — Это не смешно, а грустно. Погоди-погоди… Тебе восемнадцать лет, так? Сбежал из дому. Так? Завоевывать мир. Так? В мешке две сорочки и бритвенный прибор отца. Так?
— Ты лазал в мой мешок?! — вскочил Джон. — Когда ты успел?!
— Давно, сынок, лет эдак сорок назад, — улыбнулся старик.
— Как это? — опешил Джон.
— А вот так. Я сам в то время ехал завоевывать мир с таким же мешком. Ничего не изменилось за эти годы. Люди не поумнели, — заключил он.
— Ты был в Нью-Йорке?
— И в Сан-Франциско, и в Бостоне, и в Чикаго, и в Денвере, и даже в Анкоридже. Знаешь, где это?
— На Аляске, — ответил Джон.
— Вот ты знаешь, а я там был.
— Ну?
— Америка съела меня, сынок. Видишь, одни кости остались. А отцовский бритвенный прибор я заложил через неделю после того, как сбежал из дому. Знаешь, что я тебе скажу, будет остановка, ты слезай и возвращайся обратно в свой дом.
— Нет, — упрямо замотал головой Джон.
— Да это я так, пошутил. Конечно, ты не вернешься. Но попомни мое слово — ровно через сорок лет ты дашь такой же совет парню, с которым поедешь в коровьем вагоне.
До вечера поезд шел без остановок. Два Джона болтали о том о сем, глядели на пробегающие поля и леса, спали и даже играли в кости на интерес. Поесть им не удалось, потому что и этот вагон был загружен быками.
К вечеру Джон так проголодался, что готов был жевать сено. Но старик пообещал, что скоро станция и там можно будет нарвать яблок, если, конечно, их еще не убрали.
Станция действительно была, но на ней поезд не остановился. Он только замедлил ход. Старик и парень, глотая слюну, видели, как мимо них проплывают спелые, румяные, огромные яблоки, но достать их не могли.
Такую муку Джон вынести был не в силах. Он распахнул дверь пошире и спрыгнул на землю, старик даже не успел сообразить, что же произошло.
Джон мигом залез на ближайшую яблоню, набил пазуху плодами и бросился вслед за поездом, который уже потихоньку стал набирать ход.
Возвращение прошло успешно. И уже скоро старик и парень, объевшись яблоками, скармливали их быкам.
— Я думал, ты не успеешь, — сказал старик лениво. — Я бы никогда не стал прыгать.
Джон ничего не ответил, просто подумал, что старику и не могло повезти в жизни. Жизнь требует риска. Жизнь терпеть не может осторожных. И Джон самодовольно улыбнулся.
— Слушай, старик, а что это ты так настаивал на щелбанах? — наконец позволил себе спросить парень.
Старик дернул головой, но увидев, что Джон и не думает над ним издеваться, а просто любопытничает, ответил:
— Так надо.
— Кому надо?
— Мне. Мне так надо, — сказал старик раздраженно, давая понять, что разговор ему не нравится.
— Не понял. Чего-то мудрено.
— Ничего не мудрено, а правильно. Считаешь, я не думал когда-то, как ты? Думал. Только так и думал. Брать и не отдавать. Брать и все. А теперь знаю — не отдашь, не получишь. Теперь знаю точно.
— Тебе бы проповедником быть. К нам приходил в городок один такой. Отдавайте, говорит, получите. Отдали ему. Оказался мошенником. Полиция его по всему Югу искала.
— Я не мошенник! — вскинулся старик. — Я просто неудачник!.. Был. Был неудачник. Потому что всю жизнь брал и брал. А потом стал расплачиваться. И как расплачиваться, сынок! Не приведи Господь кому-нибудь так расплачиваться! Понимаешь, полжизни брал, а потом полжизни расплачивался. И теперь пришел к тому, с чего начал. Теперь знаю — за все надо платить. За все, понимаешь?
Джон почти не слушал старика. Он лежал головой к двери и смотрел в ночное звездное небо. Бесконечность подмигивала ему миллионами глаз, манила и тревожила его. Что значили истерические слова старика по сравнению с этой бесконечностью… Что значил этот вагон, эти жующие коровы, эти проносящиеся темные громады деревьев… Что значила даже эта Земля — маленькая пылинка муки в тесте бесконечности… Вот только жизнь Джона что-то и значила, а больше — ничего…
Суд Линча
Только в кустах они отдышались. Старик хрипел, пот выступил на его сером лице. Такой бег был ему уже не под силу.
— Успокойся, слышишь, успокойся, Джон, — прошептал парень. — Они нас теперь не догонят.
— Еще немного, и им не пришлось бы меня догонять, я был бы трупом… — прохрипел старик с вымученной улыбкой.
— Какого дьявола они на нас напустились? — спросил парень. — Что мы им сделали? А этот придурок на коне! Он же стрелял в нас! Они что, из полиции?
— Нет, они просто охрана. На этом участке часто утоняют из вагонов скот. Вот они и приняли нас за воров. Хорошо, что я уже знаю эти дела…
— Да, мы вовремя смылись. — Джон уже почти отдышался. — Слушай, а где мы сейчас?
— В Америке! — через силу ответил старик.
— Это уж точно! — сказал Джон. — Это Америка!
Старик и парень вдруг стали смеяться. Они словно проглотили «смешинку» и остановиться уже не могли. Они катались по земле, утирали слезы, стонали от приступа неудержимого хохота, бессмысленно повторяли:
— Америка… Это точно Америка…
И от этих слов хохотали пуще прежнего. Что уж их так насмешило?
Целый день они брели вдоль железнодорожного полотна и только к закату солнца оказались на небольшой станции Шорт.
Станция не зря носила такое название. Кроме самой станционной постройки ничего вокруг не было. От деревянного дома проселочная дорога уходила куда-то в поля, на указателе значилось, что до ближайшего населенного пункта Толл двадцать две с половиной мили.
— Скоротать время мы можем и здесь, — скаламбурил Джон. — Спать будем по очереди. Как только увидим товарняк, поедем дальше.
На том и порешили.
Никто в станционном здании не подавал признаков жизни, как ни стучали пришельцы, как ни звали. Поэтому они спокойно устроились на платформе, а отдохнув, отправились обследовать окрестности.
Райских яблок здесь не было. Впрочем, здесь не было и обыкновенных яблок. На кустах шиповника все плоды были склеваны птицами, а на платанах, как известно, съедобных плодов не бывает.
— Зачем мы кормили этих дурацких быков? — риторически спросил Джон. — Сейчас бы я съел яблочко. Надо же. Мы подкармливали их скотину, а в нас за это еще и стреляли!
— За все надо платить, — снова философски заметил старик.
Наконец Джон нашел воду. Это была колонка, которую пришлось качать чуть не полчаса, пока из нее не потекла желтая, ржавая вода. Тем не менее это уже была какая-то победа. Напившись воды, Джон живо скинул с себя всю одежду и влез под ледяную струю. Нет, это здорово! После грязи, пыли, жары и бешеного бега окатить тело тугими струями сверкающей на солнце воды. Джон мычал от удовольствия, вскрикивал и хохотал, как ребенок.
— Давай, старик, я покачаю, а ты тоже умойся!
— Нет, я не могу, — засмущался вдруг старый Джон.
— Давай-давай! Чего ты! Когда нам еще удастся найти баню?
Обнаженное тело парня блестело тысячами капель, переливалось тугими мускулами, дышало каждой порой чистой кожи.
Старик соблазнился и тоже стал раздеваться.
— Только ты не смотри на меня, — попросил он. — Отвернись.
Джон пожал плечами, но отвернулся. А любопытно ему было, чего это старик боялся его взгляда.
Старик залез под струю и заверещал, словно женщина от холодного прикосновения. Но не выпрыгнул из-под колонки, а шумно задышал, шлепая себя ладонями по бокам.
Улучив минутку, Джон скосил глаза и посмотрел на тело старика. Множество шрамов и татуировок покрывали кожу спины и груди.
— Ого! — невольно вырвалось у Джона.
— Я ж говорю, сынок, Америка съела меня. Ну, не до конца еще, но откусила изрядно.
— Я думал, у тебя какая-нибудь неприличная болезнь, что ты стесняешься меня.
— Болезнь? Нет, болезни нет. Но вот тебя я стесняюсь. А знаешь почему?
— Интересно…
— Я тут подумал, что ты вполне мог бы быть моим сыном. Не хотел бы я своему сыну показывать такое.
— Нет, твоим сыном я быть не могу. У меня есть мать…
— А отец? — перебил старик.
— А отец умер десять лет назад. Ретт Батлер.
Старик посмотрел на Джона словно громом пораженный.
— Ты знал моего отца? — спросил Джон.
— За все надо платить, — снова повторил старик, словно сомнамбула.
— Ты знал отца?
— Я работал у него на плантации… Ретт Батлер… Смотри-ка! Неужели он не рассказывал тебе про меня? Я тот самый проходимец, который увел из его конюшни черного скакуна Гран-при… Впрочем, это было давно… Тебя еще не было на свете…
— Ты работал в Таре?
— Да, Тара, точно, Тара… Так я знаю и твою мать! Ну, она была покруче отца! Дамочка хоть куда. Она гналась за мной тогда целый день. Она, а не твой отец! Надо же! А теперь мы с тобой бежим от нее! За все надо платить! Кому расскажи — не поверят!
Старик удивленно и радостно хлопал себя по ляжкам.
— Ну не очень-то ты отплатил пока что! — сказал Джон. — Вот если бы ты дал мне сейчас кусок ветчины с хлебом, я бы простил тебе черного скакуна.
— А ты-то тут при чем?
— Здрасьте! Лошадь же была наша!
— А, лошадь! — протянул старик. — Я о другом.
— О чем же?
— О добре и зле, сынок.
Еду найти так и не удалось. Поезда проезжали и даже довольно часто, но на такой бешеной скорости, что сесть ни в один из них не было возможности.
Первым дежурил Джон. Но и в его дежурство сесть на поезд не удалось. А потом вахту принял старик. Впрочем, он мог и не будить его, все равно приходилось вскидываться каждый раз, когда приближался состав. Сон его был беспокойным и неглубоким. Только часа в три парень уснул крепко.
Ему даже стали сниться какие-то странные сны, как вдруг он услышал, что старик толкает его в бок.
Джон тут же вскочил на ноги, готовый метнуться к железнодорожному полотну, но старик повалил его на платформу и зашипел:
— Тихо, умри, молчи…
Только сейчас Джон понял, что никакого поезда нет, а слышится топот множества копыт, приближающийся со стороны проселочной дороги. Он приподнял голову и увидел большую группу всадников с факелами, несущихся во весь опор к станции.
— Охранники?! — встревоженно спросил Джон. — Как они выследили нас?
— Нас видели с проходящего поезда, наверно, — предположил старик. — Теперь держись.
— Так надо бежать! — дернулся Джон.
— Поздно. Если побежим, убьют, а так только всыпят пару горячих.
— Будут бить?! — потрясенно спросил Джон. — Нет! Пусть лучше убьют! Меня никто в жизни не бил и не будет бить! Ни за что! Ты как хочешь, старик, а я побежал.
Джон спрыгнул с платформы и опрометью бросился в кусты. И в тот же момент услышал, что топот лошадей смолк. Он осторожно выглянул из своего укрытия, ожидая увидеть расправу над стариком, но никакой расправы не было.
Конные спешились у станции и стали что-то делать там, возле колонки, где мылись парень и старик. Они о чем-то громко переговаривались, но Джон не понял, о чем.
Потом послышался громкий стук молотка. Если это были охранники, то они вели себя очень странно. Они вдруг подняли и установили перед зданием станции высокий деревянный крест. Наверное, какие-то баптисты. Джон так подумал и тут же сам себя поправил. В их городке тоже были баптисты, но они никогда по ночам не мчались в дальнюю даль, чтобы установить посреди пустыря крест. Одно Джон понял точно — это были не охранники и им никакого дела не было до Джона и старика.
Парень осторожно пробрался обратно на платформу и тихо позвал:
— Джон!
Старик не откликнулся. Его на платформе не было. Наверное, он пошел к этим людям, чтобы попросить еды. А чего прятаться?
Джон встал в полный рост и двинулся к освещенному кругу.
То, что произошло там через мгновение, заставило парня снова упасть на пыльные доски и выблевать все, что он ел вчера.
Несколько человек потянули веревку, закинутую на толстую ветку платана, и над землей поднялось корчащееся в муках смерти тело. В следующую секунду вспыхнул крест, установленный всадниками. Потом крут их сомкнулся, Джон услышал какие-то истошные вопли, которые оборвались, потом еще… Дальше он ни смотреть, ни слушать не мог.
Словно от страшной боли, Джон скорчился, зажав ладонями уши, и тихо заскулил, как раненый щенок…
Старик появился только тогда, когда всадники снова ускакали, а крест догорел и обрушился.
К этому моменту уже начинало светать.
Джон сидел бледный и дрожащий, с глазами, полными слез.
— Что это было? Что здесь произошло? Что было? Старик, что случилось? — жалобно повторял он.
— Линч, — выдохнул старик.
Когда совсем рассвело, парень увидел три трупа. На дереве висел седой негр с кляпом во рту, а под деревом лежали две обезглавленные женщины. Одна негритянка, а другая белая.
О страшной трагедии, которая разыгралась в неведомом городке Толл, старик и Джон могли только догадываться. Джон гнал от себя ужас этой ночи, но безуспешно. Жуткая картина стояла перед его глазами. И длинный белобрысый парень, который взмахивал окровавленной саблей, и злобная старуха, которая плевала на мертвые тела, и пьяные лица остальных… Крики жертв и горячее пламя креста.
— Ну что, старик, за все надо платить? — сквозь слезы спросил Джон. — Ты думаешь, они заплатят когда-нибудь за это?
— Да, — просто и убежденно ответил старый Джон.
— Ты думаешь, заплатят? — истерически расхохотался парень.
— Да. Америка такая страна, в которой человек получает по заслугам еще при жизни.
— Значит, и эти трое получили по заслугам?
— Они сейчас в раю, — тихо сказал старик.
Столица мира
Нью-Йорк начинается для приезжающего с Юга с маленьких убогих домишек, почерневших от копоти и грязи, с потеками от нечастых, но продолжительных дождей, с хилых, словно обглоданных сквериков, с огромных площадок, заставленных ящиками всяческих размеров, с необозримых пустырей, изрытых непонятного назначения ямами, с длинных очередей негров, стоящих неизвестно за чем.
Два Джона смотрели на этот безрадостный пейзаж из окна и молчали. Старый молчал потому, что он об этом парня предупреждал и теперь говорить было нечего, только смотреть. А молодой молчал потому, что действительно видел полное подтверждение словам старика и теперь внутренне ахал, но не раскаивался, а только крепче сжимал зубы.
Последние дни пути были особенно тяжелыми. Старик начал прихварывать. Страшный кашель мучил его. Такого кашля, казалось, не выдержит и дюжий мужчина, а этот скелет и вовсе должен был рассыпаться. Джон как мог помогал старику, но чем особенно он мог помочь…
В Нью-Йорке их пути должны были разойтись, потому что старый Джон ехал устраиваться на фабрику игрушек набивщиком, у него даже был адрес бесплатной квартиры, которую оплачивала фабрика. Он не особенно настойчиво, но все-таки звал с собой парня, но тот и слушать не хотел ни о какой фабрике и бесплатной ночлежке. Он уже знал, что пути его со стариком разойдутся навсегда. Джон не хотел ни такой жизни, ни такой старости. Он будет идти другими дорогами. Какими? Там видно станет.
На товарной станции они выпрыгнули из вагона и двинулись в сторону города. Неизвестно откуда взявшийся холодный ветер трепал серые от пыли кусты и гонял по путям обрывки газет.
Дорога была, конечно, совсем не такой, какими были дороги в городке Джона. Она была твердой и запруженной сотнями конских экипажей, повозок и автомобилей, которые Джон в своей глуши видел очень редко. А тут их было множество и таких разных. Шум стоял неимоверный, поэтому все приготовленные для прощания слова становились бессмысленными. Нельзя же кричать задушевные слова — они требуют тишины.
Поэтому два Джона просто обнялись, похлопали друг друга по спинам. Парень достал из мешка свою почти новую рубашку и протянул старику.
— Дарю. Можешь носить, а можешь на палку повесить — будет флаг.
Старик отнекивался, но рубашку-таки принял, а из своего мешка достал вдруг сверкающий серебряный доллар и, протягивая парню, сказал:
— Твой начальный капитал. Постарайся его приумножить.
Потом он круто развернулся на каблуках и, не оглядываясь, пошел направо.
Джон еще немного посмотрел ему вслед, тоже круто повернулся и зашагал в другую сторону.
Уэйд
Письма Скарлетт стала ждать уже на третий день. Конечно, это было бессмысленно, конечно, она понимала, что Джон еще в пути, но все равно каждое утро ждала почтальона, разносившего городскую газету и приглашения от знакомых и из церковной общины.
Уэйд примчался в город, как только узнал, что Джон сбежал из дому. Это было очень мило с его стороны, тем более что август для плантатора не самая удобная пора путешествовать. Но он оставил все на жену и управляющего. Ему казалось, что мать нуждается в поддержке и добром совете.
Скарлетт, однако, встретила его отнюдь не убитая горем, а вполне радостная и бодрая.
— Ага! Приехал осмотреть разоренное гнездо? — рассмеялась она.
— Ма! Как он мог? Он что, ничего тебе не сказал? Он даже не попрощался?
— Не-а! — легкомысленно ответила Скарлетт.
— Ну, он просто негодник! — развел руками Уэйд.
— Нет, он просто мальчишка.
— И что он там собирается делать?
— Завоевывать мир.
— Глупо! Ведь глупо же!
— Кто знает, Уэйд. У каждого своя мудрость. У тебя — своя, у Бо — своя, а у Джона…
— У Джона вообще нет мудрости! — перебил Уэйд.
— Кто знает…
Друзья и знакомые тоже приходили к Скарлетт узнавать, нет ли новостей от Джона; кто-то осуждал его, кто-то, наоборот, хвалил, дескать, молодец, самостоятельный парень, кто-то даже завидовал, мол, и сам бы уехал, да смелости не хватает.
Уэйд понял, что ни в советах, ни в утешении мать не нуждается, но решил сразу не уезжать, а побыть со Скарлетт пару дней.
— Дела идут неплохо, — рассказывал он матери вечером, когда они пили чай на веранде и слушали стрекот цикад. — Правда, хлопок сильно упал в цене, да и урожаи стали из рук вон плохими. Земля истощилась. Но зато я всегда уверен, что старик Койли заберет у меня все до последней коробочки.
— А что Нина? — спросила Скарлетт про жену Уэйда.
— Нина стала хворать в последнее время. Врач говорит, что это женское возрастное.
— Какое еще возрастное? — удивилась Скарлетт. — Она же совсем не старуха. Это у меня может быть возрастное.
— Мама, ты забываешь, что Нине уже под сорок.
— Слушай, если ты так будешь говорить о своей жене, я надеру тебе уши! — совершенно серьезно сказала мать. — Жена у настоящего джентльмена никогда не стареет. Ты небось и ей говоришь — тебе уже под сорок.
— Никогда. Что ты!
— Смотри у меня.
Уэйд рассмеялся.
— Ма, а ты ведь забываешь, что я уже тоже не мальчик.
— Если бы я об этом вспомнила, уши стоило надрать мне. Для матери ты всегда ребенок. Я бы и сейчас тебе запросто поменяла пеленки.
Представив себе, как мать ему, взрослому мужчине, меняет пеленки, Уэйд засмеялся еще сильнее.
— Ничего смешного! — улыбнулась и Скарлетт. — Вы все это тоже поймете когда-нибудь. Вот погоди, твои Сэм и Сара вырастут…
— Да, ма, все хотел тебе написать, да как-то руки не доходили. Ты мне подробно расскажи вот что: кому принадлежит Тара, откуда она вообще взялась, что у нас с отцовскими акциями, где у нас еще есть земля и все такое…
— Так. Интересно. Ты что, собираешься со мной судиться? — несколько растерянно спросила Скарлетт.
— А! Конечно… Странные вопросы, да? — рассмеялся Уэйд снова. — Да нет же, конечно. Просто приезжал к нам государственный инспектор земель и долго и нудно меня расспрашивал — кто владелец Тары да откуда? А я баран бараном, меня это и не интересовало никогда.
— Прости, это моя вина. Тебе надо просто забрать отсюда все бумаги.
— Можно забрать, конечно, но я думаю, больше этот чиновник не появится.
— Нет-нет, забери. А лучше вот что. Мы завтра же пойдем к нашему нотариусу, и он тебе растолкует все вопросы. Я и сама в них мало что смыслю. Одно я знаю точно, сын, Тара была, есть и будет нашей всегда.
— Я вот что подумал, ма, а не попробовать ли мне перейти на табак? — перескочил вдруг на другую тему Уэйд.
— Ты что, собираешься курить? — испугалась Скарлетт.
— Нет. Я собираюсь табак выращивать.
— Ни за что! На нашей земле всегда рос хлопок. Ты сам говоришь, это стабильно.
— Так-то оно так… — задумчиво произнес Уэйд. Он не стал спорить с матерью. Все равно ее не переубедить. Скарлетт остается сама собой. Это несгибаемая женщина.
Превращение в мужчину
До самого позднего вечера Джон бродил по улицам Нью-Йорка. Устал неимоверно, но настроение его, мрачное с самого утра, улучшилось и стало почти что радужным. Ему нравился город. Нравились суетливые улицы, тысячи экипажей, пестрые надписи на магазинах и ресторанах, нравились независимые с виду дамы, которые смело шагали по людным улицам, ведя на поводках собак и даже кошек. Ему нравился запах многочисленных лотков с горячей картошкой, снующие негритята с газетными кипами, орущие какую-то бессмыслицу, вроде: «Муж, жена и любовник решили жить дружно!» Джон с восхищением смотрел на статных полицейских в строгой черной форме, поигрывающих толстыми дубинками, на парикмахеров, ловко бреющих и стригущих солидных мужчин. Словом, ему нравилось все. Даже огромные коробки домов, даже горящие мусорные баки. Джон с удивлением и радостью чувствовал, что город не то чтобы восхитил его, город лег ему на сердце. Как что-то родное, как известное с самого детства. Это чувство было тем более странным, что Джон никогда не был в больших городах. Но в Нью-Йорке, казалось, родился. Это был его родной город. Он чувствовал себя здесь вовсе не приезжим, а старожилом. Он хотел в этом городе жить и умереть. Он был в этом городе дома.
Уже к ночи вспомнил Джон и о том, что именно дома у него пока что нет. Вспомнил не с ужасом, даже не с озабоченностью, а с радостью. Он знал, что дом у него будет, стоит только зайти в первую же попавшуюся дверь и сказать:
— Добрый вечер, сэр, я хотел бы снять комнату у вас.
— Почему, собственно, у нас? — удивился толстый седой господин, открывший Джону. — Разве ты где-нибудь видел объявление, что в доме сдаются комнаты?
— Нет, сэр. Мне просто понравилась ваша дверь.
Господин внимательно осмотрел свою дверь и пожал плечами.
— Дверь как дверь. Чем же она тебе понравилась?
— Меня зовут Джон Батлер. Я приехал из Джорджии. Собираюсь жить и работать здесь. Мне нужна комната. Я увидел вашу дверь…
— И она тебе понравилась, — перебил хозяин. — Это я уже слышал, только вот чем?
— Это настоящая нью-йоркская дверь, — сказал Джон абсолютно искренне.
Хозяин еще раз посмотрел на дверь, улыбнулся и сказал:
— Заходи, парень. У меня найдется комната.
Джон даже не удивился. Он удивился бы, если бы хозяин не пустил его.
Хозяина, кстати, звали довольно чудно — Ежи Зелински. Потом он рассказал Джону, что переселился в Америку из Польши. Бросил там все и поехал искать счастье в далекой и загадочной Америке. Вскоре Джон уже перестал удивляться, когда встречал людей со славянскими, испанскими, итальянскими, индийскими и даже японскими именами. Перестал удивляться незнакомой речи, даже незнакомым надписям на магазинах. В Америке, как на корабле Ноя, было каждой твари по паре.
Ежи провел Джона на второй этаж и показал небольшую комнатку с окном, выходящим во двор. Здесь стояли железная кровать, стол на хилых ножках, гнутый стул, умывальник и тумбочка, крашенная белой краской.
Даже эта убогая обстановка показалась Джону великолепной.
— Отличная комната! — сказал он.
— И стоит недорого — три доллара в неделю, — улыбнулся Ежи. — Но придется, сынок, платить вперед.
Радужное настроение Джона как рукой сняло. Денег у него не было ни цента.
Он растерянно обернулся к хозяину и сказал:
— Сэр, у меня нет денег.
— Очень жаль, сынок. Попробуй переночевать на Центральном вокзале. Скажешь полицейским, что ты собрался уезжать.
И Ежи любезно распахнул перед Джоном дверь.
Джон закинул на плечи мешок и шагнул было к двери, но вдруг остановился:
— Сэр, а может быть, вы возьмете у меня одну вещь вместо денег?
— Что же это за вещь?
Джон мигом раскрыл мешок и достал оттуда бритвенный прибор. Хозяин повертел в руках помазок, раскрыл лезвие и сказал:
— Вообще-то я вещами не беру, но надо же когда-нибудь нарушить собственный закон.
Он уже собрался забрать прибор, но Джон остановил его:
— Сэр, я отдам его вам через полчаса. Вы можете подождать?
— Ну ладно. Попрощайся с ним, только не очень горюй.
Ежи похлопал Джона по плечу и вышел из комнаты.
В умывальнике была холодная вода, но в мыльнице лежал кусок свежего мыла. Джон быстро взбил пену, он ведь видел, как это делает отец, помазком смазал щеки и начал бриться.
Бритва шла по его коже легко. Да и брить-то, собственно, было нечего. Но только тот, кто однажды первый раз в жизни подверг свои щеки процедуре бритья, может понять, что в такой момент мальчик становится мужчиной.
Джон для пущей убедительности даже напевал что-то себе под нос. Из-под пены показывались капельки крови, но кто сказал, что превращение мальчика в мужчину процесс безболезненный и бескровный. Девушка ведь тоже становится женщиной в муках и радости. Только у мужчин это происходит совсем иначе.
Когда прибор был отдан, а хозяин, оценив ситуацию, даже предложил Джону воспользоваться его одеколоном, когда потом Ежи напоил Джона чаем и накормил жареной картошкой, когда рассказал Джону о себе и выведал все о семье Джона, когда уже за окнами забрезжил рассвет и оба отправились спать, Джон вспомнил вдруг старика попутчика. Тот заложил свой бритвенный прибор через месяц. Джон сделал это намного раньше.
— Ну и пусть, — вслух сказал парень, засыпая. — Главное — я в Нью-Йорке.
Леди Тчк
Бо пил третий день подряд. Пил и сам себе удивлялся. Он вообще-то не любил алкоголь. Так уж был устроен его организм, что после третьей порции виски ему становилось дурно, его тошнило, перед глазами все плыло и он проклинал себя за уступчивость и слабость. Его нормой было два бокала шампанского или одна порция виски. Этого хватало на самый продолжительный вечер. Бо был весел, легок, остроумен и обаятелен.
А теперь он пил три дня подряд и видел, что принятое им спиртное измеряется уже не стаканами, а бутылками, которые стояли и лежали везде.
Несколько раз заглядывавший в комнату хозяина слуга Том только разводил руками. Том пытался прибрать пустые бутылки, но Бо страшным голосом кричал на него:
— Убирайся отсюда! Не трожь мой хрусталь!
Бо и сам не очень понимал, зачем ему эти бутылки, но догадывался, что именно ими он измеряет сейчас степень своего отчаяния. И чем больше становилось бутылок, тем горше становилось Бо.
Все дело в том, что его последняя постановка…
Ах, читатель, ты уже подставил слово «провалилась» и оказался прав с точностью до наоборот! Последняя постановка Бо имела грандиозный успех. И это было крахом Бо.
Непонятно? Мудрено? Но все дело в том, что душа художника вообще вещь непонятная. Сам черт в ней ногу сломит. Может, поэтому черти в душу художника и не заглядывают. Если речь идет, конечно, о настоящих художниках.
Не верьте тем пошлякам, которые говорят, что художник стремится к успеху и славе. Художника успех и слава пугают. Они противны ему. Они выбивают из-под его ног почву и повергают в ужасное уныние.
Ведь все дело в том, что настоящий художник только тогда чувствует себя спокойно, когда он не понят и не оценен. Тогда он смело может сказать себе — я гений. Гениев всегда не понимали.
А успех — это крах. Успех значит только одно — ты понятен толпе, ты прост и примитивен, ты никакой не гений, а шлюха, которая всем хочет понравиться.
Своей последней постановкой Бо хотел всех разочаровать. Всех, кроме себя. А получилось наоборот. Как только в зале начались аплодисменты и какие-то истерички закричали: «Браво!!!» — Бо тут же разонравилось собственное детище. Он увидел в нем массу банальностей, безвкусицы, пошлостей, от которых уши горели стыдом.
Вот почему Бо пил третий день подряд.
Он решил. Теперь решил окончательно — больше он не поставит ни одного спектакля для зрителей. Он из кожи вон вылезет, а добьется, чтобы зрители плевались на его спектаклях. Он костьми ляжет, а заставит их швырять в него тухлые яйца, он вывернется наизнанку, а заставит себя проклинать.
Том принес телеграмму. Бо опять обругал слугу, но телеграмму взял.
Прочитать ее Бо не смог. Он решил, что надо еще выпить. На этот раз за приход телеграммы.
Он нашел не без труда бутылку, в которой еще что-то плескалось на дне. Запрокинул голову и вылил содержимое в себя. Как ни странно, в глазах перестало двоиться. Начало троиться, но это было не страшно, надо было прочитать ту телеграмму, которая оказалась посредине.
Посредине было написано:
«ДЖОН ПОЕХАЛ НЬЮ-ЙОРК ТЧК ПОСТАРАЙСЯ ЕГО НАЙТИ И НЕЗАМЕТНО ПОМОЧЬ ТЧК СКАРЛЕТТ ТЧК».
Интересно. Какой-то Джон поехал в Нью-Йорк, а Бо по этому поводу должен устраивать слежку и благотворительность. И еще какая-то Скарлетт Тчк просит его об этом.
Тчк… Тчк… Что-то очень знакомое. Не встречал ли он эту Тчк в студии у Ника? Нет, кажется, там таких не было. Может быть, он познакомился с ней на вечеринке у Боба Сола? У Боба кого только не встретишь! А может, это было в Лондоне? Ну, конечно, в Королевском театре его познакомили с какой-то леди. Потом он еще провожал ее, и они спрятались от дождя на почтамте…
Точно, на почтамте он с этой Тчк и познакомился.
Бо вдруг протрезвел. Он действительно видел ТЧК на почтамте, но это была не дама, а надпись в бланке телеграмм. Эта надпись значила — точка, а Бо пьяная свинья, потому что телеграмма пришла от Скарлетт, а Джон его двоюродный брат и уже наверное погиб где-нибудь под забором в Манхаттене.
Бо вскочил с дивана, полный решимости сейчас же отправиться к этому забору, чтобы хотя бы оплакать тело любимого Джона, но пол вдруг больно ударил его по носу.
— Ну и пусть, — сказал Бо смиренно. — Пусть они дерутся. И этот пол, и эти шкафы, и эти двери. Я не стану больше к ним приставать. Я полежу себе тут тихонько, пока они не успокоятся.
Только на следующий день Бо пришел в себя. Том успел перенести его на кровать. Бо смутно вспоминал прошедшие дни. Что-то тревожило его, но что, он так и не вспомнил. Он решил. Он твердо решил, что волновало его только одно — он всем докажет, что он гений…
Первая работа
На работу Джон устроился легко. Он просто вышел утром на улицу и увидел, что она не метена. Уже через час ему были вручены жетон дворника и здоровенная метла. Работа оказалась не такой трудной, как многие представляют себе. Именно поэтому Джон сразу же невзлюбил ее. Ну что это за дело для настоящего мужчины — махать метлой с утра до вечера. Никакого творчества, никакого усилия мозгов и мускулов. Нет, это дело Джону не годилось. Это будет для него только временным прибежищем. А пока он будет получать свои шесть долларов в неделю и искать что-нибудь поинтереснее.
Нельзя сказать, что улица Джону досталась спокойная и чистая. Здесь было много магазинов и, разумеется, складов. А там, где склад, там мусор. И его за день набиралось столько, что баки наполнялись с горой. Особенно докучал Джону рыбный магазин. Мальчишки, которым было поручено разгружать корзины со свежей рыбой, постоянно норовили выбросить отходы прямо на тротуар.
Сначала Джон терпеливо сметал рыбьи головы и чешую, кости и внутренности, даже поливал тротуар из шланга, но потом ему это надоело. Он увидел, что мусора с каждым днем становится все больше.
— Добрый день, сэр, — сказал Джон, придя к хозяину магазина, молодому и румяному красавцу с распухшими от воды руками. — Меня зовут Джон Батлер. Я убираю улицу. Мне кажется, что ваши мальчишки не очень порядочны. Они выбрасывают мусор прямо на улицу.
Хозяин через витрину выглянул на улицу и сказал:
— Никакого мусора я не вижу.
— Сэр, они выбрасывают его с другой стороны, с той, где у вас склад.
— А, там! Так скажи им, чтобы они этого не делали, — посоветовал хозяин и принялся за свои дела — разделывать рыбьи тушки.
— Сэр, я могу с ними поговорить. Но ведь это ваши служащие.
— Я доверяю тебе, парень, — сказал хозяин, не отрываясь от работы.
Джон хотел еще что-то добавить, но понял, что хозяину на его проблемы наплевать.
Мальчишек было четверо. Двое белых, один китайчонок и один черный. Как по команде, они бросили свои корзины и стали напротив Джона плечом к плечу.
— Парни, — сказал Джон мирно, — у меня к вам дело.
— Ли, ты знаешь этого оборванца? — спросил белый китайчонка.
Тот пожал плечами и презрительно сплюнул Джону под ноги.
Для них Джон действительно был оборванцем. Ведь они получали по восемь долларов в неделю, а не по шесть, как Джон. Они ни за что не взяли бы его в свою компанию, будь он даже их одногодок.
— Так вот, парни, я прошу вас не выбрасывать мусор на улицу. Это нечестно, парни.
— У-у-у… — в один голос завыли мальчишки.
— Я ведь могу говорить с вами по-хорошему, а могу…
— Что ты можешь, белый? Настучать в полицию? Подраться с нами? — задиристо спросил негр.
— И все вышеперечисленное, и кое-что еще. Словом, парни, я с вами поговорил.
Джон круто повернулся на каблуках, но на скользком полу этот маневр оказался с печальными последствиями. Ноги Джона разъехались в стороны, и он позорно шлепнулся прямо на копчик.
А уж как веселились мальчишки! Да, Джону стоило большого труда удержаться от соблазна догнать их и всыпать им по первое число. А они именно этого и хотели. Они кривлялись, дразнили Джона, улюлюкали и хохотали от пуза.
Джон не стал за ними гоняться. Он гордо, насколько это получалось при мокрых на заднице штанах, удалился из склада.
А на следующий день куча мусора на тротуаре оказалась такой огромной, что Джон даже обрадовался. Эта куча входила в его планы. И чем она была больше, тем лучше должен был сработать план мести.
Джон работал до ночи, а с утра занял наблюдательный пост у входа в магазин.
Как только магазин заполнился покупателями, Джон быстренько выкатил тележку и вывалил из нее рыбьи головы и потроха прямо на ступеньки.
Что было дальше, догадаться нетрудно. За мальчишками гонялся хозяин. Ну а Джон позволил себе только иронично улыбнуться, видя, как двое белых, один китайчонок и негр уворачиваются от хвоста огромной рыбины, которой хозяин хлестал их по задам.
Теперь, когда у Джона появились в кармане пусть небольшие, но вполне американские деньги, он все вечера проводил в городе. Не было театрика, кабаре, варьете, вернисажа, которого Джон не узнал бы за короткие двадцать дней. Нет, конечно, он не мог посмотреть сами представления или выставки. На это денег у него не хватило бы никогда. Но он мог рассматривать фотографии, афиши, мог заглядывать через огромные витрины внутрь, и тот мир, который ему открывался, был поразительным. В глубине души Джон всегда знал, что именно в этот мир его тянет больше всего. Именно ради этого мира он бросил родной дом и мать и примчался в самый большой город мира.
А еще Джон любил наблюдать за людьми. Как раз за теми, которые выходили из сверкающих дверей рая. Ах, что это были за люди! Какие умные и добрые у них были лица, какие красивые и зачастую непонятные слова произносили они, как улыбались, как ступали по этой грешной земле!
А какие женщины были среди них! Только его собственная мать могла сравниться с ними. Но мать — это отдельная статья. Таких, ему казалось, не найти на всем белом свете. А теперь вот выходило, что подобные женщины есть. И постарше, и помоложе. Писаные красавицы и просто обаятельные, элегантные, тонкие, загадочные…
Этот мир ждал его. Но с дворницкой метлой в руках сюда не пускали. Поэтому Джон упорно искал другую работу. И очень скоро он ее нашел.
Тара
Уэйд вернулся в Тару как раз вовремя. Лили была в панике и даже собиралась послать за ним, потому что как раз в его отсутствие вновь приходил тот самый государственный чиновник и снова интересовался документами на право владения землей. Уэйд узнал, как связаться с чиновником, и собирался на следующий же день отправиться в его контору, чтобы раз и навсегда положить конец этим странным визитам.
Визиты эти не то чтобы пугали Уэйда, они ему ужасно не нравились. А кому бы это понравилось — к вам в дом приходит человек и требует доказать, что именно вы хозяин, а не какой-нибудь Смит с соседней улицы. Сама мысль о том, что кто-то усомнился в праве семьи Скарлетт на владение Тарой, казалась Уэйду абсурдной. Нет, он завтра же пойдет и расставит точки над «и».
Но наутро чиновник заявился в имение сам.
Этот человек был широк в плечах, с открытым и честным лицом, большими руками, которые, казалось, никак не могут отвыкнуть от крепкого лассо или от ручек плуга. Представить себе этого человека заполняющим какие-то чиновные бумаги было почти невозможно. Чиновник вновь показал Уэйду все надлежащие свидетельства и снова приступил к вопросам.
— Не могли бы вы, мистер Уэйд, показать мне документы? — спросил он, когда хозяин усадил его за стол и даже предложил выпить стаканчик виски.
Уэйд сделал это не потому, что ему особенно нравился чиновник, а потому, что так было принято в домах всех более или менее уважающих себя людей.
— Я охотно сделаю это, мистер Краут, но не могли бы вы сначала объяснить мне причину столь пристального внимания вашей конторы к нашему имению?
— Это можно, — сказал чиновник спокойно. — Все дело в том, что в арбитражный суд по земельным делам поступило заявление, в котором ваши права на владение Тарой оспариваются, и весьма убедительно.
— Оспариваются?
Если бы Уэйд сейчас увидел запросто бредущего мимо его окон, скажем, динозавра, он удивился бы меньше. Кому же пришло в голову оспорить право на владение Тарой? Это то же самое, что оспорить право американцев на владение Америкой.
— А кто этот веселый спорщик? — без тени юмора спросил Уэйд.
— Этого я вам не могу сказать, — ответил Краут.
— Почему же? — удивился Уэйд.
— Человек этот опасается за свою безопасность, — сказал чиновник и внимательно посмотрел в глаза Уэйда.
Ресторан «Богема»
Форма официанта была Джону очень к лицу. Красный коротенький пиджачок, черные брюки из плотного шелка, белая рубашка с пышным жабо и великолепный фиолетовый бант. Но Джону эта форма казалась сущим наказанием. Он чувствовал себя в ней, как девица, которая собирается на танцы после благотворительного вечера.
Впрочем, делать нечего, форму обязаны были носить все официанты.
Ресторан был артистическим и назывался «Богема». Название полностью соответствовало составу посетителей и их поведению. Ресторан начинал работу только в одиннадцать вечера и заканчивал в семь утра. Это было сделано потому, что артисты приходили в «Богему» только после окончания спектаклей. Часто с несмытым гримом, в причудливых костюмах, уставшие, но веселые и счастливые.
Надо сказать, что официантам много работы они не задавали. Только иногда, если кто-нибудь отмечал премьеру или бенефис, приходилось побегать, а в остальные дни можно было присесть в уголке и наблюдать за жизнью этих удивительных людей. Правда, делать это надо было крайне осторожно, хозяин строго следил, чтобы официанты не мешали посетителям, не нарушали интимной, почти домашней атмосферы ресторана.
Но кто мог запретить Джону хотя бы издали наблюдать, как живут его кумиры.
Надо сказать, что уже очень скоро многие посетители знали Джона по имени, заговаривали с ним, шутили и даже приглашали к столу, но он всегда отказывался, потому что этого греха хозяин никогда бы не простил.
Когда первая эйфория от узнавания знаменитостей прошла, Джон стал внимательнее наблюдать за посетителями и, конечно, не мог не заметить Лору Кайл и Фреда Барра. Эта пара всегда была в центре внимания.
Лора — тонкая и даже, казалось, болезненная красавица постоянно была угрюмой. На ее лице была написана печаль всех женщин мира. Только потом Джон понял, что Лора вовсе не такая грустная женщина, совсем не зануда. Просто она всегда оставалась артисткой и знала один свой безотказный приемчик — улыбку. Когда ее печальное томное лицо веселело, словно кто-то включал над ней мощный прожектор, — улыбка преображала весь ее облик. Она была, как вспышка весенней молнии в темную ночь, как расцветший к утру куст сирени, как мощный аккорд в конце грустной симфонии. Лора знала цену своей улыбке. Именно поэтому редко пользовалась ею.
Другое дело — Фред. Только самозабвенно влюбленная в него женщина могла бы сказать, что он красив. Фред был поистине уродом. Огромный рот, с вечно подвижными губами, торчащие уши, которые краснели от пустяка, маленькие живые глазки какого-то невразумительного цвета, скорее выцветшие, чем имеющие колер, нескладная фигура с длинными, вечно жестикулирующими руками, узкие плечи и небольшой рост. Только насмешница-судьба могла сделать Фреда актером. Самое удивительное, что и голос его был не из приятных — резкий, тонкий, колючий. Но какая-то магия заставляла человека, увидевшего Фреда, вдруг забыть обо всех его недостатках и утонуть в его обаянии и искренности. Чудо происходило прямо на глазах — из гадкого утенка появлялся прекрасный лебедь. И тогда было видно, что этот человек тонок, поэтичен, трагичен, заразителен, романтичен, словом, что он великий актер.
Фред и Лора были мужем и женой. Это тоже было удивительно, потому что более неподходящую пару трудно себе представить. Но однажды Джон видел, как Фред утешал Лору, гладил ее руку и поправлял выбившийся локон. Он понял: да, в этого человека женщины могут влюбляться. Должны влюбляться, обязаны.
Были в ресторане и другие знаменитые артисты, но все они считали за честь поздороваться с этой удивительно парой, присесть на минутку к их столу, просто улыбнуться им издали и помахать рукой.
Джон тоже был очарован этой парой, но ощущение неполной правды о них, возникшее сначала робко, постепенно крепло в нем. Он понимал, что совершенно не знает этих людей. Да, сейчас они были не на сцене, они были в дружеском кругу, но Джону казалось, что ни на секунду никто из них не сбрасывал своей артистической маски. Игра продолжалась, может быть, более тонкая, более реалистичная, чем в театре, но все равно — игра.
А как-то раз эта его догадка переросла в уверенность.
В тот вечер артисты праздновали дебют Ширли Маккалоу. Эта молоденькая актриса уже довольно давно стала завсегдатаем ресторана, Джон видел ее то за одним, то за другим столиком, она о чем-то напряженно беседовала с режиссерами или флиртовала с ними. Часто уходила с кем-нибудь из них домой, словом, меняла своих партнеров. Но в последнее время она все чаще просиживала за столиком Арнольда Калкина, известного режиссера преклонных лет, с седой гривой волос на великолепной лепки голове. В его спектакле она и дебютировала.
Вечер начался шумно. Калкин заказывал шампанское, артисты осыпали и его, и Ширли комплиментами и поздравлениями, пили за успех, за долгую творческую жизнь, смеялись, пели.
Фред и Лора пришли позже других. Лора одарила Ширли своей волшебной улыбкой и тихо сказала:
— Красота — великая сила.
Джон стоял рядом с подносом и слышал эти слова. Они показались ему вовсе не такими безобидными. Лора явно намекала на способ, каким Ширли пробивалась на сцену.
Фред произнес целый тост:
— Леди и джентльмены! Сегодня мы принимаем в наш странный круг нового члена. Ширли, девочка, ты улыбаешься, тебе все еще кажется, что ты попала в рай. Дай Бог тебе сохранить эту радость подольше. Но я уже старый человек…
Шум шутливого несогласия прервал его.
— Нет-нет, я уже старый. Тридцать четыре года! Господа, я старый и настаиваю на этом. Но сегодня речь не обо мне, а о нашей прекрасной Ширли. Девочка, ты попала в ад! Тебе ужасно повезло — ты будешь гореть в страшном пламени уже при жизни. Черти будут жарить тебя на сковороде, мучить и истязать. И самое смешное, что тебе это будет нравиться. Ты будешь обожать этих чертей, а они каждый вечер станут плотоядно набиваться в театр и ждать твоего позора. Я еще не испугал тебя? Тогда слушай самое страшное — с этого дня Ширли Маккалоу не существует. Существует артистка Ширли Маккалоу. Согласитесь, разница! С этого дня ты не женщина, не мужчина, не ребенок, не старик — ты актриса. И этой проклятой профессии будет посвящено все твое существование. Ты не будешь любить детей, мужа, мать и отца, ты будешь любить только чертей, которые изведут тебя своим непостоянством и капризами.
Фред сделал паузу. Ширли смотрела на него уже почти растерянно. Тост получался совсем не праздничным.
Но в этот момент Фред улыбнулся и добавил:
— Но, Боже мой, сделай так, чтобы этих чертей было побольше!
Ресторан бурно зааплодировал. Ширли бросилась на шею к Фреду и пылко расцеловала его.
Самих поцелуев Джон не видел, ему пришлось отступить в сторонку, и оказался лицом к лицу с Лорой. Впрочем, то, что это Лора, Джон понял не сразу. Во все глаза на Фреда смотрела какая-то незнакомая, ужасно злая, завистливая и недобрая женщина. Казалось, будь у нее возможность, она бы сейчас расстреляла и Ширли, и собственного мужа, и всех веселящихся артистов.
А позже Джон услышал, как Фред и Лора ссорились в туалетной комнате. Они ссорились из-за какого-то пустяка, но Джон понимал, что это только предлог.
— Да ничего ты мне не говорила! Я не помню ни о каких твоих счетах.
— Конечно, зачем тебе помнить о моих счетах? У тебя столько побочных интересов! Я не вхожу в их число.
— Лора, перестань. Ты правда ничего не говорила мне. Правда.
— Ты всегда говоришь правду, а я всегда лгу.
— Ну почему? Разве я тебя в этом обвиняю?
— Нет, ты меня никогда не обвиняешь, это я такая невозможная злодейка. Но тогда скажи мне — зачем ты со мной живешь?
— Лора, я ничего не понимаю. Что на тебя нашло? Тебе охота поскандалить?
— Должна же я хоть раз сказать тебе то, что я чувствую. Ты не любишь меня. Ты меня ненавидишь. Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на меня исподтишка?! Ты просто готов растерзать меня.
— Что ты несешь?! Когда я так на тебя смотрел?!
— Я еще не сошла с ума! Хотя тебе очень бы хотелось выдать меня за сумасшедшую!
И так далее в том же духе. Джон не видел лиц ссорящихся, но голоса их были достаточно выразительны. Джон понял, что, когда Фреди говорил об аде, он имел в виду именно это, а не нечто романтическое и влекущее. Лора скандалила с мужем именно потому, что кусок всеобщего внимания сегодня достался не ей, а Ширли Маккалоу.
Впрочем, через пять минут пара вернулась в зал с таким видом, словно в туалетной комнате они целовались, а не ссорились.
В другой раз в роли ревнивца выступал Фреди. И теперь Джон был уже непосредственным участником событий.
В тот вечер случилось неожиданное — в зал ресторана каким-то образом попал посторонний. Это был пьяный и весьма агрессивный громила необъятных размеров, который тут же сориентировался и начал приставать к беззащитным актрисам и актерам. Беззащитными они были потому, что никто из них не умел драться, а если кто и умел, то слишком берег свое лицо, чтобы подвергать его риску. Особенно не понравился громиле именно Фреди. Он нахально присел за стол знаменитой пары и сказал:
— Ты, дохляк, пойди погуляй, мне надо покалякать с твоей девкой.
Конечно, сразу же послали за полицией, но представитель закона долго не появлялся.
— Не стоит, приятель, мы муж и жена, — примирительно сказал Фреди, стараясь сохранять достойное выражение на лице.
— Я тебе, крыса, не приятель! Вали отсюда, пока я не оборвал твои поганые уши! — загремел чужак и приподнялся, намереваясь двинуть Фреди.
— Ну прости, если я обидел тебя, — жалко запричитал актер. — Может, хочешь выпить? Ты что пьешь?
— Пошел отсюда, гнида, я с тобой пить не буду. Только в том случае, если ты выпьешь мою мочу! — заржал громила.
Он уже обнял Лору и лез к ней целоваться. Фреди понял, что необходимо предпринимать какие-то более действенные шаги, и потянул громилу за рукав.
— Не трогайте мою жену, — попросил он дрожащими губами.
Все вокруг сидели молча и смотрели на громилу весьма осуждающе.
Громила мигом обернулся к Фреди и ткнул того кулаком в грудь. Фреди тут же отлетел от стола метра на три.
Здесь уже Джон не выдержал и рванулся вперед, хотя другие официанты пытались задержать его.
— Мистер, — сказал Джон, подлетая к столу. — Мне кажется, вы ведете себя, как ублюдок.
Джон специально провоцировал громилу. Когда человек очень зол, он не может успешно драться.
Так и вышло. Громила вскочил и широко замахнулся для удара. У Джона было достаточно времени, чтобы выбрать место и нанести сразу три удара в солнечное сплетение. Громила завалился на пол, словно мешок с картошкой.
Джон даже не успел как следует поволноваться, так быстро и легко все произошло.
Когда полицейский утащил громилу, весь ресторан стал, естественно, высказывать восхищение Джону. Лора улыбнулась ему так, как, пожалуй, она еще не улыбалась. Во всяком случае, Джон такой улыбки не видел.
Фреди все сочувствовали, спрашивали, не сильно ли ушиб его бандит?
Фреди был бледен. Он держался за руку и морщился от боли.
— Надо приложить лед, — посоветовал кто-то.
Джон мигом слетал на кухню и принес серебряное ведерко со льдом.
— Вот, сэр, приложите, — подал он ведерко Фреди.
— О! Вы уже успели стать врачом? — не без иронии спросил Фреди. — Интересно, а еще минуту назад вы были подавальщиком.
— Лед вам поможет, сэр, — не обратил внимания на его колкость Джон.
— Вы уверены?
— Да, сэр, моя мать всегда так делала, если я ушибался…
— А, значит, у вас-таки нет врачебной лицензии. Врач — ваша мать. И какое же учебное заведение она окончила?
— Моя мать не врач, но это знают все, сэр…
— А мне плевать на то, что знают все. Еще не хватало, чтобы какой-то официант учил меня жить.
— Простите, сэр, — сказал Джон и повернулся, чтобы унести ведерко.
— Разве я отпускал тебя? — остановил его Фреди. — Разве я сказал тебе — свободен? Нет, надо будет пожаловаться хозяину. Здесь совершенно не умеют обслуживать посетителей.
— Прекрати, Фреди, — вступилась за Джона Лора.
— Почему это я должен прекратить? Я прихожу в артистический ресторан, я плачу деньги, а мне здесь хамят официанты. Почему я должен это сносить?
И так далее в том же духе.
Фреди действительно пожаловался хозяину, и тот на несколько дней отстранил Джона от работы в зале, заставив его помогать на кухне.
Это последнее событие привело Джона к окончательному решению — и здесь он работать не будет. Но до того как он оставил «Богему», с ним произошел случай, который потом сильно повлиял на всю его жизнь.
Джон по-прежнему жил у поляка, и тот был счастлив, что когда-то впустил в свой дом подозрительного парня прямо с улицы. Остальные комнаты в доме Ежи пустовали. Джон часто спрашивал хозяина, почему тот не даст объявление о сдаче комнат. Но Ежи наотрез отказывался заселять свой дом таким образом. Наверное, он был фаталистом, потому что надеялся на случай, который сам приведет к нему хороших постояльцев.
— Так же, как это случилось с тобой, Янек, — улыбался поляк.
И случай действительно привел в дом постояльцев. Правда, это случилось не ночью, а среди бела дня, когда Джон еще отсыпался после ночной работы.
Его разбудил шум в коридоре. Кто-то тащил что-то тяжелое, а потом дверь комнаты Джона распахнулась и мужской немолодой голос произнес:
— Порка мадонна! Здесь уже кто-то спит!
— Не сюда, не сюда! — послышался голос Ежи. — Соседняя комната!
Дверь закрылась. Джон, который лежал, отвернувшись к стене, так и не увидел, кто же посягнул на его одиночество.
Новых жильцов оказалось трое. Это была итальянская семья — отец, мать и их дочь. Они тоже только что прибыли в Нью-Йорк, но не из провинции, а прямо из Италии. Это оказались милые, улыбчивые, добрые, но ужасно шумные люди. С утра до вечера Джон только и слышал резкий голос отца, которого, кстати, звали Джованни, что означает тот же самый Иоанн, его жены Лореданы и низкий красивый голос их дочери Марии. Когда Джону казалось, что семья не на жизнь, а на смерть ругается и сейчас дело дойдет до рукоприкладства, оказывалось, что они просто обсуждают меню на ужин.
Джованни очень скоро устроился на работу, а Мария тоже стала куда-то постоянно уходить по утрам. Лоредана не работала. Хотя и по дому у нее была уйма дел.
Да, читатель, ты догадался, Джон и Мария как-то сразу понравились друг другу. Правда, поначалу отец смотрел на эту симпатию между молодыми людьми несколько настороженно, но потом смягчился. Он только раз пришел к Джону и строго сказал на плохом английском:
— Моя дочь — невеста. Ты ее не обидеть.
— Я не собираюсь на ней жениться, — сказал Джон. — Мы же просто дружим.
— Нет. Такое не бывает. Парень и девушка — только любовь. Если дружить — дома. Все.
— Хорошо, — сказал Джон. — Будем дружить дома.
Но дома дружить было неинтересно. Итальянцы приглашали Джона к себе в комнату, усаживали за стол, угощали вином и заводили долгие и путаные разговоры о своей родине — Калабрии.
Из их разговоров получалось, что лучше места на земле нет. Правда, становилось непонятно, зачем же они тогда уехали в Америку.
Но разве можно остановить молодых, которым хотелось бы побыть наедине?
Очень скоро Джон и Мария стали встречаться в городе. Джон водил девушку на все выставки, вернисажи, во все музеи, несколько раз они побывали и на спектаклях. У Джона теперь появились деньги, и он не жалел их. Собственно, это и стало причиной того самого рокового события. Дело в том, что денег у Джона было не так уж и много, а тратил он почти все. Тратил и не жалел. Новый мир ощущений открывался для него. Он хватал его жадно и безудержно. Марии было это, может быть, не очень интересно, и она чаще предлагала Джону отправиться куда-нибудь в тихий парк, но Джон и слушать ее не хотел. Он открывал для себя мир искусства, которому, теперь он в этом был уверен, посвятит свою жизнь.
Как раз в это время в Америку стали привозить выставки французских импрессионистов. Джон был потрясен картинами Моне, Дега, Ренуара… Сами имена этих художников казались ему волшебными. А то, как видели они мир, было для Джона откровением.
Старых мастеров итальянской, французской, испанской, голландской школ он знал неплохо. Мать учила его понимать прекрасное. Но эти художники открыли ему прекрасное совершенно с новой стороны.
Но деньги… Ах, эти деньги! Так вот, денег не хватало. Ведь помимо билетов в музеи и на выставки — на спектакли, слава Богу, артисты давали ему контрамарки — надо было угостить Марию сэндвичем или даже пирожным. Джон мог только расплатиться за квартиру. И он избрал обычный путь молодого, но бедного ухажера. Он стал ограничивать себя в еде. Кое-что он, правда, мог перехватить в ресторане. Но наесться досыта не получалось. Доедать объедки ему не позволяла гордость, а другой возможности не было. Хозяин строго следил за продуктами.
Надо ли говорить, что молодой организм требовал много пищи, надо ли говорить, что даже непродолжительное голодание было для него вредным. У Джона иногда начинала кружиться голова. Есть ему хотелось постоянно, и эта мука усугублялась тем, что он все время видел людей, евших вкусно и обильно.
Джон был абсолютно искренен, когда сказал Джованни, что любовных чувств к Марии не питает. Он действительно всего лишь дружил с ней. Но вот Мария, очевидно, придерживалась несколько иного мнения на этот счет. Джон все чаще ловил на себе взгляды девушки, от которых ему становилось не по себе. Все чаще она со значением брала Джона за руку, глубоко и томно вздыхала, все чаще в омнибусе старалась прижаться к нему. Конечно, Джон был не стальной, его волновали эти проявления далеко не дружеских чувств, но он свято чтил обещание, данное Джованни. И потом, он серьезно считал, что еще не достиг возраста любви, а тем более брака. И Марию он на самом деле не любил. Ему было интересно с ней, здорово, чудесно, но любовь, думал Джон, это что-то совсем-совсем другое.
А Мария, очевидно, воспринимала его сдержанность за очень привлекательную мужскую черту — волю.
Она работала на швейной фабрике. Правда, пока что училась и ее рабочий день был коротким — всего пять часов. Поэтому все послеобеденное время они могли проводить вместе с Джоном, что они и делали. Отец возвращался поздно, уставший, у него не было ни желания, ни возможности разузнавать, чем весь день занималась его дочь. Семья рано ложилась спать. Джон только собирался идти в свой ресторан, а они уже спали.
А в тот самый день Мария сама пришла в комнату Джона. Это случилось под вечер, часов в пять.
Джон только-только поднялся. Он теперь специально старался подольше спать, чтобы, во-первых, экономить силы, а во-вторых, не думать постоянно о еде.
В тот день они с Марией не договаривались о встрече. У Джона за душой не было ни гроша. Да и новых выставок в городе не было.
Мария вошла в комнату Джона неслышным шагом, тихонько прикрыла за собой дверь и даже накинула крючок. Когда Джон хотел поздороваться с ней, она приложила палец к губам и прошептала:
— Тихо.
Джону стало не по себе. Он понимал, что просто так девушка к парню в комнату не придет. В его пуританское время это было равносильно страшному позору или безоглядной, бешеной, сумасшедшей любви. Ни к тому, ни к другому Джон не был готов.
А Мария на цыпочках подошла к его кровати и присела рядом.
— Мама не знает, что я вернулась домой, — сказала она шепотом. — И Ежи меня не видел.
Джон судорожно сглотнул слюну. Что он мог ответить? Что он мог сказать? Прогнать Марию? Отчитать ее? Он мог только молча и испуганно смотреть на девушку.
У Марии были чудесные черные шелковистые волосы, которые она собирала в тугой узел на затылке. Длинная, тонкая шея плавно переходила в округлые плечи, которые уже теряли девчоночью угловатость. Руки у нее были маленькие и пухлые, словно детские. Огромные черные глаза смотрели прямо и вызывающе. Она была очень красива. Джон понимал это. Нет, это не была красота изысканных тонких дам из «Богемы». Это была простая и здоровая красота будущей матери, жены, хозяйки лома.
— Джон, — сказала Мария. — Ты не прогонишь меня?
— Нет, — ответил Джон и не узнал своего голоса.
— Ты не подумаешь обо мне плохо?
— Нет.
— Я знаю, это стыдно, когда девушка сама приходит к парню. Это плохо, Джон?
— Я не знаю. Нет, это не плохо.
— Джон, ты знаешь, зачем я пришла?
— Нет… То есть да, я думаю, что я знаю… — У Джона заплетался язык и мысли путались в голове.
— Джон, я хочу, чтобы ты сказал мне — ты меня любишь? — Мария опустила голову.
— Я — тебя? — Джон замялся. У него была сейчас возможность остановить это безумие. Но как? Вот так прямо сказать ей в глаза — нет, я тебя не люблю?
— Только не говори мне, что ты меня не любишь. Лучше промолчи, — подсказала ему выход Мария, словно догадавшись о его мыслях. — Это не имеет значения. Даже если ты меня не любишь, это уже ничего не изменит. Потому что я тебя люблю.
— Мария…
— Не надо ничего говорить. Ты только сделай одну простую вещь — поцелуй меня, — еле слышно произнесла девушка.
И если еще секунду назад Джон готов был сказать ей про обещание отцу, про то, что любовь должна быть взаимной, что он очень ценит Марию и уважает ее, что желает ей счастья, то теперь все эти разумные слова вдруг оказались такими жалкими и неубедительными перед ее самоотверженностью и безоглядностью. Джон был бы последней сволочью, если бы не понимал этого.
Он тихо привлек девушку к себе и поцеловал ее в щеку.
И словно плотину прорвало, словно маленький камешек вызвал бурный обвал. Мария была безудержна. Да надо сказать, что Джон не очень и сопротивлялся. От страстных и неумелых поцелуев — ведь у обоих это было впервые — они очень быстро перешли в более смелым ласкам. Ни на секунду, ни на мгновение Мария не остановилась. Глаза ее были полны только одним желанием — дойти до конца.
Она сама расстегивала платье, стоило Джону лишь коснуться несмело ее груди. Она сама прижимала его голову к своим соскам. Она шептала:
— Еще, любимый, еще…
Она счастливо смеялась тихим смехом от радости прикосновений любимых рук и губ, она сама ласкала Джона, и от этих ласк у Джона алым светом затуманивались глаза.
Потом она вдруг отстранила его от себя, спрыгнула с кровати и мигом сбросила оставшуюся одежду.
Нет, она не стеснялась своей наготы. Ее молодое, сочное, отливающее молочной белизной тело было прекрасно, и, наверное, Мария знала это. Она, нагая и открытая, распустила волосы, запрокинув руки, улыбнулась своему любимому и спросила:
— Я нравлюсь тебе?
Джон шагнул к ней, поднял на руки и положил на кровать…
Всякий мальчишка мечтает о первой близости и всякий боится ее. Страх его прост и понятен — не опозориться. Куда менее страшно испугаться драки, вынести оскорбления врага, чем показаться неловким в глазах первой женщины. В глубине души Джона тоже преследовал этот страх. Но все получилось иначе. И он, и Мария с какой-то чистой радостью открывали для себя свои собственные тела, с полужеста и полувзгляда понимали друг друга, чувствовали… Стыд уступил место безудержному счастью самоотдачи, желанию раствориться в любимом, угадать самое смутное его желание… Даже капелька крови не испугала их. Она словно еще больше сблизила их. Даже боль обрадовала Марию — она снова счастливо засмеялась, ведь для любимого она готова была сделать куда больше…
«Тупица, слепец, ковбой недоношенный, ведь я люблю ее! Я люблю ее больше жизни! Как я этого не понимал раньше? Что случилось со мной, какой еще выдуманной любви я хотел? Ведь вот же она — настоящая, великая, единственная любовь!»
Так думал Джон, блаженно улыбаясь и глядя на разгоряченное лицо Марии, которое лежало на его груди. В доме было тихо. Даже с улицы, казалось, не долетал ни единый звук. Комната словно отделилась от суетного мира и теперь парила в заоблачных чистых высотах.
Джон почувствовал на своей коже влагу.
Он удивленно поднял голову и увидел, что Мария плачет.
— Что с тобой, что случилось? — испугался Джон.
— Я плачу, — просто ответила Мария.
— Тебе больно? Тебе плохо?
— Нет, любимый, мне очень хорошо. Вот поэтому я и плачу. Ты прости меня, — виновато улыбнулась она и вытерла слезы с его груди.
— Мария, — задохнулся от прилива нежности к девушке Джон. — Любимая…
— Что? — вскинула она голову. — Что ты сказал?
— Я люблю тебя, — ответил Джон и был абсолютно искренен в этот момент.
И когда он шел на работу, и когда разносил по столам тарелки и бокалы, когда отсчитывал сдачу и перестилал скатерти, когда отвечал клиентам и коллегам на их вопросы, когда смотрел на знаменитых артистов, мирно отдыхающих после своей работы, он словно делал все в своей жизни впервые. Вернее даже не так, Джон как бы разделился на двух Джонов. И один все делал привычно, легко, почти механически, а другой видел все это со стороны, сквозь некую дымку, сквозь голубой туман, флер, придающий обыденным вещам загадочную романтичность.
Его позвали на кухню: необходимо было помочь поварам перенести какие-то ящики, баки, мешки… Джон стал помогать… А когда на складе ставил пустой винный ящик на самый верх огромной пирамиды из ящиков, вдруг покачнулся и упал, свалив на себя всю эту гору…
Какое-то недолгое время он был без сознания, а когда открыл глаза, то оказался в неведомом мире, мире, разделенном на осколки, разноформатные картинки, каждая из которых была удивительной и завораживающей.
В одной из них, треугольной, он видел луч света, падающий на бетонный пол, в другой, прямоугольной, чей-то встревоженный неморгающий глаз, в третьей, узкой и овальной, двигались складки ткани чьей-то одежды; была картинка с длинной перспективой дверей, была с осколком желтого стекла, сверкающего, как драгоценный камень, была с сумбурным и неясным движением… Эти картинки складывались в сознании Джона в разные сюжеты — смешные и грустные, драматические и детективные, философские и незамысловатые. Они очаровали его. Он и не пытался понять, что это за осколки, он смотрел на них и радовался. Какое-то смутное убеждение подсказывало ему, что он видит нечто из своего будущего. Нечто, определяющее это будущее и всю его жизнь.
Сказочное видение объяснялось просто — Джон видел мир сквозь щели заваливших его ящиков. С ним случился голодный обморок.
Беда
Уэйд приехал под вечер.
Как только Скарлетт увидела повозку, сворачивающую к дому, она сразу же поняла, что случилось что-то плохое.
Таков уж жизненный закон: дети приезжают к матери только тогда, когда у них нет денег или случилась беда. Скарлетт никак не могла привыкнуть к этому. Она вообще не могла привыкнуть к тому, что дети живут отдельно. В ее детстве и юности все было не так. Семьи держались вместе. Мальчики наследовали дело отца, дочери приводили мужей, и те тоже становились помощниками хозяина. Бывало, строили отдельные дома, но не в другом городе, а рядом с усадьбой. За обедом вся семья собиралась за столом, и отсутствовать кто-то мог лишь по экстраординарным причинам — болезнь, отъезд или тюрьма, не дай Бог.
Теперь семьи разваливались. Это происходило на глазах. Казавшиеся такими крепкими семейные кланы таяли, дети уезжали, больше того, бывало так, что муж и жена разводились. Это уже не лезло ни в какие рамки. Да, чувствовалось, что двадцатый век на пороге.
Уэйд не умел скрывать своих чувств. Лицо у него было испуганным, словно у ребенка, он быстро поцеловал мать и сразу же сказал:
— Мама, беда.
Скарлетт молча кивнула и пошла в дом. Она знала, что Уэйд сможет толково объяснить все только после того, как поест и выпьет кофе.
Она спокойно покормила сына, расспрашивая его о пустяках, и лишь затем, усевшись в свое любимое кресло — а у нее с возрастом стали появляться любимые вещи, — сказала:
— Ну а теперь я тебя слушаю.
— Ма, помнишь, я говорил тебе о чиновнике по земельным делам?
— Да, помню.
— Он снова приходил, ма.
— Вот как? И чего же он хотел?
— Ма, он говорит, что в арбитражном суде лежит заявление, в котором оспаривается твое право на владение Тарой.
Скарлетт улыбнулась.
— А там случайно не лежит заявление, оспаривающее мою принадлежность к женскому полу? — спросила она.
— Ма, насколько я понял, это очень серьезно. Некий человек…
— Какой?
— Я не знаю, ма.
— Почему, Уэйд? — Скарлетт вскинула брови.
— Чиновник не назвал его имени…
— Странно!
— Очень странно, ма. Чиновник говорит, что человек опасается за свою жизнь.
— Очень правильно делает. Таких людей надо вешать, как растлителей закона.
— Ма, так вот чиновник говорит, что аноним предъявил суду какие-то очень веские доказательства, которые ставят под сомнение твое владение Тарой.
— Какие же это доказательства, Уэйд?
— У человека есть заверенное правительством свидетельство… — Уэйд замолчал, не в силах сказать самое страшное.
— Свидетельство чего?
— Того, что эта земля принадлежит ему, — проговорил Уэйд еле слышно.
Какое-то время Скарлетт не проронила ни слова. Известие, принесенное Уэйдом, оказалось куда более страшным, чем она думала. Именно в силу своего абсурда. Если человек, этот неизвестный негодяй, берется доказать, что Тара принадлежит не Скарлетт, то у него для этого действительно должны быть совершенно безукоризненные доказательства. Он, конечно, понимает, что губернатор штата — большой друг Скарлетт, частый гость в ее доме, что с судьей штата она знакома с младых ногтей и тот скорее даст засудить себя, чем Скарлетт, что все более или менее влиятельные семьи Джорджии знают и уважают Скарлетт. Он все это должен знать. И он все это знает. И тем не менее…
И еще Скарлетт насторожило то, что чиновник явился не к ней, а приехал к Уэйду. Этот чиновник работал в конторе, начальник которой тоже прекрасно знал Скарлетт. На самом деле все должно было произойти так — начальник конторы должен был бы прийти к Скарлетт и посоветовать ей еще раз хорошенько проверить свои бумаги: некий крючкотвор вдруг вознамерился посягнуть на нерушимое — надо будет нахала как следует проучить.
Но начальник не пришел.
Скарлетт только сейчас вдруг почувствовала, что вокруг нее образовалась какая-то непривычная пустота. Она не обратила на это внимания — ее мысли были заняты другим, она беспокоилась о Джоне. А вот сейчас поняла, что ни жена шерифа, ни племянница мэра, ни мать Саймса, владельца самого большого банка в городе, не появлялись у нее уже давно, хотя раньше не проходило дня, чтобы хоть одна из них не забежала поболтать за чашкой чая. Скарлетт уж не вспоминала о других, которые хотя и нечасто, но бывали у нее регулярно.
Только теперь Скарлетт стало тревожно по-настоящему. Но она спокойно сказала Уэйду:
— Тара принадлежит нам, сынок. Меня скорее придется убить, чем будет иначе.
Весь оставшийся до сна вечер она показывала сыну три письма, которые пришли от Джона одно за другим в течение трех дней. Это было своего рода чтение с продолжением.
Уэйд от души смеялся над письмами брата. Он от удовольствия похлопывал себя по коленям и приговаривал:
— Ах, лягушонок, ах, негодник!
Письма Джона были полны чудесными по тонкости и остроумию заметками о жизни в Нью-Йорке. Он описывал свою работу на бирже недвижимости, рассказывал, какой автомобиль купил себе, какие костюмы, в каких апартаментах живет и как здорово питается. Особое внимание он уделял светским вечеринкам и другим развлечениям. Правда, в гости он не приглашал, потому что собирался на днях отплыть по делам биржи в Европу, а потом и в Азию.
— Ну что ж, — прочитав все три письма, сказал Уэйд. — Я рад за братишку.
— Я тоже рада, — сказала Скарлетт. — Он очень талантливый мальчик. Вся беда в том, что пока его талант направлен на совершенно ненужные вещи.
— Что ты имеешь в виду? — удивился Уэйд.
— То, что ни одному слову я в этих письмах не верю. Хотя, согласна, написано талантливо.
На следующий день Скарлетт вызвала мистера Торнтона Доста. Это был пожилой, спокойный господин, чуть заикавшийся при разговоре, но этот недостаток делал его слова только более весомыми. Дост был поверенным в делах Скарлетт. Он занимался этим уже давно и знал о материальном и юридическом положении семьи куда больше, чем сама его работодательница. Еще в прошлый раз он уверил Скарлетт, что все документы в полном порядке, что все они недавно заново перерегистрированы, как того и требует закон, что дивиденды с акций, купленных когда-то Реттом, по-прежнему высоки и стабильны. Собственно, если бы было иначе, он тут же известил бы Скарлетт.
Дост внимательно выслушал рассказ Уэйда и вдруг покраснел до корней волос.
— Что случилось, Торн? — спросила Скарлетт.
— Б-беда, миссис, б-беда. Обо всем этом вам рассказать должен был в первую голову я. Мне просто с-стыдно. Я что-то упустил. Б-беда…
— Я ни в чем не виню тебя, Торн…
— Я сам виню себя. Одно скажу вам т-точно: готовьтесь к большой драке. И еще…
— Что, Торн? Что еще?
— Готовьтесь драку п-проиграть, — тихо сказал Дост.
Переезд
Бо без сожаления покидал свою старую квартиру. Она теперь казалась ему и слишком большой, и слишком претенциозной. Мебель была громоздка, окна маленькие, район скучный. Бо уже любил свою новую квартиру. Он долго искал ее, долго обходил разные дома, знакомился с десятками хозяев, всем говорил, что именно эту квартиру снимет, что именно об этом мечтал, но на следующий же день понимал, что совсем не о таком жилье он думает, что его сегодняшнее настроение требует совсем иного.
Другой причиной, по которой Бо переезжал, была неуемная активность театральных агентов. Они осаждали его с утра до вечера, наперебой желая предложить новый грандиозный проект постановки. Телефонный аппарат Бо разрывался с утра до вечера, а кое-кто знакомый с ним поближе звонил даже по ночам. Сначала Бо терпеливо объяснял всем, что решил отдохнуть пару месяцев, подумать, что не собирается сейчас ставить что бы то ни было. Но эти совершенно понятные и простые слова люди понимали как намек — приходите завтра. И они действительно приходили завтра. Когда и на следующий день Бо повторял то же самое, его слова понимали как «я теперь очень дорого стою». На следующий день ему предлагали баснословные контракты. И так далее…
Бо это все надоело, он просто запретил открывать кому бы то ни было, отключил телефон и начал срочно искать другую квартиру. И вот он ее нашел. И вот он переезжал. Вещи уже были погружены и даже отправлены в новый дом, но Бо не торопился ехать вслед за ними. Он еще раз решил пройти по комнатам и чуть-чуть погрустить о былом.
По квартире валялись ненужные бумаги, обрывки газет, кое-где стружка, в которую упаковывали посуду; целый тюк старых вещей Бо был приготовлен для Армии спасения. Грусти не получалось. Бо было весело. Он вообще легко расставался с прошлым, с людьми, с городами, театрами, актерами. Впрочем, так же легко сходился. Поэтому он просто присел на подоконник и поболтал ногами. Сюда он больше не вернется. И слава Богу.
И в этот момент Бо увидел на полу кусок телеграфного бланка и слово на нем — «ДЖОН…»
Остального не было. Бо не помнил, чтобы он получал нечто подобное. Интересно, о каком Джоне шла речь? Он на своем веку повстречал не менее сотни Джонов. Знаменитых и богатых, милых и злобных. Со многими у него были дела. У него был даже двоюродный брат Джон, но вот о ком из них шла речь?
Бо повертел в руках обрывок, поискал рядом другие куски телеграммы, но, конечно, не нашел.
«Надо будет обязательно написать Скарлетт, — почему-то подумал он. — Интересно, как у нее дела?»
Обрывок он бросил на пол и, не оглядываясь, вышел из дому.
Репортер Найт
Джону выдали велосипед.
Это была производственная необходимость. В один день ему приходилось делать такие концы, что без велосипеда он бы никак не поспел. Правда, с велосипедом тоже была поначалу морока. Этот аппарат оказался поноровистее некоторых необъезженных скакунов.
Джон, которому все давалось, в общем, легко, решил брать быка за рога, но уже через два дня боялся даже подходить к велосипеду. Столько шишек, синяков и ссадин было у него. Велосипед никак не хотел ехать, а норовил все время упасть. Когда, наконец, Джон научил велосипед ехать, тот поставил своей задачей натыкаться на все мусорные баки, телеги, автомобили, бордюры и деревья.
Несколько раз Джон свалился с велосипеда основательно. Пару дней он попытался поработать собственными ногами, но никуда не успел. Тогда он снова взялся за кривые ручки. И упорство-таки было вознаграждено: Джон приручил железного коня.
Если бы не проблемы с велосипедом, Джон мог бы назвать себя почти счастливым. Он работал в газете. Посыльным. В табели о рангах, которую, правда, составил сам Джон, его должность шла сразу же за должностью репортера. Он гонял по самым неожиданным местам, встречался с самыми неожиданными людьми и узнавал все новости первым. Его посылали с рукописями и фотопластинками, с приглашениями и телеграммами, он возил сэндвичи дежурившим в засаде репортерам светской и криминальной хроники, он вручал гранки статей видным ученым и политическим деятелям.
Теперь мир открылся для него с еще одной прекрасной стороны — бурлящий, кипящий, напряженный, искрящий, неспокойный и захватывающий мир новостей.
Почему-то в редакции его имя не прижилось. Все звали его не Джон, а Бат, сокращая его фамилию. Даже это Джону понравилось. И конечно, он сразу же влюбился в неспокойное племя газетчиков. О! Что это были за люди! Какие это были люди! Джону казалось, что это были рыцари, невидимки, ковбои, детективы, философы, поэты, политики, трудяги, и все в одном лице.
Теперь и к артистам Джон относился спокойно: они были просто представителями одной из многочисленных профессий.
А были профессии куда более интересные, чем актер. Скажем, строители-высотники. Этих парней набирали исключительно из индейцев племени навахо. Как-то так были устроены эти парни, что совершенно не боялись высоты. Тогда Нью-Йорк только начинал строить небоскребы. И эти угрюмые люди с заплетенными косичками переходили со стены на стену по тонкой балке, даже не балансируя руками, словно по доске переходили через лужу. У Джона, который как раз помогал фотографу, заныло под ложечкой, когда он только глянул с этой высоты вниз, а парням хоть бы что.
Статью, правда, не напечатали. Репортерам не удалось выжать из высотников ни слова. На все вопросы они отвечали односложно — «да» или «нет». Причем и этого ответа приходилось ждать минут по двадцать.
А еще Джон познакомился с такой необычной профессией, как дегустатор парфюмерии. Для него все духи, кремы и одеколоны имели один запах, а эти люди ухитрялись их не только различать, но и точно угадывать, что входит в состав тех или иных парфюмов. Они угадывали даже сорт папирос, которые курил их собеседник. Куда там собакам! С нюхом этих ребят вообще никто сравниться не мог. К сожалению, и эта статья не пошла. Дегустаторы отказались разговаривать с репортером, потому что от него несло чесноком.
А еще Джон познакомился с забойщиками скота. Вот уж профессия, не приведи Господь! Чтобы люди не привыкали к виду крови, их меняли каждую неделю. Нельзя сказать, чтобы это были такие уж дюжие парни. Нет. Это были небольшого в основном роста, жилистые и ухватистые ребята. Длинными стилетами они наносили только один короткий и точный удар в загривок, после чего корова или бык падали как подкошенные. Джон сам был свидетелем, как эти парни чуть не убили своего коллегу, который не смог уложить животное с первого удара. Джон понял, что по-своему они жалеют животину, не мучают ее понапрасну.
Но самое главное, Джон познакомился с Биллом Найтом. Вообще-то это был псевдоним. Дело в том, что свои репортажи Билл делал по ночам. Он служил в криминальной хронике. И именно Билл заставил Джона считать репортеров ангелами во плоти.
Билла Джон видел и раньше. Он пару раз заходил в «Богему» пропустить стаканчик виски. Артисты не очень-то привечали репортера. Вообще ему боялись попасть на язычок. Потому что язычок, а вернее перо у Билла было острее осиного жала.
Самый банальный случай бытового скандала Билл ухитрялся описать настолько захватывающе, с такими необычными подробностями, с такими далеко идущими выводами, что случай превращался в американскую трагедию общенационального масштаба. Билла ценили в газете, поэтому ему разрешили взять Джона к себе помощником. Ни у одного репортера не было помощников, а у Билла был.
— Постой, я сейчас угадаю, — сказал Билл, когда Джон впервые предстал перед репортером. — Штат Алабама, хлопковая плантация, отец умер, два брата, кажется, есть сестра, товарняком до Нью-Йорка, мечтаешь писать романы.
— Штат Джорджия, сэр, — заулыбался Джон.
— Тьфу, конечно, Джорджия. Для Алабамы ты слишком мягок. А в остальном?
— С ума сойти. Вы смотрели мою карточку?
— Смотрел, — признался Билл. — Да, фокус не получился. Но и ты не промах. Другие принимают меня за ясновидца, а я просто репортер, я не имею права гадать, я должен знать. Иначе моя газета не выпутается из судебных процессов. А писать хочешь?
— Не знаю, сэр, кажется, хочу.
— Ну и правильно, узнай точно. Теперь два условия, Бат. Первое — называй меня Найт. И второе — ни о чем меня не спрашивай во время работы. Годится?
— Вполне.
— Ну, конечно, Джорджия! Алабамец ответил бы — само собой! Впрочем, Бог его знает, как ответил бы аламбамец. Видишь, я тоже, кажется, хочу писать романы.
— Сэр… Э-э… Найт, вы пишете здорово…
— Знаю. Но назавтра меня уже никто не читает. Все. Теперь тебе первое задание. Вот адресок, там живет некая дама по имени Эйприл Билтмор. Тебе надо во что бы то ни было попасть к ней в квартиру. Под любым предлогом.
— А потом?
— Оттуда позвонишь мне.
— Хорошо.
— Ну-ну, посмотрим, — сказал Билл и повернулся к столу. Ему надо было срочно заканчивать свой ночной репортаж.
До указанной в адресе улицы Джон домчался за пятнадцать минут. Но вот номер дома найти никак не мог. Оказалось, что это довольно большой особняк, спрятавшийся в роскошном саду. Да, в этот дом попасть будет не так-то просто.
Пока Джон крутил педали, у него созрело несколько планов — страховой агент, коммивояжер и газовщик. Но когда он увидел особняк, он понял, что ни один из планов не годится. Ни страхового агента, ни коммивояжера и на порог не пустили бы. А газовщика отправили бы на кухню. Прежде чем позвонить, Джон на минуту задумался. Но никаких идей не появилось и он решил действовать по обстоятельствам.
Дверь открыла пожилая негритянка в белом переднике и сказала:
— Добрый день. К кому вы, сэр?
— Добрый день, — ответил Джон. — Я к мистеру Маккалоу.
Почему-то в голову ему пришла именно фамилия той самой дебютантки из «Богемы».
— Здесь такие не живут, сэр, это дом Билтморов, вы ошиблись адресом, — сказала негритянка и уже собиралась закрыть дверь.
— Странно, — сказал Джон. — Но здесь написан именно этот адрес. — И он показал служанке бумажку. — Я из похоронной конторы. Мистер Маккалоу заказывал гроб. Может быть, вы знаете человека с таким именем где-нибудь поблизости?
— Маккалоу? Нет, в соседних домах такого нет.
— Что же делать? Может быть, у вас есть телефон. Я позвонил бы от вас в контору.
— Это возможно, но я спрошу разрешения у хозяйки.
Негритянка впустила Джона в прихожую, а сама поднялась наверх.
Джон выполнил свое задание наполовину и теперь мог оглядеться. Дом Билтморов был хорош. Очень хорош. Просторные комнаты, они были видны через распахнутые двери, большие стрельчатые окна, стены обтянуты светлым шелком, изысканная и удобная мебель, много цветов. Здесь было уютно и тепло. И главное — было много воздуха. Обычно богатеи любили заваливать свои дома безделушками, мрачной, тяжелой мебелью и толстыми цветастыми коврами.
А здесь было только самое необходимое. Джону это ужасно понравилось.
Негритянка спустилась сверху и сказала:
— Вы можете воспользоваться телефоном, сэр. Вот он прямо перед вами на столике.
— Благодарю.
Джон поднял трубку и попросил соединить с редакцией.
— Билл Найт слушает, — ответил голос репортера.
— Это Бат, я уже. — Джон говорил негромко, чтобы негритянка не слышала его.
— Что-что? Что ты сказал, Бат?
— Я уже выполнил ваше задание, — так же тихо повторил Джон.
— Какое задание, Бат?
— Я по указанному адресу.
— Ага, ты в доме этой самой Эйприл Билтмор?
— Да.
— Тогда подзови ее к телефону.
— Это невозможно, — сказал Джон. Негритянка стояла совсем рядом и прислушивалась к разговору.
— Почему же? С ней что-нибудь случилось? Она что, умерла?
— Нет, просто я ее не видел.
— Так увидь ее и попроси подойти к телефону. Давай, Бат.
— Найт, мы так не договаривались.
— Разве? А по-моему, это входило в задание. Зачем мне было бы посылать тебя в этот дом? Познакомиться со слугами? Нет, Бат, ты должен познакомиться с хозяйкой.
— Я попытаюсь, — сказал Джон.
— Перезвонишь мне, когда получится, — сказал Найт и повесил трубку.
Джон нерешительно посмотрел на служанку.
— Выяснили? — спросила она.
— Да, мэм, никакой ошибки нет. Адрес верный.
— Это ошибка.
— Нет, мэм, в конторе мне назвали еще одно имя: Эйприл Билтмор. Может быть, вы знаете ее?
— Разумеется, знаю. Это хозяйка.
— Вот видите! — обрадовался Джон. — Значит, покойник у вас. Я должен его обмерить.
— У нас нет никакого покойника, сэр. Разве что, гусь, которого я нынче купила в лавке. Тот действительно покойник.
— Этого не может быть. Просто вы не знаете. Нельзя ли тогда позвать хозяйку?
— Я не стану ее беспокоить по всяким пустякам. Это глупость какая-то!
— Мэм, пожалуйста, позовите ее. Зря я, что ли, ехал к вам в такую даль? Вы же сами говорите, что ее зовут Эйприл Билтмор. Может быть, вы просто не в курсе…
— Не в курсе чего, что в доме покойник?
— Может быть, хозяйка хотела заказать гроб для кого-то из своих друзей или знакомых. Вы только позовите ее, и все выяснится.
Негритянка заколебалась.
— Прошу вас, ведь речь идет о жизни и, увы, смерти, — настаивал Джон.
— Ну, если бы кое-кто из ее знакомых действительно нуждался в ваших услугах, я была бы очень рада, прости меня, Господи, — наконец сказала служанка и снова пошла наверх.
Джон утер пот. Что он теперь станет говорить? Он и представить себе не мог.
Долгое время никого не было. А потом вдруг раздался веселый хохот и сверху сбежала…
Нет, так сразу и не скажешь, читатель, что за создание спустилось сверху.
Если вы были ребенком и видели фею с волшебной палочкой, если помните добрые глаза матери, склонившейся над вами, если вспоминаете соседскую девочку, светловолосую и большеглазую, с огромным бантом на голове, а также вашего лучшего друга детства, самого ловкого, самого смелого, самого азартного, и еще вашу любимую собаку, преданную, ласковую и надежную, то, соединив всех вместе, вы и получите неловкое подобие Эйприл.
Неловкое потому, что помимо женственности и мальчишества, помимо сказочности и красоты в ней было нечто пугающее, роковое. Это была опасная женщина, потому что рядом с ней можно было обо всем забыть, поставить крест на своих мечтах и стремлениях. Она была и мечтой, и стремлением. И тот, кому выпало бы счастье снискать ее благосклонность, должен был бы просто опуститься перед ней на колени и так прожить до самой смерти.
Эйприл смеялась:
— Это Найт придумал, что вы похоронный агент?! Я надеру ему уши! Только Мэгги могла поверить вам! Ведь вы же совершенно не умеете лгать! А Мэгги не умеет не верить! Ну-ка, дайте мне телефон, я отчитаю сейчас этого вашего репортеришку!
Джон покраснел так, что казалось, вот-вот задымится.
Служанка укоризненно качала головой.
— Найт, ты будешь жестоко наказан! — смеялась в трубку Эйприл. — Зачем ты заставил парня?.. Ах вот как?.. Испытание?.. Он выдержал, выдержал, успокойся! Он чудный парень, хотя совершенно не умеет лгать и теперь стоит красный, как помидор. Ему стыдно, Найт. Стыдно за тебя! Но он же не может тебя наказать, поэтому накажу тебя я! Мы сегодня с тобой пойдем в оперу! Да-да, не возражай! В оперу. И ты умрешь на моих глазах от скуки!
Так Джон познакомился с девушкой Найта.
Надо сказать, что в тот день встреча имела продолжение.
В последний момент Найта отправили на задание. И он, уже надевший смокинг и лакированные ботинки, должен был сказать ожидавшей его тут же в редакции Эйприл.
— Сегодня моя казнь не состоится, к сожалению. Придется тебе мучиться одной.
— Одной? Никогда! Я возьму с собой господина похоронного агента! А ну, снимай смокинг.
Найту пришлось подчиниться, и уже через пять минут Джон был облачен в нарядный костюм, который оказался ему чуть-чуть узковат, но это было не очень заметно. Эйприл придирчиво осмотрела Джона со всех сторон и подняла большой палец:
— Отлично.
— Эйприл, — отчего-то забеспокоился Найт, — а ты не можешь сегодня обойтись без оперы?
— Что ты, дорогой. Сегодня дают «Тоску» с итальянцами!
— Ты говоришь так, словно дают цыпленка с кетчупом!
— Но, согласись, «Тоска» куда более изысканна.
Впервые Джон ехал на автомобиле. И ему понравилось. Он сидел рядом с водителем, впереди не маячил круп лошади, и дорога мчалась навстречу так быстро, что дух захватывало.
Казалось, что в театре собрались одни только знакомые Эйприл. Они то и дело здоровались с ней, шептались, обсуждали каких-то неизвестных Джону людей и неведомые ему события. А он-то думал, что знает обо всем в Нью-Йорке. Но были, оказывается, события, которые ускользали от глаз всевидящей газеты. Просто это были события высшего света, куда репортеров не допускали, а если они попадали туда, то сразу же становились членами этого общества и разглашать его секреты не собирались. Впрочем, если бы кто-нибудь и собирался приоткрыть завесу над тайнами высшего света, влиятельные люди легко остановили бы такого нахала. Дело в том, что и газеты принадлежали этим людям со всеми потрохами.
Эйприл знакомила с Джоном всех своих друзей, представляя его как своего дальнего родственника из Атланты.
— Прости меня, Бат, — шепнула она, — иначе нас не поймут.
— Да я не против, — сказал Джон. — Тем более что Атланту я знаю. Я ведь сам из Джорджии.
— Правда? — обрадовалась Эйприл. — А я из Южной Каролины. Мы соседи. Южане должны держаться друг друга. Мой отец, кстати, собирается купить в Джорджии участок земли. Надо будет познакомить вас. Ты ведь знаешь Джорджию?
— Отлично знаю, — гордо ответил Джон.
А потом они слушали оперу.
Джон впервые видел, чтобы артисты все время пели. Да еще по-итальянски. Поначалу это ужасно раздражало его. Он не понимал, что вообще происходит, кто кого любит, кто кого ревнует, кто хороший, а кто злодей. У Эйприл он спрашивать не решался, а разобраться сам не мог. Но постепенно музыка все объяснила ему. Нет, объяснила — это не то слово. Музыка повела его за собой, она дала ему ощутить не только мысли и желания каждого героя, но, самое главное, их чувства. И эти чувства были прекрасны. Он совсем перестал следить за сюжетом и разбираться, кто плох, а кто хорош. Он понял, что это все вообще не важно, музыка говорит о другом, о том, что стоит за человеческими поступками и словами. Над человеческой жизнью, над суетой, она прикасалась к Богу.
В антракте он совсем невнимательно слушал Эйприл, он был весь там, в этих магических звуках, а когда спектакль кончился, вдруг заплакал. Он тут же устыдился своих слез, но увидел, что и Эйприл утирает глаза.
Эйприл предложила ему после спектакля зайти в «Богему». Это был большой соблазн — явиться туда в качестве посетителя, а не официанта, — но Джон был настолько переполнен впечатлениями от сегодняшнего дня, что хотел побыстрее запереться в собственной комнате, чтобы продлить хоть немного это свое возвышенное настроение.
Эйприл попросила шофера отвезти Джона прямо к дому. Прощаясь, она, наверное, по привычке подставила щеку для поцелуя, но Джон на секунду замешкался, и она опомнилась, отстранилась. Этот момент был каким-то странным. Джону показалось, что Эйприл чуть ли не разозлилась на него, но она тут же сняла неловкость, улыбнулась и пожала Джону руку. Конечно, она если и не обиделась, то уж во всяком случае была раздосадована на Джона за то, что и ее он поставил в неудобное положение. Но Джона это событие совсем не огорчило, он вошел в свою квартирку веселый, напевая запомнившуюся тему из оперы.
В доме уже все спали. Джон тихонько поднялся к себе. Не стал заходить на кухню, потому что есть не хотелось.
— Ты совсем забыл обо мне, — услышал он, как только закрыл за собой дверь комнаты.
Мария стояла возле окна. Видно, она была здесь уже давно и ждала Джона, глядя на улицу.
— Что это за автомобиль? — спросила она, не дав Джону сказать ни слова.
— Это редакционный автомобиль, — почему-то соврал Джон.
— О, ты стал большой шишкой, — сказала Мария. — Наверное, поэтому ты и забыл обо мне.
— Ну что ты говоришь? Как я мог забыть о тебе? — сказал Джон, ласково обнимая девушку. — Я ведь люблю тебя.
— Мне так страшно, Джон, мне кажется, ты бросишь меня, — уткнувшись ему в грудь, прошептала Мария.
— Глупенькая, что ты говоришь? Что это тебе взбрело в голову? Может быть, ты сама решила бросить меня?
— Ты же знаешь прекрасно, что я никогда тебя не брошу.
— Так почему же ты сомневаешься во мне?
— Не знаю. Я просто чувствую, мне в жизни чуть-чуть повезло, что ты стал моим парнем, но это не продлится долго.
— Мария, меня даже обижают твои слова. Это мне повезло, это повезло нам обоим. Ты как будто хочешь себя унизить, зачем?
Девушка приложила палец к его губам. Она смотрела на Джона завороженно, словно действительно видела перед собой не обыкновенного рассыльного из газеты, а по меньшей мере принца из сказки.
— Ты же все понимаешь, милый. Я из бедной семьи. Я с трудом могу прочитать письмо от бабушки, я работаю на швейной фабрике, мой отец и моя мать — простые люди. Они приучили меня к мысли, что мы всегда будем простыми рабочими людьми. А ты уходишь в другой мир. Я чувствую каждую секунду, как ты уходишь от меня. Господи, зачем мы повстречались?!
— Мария, ты говоришь сейчас ужасные вещи! Даже моя мать, пожилой уже человек, очень строгих правил, постеснялась бы сказать это. Что за ерунда — бедный, богатый! Рабочие, не рабочие! Есть люди. И все! Хорошие и плохие люди. Влюбленные и равнодушные. Больше нет ничего! Есть ты и я! Ты не умеешь читать, я тебя научу. Какая ерунда! Я люблю тебя, ты любишь меня — это самое главное…
Мария смотрела на любимого широко открытыми глазами. Как ей хотелось сейчас, чтобы он развеял ее страхи. Как ей хотелось верить ему.
Она поцеловала его в губы. И они оба снова задохнулись от нахлынувшей, как огромная океанская волна, страсти. О, теперь их ласки были куда острее, безудержнее, откровеннее. Они теперь совсем не стеснялись друг друга. Словно вел их в любовных ласках мудрый закон — ничего не стыдно при любимом, только бы ему было хорошо.
Атланта
Скарлетт собиралась к губернатору.
Нет, он не сам пригласил ее, что совсем недавно было обычным делом. Скарлетт пришлось добиваться аудиенции. И она поначалу не знала, как это сделать. Такой надобности у нее прежде вообще не возникало. Если ей и нужно было решать какие-то свои проблемы, они решались словно бы сами собой, вокруг всегда были доброжелательные и влиятельные друзья. Но теперь эти друзья вдруг в одночасье куда-то запропастились.
Скарлетт написала в Атланту письмо, в котором излагала вкратце суть дела и просила губернатора принять ее. Ответа не было неделю. А когда он пришел, то совсем расстроил Скарлетт. Это был официальный ответ на казенном бланке, где аудиенция назначалась еще через неделю. Никаких дружеских приписок, бумажку, очевидно, составили в канцелярии губернатора.
И тем не менее Скарлетт собиралась ехать на встречу.
Уэйд теперь чуть не каждый день присылал посыльного, чтобы рассказать о своих новостях и узнать что-либо от матери.
Скарлетт встретилась с чиновником, который побывал у сына. Но и эта встреча не прибавила ей оптимизма. Чиновник был сух. Скарлетт, наступив на собственную гордость, старалась быть поприветливее с ним, упомянула даже имя его начальника, но чиновник ничего нового ей не сказал. Получалась какая-то странная ситуация. Официального уведомления о спорном вопросе она не получала, но какие-то темные слухи, отголоски чего-то неотвратимого уже витали в воздухе. Краут — так звали чиновника — повторил, что аноним представил в суд некие очень веские свидетельства того, что Тара принадлежит ему. Суд принял дело к рассмотрению, но пока не начал производства. Аноним действительно опасается за свою жизнь, а в чем причина его опасений, это уж ему виднее, хотя Краут вполне согласен, что в этом пункте претендент явно перебрал.
— Вы видели эти документы, Краут? — спросила Скарлетт.
— Нет, миссис О’Хара, я не видел документов. Распоряжение проверить ваши документы я получил от своего непосредственного начальника мистера Гетсби, о котором вы упомянули. Он просил меня ничего не говорить вам об анониме, а представить дело таким образом, что это обычная формальность. Так что, как видите, я уже превысил свои полномочия.
— Я благодарю вас, Краут. Вы дали мне время подготовиться к обороне. Но вы-то сами верите в силу документов этого мистера Икс?
— Да, мэм. Будь это какая-нибудь грубая фальшивка или нечто неубедительное, суд не принял бы дело к рассмотрению, да и претендент явно знает ваши связи и вес в обществе. Он не решился бы.
— Я тоже думала об этом, — согласилась Скарлетт. — Но может быть, точно так же думает и мистер Икс. Может быть, это просто точный психологический ход?
— Может быть, но в суде достаточно профессиональные эксперты, они ведь изучали документы.
— Документы, документы… Подделывают даже доллары. И весьма успешно, Краут. Что-то здесь не так.
— Об этом вам лучше знать. Покопайтесь в памяти. Может быть, при получении этой земли была какая-то закавыка, которой и воспользовался претендент. Как эта земля стала собственностью вашей семьи? Вы что-нибудь знаете об этом?
— Очень смутно. Отец мне ничего не рассказывал. Я только слышала, что эта земля была приобретена.
— У кого?
— Но в документах говорится совершенно ясно — у правительства.
— У какого правительства, мэм?
— Постойте, вы хотите сказать, что…
— Я ничего не хочу сказать. Я раздумываю вместе с вами. Ведь была Гражданская война, не мне вам напоминать об этом. Южные штаты потерпели поражение. Не получилось ли так, что документы были оформлены кем-нибудь из врагов Севера?
— Это не отменяет права на владение землей. Это право священно и записано в американской конституции.
— Но это вполне может поставить ваше право под сомнение, — возразил Краут.
— Я посоветуюсь со своим адвокатом, — сказала Скарлетт. — Хотя он и без моих советов делает все возможное.
— Если позволите, мэм, я попрощаюсь с вами, — Краут встал. — Мне было приятно познакомиться с вами. Думаю, все загадки разрешатся и вообще все образуется.
— Еще раз благодарю вас, Краут. Вы мне очень помогли.
— Еще когда я был ребенком, я слышал фамилию О’Хара. Мог ли я поступить иначе?
Дост подтвердил догадки Краута.
— Очевидно, речь идет о каких-то ф-формальных неточностях в оформлении документов, — сказал он. — Я с-связался со своими друзьями в арбитражном суде. Они намекнули мне именно на это.
— Понятно. Но ведь документы проходили перерегистрацию. И не один раз. Почему же никто не заметил этих неточностей раньше?
— Это просто обратная сторона м-медали. Настолько никто не ставил под с-сомнение ваше п-право, что и документы регистрировали чисто м-механически. Но это еще не все. Я могу с уверенностью с-сказать, что за всем этим стоит весьма влиятельное л-лицо.
— Я тоже думала об этом. Человек с улицы вряд ли смог бы поднять такой груз, — задумчиво произнесла Скарлетт.
— Б-боюсь, что и уровень анонима весьма в-высок.
— Как высок, Торн?
— Очень высок, очень, — сказал Дост.
— Я собираюсь ехать к губернатору, — заявила Скарлетт.
— Это р-разумно. Надеюсь, многое прояснится. Знаете, я испугал вас, с-сказав, что дело мы можем п-проиграть. Сейчас я так не думаю. Мы п-поборемся. П-первый шок проходит. Люди в городе уже б-более благосклонны к вам.
— А вот я — нет. Они бросили меня, Торн. Они все сразу же пропали. — Скарлетт в волнении стала ходить по комнате.
— Они п-просто испугались. Я ведь тоже ис-спугался. П-простите м-меня, Скарлетт. И простите их.
Скарлетт давно не была в Атланте и сейчас с трудом узнавала город. Некогда одноэтажный, весь в зелени, уютный городок стал по преимуществу каменным многоэтажным, холодным. На улицах было много автомобилей, хотя конные экипажи не уступали им пока что первенства.
Скарлетт поселилась в гостинице «Эмпайр», в номере, выходящем окнами прямо на площадь.
Глядя на улицу, она почему-то подумала: «Скоро начнется новый век. Какая я уже старая».
Впрочем, мысли о старости приходили к Скарлетт крайне редко. Она по-прежнему чувствовала себя полной жизненных сил. Конечно, она не смогла бы сейчас, как в молодости, дни напролет трудиться в Таре, не выдержала бы, наверное, и других испытаний чисто физически. Но жажда жизни, стремление к деятельности, открытый, не замутненный ложной старческой мудростью взгляд на жизнь сохранились в ней. Она даже сама иногда удивлялась тому, что могла по-прежнему открывать для себя новое, радоваться, волноваться. Конечно, теперь у нее совсем другие заботы — дети. Хотя они и разлетелись по белу свету, хотя у каждого из них теперь своя жизнь, но материнское сердце никак не успокоится. Она думает о Бо. О Кэт, конечно, о Джоне, об Уэйде… Но ее сердце начинает биться учащенно, как в давние времена, когда она думает о Ретте. Его уже так давно нет с ней. Но для нее он не умер. В жизни им довольно часто приходилось расставаться. Скарлетт даже казалось иногда, что они разлучились навсегда. Но Ретт возвращался. И теперь Скарлетт не хотела впускать в свое сердце это безысходное слово — смерть. Ретт просто ушел. Не навсегда, нет, они еще встретятся с ним. Он обязательно вернется, или она придет к нему. Потому что она любит его. Потому что он — вся ее жизнь. И когда она видит в детях черты Ретта, сердце ее переполняется радостью и гордостью. Она знает, Ретт был бы доволен тем, какими выросли его дети, какими они стали, как живут на этом свете.
Человеческая память устроена таким образом, что все плохое забывается.
Но Скарлетт помнила все. Даже самые неприятные моменты в своей жизни. Она помнила и о том, каким бывал Ретт невыносимым. Но она принимала его всего, со всеми его недостатками. Это была любовь, а любовь открыта, она вбирает в себя человека целиком, без остатка. Скарлетт и представить себе не могла, что ее Ретт был бы паинькой, мягким и добреньким домоседом. Нет, такого Ретта она бы ни за что не полюбила. Впрочем, он бы тоже вряд ли влюбился в маменькину дочку. Два сильных, непримиримых в своих открытиях и заблуждениях, упорных и несгибаемых характера сошлись, как притягиваются противоположные полюса. Электрическая искра, которая то и дело пробегала между ними, могла бы убить их любовь, но только крепче связывала их.
Да, теперь все будет иначе. Двадцатый век уже не вынесет такого чувства. Скарлетт думала об этом часто. Ей казалось, что уходящий век и был самым лучшим в жизни человечества. А дальше будет все хуже и хуже. Это было не старческое брюзжание, но плод спокойных и долгих раздумий. Теперь у нее на это хватало времени. И она видела, что у людей все меньше остается сердца и все больше их чувствами управляет разум. Нет, она была не против разума, но она была против одного разума. Для людей некоторые неощутимые, но такие весомые понятия, как честь, достоинство, гордость, дружба и авторитет, теряли свою притягательность. Они легко становились пленниками стремления к благополучию. Когда речь заходила о деньгах, через понятие о чести переступали, не задумываясь ни на минуту. Нет, Скарлетт была далека от мысли, что все люди превратились в алчных и жадных гобсеков. Им еще свойственно было умиляться, жалеть, даже совершать добро бескорыстно, но это скорее рассматривалось как милые причуды, а делом жизни все чаще становилось обогащение. Это, в общем, было так понятно — люди хотели жить удобно, уютно, комфортно, хотели развлекаться, носить нарядные платья, жить в добротных домах и ездить на быстрых машинах. Но теперь это для многих было единственной целью. В газетах она читала ужасные вещи — матери продавали детей, жертвы требовали не смерти преступника, а денежной компенсации, жены торговали воспоминаниями об интимных подробностях жизни со своими знаменитыми мужьями… Для Скарлетт это были страшные предвестники наступающего века.
И в то же время ее не пугало стоящее на пороге двадцатое столетие. Наоборот, оно манило ее, завораживало. Словно она могла стать свидетельницей сбывающейся волшебной сказки. Эта сказка уже стала воплощаться в жизнь. Телефон, электрическое освещение, автомобили, лифты, аэропланы, небоскребы… Правда, все это тоже принадлежало к сфере материального. Но если человек способен был изобрести такие чудеса, неужели его не хватит на то, чтобы стать чуточку добрее…
Подальше от цивилизации
Бо уезжал из Америки. Ему надо было повидать мир. Ему необходимо было обновить свои понятия о жизни и узнать, как живут другие люди в странах, которые называют нецивилизованными. Бо ехал в Африку.
Друзья советовали ему запастись огромным количеством ружей и боеприпасов. Они жали его руку так, словно навсегда прощались с ним. Друзья почему-то были уверены, что Бо если и вернется из путешествия, то калекой, больным или сумасшедшим.
На Бо такие проводы действовали, наоборот, бодряще. Он уже представлял, как будет потом рассказывать о диких племенах, о джунглях и саванне, о невиданных животных и неизвестных обычаях.
Он набрал с собой не ружей и боеприпасов, а много бумаги и чернил. Он взял с собой фотогафический аппарат, даже пытался взять фонограф, чтобы записывать песни и сказания неизвестных племен, но это оказалась очень громоздкая машина, для которой потребовался бы целый фургон.
Бо был уверен в успехе.
Знакомый профессор географии посоветовал Бо поехать в Центральную Африку. Она была мало исследована. Были там уголки, где нога цивилизованного человека вообще не ступала. Но еще больше он советовал ехать в Австралию, ссылаясь на то, в Австралии еще сохранились племена каннибалов.
— Чтобы увидеть людоедов, — рассмеялся Бо, — мне достаточно впустить в свою квартиру театральных агентов.
— Пожалуй, — с улыбкой согласился профессор. — Только следовало бы включить в это племя и банкиров, и владельцев домов, и налоговых инспекторов, и членов ученого совета.
— Видите, — сказал Бо, — Америка чтит добрые старые традиции.
Плавание прошло без приключений, хотя в Южной Атлантике немного штормило. Но Бо перенес долгое путешествие на лайнере «Авраам Линкольн» мужественно.
Высадился в Кейптауне, маленьком, занюханном, грязном городишке, где единственной достопримечательностью был порт. Там пересел на менее комфортабельный тихоходный «Цветок Юга» и доплыл до Момбасы.
Это была Кения, Центральная Африка.
Проводников Бо нашел сразу же — шестеро черных, как уголь, парней с длинными худыми ногами и сильными руками несли его поклажу легко, словно были не людьми, а ломовыми лошадьми.
Первой остановкой стало озеро Виктория. Водопад Оуэн.
Это место разочаровало Бо, несмотря на то, что красоты здесь были сказочные.
Он встретил здесь нескольких американцев и англичан. Они охотились. Жили вполне удобно. Даже устраивали вечеринки с шампанским. А Бо искал неисхоженные места.
Он нанял новых проводников, таких же черных и длинноногих, и тронулся в путь.
Он уже жалел, что не послушал профессора и не поехал в Австралию. На каждом шагу в Африке ему попадались следы цивилизации, случайные, необязательные, но тем более раздражающие его.
Проводники злились на Бо, потому что никак не могли понять, куда же он хочет попасть. Один из них, Мгаба, кое-как изъяснялся по-английски, но при этом отчаянно ругался самыми страшными ругательствами. Впрочем, делал он это не по злобе, просто думал, что так принято у белых. Каждое утро Мгаба спрашивал у Бо:
— Маса, сука, куда идти сегодня надо где?
— Туда, — наугад тыкал пальцем Бо.
— Маса оттуда ходить вчера, так перетак, — говорил удивленный Мгаба.
— Значит, туда, — показывал Бо в противоположную сторону.
— Хорошо, маса, ходить туда, в задницу, — соглашался проводник.
И объяснял своим коллегам, куда сегодня отправляться.
— Слушай, Мгаба. А есть место, куда еще никто не ходил. Ведь ты работаешь проводником уже десять лет и знаешь.
— Да. Но Мгаба туда не ходить, так перетак. Никто туда не ходить. Проводники туда не ходить, сука.
— Почему?
— Нельзя, на фиг, — лаконично ответил Мгаба.
— А почему нельзя?
Проводник наморщил лоб, задумавшись, почесал в затылке и ответил:
— Нельзя, так перетак, на фиг, в задницу.
Бо понял, что именно туда он и пойдет.
Никакие посулы, правда, на проводников не подействовали. Бо даже предложил им увеличить плату вдвое. Проводники только мотали головами.
— А это далеко?
— Если столько дней идти, — Мгаба показал пять пальцев, — будет половина дороги.
Бо понял, что двадцать дней пути в одиночестве он не выдержит. И тогда он договорился с проводниками, что они доведут его только до границы опасного, по их мнению, места, а дальше он отправится сам. Проводники же будут ждать, пока он вернется.
На том и порешили.
А утром оказалось, что двое проводников исчезли.
— В чем дело, шеф? — спросил Бо у Мгабы. — Им что, не нужны деньги?
— Мгаба думать, они хотят жить, мать твою так. Они боятся.
— Дикость какая-то.
— Маса идет без ружья. Маса не жалеет проводников. Маса придурок, сука.
— Да, — согласился Бо. — Маса сука, придурок, а ты, мать твою так — трус в задницу, дерьмо собачье.
Мгаба прислушался, этого ругательства он еще не знал.
Через три дня пропал еще один проводник. Часть поклажи пришлось оставить. Мгаба ходил мрачный, а у Бо настроение улучшалось. Он чувствовал, что только сейчас приближается к цели своего путешествия.
— Ну, скоро придем? — спросил он Мгабу через неделю.
— Два дня, дерьмо собачье, — ответил Мгаба. Он был восприимчив к цивилизации.
Ночные разговоры
Найт сказал:
— Мне все это не нравится. Здесь такой запашок, что свалит с ног любого злодея.
Джон посмотрел на Найта удивленно. Никакого запаха он не чувствовал, да и понимал, что речь идет совсем о другом.
Это был обыкновенный ночной выезд на место происшествия. В полиции сообщили, что известный конгрессмен Уильям Янг-старший найден сегодня в Центральном парке убитым.
Когда Найт и Джон примчались на место, тело конгрессмена уже уносили в медицинский фургон.
— Что с ним произошло? — спросил Найт врача.
— Сердечный приступ, похоже, — сказал врач, протирая очки. Моросил холодный дождь, под ногами хлюпало.
— Приступ? — переспросил Найт. — А нам сообщили, что Янг убит.
— Не знаю, кто вам это сообщил. На теле нет никаких ран. Мне, правда, пока что трудно сделать окончательное заключение, вскрытие покажет точно. Но по всем признакам, старика просто хватил удар.
— По каким признакам? — спросил Найт.
— По специфическим, — язвительно ответил врач.
— А кто будет производить вскрытие?
— Доктор Марч.
— Тогда мы обратимся к нему.
— Воля ваша, — врач снова протер очки и отошел.
Найт пробился к полицейскому, который что-то записывал в книжку.
— Привет, Томми! Как тебе с радикулитом работается по такой погоде? — Найт пожал полицейскому руку.
— Чтоб она провалилась, — сказал полицейский.
— Погода? — уточнил Найт.
— Работа.
— Янга убили?
— Не знаю. Тебе бы хотелось, чтобы убили? — хитро улыбнулся Томми.
— Томми, я не вурдалак. Я репортер. И меня не радуют ничьи смерти, понял? — жестко сказал Найт.
— Ладно тебе! Не лезь в бутылку. Старик лежал вот здесь. Часа два.
— Он живет рядом?
— Да, вон в том доме.
— Любит ночные прогулки?
— Любит. Именно любит гулять по ночам.
— Болел?
— Болел. Сердце прихватывало.
— И тем не менее гулял один?
— Да.
— Домашним сообщили?
— Да вон они. Прибежали сразу же. Жена, сын, служанки. Можешь с ними поговорить.
— Янг, это не тот, что?..
— Тот самый, — не дал договорить Найту Томми. — Я тоже об этом думал. Но пока — ничего.
— Богат?
— Так себе.
— А жена молодая, — заметил Найт.
— На десять лет моложе.
— Томми… — начал было Найт.
— Разумеется, — перебил опять Томми. — Если что, сообщу.
— А Калли мне сказал, что убийство.
— Да мы все так думали. И сейчас еще думаем. Мы будем копать, Найт.
— Логично. Конгрессмен, враг сегрегации, найден мертвым. Молодая жена. Кое-что в кошельке. Логично, — сказал Найт задумчиво.
— Вот это и пугает. Слишком напрашиваются выводы.
— Да. Ну, пока, Томми. Пойдем, Бат. — Найт резко повернулся и двинулся в сторону стоявших под зонтами родственников Янга.
— Его убили! — сразу же заявила жена. — Он был еще так здоров.
— А я слышал, у него прихватывало сердце, — сказал Найт осторожно.
— Ерунда. Он был здоров, — сказал сын.
Жена плакала. Она была еще вполне хороша. Лет сорока, сорока пяти. Худая, тонколицая, с нервными руками. Сын утешал ее, хотя и у самого губы кривились от еле сдерживаемого плача. Он был высоким, крепким, красивым парнем с белокурой копной волос.
Смотреть на этих раздавленных горем людей было тяжело. Поднятые, очевидно, с постели, они вдруг оказались в центре страшной трагедии. Кое-как накинутые плащи совсем не защищали их от холода и ночной сырости. Оба дрожали, у обоих был совершенно потерянный вид.
Две черные служанки плакали в голос, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. О чем-либо спрашивать их было бессмысленно.
— Примите наши соболезнования, — сказал Найт. — Понимаю, что это слабое утешение, но мистер Янг оставил по себе хорошую память. Если вы не против, я напишу некролог.
Жена вскрикнула, когда услыхала это страшное слово, и зарыдала.
И вот тогда Найт тихо произнес эту самую фразу:
— Мне все это не нравится…
Они с Джоном сделали несколько фотографий. Среди ночного мрака и мороси вспышки магния выглядели зловеще.
— Поехали, — сказал Найт. — Нам надо поспеть на вскрытие.
— А что тебя так насторожило? — спросил Джон, когда они ехали в анатомичку. — То есть я хочу сказать, что понимаю: это, скорее всего, убийство. Наверное, в политических целях…
— Вот это меня и насторожило. Слишком много поводов для убийства. Слишком напрашиваются выводы. Словно кто-то подсовывает нам именно версию убийства. Теперь, если окажется, что Янг умер действительно от приступа, мы же в это не поверим. Мы же будем копать и копать, как сказал Томми, пока не найдем. Нет, это все дурно пахнет.
— А если окажется, что Янга-таки убили? — спросил Джон.
— Не окажется, — уверенно сказал Найт. Но, подумав, добавил: — Впрочем, это будет еще хуже.
— А ты не перемудрил, Найт? — сказал Джон.
— Может быть. Может быть…
Джон первый раз в жизни отправлялся на вскрытие. Он представлял себе этот процесс как нечто мрачное, чуть ли не средневековое. В темных холодных подвалах окровавленный мясник режет труп. Дрожь пробирала Джона, когда он думал об этом.
Но все оказалось совсем иначе.
Большая, светлая, чистая комната, сверкающая сталь инструментов, старенький, какой-то уютный врач, подшучивающий и над собой, и над покойником.
— О, дяденька, да ты у нас при жизни ни в чем себе не отказывал. Ел и пил от души. Видишь, какая печень, Найт?
— Слушай, Марч, не надо показывать мне все это, — ответил Найт. Он был бледен. — Я терпеть этого не могу.
— А я, знаешь ли, привык. Нет, конечно, когда на столе какая-нибудь красотка, у меня тоже все внутри дрожит. Ты не смотри, что я такой старый.
— Тьфу! — в сердцах сплюнул Найт. — Как ты можешь, старый кобель?
— А сердчишко у конгрессмена действительно никуда. Ну вот, так и есть…
— Что? Что там?! — Найт даже приблизился к столу, хотя до этого держался подальше.
— А вот сам посмотри — тромб. Он у него, видать, давно сидел где-то поблизости, а тут вдруг сорвался и — все.
— Как это вдруг? Чего ему не сиделось? — спросил Найт.
— Ну, я не Господь Бог. Я — старина Марч. Я мало что понимаю в этой жизни. А ты разве знаешь, от чего помирает человек?
— Иногда, — сказал Найт. — Но ты мне поясни, в каких случаях тромб может стронуться с места?
— В любых.
— От удара кулаком?
— От удара, — кивнул Марч.
— От испуга?
— От испуга.
— А точнее?
— А точнее — просто время пришло.
Марч взял кривую иглу и большими стежками стал сшивать разрез.
Джону тоже было не по себе, хотя дурнота не подступала, как у Найта. Но само по себе зрелище было не из приятных.
Они вышли с Найтом на улицу и долго вдыхали влажный воздух полной грудью.
— Ты хочешь провести расследование? — спросил Джон.
— Нет, сейчас я хочу выпить чашку крепкого кофе и завалиться спать. Впрочем, спать не получится. Надо успеть с репортажем к утреннему номеру.
— Будешь писать?
— Придется.
— Знаешь, Найт, — сказал Джон, — тебе, наверное, уже говорили, ты отличный репортер.
— Говорили. А ты, наверное, хочешь сказать, что и сам мечтаешь стать репортером?
— Да.
— Ну и дурак, — просто сказал Найт. — Это сволочная профессия. И она не для тебя. Знаешь, почему?
— Нет. Если ты хочешь сказать…
— Нет, я не стану говорить банальностей по поводу ночных дежурств, — перебил Найт, — мотания по грязным притонам, копания в чужом несвежем белье. Я другое скажу — ты видел, как корову привязывают к вбитому в землю колышку и она пасется. Она выедает всю траву до самой земли. Если не перевести ее в другое место, она подохнет. Репортер, как эта корова. Вот у тебя есть какие-то мысли, какие-то важные и нужные людям слова, образы, идеи. Это твое травяное поле. И ты его обгладываешь очень быстро, а потом начинаешь шуровать штампами. Потому что колышек никто не передвинет. Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Кажется, понимаю.
— Знаешь, я мечтал когда-то написать книгу. Она вся была у меня вот где, — Найт хлопнул себя под лбу. — Я думал, наберу еще сюжетов, характеров, словечек. Но и сам не заметил, как растаскал собственную книгу по репортажам, о которых назавтра никто и не вспомнит. Теперь я уже не способен ни на что серьезное, потому что встал на поток, потому что должен нравиться каждый день и только на этот день. Корова бы сдохла, а я вот живу. Нет, не стоит тебе быть репортером.
Джон молчал. Найт говорил о вещах, которыми не делятся с первым встречным. Это были очень интимные и очень откровенные признания. И они тронули Джона. Не так, чтобы он сразу же отказался от мечты стать репортером. Но мечта эта несколько поблекла сейчас в его сознании.
— Поехали к Эйприл, — предложил Найт. — У нее отличный кофе.
— Но мы же всех перебудим, — сказал Джон. — Неудобно.
— Удобно. Мэгги все равно не спит.
— Почему?
— Она ждет нас.
— А Эйприл?
— Эйприл задремала на диване. Вот уж кто любит поспать! Поехали. Они ждут нас.
— Нас?
— Да, Эйприл давно просила, чтобы я привез тебя. Чем-то ты ей приглянулся, — сказал Найт, усаживаясь на переднее сиденье автомобиля.
Хорошо, что было темно. Джон покраснел до корней волос. Он и сам не понимал, почему, но испытывал чувство вины перед Найтом.
— Э-э, расслабься, — словно угадал мысли Джона Найт. — Эйприл относится к тебе серьезно, но это ничего не значит. Она просто любит провинциалов.
— Она любит тебя, — неловко польстил Джон.
— Она меня не любит, — сказал Найт без грусти. — Она вообще никого не любит. И это здорово.
Джон так и не понял, что Найт хотел этим сказать.
Все оказалось наоборот. Дверь им открыла Эйприл.
— Тише, — сказала она, — Мэгги спит.
— Мы будем вести себя тихо, как привидения, — сказал Найт.
— Да вы промокли, как лягушки, — улыбнулась Эйприл. — Вам необходимо чего-нибудь выпить.
— Слушай, Эйприл, ты это делаешь специально?
— Что?
— Заставляешь меня влюбляться еще больше. — Найт поцеловал Эйприл в щеку.
— Да, я ужасно коварная женщина, — сказала Эйприл.
Она проводила их в гостиную. Найт сам открыл бар.
— Ты что будешь пить, Бат?
— Я ничего не буду.
— Прости, я забыл.
— Джон не пьет? — спросила почему-то Найта Эйприл.
— При мне ни разу.
— Я пробовал, — сказал Джон тоже почему-то Найту, — но мне не понравилось.
— Но ему же необходимо согреться, — снова обратилась Эйприл к Найту.
— Может быть, он и не замерз? — сказал Найт. Он налил себе виски и уселся в кресло рядом с Эйприл.
Джон подумал, что они — прекрасная пара. Подумал как-то обреченно. Вообще, он чувствовал себя в присутствии Эйприл все более скованно. Словно была между ними тайна, которой оба стеснялись.
— Как ты сегодня провела вечер? — спросил Найт.
— Необычно. Я ходила в синематограф.
— Подожди, это что-то вроде движущихся фотографий? — спросил Найт.
— Да, вроде того. Черно-белое изображение, все движется, как в настоящей жизни. Знаешь, стало страшновато.
— Страшновато? Почему?
— Не знаю. Кажется, что увидел что-то потустороннее.
— Ты слишком впечатлительна. Ты же не считаешь настоящим волшебником ярмарочного фокусника.
— Нет, Найт. Знаешь, я почему-то подумала, что синематограф не просто ярмарочное развлечение.
— Да? А что еще?
— Может быть, я почти уверена, что синематограф еще покажет себя. У него, я думаю, большое будущее.
— Глупости, малышка. Люди никогда не примут это всерьез. Так, забавная штуковина.
Джон слушал их разговор вполуха. Почему-то он сравнивал Марию с Эйприл. Нет, он ни в коем случае не отдавал предпочтение сидящей прямо перед ним утонченной красавице. Наоборот, Эйприл казалась ему ненатуральной, слишком разумной, заносчивой. Он даже с каким-то наслаждением выискивал сейчас в ней непривлекательные черты. Она не умела улыбаться. То есть она, конечно, улыбалась, но это была не открытая улыбка, а как бы насмешка. Слишком много иронии, слишком много яду. Томные ее глаза тоже были вроде брони, взгляд свысока. Такой женщине не пожалуешься на жизнь, с ней не забудешься. С ней надо все время быть героем, причем неотразимым героем. Ощущение тайны между ней и Джоном постепенно пропадало, уступая место раздражению. Джон злился и на себя, и на Найта, но больше всего на Эйприл. Впрочем, он сам не мог объяснить эту свою злость.
— У твоего друга слипаются глаза, — сказала вдруг хозяйка.
И Джону почудилось, что в ее голосе звучит плохо скрываемое раздражение.
— Ты хочешь спать, Бат? — спросил Найт.
— Нет-нет, не хочу. Я внимательно слушаю вас.
— А вот я бы не отказался поспать час-другой, — сладко потянулся Найт.
— Ну и ложись, — сказала Эйприл. — Тебе постелили в розовой комнате.
— В розовой?! Мечта! — всплеснул руками Найт. — Но мне надо написать репортаж. Ты знаешь, что сегодня вечером погиб Янг-старший?
— Конгрессмен Янг?! — воскликнула Эйприл. — Боже мой! Я прекрасно знаю его! Они дружили с отцом! Боже мой!
Известие произвело на Эйприл очень сильное впечатление. Джону даже показалось, что она чуть-чуть переигрывает. Собственно, кто был ей Янг, чтобы так ужасаться?
«Стоп, что-то я перебираю, — самому себе сказал Джон. — Она вовсе не такая уж злодейка, какой я хочу ее представить. Просто я злюсь, и сам не знаю от чего».
— Значит, твой отец приедет в Нью-Йорк? — спросил Найт.
— Отец? Да, на похороны он обязательно приедет, — ответила Эйприл каким-то мертвым голосом. — А… От чего он?..
— Сердце, — сказал Найт.
— Правда? — как будто обрадовалась Эйприл. — Да, у него было больное сердце, — словно опомнилась она.
— Ты правда хорошо знала его?
— Правда. Но я ничего тебе не скажу.
— Я никогда не путаю свою профессию с личными симпатиями, — сказал Найт обиженно.
— Прости, я не это имела в виду, — сказала Эйприл, взяв Найта за руку. — Просто мне тяжело…
— Понимаю, — сказал Найт.
А Джон ничего не понимал.
— Значит, ты не хочешь спать, Бат? — спросил Найт, поднимаясь.
— Нет-нет. Правда не хочу.
— В какой комнате постелили Бату?
— В желтой, — ответила Эйприл.
— М-м! К нему ты относишься лучше! — рассмеялся Найт.
— Я не буду ложиться, я, пожалуй, пойду. Уже половина шестого.
— Ну, тогда до завтра.
Найт пожал Джону руку и пошел писать свой репортаж.
Джон и Эйприл остались одни.
— Большое вам спасибо за приют, — сказал Джон. — Пойду.
Он думал, что Эйприл сейчас протянет ему руку на прощание, и уже поднял свою, но она сказала:
— Вы торопитесь, Джон?
— Да не так уж, чтобы очень, но…
— Тогда посидите еще. Посидите со мной, ладно?
— Хорошо, — пожал плечами Джон.
Они снова сели.
Эйприл молчала. Это было странно. Джон решил, что она о чем-то собирается с ним поговорить. Он смотрел на хозяйку выжидательно, но она молчала.
Пауза затягивалась и становилась все более мучительной. Джон хотел непринужденно взять со столика газету, но уронил всю пачку корреспонденции, и она разлетелась по полу.
Снова это были осколки некой мозаики — разноцветные конверты…
Джон усмехнулся над своей неловкостью и, опустившись на колени, стал собирать бумаги.
— Да бросьте вы это! — вдруг сказала Эйприл.
Она чуть ли не крикнула. Джон удивленно поднял глаза.
Эйприл смотрела на него умоляющими глазами.
Джон поднялся с колен.
— Уведите его отсюда! Умоляю вас, Джон Батлер, уведите отсюда Найта.
— Что случилось? — не понял Джон.
Эйприл вдруг заплакала. Она закрыла лицо ладонями, плечи ее мелко вздрагивали.
Джон стоял посреди гостиной с пачками разноцветных конвертов в руках и не знал, что делать. Все его раздраженные и злые мысли куда-то пропали. Он видел перед собой несчастную женщину, почти что девочку, которая горько плакала, всхлипывая по-детски, утирая платком глаза и шмыгая носом.
Джон подошел к ней и погладил ее по голове. Он сделал это, не задумываясь о том, что это может выглядеть неуважительно, даже оскорбительно для Эйприл. Так он пожалел бы любого ребенка. И Эйприл доверчиво прижалась к его руке, затихла.
Потом она быстро встала и, схватив Джона за руку, повела за собой.
Она привела его в кабинет, плотно закрыла дверь и даже два раза повернула ключ в дверном замке.
Она успела за это время взять себя в руки и теперь снова была прежней Эйприл. Только покрасневшие глаза выдавали ее.
— Простите, Джон, это был глупый порыв. У меня не выдержали нервы. Я не прошу вас забыть мои слова. Наоборот, я должна вам сейчас все пояснить. Но не стойте, пожалуйста, сядьте в кресло. Вот так, славно. А я буду ходить, мне так легче сосредоточиться. И потом, мне, вы должны это понять, трудно смотреть вам в глаза. Джон… Вы не хотите выпить? Ах, да, вы не пьете…
— Знаете, я сейчас выпил бы чего-нибудь, — вдруг сказал Джон.
Эйприл шагнула было к кабинетному бару, но потом махнула рукой:
— Это потом… Джон… Или вы хотите сейчас?
— Потерпит, — сказал Джон.
— Ну, тогда я начну, потому что чем дольше приступаю, тем труднее, собственно, приступить. Я понимаю, все это дико и глупо выглядит. Правда? Очень глупо… Джон… Нет, я все-таки налью вам виски…
— Потом, — сказал Джон.
— Потом? Да? — Эйприл остановилась. Она несколько раз глубоко вздыхала, словно собиралась начать говорить, но так и не начинала. Она до белизны сжимала свои пальцы, как будто собиралась выжать из них каплю крови.
— Ну, если вы не хотите говорить, не надо. Я забуду все ваши слова, — тихо сказал Джон.
— Нет! Нет! Джон. Я не люблю Найта. Он любит меня, а я его не люблю и никогда не любила. Мне с ним очень хорошо, интересно, весело, легко… Он прекрасный человек… Талантливый, добрый, сердечный… Но я не люблю его. И не хочу любить… Молчите!..
— Я молчу…
— Понимаете, он завораживает… Я чувствую, что тону… У меня все меньше сил уйти… Чем дольше мы знакомы с ним, тем труднее с ним расстаться. Но я не хочу обманывать его… Самое главное, я не хочу обманывать себя… Мне страшно, Джон… Мне страшно, что всю жизнь я смогу прожить с нелюбимым человеком… А я смогу прожить с Найтом всю жизнь и даже буду счастлива… Я говорю непонятно, да?..
— Ну, почему…
— Молчите, слушайте… Нет, не слушайте, я дура… Да, я дура набитая… Чего мне еще надо? Найт — чудо, прелесть… Может быть, я даже люблю его… Нет, я совсем запуталась… Кажется, я все-таки не люблю его… Словом, я хочу с ним расстаться, но не могу. Или лучше сказать так — я могу с ним расстаться, но не хочу… Вы поняли меня?
— Эйприл…
— Нет, не говорите ничего. Я сейчас поясню окончательно… Значит, так — в самом деле мне с Найтом очень хорошо, но я… я… Я не знаю, что мне делать, Джон! Джон, помогите мне! — вдруг снова заплакала она.
На этот раз Джон не стал утешать ее. Он сидел, опустив голову, и смотрел в пол. Одно он понял точно — Эйприл обратилась за помощью к нему. Он не знал, почему именно к нему, к человеку, которого она видела второй раз в жизни. Он не знал, в чем же должна состоять эта помощь. Ему было просто очень тяжело. Ясно было, что Джону придется предпринимать какие-то шаги, направленные против Найта. А этого человека Джон боготворил. И хотя Найт никогда не делился с Джоном, было абсолютно понятно — он любит Эйприл, он не может без нее жить. Настолько любит, что даже сам страшится своей любви, потому и надевает постоянно маску этакого легкого ловеласа, потому что, сними он ее хоть на миг, открылась бы чистая, беззащитная, трепетная и легкоранимая душа. И вот теперь Джону надо было ранить ее, а может быть, даже убить. Нет, он не мог этого сделать.
И он должен был сделать это.
— Эйприл, — сказал Джон, — я боюсь, вы и сами не до конца разобрались в себе. Вы предлагаете мне поговорить с Найтом. Вы предлагаете мне сказать ему — уйди от любимой, оставь ее…
— Да! Да!
— Я сделаю это. И я потеряю своего первого и самого лучшего друга. Нет, я не жалуюсь. Хотя, согласитесь, это очень тяжело. Просто я хочу вам показать, чего будет стоить этот разрыв. Но больше всего меня путает не это. Не получится ли так, что потом вам захочется все вернуть? Не получится ли так, что вернуть уже будет невозможно? Не получится ли так, что вам удастся вернуть Найта, но мне это не удастся уже никогда.
Эйприл перестала плакать. Она смотрела в окно, на забрезживший рассвет, на голые ветки деревьев, на серые мокрые дома. Она молчала.
— У вас есть другой… Словом, вы любите кого-то?
Эйприл молча кивнула.
— Тогда понятно.
— Нет, вам ничего не понятно, Джон. Я люблю. Или мне кажется, что я люблю. Точно так же, как мне кажется, что Найта я не люблю. Знаете, почему я заговорила об этом с вами? Вы не спросили меня, хотя этот вопрос мучает вас все время. Правда?
— Да, — ответил Джон еле слышно.
— Потому что вы — ребенок. Потому что все ваши здравые рассуждения были для меня неожиданностью. Я думала, вы не станете думать, вы почувствуете и поверите. Наверное, я не права. Забудем этот разговор. Вы уже не ребенок.
Эйприл достала из бара бутылку виски и налила Джону в толстый стакан.
Джон выпил залпом. Встал. И вышел из кабинета.
Эйприл не остановила его. Джон не чувствовал ее взгляда в спину. Он чувствовал за собой пустоту и равнодушие… Наверное, Эйприл снова уставилась в окно.
Домой Джон добрался, когда солнце уже светило вовсю. Утро вдруг развеяло тучи. Тротуары и стены домов быстро высыхали под яркими солнечными лучами. Мир стал радостнее, понятнее, добрее. И на душе у Джона тоже посветлело. Очевидно, разум его устал от неимоверного напряжения и теперь легко перепрыгивал от одной несложной мысли к другой. Джон просто наблюдал, просто улыбался и просто напевал какой-то легонький мотивчик. Джон просто был счастлив…
Губернаторский оранжад
Губернатор вышел навстречу Скарлетт, радушно улыбаясь и разведя руки, словно собирался обнять старую знакомую.
— Я рад! Как я рад! — восклицал он, однако обнимать Скарлетт не стал, а просто с сердечной улыбкой пожал ей руки. — Проходите, дорогая, проходите, присаживайтесь. Кофе, чай, оранжад?
— Мистер Лоу, я бы выпила оранжад. Вся Джорджия знает, какой прекрасный оранжад в губернаторском доме, — дипломатично улыбалась Скарлетт.
— А! Вы еще не забыли! Чудесно. Чудесно. Ну, так. Я, пожалуй, тоже выпью, но кофе.
Он отдал распоряжение и сел в свое кресло за большим резным столом с флажком штата, торчащим из бронзовой массивной чернильницы. Этот флажок заслонял от Скарлетт его лицо. Она попыталась передвинуться, но из-за этого неудобно стало сидеть. Тогда она протянула руку, чтобы сдвинуть чернильницу немного в сторону.
— О! Это бесполезно, — заметил ее движение губернатор. — Чернильница родилась вместе со столом. Это его неотъемлемая часть, как рука или нога у человека.
Губернатор был говорлив и весел.
Пришлось так и беседовать, видя только часть его широкого улыбающегося лица.
— А я обижен на вас, дорогая. Забились в свое уютное гнездышко и не радуете нас своими визитами. Мэри постоянно спрашивает о вас.
— Да, я в последнее время что-то перестала путешествовать. Возраст, знаете ли…
— О! Дама говорит о возрасте! Вы напрашиваетесь на комплимент, дорогая! Что же тогда говорить мне, старику? Нет-нет, и слышать ничего не хочу! Я вижу, что выглядите вы прекрасно. А вот и оранжад. Угощайтесь. Вам со льдом?
— Нет, спасибо, ваш оранжад надо пить чистым…
— Правильно. Это очень верно.
Следующие полминуты оба пили свои напитки и только причмокивали от удовольствия.
— Нет, есть вещи, которые не меняются в этом мире, — сказала Скарлетт, отпив почти половину стакана.
— Как верно замечено, — заулыбался Лоу. — Вы тоже чувствуете приближение дикого века?
— Всем своим существом.
— Именно! Именно! Всем своим существом. И это здесь, в нашей провинции. А представляете, каково в столицах? Кстати, я слышал, Джон Батлер теперь живет в Нью-Йорке. Это правда?
— Да, сэр.
— Вот для него двадцатый век будет в самую пору. А для меня уже широковат, — рассмеялся губернатор. — Это век для молодых…
— Верно, сэр, — мягко вставила Скарлетт. — Этот век будет очень подвижным…
— А-ха-ха-ха! — захохотал Лоу. — Именно! Именно! Подвижным! Как неразумное дитя! Да, дорогая, вы так точно подметили.
— Это не так уж трудно, сэр. Но я хотела бы…
— И как он там устроился? Учится? Работает? Чем занимается? — с неподдельным интересом спросил губернатор.
— Он работает в газете. Репортером. Пока только начинает, но уже сам написал три небольших заметки…
— О! Репортером? Потрясающе! Воплощает в жизнь статью Конституции о свободе слова?
— Да, сэр, — улыбнулась и Скарлетт. — Кстати…
— А что за газета? Впрочем, я читаю только нашу. Очень, знаете, правильные бывают статьи. Вы читаете газеты?
— Разумеется, сэр.
— Может быть, у вас даже есть телефон?
— И телефон у меня тоже есть.
— Только не говорите мне, что вы купили автомобиль! — шутливо испугался Лоу.
— Собираюсь купить, — виновато улыбнулась Скарлетт. — Говорят, это очень удобно.
— Ну вот, и вы тоже стремитесь в двадцатый век! Никто не может устоять. Впрочем, я тоже грешен. Думаю заменить свой экипаж на эту керосинку.
— Это чудесно, сэр. Но я хотела бы поговорить с вами…
— Секундочку! — Лоу приложил палец к губам, требуя тишины, прислушался, потом достал из кармана часы. — Ну так и есть! Опять звонят! Ведь я же запретил колокольный звон с пожарной каланчи! В городе шесть великолепных часов из Франции. Они точно отбивают время. Нет, пожарным вздумалось звонить когда попало. Сейчас семь минут десятого! Что это такое?
Лоу нажал кнопку электрического звонка и тут же виновато улыбнулся: мол, видите, тоже прогресс.
— Смит! — сказал он вошедшему секретарю. — Вы слышите? Они опять звонят!
— Да, сэр.
— А почему? Вы передали мое распоряжение?
— Еще неделю назад, сэр.
— Так в чем дело?
— Вы просто запамятовали, сэр. Сегодня у пожарных праздник. Юбилей противопожарной службы города.
— Черт возьми, Смит, почему вы не напомнили мне?
— Но я…
— Нечего оправдываться! Из-за вас я чуть не пропустил такое событие в жизни нашего штата! Это непростительно, Смит!
— Но я…
— Идите и велите подавать экипаж, я сейчас выхожу!
Секретарь поспешно удалился.
— Вот такие работники! — засмеялся губернатор. — Ну, Скарлетт, дорогая, очень рад был повидаться с вами, будете в Атланте, непременно заходите. Я передам Мэри от вас привет.
— Да-да, непременно, — сказала Скарлетт, поднимаясь.
Лоу выбежал из-за стола и пожал ей руку.
— Всего доброго, всего самого наилучшего! И передайте привет Джону! — говорил он, отворяя перед Скарлетт дверь.
Не успев опомниться, она оказалась в приемной, и дверь губернаторского кабинета захлопнулась за ней.
В приемной была суета. Секретари носились с какими-то бумажками, покрикивали друг на друга. Скарлетт все еще улыбалась, как улыбалась она, прощаясь с милым губернатором.
Так с улыбкой и вышла на улицу.
Но здесь она остановилась. Сойти с ума! Зачем она ехала в такую даль? Чтобы поговорить об оранжаде? Она что, для этой светской беседы добивалась аудиенции?!
Недолго думая, Скарлетт резко повернула назад и прямиком прошла в приемную.
Увидев ее, Смит вскочил со своего места:
— Простите, мэм, но к губернатору уже нельзя. Он сейчас выезжает!
Скарлетт двинулась прямо на секретаря, и того словно ветром сдуло с ее пути.
— Ник, старый ты лис! — с порога заявила Скарлетт. — Ты что, вздумал водить за нос меня? Скарлетт О’Хару? Ты забыл, как приходил к моему отцу обучаться грамоте? Ты что со мной делаешь? Или ты хочешь, чтобы твоя Мэри узнала, как ты ухлестывал за Пэгги Браун?
Губернатор, вскочивший было из-за стола при виде влетевшей в кабинет Скарлетт, медленно опустился в кресло.
Скарлетт подошла к столу и выдернула флажок из чернильницы.
— А теперь скажи мне, что происходит? — сказала она, усаживаясь на прежнее место.
— Скарлетт, дорогая, честное слово…
— Слушай, Ник Лоу, я не собираюсь больше приседать в реверансе. Вы что, все забыли, что это за имя — О’Хара? Что за проходимец претендует на мои земли?! Что еще за арбитражный суд, который собирается, видите ли, решать какое-то там дело о Таре?! Вы что здесь все, взбесились?!
— Скарлетт, ты что себе позволяешь?!
— Замолчи, Лоу, а то я сейчас опрокину эту чернильницу тебе на голову вместе со столом! Отвечай!
Из губернатора словно выпустили воздух. Он вдруг обмяк, посерел и на глазах превратился в жалкого старика, у которого одышка, пошаливает сердце, барахлит печень и бессонница.
— Скарлетт, — проговорил он наконец, — тебя лишат Тары, надежд нет никаких.
— Кто он? — жестко спросила Скарлетт.
— Конгрессмен… — одними губами проговорил Лоу.
— Имя! — грохнула кулаком по столу Скарлетт.
Губернатор только помотал головой.
— Прости нас всех… Мы не в силах тебе помочь… Это уровень… — Лоу закатил глаза, словно намекал на самого Господа Бога.
— Президент? — спросила Скарлетт, тоже почему-то понизив голос.
— Очень близко, — ответил губернатор. — Все его бумаги в полном порядке. А твои — нет.
— Ты мог мне сказать об этом раньше?
— Сейчас и так слишком рано, — сказал губернатор. — Просто, Скарлетт, я действительно многим тебе обязан. Тебе и твоему отцу.
— Что мне делать? — сухо спросила Скарлетт.
— Ничего. Ждать.
— Зачем ему моя земля? У него своей мало?
— Не знаю. Я больше ничего не знаю.
Скарлетт задумалась. Да, все оказывалось намного хуже, чем она предполагала. Все очень плохо. Настолько плохо, что остается только…
— Ну вот теперь мы и проверим, такие ли уж настоящие демократы эти янки! — сказала она.
И улыбнулась…
Спектакль о жизни и смерти
Бо не ел уже третьи сутки.
Сначала ему не очень-то и хотелось. В такую жару ничего не лезет в горло, разве что холодный чай, но где здесь взять холодный чай? А потом он вдруг поймал себя на том, что думает о еде. Вспоминает обеды и ужины в шикарных американских и европейских ресторанах — устрицы, омары, анчоусы, паштеты… Потом градус его воспоминаний снизился и он стал думать о котлетах и сосисках с тушеной капустой. А еще некоторое время спустя мечтал о куске хлеба и воде. Теперь он ощущал голод физически. У него кружилась голова и постоянно сосало под ложечкой.
Тюремщики редко заглядывали к нему. Так, больше из любопытства, посмотрят на Бо сквозь щелястую дверь, погогочут и уйдут. На все просьбы Бо дать ему поесть хоть чего-нибудь они отвечали, что у них даже мухам есть нечего — самим не хватает.
— Ну тогда решайте со мной как-нибудь побыстрее! — говорил Бо.
— Да ты отдыхай, расслабляйся, — гоготали они. — Знакомься с Африкой!
Им казалось это ужасно остроумным. Они повторяли эту шутку каждый раз.
— Но я же просто умру с голоду! — в отчаянии восклицал Бо.
— Значит, такова воля Божья, — опять хохотали тюремщики.
Один из них был бывшим католическим священником. И сейчас, видно, чтобы заглушить в себе муки совести, старался быть особенно злым и жестоким. Все, во что он верил когда-то, становилось теперь способом поиздеваться. Это был в чистом виде иезуит. Такой иезуит, какой представляли эту породу людей атеисты — хитрый, коварный, циничный, безжалостный…
Бо попал к искателям алмазов. Это все были выходцы из Европы и Америки. Был, правда, один русский, но он ничем не отличался от остальных злодеев.
Видно, ехали они в Африку с самыми радужными надеждами — найти алмазное месторождение, но не очень долгие и не очень упорные поиски успехом не увенчались. Да иначе и быть не могло. Среди них не было ни одного геолога, ни одного специалиста. Это были все до одного авантюристы, дно общества. Кто-то из них, теперь утке покойный, нашел какую-то сомнительную карту, собрал их всех вместе и повел сюда. Но карта была настолько неверной, что искатели алмазов не смогли найти ни одного ориентира. Тогда они убили своего вдохновителя. А обратно ехать у них не было ни средств, ни желания. И они стали заниматься грабежом, контрабандой, убийствами.
Здесь у них был тайный лагерь. Здесь они отсиживались после очередного дела, зализывали раны и готовились к новым авантюрам.
Когда Бо вышел к лагерю, они поначалу решили, что пришел конец их «веселой» жизни. Было бы у Бо оружие, он легко арестовал бы сразу всех — они были трусами. Но у Бо ничего не было. Как только первый испуг бандитов прошел, они основательно избили пришельца и бросили его в некое подобие карцера — деревянную постройку, полную засохшего навоза. Видимо, когда-то здесь держали свиней.
Они, конечно, могли бы убить Бо сразу, но им показалось, что Бо страшно богат. И тогда они решили потребовать за него выкуп. Вот теперь они и ждали, когда вернется их коллега, ушедший в ближайший населенный пункт, чтобы связаться с американским посольством и предъявить требования похитителей.
Надежда на то, что кто-то будет платить за Бо тысячи долларов — похитители остановились на сумме двадцать тысяч, — была более чем призрачной. Оставалось надеяться на чудо, но чудес не бывает или, как сказал бывший священник, чудеса творит только Иисус Христос. Поэтому Бо ждал смерти.
Нет, нельзя сказать, что он просто смиренно ждал. Он совершал множество всяких попыток освободиться. Испробовал все доски в своем загоне — они были хоть и старые, но достаточно крепкие, попытался делать подкоп, но это быстро обнаружилось и Бо был жестоко избит. Попробовал договориться с одним из охранников, тем самым русским, и тот вдруг согласился и даже вывел ночью Бо из загона, но привел его прямо к уже ожидавшим развлечения бандитам, и те снова избили Бо.
«Вот тебе и опасности, — горько усмехался про себя Бо. — Вот тебе, идиот, нецивилизованная земля. Вот тебе дикари со своими песнями и сказаниями. Даже в Австралию ехать не надо, чтобы увидеть настоящих каннибалов. Этот священник с таким упоением рассказывал, как они съели своего товарища, когда сильно проголодались… И еще добавил, сволочь, что это не грех — ведь едим же мы во время причастия тело Господне! И надо было столько ехать, чтобы попасть в обыкновенные американские трущобы?!»
Конечно, все тонкие мысли и рефлексии по поводу новой постановки отошли куда-то на задний план. Бо теперь думал вовсе не о драматургии, не о концепциях, не об актерской игре или сценографии, он думал об одном — как бы не сдохнуть.
На четвертый день ему принесли несколько грязных и сухих корешков.
Бо никогда не думал, что сможет с таким наслаждением рвать зубами горьковатую ткань этих щепочек, глотать их, обдирая высохшее горло. Но он хотел есть. И он съел все. Потом у него страшно разболелся живот. Его начало тошнить. Его вырвало какой-то желтой слизью. И чувство голода стало еще острее.
В последний раз Бо плакал в далеком детстве. Он даже не помнил, когда это было. И вот теперь зрелый мужчина, забывший, что такое слезы, заплакал. Но это был странный плач без слез. Организм был настолько обезвожен, что глаза оставались сухими. Это был самый страшный момент в его жизни, потому что Бо понял — ему становится совершенно все равно. Ему не хочется жить. Ему даже больше хочется умереть.
И тогда Бо заполз в угол, встал на колени и начал молиться.
Он, современный человек, свято верящий в науку, убежденный атеист, стоял на коленях и истово просил Господа выручить его. Давно забытые слова молитв вдруг всплывали в памяти ярко, четко, сразу же ложились на сердце и успокаивали своей мудростью, глубиной, добротой и чудодейственной силой.
Нет, не упали стены тюрьмы, не перемерли враз все бандиты, даже не пришли на помощь войска. Все оставалось по-прежнему, но прошло отчаяние, Бо стал рассудителен и спокоен.
На следующий день он опять подозвал к себе русского и сказал:
— Я хочу есть. Я понимаю, что у вас самих запасы еды невелики, но я знаю, как быстро пополнить их.
— Ну? — нетерпеливо спросил тот.
Бо увидел, что глаза русского загорелись.
— В двух днях ходьбы отсюда я оставил своих проводников. Они еще ждут меня. Их всего трое. Там есть чем поживиться. И не только едой и питьем.
— Ну, конечно, нашел дурака! Их там, наверное, человек двадцать. И все с оружием.
— Я не вру. Но если ты мне не веришь, что тебе стоит убедиться в этом самому. Возьми своих друзей, сходи и посмотри.
У Бо было большое желание сразу же сказать — я отведу вас. Но он этого не сделал.
— Если их там много, вы вернетесь, если мало — нападете и принесете еду. Мне, надеюсь, тоже что-нибудь перепадет.
Русский задумался.
Бо молчал. Он понимал, что настаивать не стоит. Это будет подозрительно.
— И не надейся, — сказал русский и ушел.
Но Бо понял, что первый раунд он выиграл.
Русский пришел вечером вместе со священником.
— Как туда идти? — спросил «иезуит».
— Вон в ту сторону, — сказал Бо и махнул рукой.
— Два дня?
— Не меньше.
— Ты поведешь нас, — сказал русский.
Бо чуть не закричал от радости. Но сдержался.
— Если ты нас обманул, мы тебя прикончим, — сказал «иезуит». — Так сказать, принесем святую жертву.
— Ты что? — одернул его русский. — А выкуп?
— Получим выкуп и прикончим.
Они замолчали. И опять у Бо был огромный соблазн спросить, когда они отправятся. Но он снова промолчал.
— Отправимся через час, когда совсем стемнеет, — сказал «иезуит», и они с русским ушли.
Это значило, что с Бо пойдут только эти двое. Все складывалось даже лучше, чем он предполагал.
Через час русский открыл дверь загона и тихо вывел Бо.
В лагере все, скорее всего, уже спали. Но русский все равно опасался, что их заметят.
В лесу к ним присоединились «иезуит» и еще один бандит — все-таки они решили идти втроем. Это был настоящий громила, здоровый и медлительный. Его, очевидно, использовали вместо вьючного животного.
Теперь Бо молил, чтобы Мгаба не увел проводников. Чтобы они были на месте.
Через час пути по темному лесу решили сделать привал до утра.
— Я хочу есть, — сказал Бо. — Я никуда дальше не пойду, пока вы меня не накормите. Можете убивать меня здесь.
Бандитам пришлось поделиться с ним хлебом. Одна мечта Бо сбылась. Он ел хлеб и запивал водой.
В джунглях было душно, как в парной бане. Но зато не так голодно. По дороге им попадались плоды, истекающие сладким соком, они поймали и зажарили огромную птицу, мясо которой, правда, оказалось жестким и невкусным.
Словом, Бо начал потихоньку приходить в себя.
Его вел русский, руки у Бо были связаны за спиной, а конец веревки держал бандит.
По дороге спутники Бо часто ссорились. Они вообще ненавидели друг друга и весь белый свет. Это обстоятельство натолкнуло Бо на мысль разыграть небольшой спектакль. Вот теперь он снова вспомнил о драматургии, о своей режиссерской профессии.
Движущей силой любого театрального представления является конфликт. Есть две противоборствующие стороны, непримиримые враги, и на их конфликте держится все представление. Если конфликт очень глубок и неразрешим — получается трагедия, потому что одна сторона обязательно должна погибнуть. Если конфликт не очень глубок, то получается драма. А если стороны конфликтуют из-за пустяка, недоразумения, получается комедия.
Бо решил поставить трагедию.
Как-то во время привала он тихо сказал русскому.
— Попроси разрешения у «иезуита» сходить за водой. У нас кончаются запасы.
— А чего это я должен у него спрашивать? — удивился русский.
— Так он же у вас главный, насколько я понял, — ответил Бо с предельной наивностью.
— У нас нет главного, — раздраженно пробурчал русский.
На следующем привале Бо прошептал «иезуиту»:
— Слушай, я хочу, чтобы меня вел ты. От русского так воняет. Вообще не понимаю, как вы можете подчиняться ему? Какой-то дикарь командует вами.
Первая стычка произошла именно из-за этого.
— Я поведу его сегодня, — сказал «иезуит» русскому.
— Пожалуйста, — обрадовался тот, но тут же сменил добродушие на подозрительность. — А с чего это ты так решил?
— Решил и все тут, — ответил «иезуит» с вызовом.
— Только не строй из себя главаря, — сказал русский. — Из тебя такой же главарь, как из меня поп.
— Это ты строишь из себя главаря, дикарь…
Словом, чуть не дошло до драки. Громила их остановил.
Поэтому на следующем привале Бо сказал громиле:
— Устал, парень?
— Ничего… — ответил тот.
— Ты крепкий и добрый, — похвалил Бо. — Обидно, что они тобой пользуются.
— Как это? — не понял громила.
— Ну едят-то все, а тащишь ты один.
Громила задумался.
— Но я самый сильный, — наконец нашелся он.
— Значит, ты и есть должен больше всех. Правильно?
Громила опять задумался.
Бо стало уже даже неинтересно, настолько легко ставился спектакль. Так искренне «актеры» играли свои роли.
Правда, жизнь богаче любого спектакля. Бо чуть не поплатился за свою режиссуру.
На следующем привале, как и было задумано, громила потребовал себе дополнительной еды.
Скандал начал катиться по запланированному руслу, бандиты уже двинули друг друга разок, уже хватались за оружие, уже должен был вот-вот прозвучать положенный в финале третьего акта трагедии выстрел…
— Я больше всех тащу и должен есть больше всех! Поняли?! — орал громила.
— Пусть ест! — орал русский.
— А я должен сдохнуть с голоду?! — орал «иезуит».
— Ну и сдохни!
— Ты сам сдохни!
— Убью!
— Это я тебя убью, мразь!
— Я должен есть больше всех, — упрямо повторял громила. — Бо сказал, что я должен есть больше всех. А я и сам знаю…
Драка мгновенно прекратилась. Бандиты разом обернулись к Бо.
Режиссер понял, что актеры вышли из-под контроля. Оправдываться не имело смысла. Они сейчас не понимали слов. Им надо было на кого-то вылить свою злобу. Они сейчас не помнили ни о том, что Бо единственный знает дорогу, ни о том, что за него можно получить выкуп. Они сейчас должны были кого-нибудь убить.
— Так я отдам тебе свою порцию, — сказал Бо спокойно. — Мне не слишком нравится человечина.
Бандиты завертели головами. Хватило намека. Они поняли, что против кого-то из них зреет заговор. Но вот против кого? Кому первому надо стрелять?
Ах, как слепы люди в гневе! Они совсем забыли о том, что еды у них на неделю, что есть кого-нибудь нет никакой необходимости. Но они один раз уже испробовали вкус запретного, тогда каждый наверняка подумал: только бы не я следующий! И теперь этот миг настал.
Бо оставалось только выбрать подсказку. Она должна быть точной. Она должна быть безошибочной.
— Я даже не знаю, чем русское мясо отличается от другого, — пожал плечами Бо.
Русский выстрелил сразу же. Громила завалился, как куль с картошкой.
Подсказка была не только верной. Она оказалась смертельной.
Следующим с дыркой в голове упал «иезуит».
Русский перешел на непонятный для Бо язык, наверное, на родной. Он бил ногами трупы своих мертвых коллег и орал что-то непонятное и злое.
Успокоился он только через два часа, когда они довольно далеко отошли от страшного места.
Русский был в раздумье. Теперь возвращаться в лагерь было нельзя. Ведь он прикончил двух бандитов, а остальные спросят с него за это. Но и на стоянку проводников идти тоже было опасно.
Бо словно читал его мысли и понимал, что выводы русский сделает для Бо неутешительные. В конце концов русский не такой уж дурак и сообразит, что Бо подстроил все, и застрелит его.
Ночью оба не спали.
А наутро русский вдруг сказал:
— Я отведу тебя к твоим проводникам. Но ты пообещаешь мне, что заплатишь за эту услугу.
— Обещаю, — ответил Бо, выдержав паузу.
Именно эта пауза была так важна для русского. Он поверил.
Он развязал Бо и дальше они уже шли, как два партнера.
Проводники действительно ждали Бо.
— Мать твою перетак! — обрадовался Мгаба. — Я же говорил маса, не ходить туда, в задницу. Но маса пошел.
Через месяц Бо был уже в Америке…
А что с русским?
Его убили в ближайшей деревне. Кто-то вспомнил, что белый в такой же шляпе приходил сюда с другими белыми, грабил, жег и убивал. И хотя русский никогда не был здесь, его все равно убили. Белые лица для негров были неразличимы…
Расставания и встречи
Итальянская семья переезжала. Джованни нашел более удобное жилье рядом со своей работой. Правда, Марии теперь придется ездить на свою фабрику почти два часа, но такие мелочи в итальянской семье в расчет не брались.
Расставание было грустным.
Мария накануне ночью пришла к Джону и оставалась у него до утра. Она все время плакала, никакие утешения не действовали на нее. Джон подарил ей платье, но и это не обрадовало Марию.
— Что я скажу отцу? Откуда у меня такое дорогое платье?
— Да оно вовсе не дорогое, — сказал Джон. — Я хотел бы подарить тебе что-нибудь в самом деле стоящее, но ты же знаешь, что я пока получаю совсем небольшую зарплату.
— Но ведь ты уже стал репортером.
— Это только в свободное время. Моя основная работа — посыльный у Найта. А что, отец в самом деле так и не догадывается, что у нас с тобой?..
— Если бы он догадался, он бы убил тебя, — просто сказала Мария.
— Ну, прямо так и убил бы! — не поверил Джон.
— Убил бы, — сказала Мария. — И тебя, и меня.
— Это дикость какая-то. Знаешь что, давай я пойду к нему и все расскажу. Попрошу твоей руки, и мы поженимся. Я давно об этом мечтаю.
Мария внимательно посмотрела на Джона.
— Ты правду говоришь?
— Конечно. Мы же любим друг друга.
— Не знаю… Отец может не согласиться. Ведь ты не итальянец.
— Но и он уже не итальянец. Мы все — американцы. Неужели отец этого до сих пор не понял?
— Думаю, не понял. Он собирается накопить денег и снова вернуться в Италию. Вот поэтому мы живем так экономно. Он и квартиру нашел подешевле. Хотя там у нас будет всего одна комната.
— Да… Но попробовать все равно стоит.
— Ой, Джон, если он узнает, что мы были близки…
— Но я ничего не скажу ему. Просто ты мне нравишься и я хочу на тебе жениться.
— Тогда он не согласится.
— Как же быть?
— Надо сказать ему правду.
— Но тогда он, как ты говоришь, убьет нас.
— Нет, надо сказать ему всю правду, — тихо произнесла Мария.
— Какую правду? — не понял Джон.
— Что у меня будет ребенок, — сказала Мария еще тише и снова заплакала.
Какое-то время Джон не мог произнести ни слова. Неужели у него будет ребенок? Почему Мария молчала раньше? Как она посмела? Какие еще могут быть сомнения? Конечно, он завтра же пойдет к Джованни и все расскажет. Они будут счастливы.
— Ах, глупышка милая! Знать такое и молчать!
Джон радостно засмеялся и обнял Марию.
— Ты рад? — удивилась она.
— Конечно, конечно, рад! А как же могло быть иначе?! — смеялся Джон. — У меня будет сын!
— Ты правда этого хочешь?
— Конечно! Конечно!
— А я боялась тебе сказать…
— И очень глупо!
— Но ты сам еще мальчишка! Где мы будем жить? На какие деньги?
— Все это ерунда! Мы будем жить здесь, Ежи разрешит нам. Я буду много работать, стану писать большие статьи! Найт поможет мне!
— Но ты сказал, что ваши отношения испортились.
— Они поправятся! Мария, девочка моя хорошая, любимая моя итальяночка! Ты даже не представляешь, какое это счастье!
Постепенно у девушки высохли слезы, она тоже стала улыбаться. Они проговорили всю ночь, строя планы на будущее. В том, что отец согласится, у них теперь не было никакого сомнения.
Наутро Джон выбрился чисто — теперь он делал это ежедневно выкупленным обратно прибором отца, — надел чистую сорочку, гладко причесал с помощью воды свои непокорные вихры и отправился к Джованни.
Был будний день, но Джованни отпросился с работы, чтобы перевезти семью на новое место. Повозки должны были прийти только к обеду, но у соседей все уже было сложено, да и не так уж много вещей было у них.
Джованни сидел за столом и читал газету. Мать и дочь довязывали какие-то узлы.
Когда Джон, постучавшись в дверь, вошел, Джованни удивленно поднял глаза. Это удивление не оставляло его в течение всего разговора.
— Доброе утро, сэр, доброе утро, мэм, доброе утро, Мария, — сказал Джон с легким поклоном. — Могу ли я переговорить с вами, сэр, об одном очень важном деле?
— Со мной? Пожалуйста.
Джованни указал на свободный стул с другой стороны стола.
Джон сел, машинально погладил ладонью скатерть и сказал:
— Куда вы переезжаете, сэр?
— В Бронкс.
— Далеко.
— Ничего, зато лучше.
— Жаль.
— Ничего не поделаешь.
— Да.
Джон набрал полные легкие воздуха и, словно бросившись с головокружительной высоты, выпалил:
— Сэр, я имею честь просить у вас руки вашей дочери!
Джованни некоторое время только моргал глазами. Он еще плохо понимал, когда так быстро говорили по-английски. Наконец до него дошло. Он покраснел. Потом побагровел.
— Что-о?! — заорал он, вскакивая с места.
Джон невольно сжал кулаки, ожидая нападения.
— Я хочу жениться на Марии, — сказал он и тоже встал.
Джованни тяжело дышал, глядя прямо в глаза Джону.
— Ты понимать говорить? Ты хотеть умереть?
— Я хочу жениться на Марии, — повторил Джон. — Мария любит меня, я люблю ее. Мы живем в свободной стране. Италия очень далеко. Я прошу вас, сэр, забыть ваши дикарские привычки.
Джованни сел. Теперь он побледнел как полотно.
— Мария! Ты — потаскуха! Я выбить из тебя твою любовь!
— Вы не сделаете этого, сэр, — спокойно сказал Джон. — У Марии будет от меня ребенок. Вы не станете обижать мать вашего будущего внука.
На эти слова Джованни прореагировал странно. Он улыбнулся. Он широко улыбнулся, а потом даже засмеялся.
— Убирайся вон, мальчишка! Мария никогда не будет твоей женой, — сказал он вдруг безмятежно.
Джон ничего не понимал. Он растерянно глядел на Марию, она умоляюще смотрела на него.
Мать размахнулась и ударила Марию по щеке.
Джованни встал, подошел к двери, раскрыл ее настежь и сказал:
— Убирайся вон, мальчишка. — Эти слова он произнес совершенно без акцента.
— Вы прогоняете меня? — Теперь пришла очередь удивляться Джону. — Отца вашего будущего внука?
От этих слов Джованни снова засмеялся. Он схватил Джона за шиворот и вытащил в коридор.
— Забудь ее имя. Забудь мое имя. Я не убить тебя. Я не убить ее. Ты забудь. Понятно?
От Джованни страшно разило чесноком. Джону так и хотелось вмазать в его самодовольное лицо. Он сдержался только потому, что все еще надеялся: когда-нибудь Джованни станет его тестем.
Через два часа вещи погрузили на повозки и уехали. Джон так и не смог попрощаться с Марией. Ее увезли сразу же после неудачного сватовства.
Джон совершенно терялся в догадках. Почему сообщение о беременности Марии вызвало у Джованни смех? Он что, не верил, что Джон уже достиг возраста, когда можно стать отцом? Или не верил, что Мария могла забеременеть? Нет. Все это было абсурдным. Может быть, Джованни не допускал даже мысли о том, что Джон и Мария встречались без его ведома. Этого представить было нельзя. Неужели Джованни было все равно, что Мария родит без мужа?
Пусть так. Но Джону-то это совсем не все равно. Он не хотел терять своего будущего ребенка. Он не хотел терять Марию. Он решил, что завтра же пойдет к ней на фабрику и уговорит ее бежать с ним вместе. Они переселятся в другой район. Пусть потом Джованни ищет их. За это время они успеют обвенчаться.
Нет, у Джона не так уж легко отобрать то, что ему принадлежит.
В редакции была обычная суета и беготня. Найт уже ждал Джона и, как только тот вошел, поднялся со своего места и двинулся к выходу.
— Добрый день, сэр, — сказал Джон, но ответа не последовало.
Впрочем, Джон и не ждал ответа. Теперь они с Найтом практически не разговаривали. Только по делу.
Джон, как и обещал Эйприл, поговорил с Найтом на следующий же день. Найт слушал его молча, не перебивал, вообще внешне он никак не выдал своих чувств, но Джон видел, что Найт просто оглушен, раздавлен, уничтожен. Он нервно курил, все время стряхивая пепел в бронзовую пепельницу. При этом он постоянно сбивал с папиросы и огонек. Тут же снова прикуривал и снова сбивал.
— Я не знаю, почему она попросила меня об этом, — сказал Джон. — Но я не мог ей отказать. Наверное, я поступаю неразумно. Даже наверняка. Боюсь, что я теряю сейчас друга. Прости меня, Найт. Я совершенно не знаю ваших отношений, но, возможно, это и к лучшему. Никогда не чувствовал себя более глупо, чем сейчас. Может быть, тебе стоит самому все выяснить у нее? Словом, Найт, если это возможно, не гони меня.
Найт молчал.
Действительно, Джон чувствовал себя в дурацком положении. Он, мальчишка, как будто стал ментором взрослого и вполне самостоятельного человека, почти что своего отца. Утешать Найта он не мог, советовать ему что-либо — тоже. Этим бы он просто унизил Найта. И вообще вся ситуация теперь, когда прошла та сумбурная ночь, казалась безумной. Как он мог согласиться? Почему не отказал сразу же? Кое-какие ответы у Джона были, но и они теперь казались ему невразумительными.
Найт задал только один вопрос:
— У нее кто-то есть?
— Да, — ответил Джон.
Найт посмотрел в окно, снова стряхнул пепел и сказал:
— Принеси мне, пожалуйста, вчерашние фотоснимки.
Джон понял, что дружба кончена. Найт обратился к нему официально и даже употребил непривычное для себя слово — «пожалуйста».
— Мне очень жаль, — сказал Джон и отправился за фотографиями.
Стоит упомянуть о том дне еще вот что — когда Джон получил в лаборатории фотографии и нес их в кабинет Найта, просматривая на ходу, ему вдруг показалось, что молодого человека, сына Янга, он уже где-то видел. Нет, не вчера, а раньше, гораздо раньше. Это было очень странно. Он не узнал его, когда стоял рядом с ним в парке, а узнал теперь по фотографии. Странность эта засела в голове Джона и мучила его. Он никак не мог сообразить, где же видел он этого парня?
Потом он занялся другими делами, но мыслями то и дело возвращался к мучившему его вопросу.
Дело Янга продвигалось очень быстро. Заключение врача стало решающим. Янг-старший погиб от остановки сердца.
И вот как раз сегодня должны были состояться похороны. Найт и Джон спешили на кладбище.
Поначалу было решено везти тело Янга в Вашингтон, чтобы похоронить его со всеми подобающими государственному деятелю почестями, но семья настояла на том, чтобы похороны прошли в Нью-Йорке.
Ожидалось прибытие президента, членов Конгресса, Палаты представителей, губернаторов, словом, всего политического бомонда Америки.
Найт два дня выбивал пропуск для себя и Джона. Это оказалось непросто, потому что журналистов ожидалось огромное количество. Кроме того, власти опасались волнений. Но Найт-таки выбил пропуска и теперь мчался на кладбище вместе с Джоном.
Эти дни были вообще сумасшедшими для Найта, Джон еле успевал выполнять его поручения. Настойчивость, с которой Найт выбивал пропуска, тем не менее натолкнула Джона на мысль, что Найт на похоронах надеется разрешить какую-то загадку. Поэтому он решил внимательно наблюдать за ним.
Кладбище было оцеплено конной и пешей полицией так плотно, словно полицейские получили приказ — не пропустить и мышь.
Траурный кортеж еще не прибыл, но народу собралось уже великое множество.
Джону сразу же бросилось в глаза, что добрая половина собравшихся — негры. Их отделяла от остальных цепь из тех же полицейских.
Такая же цепь, если не более плотная, отделяла группу человек в пятьсот. У них в руках были плакаты и кресты.
Это были враги Янга.
Пройдя через три проверки, Джон и Найт оказались на кладбище. Здесь уже выстроился воинский караул с карабинами, оркестр, стояли ряды скамеек и трибуна.
Найт направился не к скамейкам. Он прошел по дорожке мимо вырытой могилы и остановился на холме метрах в тридцати.
Отсюда все было видно как на ладони.
Джон установил треногу и фотоаппарат. Найт закурил, но тут же погасил папиросу, все-таки это было кладбище.
Через десять минут за кладбищенской оградой началось движение. Поначалу слабое, вялое, но по мере приближения кортежа все более активное, даже бурное.
Сначала нестройно и негромко, а потом со страшной четкостью послышалось:
— Ку-клукс-клан! Ку-клукс-клан! Ку-клукс-клан!
Это скандирование покрыл мощный рев возмущенной толпы.
— Убийцы! Убийцы! Убийцы!
Найт оказался прав. Люди были уверены, что Янга убили.
Двинулись конные полицейские, пронзительно закричала какая-то женщина…
Кортеж появился в воротах кладбища.
Джон сразу же узнал президента. Тот шел, опустив голову, держа в руках сияющий цилиндр.
Огромная процессия вливалась в ограду кладбища мучительно долго.
Джон узнавал многие лица. Политиков, банкиров, промышленников… Вдруг среди толпы он увидел Лору Кайл и Фреда Барра. У обоих были скорбные лица. Рядом с ними шел человек со смуглым лицом, но не негр.
У Джона перехватило дыхание — это был Бо.
В какой-то момент Джону показалось, что Бо увидел его. Джон замахал руками, но Бо не обратил на него внимания.
Потом Джон вспомнил, что ему необходимо наблюдать за Найтом, и увидел, что тот впился глазами в скамейку, на которой рассаживались конгрессмены. Джон посмотрел туда же и увидел Эйприл. Рядом с ней сидел благообразного вида седой и степенный человек. Что-то в чертах лица Эйприл и этого господина было очень схожим.
«Да это же отец Эйприл, — догадался Джон. — Ну, конечно, он обязательно должен был приехать!»
А рядом Джон увидел молодого Янга. Они о чем-то тихо переговаривались с отцом Эйприл.
Джона снова кольнуло — где-то он видел этого парня, но и еще одно — наверное, молодой Янг именно тот, ради кого Эйприл бросила Найта.
Началась траурная церемония. Короткую речь произнес президент. Это были очень душевные слова, но президент и не мог говорить иначе. Завтра же его слова будет знать вся Америка…
Джон снова посмотрел на Найта. Тот по-прежнему не отрывал взгляда от Эйприл.
«Нет, никакой загадки смерти Янга-старшего Найт отгадать не сможет, — подумал Джон. — Впрочем, это и понятно. Совсем другая загадка мучает сейчас его».
Потом отгремели залпы. Гроб опустили в могилу.
Люди потянулись к выходу.
Джон хотел было броситься на поиски Бо, но в такой толпе это было невозможно, да и Бо пропал куда-то.
А вот Эйприл заметила Джона и Найта. Она хотела было помахать им рукой, потом, видно, вспомнив, где находится, опустила руку. Найт отвернулся. Эйприл виновато улыбнулась Джону и сделала выразительный жест, означающий — позвоните мне.
Джон кивнул. Конечно, он не собирался звонить, он кивнул только ради приличия.
С кладбища Найт и Джон отправились снова в редакцию. Необходимо было тут же поставить в ближайший номер надгробную речь президента.
— Да, все это еще более мерзко, чем я думал, — сказал вдруг Найт, когда они ехали в автомобиле. Он сказал это, как бы ни к кому не обращаясь. Но для Джона это был признак того, что дружба их не совсем погибла.
— Ты имеешь в виду смерть Янга? — спросил Джон осторожно.
— Да. То, что мы видели сегодня, Бат, это правдивая картина наступающего века.
«Значит, он что-то все-таки разгадал, — подумал Джон. — Но я не пойму, что. Он ведь все время глазел на Эйприл».
— А ты не поделишься со мной, Найт, своими наблюдениями?
Найт удивленно обернулся к Джону.
— Ты догадался? Молодец. Да, я действительно пытался кое-что понять на этих похоронах и, думаю, понял. Только тебе, Бат, я пока ничего не скажу.
— Почему?
— И этого тоже не скажу. Просто мы сегодня с тобой напьемся. Кажется, мы помирились.
— Найт, я не знаю, как выразить свое восхищение!..
— А не знаешь, так и не стоит. Давай забудем. Все забудем, кроме самого главного.
— А что самое главное, Найт? — развеселился Джон.
— А я забыл! — расхохотался Найт.
В редакции они быстро написали передовицу о похоронах и отправились в бар, чтобы выпить. Вернее, выпивать собирался Найт, а Джон просто присутствовал.
Впрочем, немного джина с тоником выпил и он. И эта небольшая доза подействовала на него сногсшибательно. Он так вдруг расчувствовался, что стал рассказывать Найту о своих бедах, в первую очередь о Марии и ее семействе. Найт тут же окрестил его «святым семейством».
— Значит, ты говоришь, что тебя выставили за дверь, как только узнали, что подруга твоя беременна?
— Да, — кивнул Джон.
— Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, — сказал Найт. — Итальянцы, как, впрочем, и все остальные, становятся удивительно сговорчивыми, когда намечается прибавление в семье. А если верить твоим словам, Мария отнюдь не эмансипе, а ее папаша отнюдь не либерал. Знаешь, Джон, тут что-то не так.
Найт погрузился в раздумья. Именно погрузился, потому что был уже изрядно нагружен виски и все его движения были несколько утрированы и поэтому комичны.
— Есть два варианта — она ходила еще с кем-то, и «святое семейство» надеется сделать отцом безвинного неизвестного юношу. Или Мария не беременна.
— Первый вариант исключается. Мария мне ничего не говорила.
— Ах, Джон, женская душа — потемки. Впрочем, ты теперь это знаешь не хуже меня.
— Нет, я уверен. И второй вариант не годится, потому что Мария беременна. И даже если нет, они не могут быть в этом уверены.
— Почему? — спросил Найт.
— Ну, я не знаток… Но, по-моему, надо побывать у врача, прежде чем…
— А если побывать у врача до того? — спросил Найт.
— Как это? До чего «до того»? — не понял Джон.
— До того, как… Понимаешь?
— Не-а, — замотал головой Джон.
— M-да… Придется тебе объяснить кое-что из области физиологии женщины. Когда-то в детстве я стащил у отца такую книгу. Она называлась «Мужчина и женщина» или что-то в этом роде. Я там ничего не понял тогда. Но стал бояться женщин… Потом это прошло… Но я отклонился… О чем я? Ах, да… Знаешь, некоторые знахарки умеют кое-что делать с женщиной, чтобы у нее не было детей…
Джон моментально протрезвел.
— Как?! Что?!
— Точно не знаю… Какие-то травы, что ли…
— Но Мария не могла…
— Возможно, она и не знает об этом. Трудно, что ли, матери подложить в еду или питье родному дитяти какого-нибудь зелья?
— И… А… А это опасно?
— Никто не знает, потому что такие вещи не афишируются, как ты понимаешь…
— Но Мария мне сказала… Что, она солгала?
— А этот вопрос уже относится не к физиологии, а к разделу «женская душа». В той книге такого раздела не было.
Джон задумался, а потом решительно произнес:
— Нет! Мария не могла солгать. Нет.
Найт смотрел на Джона почти что с сожалением.
На следующий день Джон отправился на швейную фабрику.
Этот район Нью-Йорка был довольно мрачным, закопченные кирпичные стены, глухие высокие заборы, грязь на улицах.
Возле проходной сидели человек сто мужчин и женщин. Они молча посмотрели на Джона, но поняв, что работу он им не предложит, отвернулись.
Охранник сказал, что смена начнется через двадцать минут. И Джон присел рядом с безработными.
— Ты будешь сто двадцать четвертым, — подошел к нему здоровенный парняга. — Вон за той женщиной.
— Я не буду сто двадцать четвертым, — улыбнулся Джон. — Я здесь по другому делу.
Парень присел рядом.
— Ты не обижайся. Тут столько проходимцев, не успеешь оглянуться, они уже влезли без очереди. А я, например, сижу здесь уже третий день.
— И что, очередь двигается? — поинтересовался Джон.
— Плохо. На прошлой неделе набрали рабочих.
— А сам откуда? — спросил Джон.
— Из Огайо. Благословенные места. Ты был в Огайо?
— Нет.
— Ну а что ж тогда говоришь?
— Да я ничего не говорю.
— Вот и не говори. Я бы ни за что не уехал в этот поганый город. Что ты! У нас знаешь как здорово! А, что ты понимаешь, — махнул рукой парень и отвернулся.
Джон молчал. Что мог сказать он этому здоровяку. Что сам недавно точно так же примчался в этот город за счастьем, что ему пока что везет? Но у Джона это была блажь. Нужда не гнала его, он мог приехать и с комфортом жить в лучшей гостинице, а парень ехал за деньгами, это было видно. Да, в этом городе каждый выживает в одиночку.
— А вот тебя бы я взял на работу, — услышал вдруг Джон и, обернувшись, раскрыл от удивления рот.
Перед ним стоял какой-то очень знакомый человек, но вместе с тем совсем незнакомый.
Джон медленно поднялся. Человек улыбался ему хитрой улыбкой.
— Ну, Иоанн, как дела?
— С ума сойти, старина Джон! Это ты или не ты?! — потрясенно говорил Джон, оглядывая старого попутчика. Тот был в шикарном элегантном костюме, мягкой велюровой шляпе, тонких лайковых перчатках и с изящной тростью в руке. — Ты что, нашел миллион?
— Я обо всем расскажу тебе по дороге, а сейчас поехали ко мне.
Старый Джон повернулся и зашагал к автомобилю, который ждал его у проходной.
— Стой, — сказал Батлер. Старик остановился, недоуменно глядя на парня. — Дай я тебя хотя бы обниму!
— Тьфу! Конечно! Я совсем уже спятил! Прости, парень! — Старик в сердцах стукнул тростью о тротуар.
Попутчики обнялись.
— Да ты и растолстел! — засмеялся Батлер.
— Не может быть! Я уволю массажиста! — хохотал старик. — Ну, поехали?
— Подожди, я жду тут одну леди. Она работает на этой фабрике.
— Да, сынок, ты правильно пришел. На моей фабрике работают только леди.
— Это твоя фабрика? — удивлению Батлера не было предела. — Нет, ты рассказываешь сказки! Я знаю, что бывают чудеса, но еще полгода назад ты был нищ, как церковная крыса.
— Это Америка! — рассмеялся Джон-старший.
— Нет, я не могу поверить. Ты врешь? Сознайся, ты сейчас все это сочинил, да?
— Сынок, у тебя на счету сколько денег? — с хитроватой улыбкой спросил старик.
— У меня нет счета, — ответил Джон. — А что?
— Ага, я так и знал. Значит, ты говоришь, Америка не та страна, в которой можно разбогатеть за полгода?
— Такой страны нет.
— А за день?
— Тем более.
— Так вот, сынок, Америка такая страна, в которой можно разбогатеть за минуту. Смотри.
Старик достал из кармана чековую книжку, золотое перо, что-то черкнул на первой странице и отдал чек Джону.
— Это твое.
Джон посмотрел на цифру с шестью нулями и засмеялся:
— Сам нарисовал чек или нашел непризнанного гения?
— Слушай, мне бы пора уже обидеться. Но мне приятно шаг за шагом развеивать твои сомнения, мальчишка.
— Если это серьезно, то я не приму такого подарка.
— А это не подарок. Это твоя доля.
— Моя доля?
— Именно. Сколько процентов дохода ты платил бы своему управляющему, компаньону, директору?
— Ну, процентов тридцать. А что?
— Щедро. Я посчитал, что с меня хватит и двадцати. Остальное твое.
— Слушай, я уже устал от загадок. Объясни. Не мучай, ради Бога! — взмолился Джон.
— Это долгий разговор. Мы его продолжим у меня дома.
— Да, пожалуй, можно ехать, — сказал Джон. Все это время он наблюдал за входящими в ворота фабрики мужчинами и женщинами. Марии среди них не было.
— Ты мне скажешь, как фамилия твоей леди, и я все разузнаю. Поехали, — сказал старик Джон шоферу.
— Подожди, — сказал Батлер. — Можешь ты сделать для меня одну услугу?
— Любую.
— Вон видишь того парня? Здоровенный такой.
— Вижу.
— Если фабрика принадлежит тебе, возьми его сейчас на работу.
— На работу?
— На работу.
— Это ваше распоряжение, босс? — совершенно серьезно спросил Джон.
— Да, это мое первое распоряжение! — рассмеялся Батлер. Он еще до сих пор не верил старику.
Джон-старший выглянул в окно и подозвал к себе охранника.
— Билл, вон того здоровяка сегодня наймите грузчиком.
— Постоянно?
— Постоянно.
— Эй, деревенщина! — закричал охранник парню из Огайо. — Иди сюда, хозяин принял тебя на работу.
Машина тронулась с места и покатила.
Джон смотрел на старика и глазам своим не верил.
Да, чудеса бывают, но чтоб такие!..
Только к вечеру у Бата сложилась более или менее стройная картина головокружительного успеха старика.
На почетном месте в доме хранилась та самая сорочка, которую парень когда-то подарил своему попутчику. Деньги были обнаружены старым Джоном не сразу. Но, когда он нашел три тысячи долларов, он в первую очередь попытался разыскать Батлера. В огромном городе это оказалось невозможным.
Тогда старик решил, что должен как-то сохранить эти деньги, а если возможно, приумножить.
И он, тщательно все обдумав, вложил все до последнего цента в некую нефтяную компанию. Через неделю компания нашла нефть и ее акции подскочили до небес. Джон тут же продал акции, прибавив к первоначальным трем тысячам еще семьдесят. И, как оказалось, вовремя. Нефти, найденной компанией, было смехотворно мало, она тут же лопнула, но Джон уже купил акции военных заводов.
И тут как раз правительство сделало крупный военный заказ — Америка в это время посылала экспедиции на Филиппины и Кубу. Через месяц у Джона было уже полмиллиона. Ну а там дело пошло словно бы само собой. Новые акции, новые прибыли; конечно, Джону сказочно везло. Словно чья-то оберегающая и направляющая рука заставляла его делать именно это и ничто другое.
Фабрику он приобрел всего за месяц до встречи с Батлером. Фабрика обанкротилась, Джону она почти ничего не стоила. Но он умудрился сразу же заставить ее работать по-новому. Тяжелые и грубые ткани, которые пользовались спросом совсем недавно, теперь были никому не нужны. Фургоны, для которых, собственно, и предназначалась эта ткань, уступали место большим автомобилям. Джон-старший купил новое оборудование и стал выпускать новую необычную ткань — «дерматин». Это было чудо современной техники — ткань, заменяющая кожу. Автомобилестроители ухватились за нее руками и ногами. Дела Джона пошли в гору.
Теперь он был миллионером, входящим в первую тысячу самых богатых людей Америки.
— Все очень здорово, — сказал Джон, выслушав подробный до мелочей рассказ старика. — Значит, все было сделано чистыми руками?
Джон-старший внимательно посмотрел на своего молодого друга, покачал головой и сказал:
— А ты уже не мальчишка. Кое-что понимаешь. Да, не все. Совсем чистыми руками таких денег не сделать.
— И в чем ты измазался?
— Нет, парень, я не измазался, я, ну как бы это поточнее сказать, чуть запылился. Игорный бизнес. Это, я тебе доложу, — Клондайк.
— Ну вот, теперь я тебе поверил. Деньги все-таки грязные.
— Брось, парень. Это была разовая операция. Да я и получил там сущие гроши… Правда, в тот момент они были очень кстати…
— Помнишь, ты говорил о расплате? — сказал Джон. — Не боишься снова поплатиться?
— Нет, Джон, не боюсь. Как раз неделю назад я пожертвовал в два раза большую сумму сиротскому приюту. Как думаешь, это расплата?
— Не знаю, Джон, не знаю… — пожал плечами парень. — Дай Бог тебе…
— Почему мне? А ты что, ты разве?..
— Угадал. Это твои деньги, твоя фабрика. Я не участвую.
— Нет, милый мой, ты участвуешь! — грохнул кулаком по столу старик. — Неужели ты не понял, что я тебя все время ждал! Только тебя и ждал, потому что ты — самая главная моя расплата. Я же вижу твои глаза — в них столько идей, столько сострадания, столько мечтаний и надежд! Ты должен сделать с этими чертовыми деньгами что-то настоящее! Я не умею. Я отвалю еще пару миллионов какому-нибудь проповеднику, вроде того проходимца, что надул ваш городок. А ты так не поступишь, у тебя же молодые мозги и чистая душа.
— Слушай, ты не дьявол-искуситель? — рассмеялся Джон.
— Нет, я просто несчастный старик, которому повезло, вот и все.
Потом они вспоминали дорогу, свои приключения, голод и жажду.
Посреди этих воспоминаний Джон вдруг ни с того ни с сего опять вспомнил молодого Янга. Сам удивился этому, отбросил непрошеную мысль и продолжил разговор, идущий с постоянным рефреном — «А помнишь?».
Вечером он вернулся в свою комнатушку. Да, надо сказать, что он первый раз в жизни сам вел автомобиль. Водитель старика очень терпеливо учил его, поэтому до дому они добрались только через два часа.
— Когда завтра подать машину? — спросил водитель.
— Что? Машину? — не сразу понял Джон. — А! Нет, не надо. Спасибо.
Водитель пожал плечами и уехал.
Мальчишеское тщеславие оказалось очень заразной штукой — Джон посмотрел на окна своего дома: видит ли Ежи, что он сам привел машину домой?
Ежи действительно наблюдал из окна. Он помахал Джону рукой, но как-то странно, это был не приветственный жест, а предостерегающий. Джон понял это только через мгновение, когда чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо.
— Ты Джон Батлер? — спросил человек.
Джон обернулся. Их было трое. Они собирались бить. Это было видно сразу. Один зашел Джону за спину.
— А ты коллекционируешь имена? — спросил Джон.
От первого удара он увернулся. Успел даже двинуть поддых тому, который спросил.
Но дальше было уже не так успешно.
«Главное — не свалиться, главное — стоять на ногах, — думал Джон, молотя кулаками направо и налево. — Они дерутся плохо, они долго замахиваются. У меня есть шанс. Ежи наверняка вызвал полицию…»
Одного из нападавших Джон сумел выключить из драки. Но двое оставшихся молотили его, словно кувалдами. Все лицо его уже было в крови, но прятать лицо было нельзя, надо было видеть, откуда летят удары.
Драка затягивалась. Джон понимал, что вот-вот свалится, несколько ударов были очень прицельными и болезненными. Правда, соперники его тоже выдохлись. У них тоже были разбиты в кровь лица.
«Нет, они не хотят меня убить, — думал Джон. — У них было уже столько возможностей пырнуть меня ножом, ударить по голове ломом… Они должны меня избить. Только избить. Наверное, лучше было бы, если б я свалился. Они посчитали бы свою задачу выполненной и бросили бы меня, но я никогда не сдамся!»
Джон свалился на тротуар. Тот самый, которого Джон отключил в самом начале, сумел подняться и сцепленными в замок кулаками двинул Джона по затылку.
— И забудь про Марию, понял? — прохрипели Джону в ухо. — Еще раз станешь искать ее — убьем.
Они могли этого и не говорить. Джон и так знал, почему этим ребятам не понравилась именно его личность.
Они оставили его и неспешно пошли прочь, отплевываясь и вытирая разбитые лица. Они решили, что дело свое сделали.
О! Они не знали Джона Батлера!
Схватив мусорный бак, Джон с диким криком понесся на своих обидчиков. Тот, который первым обернулся к Джону, и получил удар баком. Он рухнул на землю как подкошенный, а двое других, скорее от неожиданности, чем от страха, вдруг опрометью бросились бежать.
Одного Джон нагнал очень быстро, от ловкой подножки парень покатился по тротуару. Джон влепил ему два сильных удара в челюсть.
Третьего он догонять не стал. Только крикнул что было мочи на всю улицу:
— Я живу в свободной стране! И встречаться буду с кем захочу! Так и передайте своему Джованни! Америка никогда не станет Италией!
Ежи впустил его и сразу запер дверь.
— Полиция так и не появилась, — сказал Джон. — За что я плачу налоги? Ты когда вызвал их?
Ежи опустил голову.
— Я не вызывал полицию, Янек. Они сказали, что подожгут мой дом, если…
— Твой дом? Ежи, я не ослышался? Ты не вызывал полицию, потому что они грозили сжечь дом?
— Да, представляешь, они сказали, что сожгут дом…
— Значит, дом? Дом, значит?! А если бы они убили меня? Ежи, если бы эти подонки меня убили?! Ты что, повесил бы на своем уцелевшем доме мемориальную доску в мою честь?!
— Янек, ты не понимаешь…
— Я завтра съезжаю от тебя, Ежи. Я не хочу жить здесь.
Джон повернулся и пошел к себе.
Тут он опять вдруг вспомнил молодого Янга…
Суд
Наконец дело приняло официальный оборот. Судебный исполнитель сообщил, что слушание назначено в арбитражном суде штата на конец месяца.
Дост вовсю готовился к процессу. Он опросил десятки свидетелей, которые могли быть причастны к документам на владение Тарой. Собрал сотни бумажек, которые могли пригодиться во время процесса. На результаты поездки в Атланту он прореагировал странно:
— Мне это н-нравится! Мне это дело по д-душе!
Наверное, в нем заговорила кровь предков, когда-то осваивавших этот дикий край, стрелявших от бедра, ловко набрасывавших лассо на диких мустангов и кочевавших от одной опасности к другой в поисках счастья.
— Что же тут такого хорошего? — недоумевала Скарлетт.
— Возможно, вы не п-понимаете. Дело будет громким. А я, как п-простой смертный, очень люблю с-славу, — признался Дост.
— Но слава достается победителям.
— А я теперь в иной исход и не в-верю. Мы победим, Скарлетт. Я собрал такие документы, что даже подлинник Библии рядом с ними смотрелся бы б-бледно.
— Ну, дай Бог, — говорила Скарлетт. Она невольно заражалась оптимизмом Доста.
Но самое странное было то, что до сих пор имя претендента оставалось неизвестным. Это противоречило всем правилам юриспруденции. Но в суде Досту пояснили, что в некоторых неординарных случаях это допускается, если, скажем, истец опасается за свою безопасность или не может разглашать свое имя по государственным соображениям.
— По государственным, это уже б-ближе к истине, — сказал Дост. — Но мы таки сорвем маску с этого государственного мужа. Главное — понять, кому это выгодно.
— Вот тут я ума не приложу, — сказала Скарлетт. — Земля в Таре не так уж хороша. Даже урожай хлопка там постоянно снижается.
— Может быть, н-нефть?
— Да не думаю. Геологическое исследование я проводила еще при жизни Ретта. Никакой нефти, вообще ничего, представляющего интерес. Только вода. Но пока это, слава Богу, не такая уж редкость в нашей стране. Ведь, согласитесь, мистер Икс очень рискует, собираясь оттяпать то, что ему точно не принадлежит.
— Несомненно. Очень р-рискует.
— Значит, этот риск должен быть оправдан чем-то действительно стоящим?
— К-конечно. Вот только чем?
— Если бы я знала.
Дост задумался. Он всегда при этом напоминал ребенка — рот у него невольно приоткрывался, глаза становились огромными, он даже высовывал язык от усердия.
Скарлетт невольно улыбнулась.
— А вы знаете, Скарлетт, я, к-кажется, догадался, — сказал наконец Дост. — Речь идет о каком-то правительственном п-плане. Губернатор ясно дал вам понять, что п-претендент близок к самым высоким п-правительственным кругам. Он просто знает, что правительство собирается делать в этих м-местах. И что я понял еще, имя претендента нам н-ничего не скажет. Скорее всего, это будет п-подставное лицо. Для нас д-должно быть огромным разочарованием, когда мы узнаем, что претендент какой-нибудь мистер Кларк, мелкий б-бизнесмен. Но у него отличная поддержка. И здесь настоящий претендент п-перемудрил. Он пустил слушок, что этот гипотетический мистер Кларк большая ш-шишка, а этим выдал с головой самого с-себя.
— Может быть. Очень может быть, — сказала Скарлетт.
Суд проходил в Атланте.
Скарлетт мало что понимала в ходе самого процесса. Оба адвоката, и истца и ответчика, углублялись в такие дебри земельного законодательства, что, наверное, только они одни друг друга и понимали. Да еще судья.
В самых, казалось бы, скучных местах речей адвокатов судья вдруг разражался настоящим хохотом, словно они только что рассказали неимоверно смешной анекдот. А речь шла всего-навсего о каком-то параграфе подпараграфа, части подчасти, статьи и поправки.
В каждом перерыве Дост говорил Скарлетт одно и то же:
— Все идет отлично.
Самое забавное случилось на третий день. Дост заявил суду, что требует оглашения имени истца, так как намерен подать ответный иск. Отказать суд был не вправе, и поэтому на следующий день перед судом предстал истец. Имя его было — Кларк.
Во всем зале только Скарлетт и Дост поняли забавность ситуации. Скарлетт в голос расхохоталась. Судье даже пришлось призвать ее к порядку.
Вкратце суть дела состояла в том, что мистер Кларк представил суду документы, полностью подтверждающие его право на владение Тарой, выданные правительством Америки ровно за две недели до того, как земли были проданы предкам Скарлетт. Документ не оставлял сомнения у суда. Но документы Скарлетт тоже были в полном порядке. В государственных реестрах оба документа были зафиксированы, что в принципе противоречило здравому смыслу. Но вся беда в том, что документ Скарлетт был завизирован властями штата Джорджия, а документ Кларка — правительством Соединенных Штатов. Произошла обыкновенная чиновничья неразбериха. Уже проданная земля была продана еще раз.
Это была версия адвоката Кларка.
Версия защиты строилась на том, что правительство Америки не имело права продавать землю, отданную под юрисдикцию штата. На сей счет был указ президента. Поэтому все документы Кларка становились изначально недействительными, так как были составлены в нарушение закона.
— Более того, род О’Хара владел землей уже многие десятки лет, почему до сих пор никто не оспорил их право? Что-то здесь не так, ваша честь, — говорил Дост. — Впрочем, это не входит в компетенцию данного суда. По этому поводу я готовлюсь подать отдельный иск. Но тем не менее я хотел бы спросить истца, что мешало ему, с его безупречными документами, потребовать свою собственность лет этак сто назад? Я понимаю, что уважаемого мистера Кларка тогда еще не было на свете. Но его дед или прадед, словом, тот, кто получил эту землю от правительства, почему он не приехал в Тару, не построил дом, не вырастил хлопок? Неужели, выложив, если верить документам, довольно крупную сумму за участок, предок мистера Кларка тут же забыл о нем?
— Я протестую, — сказал адвокат Кларка. — Мой клиент не должен отвечать за действия своих предков.
— Но это действительно интересно, — сказал судья. — Может быть, истец пояснит нам?
Кларк пошептался со своим адвокатом и сказал:
— Я ничего не буду пояснять.
Со свойственной ей прямотой Скарлетт в перерыве заседаний подошла к Кларку и сказала:
— Слушайте, мистер, передайте своему высокому покровителю, что он никогда, слышите, никогда не увидит Тару своей. В этой земле покоятся мои дед, отец, мать, мой муж. Это моя земля. Была, есть и будет. А ваш покровитель может рассчитывать только на одно — я его выведу на чистую воду.
По забегавшим глазкам Кларка Скарлетт поняла, что попала в самую точку.
Суд вынес соломоново решение. Поскольку вопрос не входит в юрисдикцию арбитражного суда, передать его в обычный суд и решать как имущественный спор.
Это не была победа, но это не было и поражение.
Все-таки кто-то там, наверху, слишком понадеялся на свои силы…
Аляска
Эйприл сама позвонила к редакцию и попросила к телефону Джона Батлера.
— Я видела вас с Биллом на похоронах, — сказала она. — Я думала, вы поняли, Джон, что я просила вас позвонить.
— Я понял, — ответил Джон.
— Ясно, — после паузы сказала Эйприл. — Простите меня, я больше не буду вас тревожить.
— Нет, ничего, если у вас есть какое-то дело, говорите.
— Не у меня, у отца. Он хочет повидаться с вами.
— Ваш отец?
— Да. Если вы не против, он позвонит вам.
— Не знаю, чем могу быть ему полезен, но если он хочет…
— Да, он действительно хочет.
— Хорошо.
— Насколько я понимаю, с Биллом у вас отношения наладились?
— Разве это касается еще кого-нибудь, кроме меня и его? — грубо ответил Джон.
— Да, простите еще раз. До свидания.
— Прощайте.
Джон повесил трубку и с облегчением вздохнул. Ну вот и все. Эту страницу он перевернул окончательно. Теперь он чист перед Найтом. Теперь он снова может называть его другом. Теперь он может смотреть Найту прямо в глаза.
Так удачно, что этот разговор произошел именно сегодня, потому что завтра они отправляются с Найтом на Аляску.
Найт решил сделать большой репортаж о золотоискателях, об их жизни, работе, развлечениях.
— Если эти ребята ищут золотые жилы, то и нас там ждет нечто подобное. Понимаешь, Бат, чистые человеческие страсти, дикая природа, золото — это же просто находка для репортера, да и для писателя тоже.
К поездке они готовились основательно. Найт купил даже компас, на тот случай, если они вдруг заблудятся в снегах.
Джону тоже хотелось побывать в этом диком краю. Он слышал об Аляске так много диаметрально противоположных суждений, что понимал — истину узнает только сам.
Теперь он служил в газете младшим репортером, а к Найту прикрепили нового посыльного — шустрого негритенка по имени Цезарь Камерон. Секунду подумав, Найт окрестил негритенка Камом, и эта кличка сразу же стала общепризнанной. Негритенок же упорно представлялся Цезарем. Понимал-таки, насколько гордое имя дали ему родители.
Каму Джон купил настоящую волчью шубу. Когда Найт увидел ее, он сказал:
— Э, Кам, не годится, мне будет стыдно посылать тебя за сэндвичами в такой роскошной шубе.
Но себе Найт купил настоящую лисью доху.
— Я похитрее буду, — откомментировал он свою покупку.
Словом, все было готово к отъезду.
Джон, как и обещал, перебрался на другую квартиру. Он теперь мог позволить себе хоть целый небоскреб в самом центре Манхэттена, но снял небольшой уютный особняк, который напоминал чем-то дом в Таре, где он жил когда-то, пока мать не решила перебраться в городок.
О богатстве, привалившем неожиданно, Джон почти не думал. Старик вел дела прекрасно. Фабрика расширялась. Заказы шли непрерывно.
Джон, правда, побывав в цехах, потребовал, чтобы старик позаботился о рабочих, поставил мощные вентиляторы, сделал заграждения, оборудовал душевые комнаты и построил рабочую столовую. Старик пообещал, что все будет сделано к возвращению Джона с Аляски. Теперь старик назвал их дело «Джон и Джон» и юридически закрепил права Батлера.
Мария с фабрики уволилась. Найти ее не удавалось. Джон просто места себе не находил. Он расспрашивал о ней везде где только мог. В Бронксе было много итальянских семей, но никто не знал, где живет Джованни. Возможно, он нарочно дал Джону неверный адрес.
Джон попытался сделать запрос в полицию, но там над ним только посмеялись. В миллионном городе найти одну девушку, даже любимую, невозможно. Впрочем, пообещали сообщить сразу же, если только что-нибудь узнают.
«Я найду ее. Я обязательно найду ее, как только вернусь, — сам себе пообещал Джон. — Одна зацепочка у меня есть — те самые парни, которые встретили меня той ночью. Одного из них я, кажется, видел в толпе куклуксклановцев на кладбище. Но это все потом, потом, когда я вернусь с Аляски».
Отец Эйприл позвонил буквально через десять минут после нее.
— Джон Батлер? Здравствуйте. Это Тимоти Билтмор. Эйприл сказала мне, что вы готовы встретиться со мной.
— Да, сэр, если моя персона представляет для вас хоть какой-то интерес.
— Представляет.
— Но сейчас не очень удачное время, мистер Билтмор, я завтра отправляюсь на Аляску. Вернусь только через месяц.
— А сегодня вечером у вас не будет возможности уделить мне буквально два часа?
Джон ответил не сразу. Он хотел сегодняшний вечер провести с Найтом, чтобы еще раз обсудить план предстоящей поездки. Но настойчивость Билтмора заинтриговала Джона. Пожалуй, он не выдержит месяц в неведении.
— В восемь часов вас устраивает?
— Вполне. Я пришлю за вами автомобиль.
— Спасибо, сэр, у меня свой. Вы просто скажите мне адрес.
Когда он поведал Найту о звонке Билтмора, тот вдруг страшно заинтересовался.
— Слушай, запомни все, что будет тебе говорить старина Тим. Потом передашь мне слово в слово. Ах, как жаль, что я не могу пойти с тобой…
Встреча приобретала характер загадочный, таинственный, чуть ли не магический.
Поэтому Джон с трудом дождался вечера.
Билтмор жил в гостинице, в шикарном номере с фонтаном и несколькими спальнями.
— Не обращайте внимания на эту коммивояжерскую роскошь. Это мой секретарь перестарался, — извинился Билтмор, пропуская Джона в гостиную. — Я сам терпеть не могу это поддельное золото и бархатную пыль. Эйприл сказала мне, что вы тоже с Юга, это верно?
— Да, — сказал Джон, усаживаясь в глубокое кресло.
— Чего-нибудь выпьете?
— Нет, спасибо, разве что воды.
— Верно. Вода — это жизнь, — улыбнулся Билтмор.
Джон почему-то изначально был настроен против этого человека. Он даже не отдавал себе отчета, откуда эта неприязнь. Он совсем не знал Билтмора, он видел его только один раз на похоронах вместе с Эйприл и молодым Янгом, но ехал на встречу, словно в логово врага. Может быть, эта неприязнь передавалась от Найта, хотя и тот открыто ее не выказывал, может быть, Джон переносил на отца неприязнь к его дочери.
Но сейчас Джон увидел перед собой не гордого конгрессмена, не столпа общества, не отца американского семейства, а вполне обаятельного, остроумного и простого человека. Билтмор был одет в клетчатую рубаху навыпуск и джинсы — одежда фермера. Он открыто улыбался и смотрел собеседнику прямо в глаза.
— Вас, удивляет, Батлер, моя настойчивость?
— В каком смысле?
— В том, что я так спешно захотел вас увидеть.
— Конечно, — признался Джон.
— Вот этого ответа я и ожидал. Надеюсь, и наш разговор будет таким же честным и прямым.
— Хотелось бы, — сказал Джон.
— А это зависит только от вас и от меня, разумеется. Так вот, Джон… Можно, я буду называть вас Джоном?
— Согласен.
— Я не предлагаю вам называть меня Тимом, потому что терпеть не могу этого деревенского запанибратства. Все-таки мы с вами уже городские жители. Чего нам играть в простаков, правда?
Джон и сам не замечал, как поддавался обаянию и искренности этого человека. Ему действительно не нравилось, когда здоровенных, лысых, обрюзгших отцов семейства называли Никами и Чаками. Билтмор годился ему в отцы и не пытался молодиться.
— Но оставим реверансы и перейдем к делу. Есть две причины, по которым я хотел встретиться с вами так спешно. Об одной ничего не скажу, а вот о другой давайте поговорим. Ваш отец Ретт Батлер?
— Да, — несколько опешив, сказал Джон. — А откуда вы знаете?..
— Откуда?! Да я знал его с детства! Да я как увидел вас, чуть в обморок не упал, хотя я не институтка, как вы понимаете. Но, согласитесь, это впечатляет — увидеть друга своего детства совсем не постаревшим, а таким же молодым и полным сил. Вы, Джон, вылитый Ретт. Господи, Боже мой! Ну бывают же в жизни встречи! А, Джон?!
— Так вы знали отца с детства? И… И какой он был? — счастливо улыбался Джон.
— Законный вопрос. Он был негодяй, Джон, это был самый отъявленный негодяй на всю округу! Вы знаете, что за проказы придумывал он?! Э-э, да вам и не снилось! Не было плантатора или раба, который не мечтал бы надрать уши вашему будущему отцу. За ним охотились, как за медведем-шатуном!
Джон весело рассмеялся.
— А знаете, кто был вторым негодяем? Вы угадали — я, — гордо заявил Билтмор. — Правда, у меня не было столько фантазии, но я очень старался. Наши драгоценные родители могли запросто разориться из-за наших проказ. Ну, ночной звон с пожарной каланчи, обливание прихожан водой во время воскресной мессы и кража одежды у купающихся голых женщин — это были рядовые забавы, так сказать, цветочки. Мы устроили бунт рабов! Джон, мы устроили настоящий бунт рабов! С поджогами, битьем окон, пленением надсмотрщиков! Что вы! Фермеры даже хотели вызывать войска! Рабы, правда, ни сном ни духом не чуяли, что, оказывается, они бунтуют. Это все сделали трое-четверо мальчишек по двенадцати лет от роду. А как нас секли! Как лупили нас наши драгоценные родители! Мы хвастались своими посиневшими задницами, как боевыми наградами! Что вы, Джон, это было счастливое время!
— Да уж! — хохотал Джон.
— Так расскажите мне про Ретта. Как он жил потом? Кто ваша мать? Как он умер? Все-все!
— Ну, боюсь, мой рассказ будет не таким веселым. Хотя, зная отца, я верю вам полностью. Он всегда оставался, как бы это помягче сказать, весельчаком. Иногда весьма своеобразным весельчаком.
— Вы любили его?
— Прошедшее время для этого не годится. Я его люблю и сейчас.
И Джон подробно, насколько позволяли его знания и его память, рассказал о жизни отца. Кое-где Билтмор делал уточняющие вопросы, кое-где даже поправлял Джона, когда это касалось хронологии, скажем, Гражданской войны.
— А ваша мать? Кто она?
— Мама — героическая женщина, — сказал Джон.
— Да уж, с Реттом другая бы не ужилась.
— Мама, впрочем, говорит, что только отец мог уживаться с ней. У нее тоже характер не из мягких. Но они любили друг друга всю жизнь. Мама, по-моему, любит отца до сих пор и не верит в его смерть.
— Ну что ж, Джон, вам повезло. Вы выросли в счастливой семье.
Джон рассказал о других своих родственниках. Билтмор, оказывается, прекрасно знал Бо и Кэт. Он даже удивился, что Джон не знает об их мировой славе.
— Правда, сейчас Бо занялся странным делом — создает театр черных актеров. Ну, причуды гения!
— Я слышал, вы собираетесь покупать землю в наших краях?
— Это Эйприл сказала? Да, хотел. Но, пожалуй, не стану. А вы что, советуете?
— Я, честно говоря, мало разбираюсь в этом.
— Честно говоря, я тоже. Это все мои управляющие — узнали вдруг, что у вам там пустуют какие-то земли… Впрочем, это неинтересно. Расскажите лучше о себе. Я знаю, что вы работаете с Найтом.
— Да.
— Отличный репортер. Собственно, в вашей газете только его статьи и можно читать. Правда, сейчас там появился еще некий Д. Бат. Кто это? Тоже неплохо пишет.
У Джона перехватило дыхание.
— Я его не знаю, — сказал Билтмор.
— Вы его знаете, — покраснев, сказал Джон.
— Постойте, да никак это вы, Джон?! Ну, конечно, Джон Батлер! Ну, я вас поздравляю. Совсем, совсем неплохо. Вы ведь только начинаете, да?
— Да, — совсем смутился Джон.
— Ну, если вы окончательно не загордитесь, скажу вам вот что: президент читал ваши статьи. И хвалил.
— Президент? — не поверил своим ушам Джон.
— Да. Если хотите, я могу сообщить об этом в редакцию, им пора бы уже давать вам побольше места.
— Спасибо, сэр, но…
— Как хотите, Джон. Я вас понимаю. Ретт тоже не стал бы пользоваться рекомендациями. А вы его сын в самом высоком смысле этого слова…
До Аляски добрались довольно легко, без особых приключений, если не считать приключением то, что в дороге Цезарь простудился и несколько дней температурил.
Но Найт проявил настоящие лекарские способности и поставил мальчишку на ноги. Поэтому уже на пароходе Цезарь успел облазить все уголки и сообщить Найту и Джону, что здесь припасена огромная партия разнообразнейшего товара, начиная с мороженого мяса и заканчивая ружьями и даже платьями. В первом классе едут бизнесмены, несколько артистов и даже губернатор. Во втором расположились коммивояжеры, очень шумная компания, несколько военных, несколько инженеров и одна дама, неизвестной профессии. В третьем классе — работяги. С семьями и без семей. Все мечтают найти на Аляске золото, кое-кто хочет наняться землекопом, кое-кто собирается охотиться на пушных зверей. Словом, компания подобралась вполне обычная для таких рейсов.
Найт познакомился с капитаном, который подробно рассказал о маршруте, о пароходе, о своей команде и даже о достопримечательностях порта Уиттиер, куда пароход держал путь.
Найт отчаянно скучал, хотя каждый вечер его приглашали то в одну, то в другую компанию. Но эти вечера его не привлекали, и все из-за того, что он сразу становился центром всеобщего внимания: он не любил отвечать на вопросы, он любил вопросы задавать. Поэтому вскоре Найт стал отказываться от приглашений и предпочитал проводить время в собственной каюте. Джон тоже обследовал корабль и нашел его вполне надежным и даже современным.
Но и это вскоре не развлекало его. И тогда он спустился в третий класс и стал знакомиться с работягами. О, сколько здесь было интересных ребят! В основном бывшие ранчеро или рабочие. Были и разноязычные жители Америки, и индейцы, державшиеся обособленно и даже с некоторым вызовом.
Встретил Джон и своих земляков. Он даже знал те места, откуда ехали эти парни. Из разговоров с ними Джон понял, что ничего особенного за время его отсутствия в Джорджии не случилось, та же размеренная, спокойная жизнь, те же простые радости и труд, труд до седьмого пота.
Одна только новость будоражила сейчас этих ребят: некая вашингтонская шишка попыталась оттяпать у леди из Джорджии ее землю, да села в лужу, леди оказалась на высоте. Ни имени леди, ни имени шишки парни не знали, говорили только, что дамочка была что надо! При всем честном народе надавала губернатору пощечин.
При чем тут губернатор, они объяснить не могли. Джон никак не связывал эту почти фантастическую историю со своей матерью. В письмах она и словом не обмолвилась о своих бедах.
Но самая интересная встреча, которая потом не раз еще аукнулась в жизни Джона и Найта, произошла с эскимосом Нагом.
Джону не сразу удалось разговорить парня. Тот все больше сидел в углу и, покуривая свою трубку, отмалчивался, когда остальные бурно обсуждали то или иное событие. Надо сказать, что многие из парней уже бывали на Аляске и даже заработали немалые деньги, но, вернувшись, как они говорили, на «материк», в короткий срок спускали все деньги по кабакам и теперь возвращались опять нищими.
Жизнь на Аляске они знали досконально, хорошо представляя себе, что их ждет. Зеленым новичкам советовали сначала присмотреть, а только потом столбить тот или иной участок, вообще, они давали дельные советы: куда вложить добытые средства, как выгоднее распорядиться золотым песком, — жаль, правда, что сами они своими советами воспользоваться не сумели.
Джон долго присматривался к эскимосу и наконец подсел к нему и спросил:
— Ты тоже ищешь золото?
Эскимос молчал минут десять. Джон уже решил было, что тот просто не понял вопроса, но тот вдруг ответил:
— Моя золото не исцет. Моя думает, золото нельзя кусать.
— Значит, ты охотник?
— Моя стреляет белка, песец, соболь, моя не охотник.
— А на материк зачем ездил?
На этот раз эскимос молчал минут пять.
— Твоя не полисейский? — наконец спросил он.
— Нет, я репортер.
— Тогда сказу. Моя больсе не хосет зить дома, моя хосет на материк.
— А почему?
— Твоя тоцно не полисейский?
— Нет-нет, успокойся. Я из газеты.
— Тогда сказу. Мистер Ридер плохая, его каздая боится. Моя не хоцет зить дома. Никто эскимоса не хоцет зить там, где мистер Ридер.
— Он кто? Полицейский? — спросил Джон.
— Он хузе любой полисейский. Он нехоросий человека.
На следующий день Найт и Джон привели Нага к себе, угостили виски и подробно расспросили о страшном человеке мистере Ридере, который хуже полицейского.
Картинка вырисовывалась весьма интересная.
Поселок, в котором обосновался этот мистер, находился рядом со стоянкой эскимосов. Наг помнил все шаги пришельца с первого дня. Он тоже начинал как простой золотоискатель. Особых успехов у него, правда, не было. Но как-то так получилось, что вскоре весь поселок ходил у Ридера в долгах. И это бы еще ничего. Вскоре Ридер прибрал власть в городке в свои руки так крепко, что все только ахнули. Шериф был у Ридера на побегушках, но этого мистеру показалось мало. Он сколотил команду головорезов, которые в любое время дня и ночи могли ворваться в дом, избить хозяина, просто ограбить или в лучшем случае нагадить. Несколько человек рванулись было за помощью, но пропали бесследно. Все дело в том, что поселок располагался в ущелье, а доступ к нему был один — через узкий проход в горах. Перекрыть его Ридеру ничего не стоило. Из поселка человек уйти не мог, а если уж такая необходимость возникала, в заложниках оставалась его семья.
Когда эскимосы, которым доставалось от Ридера больше всего, попытались вырваться из его цепких лап, тот просто перестрелял всех их упряжных собак. Нагу удалось вырваться только потому, что он отправился за охотничьими ружьями. В самом деле Наг решил остаться на материке, но в поселке были его родные — мать, жена, дети. Ридер просто уничтожил бы их, не вернись Наг обратно.
— И что, никто не пытался остановить негодяя? — спросил Найт.
— Приходили два целовека, хоросие люди, они пропали, — сказал Наг.
— Понятно. — Найт задумался на минуту, а потом сказал: — Решено, Наг, мы идем с тобой.
Джон был не в восторге от этого решения. Они даже крепко поспорили с Найтом.
— Постой, мы же составили подробный план, у нас столько важных дел, а ты бросаешься на первый попавшийся кусок, словно собака, которая не ела неделю.
— Работа в газете не пошла тебе на пользу, — отшучивался Найт. — Ты стал выражать простые мысли слишком витиевато.
— Да я не шучу, Найт! Да, конечно, рассказ эскимоса очень захватывающий, прямо как в авантюрном романе, но тебе не кажется, что таких историй мы знаем сотни? Это дело не для репортера, а для хорошего отряда полиции. В порту мы сообщим шерифу штата, и мистера Ридера приведут в тюрьму в стальных наручниках…
— …которые надолго прикуют преступника к позорному столбу. Нет, Бат, ты положительно сбиваешься на пафос газетной передовицы.
— Ну, хорошо, мне это дело просто неинтересно. Можешь отправляться к Ридеру сам. Я займусь делами по намеченному плану.
— А жизнь, Бат, ты тоже хочешь прожить по намеченному плану?
— Нет, жизнь богаче любых планов, во всем ее многообразии и непредсказуемости! — в свою очередь передразнил Найта Джон. — У нас с тобой общая болезнь. Только у тебя в хронической форме, а я еще имею шанс излечиться.
— Конечно, имеешь, если бросишь репортерство.
— Я не готов к этому разговору.
— Ба! Да ты заговорил, как дипломат! У нас что, переговоры по панамской проблеме? Он не готов! Зато я готов. Ну, еще месяц-два, тебе самому станет скучно, Бат. Бросай эту профессию, пока не поздно.
— Слушай, я говорю, как дипломат, а ты вполне дипломатически выкручиваешься. Мы сейчас говорим не о моем будущем. Я уж не напоминаю тебе об обязательствах перед газетой, но передо мной у тебя есть обязательства?
— Нет. Теперь нет. Знаешь, Бат, наступает момент в жизни любого человека, когда он должен наплевать на все обязательства. У меня такой момент настал. Я хочу поехать в гости к Нагу.
— А я не хочу туда ехать.
— Ну и не надо. Ладно, это не тема для обсуждения. Лучше поговорим о твоем будущем. Мне так нравится выступать пророком, мудрым старшим товарищем, этаким слегка циничным жизневедом. Ну дай мне потешить свое самолюбие, Бат!
Джон рассмеялся. Действительно, Найту очень нравилось говорить о будущем Джона. Да и Джону, если быть честным, нравилось его слушать.
Но на этот раз Джон сказал:
— Найт, а давай-ка лучше поговорим о твоем будущем.
— Моем? Это ты предлагаешь тридцатилетнему старику? Какое у меня будущее, Бат! Мое будущее — это мое настоящее. Я помру репортером. Старым пронырой, всезнайкой, язвительным и насмешливым. Нет, Бат, мое будущее меня не интересует. А вот твое…
— Знаешь, мать мне когда-то запретила слушать гадалок, — сказал Джон. — Не потому, что это все полная чепуха, а потому, что это может быть правдой.
— Не понял.
— Очень просто. Всякие гадания и предсказания искушают будущее. Оно становится определенным, и ты вольно или невольно будешь идти по предначертанному, а так у человека всегда есть выбор.
— Твоя мать — мудрейшая женщина. Однако я не гадалка. Я советчик. И я советую тебе — брось репортерство. Займись другим.
— Чем, Найт?
— Синематографом, — вдруг ни с того ни с сего сказал Найт.
Джон рассмеялся. Ничего абсурднее и смешнее он себе представить не мог. Это то же самое, если бы Найт предложил ему вырезать силуэты из черной бумаги, что так ловко делают на разных ярмарках потасканного вида немолодые люди.
— Синематографом, Найт? Что это тебе взбрело в голову?
— Это не взбрело, Джон. Я долго думал об этом.
— У меня создалось впечатление, что долго думать ты вообще не умеешь.
— Правильно, но на этот раз получилось именно долго, — не обиделся Найт. — Знаешь, это даже не умственное наблюдение, а чувство. Вернее, предчувствие…
— Предчувствие чего?
— Не перебивай. Понимаешь, я почему-то предчувствую, что синематограф станет из обычной технической безделушки новым видом искусства.
— Синематограф?..
— Не перебивай, я же просил! Да! Именно синематограф! Это будет такой сплав! Сразу много видов искусства объединятся, и получится новое! Понимаешь, новое, неизведанное, непознанное! И им станут заниматься те, кому в других видах искусства тесно! Кого уже не устраивают театр, живопись, музыка, литература, хореография в отдельности. Я не знаю в точности, как это будет выглядеть, но это будет, Джон. Да даже наши репортажи станут ненужными, если все можно будет показать, а не описать.
— Вполне возможно. Но я-то тут при чем?
— А ты, мне кажется, именно такой человек Ты молод и честолюбив. Ты в меру амбициозен и не в меру любопытен. Неужели тебе никогда не хотелось заняться тем, чем до тебя не занимался никто?
— Конечно, хотелось, только…
— Так вот это для тебя. Поверь.
Джон задумался. Почему-то вспомнился ему тот самый случай в «Богеме», когда он увидел, придя в себя после голодного обморока, непонятный, но такой завораживающий мозаичный мир. Возможно, что-то в словах Найта и было верным, но пока это Джона не убеждало.
Решено было, что по прибытии на место Найт и Джон разойдутся в разные стороны. Найт отправится с Нагом, а Джон поедет на север Аляски, туда, где поселений еще нет, где золотоискатели только начинают осваивать новые прииски.
— Я настаиваю, Найт, чтобы ты взял с собой кого-нибудь из полиции. Нечего подвергать себя риску из-за какого-то негодяя.
— Разумеется, — согласился Найт. — Хотя, я уверен, что злополучный мистер Ридер — обыкновенный мелкий негодяй, приструнить которого особого труда не составит.
На том и порешили.
Плавание подходило к концу. За два дня до прибытия в порт разыгрался шторм, корабль болтало, словно на гигантских качелях. Найту было очень плохо. Он не переносил качку. Джон как мог помогал другу.
Да, теперь он знал, что Найт — друг. И что Найт считает его другом. Это было, в общем-то, удивительно. Почти мальчишка и американская знаменитость вдруг почувствовали родство душ. Впрочем, Джон не пытался объяснить себе, как это произошло, он просто дружил.
В первый же день он пересказал Найту во всех подробностях разговор с Билтмором. Найт слушал не перебивая, не оценивая, не делая выводов.
Когда Джон сказал, что Билтмор произвел на него прекрасное впечатление, Найт только заметил:
— А я и не сомневался.
— Но мне казалось, — возразил Джон, — что Билтмор тебе не по душе.
— Это тебе показалось. Значит, ты говоришь, что он сказал о двух причинах, по которым хотел встречи с тобой.
— Да. Но первую так и не назвал.
— А ты не догадался? — удивился Найт.
— Нет. А что? Ты знаешь ее?
— Возможно. Но и я тебе ничего не скажу.
Порт Уиттиер — маленький, грязный, бестолковый и холодный. Кораблям, чтобы пробиться к причалу, приходилось стоять на рейде неделями. Места не хватало. Грузы, выгруженные с кораблей, занимали огромное пространство. Они теснились в невообразимом хаосе. Только какой-то гений порта мог бы разыскать нужный груз. И, очевидно, такие гении здесь были. Потому что ящики, мешки, бочки и деревянные контейнеры все время двигались. Чтобы добраться от этого ада до городка, надо было все время быть начеку, оглядываться, уворачиваться, отбегать — грузы шли непрерывным потоком в самых неожиданных направлениях. Портовые грузчики как черти носились среди этих катящихся, едущих, летящих тяжестей, и со всех сторон то и дело раздавалось:
— Поберегись! С дороги, остолоп! Смотри, куда прешь, придурок!
Джон, Найт и Цезарь не сразу отправились в город. Они должны были у трапа ждать, когда станет выгружаться третий класс, которым плыл Наг. На это ушло с полчаса такой нервотрепки, в которой Цезарь чуть не получил по башке рельсами, а Найт еле успел увернуться от катящейся огромной бочки.
Наконец Наг спустился с корабля, и компания благополучно добралась до городка.
Первым делом устроились в гостиницу, которая скорее напоминала улей и муравейник, вместе взятые, а потом Найт и Джон сразу же отправились к шерифу.
Тот внимательно выслушал рассказ Найта, но только развел руками. Поселок, в котором жил Наг, не входил в его округ. Надо было добираться до места и уже там искать защиты у полиции.
— Ну а если вся тамошняя полиция куплена этим негодяем? — спросил Найт.
— Тогда у вас один выход — возвращаться на материк и обращаться к министру.
— Возвращаться? Да вы с ума сошли, уважаемый? Неужели с каким-то мелким пакостником нельзя справиться на месте?
— Таких пакостников на Аляске развелось довольно много, — сказал шериф. — Но мы стараемся как-то решать эти вопросы. Я посоветую вам обратиться к добровольцам. Правда, за это придется платить.
— Нет, я не стану снаряжать армию только ради того, чтобы вывести на чистую воду мистера Ридера. Я постараюсь справиться с ним один. — Найт встал и пошел к выходу.
Джону показалось, что шериф улыбнулся, глядя вслед репортеру.
— Простите, сэр, вы увидели что-то смешное? — с вызовом спросил он.
— Да. Я вижу людей, которые совершенно не понимают, куда они попали.
На следующий день Джон отправился на север, а Найт остался ждать, когда Наг завершит свои дела, чтобы к вечеру тоже ехать.
Цезаря Джон забрал с собой. Все-таки они решили, что мальчишке не стоит тащиться в такую даль. Негритенок ужасно страдал от холода, даже волчья шуба не помогала ему. А к Нагу пришлось бы неделю ехать на собаках, это не каждому взрослому человеку под силу.
Уже в поезде Джон подумал: «Может быть, я предал друга? Может быть, я оставил его в беде и опасности?»
Но если б это было так, Джон, конечно, отправился бы с Найтом. И не только чтобы помочь Найту — это само собой, — но и потому, что опасности нравились Джону. Но рассказ Нага, при всех ужасных подробностях, почему-то — Джон и сам не понимал, почему — оставил в нем устойчивое ощущение заурядного мелкого скандала, который гроша не стоит. Он не понимал, почему Найт так загорелся.
Границу с Канадой пересекли ночью, Джон даже не знал, что теперь он уже не в Штатах, а в соседнем государстве. Граница была только на картах.
Впрочем, наутро Джон тоже не заметил особой разницы. Те же деревянные постройки, те же английские надписи, точно так же одетые люди, которые говорят на одном с ним языке. Только форма у железнодорожников изменилась.
— А ты знаешь, Цезарь, мы уже в Канаде, — сказал Джон.
Скоро они прибудут на место. Джон знал, что самое интересное здесь — река Клондайк. Там, говорят, золото валяется прямо под ногами.
— Чем черт не шутит, — размышлял Джон, — может быть, и нам повезет, Кам, найдем самородок.
Он открыл чемодан и стал рыться в своих вещах.
«Не может быть, чтобы я совсем не оставил никаких записей, — думал он. — Если я не помню, значит, должен был записать». Он перекопал все свои заметки, все тетради, даже случайные клочки бумаги.
Цезарь молча помогал ему, только изредка демонстративно вздыхая, мол, вечно у этих белых все пропадает.
Джон обыскал собственные карманы, даже заглянул в штиблеты. Нет, никаких записей не было.
— Может быть, я все-таки могу узнать, чем мы занимаемся? — спросил наконец Цезарь.
— Я ищу записи, — сказал Джон. — Но боюсь, что просто ничего не записал.
— Ага, — сказал Цезарь язвительно. — Теперь мне все понятно. Мы ищем то, чего нет.
— Да, Кам, скорее всего так.
— Я, конечно, понимаю, что я человек маленький, что на меня можно наплевать, но все-таки наши поиски станут более продуктивными, если и я пойму, что же мы ищем? — Цезарь очень быстро ухватил эту своеобразную репортерскую манеру разговаривать.
— Это ужасно, — сказал Джон. — Но мы выйдем на первой же станции.
— Хорошо, мы выйдем на первой же станции, — обреченно сказал Цезарь. — Так просто, возьмем и выйдем.
— Перестань, Кам. Лучше собирай вещи.
Цезарь послушно стал укладываться.
На первой же станции они действительно вышли из поезда. Теперь Цезарь непрерывно вздыхал и многозначительно улыбался.
Конечно, никакой телефонной или телеграфной связи на этом Богом забытом полустанке не было. Депешу можно было отправить только на соседнюю станцию, а уже оттуда телеграфом в нужное место. Соседняя станция была за шестьдесят миль, и поезд, который покинул Джон, как раз шел туда, но все это Джон узнал, когда поезд уже скрылся за горизонтом. Теперь надо было посылать на станцию человека, добираться самим или ждать следующего поезда, который придет только через два дня.
— Значит, я все-таки не имею права знать, чем это мы занимаемся? — спросил Цезарь.
Он уже начал раздражать Джона своей язвительностью.
— Хорошо, я объясню тебе, чем мы занимаемся. Я решил поехать за Найтом. Но у меня нет адреса, даже названия того поселка, куда они отправились. Теперь понял?
— Теперь понял, — сказал Цезарь, полез в карман и достал листок бумаги, на котором его рукой было подробно записано и название, и как добираться.
Как ни был разозлен Джон, ему пришлось сказать:
— Извини, Кам.
Поезд обратно шел через три часа. А к утру следующего дня Джон и Цезарь уже были на месте. То есть, не на самом месте: от станции еще надо было ехать на собаках целых четыре дня. Если бы они поехали вместе с Нагом и Найтом, то это заняло бы куда меньше времени, потому что те отправились напрямик, а Джону теперь пришлось делать приличный крюк.
— Может быть, я оставлю тебя здесь или отправлю в Анкоридж? — спросил Джон у Цезаря.
— Нет, — ответил тот. — Ты без меня пропадешь.
И Джону пришлось согласиться, что это отчасти верно.
Когда раб становится человеком
— Вот, полюбуйтесь, — сказал Бо полицейскому комиссару, который пришел в студию, чтобы во всем разобраться на месте.
Небольшое помещение с весьма скромной мебелью — несколько стульев и два стола — было превращено неизвестными вандалами в сущий хлев. Видно, негодяям пришлось здорово потрудиться, чтобы нагадить здесь так масштабно. Сюда завезли горы вонючего мусора, конского навоза, какой-то рухляди, стены были расписаны всякими гадостями, лампы все до одной побиты, окна выбиты вместе с рамами.
— Эта студия принадлежит вам лично? — спросил комиссар.
— Да. Я купил это помещение совсем недавно.
— А чем вы здесь занимаетесь?
— Я театральный режиссер. У меня небольшая труппа актеров, здесь мы репетируем…
— Репетируем? — не понял комиссар.
— Ну, прежде чем показать спектакль, надо выучить роли, мизансцены…
— Мизансцены? — опять не понял комиссар.
— Ну да. Это значит — кто откуда выходит и где стоит, если совсем просто, — терпеливо пояснял Бо. — Мы как раз репетировали Шекспира. Это английский драматург.
— Драматург?
— Человек, который пишет пьесы.
— Я бы на твоем месте не ухмылялся, — сказал вдруг комиссар. — Слишком умный, да?
Бо весь подобрался.
— Да, я слишком умный и горжусь этим, — сказал он ледяным голосом. — А ты не забыл, зачем я тебя сюда позвал?
На этот раз комиссар смерил Бо холодным взглядом.
Ответить ему было нечего, он поковырял палкой одну из куч, что-то подобрал с пола и гордо удалился.
— Если мне вздумается совершить преступление, — сказал ему вслед Бо, — хорошо бы тебя заставили его расследовать.
Комиссар, уже дошедший до двери, вдруг остановился.
Это был низкорослый крепыш с квадратной челюстью, которая все время двигалась, так как комиссар постоянно жевал табак. Так вот, он выплюнул этот табак прямо на пол и сказал:
— Скажи спасибо, что тебе еще башку не проломили.
— Тебе сказать спасибо? — спросил Бо.
Комиссар напряг весь свой небольшой интеллект и выдал следующую сентенцию:
— С черномазыми поведешься, горя не оберешься.
— Ты не забыл, что я налогоплательщик и ты живешь на мой счет? — спокойно спросил Бо. — Если же ты об этом забыл, я постараюсь тебе напомнить. И сделаю это очень громко. А теперь пошел вон.
Бо двинулся на комиссара, и тот поспешно ретировался.
Бо и так знал, из-за чего был устроен разгром его студии. Не проходило дня, чтобы какой-нибудь ублюдок не разбил стекло, не написал на двери угрозу, не закричал бы что-нибудь похабное. Приходили какие-то благообразные старушки и, представившись руководителями общины этого района, требовали убраться вместе с неграми куда-нибудь в другое место. Когда Бо заявлял, что ему и здесь хорошо, старушки вдруг переставали быть благообразными, безобразно краснели от возмущения, устраивали истерики и даже замахивались своими зонтиками. Потом посыпались подметные письма. Здесь уже были настоящие угрозы — убить, повесить, сжечь… Бо обратился в полицию, но там сказали, что, скорее всего, это дурят мальчишки и не стоит обращать на это внимания. Потом случилась драка. Четверо ражих подвыпивших парней ворвались в помещение студии, избили вахтера, но выскочившие на крик артисты и рабочие сцены живо навешали им оплеух и вытолкали на улицу.
И вот теперь это…
Бо понимал, что сегодняшний разгром — только цветочки. Студия была беззащитна. Полиция совершенно откровенно умывала руки.
И вообще Бо чувствовал себя так, словно это он нарушитель закона. Все его влиятельные друзья, как только узнавали, в чем дело, под разными предлогами отказывали в помощи, по-дружески советуя бросить это безнадежное дело.
Бо пытался стыдить их, напоминал о Конституции, об идеалах Гражданской войны, о христианстве, наконец. С ним соглашались, но, разводя руками, говорили:
— Мы-то это понимаем, мы не расисты, но общество еще не готово. Против общества идти бессмысленно.
Бо обращался в мэрию, но и там его выслушали только из уважения к его славе. Никаких результатов этот поход не дал.
— Леди и джентльмены, — сказал Бо, собрав всех актеров и работников студии. — Видит Бог, мы собираемся здесь, чтобы сделать театр. Мы не солдаты, не ковбои, мы обыкновенные артисты и театральные работники. Мне очень стыдно за тех людей, которым наша работа встала поперек горла. Мне стыдно, потому что у меня тот же цвет кожи, что и у них. Но на этом наше сходство кончается. В остальном они — мои враги. Враги! Это не для красного словца. С нами хотят воевать. Нас хотят уничтожить. И поэтому я должен сказать вам всем — я люблю и уважаю каждого из вас. Мое мнение не переменится, если кто-то, даже все вы скажете — кончай, Бо, мы не хотим воевать. Я пойму вас. Я ни в чем не стану вас винить. Воевать должны солдаты. Поэтому, если кто-то хочет уйти, я пожму ему руку и скажу — большое спасибо, друг, мне здорово было работать с тобой, но давай дождемся лучших времен и лучших нравов. Я не выброшу из своего сердца никого. И в любой момент приму ушедшего обратно. У многих из вас есть родные, близкие, семьи, дети… Возможно, это и есть самое дорогое на свете… А жить ради театра — скорее всего безумие.
Бо говорил, не глядя в глаза собравшимся. Он просто не выдержал бы их взглядов. И только закончив свой монолог, он поднял голову. И увидел, что на него не смотрит никто. Собравшиеся сидели с опущенными глазами. Они думали, они решали что-то важное для себя. Бо был готов к любому решению.
Собравшиеся молчали. Молчание это было невыносимо для Бо. Он опустился на стул, закурил.
Нет, этого не могло быть. Хоть кто-нибудь из них должен был сказать — да, остаюсь, или нет, простите, сэр, я не могу остаться. Но они молчали.
Бо стало жалко этих людей. Не их вина, что до сих пор они не чувствуют себя полноценными гражданами Америки. Их не такие уж дальние родственники сжимались от страха, увидев белого надсмотрщика, хлыст которого не раз гулял по их спинам. Белый был для них и судья, и прокурор, и палач. Белый был для них законом.
Но Бо было не только жаль этих людей, ему действительно было стыдно. И не только потому, что какие-то ублюдки нагадили в студии. Предки Бо ведь тоже держали рабов. Бо помнил это. Он помнил, что в детстве еще делил человечество на белых и черных. Что как должное принимал, когда старый негр чистил его ботинки и подавал еду. Почему же теперь эти люди должны идти за ним? Нет, они должны его ненавидеть.
И слов от них он сейчас никаких не дождется.
В этом молчании встал вдруг со своего места Чак Боулт. Этот актер как раз репетировал роль Отелло. Был он гигантом, с красивой седой головой и ослепительной улыбкой.
Ни слова не говоря, Чак вышел из студии.
За ним поднялась Уитни, молодая статная красавица метиска. Ее отец был очень богат и помогал Бо устраивать студию.
И она ушла, не сказав ни слова.
Бо понял, что театр закончился. Теперь осталось только ему встать и выйти.
Но встать Бо не успел. В дверях снова показался Чак. Так же, не говоря ни слова, он вошел в студию и огромной лопатой, которую принес с собой, начал сгребать мусор.
Через минуту вернулась и Уитни с ворохом рабочих халатов…
К вечеру они привели студию в порядок.
Бо работал вместе со всеми. Таскал носилки, подметал пол, мыл стены.
Ему все время хотелось расплакаться, потому что он видел вокруг близких и самых родных людей. Они улыбались ему.
«У нас будет спектакль, — думал он. — У нас будет театр. У тех — не получится. Нельзя остановить раба, который становится человеком».
В тот же вечер он отправился в редакцию к Биллу Найту. Только пресса могла им сейчас помочь.
Редактор встретил Бо с распростертыми объятиями.
— Какими судьбами?! Такая честь! Почему не позвонили? Через минуту у вас был бы любой репортер. Какой премьерой порадуете на этот раз? Про вашу работу ходят какие-то фантастические слухи.
— До премьеры еще далеко, — сказал Бо. — Но я хотел бы сделать заявление.
— Вы?! Заявление?! — обрадовался редактор. — Сейчас я вызову стенографистку.
— Не так официально, — сказал Бо. — Лучше бы я поговорил с Найтом.
— О! К сожалению, Найт сейчас очень далеко, на Аляске. А что у вас стряслось? Может быть, я смогу помочь? Когда-то я писал не хуже Найта.
Редактор усадил Бо в кресло, угостил кофе, и тот рассказал о своем театре, о расистских нападениях, о комиссаре, о сегодняшнем дне.
Редактор от удовольствия только хлопал себя по коленям.
— Сенсация! — восклицал он. — Это просто сенсация! Я начну, Бо, но вам нужен не я! И не Найт, как это ни странно звучит. Эту серию статей, да-да, серию статей, должен написать Бат. Слушайте, Бо, мы вырастили такого парня! Вот кто вам нужен — Джон Бат. К сожалению, он тоже на Аляске. Но скоро вернется. Очень скоро!
— Время не ждет, — сказал Бо.
— Конечно, поэтому я сам начну эту серию. И назовем мы ее «Я — человек!».
— Бат… — размышлял вслух Бо. — К сожалению, не знаю.
— Обязательно вас познакомлю, — сказал редактор.
На следующий день статья редактора появилась в газете…
Война начинается
Вдруг все старые знакомые объявились снова. Они теперь стали даже радушнее прежнего. То и дело у двери раздавался звонок, открывалась дверь, впуская очередного гостя, который непременно говорил:
— Боже мой, Скарлетт, куда ты пропала?!
Поначалу Скарлетт раздражали эти посещения. Она прекрасно помнила, как совсем недавно не могла достучаться даже до самых близких друзей. Но потом, подумав немного, она решила, что эти люди совсем не желали ей зла. Просто они боялись. Да и сейчас опасность не миновала, а они приходят, значит, побеждают-таки свой страх.
Уэйд теперь, наоборот, появлялся реже. Он был весь в делах. Решил все-таки заменить хлопок на табак. Он долго уговаривал Скарлетт, показывал ей биржевые сводки, цены на рынке, рассказывал об особенностях выращивания табака. Хлопок высосал из земли все соки, которые были ему необходимы, а табак будет расти, потому что это совсем другое растение и ему нужны совсем другие компоненты. Впрочем, Уэйд говорил, что удобрять землю все равно придется.
Он отправился в Вирджинию за семенами, которые стоили дороже золота, и привез оттуда небольшой мешочек.
— И как ты собираешься распылить его по всей земле? — спросила Скарлетт.
— Семена не распыляются, они проращиваются, а потом высаживаются на поле, — просветил ее Уэйд. — Вот приезжай в конце лета — увидишь, какой табак мы вырастим.
Словом, жизнь как будто налаживалась. Но Скарлетт понимала, что это ненадолго. Человек, стоящий за Кларком, так просто не оставит свою затею. Кусок, видать, больно лакомый.
Она несколько раз беседовала с Достом, который благодаря процессу стал очень знаменит в штате Джорджия. Он посоветовал ей отправиться в Вашингтон, найти знакомых среди администрации президента и попытаться разузнать все, что планируется делать на этой земле.
— Я бы и сам с-сделал это, — сказал Дост, — но мои связи пока весьма ограничены. А ваши, я знаю, в-весьма широки. Ведь у Ретта было столько д-друзей.
— Не знаю, вспомнят ли они меня? — сомневалась Скарлетт.
— Вас н-невозможно забыть, — сказал Дост.
— Но-но, — пригрозила Скарлетт пальцем, — без комплиментов.
— Это не к-комплимент. Это к-констатация.
И все-таки Скарлетт сомневалась, стоит ли ей ехать. Она все откладывала поездку под разными предлогами, пока не произошло нечто на первый взгляд вполне обыкновенное.
Утром служанка сказала, что их собака Инди куда-то пропала.
Инди была старой лохматой дворнягой, каждый год приносившей забавных щенков, которых Скарлетт раздавала окрестным мальчишкам. Правда, последние года три Инди уже не щенилась. Она еле волочила ноги, все-таки ей было уже пятнадцать лет, а в человеческом исчислении — около восьмидесяти.
Нельзя сказать, что Скарлетт была к ней очень уж привязана, но Инди давно считалась как бы членом семьи, привычным и верным. Скарлетт любила читать в саду, поглаживая мохнатый бок Инди. Собака чаще всего засыпала рядом, иногда поводя своими огромными ушами.
Иногда, глядя на Инди, Скарлетт думала, что они очень с ней похожи — дети разбежались, уже нет никакой охоты принимать стойку при виде молодого красавца, больше хочется полежать, поспать, разве что рыкнуть иногда, но не очень зло.
— Может быть, ее забрали с собой на рыбалку Хоткинсы? — предположила Скарлетт.
— Может быть, — согласилась служанка.
Такое уже случалось не раз: Инди сама увязывалась за людьми с удочками, ей нравилась рыбалка, хотя рыбу она терпеть не могла.
Но около полудня, когда Скарлетт прилегла с книгой на диван, вдруг раздался испуганный крик. Через минуту в комнату влетела служанка с мокрыми от слез и распахнутыми от ужаса глазами:
— Там! В сарае! Там! — только и повторяла она.
Скарлетт мигом вскочила и бросилась к сараю, который находился в дальнем углу двора.
— Я пошла за лейкой, хотела полить дорожку, а там… — еле поспевая за хозяйкой, причитала служанка.
Сначала Скарлетт показалось, что кто-то повесил посреди сарая старую шубу…
Инди была мертва. Ее большое тело тихо раскачивалось от сквозняка.
Скарлетт начала вдруг хватать ртом воздух и искать, за что бы ухватиться и не упасть. Она попятилась к стене, но не дошла и навзничь упала на кучу соломы.
Когда она пришла в себя, то увидела рядом со служанкой врача, который подносил к ее носу ватный тампон, ужасно воняющий чем-то.
Скарлетт поморщилась и отвернула лицо. Врач убрал тампон и сказал:
— Ну, как мы себя чувствуем?
— Я была в обмороке? — спросила Скарлетт.
— Да, дорогая. В вашем возрасте уже надо беречься от всяких потрясений.
Врач просидел возле Скарлетт до самого вечера, а когда ушел, она подозвала служанку.
— Собирай мои вещи. Как только встану на ноги, мы отправляемся в дорогу.
— В дорогу? — ахнула служанка. — Куда, мэм?
— В Нью-Йорк.
— Боже мой, такая даль, мэм! Может быть, не стоит… И врач говорит…
— Нет, стоит. Обязательно. Видишь, против нас начали войну.
— Если вы имеете в виду Инди, то я думаю, что это какие-то гадкие мальчишки.
— Ты сама-то в это веришь? — спросила Скарлетт.
Служанка опустила голову. Она тоже прекрасно понимала, что никто из окрестных мальчишек никогда бы не посмел убить Инди. Ведь у каждого из них был щенок от этой собаки.
— Нет, милая, это началась война. И мы отправляемся в поход, — сказала Скарлетт.
А с ней спорить было бесполезно.
У Джона была надежда, что они все-таки сумеют догнать Найта. Он подгонял возчиков, злился на них, когда они требовали отдыха. Сам он словно не чувствовал усталости. Он готов был ехать днем и ночью. Впрочем, глагол «ехать» мало подходит к путешествию на собаках. Большую часть пути приходится бежать рядом с санями или даже толкать их. Все это выматывало и крепкого, привыкшего к таким путешествиям мужчину, а Джон даже не замечал трудностей.
«Что за блажь нашла на меня? — ругал он себя всю дорогу. — С чего это я решил бросить Найта одного? Неужели я и в самом деле думал только о будущих статьях? Нет, я положительно сошел с ума! Я негодяй и предатель!»
В дороге Цезарь снова простудился. Джон предлагал мальчишке остаться на одной из стоянок, но тот так запротестовал, что пришлось отказаться от этой мысли. Эскимосы-возчики растирали Цезаря каким-то жиром, давали ему питье, но для выздоровления требовалось дня три-четыре. Этого времени у Джона не было. Он стремился к одному — исправить собственную ошибку.
— Ты погубишь мальчишку, — сказал ему старший возчик. — Мы и так не догоним твоего друга. Остановись.
Джон уже и сам понял, что они потеряли слишком много дней из-за его упрямства. Поэтому на ближайшей стоянке решил прервать путешествие, пока не поправится Цезарь.
Стоянка называлась Калли. Здесь был небольшой деревянный дом, в котором размещалась и своеобразная гостиница для путников, и бар, и некое подобие почты, раз в два месяца сюда приезжал шериф, и тогда дом становился еще полицейским участком, камерой предварительного заключения, а иногда и пересыльной тюрьмой.
Никто в Калли постоянно не жил. Один государственный чиновник, скорее напоминающий ссыльного, ведал здесь всеми делами. Звали его Сон. Он редко появлялся из своей конуры. Большую часть времени Сон, очевидно, спал.
Цезаря устроили в небольшой комнатке, где едва умещалась кровать, но было тепло и сухо. Джону пришлось спать на полу.
Каждое утро, когда он выходил в общую комнату, где располагался скромный бар, он заставал совершенно новых людей, к полудню они уезжали, а на их месте появлялись новые.
Кое с кем из них Джон перекинулся словечком и узнал, что до владений мистера Ридера осталось всего два дня пни. Некоторые встречали Найта и Нага, но это было уже три дня назад. Когда собеседники узнавали, что Джон едет в ущелье Лат, а так называлось это место, они только присвистывали от удивления и советовали держаться от этого места подальше. Что-то такое все они слышали про мистера Ридера, но никто никогда не видел его.
— Я знаю Ридера, — сказал Сон, услышав однажды разговор Джона. — Не слушай их, парень. Они, как бабы, болтают то, чего сами не знают. Ридер — отличный человек. В ущелье у него прекрасный поселок. Правда, там не оказалось золота, но ребята бьют дичь, и все довольны. Во всяком случае, еще никто оттуда не уехал.
— Так-таки никто?
— Никто.
— Вот это и странно, — сказал Джон. — Я знаю, что люди в этих краях часто переезжают с места на место.
— А! Это конечно. Несколько человек уехали из Лата, но я сам встречал их здесь — никто не жаловался.
— Откуда же такие слухи? — спросил Джон.
— Очень просто. В этих краях появились недавно ребята Стенсона. Их человек двадцать — одни головорезы. Вот они и ездят по поселкам, собирают, как они говорят, налоги. Попросту грабят. Сунулись они пару раз и в ущелье, но Ридер собрал людей и так всыпал им, что они больше туда не суются.
— Стенсон? Это не тот ли Фил Стенсон, который год назад бежал из тюрьмы?
— Ага, и ты его знаешь! Тот самый! Заезжал он и сюда. Только с меня что возьмешь? Впрочем, он и здесь поживился. Нет, он мелочью не гнушается. А вот Ридер единственный, кто смог оказать Стенсону сопротивление.
— А что же тогда эскимосы жалуются? Говорят, что Ридер убивает людей, бесчинствует.
— Как дети малые, — улыбнулся Сон. — Они этому Стенсону, да и не ему одному, платили дань каждые полгода. Грабители говорили им, что это законный налог, что за это они будут их защищать. Видно, чем-то делились с вождями и шаманами. А Ридер все это поломал. Между прочим, он сам бывший полицейский. Да ты увидишь его. Отличный парень.
Нельзя сказать, чтобы Джон сразу и безоговорочно поверил Сону, но какое-то сомнение в его душу он заронил. Действительно, Наг рассказывал нечто невообразимое. Сегодня уже невозможно бесчинствовать в Америке так открыто и нагло. Полиция живо послала бы отряд и распушила негодяя в два счета. Правда, Наг говорил, что Ридер купил полицейских. Но и в это верилось с трудом. Купить сразу всех — невозможно. Не такой уж он богач, этот Ридер. На пушнине миллионы не сделаешь. Словом, рассказ Сона еще больше заинтриговал Джона Батлера, и он еле дождался, когда Цезарь выздоровеет.
Действительно, в ущелье Лат вела одна узкая тропа, а по бокам ее возвышались почти отвесные скалы. Контролировать дорогу, таким образом, не составляло труда.
Со стражей ущелья Джон встретился довольно скоро.
Двое немолодых людей, вооруженных винчестерами, вышли из будки на тропу и приветственно подняли руки.
— Привет, ребята, к нам? — спросили они без тени враждебности.
Джон вышел к стражникам, поздоровался, представился и первым делом спросил:
— Пару дней назад к вам приезжал человек по имени Билл Найт?
Стражники почесали затылки и ответили:
— Нет, никто сюда не приезжал. Только Наг вернулся с материка. Это местный эскимос. Никакого Найта не было.
«Странно, — подумал Джон. — Странно и страшно. Вполне возможно, что Найта уже нет в живых».
Он внимательно смотрел на пожилых стражников, но глаза их были чисты и правдивы.
«Впрочем, что я понимаю в глазах? — подумал Джон. — Обмануть меня ничего не стоит».
— А вы по какому делу к нам? — спросил один из стражников.
— Да так, ищу место, где можно пострелять белок, — неловко соврал Джон. Стражники, правда, этого не заметили.
— Э-э, парень, здесь у тебя будет много конкурентов. У нас такие охотники — в глаз белку бьют.
— Ну, я погляжу. Если не понравится, подамся в другое место.
— Тоже верно, — согласились стражники. — Мир большой.
С этими разговорами они миновали узкое ущелье и оказались в небольшой долине, со всех сторон окруженной неприступными горами.
— А где мне тут найти комнату или что-нибудь вроде того? — спросил Джон.
— Ты пойди к кривой Мэри. Она тебя устроит и твоего пацана тоже.
Стражники показали Джону на дом, стоящий на вершине холма.
— А эскимосы ваши где живут? — спросил Джон.
— А вон там, у ручья, — махнул рукой один из стражников. — Да ты с холма все увидишь.
— Ну ладно, спасибо вам, — сказал Джон и словно между делом спросил: — А вы-то что охраняете?
— Да вот это все и охраняем, — сказали стражники. — На свете ведь не только охотники за белками, но и за людьми бывают.
Кривая Мэри оказалась молодой девушкой с копной русых густых волос, чистым, открытым лицом и мягкой улыбкой. При ходьбе она слегка припадала на левую ногу. Позже Джон узнал, что в детстве ее придавило деревом — отец ее валил лес в Канаде.
Дом этот построил ее муж. Он поселился здесь одним из первых. Он был охотником, позапрошлой зимой его задрал медведь-шатун. Детей у Мэри не было, хозяйство небольшое, главный доход — от дома. Новички живут здесь, пока не обзаведутся собственным жильем.
В доме было опрятно и светло. Джон с Цезарем заняли второй этаж. В их распоряжении было четыре комнаты.
Вечером к ним пришел мистер Ридер.
Когда человек видел Ридера впервые, то единственной его мыслью было — перед ним самый отъявленный преступник, каких только рожала земля. Маленькие глазки Ридера глядели на всех настороженно. Тонкие губы были вытянуты в узкую линию. Говорил он хриплым голосом, словно бы выкурил все трубки мира. К тому же уродливый шрам пересекал его щеку от глаза до шеи. Словом, злодей, да и только.
Ридер протянул Джону руку, и тому стоило больших усилий эту руку пожать.
— Здравствуй, сынок, — сказал Ридер, словно прокаркала ворона. — Какими судьбами ты к нам?
— Да я приехал поохотиться. Говорят, в этих краях много пушных зверей.
— Кто говорит? — спросил Ридер, и его маленькие глазки пробуравили Джону переносицу.
— Да все, многие, — неуверенно сказал Джон.
— Ну и врут. Здесь пушнины мало. Надо ходить за тридцать миль, там хоть что-то, — сказал Ридер. — А где твое ружье?
— Ружье? — не сразу нашелся Джон. — Так я думал, что здесь куплю.
— Ну да, ну да, — сказал Ридер.
Джон чувствовал себя, как кролик перед удавом.
— Мэри! — позвал Ридер. — Принеси нам с парнем по чашке пунша. У тебя хороший пунш.
— Но мне надо бежать за ромом, у меня рома нет, — сказала Мэри.
— Вот и сбегай.
Мэри пожала плечами и, пробурчав:
— Пунш ему вздумалось… никогда пунша не пил, — вышла из дому.
— Значит, охотиться? И мальчишка тоже охотиться? — спросил Ридер, вставая и прохаживаясь по комнате.
— Нет… то есть да, он мой помощник, — сказал Джон. Он чувствовал, что совсем заврался.
— Ну да, ну да, — сказал Ридер. — А сам откуда едешь?
— Из Джорджии, — сказал Джон.
— Ну да, ну да…
Как железными клещами, вдруг Ридер схватил Джона и завернул ему руки назад.
— Пусти, пусти, негодяй! — налетел на Ридера Цезарь.
Но тот и не думал отпускать.
— Ребята! Эй, парни! — крикнул он. — Сюда!
В комнату ворвались здоровенные мужики, связали Джона и засунули ему в рот кляп.
— Мальчишку тоже прихватите, — сказал Ридер.
Он накинул на плечи свою шубу, надел лисью ушанку и с чувством выполненного долга вышел из дома.
Джона оттащили в какой-то подвал, развязали руки и заперли.
Это был конец. Точно так же погиб и Найт. Самое обидное, что никто так и не узнает, куда же пропали два столичных репортера — один маститый, а другой начинающий. Может быть, только возчики с Капли расскажут кому-нибудь. Но это будет не скоро. К тому времени песцы уже обглодают его труп.
Джона передернуло от омерзения. Так глупо, так глупо погибнуть.
Они, конечно, ждут ночи, чтобы было поменьше свидетелей. А ночь — вот она, уже спускается.
Главное, не взять с собой никакого оружия… Хотя он не успел бы им воспользоваться. Как этот Ридер подобрался сзади…
А что они сделают с Цезарем? Нет, мальчишку они не посмеют убить. Они не посмеют убить Цезаря!
От страха за Кама Джон вскочил и заметался по своей темнице. Боже мой! Он подставил не только свою жизнь, но и жизнь ни в чем не повинного мальчишки.
Нет, так просто сдаваться нельзя. Надо что-нибудь придумать. Он должен вырваться отсюда! Если погибнет сам, то хоть спасет Цезаря.
Джон оглядел подвал. Ничего особенного — крепкие сосновые балки, крашенные суриком, кирпичные стены, замазанные известью. Джон поискал на стенах каких-нибудь надписей. Ведь здесь побывало, наверное, немало несчастных узников. Но надписей не было. Это означало, что у пленников совсем не было времени…
— Выходи, — сказал Джону крепкий парень, распахивая дверь. — Я тебя вязать не буду, только ты без глупостей. А то — видишь, — и парень показал свой «Смит-энд-Вессон», висящий на поясе.
Джон оглянулся на свое последнее пристанище на этой земле и шагнул в коридор.
Путь к свободе
Мария сидела взаперти уже третий месяц. Мать и отец не выпускали ее на улицу из дома. Только два раза в день мать приносила в ее комнатку еду, молча ставила на стол и уходила.
Мария не знала, что наказание продлится так долго. Сначала она думала — день-другой родители подержат ее и отправят на работу. Потом решила, что ее заперли на неделю. Она пыталась поговорить с матерью, но та только ругалась и давала Марии хлесткие пощечины.
После первого месяца Мария стала каждый день плакать и звать на помощь. Тогда приходил отец, снимал свой кожаный ремень и хлестал ее. Потом Мария перестала кричать и плакать. Что-то внутри ее застыло. В уголках губ появилась упрямая и злая морщинка.
Она думала о Джоне. Сначала постоянно. От этих мыслей ей становилось легче. Она вспоминала их походы в музеи и на выставки — каким далеким казалось это теперь. Словно все эти прекрасные залы, картины, скульптуры были на какой-то фантастической планете совсем в другом мире.
Она вспоминала, как Джон смеялся, задумывался, как сосредоточенно вдруг застывал возле какого-нибудь полотна, словно пытался разгадать тайну этого волшебства, которое называется — искусство.
Она думала о том, что однажды вдруг увидела Джона совсем другими глазами. Когда же это произошло? Да, это было на набережной. Они ели горячую картошку и смотрели на баржи, проплывающие по Гудзону. Джон что-то кричал морякам, но они, конечно, не слышали его. Что же произошло тогда? Почему вдруг горячая волна поднялась в ней и подступила к самому горлу? В какой-то момент ей показалось, что она сейчас задохнется. Словно матовое стекло поставили перед глазами, весь мир поплыл, растаял, а потом вдруг она увидела Джона. Но это был не соседский мальчик — умный, вежливый и немного забавный. Это был — Он. Как и все девчонки, в детстве она мечтала о своем суженом и представляла его в сиянии славы, красоты, благодетелей. Это был в ее представлении высокий белокожий брюнет с тонкими усами и пронзительным взглядом карих глаз. Джон был светловолос. Чуть курносый, веснушчатый, с шелушащейся на губах кожей. У него были серые глаза, а рост вполне нормальный, даже не очень высокий. Но сейчас он казался ей тем самым рыцарем на белом коне.
После этого она уже не слышала и не видела ничего вокруг, только одна мысль стучала в ее висках — люблю, люблю, люблю…
На второй месяц Мария решила бежать. Твердо и бесповоротно. Нет, она не боялась, что мать и отец погубят ее, скорее всего они очень скоро увезут ее в Италию и там выдадут замуж. Просто они боялись, что снова появится Джон, что он заберет ее у них.
Мария решила бежать потому, что с ужасом вдруг поняла — и мать и отец для нее совершенно чужие люди. Это была не злая мысль, не мстительная, а очень спокойная, рассудительная даже. И в этом решении тоже виноват был Джон. Это он открыл для нее мир, в котором были совсем иные ценности, совсем другие мысли, другие отношения между людьми и другие цели в жизни. Этот мир был не лучше и не хуже того, в котором жили отец и мать, он просто был другой. И с этим он никак не соприкасался.
Да, она сама пришла тогда к Джону. Она, воспитанная с детства в самых суровых и аскетичных правилах, по которым и куда меньший поступок напрочь перечеркивал жизнь девушки. Но она не могла поступить иначе. Она боялась, что любовь, скрываемая, загнанная внутрь, закрытая на сотни замков, просто разорвет ее, сведет с ума, остановит когда-нибудь ее сердце. Любовь должна была быть свободной.
И так велико было это чувство в ней, что его хватило на двоих. Ведь она поняла сразу — Джон не любит ее. Но это не имело значения. Главное — она любила его. Она любила его больше жизни. Она обожгла его своей любовью, взяла в плен. И вот теперь они оторваны друг от друга…
Бежать из дому было совсем не сложно. Надо было только выбрать подходящий момент. Лучше всего бежать утром, когда отца уже нет дома. Надо только оттолкнуть мать, сбежать по лестнице и оказаться на улице. А потом сразу же туда, к Джону. Если его нет дома — на работу. Она знает, где находится редакция. Даже если его нет в редакции, она дождется его там. Из редакции ее не вытащит никто. Да, возможно, будет скандал. Отец непременно сунется и к Ежи, и в редакцию. Но применить силу он не посмеет. Мария уже совершеннолетняя, она вправе сама решать, с кем ей жить.
А потом они поженятся…
Мария, конечно, вспоминала и о самом последнем их дне. Это было тяжелое воспоминание, особенно в свете того, о чем она узнала, как только Джона выставили за дверь.
Это она была во всем виновата. Она солгала. Да, это была ложь во спасение, да, она не хотела ничего плохого, но она солгала и теперь расплачивалась за это. Мария не была беременна. Регулярно у нее были месячные, ни на день не запаздывали. И это удивляло ее больше всего. Она должна была забеременеть, она должна была понести от Джона, но ничего не происходило. Как Мария молила Пресвятую Деву, чтобы та послала ей ребенка, как искренне просила. Но каждый месяц в одно и то же время начинались месячные. Мария приписывала свое бесплодие тому, что живет в грехе — ведь они с Джоном не были повенчаны, поэтому Пресвятая Дева и отвернулась от нее, но, как только они повенчаются, она обязательно родит Джону ребенка. А для того чтобы повенчаться, надо было получить благословение родителей. И Мария решила солгать…
Самое трудное в побеге ей казалось только одно — оттолкнуть мать. Это даже представить себе было ужасно. К матери следовало относиться как к святой — Мария так и почитала мать, — причинить ей даже небольшое зло считалось смертным грехом. Но другого выхода у Марии не было. Она несколько раз пыталась поговорить с матерью, но та даже слушать ничего не хотела.
— Потаскуха! — кричала она на дочь и захлопывала дверь. И это в лучшем случае.
Оттолкнуть мать… Нет, Мария даже думать об этом боялась.
Сразу после того как отец выпроводил Джона, он вернулся, схватил Марию за руку и оттащил ее на кровать. Он бил ее так, что девушка уже попрощалась с жизнью. Она не могла кричать — мать подушкой закрывала ей рот.
Когда отец устал, он схватил дочь за волосы, поднял ее опухшее от слез лицо и сказал:
— Ты, сука подзаборная! Запомни раз и навсегда — ребенок у тебя будет только тогда, когда мы тебе это позволим! Неужели ты думала, что я буду рисковать?! Нет, дорогая доченька, мы приняли меры! Донна Элиза дала нам хороший совет.
Донна Элиза — старая, скрюченная, беззубая горбунья — была в их селе знахаркой. Она принимала роды, она лечила заболевших животных, она готовила снадобья от болезней.
Все стало на свои места — донна Элиза приготовила какое-то снадобье, которое лишило Марию возможности забеременеть. Неужели навсегда?
— Не бойся, — словно угадал ее мысли отец. — Когда понадобится, ты сможешь нарожать целую кучу!
Но Марию это не успокоило. Она вдруг вспомнила про Клаудию. Она с семьей тоже ездила в Америку на заработки, а когда вернулась, вышла замуж. Через год она родила. Ребенок не прожил и месяца. То же самое случилось и со вторым. Третий выжил, но до года он не мог сидеть, когда отец решил ехать в Штаты, ребенку Клаудии было три года, но он не умел ни ходить, ни говорить.
Да, теперь Мария вспоминает, что отец часто беседовал с отцом Клаудии, узнавал, что и как в этой Америке. Тот охотно делился советами. Видно, один из советов был, как уберечь Марию от беременности.
Мать принесла завтрак, как всегда, в девять часов утра. Это были лепешки и кусок сыра.
— Мама, — сказала Мария, — мама, ну, пожалуйста, поговори со мной.
— Мне не о чем с тобой разговаривать, — отрезала мать.
— Но ведь я твоя дочь. Неужели тебе ни капельки не жаль меня?
— Ты — потаскуха! Ты не моя дочь.
— Мама, что ты говоришь?! Мама, я люблю тебя! Мама! Можешь избить меня, но только скажи, что со мной будет?
— Я ничего тебе не скажу. Ты — потаскуха. Ты была, есть и будешь потаскухой — вот что с тобой будет.
— Мама, но я погибну здесь. Неужели ты хочешь, чтобы я умерла?
— Да! — вдруг закричала мать. — Да! Я хочу, чтобы ты сдохла, чтобы твой позор ушел с тобой вместе в могилу! Ты мне не дочь, ты мерзкое, гадкое исчадие дьявола! Я ненавижу тебя. — Мать размахивала руками перед самым лицом Марии.
Дочь видела прямо перед собой злые, ненавидящие, налитые темной кровью глаза. В этих глазах не было ни капли жалости, ни капли снисхождения…
Мария резко поднялась, шагнула вперед и изо всех сил толкнула мать. Та отлетела к стене, еще не понимая, что произошло, а Мария распахнула дверь и побежала вниз по лестнице.
Остановилась она только тогда, когда остались далеко позади и их дом, и их улица, и их квартал. Когда она уже не видела заводских труб, длинных кирпичных стен фабрик, очередей перед проходными.
Она оказалась почти в самом центре Нью-Йорка. Нарядные витрины, красивые дома, автомобили, чистые улицы и богатые люди.
Только здесь она сообразила, что не захватила с собой ни пальто, ни даже платка. Она была в одном легком платье и тонких ботинках. Она не замечала холода только потому, что вообще ничего не замечала вокруг. Но теперь, когда она остановилась, зимний ветер пробрал ее до костей. Впрочем, это было не самое страшное. На нее оглядывались — удивленно, весело, но и подозрительно. Какой-то полисмен двинулся в ее сторону, помахивая дубинкой.
Мария вскочила со скамейки, на которой собиралась отдышаться, и поспешила прочь.
Ежи открыл ей сразу.
— О! Марыся! Заходите, заходите, дорогая. Вы вся продрогли. Идемте скорее на кухню, там тепло, и я дам вам чашку горячего кофе.
На кухне действительно было тепло. Ежи налил ей большую чашку дымящегося ароматного кофе, дал прийти в себя и только после этого спросил осторожно:
— Мисс ищет Джона Батлера?
— Да, я ищу Джона. Его нет дома?
— Я так понимаю, судя по одежде, что мисс вышла из дома более чем поспешно?
— Да, — покраснела Мария. — Я убежала из дому.
— И теперь мисс ищет Джона Батлера, который смог бы защитить ее?
— Да. Мы с Джоном поженимся. А что? У него появился еще кто-то?
— Нет-нет, что вы, мисс! Во всяком случае, пока он жил здесь, у него не было никого, кроме неприятностей от вашего отца.
— Неприятностей?
— Да, Джованни, ваш уважаемый батюшка, прислал трех головорезов, которые собирались избить Джона. Думаю, они долго будут жалеть о том вечере.
— Подождите, вы сказали — «пока он жил здесь», а теперь Джон здесь не живет?
— Нет, мисс, он уехал отсюда почти сразу после вас.
Сердце у Марии сжалось.
— А куда он переехал?
— К сожалению, я не знаю этого.
Мария молча уставилась в стол. Она никак не ожидала, что Джон поменяет адрес.
— Может быть, мисс стоит сходить к Джону на работу. Он по-прежнему работает в редакции…
— Да, я знаю. Но мне не хотелось… доставлять ему хлопоты на работе…
— Боюсь, у вас нет другого выхода.
— Да, — сказала Мария со вздохом. — Придется идти в редакцию.
— Если мисс не обидится на меня… Словом… Я не знаю, имею ли право?.. — заговорил Ежи извиняющимся тоном. — Словом, если мисс негде жить, вернее, если так получится, что мисс негде будет жить — о! это в крайнем случае! — так вот, я готов предоставить вам комнату Джона. Только вы не обижайтесь.
Мария посмотрела на хозяина полными слез глазами.
— Спасибо вам, большое вам спасибо! — сказала она. — Я уверена, что сегодня же найду Джона. А если не найду… Боюсь, что здесь жить мне нельзя… Отец…
— Да-да, я понимаю, — закивал Ежи. — Но когда-нибудь потом, когда все успокоится.
Провожая Марию, он дал ей платок и пальто. Это были добротные женские вещи.
— Так, купил по случаю. Вот видите, пригодилось, — неловко объяснил он.
Мария еще раз поблагодарила Ежи.
— Да, мисс, обязательно передайте Джону, что я очень виноват перед ним. Пусть, если может, простит меня. Он все поймет. Не забудете?
В редакцию Марию пустили не сразу. Вахтер все никак не мог понять, о каком это Батлере толкует девушка. Только потом он догадался, что речь идет о Бате.
Мария первый раз была в редакции. Сначала ей показалось, что здесь случился пожар. Люди носились по коридорам, кричали, хлопали дверями, забегали в кабинеты, чтобы тут же снова выбежать из них. Они тащили в руках какие-то огромные листы бумаги, на ходу отрывали от них куски и бросали прямо на пол.
Потом Мария поняла, что пожара никакого нет. Очевидно, редакция что-то ищет или срочно переезжает на новое место.
Она попыталась остановить одного такого несущегося по коридору джентльмена, но он крикнул ей, не оборачиваясь:
— Комната семь!
Мария не знала, где такая комната, поэтому она спросила другого, но тот только махнул рукой куда-то в конец коридора. Мария пошла искать эту комнату, но ее несколько раз чуть не сбили с ног несущиеся навстречу и в том же направлении люди. Она поняла, что медленно ходить здесь просто не принято. И тоже понеслась.
Когда она оглянулась на двери, то увидела, что седьмая комната осталась позади, она пролетела мимо. Мария развернулась, наткнулась на смешного толстяка, но добралась-таки до комнаты номер семь.
В комнате было несколько столов, за каждым сидел человек и что-то быстро писал. Напротив сидели мужчины и женщины и, пытаясь перекричать друг друга, что-то рассказывали пишущему.
Как только место за одним из таких столов освободилось, Мария плюхнулась на стул.
— Что у вас? — спросил человек и достал чистый листок бумаги.
— Я ищу Джона Батлера. Он здесь работает.
— Джон Батлер здесь не работает. Впрочем, я и сам могу записать ваше сообщение.
— Как не работает? Он всегда работал в вашей газете.
— Газета очень большая. Здесь работает много людей. Джон Батлер работает в отделе репортажей. Это на третьем этаже, комната семьдесят один. Но я сам могу…
Мария уже не слушала. Она выскочила в коридор, включилась в общую гонку и, добежав до лестницы, которая была еле видна из-за табачного дыма — столько здесь курило народу, — взлетела на третий этаж.
В отделе репортажей не было вообще ни одного человека. Здесь было тихо и спокойно. Мария присела на краешек стула и стала ждать.
Несколько раз в комнату заглядывали разные люди, но спрашивали у нее одно:
— Кэвин не появлялся?
— Нет, — отвечала Мария и пыталась тут же спросить про Джона, но спрашивающий уже исчезал за дверью.
Наконец вошел человек с трубкой в зубах и спросил:
— Меня никто не спрашивал?
— Вас зовут мистер Кэвин?
— Да.
— О! Все только вас и спрашивают, — сказала Мария. — А вы не могли бы мне сказать?..
Кэвина и след простыл.
И снова стали заглядывать люди и спрашивать про Кэвина. И теперь Мария говорила, что он только что был, но куда-то ушел. Ей не удавалось ничего узнать про Джона.
Она поняла, что ждать здесь совершенно бессмысленно, вышла в коридор и стала заглядывать во все комнаты, надеясь найти хоть одного спокойно сидящего человека.
Она прошла почти до самого конца — ни в одной комнате не увидела спокойного джентльмена или леди. Все бегали, кричали, спорили или читали огромные листы бумаги, которые называли гранками.
И только в самой последней комнате сидел пожилой джентльмен и смотрел в окно.
— Здравствуйте, — сказала Мария. — Простите, пожалуйста, вы не поможете мне найти Джона Батлера?
Человек вдруг встрепенулся, вскочил со своего места — Мария испугалась, что он тоже сейчас куда-нибудь унесется. Но человек усадил ее в кресло, узнал имя и участливо спросил:
— А вы кем ему приходитесь?
— Я… — Мария не знала, что сказать.
— Вы его родственница? — снова спросил человек.
— Да, в какой-то мере, — сказала Мария.
— Вам совершенно нечего беспокоиться, — сказал человек. — Все будет прекрасно, вот увидите. Мы еще с вами посмеемся надо всем этим.
Мария ничего не понимала, но ей почему-то стало страшно.
— Я и не беспокоюсь, — солгала она. — А почему я должна беспокоиться?
— Вот и правильно. Вот и замечательно, — обрадовался человек. — Действительно, чего беспокоиться? Они вернутся, обязательно вернутся! Вот увидите.
— Вернутся? Откуда? Кто вернется? — еще больше испугалась Мария.
— С Аляски. Они, я думаю, еще там. Просто попался интересный материал. Они его изучают. Они настоящие репортеры.
— Кто они?
— Джон и Найт… Подождите… Так вы не знали, что они на Аляске?
— Первый раз слышу.
— Но мы же… Что, в Джорджии нет телеграфа?
— Я не из Джорджии. Ради Бога, что случилось? — Слезы показались на глазах Марии.
— Ну вот, так хорошо начали и теперь! — расстроился человек. — Их ищут. Их уже неделю ищут. Их обязательно найдут. Мне сообщили, что полиция напала на след.
— Я ничего не понимаю! — заплакала Мария. — Объясните мне, что произошло?!
Человек опустил голову на руки и некоторое время молчал.
— Я понимаю, — сказал он наконец, — полтора месяца — это огромный срок. Но я ни секунды не сомневаюсь, что они живы. Слышите, ни секунды! Просто они не могут сейчас нам ничего сообщить. Но они живы.
Голос его дрожал, и Мария поняла, что и этот человек сдерживает слезы.
Человек оказался редактором газеты. Он подробно рассказал Марии обо всем. Найт и Джон уехали на Аляску и словно в воду канули. Редакция волнуется. Местная полиция начала поиски. Но Джон, который отправился на Клондайк, туда не прибыл, а Найт вообще пропал с самого начала. Кто-то говорил о каком-то поселке, куда они просили послать полицейский отряд. Но что за поселок и где он находится, никто не помнил. Поиски идут, но пока, увы, безрезультатно.
Кончилось тем, что Марии самой пришлось утешать редактора. Он был ужасно расстроен. И обещал, как только что-нибудь станет известно, тут же сообщить ей.
Мария снова оказалась на улице.
Куда идти, она совершенно не представляла.
Был уже ранний вечер, люди торопились по домам, на Марию никто не обращал внимания, а она шла, не разбирая дороги. Мысли, одна страшнее другой, проносились в ее голове. Первый день свободы был днем отчаяния.
Неужели Джон погиб?! Нет, этого не может быть. Он не мог погибнуть именно сейчас, когда она пришла к нему, когда они снова могут быть вместе. Боже, почему она все время думает только о себе? Джона нет! А она думает только о себе, какая она негодная, эгоистичная…
Что делать? Она не могла ума приложить. Только тяжело и тягостно ныло сердце.
Одно страшное ощущение настойчиво возникало в ней, хотя она гнала его изо всех сил, — она больше никогда не увидит Джона… Она его больше никогда не увидит…
Отец стоял перед ней, засунув глубоко в карманы руки.
Мария наткнулась на него и, только подняв глаза, увидела, что это не прохожий.
Все, что произошло дальше, Мария потом вспоминала как-то странно, словно все люди, автомобили, экипажи, словом, все-все стало двигаться раз в десять медленнее.
Вот отец вынимает руки из карманов. И на это простое действие у него уходит целый час. Злая улыбка возникает на его лице, она возникает тоже очень медленно. Его руки протягиваются к ней. Они тянутся и тянутся, как в страшном сне… Они устремлены к ее горлу.
А дальше какой-то пропуск в памяти, и она уже видит отца лежащим на мокром от дождя тротуаре. Он закрывает руками лицо от ударов, он корчится и стонет…
— Я не-на-вижу тебя!!! Я тебя не-на-вижу!!! — кричала Мария, осыпая отца ударами. Откуда в ней взялась эта злая сила? Она свалила отца на землю и била его ногами. Она бы убила его совсем, если бы несколько рук сразу не вцепились в нее. Мария была в исступлении, она потом и сама не могла объяснить, что это с ней произошло, какой дьявол вселился в нее? Она отшвырнула руки, пытавшиеся удержать ее и помчалась по улице, оглушаемая полицейскими свистками, клаксонами автомобилей, которые еле успевали затормозить, потому что Мария летела прямо им под колеса.
А потом снова черный провал в памяти… Она помнила чью-то сильную руку, которая подняла ее с земли на задворках какого-то большого дома… Помнила душную комнатушку и засаленный диван, человека, который тихо утешал ее, поил виски и гладил ее волосы… Потом она лежала с ним в постели и думала, что, когда он уснет, она распахнет окно и бросится вниз…
«Слава Богу, человек этот живет на одиннадцатом этаже, — думала она. — Говорят, что самоубийцы умирают еще в полете, от разрыва сердца»…
Презумпция невиновности
Джона вывели из подвала и оставили стоять в коридоре.
Наверное, так устроен человек, что в самой опасной ситуации кто-то направляет его, надо только прислушаться к этому голосу.
Джона оставили одного. У него не были связаны ни руки, ни ноги. В конце коридора было окно. Даже в темноте было видно, что сразу же за окном начинается лес. Джону ничего не стоило броситься к этому окну, выбить стекло и мигом оказаться в лесу. Пусть его там ищут.
Но он почему-то стоял один в пустом коридоре и чего-то ждал. Только что он думал о конце жизни, о побеге, о сопротивлении, на крайний случай. А теперь вдруг словно кто-то лишил его воли.
Дверь открылась, и человек жестом показал Джону, что надо входить.
В комнате за большим столом сидело человек десять. Все они внимательно смотрели на Джона и молчали.
«Это у них, наверное, суд такой своеобразный. А судья, конечно, мистер Ридер, — подумал Джон и невольно улыбнулся. — Ну что ж, переживем и этот фарс».
Действительно, Ридер сидел во главе стола и тоже внимательно смотрел на Джона.
Молчание затягивалось…
— Есть хочешь? — неожиданно нарушил тишину Ридер.
Джон даже не сразу понял, что вопрос относится к нему.
— Есть? А! Нет, спасибо.
— Ну, садись, — сказал Ридер и кивнул на свободный стул.
Джон сел. Нет, что-то ему не нравился этот суд. Что-то уж больно мягко стелют.
— Ну, как там поживает мистер Стенсон? — спросил Ридер. — Давненько его не видели.
— Это вы меня спрашиваете? — удивился снова Джон. — Если вы его не видели давненько, то я его не видел никогда.
— Ну да, ну да, — сказал Ридер. — Ты его никогда не видел и знать не знаешь.
— Именно это я и хотел сказать. Вы меня опередили, — улыбнулся Джон.
— Ну да, ну да… Значит, никакого Стенсона ты не знаешь?
— Нет, я слышал его имя, но лично не имел чести…
— И приехал ты к нам охотиться?
— Ну, в общем, можно сказать и так.
— Тебе посоветовали добрые люди? Да?
— Вы почти угадали.
— И ружье ты тоже хочешь купить здесь? Правда?
Почему-то последний вопрос вызвал у собравшихся настоящий приступ смеха.
— А что, разве здесь нельзя купить ружье? — спросил Джон, чем только еще больше рассмешил собравшихся.
— Да, Стенсон мог придумать для тебя что-нибудь поумнее, — сказал Ридер.
— Возможно, Стенсон и мог бы придумать для меня что-нибудь поумнее, но все это я придумал сам, — сказал Джон и понял, что проговорился.
Впрочем, его оговорку никто не заметил.
Ридер вдруг перестал улыбаться и сказал очень строго:
— Так вот, парень, мы запросто можем запереть тебя в подвале, пока не отправим в полицию. Но мы можем и отпустить тебя, если ты нам скажешь, что замышляет Стенсон?
«Так, казнить меня они вроде бы не собираются, — подумал Джон с облегчением. — Но это странно. Ведь Ридер кончает людей за меньшие грехи. Если верить Нагу».
— Знаете, — сказал он, — у меня создается впечатление, что мы играем сейчас в плохой пьесе. Есть такие комедии, где страхового агента принимают за грабителя и вместо того, чтобы набивать цену, подробно рассказывают, что дом старый, мебель разваливается, а ковры поела моль.
Джон действительно видел такую пьесу. Ему она ужасно не понравилась своей тупостью, но собравшиеся снова стали хохотать.
— Так ты страховой агент? — спросил Ридер.
— Да нет же, черт возьми! Я не страховой агент и не агент Стенсона. Я…
— Ну! Кто?
— Я репортер из Нью-Йорка, — нехотя сознался Джон.
На этот раз взрыв хохота был оглушительным. Такое впечатление, что эти суровые мужчины ничего смешнее в своей жизни не слышали.
«А я пользуюсь здесь успехом, — подумал Джон. — Может, мне податься в клоуны?»
— Ну ладно, не хочешь говорить, кто ты, не говори, — утирая слезы, сказал Ридер. — Ты свободный человек и можешь не отчитываться перед нами. Но чем ты докажешь, что ты не от Стенсона?
— Если уж пошла речь о свободе, то надо бы вспомнить важнейший принцип демократической юриспруденции — презумпцию невиновности, — сказал Джон.
Некоторое время собравшиеся молчали, открыв от удивления рты.
— Слушай, Карл, — обратился Ридер к своему соседу, — тебе не кажется, что он обложил нас матом?
— Пусть повторит, — сказал Карл.
— Простите, я не хотел вас обидеть, — сказал Джон. — То, что я произнес, означает, что в свободной стране не человек должен доказывать суду, что он невиновен, а суд должен доказать, что человек в чем-то виноват. Это и называется презумпция невиновности.
С минуту мужчины переваривали то, что сообщил им Джон. Для многих это была неожиданная новость.
— Ты ничего не путаешь, сынок? — спросил Ридер наконец. — Выходит, по-твоему, что если я поздно пришел домой, то не должен оправдываться перед своей супругой, а она должна доказать, что я — кобель?
— Ну, примерно так, — согласился Джон.
Мужчины снова задумались. Очевидно, теперь они начнут строить свои семейные взаимоотношения совсем иначе.
— Нет, — сказал Карл. — Моя Сью ни в чем разбираться не станет — она сразу приведет приговор в исполнение. Скалкой по башке, и вся тебе презумпция!
Теперь и Джон присоединился к общему хохоту.
Ридер снова посерьезнел.
— Даже если так, парень, то у нас есть причины не верить тебе, вот ты нам все и поясни. Кто это, например, мог сказать тебе, что здесь полно пушнины, если наших ребят гоняют с других участков чуть ли не с собаками? Кто тебе сказал, что у охотника можно купить ружье? Это то же самое, что у голодного купить хлеба. Не стыкуется, сынок. Теперь этот твой мальчуган. Он парень симпатичный, но кто же берет негритенка в самый холодный на земле край? Вот это уже полная глупость. С этим мальчишкой можно охотиться только за чахоткой. Ну и самое главное — ты говоришь, что сам из Джорджии. Оттуда, парень, такими беленькими не приезжают. Я сам из Калифорнии. Солнце там палит так, что сразу становишься коричневым. Не скоро этот загар сходит.
Джон сидел, опустив голову. Вся его ложь была угадана этим человеком моментально.
— Вот видишь. Нам есть в чем тебя обвинить. Хотя бы во лжи. А уж теперь ты докажи, что мы не правы.
— Вы правы, — сказал Джон. — Я наврал. Почти все наврал. Но это единственная моя вина. Я в самом деле репортер из Нью-Йорка. Хотя приехал в Нью-Йорк из Джорджии. Это правда. К вам я пришел, чтобы написать о вас статью в свою газету. Если вы не верите, можете поискать в моей сумке — там есть мое газетное удостоверение. А Цезарь — мой помощник. Вот и все. К Стенсону я не имею никакого отношения.
— Карл, сходи к кривой Мэри и возьми сумку парня.
Карл поднялся и вышел.
— Да! — крикнул ему вслед Ридер. — Мальчишку тоже приведи!
— Ну вот вы все и узнаете, — сказал Джон облегченно.
— Нет, сынок. Пока ты только запутал дело еще больше, — сказал Ридер. — Если все, что ты говоришь, правда, то зачем ты ее так упорно скрывал?
— Он, когда пришел, спрашивал про какого-то Найта, — сказал вдруг тот самый стражник, который встретил Джона в ущелье. Джон только сейчас узнал его.
— Найт тоже репортер, — сказал Джон. — Он поехал сюда первым. Но, видно, передумал, — сказал Джон, стараясь скрыть свое подозрение, что Найта убили люди Ридера.
— А кто вам сказал про нас? — спросил Ридер.
Это был самый опасный вопрос. Выдавать Нага Джон не мог.
— Сон на стоянке Калли, — нашелся Джон.
— А! Жив еще бюрократ! — улыбнулся Ридер. — А я уж подумал — вы встретили Нага.
— Кто это? — спросил Джон вполне естественно.
— Да я же говорил тебе, это наш эскимос. Он на материк ездил, — напомнил стражник.
— А! Да-да…
— Этот бы вам порассказал! — улыбнулся Ридер. — Вот первый негодяй в Лате! Стенсон ему платил долю от награбленного, а теперь — пшик!
Карл вернулся с Цезарем и с сумкой.
За ним появилась Мэри.
— Ну, скажи нам, сынок, — обратился Ридер к Цезарю, — кто этот славный парень и откуда?
— Скажи им правду, Кам, — попросил Джон.
— Я удивляюсь такой темноте человеческой! — воскликнул Цезарь. — Они не знают репортера Джона Бата! Да его статьями зачитывается вся Америка! Они хватают его, как обыкновенного воришку, и запирают в подвал! Нет, это просто в голове не укладывается!
Удостоверение Джона пошло по рукам. Мужчины виновато опустили головы.
— Да мы тут… Это правильно, парень… — виновато пролепетал Ридер. — Газет не видим… Совсем отупели…
— Я требую, чтобы моего шефа сейчас же отпустили на свободу. Иначе я сообщу в ассоциацию журналистов Америки! — воскликнул Цезарь.
— Да мы его не держим! — испуганно проговорил Карл. — Правда, Ридер?
— Не держим, — согласился тот.
— И еще я требую предоставить ему всю интересующую его информацию, иначе вы будете отвечать по статье за нарушение Конституции Соединенных Штатов о свободе слова!
Совсем запуганные мужчины дружно заговорили:
— Конечно, мы ему все дадим… Что ему интересно, то и дадим… Мы не против Конституции…
— Ну так! — вмешалась вдруг в общий гомон Мэри. — Теперь я бы хотела спросить. Мой постоялец будет есть сегодня, или вы его решили голодом уморить?
Собрание закончилось моментально. Все вспомнили, что еда — святое.
Сытно поужинав, Джон отправился спать. Но уснуть не удавалось. За сегодняшний день произошло столько событий, что надо было хотя бы попытаться их осмыслить.
Что-то не вязалось в происшедшем с рассказом эскимоса. Да, Ридер внешне производил не самое приятное впечатление, но в остальном его не в чем было упрекнуть. Да и собравшиеся на «суд» мужчины не были похожи на головорезов. Но самое странное, что Джона вообще отпустили. Он специально перед сном вышел из дому — никого, кто стерег бы его, он не увидел. Поселок мирно спал. Значит, Джон мог запросто собраться и уйти из ущелья. Мог ли? Не встретят ли его на выходе? Не кончится ли его путешествие там? Это оставалось загадкой.
Джон ворочался, не находя никакого объяснения. Завтра он попытается все проверить. А сейчас надо спать.
Но как можно спать, если неизвестно главное — куда пропал Найт? Что с ним случилось? Джон не верил, что в последний момент Найт передумал идти в ущелье и вернулся. А получалось, что это произошло именно в самый последний момент. Ведь его видели с Нагом совсем недалеко от Лата. Что произошло? На этот вопрос может ответить только Наг.
Кое-как дождавшись утра, Джон отправился в поселок эскимосов.
Он был совсем рядом, за небольшим холмом у замерзшей неширокой реки.
Стаи собак гонялись друг за другом, оглашая округу громким лаем, детишки в меховых шубах играли на снегу, женщины выбивали шкуры. На Джона никто не обратил внимания, словно это не незнакомец шел по стойбищу, а ветерок прошумел.
У первой же женщины Джон узнал, где живет Наг. Впрочем, сделать это было совсем не просто.
После вопроса Джона эскимоска даже не подняла голову. Но Джон вспомнил свои беседы с Нагом и стал ждать. Женщина действительно ответила ему только минут через десять.
Иглу Нага было самым большим в поселке. Из снежных глыб был сооружен не только купол довольно просторного дома, но и заборчик, если это можно так назвать, огорожен задний двор, даже площадка для детей.
На входе висела огромная оленья шкура белого цвета. Джон не знал, принято ли у эскимосов стучаться, прежде чем входить, да и обо что постучать, он тоже не знал. Поэтому он просто громко прокашлялся у входа и спросил:
— Есть кто-нибудь дома?
В углу послышалось кряхтение, шорох, но никто не ответил. Джон посчитал, что можно входить.
Он отогнул край шкуры и вошел внутрь.
Самое удивительное, что в ледяном доме было тепло, даже душно.
Наг лежал на ледяном же топчане, покрытом теми же оленьими шкурами, раздетый по пояс, и курил трубку.
— Здравствуй, Наг, — сказал Джон. — Можно войти?
Наг помахал Джону рукой, приглашая в дом.
— Твоя присол один? — спросил он, когда Джон уселся прямо на пол. — Твоя никто не привела?
— Нет-нет, не бойся, я пришел один.
— Твоя снацала не хотела ходить Лат, — сказал Наг. — Поцему теперь пришла сюда?
— Я передумал. Решил, что не должен оставлять Найта одного, — сказал Джон. Он говорил тихо, потому что и Наг почти что шептал. Очевидно, боялся, что их могут подслушать. — Но его здесь нет. Где он, Наг?
— Твоя друг узе мертвый совсем, — тихо сказал Наг. — Мистер Ридер убил его быстро.
— За что? — потрясенно спросил Джон.
— Он узнал, сто Найт из Нью-Йорка. Мистер Ридер боится всех с материка. Моя не знала, сто твоя тозе сюда приходить… Моя боится за твою зизнь.
— И как его убили? — спросил Джон.
— Моя не видеть. Они хватали его и все. Потом моя ницего не знает. Но моя думает себе, сто Найт узе мертвая.
«Этого не может быть, — подумал Джон. — Ведь они узнали и про меня, что я с материка, но я пока что жив».
— А где они его схватили? — спросил Джон.
— Они хватили его сразу, как входить в Лат. Они убили бедный Найт.
Наг стал раскачиваться из стороны в сторону, завывая на одной протяжной ноте:
— Ай-я-а-а-а-а… Ай-я-а-а-а…
Так он оплакивал мертвого Найта.
Джон еще посидел немного в иглу Нага, слушая это завывание, потом встал и, попрощавшись, вышел. Он решил, что оставаться больше в ущелье нельзя. Он дождется ночи и попытается уйти. Конечно, без собачьей упряжки это будет непросто, но если он начнет искать возчиков, это сразу же станет известно в поселке. Нет, уходить надо пешком. Цезаря он тоже возьмет с собой.
Вдруг Джон вспомнил, что именно сегодня они с Найтом должны были отправить в редакцию телеграмму. Но как это сделать? В Лате никакой почты не было. Он сможет сообщить о себе, только если ему удастся выйти отсюда.
Вернувшись в дом кривой Мэри, Джон позвал к себе Цезаря и сообщил мальчишке, чтобы тот был готов к ночному бегству.
— А что с Найтом? — спросил Цезарь.
— Не знаю, — ответил Джон. — Боюсь, что Найт попал в беду.
Он не хотел пугать мальчишку, поэтому и не сказал тому всей правды.
— Но мы должны его выручить, — сказал Цезарь.
— Если бы я знал, Кам, как это сделать, — сказал Джон. — У нас один выход — добраться до ближайшего поселка и вернуться сюда с полицией. Может быть, мы что-нибудь сможем сделать для Найта.
Весь день Джон не находил себе места. Во-первых, он тщательно осмотрел свой багаж и решил, что возьмет с собой только самое необходимое — нож, спички, фляги с виски, лекарства. Надо было взять с собой и еду, но как это сделать, не вызвав подозрений?
Во время обеда Джон и Цезарь незаметно спрятали в карманы и за пазуху весь хлеб, который был на столе. Цезарь даже прихватил с собой кусок мяса. Мэри, увидев, что постояльцы смели со стола почти всю еду, принесла еще. Поэтому кое-что Джон и Цезарь смогли припасти в дорогу.
То же самое они сделали и за ужином.
— Не хотите сегодня пойти на танцы? — спросила Мэри Джона после ужина.
— На танцы? — удивился Джон.
— Да, молодежь собирается в доме Кугана и танцует. Ну и вообще, там весело бывает.
— А вы пойдете? — спросил Джон.
— Если вы составите мне компанию, — сказал Мэри.
— Ну, в таком случае я обязательно пойду, — сказал Джон, а сам подумал, что на танцах ему, возможно, удастся что-либо разузнать.
Цезарь тоже хотел пойти с Джоном, но Мэри сказала, что детям туда нельзя, чем очень обидела Цезаря. Он уже считал себя вполне взрослым.
— Жди меня, как только вернусь, мы с тобой уйдем, — сказал Джон мальчишке. — Будь готов любую минуту.
— Есть, сэр, — по-военному откозырял Цезарь.
Через полчаса Мэри прибрала в доме, переоделась в нарядное розовое платье, сделала скромную прическу, попросту собрав свои волосы в тяжелый узел на затылке, надела недорогое ожерелье и сказала:
— Я готова, мистер Батлер.
За всей этой нервотрепкой Джон до сих пор толком даже не посмотрел на свою хозяйку. А она была диво как мила. Нет, у нее не было броской красоты. Но ее мягкая улыбка, плавные жесты, чуть неловкая трогательная походка делали ее удивительно пригожей. Джон даже залюбовался ею, чем вызвал у Мэри прилив сильного смущения. Она покраснела до корней волос, опустила голову и сказала:
— Это платье мне подарил муж, оно, наверное, уже вышло из моды?
— Оно очень вам идет, — честно сказал Джон. — Наверняка вы будете королевой вечера.
— Скажете тоже, — еще больше смутилась Мэри. — Куда уж мне! Сами увидите, какие красивые девушки в нашем поселке. Одно заглядение.
Джон впервые слышал, чтобы женщина похвалила красоту другой женщины. И это ему тоже очень понравилось.
Дом Кутана был совсем рядом. Они с Мэри просто перебежали через дорогу. Мэри даже не стала надевать шубу, которая, Джон видел, у Мэри была, и очень недурная.
В большой комнате уже собралось человек двадцать парней и девушек. Музыка была слышна еще на улице, а теперь Джон увидел и музыкантов — один играл на скрипке, другой на банджо, а третий — на губной гармошке. Это были простые мелодии, в большинстве своем народные английские и ирландские.
Джон и Мэри сразу же оказались в центре внимания, хотя откровенно никто на них не смотрел. Но Джон чувствовал заинтересованные взгляды украдкой со всех сторон.
На столе в углу стоял большой дымящийся чан с пуншем, там же кувшины с пивом и одна бутылка виски не очень высокого качества. Но молодежь редко подходила к столу, пьяных не было совсем.
— Могу я пригласить вас на танец? — спросил Джон, когда началась новая мелодия.
— Я танцую не очень хорошо, — смутилась Мэри.
— Скажу вам по секрету, я вообще не умею танцевать. Но, надеюсь, вы меня поучите, — сказал Джон.
Мэри кивнула, и они вышли в круг.
Танец был быстрый, пары менялись партнерами во время движения, при этом хлопая в ладоши. Ничего сложного в танце не было, поэтому Джон очень быстро освоился и уже через несколько тактов кто-то хлопнул у него за спиной, что означало — пора меняться.
Наверное, все девушки, которые были на вечере, протанцевали с Джоном. Он не переставал представляться им, они представлялись ему, но к концу танца он уже не смог бы вспомнить которая из них Лу, а которая Кэт. Действительно, все девушки были хороши. Статные, румянощекие, пышногрудые, крепкие, с веселыми и открытыми лицами, они не жеманничали, не кокетничали, а были просты и приветливы.
После танца некоторые парни стали поглядывать на Джона мрачновато. А трое похожих друг на друга, как три капли воды, наоборот, подошли и познакомились. Это и были как раз три брата-близнеца, сыновья Кутана, хозяина дома. Видно, отец не слишком утруждал себя поисками имен, потому что всех троих звали Ник. Ник Первый, Ник Второй и Ник Третий.
— Надолго ты к нам? — спросил то ли Второй, то ли Третий.
— Видно будет, — неопределенно ответил Джон.
— Мы слышали, ты репортер из Нью-Йорка. Мы были в этом городе — страх Господень, — сказал то ли Первый, то ли Второй.
— А мне нравится, — сказал Джон.
— Ничего, поживешь здесь — ни за что не захочешь уезжать. Лес, горы, зверье!
— А Ридер говорит, что здесь мало осталось зверей.
— Ничего, лес большой, не здесь, так в другом месте! — сказал Третий. Или Второй.
— Да, лес большой, — сказал Джон осторожно. — Можно так спрятаться, что никто не найдет. Или спрятать…
— Мы можем найти в лесу что угодно и кого угодно, — засмеялись Ники.
— А спрятать? — настаивал Джон.
— И спрятать, — согласились братья.
— А можно в лесу спрятать труп? — спросил Джон и сам испугался прямоты своего вопроса.
— Нет, мертвяка в лесу не спрячешь. Зверье раскопает в один миг, — как ни в чем не бывало ответил Второй. Или Третий.
— А как же вы хороните людей? — Джон решил идти до конца.
— Ждем до лета, — сказали братья.
— Что, люди умирают только летом?
— Нет, почему же? Вон, старик Чарли умер прошлой зимой.
— Ну и?
— А летом похоронили.
— И где же он провел всю зиму и весну?
— На дереве, — сказал один из Ников.
— На дереве?
— Ну, нас эскимосы научили. Они своих мертвяков привязывают на верхушку дерева, а летом хоронят. Зверье на дерево не залезает.
— Значит, если кому-нибудь вздумается убить своего врага и скрыть следы преступления, то это просто невозможно? — уже почти прямо спросил Джон.
— Нет, у нас здесь никто не враждует.
— И никто никого не убивает?
— Было дело, — сказал вдруг один из братьев, но двое других так посмотрели на него, что он сразу же замолчал.
Джон снова пошел танцевать с Мэри, на этот раз танец был медленный, но давался Джону с большим трудом. Ему все время приходилось смотреть вниз, чтобы не отдавить ноги Мэри.
— А у тебя есть семья? — спросила хозяйка, когда рассказала о гибели мужа и о своих родственниках в Ирландии.
— Конечно, — сказал Джон. — Мать, братья, сестра…
— А жена?
— Жены нет, — вздохнул Джон, вспомнив о Марии.
«Интересно, — подумал он. — За все время путешествия я вспомнил о ней впервые».
Когда закончился танец, несколько парней и девушек вышли на середину образовавшегося круга. Парни сняли свои пиджаки, а девушки скинули с плеч платки. Братья Куган вытащили стол в центр комнаты.
— Что это будет? — спросил Джон у Мэри.
— О! Будет очень весело, — сказала Мэри. — Сейчас будут выбирать самого сильного. Прошлый раз победил Ник Второй, но тогда не было Шона.
— А девушки?
— Девушки тоже участвуют, — сказала Мэри, немного удивившись вопросу Джона.
Соревнование было простым — двое соперников упирались в стол локтями, крепко сцеплялись ладонями и старались пригнуть руку противника к столу, стараясь при этом взять со стола монетку в один пенс.
Собравшиеся бурно поддерживали соперников. Свистели, хлопали, кричали, словом, веселились от души.
Сначала соревновались девушки, а потом победившая сразилась с парнями. И надо сказать, нескольких победила довольно просто.
Но вскоре обозначились лидеры соревнования — три Ника и здоровенный парень, тот самый Шон.
С Ником Первым Шон справился довольно легко. Второго одолел не сразу. Он ухитрялся склонить руку к столешнице, но, как только пытался ухватить двумя пальцами монетку, Ник выравнивал руку. Так продолжалось довольно долго. Оба парня покраснели от натуги, тяжело дышали и с ненавистью смотрели друг другу в глаза.
Собравшиеся просто с ума сходили. Постепенно Ник Второй стал сам клонить руку Шона к столу, но схватить монетку и у него не получалось. Казалось, не победит никто.
Джон переживал за Ника. Чем-то этот Шон был ему неприятен. Уж очень он злился, что не может никак одолеть соперника.
И вот, когда уже казалось, что Ник схватил монетку, Шон вдруг зарычал, словно раненый зверь и из последних сил дернул руку Ника, пригнул ее к столу и схватил монетку.
Собравшиеся не скрывали своего разочарования. А Ник Второй широко улыбнулся и протянул Шону руку, чтобы поздравить победителя.
Но Шон оттолкнул протянутую ладонь и ткнул вдруг пальцем прямо в Джона.
— Ты! — сказал он. — Иди сюда!
— Я? — удивился Джон. — Но я…
— Боишься? Значит, ты трус? — грубо рассмеялся Шон.
Конечно, такого оскорбления Джон не вынес.
Он подошел к столу и поставил локоть.
— Пиджак, дайте мне ваш пиджак, — тронула его за плечо Мэри.
Джон быстро снял пиджак и отдал хозяйке.
— Ну, парень, сейчас я тебя прикончу! — с гадкой улыбкой сказал Шон. — Я вырву твою руку по самое плечо, столичный ублюдок.
Джону не было страшно. Но стало вдруг очень противно.
— У тебя воняет изо рта, — сказал он таким же агрессивным тоном. — Ты, прыщавый шкаф!
Шон побледнел. Навалился на стол и схватил руку Джона своей потной рукой.
Джон понимал, что, если он проиграет, смеяться над ним будет вся молодежь. Если выиграет, Шон возненавидит его. Джон решил выиграть.
Но это оказалось совсем не просто. Шон был словно сделан из железа. Рука его была могуча, и она клонила руку Джона к столу с неотвратимостью машины.
«Только не дать ему схватить монету! — думал Джон. — Только не дать ему выиграть!»
Но рука Шона уже приблизилась к столу. Он вытянул пальцы за монеткой, готовый вот-вот схватить ее. И тогда Джон дернул свою руку в сторону — монетка выскользнула из пальцев Шона и упала на место.
Воспользовавшись замешательством своего грозного противника, Джон оттянул его руку от стола и восстановил равновесие.
Молодежь на этот раз не свистела и не улюлюкала. В комнате стояла напряженная тишина. И эта тишина мешала Джону. Надо было забыть об ответственности момента, отнестись к нему, как к игре, тогда у него появился бы шанс. Джон не умел ненавидеть человека просто так.
— Положили бы хоть доллар, — через силу сказал Джон.
И напряжение в комнате спало. Молодежь засмеялась, зашевелилась. Кто-то действительно положил долларовую бумажку на сторону Джона.
На сторону Шона тоже положили доллар. Это вдруг вызвало среди собравшихся азарт. И долларовые бумажки стали падать на обе стороны стола.
Девушки опять завизжали от волнения и удовольствия, парни засвистели — игра становилась игрой. И это бесило Шона. И это отнимало у него силы.
А Джону силы прибавляло.
— Ну, кто больше? — шутил он. — Выигравший всех угощает!
Молодежь смеялась.
— Слушай, Шон, ты не ел сегодня бобы? Смотри, а то опозоришься! — глядя прямо в глаза противнику, говорил Джон.
Шон налился краской уже даже не красной, а какой-то синей. Он готов был умереть, только бы выиграть.
Но он проиграл.
Джон пригнул его руку к столешнице, да так припечатал, что освободил не два пальца, а четыре и загреб ими все бумажки.
Рев восторга вырвался из груди каждого, кто наблюдал эту игру.
Только Шон был само воплощение ненависти. Он грубо оттолкнул стоявших на его пути и вылетел из дома.
— Зря я его обидел, — сказал Джон Мэри, когда молодежь повалила к столу и стала угощаться пуншем и пивом.
— Его не очень любят здесь, — сказала Мэри как-то грустно.
Потом снова были танцы, и парни теперь смотрели на Джона с уважением. Многие подошли познакомиться.
А потом вообще забыли о танцах, сгрудились вокруг Джона и стали расспрашивать о Нью-Йорке, об автомобилях, лифтах, электричестве и радио. Спрашивали и об артистах, певцах, танцорах. Девушки спрашивали о моде. Джону пришлось попотеть, чтобы ответить на все вопросы.
Расставались друзьями. Всей гурьбой проводили Джона до порога и заставили дать обещание завтра снова встретиться.
— Хотите чаю? — спросила Мэри, когда они оказались в доме.
— С удовольствием, — сказал Джон. — Я так хочу пить!
Мэри разожгла огонь и поставила чайник на плиту.
— Вы сегодня произвели фурор, — сказала она Джону. — У нас народ суровый, новичков долго не подпускают к себе.
— Чем я так уж всем приглянулся, не знаю, — рассмеялся Джон.
— Уж будто и впрямь не знаете, — сказала Мэри и смущенно опустила глаза. — Все девушки только на вас и смотрели.
— Бросьте, Мэри, никто на меня не смотрел.
— Ну одна-то уж точно все время смотрела на вас, — тихо сказала хозяйка.
— Это которая? Черненькая Лу?
Мэри отрицательно замотала головой.
— Кто же тогда? — спросил Джон.
— Ой, чайник закипел! — вскочила Мэри. — Сейчас будем пить чай.
Она заварила крепкий чай, достала мед и печенье.
— В Англии очень любят пить чай, — рассказывала она. — Ну и в Ирландии тоже. Мама готовила чай замечательно. Она и меня учила, но я, наверное, плохая ученица.
Джон попробовал чай и даже причмокнул от удовольствия:
— Я, к сожалению, не знаю, как готовила чай ваша мама, но вы это делаете чудесно. Вы обязаны раскрыть мне секрет, Мэри.
— Да никакого секрета нет, — улыбнулась польщенная хозяйка.
Румянец покрывал ее щеки каждый раз, когда кто-нибудь хвалил ее.
И мед был чудесный — густой, тягучий, почти коричневый, с запахом трав и цветов.
— Это нас эскимосы научили собирать. Здесь летом очень красиво, много цветов, травы высокие. Вообще-то наши эскимосы пришли с севера, там только тундра, вечная мерзлота. Не знаю, как человек может там жить? А вот эскимосы живут. Но наши почему-то решили прийти сюда. Что-то им сказали их боги. Я так слышала. На будущий год мы поможем им строить деревянные дома, а то их иглу начинают таять уже в апреле.
— Да, я видел. Удивительно, как умеет адаптироваться человек. Ко всему может приспособиться, — сказал Джон.
— Нет, — тихо возразила Мэри. — К одиночеству нельзя привыкнуть.
Она подняла голову и взглянула прямо в глаза Джону.
И только сейчас Джон понял, что Мэри все это время глядела на него не как хозяйка дома, не как остальные девушки на приезжего незнакомца. Ее взгляд таил в себе что-то другое, более глубокое, незащищенное, затаенное и сильное.
Джон не выдержал ее взгляда и отвел глаза. Вдруг он почувствовал себя в чем-то ужасно виноватым. Легкость пропала, мучительная недоговоренность возникла между ними.
— Очень вкусный чай, — сказал Джон, чтобы как-то прервать это молчание.
Мэри не ответила ему. Она тихо помешивала ложкой чай, стараясь не ударять ею о стенки чашки.
— Вы верующий, Джон? — неожиданно спросила она.
На этот вопрос Джон и себе самому затруднился бы ответить.
— Не знаю, — честно признался он. — Когда жил с матерью, каждую субботу и воскресенье ходил к мессе. Даже молился, когда заболел отец, прося у Бога помощи. Но отец умер. А вот теперь, в Нью-Йорке, я в церковь не хожу. Даже и не думаю об этом. Скажем так — я верю, что есть над нами высший разум, мудрость мудростей… Но вот что это? Бог?
— Я не об этом спросила вас. Я говорю про Заповеди Господни.
— Да, в это я верю.
— Джон, помогите мне.
— Я? Вам? Но как, Мэри?
— Шон сватается ко мне. Наверное, он любит меня. Наверное, я выйду за него, хотя сама его не люблю.
— Но тогда зачем выходить за Шона? Он мне не очень понравился, хотя это и не мое дело.
— Да, вы правы, он не очень хороший человек. Но, может быть, ему нужна просто ласка? Забота и терпение?
— Это вам решать, Мэри, — сказал Джон. — Чем я могу вам помочь?
— Я хочу, чтобы мой ребеночек родился от любви, — еле слышно прошептала Мэри.
У Джона перехватило дыхание. Больше ничего не надо было говорить. Эта женщина просила его о помощи. Она переступала через собственную гордость, через молву и предрассудки. Неужели ему сейчас надо было одернуть ее? Неужели надо было урезонивать, мудро рассуждать о женской чести, о долге, об обязательствах? Все эти правильные слова звучали бы сейчас кощунственно перед этой чистотой и безоглядностью.
— Я не люблю вас, Мэри, — сказал Джон. И даже эти правдивые слова ему самому резанули ухо.
— Это ничего, — спокойно ответила женщина. — Моей любви хватит на нас двоих.
— У меня есть невеста, — сказал Джон и вдруг подумал: «Мария и Мэри. Это же одно имя».
— И она не простит вас?
— Она? — задумался Джон. Он вспомнил, что и Мария сама пришла к нему, что все было почти так же, как сейчас. Он подумал, что и Мария поделила свою любовь и этой любви хватило на двоих. Она тоже была чиста и безоглядна. Она тоже была несчастна. — Она поймет.
Мэри поднялась со своего места, подошла к Джону, взяла его за руку и повела за собой. Теперь в ней была решительность, настойчивость и уверенность.
Даже ее небольшая хромота словно бы придавала ее облику убедительности.
Когда они поднялись наверх, Джон увидел в конце коридора Цезаря. Тот спал, сидя на полу.
«Почему он здесь? — мелькнуло в голове Джона. — Словно ждет кого-то…»
Но мысль эта оборвалась, не найдя ответа…
Действительно, любви Мэри хватило на обоих с лихвой. Чувство грусти и жалости быстро сменилось в Джоне на нежность и теплоту. Но потом и в этих чувствах ему стало тесно. И его захлестнула страсть. Он целовал Мэри в губы, в глаза, в мочки ушей, он покрывал поцелуями ее шею и грудь. Его руки трепетно пробегали по ее плечам и бедрам, вызывая ответную дрожь.
— Мэри, любимая, — шептал он и был в этот момент совершенно искренен.
Мэри счастливо улыбалась, ее губы подрагивали, а ресницы открытых глаз трепетали, словно крылья ночной бабочки, летящей на огонь.
Схлынувшая было волна страсти, не давая им отдышаться очень скоро возвращалась вновь, и вновь их тела сливались в одном горячем, обжигающем, испепеляющем порыве.
— Это будет мой, мой, мой ребенок! — шептала Мэри чуть хрипловато. — И он будет счастливее всех людей на земле!..
Когда они, иссушенные ласками и нежностью, закрывали глаза и мир уходил в темноту, словно тоже устал от напряжения, когда Мэри уже заснула на плече Джона, его вдруг словно обожгло:
«Бежать! Я же собирался сегодня ночью бежать отсюда! Цезарь ждет меня! Что я наделал?! Мне же надо выручать Найта! Мне же надо спасти людей в этом ущелье!»
Он тихо высвободился, поднялся с кровати и, мигом одевшись, вышел в коридор.
Цезарь все так же спал в углу, прислонившись к стене.
Джон подхватил его на руки и сонного отнес в свою комнату.
— Проснись, Кам, — разбудил он мальчишку. — Нам пора бежать.
Цезарь тут же открыл глаза и бодро произнес:
— Есть, сэр.
Холод обжег лицо, и Джон чуть не задохнулся от морозного воздуха.
Поселок спал глубоким сном. Только собаки лаяли на луну, да и то как-то лениво и сонно.
Джон торопился. Через пару часов должно было светать. Им надо было успеть уйти от ущелья как можно дальше.
Но главным теперь было незаметно пройти мимо стражников, если те и сейчас стояли на посту.
— Кам, ты сможешь тихонько подползти к домику стражи и посмотреть, что они там сейчас делают?
— Он спрашивает! Да я лучший разведчик на нашей улице! — сказал Цезарь.
— А свистеть ты умеешь?
— Конечно.
— Если возле будки спокойно, позовешь меня, ладно? Тихонько свистнешь.
— Есть, сэр.
Джон залег в кустах, а Цезарь пополз на разведку.
Его не было очень долго, Джону показалось, что целую вечность. Но вдруг он услышал, нет, не тихий свист, а шаги. Скрип снега, который был слышен, наверное, во всем поселке.
— С ума сошел разведчик, — прошептал Джон.
Но, к своему удивлению, увидел, что по тропе идет не Цезарь, а кто-то другой, взрослый человек в длинной меховой шубе, с мешком и ружьем за плечами.
«Они поймали Кама, — с ужасом подумал Джон. — Теперь ищут меня!»
Человек приближался размеренным шагом, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. Фигура его показалась Джону на какое-то мгновение знакомой. Но Джон сейчас думал совсем о другом:
«Надо притвориться мертвым, а когда он приблизится, ударом ноги свалить его и выхватить ружье».
И в этот момент раздался тихий свист Цезаря.
Человек остановился, оглянулся на звук свиста, постоял немного и продолжил свой путь.
Он прошел в пяти метрах от Джона и не заметил его.
«Что случилось? — лихорадочно думал Джон. — Почему Кам засвистел, если его поймали? Не мог же он выдать его, Джона. Кам ни за что не стал бы этого делать. Может быть, он просто попал в беду и зовет на помощь?»
Джон, забыв обо опасности, выскочил из кустов и бросился за Цезарем.
Вот и сторожка. Окна темные. Никого рядом. Где они? Где Цезарь?
— Джон! — услышал он вдруг шипящий шепот откуда-то сбоку.
Джон остановился. Из кустов ему махал рукой Цезарь.
Джон одним прыжком оказался рядом.
— Что случилось? Тебя не схватили?
— Нет. С чего ты взял?
— Я видел одного из них, подумал…
— Я тоже видел, он прошел мимо будки с той стороны. Его никто не остановил. Он еще даже пел что-то. Не очень громко, правда.
— Значит, в будке никого нет?
— Вот потому я тебе и свистнул.
— Так пошли быстрее.
Они вышли из кустов и поспешно двинулись к выходу из ущелья.
— А! Мистер репортер! — услышал вдруг Джон и обомлел. — Чего так рано?
Джон остановился, не зная, что делать, бежать или выкручиваться.
Это был Карл, тот самый крепкий мужчина, который сидел на «суде» Ридера. Он сидел за сторожкой в огромной меховой дохе с поднятым воротником.
— А с другой стороны — кто рано встает, тому Бог дает, — сказал Карл добродушно. — Может, дать вам лыжи? На них удобнее.
— Лыжи? — механично повторил Джон. — Удобнее?
— Ну конечно, снег нынче глубокий.
— Да нет, не стоит, — наконец пришел в себя Джон. — Мы недалеко, прогуляться, поглядеть на окрестности…
— Ну смотрите, дело ваше.
— Да-да, мы недалеко, — снова сказал Джон.
— Ясно, — ответил Карл.
— Мы пошли, — сказал Джон.
— Счастливо.
— Ну, значит, мы идем? — еще не верил Джон.
— Не заблудитесь только, — посоветовал Карл.
Джон и Цезарь пошли по тропе, все время оглядываясь на стражника. А тот достал трубочку и закурил.
«Он выстрелит нам в спину, — думал Джон. — Вот сейчас, сейчас он выстрелит. Надо спасти хотя бы Цезаря».
Он схватил мальчишку и поставил перед собой, заслонив от Карла.
— Как только он выстрелит, беги, — прошептал Джон.
Ноги стали ватными. Джон еле передвигал ими. Он спиной чувствовал, как Карл вскинул ружье и прицелился…
Впереди был поворот. Только бы дойти до него. Там уже их не достанет пуля.
Они дошли до поворота, они повернули, они прошли еще метров двести. Выстрела не было.
И тогда нервы Джона не выдержали, он бросился бежать, таща за руку Цезаря, который чуть не падал, застревая ногами в снегу.
Только когда ущелье осталось далеко позади, когда они оказались в густом лесу, в котором и бежать-то было нельзя, потому что запросто можно было расшибить лоб или напороться на сук, они свалились на землю и отдышались.
— Все, мы ушли! Мы ушли! — хрипел Джон. — Мы спасены, мы остались в живых… Мы ушли…
— От кого? — спросил вдруг Цезарь.
Джон даже не выдохнул воздух.
«Действительно, от кого они так бежали? За ними никто не гнался. Что стоило Карлу разрядить в них ружье прямо у сторожки? Но он этого не сделал. Их никто не собирался убивать! Если бы Ридер захотел, он сделал бы это раньше! Предлогов можно было найти массу. Карл брал мою сумку и видел, что оружия у меня нет никакого. Нет, что-то здесь не вяжется. Все эти люди — они не злодеи. Карл, три Ника, Мэри да даже Шон. Это все простые и работящие люди. Они не убийцы. От чего же я бегу?
Они убили Найта.
Но разве ты видел его тело? Тебе об этом сказал Наг. Стоп! Человек, который шел по тропе несколько минут назад, — это был Наг!»
— Кам, какую песню пел человек на тропе?
— Какая там песня — «ай-я-а-а… ай-я-а-а-а…» — очень похоже пропел Цезарь.
«Значит, Наг лжет. Он свободно выходит из ущелья и возвращается. Его никто не трогает… Значит… Значит… Все это вообще вранье! Но где же в таком случае Найт? Куда он пропал? А вот это я смогу узнать, только если…»
— Ну, Цезарь, ты отдохнул?
— Да, немного.
— Тогда поднимайся. Мы возвращаемся в ущелье Лат…
Скандал
Бо был счастлив. Такого скандала Нью-Йорк не помнил. Как визжали, свистели, улюлюкали зрители, сколько было потрачено тухлых помидоров, чтобы забросать Бо. Это был провал, оглушительный провал по всем статьям. Бо давно мечтал о таком провале. Он давно хотел плюнуть в лицо всем этим чистюлям, которые только кричат о равноправии людей разной расы, а на самом деле считают черных по-прежнему рабами, животными, недоумками.
Да! Не зря Бо так долго мучился. Он добился своего.
Премьеру «Отелло» играли в том же самом зале, который стараниями откровенных расистов периодически превращался в хлев, в свалку, в пепелище. Да-да! Однажды их театр даже подожгли! Словом, эти придурки все сделали, чтобы на премьере яблоку в зале упасть было некуда. Ведь публика так любит скандалы! Пришлось срочно ставить приставные места, но и это не помогло. Сидели в проходах, стояли у стен, чуть ли не висели на люстре.
И началось уже в первом акте! Как только на сцене появился Отелло, Чак Боулт, половина зала взорвалась аплодисментами, а вторая разразилась криками возмущения. Спектакль так и шел все время — бурные овации перекрывались свистом.
Бо был за кулисами. И не он один — вся труппа, все работники театра собрались здесь. Актеры выходили на сцену, словно шли в бой, а возвращались победителями.
В первом антракте Бо не стал выходить к публике. А во втором вышел. И сразу увидел драку в фойе. И это была не хулиганская драка, а идейная.
— Расист поганый! — кричал один дерущийся и молотил кулаками.
— Прихвостень черномазых! — кричал другой и тоже лупил напропалую.
Полицейские уже спешили к дерущимся. Зрители были возбуждены до крайности. Казалось, брось в толпу спичку — и вспыхнет ужасающий пожар. Бо никто не замечал, хотя он узнавал многих старых друзей, настолько все были возбуждены.
— Кто-нибудь ушел со спектакля? — спросил он билетеров.
— Нет, сэр, только троих вывели за драку.
Два телефона в фойе были раскалены, потому что с десяток репортеров вырывали друг у друга трубки, чтобы сообщить в редакции о первых своих впечатлениях от спектакля-бомбы.
К концу спектакля у многих актеров не выдерживали нервы, одни плакали от счастья, другие от страха.
Бо утешал и тех и других.
— Мы победим, — говорил он им. — Мы уже победили!
Самый захватывающий момент был тогда, когда Отелло по ходу действия душил свою любимую.
Бо поставил эту сцену предельно просто, безо всяких сценических эффектов. Ему важнее была психология безумной ревности Отелло и покорности Дездемоны. Но сцена на премьере вдруг зазвучала гимном свободе человека. Да, не только белый может убить негра! Не только негр может убить белого! Люди, на беду, вообще могут убивать друг друга! И человек сам выбирает свой путь в этой жизни, неважно, белый он или черный! Приблизительно такие мотивы вдруг увидели зрители и сам Бо в сцене, которую прекрасно знал, но никогда и представить себе не мог, что она может быть решена таким образом.
Зал, затаив дыхание, следил за супругами (негр — муж белой женщины! Какая пощечина расистам! А ведь это написал еще Шекспир столетия назад!), которые в страшных душевных муках прощались с любовью. Наверняка большинство зрителей знали сюжет пьесы, но они словно забыли об этом, словно вместе с героями решали самый страшный для любви вопрос — измена или нет? И с ужасом спрашивали себя — убьет он безвинную женщину или поверит ей?
Трагедия задела самые тонкие и болезненные струны человеческой души.
А потом наступил финал. И шквал аплодисментов и потоки ругани. В зале творилось что-то невообразимое! Сразу в нескольких местах завязались настоящие драки. Снова кто-то кого-то лупил почем зря; Ситуация становилась неуправляемой.
Бо понял, что необходимо срочно принять какие-то меры.
Актеры тоже рвались в бой, желая задать расистам по первое число. Ему с трудом удалось уговорить их не делать этого.
— Они все там разнесут к черту! — кричала Уитни. Но в голосе ее был не страх, а какой-то веселый азарт.
Бо бросился к пожарному, выхватил у него брандспойт и, выскочив на авансцену, пустил струю холодной воды прямо в дерущихся.
— Это венецианский дождь! — кричал он. — Он остудит ваши головы! Он омоет ваши души!
Разгоряченные зрители вмиг присмирели и бросились из зала, спасая свои смокинги и сюртуки, платья и прически.
Через пять минут зал был пуст.
Бо выключил воду. Бросил шланг и, обессиленный, опустился прямо на сцену.
Да, это были минуты счастья.
Потом вся труппа в полном составе отправилась в «Богему», и там все вместе актеры отметили премьеру. Здесь уже обошлось без эксцессов. Ведь актеры всегда были более демократичны и терпимы. Все поздравляли Бо и его труппу. Чаку Боулту было сделано сразу три предложения. Он счастливо улыбался, но только отрицательно качал своей красивой седой головой.
— Я актер Бо, — говорил он. — Я хочу работать с ним. И только с ним.
— Да, но ты очень, как бы это помягче сказать, специфический актер, Чак, — не без яду сказал Фредди. Тот самый кумир, в которого поначалу был влюблен Джон Батлер. — Трудно будет подыскать тебе роль.
— Чак может играть весь мировой репертуар, — сказал Бо.
— Но в мировом репертуаре так мало негров, — с улыбкой заметил Фредди.
— В мировом репертуаре много прекрасных ролей, — ответил Бо, словно пропустив мимо ушей скрытую насмешку. — Кому-то удаются роли любимцев публики, — Бо выразительно посмотрел на Фредди, — а кому-то — роли повелителей душ. — И Бо обнял Чака за плечи.
Уязвленный Фредди больше не пытался вступить в разговор и вскоре вместе с женой удалился. А остальные веселились до самого утра.
— Помнишь, Бо, тот самый день, когда ты собрал нас и сказал, что каждый может уйти, что ты не обидишься на нас, — сказал Чак, собрав всеобщее внимание.
— Конечно. Ты тогда здорово поработал лопатой, — улыбнулся Бо.
— Помнишь, ты упомянул о наших семьях и наших детях? Да, Бо, мне было страшно за детей в тот день. Но еще страшнее мне было от мысли, что, если я отступлю, когда-то страшно будет им. А я не хочу, чтобы мои дети боялись. Я хочу, чтобы они уважали меня. И чтобы их уважали тоже. Именно поэтому я остался тогда, — сказал Чак. — Я хочу за тебя выпить, Бо. За человека, который лишил меня страха.
Актеры снова стали шумно поздравлять Бо.
Кто-то принес газеты, которые выйдут только наутро. Во всех на первых полосах были фотографии Чака или сцен из спектакля, восторженные отзывы и много поздравлений.
Актеры, собравшиеся в «Богеме», разбились на группки и живо обсуждали и сегодняшний вечер, и сам спектакль. Говорили о планах, спорили, и в этой кутерьме Бо неожиданно оказался один. Он даже немного обрадовался этому, потому что ему вдруг стало немного грустно. Какой-то важный этап в его жизни был позади. Он словно взобрался на высокую гору, обдирая в кровь руки и ноги, падая и вновь поднимаясь. И теперь надо было спускаться вниз, чтобы потом снова взбираться на гору, еще более высокую.
Завтра, или через неделю, или через месяц он снова придет в форму. А сейчас он должен отдохнуть. Он должен подумать, оглянуться на пройденное, перевести дух и даже расслабиться, чего он не мог себе позволить все эти долгие недели и месяцы. Грустные мысли завладели им.
Была у его грусти причина, в которой он сознаться себе не мог. Он гнал от себя даже намек на это, он в одиночестве кричал на себя, если не мог с собой справиться. Когда шла работа, у него получалось забыться, но сейчас… Бо понял, что теперь ему с этим не справиться. Что сейчас наступил момент, когда изгнанное и запретное вернулось и встало перед ним в полный рост.
Бо выпил стакан виски одним духом.
«Какая ерунда, — подумал он. — Кто сказал, что алкоголь помогает забыться? Нет, помогает только работа. А у меня помощников на сегодняшний день нет».
Он посмотрел в ту сторону, куда избегал смотреть весь вечер.
Нет, ничего не изменилось. Все стало еще острее и болезненнее. От этого не избавиться.
— Поздравляю, Бо, — сказал, подсаживаясь к столику, редактор, который первым напечатал статью о театре Бо. — Я слышал, грандиозный успех.
— Лучше сказать — грандиозный скандал, — поправил Бо.
— Это одно и то же, — усмехнулся редактор. — Я посылал на спектакль репортера, так он до сих пор держит в напряжении всю редакцию, рассказывая, как у тебя все прошло…
Редактор еще о чем-то говорил, но Бо уже не слушал его. Мысли вернулись к самому больному. И боль эта была неизбывна.
К столику Бо подошла Уитни.
— Я должна попрощаться, Бо, — сказала она. — Уже поздно, а завтра я отправляю детей на каникулы.
— Да-да, — сказал Бо, приподнимаясь. — Спокойной ночи, Уитни.
Метиска чмокнула его в щеку, попрощалась с редактором и вышла из ресторана.
Вскоре и остальные по одному стали расходиться.
А Бо по-прежнему сидел за столом с редактором и, краем уха слушая, о чем тот рассказывает, думал о своем.
«Это какое-то наваждение. С чего бы это мещанская мораль вдруг так сильно стала мучать меня? Неужели когда-то меня останавливали такие мелочи? Да ведь фрондерство всегда только подогревало мой азарт. Мне и неинтересно было, если все проходило гладко и не грозило скандалом. Что же со мной стряслось нынче? Что это я так размяк? Чего испугался? Нет-нет, завтра же все исправлю, завтра же сделаю то, чего мне хочется больше жизни. Я маленький капризный мальчик, позвольте уж мне оставаться таким до конца своих дней!»
Бо вдруг решительно поднялся.
— Мне надо срочно идти, — сказал он редактору. — Пойдем, если тебе по дороге, в пути и договоришь.
Редактор тоже встал.
— С удовольствием провожу тебя, Бо, — сказал он.
— Ну тогда держись рядом. Я буду идти очень быстро.
И действительно, Бо просто летел по улице. Редактор еле поспевал за ним.
— Постой, Бо, но твой дом, кажется, совсем в другой стороне, — удивленно сказал редактор, когда они свернули на пятнадцатую авеню.
— А я не говорил, что иду домой. Мне срочно надо по делам, если это можно назвать делом.
— Бо, сейчас пять часов утра. Не рановато ли для дел?
— Для дел может быть. Но я ведь сказал, что у меня не совсем дело. Ты лучше продолжай свой увлекательный рассказ о двух пропавших репортерах. Итак, полиция ищет их по всей Аляске?
— Да, но представь себе…
Бо снова перестал слушать редактора. Они приближались. Бо понимал, что совершает какую-то страшную глупость, но сейчас это не имело никакого значения. Он не может откладывать на завтра. Он прыгнет из окна, он бросится под автомобиль, он уйдет в монастырь, если станет дожидаться завтрашнего дня.
Нет, сейчас или никогда!
Они пришли. Это был нужный дом. Окна в нем были темными. Значит, весь дом спал сном праведника. В другое время это остановило бы Бо, но не сейчас.
Он остановился посреди тротуара, задрал голову и что было мочи закричал:
— Я люблю тебя!!!
Редактор от такой неожиданности чуть не присел.
— Бо! Что ты делаешь? Люди спят, — попытался он остановить друга.
— Ты слышишь, я люблю тебя и жить без тебя не могу!
В окнах стал зажигаться свет.
— Бо, сейчас вызовут полицию, нам надо поскорее убираться, — дергал Бо за рукав редактор.
— Мне плевать на полицию, — ответил Бо и снова закричал: — Я люблю тебя, ты слышишь?!!
— А ну, убирайтесь отсюда, хулиганы! — выглянул из окна старик в пижаме. — Не мешайте людям спать! А еще белые джентльмены!
— Я люблю тебя, почему же ты не слышишь?!! Ну хочешь, я встану на колени!!! Почему ты не веришь мне?!! Ведь я люблю тебя!!!
Уже на Бо и редактора кричали из нескольких окон, кто-то даже вылил на них содержимое ночного горшка, но, к счастью, не попал.
Редактор уже перестал увещевать Бо. Он просто следил, чем же закончится это ночное приключение.
— Я люблю тебя!!! Я не могу жить без тебя!!! — как раненый зверь кричал Бо.
Уже окна зажглись в соседних домах, когда наконец из подъезда быстро вышла женщина — редактор не сразу узнал ее, — она взяла Бо под руку и повела в дом.
— Почему ты так долю не появлялась? — спрашивал ее Бо.
— Идем-идем, я тебе все объясню, Бо.
«Да ведь это Уитни! — внутренне ахнул редактор. — Ее муж и отец владельцы крупнейшей в Нью-Йорке сети хлебопекарен. Черные выходцы с Юга, они одними из первых цветных сумели наладить весьма прибыльный бизнес. У Бо, наверное, помутилось сознание! Ведь муж Уитни его хороший друг».
Они вошли в подъезд, и здесь Бо остановился.
— Я никуда не пойду, если ты не скажешь мне, любишь ли ты меня?
— Это не самое лучшее место для объяснений, — сказала Уитни. — Давай поднимемся ко мне.
— Я не хочу видеть твоего мужа!
— А он хочет тебя видеть, — сказала Уитни. — Ну, идем, или ты испугался?
— Я, пожалуй, оставлю вас, — сказал редактор.
— Нет, ты пойдешь с нами! — схватил его за рукав Бо.
— Но мне кажется…
— Брось! Ты же видишь, что на все приличия надо наплевать. Я люблю честность, Уитни. Веди меня к своему мужу.
Они поднялись на второй этаж и вошли в квартиру. Это была большая, хорошо обставленная, светлая и уютная квартира, занимающая целый этаж дома.
Служанка забрала пальто и шляпы у Бо и редактора, а Уитни проводила их в гостиную.
Муж Уитни, Сол Кормер, встал им навстречу.
— Здравствуй, Бо, здравствуйте, мистер…
— Рескин, Хьюго Рескин, — представился редактор.
— Очень приятно. Присаживайтесь, господа.
Редактор чувствовал себя крайне неудобно. Да и сама ситуация была какой-то абсурдной.
— Уитни, приготовь нам кофе, — попросил муж.
— Хорошо, — сказала актриса и вышла.
— Сначала я хотел бы поздравить тебя с премьерой. К сожалению, мне не удалось побывать на спектакле. Но я искренне рад за тебя. Искренне рад. А теперь я слушаю тебя, Бо, — сказал Сол.
«Если бы негры могли бледнеть, — подумал редактор, — Сол был бы сейчас белее Бо».
— Это наша общая победа, Сол, — сказал Бо. — Так что я и тебя поздравляю. Но я пришел не за этим. Сол, я люблю Уитни. И мне очень грустно, что ты ее муж.
Наверное, алкоголь уже испарился и прекратил свое расковывающее действие. У Бо дрожали руки. Он никак не мог проглотить сухой комок в горле.
«А все-таки негры бледнеют, — подумал редактор. — Их лица становятся серыми. Это страшная бледность».
— Я не знаю, что тебе сказать, Бо. Потому что у меня огромное желание вышвырнуть тебя вон из моего дома, — тихо проговорил Сол.
— Ты можешь сделать это. Но ведь этим ничего не исправишь, — сказал Бо еще тише. — Ты можешь назвать меня негодяем и подлецом. Ты можешь даже убить меня, Сол, но и этим ничего не исправишь.
— Бо, ты посмел прийти ко мне только потому, что я черный? — спросил Сол после паузы.
— Нет. Нет, Сол. Ты же знаешь. Это не имеет никакого значения. Я пришел потому, что ненавижу ложь.
— Ты опозорил мою семью на весь квартал… На весь город…
— Для тебя это так важно?
— Не знаю. Наверное, важно.
— Почему, Сол?
— Потому что ты можешь забыть о цвете моей кожи, а я — нет. Потому что для тебя милая забава — якшаться с неграми, а для меня дружить с белым — великое достижение. Потому что все в этой стране все равно считают меня недочеловеком. И я, Бо, я тоже так думаю. Ты приходишь ко мне и заявляешь права на мою жену. А я даже не смею набить тебе морду!
— Ты дурак, Сол! — закричал Бо. — Ты должен набить мне морду, если тебе этого хочется. Но этим ничего не исправишь, потому что я люблю Уитни. Ты знаешь, о чем я думал, прежде чем прийти к тебе? Меня никогда не останавливало семейное положение моих возлюбленных. Я с удовольствием обманывал их мужей. Но сейчас я этого не могу сделать. Потому что я люблю Уитни. И я тебе это честно говорю. Наши кулаки ничего не решат здесь. Пойми, Сол. Моя любовь не против тебя! Моя любовь, может быть, в первую очередь против меня. Но что я могу поделать?
— Забыть! Навсегда забыть! Ты об этом не думал? Не думал, я вижу. У тебя в жизни не существует запретов. Тебе подавай то, чего твоя левая нога золотела. А для меня жизнь полна запретов! Мы с тобой не в равных положениях, Бо!
— Почему?!
— Потому что ты — белый и этот мир твой. Все в нем твое. А моего отца продали на соседнюю плантацию, разлучив с матерью и детьми. Вот в чем вся разница, Бо!
Оба замолчали, напряженно глядя в глаза друг другу.
— Прости меня, Сол, — сказал Бо наконец. — Я идиот. То, что внутри меня, я перенес на весь мир. Я пришел к тебе именно потому, что ты для меня не белый и не черный — ты просто человек, мой соперник. А теперь я вижу, что ты слаб. Я не буду с тобой бороться, Сол. Я тебя жалею.
Бо встал и пошел к двери.
Он чуть не сшиб с ног Уитни, которая возвращалась с подносом, уставленным чашками.
— Я ухожу, Уитни. Прости и ты мне этот ночной скандал. Сол все толково объяснил мне. Вы — черные. И я не смею трогать вас.
Уитни встала на его пути и уперлась подносом в его грудь.
— Нет, Бо, постой. Не знаю, что там тебе говорил Сол. Но я тоже хотела бы решать свою участь. Не к этому ли ты нас все время призывал? Вернись к столу и выслушай меня.
Бо покорно вернулся на свое место.
Уитни поставила поднос на стол. Подошла к своему мужу и обняла его за плечи.
— Я тоже люблю тебя, Бо, — вдруг сказала она. — Но я никогда не брошу Сола. И не потому, что у меня от него дети, что мы муж и жена уже шесть лет. Знаешь, Бо, до встречи с тобой, до нашей работы я, пожалуй, смогла бы оставить его. Но ты научил нас быть гордыми и милосердными. Я остаюсь со своим мужем потому, что горжусь им. Потому что Сол, оступаясь и ранясь, перестает быть рабом. Он становится свободным человеком. Ты ведь тоже не бросил нас, хотя мог найти других актеров, с которыми не было бы стольких хлопот. Это твоя вина, Бо. Это твоя заслуга. Я остаюсь с тем, кому сейчас труднее. Вот теперь можешь уходить.
Редактор видел, что у Сола глаза наполнились слезами.
«Боже мой, — думал он, — все это, оказывается, совсем не абстрактные понятия — равноправие, свобода, честь, достоинство… Ведь вот, для этих людей это смысл их существования!»
Бо поднялся с места. Он выглядел сейчас побитым и раздавленным. Он хотел еще что-то сказать, но только развел руками.
— Да, только не надейся, что я брошу театр, — сказала Уитни. — Я буду работать с тобой. Я всегда буду работать с тобой.
Когда Бо и редактор вышли на улицу, было уже светло. Уже появились редкие прохожие, молочники ставили бутылки у дверей домов, дворники мели тротуары.
На лице Бо была почему-то улыбка умиротворенности.
— Так как, ты говоришь, зовут тех двух пропавших репортеров? — спросил он.
— Билл Найт и Джон Батлер, — ответил редактор.
Кровь и безумие
Джон теперь никак не мог уйти из Лата.
На следующее же утро после своего бегства и возвращения он отправился к Ридеру и напрямик спросил:
— Ридер, вы убили Найта?
Ридер ошалело посмотрел на Джона, вдруг схватился за голову и воскликнул.
— Он шел с Нагом?! Тогда все понятно!
— Что?! Что вам понятно?! — испугался Джон.
— Не знаю, может быть, я не прав. Давай, сынок, пока не будем пороть горячку. В одном я уверен, твой друг жив и ты его скоро увидишь.
Сколько ни пытался Джон выспросить Ридера поподробнее, тот ничего не говорил. Но зато он все рассказал и о своем поселке, и о жизни здесь, о том, как это начиналось и что теперь.
Вокруг Ридера сидело человек десять серьезных мужчин, и все они готовы были подтвердить любое слово, сказанное Ридером.
Действительно, Ридер раньше был полицейским в Техасе. Он даже показал грамоту за отличную службу. Но потом был ранен в стычке с похитителями лошадей. Его шрам и был следом, оставшимся на память от бандитов. Со службой в полиции пришлось расстаться. У Ридера была неплохая пенсия, приличный участок земли, табун хороших скакунов. Ему бы заниматься на своем ранчо и горя не знать. Но не таков был Ридер. Энергия его била через край.
Где-то услышал он, что на Аляске нашли огромные запасы золота. Это были темные слухи, но Ридер загорелся и, бросив все на своего друга, поехал на Аляску.
Про золото здесь слышали, но как-то неопределенно. Куда пойти, где искать, никто толком объяснить не мог. Это теперь уже все знают про реку Клондайк. А тогда — единицы. И тогда Ридер договорился с эскимосом, отправлявшимся домой, чтобы тот доставил его хоть куда-нибудь. Эскимос и привез его в Лат.
Переселенцев здесь еще было мало. Такие же искатели приключений, как и Ридер. Никакого золота в окрестных горах не нашли. Но пристрастились к охоте на пушных зверей. Постепенно поселок вырос, первые поселенцы звали друзей, знакомых, а те в свою очередь других друзей и знакомых. Правда, на месте, узнав, что в Лате золота нет, кое-кто надолго не задерживался, но кое-кто и оставался.
С самых же первых дней Ридер столкнулся с бандой, которая обложила данью эскимосских охотников. Они появлялись здесь регулярно. К их приходу эскимосы уже собирали лучшие шкуры. Какую-то часть своей добычи бандиты отдавали вождю и шаману. Вскоре бандитам этого показалось мало, и они стали грабить переселенцев.
Ридеру это было — острый нож. Он и решил организовать сопротивление бандитам, потому что полицейские не могли защитить поселок. Не пошлет же департамент целый отряд неизвестно на какое время охранять неполную сотню охотников.
Но как только отряд был собран и готов дать отпор бандитам, они вдруг прекратили свои набеги. Поселенцы вздохнули свободно. Но, оказалось, раньше времени. Просто в этих местах появилась другая банда, и начались битвы уже между бандитами. Новая банда победила. Во главе ее и стоит Стенсон.
Самое удивительное, что Ридер этого Стенсона прекрасно знал. Тот тоже служил в полиции и тоже в Техасе. А потом был изгнан за превышение полномочий. Кое-кто рассказывал, что Стенсон охотился за правонарушителями, как за дикими зверями. Он никого не арестовывал. Он всех кончал прямо на месте. Несколько раз под его пулю попали и невинные люди. Полиции пришлось расстаться со Стенсоном. Потом он куда-то пропал. И вот теперь Ридер встретил его здесь. Да, мир поистине тесен.
Стенсон явился к Ридеру и предложил сотрудничество. Он обставил это таким образом, что не грабить собирается мирных жителей, а брать с них налог за безопасность. Поскольку полиция не в силах защитить людей в малых поселках, он берет это на себя. Ну а жители должны платить ему дань.
Ридер отказался. Хотя Стенсон намекал на каких-то высоких покровителей, которые всегда отведут от него карающую руку правосудия.
Стенсон приходил еще несколько раз, пока Ридер не пригрозил, что продырявит его голову, если тот еще хоть раз явится в поселок. С того дня они стали врагами.
Несколько попыток напасть на Лат Стенсон предпринял сразу же после ссоры. Но команда Ридера держалась здорово. Бандиты ушли несолоно хлебавши. Но потом начались настоящие бои. Здесь уже Ридеру приходилось туго. Он действительно понял, что за Стенсоном есть какая-то сила — уж больно хорошо вооружены были его люди, уж больно свободно чувствовали себя на просторах Аляски. Теперь их территория увеличится и захватит Канаду, где, собственно, и расположены основные запасы золота.
Но и Ридера Стенсон не оставит в покое.
— А при чем здесь Наг? — спросил Джон.
— А Наг и был у эскимосов и вождем и шаманом. Это с ним бандиты делили добычу.
— Понятно, значит, нашими руками Наг пытался прикончить вас, мистер Ридер?
— Выходит, так.
— А теперь расскажите мне, Ридер, скольких людей вы потеряли в войне со Стенсоном?
— Мы потеряли уже троих, — мрачно сказал Ридер.
— А вот братья Ники говорят, что убили только одного.
— Они так сказали? — удивился Ридер.
— Вернее, они проговорились. Я спрашивал у них, как вы хороните людей.
— А! Все верно. Одного убили зимой. Мы не могли похоронить несчастного до весны. Одного убили осенью. Земля еще не замерзла.
— А третьего?
— Третий — муж Мэри. Мы послали парня в разведку, и он не вернулся.
— Она не знает об этом?
— Нет. Люди и так против сопротивления бандитам. Они считают, лучше отдать им дань, чем гибнуть. Правда, это касается в основном женщин.
— Теперь понятно, почему у вас тут столько секретности.
— Да, сынок, мы не хотим воевать. И никто не хочет стать мертвым. Мужчины договорились, как можно меньше болтать об опасности.
— Но бандитам мы не сдадимся, — сказал Карл.
— И, может быть, вы мне все-таки объясните, куда пропал Найт?
— Нет, сынок. Давай подождем, — сказал Ридер. — Мне кажется, что ждать придется недолго.
— Ну что ж, тогда я пойду к Нагу и вытрясу из него правду! — заявил Джон.
— Не получится, сынок. Это надо было делать раньше. Утром Наг пропал.
— Ушел?
— Нет, пропал. Из ущелья он не выходил, но его нигде нет.
— Подождите, он же вернулся в Лат под утро. Я сам его видел.
— Это мы знаем. Но из ущелья он не выходил. Клянусь Богом, — сказал Карл.
— Но ведь ваши стражники стоят на единственной тропе, ведущей в Лат.
— Значит, она не единственная, — сказал Ридер.
С этого дня прошла неделя.
Джон как-будто кожей чувствовал все растущее напряжение близкой опасности. Он даже не смог бы объяснить, от чего это исходило.
Каждое утро мужчины и женщины принимались за привычные дела, группками по пять-шесть человек уходили в дальние леса на охоту, строили новые дома из бревен, заготовленных еще летом, выделывали шкуры, чистили ружья и набивали патроны. По вечерам молодежь, как обычно, собиралась в доме Кутана. Джон теперь был там завсегдатаем и любимцем. Маленький оркестрик уже научился играть модное танго, и Джон обучил всех этому танцу. Ридер иногда приходил побеседовать о том о сем, Цезарь подружился с местной детворой и даже несколько раз участвовал в соревновании по стрельбе. Все было вроде бы спокойно. Но тревога все возрастала. Джон видел, как Ридер по нескольку раз на дню собирал мужчин и о чем-то подолгу разговаривал с ними. На страже теперь стояли не двое, а четверо стражников. Ночами Ридер сам ходил их проверять.
Джон тоже не сидел сложа руки. Мэри дала ему ружье своего покойного мужа, но он не пошел охотиться на белок, а отправился в поселок эскимосов в надежде разузнать, где же находится второй проход в ущелье. Эскимосы, правда, ничего не сказали ему. Джон чувствовал, что они чего-то боятся. И тогда он сам начал обходить все ущелье по периметру, ища незаметный проход.
Отношения его с Мэри снова стали отношениями хозяйки дома и жильца, словно не было той безумной страстной ночи, словно вообще ничего между ними не было. Мэри была ровна, приветлива, но не более того.
Только иногда случайно Джон ловил на себе ее взгляд, но она тут же отводила глаза или просто уходила в другую комнату.
Иногда вдруг Джон вспоминал, что он так и не отправил телеграмму в редакцию, собирался пойти в Калли каждый день, но что-то удерживало его. Ему казалось, что события начнутся как раз в его отсутствие.
Как-то вечером Цезарь вернулся домой веселый и уставший, вымокший в снегу и ужасно голодный.
— Сегодня мы наконец играли в полицейских и воров, — с гордостью заявил он. — Мне удалось-таки растолковать этой малышне смысл игры. Меня назначили шерифом. Было здорово, но Тима, который был назначен главарем шайки воров, мы так и не смогли найти.
— Конечно, — сказал Джон. — Тебе ли тягаться с местными мальчишками. Они знают тут каждый кустик.
— Подумаешь, я тоже знаю. Но Тим спрятался так, что даже местные мальчишки не нашли его.
— Надеюсь, он потом вернется домой.
— Он уже вернулся. Вообще-то воры победили, потому что Тиму удалось уложить нас всех из своей засады.
— Вот как!
— Я считаю, это нечестно. Мы договорились, что играть будем только в поселке, а Тим нарушил правила. Он вышел за пределы поселка.
— И его пропустила стража? — удивился Джон. Дело в том, что Ридер запретил кому бы то ни было выходить из Лата в одиночку.
— А там никакой стражи и не было, — сказал Цезарь.
— Что? Стражники не охраняют проход в ущелье?
— Этот проход никто не охраняет, — сказал Цезарь. — Его знает только Тим.
Джон вскочил с места.
— Одевайся мигом, Кам, мы идем туда! Ты покажешь мне этот проход.
— Да темно уже, — сказал Цезарь. — Я и не найду его в темноте.
— Ничего, ты мне покажи хотя бы приблизительно.
— Пожалуйста, — нехотя встал Цезарь и начал одеваться.
Первым делом Джон забежал по дороге к Ридеру.
— Пойдем с нами, — сказал он. — Кам нам покажет, где есть другой проход.
Ридер собрался моментально. По дороге он позвал с собой еще нескольких людей.
— Во! — смеялся Цезарь. — Целая правительственная делегация.
Он провел взрослых через небольшой лес, через ручей подо льдом и привел к скале, с которой красивой искрящейся глыбой спадал застывший от холода водопад.
— Что? Будем ждать, пока растает? — спросил Ридер. Он не очень-то доверял мальчишеским открытиям.
— Зачем? — сказал Цезарь. — Можно и сейчас.
Он зашел за эту стену застывшего льда и позвал:
— Сюда, джентльмены.
Ридер наклонил факел и с трудом протиснулся в щель, из которой раздавался голос Цезаря.
За ним влез Джон.
Здесь действительно был проход. Он был не очень широк, но даже взрослый человек, правда согнувшись, мог по нему пройти.
— Ну что? Двинемся? — спросил Ридер, когда все оказались вместе.
— Конечно, — сказал Джон. — Надо исследовать. Может быть, это просто пещера.
Первым пошел Ридер, держа лампу перед собой. За ним шел Карл, хотя Джон очень просил пропустить его вперед. Джона поставили предпоследним, за ним уже шел только Цезарь.
Метров пятьдесят прошли довольно быстро. Но дальше проход сужался, надо было опускаться на четвереньки.
— Да. Тут непросто пройти, — сказал Карл, плечи которого уже с трудом протискивались между камней.
Он снял свою шубу. То же самое сделали остальные мужчины.
Еще метров через двадцать Ридер вдруг остановился.
— Что? Что там? — заволновались мужчины.
Ридер двинулся вперед. Мужчины тоже и вдруг оказались в огромной пещере, потолка которой почти не было видно.
Летучие мыши облепили стены. Они спали сейчас, а было их множество.
— Жуткое местечко, — сказал Ридер.
Джон остановился как вкопанный. В небольшом углублении стены лежал человек.
Ридер осветил его лампой и сказал:
— Так вот где ты, парень…
Это был труп супруга Мэри. Ридер узнал его только по одежде. Подземные крысы и прочие твари сделали свое дело — только кости неприятно белели в свете ламп.
Ридер наклонился над трупом и сказал:
— Парня расстреляли. Смотрите, задней части черепа нет. Пуля вошла с очень близкого расстояния. Скорее всего, стреляли в упор. Надо будет завтра забрать останки.
Обследовав пещеру, мужчины двинулись дальше и уже скоро снова оказались на открытом пространстве.
Да, это был настоящий проход, о котором никто не знал в Лате. Очевидно, Стенсон тоже не знал, потому что ни разу не воспользовался им.
— Значит, мужа Мэри убили эскимосы? — спросил Джон.
— Его убил Наг, — сказал Ридер. — Видно, парень выследил его и нашел этот проход.
— Но вы же сказали, что его расстреляли.
— Когда спящему человеку стреляют в лоб, это тот же самый расстрел.
— Очень интересно, — сказал Джон. — Он следил за Нагом, а потом взял и уснул вдруг ни с того ни с сего.
— Да, парень, именно так.
— Но как это возможно?
— Не забывай, что Наг — шаман.
— Я не верю во всю эту ерунду.
— А мы верим, — сказал Карл. — Я своими глазами видел, как Наг заставил шевелиться мертвого старика Чарли.
— Точно, — подтвердили другие мужчины. — Все это видели.
— Ну ладно, — сказал Ридер. — Пора возвращаться. Карл и ты, Сэм, останетесь здесь. Потом я пришлю вам смену. Этот проход тоже надо охранять.
— Погодите, мистер Ридер, — сказал Джон. — С этой стороны его охранять бессмысленно. Никто не услышит стражников в поселке, если даже они поднимут тревогу.
— Это верно, — подумав, согласился Ридер. — Значит, будем охранять у водопада.
Бандиты напали на поселок через три дня.
Как ни готовились к нападению жители, а все равно бандиты застали их врасплох.
Да оно и понятно — жили в поселке совсем не солдаты, а простые труженики, которым приходилось весь день заниматься своими делами. Кто-то ушел в лес, кто-то работал по дому, вместе после начала тревоги собрались только минут через десять.
Первыми объявили тревогу как раз стражники возле потайного прохода. Двоих бандитов, показавшихся из-за водопада, они уложили на месте. Те так и умерли с выражением крайнего удивления на лице. Они считали, что именно здесь их никто не будет ждать.
С другой стороны ущелья бандиты накатились лавиной, когда мужчины поселка уже кое-как собрались и заняли оборону в специальных деревянных срубах с бойницами. Поэтому первая атака была отбита.
Джон, конечно, не сидел на месте. Он перебегал от одной группы обороняющихся к другой, везде ему казалось, что самое опасное место не здесь, и он снова перебегал.
Бандиты напали в сумерках, но было их прекрасно видно. Правда, Джон так и не заметил, что уложил хоть одного из своего ружья. Вообще в пылу схватки он мало что понимал. Вдруг ему казалось, что бандиты уже заняли поселок и наступают с тыла, вдруг он принимал своих за чужих. Вдруг он чужих принимал за жителей поселка. Вообще настоящий бой мало походил на стройные описания книжных баталистов. Это было безумие. Именно безумие. Страх, кровь, крики, бестолковщина и бессмыслица.
Как ни старался Джон, он так и не мог понять, где же основные силы бандитов? Где же основные силы поселенцев? То там, то здесь вспыхивали беспорядочные выстрелы, но когда он оказывался на месте, выстрелы раздавались совсем в другой стороне.
Почему-то Джону вдруг показалось, что поселок совсем оголен в месте тайного прохода. Он бросился туда и чуть не нарвался на пулю, которую выпустил вовсе не бандит, а Карл, подумавший, что Джон противник.
Пуля пробила Джону шубу на плече. На секунду Джон застыл, не веря, что в него могли попасть, а потом опрометью бросился к проходу.
И как только залег, здесь действительно началась стрельба.
Оглянувшись, Джон увидел, что рядом лежит Шон. Парень был белым как полотно.
— Ты ранен? — спросил Джон.
— Я не виноват, я не виноват! — закричал Шон истерично. Рука у него была перебита пулей и разбрызгивала дымящуюся кровь. Шон почему-то собирал эту кровь в пригоршню.
Джон подполз к нему и стал перебинтовывать.
— Я не виноват, я не виноват, — причитал Шон. — Они не могли. Они случайно.
Он был в шоке. Джон перебинтовывал руку Шона довольно долго. Мешала шуба. Джон никак не мог найти рану, все было залито кровью. Наверное, Шону проще было бы добежать до ближайшего дома.
— Только ты не ешь снег, — почему-то вдруг сказал Шон.
Джон увидел, что снег пропитан кровью, и его удивила такая бессмысленная забота Шона.
Потом Джон в кого-то палил, а ему отвечали.
Потом у него кончились патроны. И он попросил у Шона. Но тот был без сознания.
Правда, у того, кто стрелял в Джона, тоже, наверное, кончились патроны, потому что и он перестал стрелять.
Джон осторожно высунул голову из своего укрытия и увидел, что от прохода кто-то быстро ползет в его сторону.
«Все, это конец, — подумал Джон. — Сейчас в меня разрядят парочку патронов. Парочку патронов. Парочку патронов…»
Он мысленно повторял про эти патроны, словно замкнулся какой-то крут в голове.
И в этот момент он увидел, что у Шона открыта сумка с боеприпасами. Как он не заметил ее раньше? Почему он просто не взял ружье Шона? Нет, он тоже сходил с ума. Убийство никогда не было делом разумным.
Джон схватил ружье Шона и приготовился стрелять в подползающего врага.
Он понимал, что выстрелить будет трудно. Еще на расстоянии — куда не шло. Ты не видишь лица человека, его глаз, для тебя это что-то вроде куклы. Но стрелять в упор?!!
Джон весь сжался в комок. Если бы он мог, он сейчас заскулил бы тонким голосом, как щенок. Но он не мог даже двинуться. Время словно остановилось. Оно словно решало, кого пустить к Джону — удачу или смерть.
И решило пустить смерть.
Из-за бугра показался ствол винтовки и нацелился черной дырочкой прямо в лоб Джону. За винтовкой выглянуло лицо бандита и в следующее мгновение…
Джон потом часто вспоминал это мгновение. Его палец медленно вдавливал курок, а все существо Джона превратилось в ружейный боек, который злым клювиком ударит сейчас в капсюль. И капсюль даст искру, а она подожжет порох, и тот своими газами вытолкнет на свет Божий свинцовую смерть.
В следующее мгновение Джон не выстрелил, потому что прямо перед собой увидел лицо Найта.
Плохие известия
Скарлетт ехала в Нью-Йорк.
Поездка в Вашингтон ничего не дала. Она побывала на нескольких приемах у видных конгрессменов, встретилась с некоторыми старыми друзьями Ретта, даже проконсультировалась с одним виднейшим адвокатом по такого рода делам, стараясь, правда, скрыть это от Доста, чтобы не ущемлять его самолюбие, но никто всерьез не вник в ее проблемы, никто не дал ей по-настоящему ценного совета. Более того, знакомые искренне удивлялись, когда Скарлетт говорила, что у нее неприятности.
Все считали, что Скарлетт и неприятности — понятия несовместимые. Поэтому, пробыв в Вашингтоне почти месяц, Скарлетт решила, не заезжая домой, отправиться в Нью-Йорк. Собственно, этот совет ей только и дали. Дескать, все дела решаются там, здесь, в Вашингтоне, только подписываются.
У Скарлетт не было особого плана действий. Так, несколько влиятельных знакомых, с которыми она и собиралась повстречаться. Ну и, конечно, с Джоном и Бо. Кэт была во Франции.
Она дала телеграмму и Бо и Джону, надеясь, что хоть кто-то из них встретит ее.
Вся эта история с документами и судами уже порядком утомила Скарлетт. Она только руками разводила, как это вышло, что именно на нее свалилась такая напасть. Всю жизнь ее мысли и дела были далеки от судебных канцелярий и присутственных мест. Ее мысли вообще были далеко от мелочей жизни, она жила в других масштабах, в другом измерении. Любовь и ненависть, доброта и верность, дружба и одиночество — вот те незыблемые вехи, по которым шла ее жизнь. Только во время войны она думала о хлебе насущном, но тогда об этом думали все. И даже та давняя забота была окрашена багровыми красками трагизма, борьбой за жизнь. А теперь она сама себе вдруг стала напоминать старую скрягу, которая дрожит над куском земли, интригует, мелко злобствует.
Да, обстоятельства изменили ее, ход ее мыслей, мечтаний, надежд. Если раньше она мечтала о любви, то теперь о благоприятном решении суда. Если раньше надеялась на возвращение любимого, то теперь на благосклонность присяжных. Если раньше думала легко и весело, то теперь логично и скучно.
«А может, бросить все это? — иногда вдруг озарялась она захватывающей идеей. — Оставить и все эти суды, и все эти тяжбы. Денег хватит, а тратить жизнь на залы заседаний — стоит ли?»
Но идея эта уступала одному очень простому аргументу. Речь идет не о куске земли, а о Таре, о месте для нее почти что святом, как земля обетованная для иудеев. Там был для нее и рай и ад, там она рожала и хоронила, там любила и ненавидела, там родилась сама и там умрет. Одним словом, там была ее родина.
На вокзале Скарлетт никто не встретил. Она спросила у проводника, вовремя ли пришел поезд? Оказалось, что даже опоздал на десять минут. Она все-таки еще немного подождала, но никто так и не появился.
Некий джентльмен из соседнего вагона предложил ей помощь, и она согласилась. Он вызвал носильщика, нанял карету и, отправив Скарлетт в гостиницу, пожелал счастья и удачи.
Переезд страшно утомил Скарлетт, и поэтому она до вечера пролежала в гостинице, отдыхая после дальней дороги.
Утром она отправила боя в редакцию, где работал Джон, и на квартиру Бо с записками, в которых мягко укоряла обоих за невнимание.
Бой вернулся через два часа и сообщил, что в доме Бо никого нет, консьержка сказала, что Бо уехал со своей театральной труппой в Европу. А из редакции он принес конверт. В нем было небольшое письмо, подписанное главным редактором:
«Уважаемая миссис Скарлетт О’Хара. Имею честь пригласить Вас посетить редакцию газеты сегодня в три часа пополудни по весьма интересующему Вас неотложному делу. За Вами будет выслан автомобиль, который будет ждать Вас у гостиницы в половине третьего.
С уважением главный редактор Хьюго Рескин».
Письмо это встревожило Скарлетт не на шутку. Со слов боя она поняла, что Джона в редакции нет. С какой стати редактору просить ее о встрече? Тут могут быть только две причины — в газете очень довольны Джоном и собираются наговорить ей кучу комплиментов или, что вероятнее, с Джоном что-то случилось.
Скарлетт взглянула на часы — было двенадцать часов. У нее еще было два с половиной часа в запасе. Но куда девать этот запас, куда девать себя, если сердце вдруг тягостно заныло от предчувствия какой-то страшной беды.
Скарлетт попыталась отвлечься, вышла на улицу и прошлась по магазинам, но это занятие ей никак не помогло. Более того, она вся извелась, потому что во всех магазинах смотрела не на платья, шляпки, зонтики или меха. Она везде искала настенные часы. Получалось, что именно за этим она и заходила в шикарные магазины. Хотя ее собственные часы шли отлично.
На ланч она не пошла, потому что понимала — кусок ей в горло сейчас не полезет.
Потом решила, что не будет дожидаться, а прямо сейчас отправится в редакцию. Но теперь оказалось, что уже два часа и автомобиль за ней придет очень скоро.
К парадному входу гостиницы она спустилась за пятнадцать минут до назначенного времени и только мешала входившим и выходившим из гостиницы людям.
Ровно в половине третьего подъехал автомобиль.
Скарлетт уже было бросилась к нему, но из автомобиля вышел тот самый джентльмен, который помог ей на вокзале.
— Добрый день, миссис…
— Скарлетт О’Хара, — представилась Скарлетт, заглядывая джентльмену за плечо.
— Миссис Скарлетт. Очень приятно. Разрешите в таком случае и мне представиться: Тимоти Билтмор. У вас какие-то сложности? Может быть, я чем-нибудь смогу вам помочь?
— Нет-нет, спасибо, мистер Билтмор.
Скарлетт увидела, что к гостинице подъехал другой автомобиль, и оттуда вышел водитель с листком бумаги в руках.
— Простите, сэр, вы не из редакции? — остановила его Скарлетт.
— Да. А вы не миссис Скарлетт О’Хара? Я за вами. Садитесь, пожалуйста.
— Всего доброго, мистер Билтмор, — попрощалась Скарлетт и не без опаски села в автомобиль.
Билтмор стоял на улице, провожая взглядом автомобиль, пока тот не скрылся за поворотом.
— Скарлетт… Скарлетт О’Хара… Что-то знакомое, — сказал он.
Редактор встретил ее настолько радушно, насколько это вообще возможно.
И от этого предчувствия Скарлетт еще больше утвердились.
— Как поживаете, что нового в Джорджии? — сыпал вопросами редактор, не очень, впрочем, дожидаясь ответов. — Слышал, у вас в этом году довольно холодная зима. А сколько времени поезд идет до Нью-Йорка? Впрочем, это все равно быстрее, чем лошадьми, правда? Хотя мне, миссис О’Хара, немного жаль, что лошади пропадают с наших улиц. Они придавали им какую-то романтичность и теплоту…
— Мистер Рескин, пожалуйста, скажите мне, что случилось с Джоном? — перебила его Скарлетт довольно грубо.
Редактор вздохнул.
— А когда вы получили нашу телеграмму? — спросил он.
— Телеграмму?! — сердце Скарлетт упало. — Но я не получала телеграммы.
— Странно, мы послали ее уже давно…
— Меня не было дома… Но что случилось, скажите же ради Бога? — вскричала Скарлетт. — Он?.. Он?..
— Нет-нет, что вы! Что вы! — замахал на нее руками редактор. — Нет-нет! И не смейте даже об этом думать! Что вы!
— Тогда зачем же вы вызвали меня? Зачем посылали телеграмму?! Ответьте же, наконец!
— Дело в том, миссис О’Хара, что ваш сын… От него очень давно нет никаких известий.
— Известий?! А… А он что, пропал? — спросила Скарлетт и поняла, как глупо прозвучал ее вопрос.
— Ну не совсем… Просто от него нет известий уже два месяца.
— Но можно было послать к нему домой… Он, может быть, работает в другом месте…
— Да-да, вы же ничего не знаете… Джон уехал на Аляску. Это было редакционное задание. Но…
— На Аляску? Зимой?
— Летом там невозможно передвигаться с места на место… Только зимой. Понимаете, там можно передвигаться только по снегу… А летом там все тает и передвигаться невозможно… А по снегу, зимой…
— К черту этот снег! К черту Аляску! — закричала Скарлетт. — Где мой сын?!
— Только не волнуйтесь так! Его ищут. Мы подняли на ноги полицию. Его ищут, его обязательно найдут.
В дверь постучали.
— Нельзя! — заревел редактор. — Я занят!
— Значит, уже два месяца… — сказала Скарлетт.
— Ну, не совсем два. Полмесяца надо отбросить на дорогу. Получается полтора, хотя тоже немало.
В дверь снова постучали.
— Убирайтесь! Я занят! — закричал редактор.
— Но, может быть…
— Вот-вот, я тоже думаю, что причин для беспокойства нет, — подхватил редактор. — Хотя они могли бы сообщить, что задерживаются. Слава Богу, у нас теперь есть телеграф… Да я же сказал, вон!!! — снова закричал он, потому что в дверь снова постучали. — Простите. Это редакция. У всех дела. Мы готовим вечерний выпуск…
— Он жив? — напрямик спросила Скарлетт и так взглянула в глаза собеседнику, что тот, готовый уже высыпать кучу утешительных слов, промолчал и только развел руками.
— Нам остается только ждать и надеяться, — сказал он. — Только ждать и надеяться.
— Нет, — сказала Скарлетт, помолчав. — Ждать я не умею. Я не могу ждать. И не буду.
— Вы хотите?..
— Да, я сама отправлюсь за ним. Узнайте, пожалуйста, когда ближайший рейс на Аляску.
— Но это… Это имеет мало… Мне, кажется, миссис Скарлетт, что это не очень хорошая мысль, — нашел самую мягкую форму редактор. — Чем вы сможете быть полезной в его поисках?
— Не знаю. Но здесь я сидеть тоже не могу…
— Хорошо. Я сейчас же узнаю расписание. Это быстро, уверяю вас. — Он поднял трубку телефона и попросил соединить его с пароходной компанией. — Вы остановились в гостинице? — спросил он, пока телефонистка соединяла.
— Да.
— Вам удобно там?
— Вполне.
— Алло! Алло! Добрый день, — заговорил он в трубку. — Вы не можете? Алло! Очень плохо вас слышу! Говорите, пожалуйста, громче! Алло! — закричал он. — Я хотел узнать у вас расписание рейсов на Аляску!!! На Аляску!
— Для этого не стоит так надрываться, можно просто открыть дверь.
Скарлетт обернулась на голос и увидела входящего в кабинет джентльмена в лисьей шубе, широко улыбающегося и раскинувшего руки для объятия.
— На-а-йт!!! — закричал редактор, вскакивая со своего кресла. — Найт!
Вошедший сгреб редактора в охапку, и тот потонул в пышном меху шубы.
— Негодяй! Негодный мальчишка! — чуть не плакал редактор. — Куда же ты пропал?! О!.. Да, Найт… Это… — вдруг замешкался редактор. — Это миссис Скарлетт О’Хара… — и такая мольба была в его глазах.
— Миссис Скарлетт?! — воскликнул Найт. — Вы здесь?
Редактор думал, что у него сейчас разорвется сердце.
— А Джон…
— Что Джон?!! — в один голос воскликнули Скарлетт и редактор.
— Джон поехал к вам в гостиницу. Он нашел дома вашу телеграмму.
Скарлетт поднялась с кресла, шагнула к Найту и мягко осела на пол.
Прощай, Лат
Как Джон потом благодарил Бога, что не выстрелил, что палец его застыл на самой грани, не дожал какую-то сотую долю миллиметра.
То же самое думал и Найт.
Как они катались по снегу, тиская друг друга в объятьях, как, забыв о страшной стрельбе вокруг, кричали друг другу какие-то слова, смеялись и хлопали друг друга по спинам и плечам. Как чуть не плакали от счастья встречи и от того, что судьба уберегла их от убийства друга.
Бой закончился без них. Закончился полной победой Ридера. Стенсона среди убитых не нашли.
А убитых было много. Четверо бандитов и трое поселенцев остались на снегу со страшными смертельными ранами. Еще больше было раненых. Для бандитов пришлось даже наскоро сооружать нечто вроде госпиталя.
Пленных, а были и такие, пришлось запереть в том самом подвале, где когда-то провел полчаса Джон.
Срочно были отправлены люди за полицейскими, чтобы те забрали бандитов.
Джон и Найт решили, что дождутся полицию и поедут домой вместе с ней.
Первые дни напролет Джон и Найт провели в разговорах. А поговорить, разумеется, им было о чем. Джон открывал Найту глаза, а тот требовал подтвердить каждое слово.
Все дело в том, что Найт до последней минуты был уверен — он в особом отряде полиции, который намерен положить конец всем безобразиям Ридера. И теперь переменить свое убеждение ему было непросто. Джон познакомил Найта и с самим Ридером, и со всеми своими новыми друзьями. Найт с пристрастием расспрашивал их обо всем и постепенно начинал понимать, в какую дурацкую, мягко говоря, историю он влип. Но окончательно убедили его разговоры с пленными и ранеными бандитами. Да, среди них тоже были бывшие полицейские, кое у кого даже сохранились полицейские значки каким-то чудом. Но с законом они были явно не в ладу.
— Как легко обмануть того, кто хочет обманываться, — сказал Найт. — Знаешь, я ведь и сам видел, что у Стенсона что-то не так. Но искал и даже находил этому всякие оправдания вроде — у них тяжелая работа, с преступниками не воюют в белых перчатках, суровая жизнь огрубила этих людей. Правда, Стенсон старался еще не подпускать меня к другим. Я и этому нашел оправдание — профессиональные секреты. Нет, Бат, я верил этому человеку во всем.
— Да и я бы поверил, — признался Джон. — Ведь все складывалось, как в добром старом авантюрном романе — забитый эскимос, злой завоеватель, благородный полицейский… Я ведь тоже чуть не наделал глупостей.
— Ты чуть, а я наделал. Я ведь стрелял в этих людей. Слава Богу, что не попал. Но ведь мог, Бат, больше того, очень хотел попасть! — с отчаянием говорил Найт.
— Это понятно.
— Нет, это не понятно! Я ведь репортер, человек со стороны. Я не судья, я информатор. Я не имею права делать выводы, а тем более участвовать в событиях. А я участвовал, вот и ослеп! Я плохой репортер, Бат! Я очень плохой репортер!
— Ты человек, Найт. Это важнее. Ты не мог не участвовать.
— Нет, мог, — жестко сказал Найт. — Я просто вдруг возомнил себя воплощением кары небесной, справедливости и истины. Ведь была же у меня гаденькая мысль, Бат, что я вот приду — и сразу во всем настанет порядок и благоденствие. Тщеславная, подлая мыслишка! И я мог стать бандитом! И я мог убить неповинного человека. Ты оказался мудрее меня, хотя ты еще мальчишка. И это тоже меня злило. Я ведь чувствовал, что ты прав. Я чувствовал это. Но как я мог согласиться с тем, что прав ты, бывший рассыльный, деревенщина, провинциал, а не я, интеллектуал, утонченная натура! Знаешь, Бат, я негодяй.
— Перестань, Найт. Мы оба получили хороший урок. Ведь я тоже думал, что прекрасно разбираюсь в людях. Более того, они мне были скучны, так как казались слишком уж понятными. Больше всего в правоте рассказа Нага меня убедило знаешь что? Лицо Ридера. Конечно, подумал я, это лицо настоящего преступника.
— А у Стенсона, — сказал Найт, радуясь совпадению ошибок, — наоборот, весьма благообразное лицо. Такое, знаешь, открытое, простое, ну просто гордость Америки.
— Очень, знаешь, мудрую мысль мы открыли с тобой, Найт, — внешность обманчива, — рассмеялся Джон.
— А ты знаешь, чему учит история? Тому, что она ничему и никого не учит, — грустно сказал Найт.
Отряд полицейских прибыл через неделю. Наступило время прощаться с поселком.
Джон обошел всех своих новых друзей и знакомых. Даже за этот короткий срок их у Джона появилось много. Карл, братья Ники, даже Шон, который уже выздоравливал, в чем немалая заслуга была Мэри, не отходившей от раненого ни на шаг.
Ну и, конечно, Джон весь вечер напролет просидел с Ридером.
— Теперь он сюда не сунется, — сказал Ридер. — Скорее всего он уже на материке. Здесь ему оставаться нельзя. Вся полиция Аляски гоняется за ним.
— Удивительно, что Стенсона не ловили до сих пор, — сказал Джон.
— Да, это удивительно, — согласился Ридер. — Но, думаю, на этот счет тебя, сынок, может просветить твой друг Найт.
— В каком смысле? — не понял Джон.
— В том смысле, что за Стенсоном стоит кто-то весьма могущественный.
— Не думаю, — сказал Джон. — Кому захочется рисковать своим положением ради обыкновенного бандита?
— Я, сынок, проработал полицейским долгие годы и, как ты понимаешь, всего навидался. Люди всегда остаются людьми. Хорошие — хорошими, а плохие — плохими, какие бы высокие посты они ни занимали. Мы арестовывали миллионеров, попавшихся на краже зонтика или коробки сигар. Мы арестовывали политиков за содержание борделей… Джон, всех плохих людей мы не арестовали.
Обоз отправлялся рано утром.
Весь поселок вышел провожать Джона и полицейский отряд. Люди празднично оделись, на лицах были улыбки и слезы. Джон еще раз попрощался со всеми, обещал, что когда-нибудь обязательно вернется…
Обоз тронулся.
Вот они проехали последний дом, вот вошли в узкое ущелье, вот и будка стражников.
Джон соскочил с саней, потому что увидел возле будки Мэри.
Он подбежал к ней и остановился в нерешительности. Обнять ее? Просто пожать руку? Или сказать — прощай, Мэри?
Она вдруг наклонилась, взяла его за руку, сдернула меховую рукавицу и прикоснулась губами к его запястью.
— Что ты! — испугался Джон. — Ты что, Мэри?!
Мэри подняла на него полные счастливых слез глаза и прошептала:
— У меня будет ребенок.
Мать и сын
Первые дни сын и мать не могли отойти друг от друга. Джон получил в редакции неделю отпуска, поэтому все свободное время проводил с матерью.
Она переселилась в его дом, который показался ей слишком шикарным для простого репортера, но Джон пояснил происхождение дома и познакомил Скарлетт со стариком Джоном.
Оказалось, что Скарлетт Джона помнит. Тот, конечно, был помоложе, но не узнать его Скарлетт не могла. Ведь это она гналась за ним целых двадцать миль.
— Да, за все в мире надо платить, — закончил воспоминания своей любимой присказкой старик. — Наконец вы меня догнали.
Конечно, Скарлетт очень хорошо приняла Найта. Тот понравился ей, хотя она не разделяла безумные восторги сына.
— Да что ты, мама! Он чудесный человек!
— Я не спорю, Джон, он очень приятный, — мягко поправляла сына мать.
Джон старался показать ей все достопримечательности Нью-Йорка, все театры, выставки и музеи. Он забывал, что у матери уже не так много сил, как у него, и удивлялся, что она отказывалась, скажем, после музея идти в кабаре.
— Тебе неинтересно? — спрашивал он.
— Нет, сынок, я просто устала.
Найт выслушал рассказ Скарлетт о ее проблемах и на следующий же день подключил к делу всех своих информаторов.
— Я что-то слышал об этом краем уха, — сказал он. — Думал, так, сплетни. Оказывается, дело серьезное.
Он полностью согласился с догадками Доста о том, что за Кларком стоит какой-то правительственный чин, узнавший о государственном проекте раньше других и решивший нагреть на этом руки.
— Если мы найдем что-нибудь, — сказал он, — я хотел бы иметь эксклюзивное право на этот материал. Это может быть сенсацией!
— Сначала давай добьем историю Лата, — напоминал ему Джон.
— Это само собой.
Газета из номера в номер печатала уже захватывающую историю двух репортеров, оказавшихся по разные стороны баррикад. Тираж газеты вырос вдвое, ровно во столько же выросли зарплаты Найта и Джона.
Скарлетт посетила всех своих друзей в Нью-Йорке и очень удивлялась, что ей внимания уделяют меньше, чем Джону.
— А я и не думала, что ты так знаменит, — слегка иронично говорила она.
— Да брось, ма, это так, суета, — скромничал Джон.
— Из этой суеты состоит жизнь, сынок, — сказала Скарлетт. — Я вот тут подумала и поговорила со стариком — а не купить ли тебе газету? — вдруг спросила она.
Эта мысль никогда не приходила Джону в голову. Он уставился на мать, не зная, что ответить.
— Ты был бы совершенно свободен, делал бы свое дело так, как считаешь нужным, — продолжала она. — Бизнес этот — стабильный, честный, даже почетный. Если тебе не хватит денег, я могла бы добавить.
— Не знаю, что и ответить, — сказал Джон. — Во-первых, я никогда не думал над этим, а во-вторых, ну какой из меня владелец газеты? Мне иногда и пиво не продают, считают, что я мальчишка.
— Ерунда. Молодость — это тот недостаток, который, к сожалению, проходит.
— Нет, мама, не хочу я покупать газету, — сказал Джон. — Во всяком случае, пока я к этому не готов.
В один из вечеров Джон повел мать в синематограф. Об этом просила его Скарлетт. Она ни разу не видела этого чуда. Впрочем, Джон и сам хотел еще раз посмотреть на то, чем предлагает ему заниматься Найт.
Все происходило в небольшом кафе на пятой авеню. Джон ни разу не был здесь, поэтому опасался, что это место может не понравиться матери.
Но кафе было милым, скромным и чистым. Публики было много, но не шумной, а вполне достойной.
Джон заказал кофе с вишневым пирогом и молочный коктейль.
Показывали три фильма. Первый назывался «Чудесные виды Парижа». Это был обыкновенный набор фотографических открыток с той только разницей, что фигурки людей на них двигались.
Второй фильм был комедией, во всяком случае, он на это претендовал. Назывался «Обворованный вор».
Какой-то немолодой человек все время бегал и все время падал. А потом его лупили, а потом он кого-то лупил. Но все кончилось хорошо, и он стал владельцем замка.
Фильмы были короткими, минут по десять каждый. Публика никак на них не реагировала, позвякивали ложечки, чашки, бокалы. Над комедией смеялся только один господин с длинными усами.
После второго фильма включился свет и было объявлено, что перерыв продлится десять минут.
— Ну вот тебе и синематограф, — сказал Джон, оборачиваясь к матери.
И вдруг увидел, что она просто потрясена. Наверное, у нее было детское желание встать и заглянуть за белое полотно, на котором только что было изображение.
— А как это делается? — по-детски спросила она.
— Движущееся фото, — пояснил Джон, который и сам толком не знал, как это делается.
— И там никого нет? — все-таки выказала она свое затаенное желание, показывая на экран.
— Нет, ма, там — никого. Это все вон из того аппарата, — показал Джон в другую сторону на проекционный аппарат.
— Джон, а завтра они будут показывать? — спросила Скарлетт.
— Ты хочешь пойти еще раз?
— Да, конечно. Мы не будем больше тратить вечера на всех этих кузин, троюродных тетушек и внучатых племянников. Мы, Джон, будем ходить в кинематограф.
— Синематограф, — поправил Джон.
— Вот-вот, именно!
Но самое удивительное случилось, когда начался третий фильм, который назывался «Разбитое сердце». По жанру это была мелодрама. Некая бедная, но очень красивая девушка безответно влюблялась в красавца лорда. Зная, что она бедна, девушка ужасно горевала, а лорд вел веселую жизнь и на девушку внимания не обращал. Лорды не обращают внимания на бедных девушек. Но девушка была еще старательна и трудолюбива. За это хозяйка отвалила ей все свое приданое. Теперь уже лорд стал ухаживать за девушкой, но она отвергала его, памятуя о недавней холодности красавца.
Все заканчивалось хорошо. Лорд и девушка целовались на фоне замка, взятого, наверно, на прокат из предыдущего фильма.
— Не смотри на меня, — сказала Скарлетт, когда зажегся свет. — Я плачу.
— Что случилось, ма? — испугался Джон.
— Нет-нет, ничего… Это удивительный фильм… Все, как у нас с Реттом, — сказала Скарлетт.
Джон не верил своим ушам. Его мать, которая язвительно высмеивала и куда более правдивые и талантливые романы, плакала над этой подделкой.
Но самое удивительное, что она не одна плакала в зале кафе. У многих женщин и даже мужчин в руках мелькали платки.
«Я, наверное, ничего не понимаю в людях и в искусстве, — подумал потрясенный Джон. — Неужели они не видят, что все это ненастоящее, картонное, плохо разыгранное. Ведь это можно сделать куда лучше! Тоньше, душевнее, красивее! Скажем, то место, где они встречаются после долгой разлуки. Она должна быть вся в черном, а он со скромным букетом в руках. Людный перрон. Они не могут пробиться через толпу и просто стоят, глядя друг на друга. Они разговаривают глазами… Стоп! Что это я? О какой ерунде думаю!»
Домой шли пешком, потому что у Скарлетт была охота прогуляться. Она мурлыкала под нос какую-то мелодию, которая была, очевидно, популярна в ее молодости. Улыбка меланхолии блуждала на ее все еще прекрасном лице.
— А у тебя есть девушка? — спросила она.
— Есть, — сказал Джон.
— Ты должен меня обязательно с ней познакомить.
— Конечно, мама, обязательно. Только сначала мне надо ее найти.
— Найти?
— Да…
И Джон рассказал матери всю историю своей любви вплоть до того дня, когда он, уезжая на Аляску, не нанял частного сыщика для розыска Марии.
— Вчера этот джентльмен сообщил мне, что семья Марии уехала в Италию.
— Как грустно… Ты обязательно должен разыскать ее.
— Конечно. Как только чуть-чуть освобожусь, съезжу к ней на родину и заберу ее сюда. Вот тогда вы и познакомитесь.
С этого вечера походы в синематограф стали регулярными.
А с утра Джон и Найт запирались вдвоем в кабинете и писали очередную статью о своих похождениях на Аляске. Работали они весело, легко, нужные слова находились словно сами собой, статья была готова уже через полтора часа, но Джон и Найт не спешили покинуть уютный кабинет. Они рассаживались по мягким кожаным креслам и увлеченно беседовали обо всем — о политике, о моде, о войне, об автомобилях, а как-то даже стали спорить о том, ходят ли по улицам русских городов медведи.
Но в тот день разговор принял совершенно неожиданный оборот. Они как раз завершали серию и подходили к самым последним дням в Лате.
Страшный бой описывали оба. И оказалось, что впечатления обоих были одинаковы — безумие, кровь, ужас, смерть.
— Знаешь, мне не нравится конец этой истории, — сказал вдруг Джон.
— Почему? Тебе хотелось бы, чтобы нас убили? Мы же не сочиняем, мы излагаем факты.
— Дело не в этом. Вот послушай, мы ведь с тобой пишем документальную историю, а получается, как ни верти, авантюрный роман со счастливым концом — справедливость восторжествовала, все счастливы, восходит солнце.
— Но так было, — сказал Найт.
— Это-то меня и пугает. Что-то в этой истории недоговорено. Что-то укрылось от нас или мы не сказали всей правды.
— Ты хочешь сказать, что в жизни не бывает счастливых концов?
— В жизни все бывает. Я говорю о нашей истории.
Найт поднялся со своего кресла и прошелся по кабинету. Остановился у книжного шкафа, разглядывая корешки книг.
Джон снова склонился над пишущей машинкой.
— Помнишь, когда убили Янга? — сказал вдруг Найт. — Я сказал тогда, что…
— …здесь такой запашок, что свалит с ног любого злодея, — продолжил Джон. — Я дословно запомнил. Но почему ты сейчас?..
— Потому что я был прав тогда, Бат. А ты прав сейчас.
Найт говорил, стоя спиной к Джону, тихо и очень внятно.
— Янг и Лат? Какая связь?
— Договоримся так, — повернулся Найт, — все, что я скажу, останется между нами. Никаких имен, никаких подробностей. Согласен?
— Нет. Я не согласен. Если ты мой друг, я должен знать то же, что и ты.
— Именно потому, что ты мой друг.
— Найт, что за девичьи секретики? Что за туман? — разозлился Джон. — Честное слово, это какой-то дурной вкус!
— Тогда забудь, — сказал Найт. — Тогда пишем счастливый конец.
— Тогда я вообще ничего писать не буду! — вскочил Джон.
— Значит, я сам допишу!
— Ты сам допишешь?!
— Да, сам!
Они с ненавистью смотрели друг другу прямо в глаза.
— Ты понимаешь, что это конец, Найт? Ты понимаешь, что я больше не захочу с тобой иметь никаких дел? — спросил Джон.
— Понимаю, успокойся. Не надувай щеки, — ответил Найт.
— Хорошо, тогда дописывай статью и…
— Я уберусь, уберусь, не беспокойся, — улыбнулся Найт. — Могу, впрочем, здесь и не дописывать.
Он выдернул из машинки лист, собрал остальные, аккуратно сложил их в папку и направился к двери.
Джон был потрясен. Он был раздавлен, уничтожен. Он был убит. Он молил Бога, чтобы все это оказалось дурным сном, глупой шуткой. Ну, конечно, сейчас Найт остановится, улыбнется и скажет: «Здорово я тебя надул, Бат?»
Но Найт не обернулся. Он вышел из кабинета и аккуратно прикрыл за собой дверь.
Через два дня позвонил Билтмор. Он пригласил Джона к себе, зная, что тот собрался уезжать в Европу.
— Европа, как болото, она затягивает человека без следа, — сказал Билтмор.
— К сожалению, я не смогу принять вашего предложения, сэр. Ко мне приехала мать. Я не могу оставлять ее надолго.
— Ну и не надо. Я с удовольствием познакомлюсь с вашей матушкой, если она, конечно, согласится посетить мой дом.
— Билтмор… Билтмор… — задумалась Скарлетт, когда Джон сообщил ей о приглашении. — А! Некий джентльмен помог мне добраться с вокзала до гостиницы. Его тоже звали Билтмор. Может быть, это один человек?
— Может быть. Так что мне ответить ему?..
У Билтмора была небольшая вечеринка. Три-четыре пары седых джентльменов с дамами расхаживали по дому и тихо переговаривались между собой. Здесь же была и Эйприл. Увидев Джона, она вся как-то напряглась, но потом взяла себя в руки и была милой и приветливой.
— А я знаком уже с вашей матушкой, — сказал Билтмор, встречая Джона и Скарлетт.
— Да-да, — улыбнулась Скарлетт. — Вы тот самый ангел-хранитель.
— Ну, какой я ангел? — улыбнулся Билтмор. — Я скорее змий-искуситель.
Джон снова был в центре внимания.
Пожилые джентльмены оказались довольно высокими правительственными чиновниками, был среди них и еще один конгрессмен.
— Действенная часть вашего пребывания на Аляске нам более или менее известна. Мы с удовольствием читаем ваши репортажи, — сказал один из присутствующих. — Конечно, живой рассказ куда богаче газетных строк. Но не могли бы вы, мистер Батлер, рассказать вот о чем — существуют ли на Аляске перспективы больших правительственных программ? Я имею в виду природные условия, людские ресурсы, настроения жителей.
— Да-да, нас очень интересует этот вопрос, — сказал другой джентльмен, который и был конгрессменом.
— Я не специалист… — начал Джон.
— И слава Богу! — сказал Билтмор.
— …я обыкновенный путешественник. Наверное, на эти вопросы трудно ответить, побывав на Аляске всего один раз. Но я уверен почему-то, что земля эта имеет большое будущее. Я скорее сужу по настроению людей. Наверное, в них возродился дух наших предков, которые покоряли обширные земли Америки. Дух первооткрывателей. Только более цивилизованный.
— И люди поедут туда?
— Люди не хотят оттуда уезжать, это я знаю точно. А природные условия — что ж, в России, я знаю, природные условия не менее суровы. А это богатейшая страна.
— Да-а, — задумчиво протянул конгрессмен. — Значит, можно во второй раз открыть Америку?
— Можно, — улыбнулся Джон. — Только знаете, что я хотел сказать в первую очередь? Не надо открывать Аляску.
— То есть? — не понял конгрессмен. — Вы не советуете?
— Нет, я прошу.
— Интересно, — сказал Билтмор.
— Мне страшно становится, когда я представляю, как в этом диком, прекрасном, нетронутом краю с чистым снегом и бескрайними лесами появятся дороги, задымят фабрики и заводы, загрохочут поезда, завизжат пилы… Вы знаете, что снятый верхний слой почвы восстанавливается там только через двести лет. То есть двести лет не будет травы, цветов, деревьев — голая мерзлая земля.
— Боже, как же мы будем жить без бабочек? — услышал вдруг Джон язвительный голос за спиной.
Он обернулся — в дверном проеме стоял молодой Янг.
И снова Джона резануло — где же он видел его?
— Простите, леди и джентльмены, добрый вечер, извините за опоздание. Простите меня и вы, мистер Батлер, но я не могу с вами согласиться при всем моем огромном к вам уважении.
Янг вошел в комнату и присел на свободный стул.
— Вы говорите — двести лет. Но человек живет сегодня. Ему сегодня надо есть, пить, одеваться, готовить пищу, читать, в конце концов. Да что там! Это то же самое, что положить рядом с голодным красиво испеченную сладкую булку и сказать ему — не трогай, она слишком хороша, а ты обкусаешь ее края, ты ее вообще уничтожишь! Пусть она останется такой, как есть.
Собравшиеся улыбнулись остроумному сравнению.
— Это верно, — сказал Джон, — голодный съест все. Я знаю, кое-где едят и людей. Но я о другом. Если вы даже обыкновенный кусок черствого хлеба положите перед матерью, она не станет его есть — она оставит детям.
— Да, — вдруг вступила в разговор Скарлетт. — Как мать, я не могу не согласиться с Джоном. Чаще, джентльмены, советуйтесь с матерями.
Потом всех пригласили к столу. Так получилось, что Джон оказался рядом с Эйприл и Янгом. Почти все время они молчали, потому что все внимание за столом собрал Билтмор. Он очень смешно рассказывал о привычках президента, о его небольших слабостях и как некоторые чиновники-подхалимы стали этим слабостям подражать.
— Я слышала, вы уезжаете в Европу? — спросила Эйприл.
— Да.
— Скоро?
— Через неделю, — сказал Джон, хотя такого точного срока для себя не устанавливал.
— И куда?
— В Италию. Потом, скорее всего, во Францию.
— По делам? Я имею в виду — по делам газеты?
— Нет. По своим.
— А как же газета?
— Я ушел оттуда.
— Досадно.
— Действительно, досадно, — вступил в разговор Янг. — Мне нравились ваши статьи, хотя и не все.
— Благодарю вас.
— Это я должен вас благодарить. Знаете, вы настоящий полемист. Сегодня вы преподали мне замечательный урок риторики.
— Это была не риторика, — сказал Джон. — Я действительно так думаю.
Джон вдруг потерял интерес к Эйприл и Янгу, потому что увидел, как Скарлетт, которая сидела рядом с Билтмором, о чем-то оживленно с ним разговаривает.
В этом не было бы ничего удивительного, если бы Джон не заметил в глазах, жестах, улыбке матери что-то такое, что появлялось в ней, когда она говорила с отцом.
Услышать, о чем они разговаривают, было невозможно, потому что все за столом говорили. Джона удивило это наблюдение. Удивило и слегка задело. Ведь это касалось памяти об отце.
На весь оставшийся вечер настроение у него было испорчено. А Скарлетт, наоборот, чувствовала себя прекрасно — это было видно. Джон просто не хотел замечать, но мать его словно помолодела лет на тридцать. Она весело и от души смеялась, изящным жестом, чуть кокетливо поправляла выбившуюся прядь волос, внимательно слушала Билтмора, особенным образом прищурив глаза, от чего лицо ее приобретало загадочность.
Когда они вернулись домой, Джон спросил:
— О чем это вы так мило беседовали с хозяином?
Реакция Скарлетт была неожиданной. Она вдруг вспыхнула вся, растерялась, натянуто улыбнулась и сказала:
— Да так, пустяки.
Когда приедет муж?
В Лондоне гастроли труппы прошли с огромным успехом. Бо только успевал принимать поздравления и восторженные похвалы. Англия, при всей ее консервативности, оказалась куда более терпимой, чем Америка. Скандалов не было, хотя и тут появлялись какие-то мрачные личности, писали на афишах спектакля угрозы, молча стояли у входа в театр с плакатами на груди.
Бо было скучно. Спектакль шел, актеры играли, зрители аплодировали. Родина Шекспира приняла «Отелло» благосклонно. Он бы, наверное, запил снова или бросил все и уехал куда глаза глядят, хоть в ту же Японию. Почему в Японию, Бо не смог бы пояснить никому, да и самому себе. Просто ему казалось, что эта закрытая от иностранцев на глухой запор, а поэтому загадочная страна — самое место для его скуки.
Но он не уезжал. Более того, он каждый вечер являлся на спектакль и сидел в театре до самого конца.
Бо все еще надеялся.
Уитни была с ним ровна и приветлива ровно настолько, чтобы посторонние ничего не заподозрили. Любая его попытка хоть как-то объясниться с ней мягко, но безоговорочно пресекалась на корню.
— Нет, Бо, это нечестно, — говорила Уитни. — Я не хочу ни о чем говорить без мужа.
Ночной скандал на улице, слава Богу, остался тайной для всех. Бо потом спрашивал себя — жалеет ли он о том, что сделал? О том ночном безумии и последовавшем тяжком похмелье. И каждый раз отвечал себе — нет. Он сделал то, что сделал. Он был бы другим человеком, если бы поступил иначе.
«Это какая-то глупость, — думал он. — Сколько раз в жизни я произносил слово «любовь» и никогда особенно не дорожил им. Где-то в глубине души я не верил в любовь. Это было для меня чем-то вроде сильного влечения. Да, если на нем замкнуться, оно даже может свести с ума. Но как же быстро «любовь» переходит в дружбу, стоит удовлетворить свое влечение. Может быть, и сейчас это нечто подобное? Тем желаннее цель, чем труднее ее достичь? Запретный плод сладок?.. Неужели я вляпался в такую банальность? Нет. Это, конечно, не любовь. Это обыкновенное влечение, но разогретое до высокой температуры. Стоило бы мне один раз переспать с Уитни, все быстро кончилось бы. Но вся беда в том, что это невозможно».
— Хорошо, — сказал Бо Уитни. — Пусть приезжает твой муж. Мне надо с тобой поговорить.
— Не думаю, что это возможно, — сказала Уитни.
— Я оплачу ему дорогу.
— Перестань, Бо, противно тебя слушать. Сол не мелочен, ты же знаешь.
— Да, прости, я сказал глупость. Но мне надо с тобой поговорить.
— Хорошо, я дам ему телеграмму, — сказала Уитни.
— Абсурд! — захохотал Бо. — Я буду ждать твоего мужа, чтобы поговорить с тобой.
Но гастроли в Англии закончились, а муж Уитни так и не приехал.
Труппа переезжала во Францию.
До начала спектаклей в Париже оставалось три дня. Бо объявил эти дни выходными. Актеры устали, надо было дать им передохнуть.
Но на следующий же день Бо пожалел о своей заботливости. От безделия он сходил с ума. От безделия и от мыслей об Уитни.
«Давай-ка, старик, сделаем вот что, — сказал он сам себе, — попробуем трезво взглянуть на предмет нашей страсти. Определить, что нам в нем нравится, а что оставляет желать лучшего. Подвергнем сомнению достоинства, и, может быть, это поможет нам избавиться от иллюзий. Согласен? Согласен».
Как истинный режиссер, Бо и с собой разговаривал в виде диалога.
«— Итак, приступим. Что в плюсе?
— В плюсе… Подожди, а что, собственно, в плюсе? Ну, стройная, ну, милое лицо, ну, большие глаза… Да, руки тонкие, длинные пальцы…
— Волосы…
— Ну, волосы, скажем, у всех женщин нормальные. Ладно, оставим волосы. Что еще?
— Погоди, а кроме внешнего? Характер там, я не знаю, таланты, а?
— Талант есть. Она талантлива здорово. А вот характер — не знаю… Понимаешь, я просто не знаю ее характера.
— Ты знаешь. У нее твердый характер.
— Пусть твердый, но тогда это в минус. Я терпеть не могу твердые характеры. Люблю слабых и мягкотелых. Они не бывают фанатиками.
— Да, но они не бывают и предателями.
— Верно, согласимся, что характер должен быть тверд в меру.
— У нее — в меру?
— Ты что?! Это просто скала! Нет-нет, характер в минус.
— Ну что, больше плюсов нет?
— Нет.
— Хорошо. Разберем те, что наскребли…
— С трудом наскребли, заметь.
— Значит, стройная.
— Пожалуй, этот плюс весьма сомнителен. Мало ли стройных женщин? Честно говоря, есть и постройнее.
— Ладно, этот плюс не в счет. Милое лицо…
— Лицо действительно милое. Но не более. Довольно-таки простенькое лицо, прямо скажем — не красавица. И даже, знаешь, эта ее манерка покусывать губу делает ее весьма непривлекательной. Знаешь, будем честны — этот плюс тоже не в счет.
— Отлично. Но глаза большие?
— Несоразмерно большие. Какие-то даже выпученные! Нет, про глаза это я сгоряча сказал.
— Ну, тогда что у нас осталось? Руки и пальцы. Тонкие, изящные пальцы…
— Как у пианистки или у карманного вора. Что мне эти руки?! Воровать ее не пошлешь! А на пианино она играет плохо. Тоже мне плюс — руки!
— Еще волосы…
— Не смеши меня! Когда женщине не за что делать комплимент, всегда говорят — какие у вас волосы! Я почти не встречал лысых женщин. Ты встречал?
— Да, волосы — не плюс. И, собственно, плюсов не осталось. Кроме таланта.
— Это профессиональное. У Чака талант не меньше, мне что, на нем жениться? Подумаешь, талант. Я сам талантлив до чертиков! А два талантливых человека в одной семье — это ад!
— Без сомнения. Ну вот. Надо только трезво взглянуть на предмет своей страсти, и он сразу же превращается в заурядного человека без особых достоинств.
— Все верно. Только…
— Что, остался какой-то неучтенный плюсик?
— Да, один остался.
— Какой?! Мы что-то не заметили?
— Так, один малюсенький.
— Какой?! Какой?!
— Я люблю ее. И жить без нее не могу».
Уитни сама подошла к Бо и сказала:
— Ты не мог бы сегодня поужинать со мной?
— Муж приехал?! — обрадовался Бо.
— Нет. Сол не приехал. Но я хочу поужинать с тобой.
До вечера Бо не ходил, а просто летал на крыльях. Он отдал свой смокинг в чистку и глажку, он купил новые штиблеты в самом шикарном обувном магазине Парижа. Он подстригся, чего делать вообще не любил, ну и, естественно, выбрился до синевы.
Столик он заказал в «Мулен Руж» и, подумав, у «Максима».
Он хотел даже приобрести автомобиль, чтобы проехаться по Парижу с шиком. Но потом передумал — ведь он не умел водить.
Уитни, увидев сверкающего шефа, немного смутилась.
— Я думала, мы сходим в какой-нибудь уютный, тихий кабачок и поговорим.
— Нет. Мы поговорим, но в другом месте. Выбирай, — и Бо протянул ей карточки двух ресторанов.
— «Мулен Руж» слишком соблазнительно, — сказала Уитни. — Именно поэтому мы туда не пойдем.
— Мы никуда не пойдем! — сказал Бо. — Мы поедем!
Автомобиль с шофером уже около часа ожидал их.
Уитни попросила разрешения ехать рядом с водителем. И Бо всю дорогу до ресторана любовался ее тонкой изящной шеей, ее великолепной пышной прической, ее нервными руками. Уитни, словно ребенок, вертела головой, о чем-то все время спрашивала усатого шофера, который на все вопросы отвечал:
— Уи, мадам.
До ресторана от гостиницы было рукой подать — две минуты спокойной ходьбы. А они уже ехали минут двадцать. Уитни оставалась в неведении, что Бо договорился с водителем и тот повез их не по прямой, а в объезд, так, чтобы увидеть вечерний Париж во всем великолепии. Елисейские поля, Триумфальная арка, Нотр Дам, площадь Согласия, Эйфелева башня, это чудо девятнадцатого века, Монмартр, набережные…
— Боюсь, что, когда мы осмотрим весь Париж, наступит утро, — сказала Уитни.
Бо смутился. Его невинный обман был раскрыт.
Столик в ресторане обслуживался сразу четырьмя официантами. Все делалось быстро и бесшумно.
— Спасибо тебе за экскурсию, — сказала Уитни. — Это было здорово.
Они выпили «Клико» семилетней выдержки и отведали оленьего паштета.
— Знаешь, Бо, если мы будем только есть, мы не сможем поговорить, — сказала Уитни.
— Значит, придется прийти сюда еще раз.
— Я не дождусь другого раза, — сказала Уитни. — Я и этого с трудом дождалась.
— Ты могла поговорить со мной в любое время.
— Я ждала Сола.
— Но его же все равно нет, — заметил Бо.
— Теперь это не имеет значения, — сказала Уитни.
— Что-то случилось? — спросил Бо, чувствуя, что у него мигом пересохло во рту.
— Нет. Все, слава Богу, в порядке.
— Тогда почему же ты решилась?
— Потому что я люблю тебя, — просто сказала Уитни. — Я ведь тогда сказала правду.
— Знаешь, Уитни, я себя чувствую полным дураком. Я совершенно не управляю ситуацией. Кто-то за меня решает мою судьбу, а я так не привык.
— Нет, Бо, я решаю свою судьбу.
— Ведь это я все время просил тебя о встрече. Это мне надо столько сказать тебе!
— Да, я знаю.
— Но теперь все перевернулось вверх тормашками. Теперь я, как джентльмен, должен выслушать тебя. Ведь это твоя инициатива — вместе поужинать.
— Да.
— Так что тебя заботит, Уитни?
— Знаешь, Бо, я не верю в любовь. То есть я допускаю, что где-то когда-то у кого-то она и была. Не могут же все подряд писатели и поэты лгать. Но мне кажется, то, что мы называем любовью, — просто очень сильное влечение.
«С этой женщиной действительно сойдешь с ума! — подумал Бо. — Она читает мои мысли».
— И чем недоступнее предмет любви, тем сильнее влечение.
— Знаешь, Уитни, ты мне говоришь то, в чем я сам убежден. Поэтому давай сразу же перейдем к выводам.
— Вывод простой. Любовь моментально заканчивается, как только страсть удовлетворена.
— Абсолютно мои мысли.
— Правда, ты тоже так думаешь?
— Да, но что толку?
— Как что? Нам надо просто избавиться от любви. Нам надо переспать друг с другом.
У Бо упало сердце.
— И ты?.. — еле выговорил он.
— Да, я хочу этого. Потому что больше не могу с этим жить. Знаешь, Бо, ведь я чувствую, что схожу по тебе с ума. Представляешь, я ведь не сплю ночами. Я встаю с мыслями о тебе, ложусь, весь день хожу как сомнамбула. Правда, Бо, я схожу с ума.
Уитни говорила это ровным, чуть усталым голосом, говорила как-то печально и безысходно.
— Я хочу от этого избавиться. Я больше не выдержу. Знаешь, Бо, скольких сил мне стоит просто не расплакаться из-за пустяка… И я плачу, когда не видит никто. Я сама себя ругаю, ненавижу свою слабость… Я пытаюсь трезво оценить все твои достоинства и недостатки — ведь ты не ангел, Бо, я это знаю, но у меня ничего не получается.
— Прекрати, — сказал Бо. — Потому что я сам сейчас расплачусь.
— Ты тоже?
— Как две капли воды… Грустно все это.
— Что грустно, Бо?
— Ставить ловушки любви. Душить ее в объятьях. Заласкивать ее до смерти.
— У нас нет другого выхода.
— У нас есть другой выход, — сказал Бо. — Правда.
— В чем она, эта правда?
— В том, Уитни, чтобы не лгать хотя бы самим себе. Неужели ты всерьез думаешь, что мы сможем избавиться от любви или как ее там назвать таким вот образом? Нет, Уитни, мы можем ее обмануть на какое-то время, но она вернется. Даже если это простое влечение — короткие встречи не удовлетворят его. Но даже не это самое страшное. Мы можем испачкать нашу любовь. Я никогда себе этого не прощу. Нет, Уитни, это не выход. Это тупик.
— Значит, тебе совершенно не жаль меня? Значит, ты хочешь, чтобы я сошла с ума?
— Ерунда, Уитни, ты же знаешь. Я хочу только, чтобы ты перестала себе лгать.
— Но я не лгу!
— Это все ложь, Уитни, он начала до конца — ложь! «Я люблю тебя, Бо, но останусь с Солом, потому что он нуждается в поддержке!» — передразнил он Уитни. — Это ложь, Уитни. Нет, не то, что Сол нуждается в поддержке. А просто нельзя жить с человеком ради идеи. Понимаешь, с человеком можно жить только ради любви. Или хотя бы ради влечения. А ты залюбовалась собственным благородством! Ты так гордишься собой — ну в самом деле — такая самоотверженность! Ложь, Уитни! Красивая ложь! Я уж не говорю о себе, но каково Солу? Я бы убил человека, который живет со мной рядом из одной жалости! И еще громогласно заявляет об этом. Я бы чувствовал себя постоянно униженным. Что, Сол слепой, безрукий-безногий? Он крепкий парень, Уитни. Мне бы такую крепость! А ты ему предлагаешь снисхождение!
— Бо, но это не так.
— Не перебивай меня! — стукнул Бо кулаком по столу. — Я и сам хорош! На какое-то время тебе удалось обмануть и меня. Боже мой, подумал я, какой подвиг! Какая героиня! Но все это хорошо в душещипательных пьесах, а не в жизни. Знаешь, Уитни, а ведь была секунда, когда я чуть было не сказал тебе — давай! Ура! Замордуем нашу любовь! Я еще больший негодяй, Уитни, потому что я сильнее тебя, а готов был принять этот суррогат. Ты прости меня за это, если сможешь. Но я не собираюсь спать с тобой. Все!
Бо замолчал и тяжело оперся о стол.
Уитни смотрела на него широко открытыми глазами. Теперь они были просто огромными.
— Да принесут нам, в конце концов, профитроли?! — весело закричал вдруг Бо. — И это хваленый французский сервис!
— Сию секунду, месье, — подлетел метрдотель. — Вы были так увлечены беседой, что мы посчитали невозможным и бестактным прерывать…
— Все, беседы закончены! Я хочу есть! — засмеялся Бо.
— Тебе весело? — удивленно спросила Уитни.
— Да, мне весело! Мне легко, свободно и весело — я выпутался из лжи.
— А что делать мне?
— Решай это сама. Три вещи человек делает всегда в одиночку — рождается, умирает и выбирает.
— Еще молится, — добавила Уитни.
Последние тайны Америки
Билет был взят, багаж собран, оставалось ждать завтрашнего дня.
Джон не назначал на этот день никаких дел. Он установил для себя заранее, что в этот день попытается вспомнить еще раз все, что он оставляет в Америке. Будет просто сидеть в кабинете, смотреть в окно и думать. А подумать ему есть о чем. Он переворачивает страницу жизни, он прикасается к чистому листу… Нет, он не собирается оборвать сюжет и начать новый. Просто входят новые герои, появляются новые города, а значит, и новые сюжеты.
Что-то Джон обязательно оставит здесь. Оставит дорогое и близкое, чтобы потом вернуться. Но оставит и дурное, недоброе, чтобы забыть навсегда.
Так он переворачивал страницу, когда бежал по ночному полю к станции. За это время он повзрослел, стал немного умнее, стал немного добрее, но не стал спокойнее, терпеливее.
Джон вспомнил поезд. Старика, с которым ехал. Теперь тот сможет купить себе целый вагон или весь состав. Вспомнил, как они голодали и испытывали жажду. Кажется, что это было так давно.
Вспомнил ту страшную ночь, когда они стали свидетелями суда Линча. Городок Толл и станция Шорт. Джон никогда не забудет эти названия.
«А потом я приехал сюда. Как неприятно поразили меня пригороды Нью-Йорка. А потом… Постой-ка, о чем я думал только что? Пригороды Нью-Йорка, склады… Нет, раньше. Как мы ехали… Да. Где-то там…»
Джон вдруг даже привстал с кресла. Он вдруг отчетливо вспомнил, где он видел молодого Янга.
— Нет, это ерунда, — сказал он вслух и снова сел. — Этого не может быть…
Действительно, это не поддавалось никакой логике. Но Джон не мог сам себя переубедить — заправлял на суде Линча не кто иной, как Янг. Это в его руках блестела кривая сабля.
«Боже мой! Да ведь это он рубил головы! — только сейчас догадался Джон. — Я ничего не понимаю».
От волнения Джон снова вскочил и заметался по комнате. Нет-нет, он мог, конечно, ошибиться. Все-таки это было далеко. Ночь. Горящий крест… Да и что делать холеному сынку конгрессмена в этой глуши?
Но Джон не мог переубедить себя. Он точно знал — головы двум женщинам отрубил Янг.
«Так, спокойно, спокойно… Надо все проверить. Где-то у меня была газета с его фотографией».
Джон бросился к шкафу с подшивками. Газета никуда не пропала. А что теперь?
А теперь срочно звонить старику.
— Алло! Джон, это я. Ты можешь приехать ко мне сейчас же?
— Конечно, хозяин, — ответил старик. — Буду через полчаса.
Пока старик ехал, Джон позвонил в редакцию Хьюго Рескину.
— Джон, старина, если ты мне сейчас скажешь, что решил вернуться в газету, я просто умру от счастья! — закричал тот радостно.
— Живи спокойно, — сказал Джон. — Мы же договорились — я буду твоим европейским корреспондентом.
— Да у нас и тут есть о чем писать!
— Вот поэтому я и звоню. Слушай, очень сложно узнать, что делал прошлым летом молодой Янг?
Редактор на какое-то время задумался.
— Вообще-то несложно. Только надо связаться с отделом светской хроники.
— Пожалуйста, Хьюго, узнай.
— Да я просто попрошу Райса, он посмотрит и позвонит тебе. Ладно?
— Договорились.
— Что-то интересное, Джон?
— Да.
— Ну так намекни.
— А не ты ли учил нас не давать непроверенную информацию?
— Я, — вздохнул редактор. — Но проверенная будет моей?
— Без сомнения.
Старик приехал ровно через полчаса.
— Но только ты мне не говори, что мы закрываем дело, а все деньги раздаем нищим, — сказал он, входя.
— На наши деньги нищие не очень-то попируют, — успокоил его Джон. — У меня совсем другой разговор. Ты никогда не видел этого человека?
Старик внимательно посмотрел на фотографию, пожевал губами, почесал в затылке и сказал:
— Видел.
— На той станции? — спросил Джон.
— Да. Я его очень хорошо видел. Ты знаешь, что это он?…
— Да, я догадался, — сказал Джон. — Саблей?
— Она, видно, была ужасно тупая. Женщины долго кричали.
— Ну вот и все, — Джон опустился в кресло и закинул назад голову. — Надо позвонить в пароходную компанию и аннулировать билет.
— Ты передумал ехать?
— Я поеду позже, когда этот негодяй окажется за решеткой.
— Наверное, это произойдет не скоро, — осторожно сказал старик.
— Нет, Это произойдет очень быстро. Нас двое свидетелей, этого достаточно. Сейчас еще позвонят из газеты, и мы отправимся в полицию.
— Джон, только ты выслушай меня внимательно и не кричи, — немного замявшись, начал старик. — Я никуда не пойду.
— Ты до сих пор боишься полицейских?
— Нет. Я не стану заявлять на молодого Янга. Прости, Джон.
— Как это?
— Да, Джон, я не буду на него заявлять.
— Но одного свидетеля мало. Я один ничего не смогу сделать.
— А ты и не делай. Не надо звонить в компанию. Садись на корабль и плыви в Европу.
— Подожди-подожди, что ты говоришь, старик? Этот человек — грязный убийца. Это мразь. Подонок.
— Еще какой, — согласился старик.
— Так в чем же дело?
— Дело в том, Джон, что я хочу остаток своих лет прожить спокойно.
— Да он ничего не сделает тебе. Его повесят! Ты же сам говорил, что Америка такая страна, где возмездие и награда приходят при жизни.
— Его не повесят. Его даже не арестуют, Джон. Арестуют нас с тобой за клевету.
— Не может быть. Что ты несешь?
— Хочешь проверить? Я — не хочу.
— Джон, я не верю своим ушам. Ты выгораживаешь Янга?!
— Да никого я не выгораживаю! Я хочу жить! Тебя-то еще, может, спасут твои покровители. А у меня их нет! Я только что выкарабкался из помойной ямы, Джон. Я не хочу снова оказаться на самом дне, да еще засыпанном сверху землей!
— Ты и сам не понимаешь, что ты несешь!
— Нет, сынок, я все очень хорошо…
— Не смей называть меня сынком! Я бы повесился, если бы у меня был такой отец!
— Прости меня, Джон, я…
В этот момент зазвонил телефон.
— Да, алло! Райс? Да, слушаю тебя… Да-да, про молодого Янга. Где он был и чем занимался прошлым летом?.. В Нью-Йорке?.. Все время?.. Этого не может быть, Райс! Твои ребята плохо работают… И что, они могут это подтвердить под присягой?.. Понятно… Понятно… Ладно, Райс. Спасибо за дезинформацию.
Джон повесил трубку.
— Ну что, сынок, я не один такой? — спросил старик.
— Убирайся во-он!! — закричал Джон.
Старик поспешно ретировался, пожелав Джону счастливого пути.
На крик вышла Скарлетт.
— Что случилось, Джон?
— Многое случилось. Да, ты права была, мама, нельзя восторгаться людьми. Надо все время держать ухо востро. И Найт оказался далеко не паинькой. А теперь вот старик…
— Чем же обидел тебя старик?
— Ма, вот скажи, если кто-то знает о тяжком преступлении, он должен обратиться в полицию?
— Слишком простой вопрос. Дальше.
— А если он знает того, кто совершил преступление?
— Дальше.
— Что дальше?! Никакого дальше — старик отказался.
— Почему?
— Не знаю! Боится, наверное.
— А преступник кто, президент Америки?
— Во-о-от! — сказал Джон. — И тебя этот вопрос интересует, да? Преступник — это преступник.
— Ясно, тебе попалась рыба, которую ты не в силах вытащить.
— Мама, ты иногда бываешь такой циничной! А тебя ест не такая же рыба? На твою землю претендует не президент, случайно? Отступись!
— Что сделал тот человек?
— Суд Линча. Я видел это своими глазами.
— Ты его хорошо знаешь?
— Знаком.
— Тогда пойди и убей его.
Джон от изумления раскрыл рот.
— Ты… шутишь?
— Нет. Когда-то в Америке законность устанавливалась только таким путем.
— Наверное, поэтому она до сих пор не торжествует.
— Так думают слабаки. Настоящие мужчины…
— Это, например, Билтмор? — съязвил Джон.
Скарлетт повернулась и вышла, громко хлопнув дверью.
В последние дни мать часто встречалась с этим человеком. Поначалу она находила какие-то причины — его связи, какая-то информация… Ведь именно для этого она приехала в Нью-Йорк. Но потом причины уже не назывались. «Мы с мистером Билтмором идем в ресторан… Мы с Билтмором едем на прогулку… Мы с Тимом идем в синематограф…» Джона просто бесили эти встречи. И он не упускал случая, чтобы уколоть Скарлетт. И надо сказать, его шпильки всегда достигали цели. Скарлетт смущалась или бурно возражала, она и сама чувствовала какую-то вину.
Джон не находил себе места. Надо же, все навалилось именно в этот последний день. Будь у него время, он смог бы кое-что предпринять. Нет, не со стопроцентным успехом, но хотя бы попробовать.
А теперь…
«Все, никуда я не поеду! — решил он. — Сейчас же звоню в компанию. Этот подонок получит свое».
Джон уже подошел к телефону, когда вдруг постучалась служанка и сказала:
— К вам мистер Найт. Он просил узнать, примите ли вы его?
Да, бывают в жизни дни, когда события наваливаются одно на другое, не давая толком понять, что же в конце концов происходит. Это тем более удивительно, что месяцами и даже годами до этого может не происходить ровно ничего. Видно, у Джона настал именно такой день. Америка напоследок решила вывалить кое-какие свои секреты. А может быть, она просто не хочет его отпускать.
— Да-да, конечно, пригласите, — сказал Джон.
Они не виделись с Найтом уже около месяца. Джон даже начал немного успокаиваться. Он теперь не горел таким уж желанием по каждому поводу советоваться с другом. Он заставил себя думать, что друга у него больше нет. Он не звонил Найту, не пытался разыскать его. Он старался выбросить его из головы. Надо ли говорить, что ничего из этого не получалось.
Джон еще и еще раз вспоминал их последний разговор, так внезапно перешедший в ссору и разрыв. Вспоминал все его детали и нюансы. Вспоминал даже недомолвки, паузы, взгляды и тончайшие интонации. И не мог понять, почему Найт вдруг повел себя как последняя свинья. Это было тем более удивительно, что совершенно не похоже было на Найта. Где тот момент, где те слова, где тот взгляд, который заставил вдруг Найта разыграть подлеца и циника? А то, что Найт разыграл ссору, Джон не сомневался. Иначе он должен был бы признать, что Найт — подлец, каких свет не видывал.
Потом он устал перебирать детали. И начал просто гадать. Но понапридумав около двадцати версий, от самых простых — плохое настроение, до самых фантастичных — гипноз, Джон махнул на все рукой и сказал себе: «Найт ушел из моей жизни».
Оказалось, что и в этом он ошибся.
Найт вернулся. Но зачем?
— Зачем ты пришел? — спросил Джон, не протягивая Найту руку для пожатия.
— Так разговор у нас не получится, — сказал Найт, — а я намерен поговорить с тобой.
— Разве тебе есть что сказать мне? Ты хорошо обдумал, что можно говорить, а что нет? — продолжал грубить Джон.
— Для начала, это, правда, не запланировано, я бы с удовольствием отшлепал тебя, — сказал Найт, усаживаясь в кресло.
— Серьезно? Знаешь, у меня схожее желание. Поэтому давай попробуем?
— Боюсь, что ты завтра не попадешь на корабль.
— Почему это?
— Потому что попадешь в больницу, — сказал Найт.
— Если я и попаду, то наши койки будут рядом.
— Хорошо, — сказал Найт, вставая.
Джон не успел опомниться, как Найт нанес ему точный апперкот в солнечное сплетение.
Хватая ртом воздух, Джон осел на пол.
Когда он пришел в себя, Найт смачивал его лицо водой из графина.
— Все, — сказал он. — Вставай и слушай.
— Нет! — Джон мигом оказался на ногах. — Мы еще не закончили! Теперь моя очередь. Ты ударил нечестно.
Но Найт спокойно уселся в кресло.
— Я вообще нечестный человек, — сказал он. — Но я люблю тебя, дурака. А вот это правда.
Джон, уже сжавший кулаки для драки, опустил руки.
— Ты негодяй, — сказал он.
— Да, — согласился Найт.
— Ты подонок.
— Точно.
— Ты… Ты… Найт, собака, зачем ты это сделал?
— Я уже сказал тебе тогда и могу повторить сейчас — потому что ты мой друг.
— Но другу…
— …не желают смерти, — спокойно сказал Найт.
— Какой смерти? Что это все вздумали сегодня пугать меня?
— Да? Кто еще?
— Неважно. Не уводи разговор в сторону. И помни, я тебя еще не простил.
— Я не за этим пришел. Сядь.
Джон продолжал стоять.
— Да сядешь ты, наконец?!
Джон сел.
— Ну, а теперь спрашивай.
— Расскажи мне все.
— Все не могу, у меня довольно длинная жизнь…
— Перестань, Найт, что мы играем в какие-то игры?! Ты же знаешь, почему мы поссорились!
— Я-то знаю. А ты — не уверен.
— Мы поссорились потому, Найт, что…
— Я просил тебя молчать. Я и сейчас тебя об этом прошу. Более того, я возьму с тебя страшную клятву.
— Но почему, Найт, почему?
— Это позже. Так вот, клянешься?
Джон с досадой стукнул кулаком по подлокотнику кресла.
— Ну ладно, клянусь.
— Ты очень тупой, Бат, — сказал Найт после молчания. — Только не дергайся, а выслушай. Помнишь, еще в Лате ты говорил, что за Стенсоном кто-то стоит? Сказал и забыл. Потому что тупой. А за Стенсоном действительно стоит некий мистер N. И я это знаю. А ты догадался.
— Кто?!
— Об этом дальше. Как пишет наша газета — «продолжение следует». Я же был у Стенсона. Он очень меня приветил. Он мне столько порассказал!
— Кто?!
— Продолжение следует. А теперь тебе бы хотелось узнать, как связаны Стенсон и смерть старика Янга? Старик Янг был, как это ни странно, очень порядочный человек. С мистером N они стояли на служебной лестнице плечом к плечу. И старик что-то проведал о нечистых делишках мистера N. Я не думаю, что Янг шантажировал нашего мистера. Но как-то неловко, видно, намекнул, мол, я кое-что про тебя знаю.
— Янга убили-таки?
— То-то и оно, что нет. И знаешь почему? Не успели. А все уже было готово.
— Подожди! Тебе все это рассказал Стенсон?
— Да.
— Но он, выходит, признался в совершении преступления?
— Не-ет. Наоборот. Он одевался в сверкающие латы правосудия. Я же был уверен, что Ридер — бандит, а не Стенсон. В рассказах Стенсона были совсем другие знаки — отрицательный у Ридера и Янга, положительный у Стенсона и… мистера N. Он же надеялся, что прикончит Ридера — и концы в воду.
— А ты? Тебе он не боялся рассказывать? Ты же репортер!
— Хороший вопрос. Отличный. Теперь ты немного понимаешь, почему я опасаюсь за твою жизнь?
— Значит…
— Значит, Стенсон собирался в заварухе кончить и меня. Я пал бы жертвой «негодяя» Ридера. Впрочем, ты тоже.
— Подожди, Найт. Что-то здесь не вяжется.
— Не вяжется только одно — то, что я до сих пор еще жив.
— Нет-нет… Постой… А зачем этому N такая рискованная связь?
— Хороший вопрос. Отличный, нет, Хьюго должен рыдать, провожая тебя. Или радоваться. Потому что ты тупой.
— Ему что, нужны эти несчастные меха, которые добывает Стенсон?
— Тупой! Я же говорю.
— Перестань меня обзывать! — взорвался Джон. — Если знаешь, скажи сам.
— Я тоже тупой. Я не знаю. Но, видно, дело того стоит. Ведь чего в конце концов добивался Стенсон? Согнать с этого места людей. И тогда оно становится ничьим. А вернее, мистера N. Ты, кстати, не замечал — там алмазы не валяются?
— Нет там никаких алмазов.
— Значит, дело еще более дорогое.
— Хорошо. Предположим. Но вся история с тобой… Здесь тоже что-то не вяжется. Стенсон не стал бы так рисковать.
— Я и сам об этом думаю постоянно. Но и я, как уже было сказано, тупой. Одним словом, Бат, дело вонючее.
Найт достал свою трубку и закурил.
— Я видел когда-то в Аппалачах, — сказал он скорее себе, чем Джону, — низкий туман. Густой, как полотно. И в нем не видна, нет, угадывается гигантская тень. До самого неба. Я чувствую, Бат, тень огромной горы…
— А потом? — спросил Джон завороженно.
— Что потом?
— Когда туман рассеивается?
— Гора. Просто гора. И не такая уж большая…
— Значит, надо, чтобы туман рассеялся.
— Да, смешно. Все на все похоже. И получается банальность. Да… Так кто тебя сегодня путал?
— Мой тезка, — сказал Джон.
— Нувориш? Интересно. Обещал разорить?
— Хуже. Тоже пугал смертью.
— Ну-ну, расскажи.
— Но ты мне еще не назвал имени, — напомнил Джон.
— Какого имени? — сыграл удивление Найт.
— Мистера N.
— Продолжение следует. Теперь твоя очередь.
— Ну ладно.
И Джон рассказал о своей сегодняшней догадке. О том, как она сразу же подтвердилась. О той страшной ночи. И о старике. Не забыл и про Райса из отдела светской хроники.
— Опять Янг, — сказал Найт. — Это имя уже навязло в зубах. Но какая ирония судьбы: отец порядочный, а сын скотина.
— Что мне делать, Джон? Я хочу засадить его за решетку.
— Вполне законное желание. Но я тебе посоветую то же, что и твой старик. Поезжай в Европу.
— Почему?
— Потому что тебе надо учиться. Тупой.
— Опять?
— А как же иначе? Неужели ты не понял, что молодой Янг — мелкая птичка на ветке дерева, которое растет на горе, которое пока в тумане, который должен рассеяться. Или ты хочешь разогнать его газетой?
— Неплохая мысль, — сказал Джон.
— В лучшем случае, ты махнешь два-три раза. И птичка улетит, и газета пропадет.
— Какая гадость. Ты заметил, что мы говорим обо всех этих мерзостях каким-то дурацким фатовским языком. Птичка, горка, туман!
— Потому что если мы начнем говорить серьезно, нас просто стошнит, — сказал Найт. — А теперь поднимайся. Мы идем в одно место.
— Куда?
— К Эйприл, — сказал Найт.
«Да уж, — подумал Джон, — сегодня я точно не заскучаю».
Всю дорогу Найт молчал, как ни пытался Джон выяснить, зачем это они едут туда. Зачем им Эйприл? Неужели же Найт еще на что-то надеется? Это же глупо.
Но до самого дома Билтморов Найт не проронил ни слова.
Уже когда Найт своим ключом открыл дверь, Джон вспомнил, что мать отправилась сегодня с Билтмором на какой-то светский прием. Значит, его не будет дома.
Но дальше случилось то, что заставило Джона забыть и о матери, и о Билтморе, и даже о сегодняшних сюрпризах.
Короткого взгляда на Найта хватило Джону, чтобы понять — его друг в каком-то исступлении. Найт метнулся по комнатам, раздраженно отшвыривая попадающиеся на его пути стулья, столики, портьеры… Джону стало страшно, что друг его может сейчас совершить какую-нибудь глупость…
Эйприл испуганно вскрикнула, когда Найт влетел в гостиную, и застыла с прижатой к груди рукой.
— Зачем ты пришел, Билл?! — проговорила она.
Найт схватил ее за руку и закричал:
— Почему ты это сделала, Пэри?! Почему?!
— Найт! — попытался остановить его Джон, но Найт даже не повернул к нему головы.
— Это так просто, да?! Взять и сказать — я ошиблась! Я, кажется, не люблю его!
— Найт, перестань! — снова вмешался Джон.
— Легко так и непринужденно: передай ему, Джон, что я больше не хочу его видеть! И все! И решены все проблемы!
Эйприл молча смотрела на Найта, но в глазах ее был не страх — презрение. И, видно, этот взгляд распалял Найта еще больше:
— И меня больше нет! Найт — джентльмен, Найт благородно удалится! Так вот, я не джентльмен! И я не желаю никуда удаляться! Понимаешь, Пэри, помимо тебя на свете есть еще и другие люди! Неожиданная новость, да?! Так вот, я есть и не желаю исчезать! Понимаешь ты?! Меня нельзя переставить в другое место, как тумбочку! Я стою там, где хочу стоять!
— Найт, ты…
— Замолчи, Бат! — наконец обернулся тот к Джону. — Пусть она сама говорит теперь, кто позволил ей так легко распоряжаться людьми?! Пусть она сама скажет!
— Отпусти ее, Найт. Возьми себя в руки.
Найт бросил ее руку и отступил на шаг.
Эйприл непроизвольно откинулась на спинку дивана, но тут же выпрямилась.
— Ты не ответил мне, Билл, — сказала она ровным голосом, — зачем ты пришел?
— Я?! Зачем я пришел?! А ты не поняла?!
Найт снова навис над ней.
— Нет, я не поняла. Ты хочешь меня убить?
Найт вдруг как-то странно мотнул головой, словно отмахивался от мухи, и закричал:
— Да я люблю тебя!!!
Минуту в гостиной была тишина, казалось, эхо этого крика многократно повторяется в пустом доме.
— Нет, — сказала наконец Эйприл негромко, но твердо. — Это невозможно. Теперь это невозможно. Прости.
— Что невозможно? Что?!
— Я не могу вернуться к тебе. Это невозможно.
— Но почему?
— Почему? Ты спрашиваешь меня, почему? — Голос Эйприл вдруг набрал силу. — Ты приходишь ко мне с Джоном! Ты хватаешь меня за руку и кричишь мне в лицо!
Эйприл вскочила на ноги. Джон не ожидал в ней такого напора.
— И ты спрашиваешь, почему?! Да я ненавижу тебя! За то, что ты со мной делаешь! И ты спрашиваешь, почему?!
Найт растерянно смотрел на разгневанную Эйприл.
— Ты совсем хочешь меня растоптать?! Тебе это нужно, Билл?!
— Но я… — робко вставил тот.
— Тебе это доставит удовольствие?! Да?! Вам обоим это доставит удовольствие?!
— Пэри, остановись!
— Нет, Билл, ты же именно за этим пришел! Ты же именно этого хочешь!
— Не-ет!
— Да! Да, Билл! Да, я люблю его! А теперь оба убирайтесь отсюда!!!
Эйприл оттолкнула Найта и выбежала из гостиной.
До ночи они сидели в каком-то подозрительном кабаке и молча пили. Говорить не хотелось ни тому, ни другому. Хотелось подраться, хотелось что-то разбить, растоптать и в то же время хотелось жалобно заплакать, уткнувшись в чью-то грудь. Но драться было не с кем, потому что несколько посетителей держались от Джона и Найта на почтительном расстоянии, видно чувствуя, что эти ребята сейчас не в себе. Сломать или разбить здесь тоже было нечего, потому что все сломано и разбито было уже до них. А плакаться в жилетку бармену представлялось комичным, потому что он был карликом.
Сначала Джон проводил Найта до дома, а потом Найт проводил Джона.
— И что ты решил? — спросил Найт на прощание.
— Я уезжаю, — сказал Джон.
— Ну и дурак.
— Сам дурак.
— Прощай.
— Прощай.
Джон не без усилия попал ключом в замочную скважину и отворил дверь.
— Эй! — крикнул он вслед уходящему Найту. — Ты так и не ответил на мой вопрос — кто?!
— Ответил, — не оборачиваясь, сказал Найт.
Тим Билтмор
Скарлетт отправилась домой на следующий день после того, как проводила Джона.
Она сделала это поспешно, никого не предупредив, словно бежала с места преступления.
«Да, наверное, я действительно преступница, — думала она, когда поезд отходил от перрона вокзала. — Как это называется в юриспруденции? Неумышленное преступление. То есть не запланированное, совершенное под влиянием мгновения, но от этого не менее опасное. Да-да, все так. Не менее опасное…»
Проводы Джона были очень грустными. Сын молчал всю дорогу до порта и, как только прибыли, сразу же поднялся по трапу, бросив на прощание:
— Счастливо оставаться.
Скарлетт не ушла. Она ждала, когда пароход отойдет от причала, в надежде еще раз увидеть Джона. Но он не вышел на палубу, как большинство отплывающих.
Корабль отплывал медленно, и Скарлетт до боли в глазах всматривалась в людей, которые махали провожающим руками и кричали что-то, чего разобрать было нельзя из-за низкого протяжного гудка парохода.
Джон так и не появился.
Она знала причину такой холодности сына, она и сама винила себя, может быть, куда больше, чем Джон. Именно поэтому она села в поезд и, как преступница, бежит из Нью-Йорка.
Наверное, это случилось тогда, когда она сидела рядом с Тимом за столом на том самом приеме. Она с удивлением и некоторым испугом вдруг почувствовала себя неловко. Она давно уже не обращала внимания на то, как смотрят на нее мужчины, не говоря об остальных. Это когда-то в молодости ей было важно выглядеть в глазах окружающих красивой, независимой, изящной. Потом это волновало ее все меньше. А с некоторых пор любое общество, любые взгляды были ей безразличны. Нет, это вовсе не означало, что она могла кое-как одеться, кое-как причесаться, что она совсем не следила за модой. Но все эти приятные женские хлопоты отошли на второй план и приобрели совсем иную окраску. Так было принято. Это было прилично. Пожалуй, только одно ушло из ее облика безвозвратно — небольшая доля кокетства.
И вот теперь она вдруг почувствовала себя неловко в этом темном и наглухо закрытом платье, с гладкой аскетичной прической, со скромными маленькими сережками. Она тогда посмотрела на свои руки. Как давно она не приводила их в порядок. То есть она, конечно, стригла ногти, но раньше руки ее являлись как бы маленьким произведением маникюрного искусства, а теперь были просто аккуратными руками обычной медсестры.
А ей почему-то хотелось нравиться. Именно нравиться, а не быть просто приятной собеседницей. От этого желания Скарлетт чуть в голос не расхохоталась над собой.
«Старуха, — сказала она себе, — что с тобой случилось? Ты совсем свихнулась на старости лет?»
Но самоирония не помогла. Все равно ей хотелось нравиться.
Она видела, что и другие дамы в доме Билтмора не лишены этого желания. Их строгие платья тем не менее были украшены этой легкой женской игрой. Они носили красивые броши, колье, бусы и серьги. Кое-кто рискнул даже на небольшое декольте. Ну и уж конечно, все красили губы и подрисовывали глаза.
Скарлетт раньше не обращала на это внимания. Сразу же после смерти Ретта ей казалось кощунством выглядеть красивой и привлекательной, но потом это превратилось в привычку. И теперь ей за эту привычку стало неловко.
«Да ведь я, черт возьми, женщина, как-никак! — думала она. — Почему я должна смеяться над этим? Возраст? Но, кажется, французы говорят: женщине столько лет, на сколько она себя чувствует!»
А Скарлетт никогда не чувствовала себя старухой. И была в этом абсолютно права. Она сохранила и гибкий стан, и пышные малоседеющие волосы, морщины не избороздили ее лицо, хотя возле глаз и появились тоненькие лучики, но они скорее намекали на аристократичность. Никто и никогда не дал бы Скарлетт ее лет. И ведь она ничего особенного не предпринимала для этого.
И еще на том приеме она безошибочно угадала, кто явился причиной всех этих перемен в ней.
Билтмор. Тимоти Билтмор, конгрессмен, джентльмен, вдовец.
Она почувствовала эту тягу сразу же, как только они поздоровались у двери. И потом, когда оказались за столом рядом, она уже считала, что так и должно было случиться.
О чем они говорили?
О разном: о своих детях, о поездах, о надвигающемся двадцатом веке, о политике даже. Но говорили они в самом деле о другом — друг о друге.
Нет, Скарлетт была уже, конечно, не девочкой, она не верила всерьез в любовь с первого взгляда, она подробно и досконально перебрала в памяти все, что было связано с Билтмором, и поняла-таки истоки этой своей тяги к нему.
Билтмор чем-то неуловимо напоминал Ретта.
Было что-то порочное в его лице, что закрывало от посторонних глаз его ранимое сердце. Была парадоксальная манера говорить. Был вдруг застывающий тяжелый взгляд из-под насупленных бровей. И улыбка. Это была улыбка Ретта. Всегда чуть насмешливая, скуповатая, мужская.
Скарлетт сразу согласилась пойти с Билтмором на следующий день в ресторан, где хороший его друг будет праздновать свое шестидесятилетие.
— Мне кажется, там будут люди, которые смогут помочь вам, — сказал Билтмор.
Но даже если бы он этого не сказал, Скарлетт все равно согласилась бы.
И они пошли в ресторан. И там он действительно познакомил ее кое с кем. Но на следующий день они отправились в синематограф, а потом на прогулку…
Да, это было какое-то наваждение. Она вовремя это поняла. В тот самый момент, когда еще можно было вот так сесть на поезд и исчезнуть. Потому что позже у нее не хватило бы на это сил. Позже никакая вообще сила не оторвала бы ее от Тима.
«Я успокоюсь, я отойду, я чуть-чуть приду в себя, — говорила она себе, — и напишу ему письмо. А может быть, не напишу. Он поймет все и так. Да, наверное, ничего больше не надо. Только останется чувство благодарности за эти волшебные дни, которые вернули мне молодость».
Двадцатый век
В Италию Джон приехал в самый канун Рождества.
А Рождество в Италии, и особенно в Риме, — это праздник всем праздникам. Насколько уж религиозна Америка, но и ей в этом смысле далеко до Италии.
Улицы, дома, магазинчики, повозки, тумбы, заборы, даже тротуары были убраны и украшены так, словно целый год люди только этим и занимались. Цветы, гирлянды, статуи Девы Марии и маленького Иисуса были повсюду. Даже на пустынной деревенской дороге, по которой Джона от станции везла коляска, запряженная белой лошадкой, стояли тончайшей работы фарфоровые статуэтки с непременными лампадками или свечечками, с цветами у подножья.
И сразу на Джона снизошло умиротворение. Он перестал думать о Нью-Йорке, о газете, Найте и Эйприл, он успокоился и не злился больше на мать, жалел теперь, что толком не попрощался с ней. Он смотрел в чистое и глубокое небо, вдыхал прохладный, пахнущий травами и ладаном воздух, и мысли его были только о великом, несуетном. Он думал о том, что по этой земле ходили когда-то святой Петр, Леонардо да Винчи, Данте, Вивальди… Любая страна гордилась бы даже одним из них, а здесь родились десятки, сотни гениев…
Он думал о том, что наверняка у Америки еще все впереди, ведь его родина так молода…
Он думал и о Боге.
В каюте корабля лежала Библия, и он вдруг начал читать ее. Скучное поначалу чтение все больше захватывало его, сначала просто как красивая легенда, потом как первоисточник всего, что создало на земле искусство, а потом могучая Божественная мудрость, данная человеку, захватила его своей бесконечной, неземной, небесной силой.
Как это сложилось, что он именно Библию читал в дороге и оказался здесь в канун Рождества, в стране, где торжествовало христианство…
До Калабрии Джон добрался быстро, хотя все, что попадалось ему на пути, было достойно самого длительного и пристального знакомства.
Край это показался Джону прекрасным по-своему. Здесь было очень тепло, днем даже приходилось снимать пиджак. Пальмы, туя, кипарисы, длинные свечи тополей — все было зеленым.
Местечко, где жила Мария, было небольшим. Оно раскинулось на северном склоне холма, южная часть была отдана виноградникам.
В маленькой гостинице, где поселился Джон, его приняли очень радушно. Портье немного говорил по-английски, потому что плавал когда-то моряком на торговом флоте и выучил язык в портах.
— Нет, сэр, сейчас вам не надо идти, — сказал он Джону, который расспросил его о семье Джованни. — Сейчас поздно. Уже все легли спать.
— Только восемь часов вечера, — удивился Джон.
— Люди здесь ложатся рано, рано встают. Вам лучше всего прийти к Джованни днем, часов в десять. У него будет свободное время.
Джон оставил вещи в гостинице и пошел побродить по городу. Действительно, на улицах народу почти не было. Несколько человек сидели в кабачке, попивая красное вино, один старик сидел на стуле возле собственного дома и читал газету. На площади перед костелом стоял господин в белом костюме и, задрав голову, смотрел на золоченый крест.
— Нет, это не интересно, — сказал господин по-английски самому себе.
Он повернулся к Джону и спросил что-то по-итальянски.
— Извините, я не знаю языка, — ответил Джон.
— Ну, какой-то же вы знаете, — ничуть не удивился джентльмен. — Я спросил: как вам кажется, а что, если эту церковь немного наклонить?
— Наклонить? Зачем?
— Ну, вроде Пизанской башни! — ответил джентльмен, раздраженный непонятливостью Джона.
— Не стоит, — сказал Джон.
— Вот и я подумал — неинтересно.
— Вы художник? — спросил Джон.
— С чего вы взяли? — еще более раздраженно спросил джентльмен.
Джон пожал плечами.
— Ну угадали, — проворчал тот. — А вы инженер?
— Нет.
— Не может быть. Я никогда не ошибаюсь. Вы инженер, только скрываете это.
— Я не инженер, я репортер.
— Я так и знал. Я подумал сразу — репортер, но специально сказал инженер, чтобы позлить вас. Ладно, не обижайтесь. Бьерн Люрваль, — добавил он без перехода.
— Джон Батлер.
— Австралиец?
— Американец.
— Это сразу видно. Все американцы похожи друг на друга. Знаете, здесь скучно отдыхать. Я вам советую уезжать отсюда завтра же.
— Но я приехал не отдыхать, — сказал Джон.
— И правильно. Впрочем, работать здесь еще хуже, чем отдыхать. Вы остановились в гостинице?
— Да.
— Я сразу же так и подумал. Я вижу человека насквозь. Вам не страшно, что я узнаю кое-какие ваши тайны?
— Нет, не страшно, — улыбнулся Джон.
— Ну-ну, потом чур не обижаться.
— Знаете, я хочу спать. Или нет, лучше мы с вами пойдем и выпьем вина.
— Но сейчас пост. Это не положено, — сказал Джон.
— Нет, я видел, что вино продают.
— Наверное, я о себе говорю.
— А! Вы верующий, да? Я — атеист. Тогда идемте спать.
— Спасибо за приглашение, — сострил Джон, — но я еще немного погуляю.
— Прекрасная идея. Я — с вами.
Бьерн Люрваль оказался французом, мать которого была англичанкой, а отец шведом. Женился он в Италии и горит желанием жить в Берлине. Всеми европейскими языками Бьерн владел в совершенстве, потому что за свои сорок четыре года ухитрился пожить везде. В самом деле он не художник в обыкновенном смысле слова. Он — сценограф. Попросту говоря, пишет декорации для театральных постановок. Работал в Ла Скала, Гранд Опера, Шведском Королевском театре, Ковент-Гарден, Московском Общедоступном театре…
Все бросил. Театр умирает. Духота, застой, рутина.
— И чем вы занимаетесь сейчас? — спросил Джон.
— Ищу себя, — ответил Бьерн, словно речь шла о поиске грибов. — Брожу по свету, смотрю и думаю. Замечательное занятие.
— Наверное, — согласился Джон.
— Только не надо лгать. Вы молоды и не можете так думать.
— Но я так думаю, — сказал Джон. Он почему-то не обижался на Бьерна.
Они прошлись по городу вдоль и поперек, пока совсем не стемнело. Вернулись в гостиницу, но и здесь Бьерн не хотел оставлять Джона. Да и Джону почему-то не хотелось разлучаться с этим милым и шумным человеком. Бьерн пригласил Джона к себе в номер и сказал:
— Вы не верите, что я художник. А я вот возьму и докажу вам сейчас, что это правда.
— Нет, почему же, я верю…
— Значит, вы не хотите посмотреть мои работы?
— С удовольствием.
Бьерн достал небольшую твердую папку и положил перед Джоном.
— Любуйтесь, отличные работы, — без ложной скромности заявил он.
Джон раскрыл папку, и на какую-то секунду ему показалось, что он сошел с ума.
Сверху лежал графический эскиз. Видно, Бьерн делал какие-то наброски сразу к нескольким работам, поэтому лист был причудливо разбит на множество окошек. А в них — Джон глазам своим не верил — видения Джона во время голодного обморока в «Богеме».
— Что, вам это нравится? — удивился Берн.
— Откуда вы это знаете? То есть я хочу спросить, как вам пришло в голову это написать?
— Нет, вам что, действительно понравилось?! Ну, знаете! — развел руками Бьерн. — Вы первый, кто не пролистнул этот набросок. Вы первый, кто догадался, что он — самое лучшее, что у меня есть. Как вы сказали, вас зовут?
— Джон Батлер.
— Да-да, я помню.
— Понимаете, в чем дело, — сказал Джон, — когда я работал официантом в ресторане, со мной произошел голодный обморок…
— У официанта голодный обморок? Ну-ну, — иронично заметил Бьерн. — Продолжайте.
— И вот я очнулся и увидел такую же мозаику, только в цвете… Да, вот и глаз, вот кусок коридора, вот осколки разбитого стекла…
— И вы запомнили то, что увидели, так подробно?
— Да, запомнил. Не знаю почему? А вы? Вот эти наброски, откуда они у вас… То есть я хочу сказать…
— Я понял, что вы хотите сказать, Бат Джонсон. Нет, я не увидел это в голодном обмороке. Я вообще никогда не бываю голоден. Я просто нахватал их из жизни — там, сям…
— Удивительно…
— Жизнь вообще удивительная штука. Знаете что, давайте будем дружить. Вы мне нравитесь, я вам нравлюсь, мы одинаково сходим с ума, почему бы нам не подружиться?
— С удовольствием, — рассмеялся Джон. — Только меня зовут Джон Батлер, а не Бат Джонсон. Впрочем, в газете меня называли Бат.
— Мне так тоже больше нравится.
Утром Джон отправился к Джованни. Он представлял, что это будет непростая встреча, и заранее готовился к любым неприятностям. Но главная его надежда была на то, что Джованни поймет — это не мимолетная интрижка, а серьезное чувство. Ведь Джон приехал за Марией сюда, в Калабрию, значит, намерения его чисты и благородны. Кроме того, на Джованни должно подействовать то, что Джон теперь не голодранец, а весьма богатый человек. Он нес дорогие подарки. Часы для Джованни, изумрудный гарнитур для Лореданы, матери Марии, какие-то безделушки на случай, если в доме будут другие родственники. А Марии он купил обручальное кольцо с бриллиантом. Нет, Джованни должен уступить.
— Бат, это нечестно! — услышал он, когда выходил из гостиницы.
Бьерн в одном халате вылетел в коридор и укоризненно смотрел на Джона:
— Вы куда-то идете, а меня не позвали!
— Но я иду по делам, Бьерн, которые…
— Ничего не хочу слушать. Вы предатель. А вчера сами набивались в друзья.
— Бьерн, это интимное дело, оно касается только меня.
— Свидание?! — оживился Бьерн.
— Нет. Скорее сватовство.
— Все! Я иду с вами. Лучшего свата вам не сыскать! Подождите минутку, я только натяну брюки.
— Но, Бьерн… — начал было Джон и замолчал, потому что художник уже скрылся в своей комнате.
Вышел он не через минуту, а через пять, хотя Джон уже настроился ждать нового друга дольше.
— Так, куда мы идем? Мы идем свататься. А где же цветы?
— Я как раз собирался купить…
— Правильно. Вот эти розы подойдут лучше всего, — сказал Бьерн, показывая на цветник за чугунным забором.
— Но я боюсь, что они не продаются.
— В Италии продается все.
И Бьерн что-то крикнул по-итальянски невидимым обитателям дома. Через какое-то время появилась женщина, которая действительно быстро срезала белые розы и составила прекрасный букет. Бьерн не позволил Джону расплатиться, а сделал это сам.
— Теперь нужно купить вина, — сказал он.
— Бьерн, сейчас пост, — напомнил Джон.
— Это у вас пост, а у меня — нет. Я атеист.
— Вы будете пить один?
— А почему бы и нет?
— Но хозяева могут обидеться. Я даже не знаю, положено ли свататься в пост?
— Слушайте, зачем вы верите в Бога? Так много всяких запретов! Ладно, вино покупать не будем. Купим подарки.
— Подарки я уже купил.
— Покажите.
Джону пришлось показать то, что он купил для семьи Джованни.
— Вы с ума сошли! — воскликнул Бьерн. — Это слишком дорого!
— Но я…
— Знаете, в чем ваша ошибка? Вы не знаете итальянцев, Бат. Они примут подарки, но окончательного ответа не дадут, а назначат новую встречу, на которую вы снова придете с подарками. И так до бесконечности. Они вас просто разорят, а потом откажут.
— Не думаю, — сказал Джон. — Впрочем, мы уже пришли, сейчас и проверим.
На стук в дверь долго никто не отпирал. Джон уже решил, что никого нет дома, но Бьерн только посмеялся над этим его предположением:
— Они сейчас внимательно изучают вас из-за вон той портьеры.
— Значит, могут не впустить, — сказал Джон и снова насмешил Бьерна.
— Хотите опыт? Мы сейчас уйдем, но нас догонят прямо у ворот. Итальянцы впустят любого. Даже налогового агента. Дом славится гостями.
И действительно, через пять минут дверь отворилась. На пороге стояла маленькая девочка и смотрела на Джона.
— Бьерн, спросите у нее, пожалуйста, могу ли я повидать Джованни и Марию?
Бьерн перевел вопрос. Девочка кивнула, но пропускать гостей в дом не собиралась.
— Мы можем войти? Спросите у нее.
Бьерн опять перевел. Девочка снова кивнула. И не двинулась с места. Джон оглянулся — во дворе уже собралась небольшая толпа и наблюдала за ними.
— Она ждет от вас подарка, — подсказал Бьерн.
Джон достал из кармана коралловое ожерелье и вручил девочке.
— Грация, — сказала девочка и, сделав короткий книксен, впустила гостей в дом.
И тут же появился Джованни, который, к глубочайшему удивлению Джона, бросился обнимать и его и Бьерна.
— Какая честь! Какие гости! — искренне восклицал он. — Проходите, проходите! Лоредана, посмотри, кто к нам пришел!
Джон мало что понимал, но от сердца у него отлегло — Джованни забыл обиду.
Лоредана тоже радостно поприветствовала гостей и закрыла по-прежнему распахнутую дверь. И в то же мгновение радушие Джованни как рукой сняло.
— Зачем ты пришел? — спросил он. — Что тебе еще от нас нужно?
— Сеньор Джованни, мы можем хотя бы поговорить с вами? — сдержанно спросил Джон.
— Да, Джованни, мы же не грабить тебя пришли! Хотя в каком-то смысле и грабить! — рассмеялся Бьерн.
— Садитесь. Говорите.
— Вот это уже другое дело! Накрывай на стол, Лоредана! — закричал Бьерн, усаживаясь. — Или лучше пусть это сделает ваша дочь.
Джон тоже сел.
— Ну? — сказал Джованни.
— Во-первых, я хотел бы извиниться перед вами. — Джон говорил медленно, чтобы Джованни понимал его. — Я нарушил обещание, которое вам дал. Наверное, вы были правы, когда выгнали меня. Но я прошу вас забыть обиду. Не держать на меня зла. И в знак моего раскаяния и нашего, надеюсь, примирения, подарить вам вот эти часы.
Джованни повертел в руках подарок и положил на стол.
— Рано, — прошептал ему Бьерн.
— А вашей жене, сеньоре Лоредане, я хотел бы подарить вот это, — сказал Джон и вынул коробочку с драгоценностями.
Джованни даже не раскрыл ее, коробка легла на стол рядом с часами.
— Что дальше? — спросил Джованни.
Джон встал. Бьерн замешкался, но тоже вскочил.
— Сеньор Джованни, я прошу руки вашей дочери Марии.
Джон ожидал какой угодно реакции на эти свои слова, но то, что произошло, было для него абсолютно неожиданным.
Джованни заплакал. Сначала у него задрожали губы, наполнились слезами глаза, а потом он уронил голову на стол и в голос зарыдал, вздрагивая плечами.
В углу плакала Лоредана.
— Все идет отлично, — прошептал Бьерн. — Они растроганы.
Но Джованни вдруг поднял голову и сквозь слезы заговорил:
— Простить тебя?! Забыть обиду? Не помнить зла? Да ты знаешь, негодяй, что я сплю и вижу, как всажу в твое поганое сердце нож!
Краем сознания Джон отметил, что Джованни стал вполне прилично изъясняться по-английски.
— Можно простить тебя за то, что ты сделал?! Нет! Никогда! Ты обесчестил Марию… Ты…
— Брось, Джованни! — весело сказал Бьерн. — Обесчестил! Что за слова? Грешки молодости! Ты и сам, небось, в молодые годы бегал за каждой юбкой!
Джованни словно не услышал эти слова.
— Ты обесчестил нашу семью! И ты еще просишь прощения?!
— Я хочу жениться на Марии, — все еще сдерживая себя, повторил Джон. — Для этого я приехал. И от своего не отступлюсь.
— Женись! Пожалуйста! Сколько твоей душе угодно!
— Он согласен! — воскликнул Бьерн.
— Если найдешь ее в борделе! Нету Марии больше! У меня нет такой дочери! Я знать не хочу потаскуху по имени Мария!
— Я не понимаю… Мария… Где Мария? — растерялся Джон. — Мария!!! — закричал он что было сил.
— Кричи-кричи! Марии здесь нет. Она убежала от нас. Еще там убежала! И теперь, я надеюсь, подыхает где-нибудь под забором!
Джон опустился на стул.
— Что вы наделали? — сказал он. — Вы сошли с ума. Ведь это ваша родная дочь. Вы… Вы…
— У нас нет больше дочери, — сказал Джованни. — Убирайся отсюда! Уходи. И дурачка своего забери.
Джованни утер слезы рукавом, сгреб со стола подарки, сунул их Джону, но, поскольку тот даже не заметил этого, передал Бьерну.
— Пошли, Бат, пошли, — сказал Бьерн. — А то хозяин захочет, чтобы сбылся его сон.
— Нет, постойте, — сказал Джон. — Я только не понимаю одного — зачем вы?… Вы же любите ее… Вы ее родители… Я, правда, не понимаю… Неужели какие-то дурацкие принципы важнее вашего же ребенка? Ну объясните мне…
Джованни молчал, опустив голову.
Джон растерянно посмотрел на Лоредану. Она тоже молчала, смахивая пальцами слезы со щек.
— Что вы сделали с ней, что она ушла от вас? Что вы натворили? Боже, вы христиане? Вы люди?
Джон чувствовал, что и сам сейчас заплачет.
— Куда она ушла? Хоть это вы мне можете сказать?
— Мы не знаем, — сказала Лоредана.
— Так, — Джон встал. — Я возвращаюсь в Америку. Я найду ее. Но я не знаю, захочет ли она хоть когда-нибудь встретиться с вами.
— Джованни, — сказала Лоредана.
Он посмотрел на жену.
— Я тебе говорила?
— Молчи, девушка должна помнить…
Он не договорил, потому что жена, шагнув вперед, вдруг со всего размаху ударила его по щеке.
Джон уезжал вечером, потому что больше делать ему в этом городке было нечего.
— Ты сразу вернешься в Америку? — спросил Бьерн.
— Да.
— И не посмотришь Италию?
— Нет.
— Правильно. Чего тут смотреть. Знаешь, мне Италия больше нравится на репродукциях, чем в жизни. Да, а как мы поедем? Через Англию? Через Францию? Можно ехать через Неаполь.
— Мы? — переспросил Джон. — Ты что, тоже собираешься в Америку?
— Ну, не оставлю же я тебя одного.
Джон, не ожидавший такого напора, вынужден был согласиться.
Но уже через час чуть не пожалел об этом. Во-первых, вещи Бьерна никак не могли уместиться в коляску, которую нанял Джон, чтобы ехать на станцию. Пришлось срочно искать еще одну. Но и когда она была найдена, в путь не отправились, потому что Бьерн помчался по лавочкам закупать всякие шкатулочки, корзиночки, бутылочки, статуэтки и прочие безделушки, которых накупить можно было в любом итальянском городе.
Но и после этого Бьерн не успокоился.
— Я хочу есть, — сказал он. — Я просто умру с голоду, если сейчас не съем две порции лозанни.
Он действительно съел две огромные порции лозанни, затем еще порцию пиццы с грибами и две порции спагетти с сыром.
Только после этого они тронулись в путь.
До станции охать было недалеко, но Бьерн то и дело останавливал извозчика, чтобы рассмотреть очередную статую Девы Марии или сорвать понравившийся цветок.
Словом, на станцию добрались к ночи. Извозчики затребовали двойную плату за потерянное время. Пришлось им уступить.
— Два билета до Венеции в первом классе, — сказал Бьерн, наклонившись к окошечку кассы.
— До Неаполя, — поправил его Джон.
— Зачем тебе ехать в Неаполь? — удивился Бьерн.
— Потому что я возвращаюсь в Америку, — терпеливо напомнил Джон.
— А зачем тебе возвращаться в Америку? Дай телеграмму частному сыщику, пусть найдет твою девушку и сообщит тебе. А ты пока посмотришь на Венецию.
«Действительно, — подумал Джон. — Все равно я буду сидеть без дела, пока Мария не отыщется. А приехать в Европу и через неделю уезжать — глупо».
— Ладно, — согласился он. — Поехали в Венецию. Только, пожалуйста, Бьерн, больше никогда не решай за меня. Мы можем поссориться!
— Все австралийцы такие! — засмеялся Бьерн. — Гордые до невозможности!
Нет, на этого человека нельзя было обижаться!
Поезда они ждали недолго и уже скоро сидели в уютном купе и смотрели на пробегающие за окном огни.
Еще на станции Джон отправил телеграмму Найту и старику Джону с поручением нанять детективов для поиска Марии. Ответ он будет ждать в Венеции.
Джон, конечно, не мог знать, что ни в Венеции, ни в Генуе, ни в Риме он ответа не получит.
Но не потому, что Найт и старый Джон не выполнили его поручения, а потому что детективы так и не нашли Марию в живых.
Но сейчас он об этом не знал. Он слушал неумолчную болтовню Бьерна, и снова на сердце у него было мирно и покойно.
— А ведь скоро Новый год, — сказал он некстати, просто потому что вспомнил это.
— Нет, не только Новый год. Новый век! — воскликнул Бьерн, ничуть не обидевшись на Джона, который прервал его разглагольствования.
— Да, двадцатый век, — улыбнулся Джон.
— Веселое будет времечко!
Часть вторая
ДЕСЯТАЯ МУЗА
Месть Ретта Батлера
Скарлетт не сразу поехала домой, она решила сначала побывать в Таре, чтобы повидать Уэйда, его жену, внуков, рассказать о том, как идут дела, и узнать новости. Для этого ей пришлось сойти на следующей станции.
Решение это пришло к ней, когда поезд уже был совсем близко от дома, поэтому ей пришлось послать проводника, чтобы он предупредил встречавших ее слуг — Скарлетт домой не поедет.
Она не успела сообщить о своем приезде и Уэйду, но решила, что так даже будет лучше, сын все равно не успеет ее встретить, только испереживается.
До Тары добралась быстро, хотя возчик попался бестолковый и все время норовил свернуть в другую сторону.
Сердце ее сжалось, когда наконец показались знакомые с детства поля и перелески, а когда она увидела имение, где прошла ее молодость, где она пережила самые тяжелые, но и самые счастливые дни в своей жизни, слезы навернулись на глаза.
Да, после Нью-Йорка Тара казалась постаревшей, обветшавшей, какой-то допотопной, но от этого не менее милой и близкой сердцу.
Уэйд долго не мог успокоиться, что мать подвергала себя опасности, отправляясь в дорогу с неизвестным возчиком. Он ахал, охал, обнимал мать, все время что-то спрашивал, не дожидаясь ответа, сам что-то начинал рассказывать, но тут же обрывал себя:
— Да что я все про нас! Ты лучше расскажи, как там Джон? Как Бо? Что тебе удалось узнать?
— Подожди, Уэйд, дай отдышаться, ты засыпал меня вопросами, на каждый из которых надо ответить обстоятельно.
Жена Уэйда, Сара, была беременна. Это очень шло ей. Сара выглядела основательной, спокойной и уверенной в себе. Она тоже была ужасно рада приезду свекрови.
— В нашей глуши хромота соседской лошади — самая интересная новость, — сказала она. — Но теперь-то уж вы не уедете, пока не расскажете нам обо всем, что вы видели и слышали.
Детишки Уэйда, а их было трое — двое мальчиков постарше и девочка пяти лет, — были почтительными и смышлеными. Бабушку они приняли сразу и тут же начали рассказывать ей о своих детских заботах и радостях.
Сара распорядилась устроить пышный ужин, хотя напомнила, чтобы все блюда были постными.
— Ведь вы тоже поститесь? — спросила она Скарлетт.
— Да-да, конечно, — поспешно ответила та, со стыдом вспомнив, что совершенно забыла о посте, ужиная с Билтмором в разных ресторанах.
Вечером они уселись у камина, и Скарлетт подробно рассказала им и о Джоне, и о Нью-Йорке, и о Вашингтоне. О том, что ей удалось узнать, как похлопотать, с кем из нужных людей познакомиться.
Сара и Уэйд слушали ее не перебивая.
Только изредка сын хлопал себя по колену и восклицал:
— Ну надо же! Ну ты посмотри!
Большую часть времени, конечно, занял рассказ о Джоне. Скарлетт во всех деталях поведала о приключениях Джона на Аляске, о работе его репортером, о его известности, о богатстве, упустила только момент расставания, потому что не хотела лгать. И, конечно, ничего не рассказала о Билтморе.
Спать легли за полночь.
А утром, сразу после завтрака, Уэйд уединился с матерью в кабинете, чтобы рассказать о своих новостях.
— Так славно, что ты вернулась, ма, — начал он. — Нам так тебя не хватало.
Скарлетт внимательно посмотрела на сына:
— Что-то случилось, Уэйд?
— Нет-нет, пока ничего страшного… То есть не такого уж страшного, чтобы сильно волноваться… Хотя…
— Что случилось, Уэйд?
— Да ничего особенного, ма… Просто мы разорены…
Уэйд опустил голову и закрыл лицо руками.
Скарлетт сидела, как громом пораженная. Это было невозможно! Этого не могло произойти даже при самых неблагоприятных условиях. Да сгори сейчас хоть вся Тара, весь поселок, умри внезапно весь скот — и тогда бы у них хватило средств выкарабкаться.
— Что ты говоришь, Уэйд? Мы не можем разориться! Только если тебя арестуют с конфискацией всего имущества и принадлежащих лично тебе средств. Да и тогда я смогла бы выкупить Тару. Ведь у меня есть еще акции. У нас много денег, Уэйд! — сказала Скарлетт, понимая, впрочем, что и сын это прекрасно знает.
— Мама, я все это знаю не хуже тебя, — тут же подтвердил ее мысли Уэйд. — И тем не менее…
— Хорошо, объясни, что случилось? — Скарлетт старалась быть спокойной. Но чувствовала, что долго не выдержит.
— Все из-за этого табака.
— Но ты же говорил, что табак удался на славу.
— То-то и оно! Мама, его было столько, что я думал, мы уже и хлеб едим с этим табаком — запах стоял на всю округу. Мне пришлось срочно строить три новых амбара для сушки. Его было столько!..
— Ну!
— Я решил, что попробую продать его сам, а не через агентов. Я продал его весь и по очень хорошей цене.
— Подожди, Уэйд, так мы разорились или разбогатели?
— Мама, у меня не оказалось какой-то там лицензии, какого-то разрешения, я не уплатил какие-то налоги…
— Какой лицензии? Какое разрешение?! Я впервые слышу об этом! Все в округе выращивают на своих полях, что хотят…
— Но никто не продает… Словом, мне предъявили такой штраф… Мама, мы разорены…
Уэйд снова закрыл голову руками, словно ожидал, что мать сейчас начнет бить его.
Скарлетт молчала. Ах, как хорошо, что она сразу приехала сюда. Словно сердце ей подсказало — у сына беда.
— Уэйд, скажи мне вот что: ты сам решил продавать табак, или тебе кто-нибудь подсказал? Я спрашиваю об этом потому, что знаю — сам бы ты никогда не решился.
Уэйд молчал.
— Кто это был? — спросила Скарлетт.
— Ты его не знаешь.
— Кто это был?
— Один парень. Не местный. Он из Атланты. Его зовут Айвор Монтегю.
— Где он?
— Он пропал, мама.
— Расскажи поподробнее.
— Ну, он приехал в Тару, сначала просто ходил по полям и смотрел, давал дельные советы. У нас завелись какие-то червяки, он научил, как от них избавиться.
— Он работал у тебя?
— Нет.
— А на что он жил? Где он жил?
— Да он снимал комнату в городке, а на что жил — не знаю. Потом он предложил мне самому продавать табак. Сказал, что все устроит.
— Так штрафом должны были обложить его!
— Нет. Его имя нигде не фигурировало.
— Ты даже не заключил с ним контракта? Как же он собирался получать плату?
— Наличными.
— Понятно.
— Если я в двухмесячный срок не выплачу штраф, меня посадят, — сказал Уэйд.
— Тебя не посадят. Мы завтра же выставим Тару на продажу.
Уэйд поднял голову и потрясенно посмотрел на Скарлетт.
— Тару? Ты хочешь продать Тару?
— А ты предпочитаешь сесть в тюрьму?
— Но ведь… Мама, ведь ты всегда говорила, что это твоя родина, могилы предков, отца…
— В конце концов — это просто кусок земли со старым домом, — сказала Скарлетт. — А ты — мой сын. Хотя и непутевый.
На следующий день Уэйд снарядил повозку и повез Скарлетт домой. Она решила сразу же браться за дело. Два месяца — не такой уж большой срок.
— Прости меня, мама, — говорил Уэйд. — Ведь я же знал, что против нас идет война. Но я и подумать не мог, что такими подлыми способами.
— Да, Уэйд, подлее не бывает. Но мы не будем им отвечать тем же. Мы не опустимся до их уровня.
— Все в поселке сочувствуют нам. Предлагают помощь.
— Тебе с Сарой придется переехать ко мне. Ничего, как-нибудь проживем. Сегодня же встретимся с Достом, попытаемся что-нибудь предпринять, но будем готовы к худшему.
— Прости, мама, — повторил Уэйд.
Дальше они ехали молча. Скарлетт думала о своем. Она очень боялась за сына. Уэйд мог совершить какую-нибудь глупость. Надо было все время приглядывать за ним. Ничего, они выпутаются. В крайнем случае, она попросит помощи у Джона. Он поможет. В этом она не сомневалась.
Когда уже подъезжали к дому, Скарлетт мимолетно вспомнила Билтмора, свои переживания последних дней. Каким это все казалось теперь пустым и далеким.
«Это Ретт, — вдруг подумала она, — наказывает меня за измену. Что ж, он имеет на это право, хотя никакой измены не было. Впрочем, зачем лгать? Измена была так близка, что иногда мне кажется, что это случилось. А Ретт ревновал меня и по куда менее серьезным поводам».
Возле дома их никто не встретил. Слуги не знали, что хозяйка вернется так скоро.
— Побудь здесь, — сказала она Уэйду. — Я пришлю, чтобы распрягли лошадей. И забрали вещи.
— Они спокойные, никуда не уйдут, — сказал Уэйд. — А вещи я могу донести и сам.
— Нет. У меня есть слуги. Значит, мой сын еще не конюх и не носильщик. Он сын Скарлетт О’Хара и Ретта Батлера!
Она резко повернулась и пошла в дом.
Зря она накричала на Уэйда. Парень и так не в себе.
В прихожей тоже было пусто. Видно, служанка сидит на кухне и болтает с подружками.
Скарлетт сняла шляпку, бросила ее на столик и направилась к кухне.
Дверь в гостиную была приоткрыта, она мимоходом заглянула туда…
И остановилась как вкопанная.
«Ретт! — молнией пронеслось в ее голове. — Или я схожу с ума! Боже мой! Я накликала беду!»
Она завороженно смотрела на сидящего в гостиной человека, не в силах перевести дух, видела, как он, почувствовав ее взгляд на своем затылке, начал медленно, как в кошмарном сне, поворачивать к ней голову и…
— Билтмор… — выдохнула Скарлетт и уцепилась руками за косяк, чтобы не упасть…
Билтмор шагнул к ней, и она прислонилась к его груди, чувствуя, как сердце ее снова забилось…
Венский вальс
Уитни пропала.
Это случилось настолько неожиданно, что театр залихорадило. После спектакля Уитни не пошла со всей труппой отмечать завершение гастролей, не вернулась в гостиницу, она просто исчезла.
Конечно, больше всех переживал Бо. Он тут же сообщил в жандармерию и в полицию, оттуда очень быстро приехал комиссар и стал подробно расспрашивать всех о каких-то глупостях вроде:
— Не пропали ли из кассы деньги? Были ли у нее враги в Париже? Какое настроение было у нее последние дни?
Бо бесился и отвечал комиссару с грубой иронией, но тот иронии не замечал, а брал на заметку несущественные мелочи. Например, он отметил, что Уитни оставила в гостинице весь свой багаж, однако захватила деньги и документы.
— А что вы собираетесь делать теперь? — спрашивал комиссар Бо.
— Через месяц у нас начинаются гастроли в Вене. Мы собираемся лежать и плевать в потолок самых шикарных гостиниц Европы.
— В шикарных гостиницах Европы потолки очень высокие, — сказал комиссар, — не доплюнете.
Он еще походил за кулисами, поговорил с актерами и рабочими сцены и снова стал задавать вопросы Бо.
— А не было ли у нее любовной связи в Париже?
— Должен вас разочаровать. У нее просто не было для этого времени.
— О! Месье, для таких дел много времени и не требуется. Один взгляд, букет с запиской и — готово.
— Вы начитались Мопассана, — сказал Бо.
— Я читаю только газеты. Раздел криминальной хроники, — строго сказал комиссар.
— Вы думаете?.. С ней что-то случилось?
— Нет. Я думаю, мадам сейчас плывет на корабле в Америку.
— Какую Америку? — опешил Бо.
— Есть такая страна — Североамериканские Соединенные Штаты, — терпеливо растолковал комиссар.
— Что ей делать в Америке, если у нас гастроли?! — закричал Бо.
— Это уж вам лучше знать, — мягко заметил комиссар. — Я связался с пароходной компанией. Мадам еще три дня назад заказала билет в Америку. Корабль отчалил минут двадцать назад из Гавра.
— Но она бы могла нас предупредить?!
— Этот вопрос уже не входит в мою компетенцию, — сказал комиссар. — За сим разрешите откланяться и пожелать вам удачи. Мне, кстати, так и не удалось побывать на вашем спектакле.
Уитни отправилась в Америку!
Для Бо это был удар под дых. Это был конец, крах, отчаяние.
Теперь оставалось только с досадой перебирать прошлое, находить там собственные промашки, глупости, бестактности и жестокость.
Это он во всем виноват! Его зажигательная обвинительная речь в ресторане, которой он втайне гордился, была самой большой глупостью, нет, не глупостью — преступлением! Что он наделал?! Какой бес дергал его за язык?! Почему он решил, что вправе учить благородству и честности эту женщину? Ведь он поступил, как тот врач, к которому приходит больной и получает вместо помощи рассуждения о правильном образе жизни.
— Я жить хочу! Помогите! — просит больной.
— А не надо было много есть, пить и курить, — отвечает врач. — Сами виноваты.
Собственно, Бо сделал то же самое. Ведь Уитни просила его о помощи, а он, упиваясь собственным красноречием, начал поучать ее, стыдить, обвинять, показывая тем самым, что уж он-то — само воплощение чистоты и справедливости.
Гадко. Мерзко. Противно.
И самое страшное, что он поступил так с женщиной, которую любил! Это не она пыталась задушить любовь, а он. Он уничтожил любовь своими разглагольствованиями.
И ведь он же видел, что после того ужина в ресторане Уитни ходила сама не своя. Догадывался, что она плакала и училась. Но принимал это за внутренние борения, разбуженные его словами. А на самом деле она прощалась с ним. Прощалась навсегда.
Словно в каком-то сне встретил Бо Новый год. Встретил один, запершись в своем номере и накачиваясь вином, которое не приносило ни забвения, ни даже опьянения.
Потом труппа переехала в Вену. И это тоже прошло, как во сне.
Бо встречался с актерами, репетировал, следил за установкой декораций, ходил по улицам, но все это делал как будто не он. Как будто кто-то другой отделялся утром от спящего Бо и двигал ногами и руками, произносил слова, смотрел и даже думал.
Вслед Уитни была послана телеграмма. Собирается ли она вернуться? Надо ли театру вводить на ее роль другую актрису? Высылать ли ей гонорар в Америку или положить на счет в каком-то из указанных ею европейских банков. Телеграмму давал агент, поэтому она и была чисто деловой.
Но, конечно, ответ больше всего волновал Бо.
Ответ состоял из трех слов: «Нет. Да. Потом».
Это означало, что возвращаться Уитни не собирается, что театр должен ввести на ее роль другую актрису, а о гонораре она сообщит потом.
Ответ пришел уже из Америки. Значит, был он окончательным и бесповоротным.
Как ни странно, с этого дня Бо стал потихоньку приходить в себя. Полная ясность словно вернула ему силы. Он начал репетиции с другой актрисой, которая хоть и знала роль наизусть, но нуждалась в строгой режиссерской разработке. Бо даже ловил себя на том, что снова мог улыбаться, шутить, мог не пить целыми днями. Он с удовольствием путешествовал по Вене, бывал на приемах, в опере. Он даже начал размышлять над новой постановкой.
Вальс по-прежнему царствовал в Вене. Большие и маленькие оркестрики в ресторанах, кабачках, просто на улице играли вальсы. И люди не пробегали мимо, а останавливались послушать, кое-кто начинал танцевать.
Бо, который считал себя увальнем и никогда не танцевал, опасаясь за ноги партнерши, очень завидовал тем, кто так легко и весело кружится в вальсе.
— Вы не танцуете, но ужасно завидуете им, правда? — вдруг услышал он как-то в парке, когда остановился возле очередного оркестра.
Бо обернулся. Рядом с ним стояла высокая женщина с собакой на поводке.
— Вы угадали.
— Это было нетрудно, — сказала дама. — Любой сделал бы то же самое, хоть мельком взглянув на вас.
— А что такое?
— Все ваше тело живет в музыке.
— Правда? — смутился Бо.
— Хотите, я научу вас? Собственно, это моя профессия.
— А почему именно меня?
— Потому что я впервые вижу человека, который так стремится танцевать.
— Право, не знаю, — сказал Бо. — Это неловко.
— Это очень ловко. Вы же видите — вся Вена танцует.
— Ну, если вы считаете…
— Да, я считаю.
— В таком случае, позвольте представиться, — начал Бо, но дама перебила его.
— Этого не нужно. Я знаю, кто вы. Мы встречались с вами на приеме в магистрате. А вот меня зовут Эльза Ван Боксен. И мне приятно с вами познакомиться. Ну, попробуем?
— Может быть, не в таком людном месте? — засомневался Бо.
— Наоборот, здесь на вас никто не обратит внимания. Посмотрите, все танцуют, как умеют.
Действительно, люди танцевали самые разные — от молодежи до вполне почтенных кавалеров с матронами, было полно простолюдинов, которые тоже смешивались с общей толпой.
— Ну что ж, — сказал Бо, — покоряюсь.
Дама попросила какого-то мальчугана подержать собаку, Бо взял ее под руку и провел к танцующим.
Конечно, он никогда бы не решился танцевать вальс, да еще прямо на улице. Но дама действовала на него успокаивающе и бодряще.
Бо успел разглядеть, что ей лет тридцать — тридцать пять. Она смотрела открыто и прямо, не пряча глаз и не кокетничая, говорила спокойно и убежденно. Она не была похожа на женщин, которые зарабатывают на жизнь собственным телом. В ней чувствовалась порода, шарм, достоинство. Однако Бо, разумеется, насторожило то, что женщина подошла к нему первая. Он был человеком весьма широких взглядов, но даже его это смутило, если не сказать — шокировало.
Впрочем, он допускал, что австрийская столица в этом смысле отличается от других городов и здесь просто так принято.
— А теперь обнимите меня за талию. Вот так, покрепче. Хорошо, — распоряжалась дама. — Вашу левую руку отведите в сторону, а я положу на вашу ладонь свою. Теперь остается только довериться музыке.
И она вдруг сделала быстрое движение и увлекла Бо в круг танцующих. Он даже не успел заметить, как это произошло. Он и не обратил внимания на свои ноги. Он кружился в вальсе и чувствовал себя превосходно.
— Ну, видите? Это совсем не сложно. Дело все в том, что вальс создан для людей, а не наоборот. Он привычен и легок для вас, только вы раньше этого не знали.
— Вы творите чудеса, — сказал Бо.
— Это моя профессия.
— Вы фея?
— Нет. Я же уже сказала вам, что я учу людей танцевать.
— И этим можно заработать на жизнь? — чисто по-американски спросил Бо.
— По правде говоря, эти вопросы считаются не очень тактичными, — тут же заметила дама. — Но я вам прощаю, потому что вы из-за океана. Нет, на жизнь этим не заработаешь. Во всяком случае, на ту, которую веду я. Надеюсь, с материальной стороной мы кое-как разобрались? — улыбнулась она иронично.
— Простите. Я не хотел вас обидеть.
— Что вы! Вы и не обидели меня. Наоборот, я очень горжусь тем, что работаю. Так! Так! Слушайте музыку. И забудьте про свои ноги.
Но стоило ей это сказать, как Бо именно на ноги обратил внимание и тут же сбился с ритма, чуть не налетел на другую пару, еле удержал свою даму, а в конце концов просто остановился.
— Ну, на первый раз хватит, — сказала дама. — Благодарю вас.
— Что вы! Это я вас благодарю.
Они вернулись в толпу наблюдающих, и дама нашла свою собаку.
— Не будет ли очень дерзким с моей стороны, если я приглашу вас куда-нибудь в уютное место, чтобы выпить чашку кофе с замечательными венскими пирожными?
— С удовольствием, — ответила дама. — Я покажу вам очень милую кондитерскую. А я и не знала, что мужчины тоже бывают сладкоежками.
Она улыбнулась ему и подставила локоть, чтобы он взял ее под руку.
«Европа! — восхищенно думал Бо. — Свобода нравов!»
Кондитерская была совсем недалеко и действительно оказалась очень уютной.
Бо помог даме снять ее замечательную шубу из голубого песца, собаку они поручили официанту и вскоре уже сидели за столиком у камина, рассматривая меню.
— Ну, что вы хотите? — спросила дама.
Приглашая даму в ресторан, Бо сам задавал этот вопрос. Но, видно, дама взяла на себя роль гида.
— Кофе капучино, два эклера и безе.
— Отлично. Может быть, хотите коньяку? Здесь есть неплохой французский.
— Не знаю…
— А я выпью. После мороза хочу немного согреться.
— И я тоже выпью, — сказал Бо.
Дама подняла палец — и тут же подбежал официант. Бо не успел и рта раскрыть, как дама заказала все, что они выбрали.
Это уже выходило за рамки роли гида. Но, может быть, дама думала, что Бо не владеет немецким? Ведь они с ней разговаривали по-английски.
— Ихь мюхте этвас заген[1], — сказал Бо.
— Не стоит, — перебила его дама. — Давайте говорить на вашем родном языке.
— А какой родной язык ваш? — спросил Бо.
— Голландский. Мои предки — очень знаменитый род Ван Боксен.
— У меня тоже знаменитый род, но в своем роде, — неловко скаламбурил Бо.
— Вы до сих пор не сказали мне ничего о гастролях. Я вот сижу и думаю — неужели есть хоть один театральный работник, который может более пяти минут не говорить о театре. Вы продержались почти час.
— Значит, сейчас вы даете мне шанс отыграться. Так что вас интересует в мировом театре вообще и в моем театре в частности?
— Меня многое интересует, но в первую очередь один представитель театра, а именно — вы.
— Весь к вашим услугам, — сказал Бо. Он все более чувствовал себя не в своей тарелке. Эта Эльза Ван Боксен была совсем не похожа на тех дам, с которыми ему приходилось общаться до сих пор. Она не слушала его, открыв рот, не млела, была в меру иронична, хотя при этом оставалась вполне женственной.
Официант принес заказ.
— Я предлагаю выпить за успех ваших гастролей, — сказала Эльза.
— Ни за что! — воскликнул Бо. — За это пить нельзя. Что вы? Сглазите.
— Ага, вы, значит, суеверны? — улыбнулась Эльза.
— Я хотел бы увидеть хоть одного несуеверного режиссера или актера. На таких тонких ниточках держится успех — не приведи Господь задеть хоть одну из них.
— Ну тогда давайте выпьем за Вену.
— С удовольствием.
— Знаете, Бо, мне не очень нравится наш разговор, — сказала вдруг Эльза. — Это какая-то светская беседа. Много слов, политеса, экивоков и книксенов. Мы так долго будем продираться к интересному.
— Возможно. Даже наверняка — вы правы. Я тоже терпеть не могу таких бесед. Но есть одно оправдание — я никогда не встречал таких женщин, как вы. Простите, это прозвучало пошло, но я имею в виду…
— Я поняла, — перебила Эльза. — Ну что ж, это досадно, что я такая редкость. Но ничего не поделаешь. Я — такая, какая есть.
— Да-да. Именно поэтому я сбился на светский тон. Просто растерялся.
— Ладно, не будем останавливаться на протоколе. Предлагаю пойти прогуляться. Потом мы расстанемся с вами на полчаса, чтобы переодеться, потому что вечером мы отправимся в гости.
— Куда, если не секрет? — спросил Бо, чувствуя, что уже теряет терпение.
— Не секрет. К принцессе Гольштадтской.
— Очень интересно. А как вы догадались, что я хочу туда пойти? — с иронией спросил Бо.
Эльза поняла эту иронию, но вовсе не обиделась.
— Если не хотите, не надо ходить, — сказала она.
Официант принес счет, но не успел Бо достать портмоне, как Эльза уже расплатилась и встала.
— Сядьте, пожалуйста, — тихим голосом, не предвещавшим ничего доброго, сказал Бо.
— В чем дело?
— Уважаемая Эльза Ван Боксен. Я просил бы вас впредь не расплачиваться за меня. Более того, я просил бы вас впредь быть столь любезной и позволить мне расплачиваться за вас.
— Почему? — искренне удивилась Эльза.
Какое-то время Бо только открывал рот, но ничего не говорил. У него не было слов. Он не знал, что ответить на этот простой вопрос.
— Почему? Потому что я не привык, что за меня платит дама, — наконец нашел он нужные слова, чтобы объяснить очевидное.
— Но почему? — снова спросила Эльза. — У меня есть деньги. Я пригласила вас в эту кондитерскую…
— Потому, уважаемая Эльза Ван Боксен, что я — мужчина!
— Но это не ваша заслуга, — мягко заметила Эльза.
— Да, это не моя заслуга, — уже закипая, проговорил Бо, — но это дает мне право…
— Диктовать мне, как себя вести? — Эльза, которая так и не села, возвышалась над Бо, чуть насмешливо оглядывая его сверху вниз. — Мои добрые знакомые сказали, что вы поставили спектакль о свободе и равенстве людей. Наверное, они ошиблись.
Эльза повернулась и, не оглядываясь, вышла из зала.
Да, такого удара Бо не ожидал. Его побили его же оружием.
Он догнал Эльзу уже на улице и молча пошел с ней рядом.
Она тоже ничего не говорила.
— Слушайте, я был неправ, — сказал Бо.
— А вы умеете кататься на коньках? — спросила Эльза, словно ничего не произошло.
— Когда-то умел. А что?
— Значит, умеете и сейчас. Мы должны обязательно попробовать с вами танцевать вальс на коньках.
Бо вдруг остановился и начал хохотать. Он сгибался от смеха, он держался за живот, он хватался за стены, чтобы не упасть.
Эльза сначала смотрела на него удивленно, а потом тоже стала посмеиваться и наконец захохотала.
Прохожие с опаской поглядывали на них.
— Вы смеетесь надо мной? — сквозь смех выговорила Эльза.
— Нет… я над собой! — точно так же ответил Бо. — Никогда еще мне не было так смешно… Ой, я сейчас лопну… Ой, держите меня…
Собака, недоуменно смотревшая на смеющуюся хозяйку, вдруг тоже залилась лаем. И это вызвало у Бо и Эльзы новый приступ смеха.
Потом они гуляли по улицам, рассматривали памятники, которые Бо уже видел много раз, заглядывали в витрины магазинов, и все смешило их, как детей.
— Ну, нам пора переодеваться, — сказала Эльза, когда часы на ратуше пробили шесть раз. — Я заеду за вами в семь. Вы успеете?
— А можно я заеду за вами? — спросил Бо.
— Нет, конечно, мне ведь по дороге, а вам в обратную сторону.
— Но дело в том, что я боюсь идти на прием.
— Почему?
— Потому что там я точно лопну от смеха. А мне хочется еще немного пожить.
— Но тогда почему вы хотите заезжать за мной? Мы пойдем куда-нибудь еще?
— Да. Мы пойдем к вам, — сказал Бо и весь сжался внутренне, ожидая если не оплеухи, то во всяком случае — резкого отказа.
— Отлично, — сказала Эльза. — Тогда я жду вас. Впрочем, что я говорю. Вам же не надо переодеваться, чтобы прийти ко мне в гости.
— Не надо. Если у вас, конечно, не будет какого-нибудь короля.
— Все, пошли. Здесь совсем рядом. А вы знаете, я и сама не очень-то люблю приемы…
Архитектор, строивший дом, в котором жила Эльза, был, очевидно, помешан на барокко. Колонны, статуи, лепнина, мрамор и бронза здесь были в таком обилии, что их хватило бы на несколько дворцов.
— Мне тоже не нравится, — сказала Эльза, поймав растерянный взгляд Бо. — Все время кажется, что я живу в музее.
— А мне — ничего. — Бо посмотрел на строй статуй. — Мне нравится, когда много народа.
— Ганс, накройте стол для ужина двоих. Мы сегодня остаемся дома, — сказала она молчаливому слуге, принимавшему их верхнюю одежду. — Пойдемте в зал?
— Да, звучит заманчиво, словно предстоит спектакль.
В большом зале со стрельчатыми окнами и дубовыми панелями было намного просторнее из-за отсутствия украшений. Только большая кованная из железа люстра свисала с потолка. Посреди зала стоял биллиардный стол, по стенам висели шпаги, сабли, старинные пистолеты. Здесь же была рапирная дорожка и даже гимнастические снаряды и гири.
— Вы умеете фехтовать? — спросила Эльза.
— Нет. Никогда этим не занимался. В Америке, знаете ли, это не модно.
— А вы занимаетесь только тем, что модно?
— Что вы! Я сам создаю моду. Скажем, после моего спектакля «Школа злословия» половина Нью-Йорка надела жабо.
— Ну, тогда мы сыграем на биллиарде.
— Неужели все время надо чем-то заниматься? — сказал Бо. — Куда-то спешить, развлекать себя? Неужели нельзя просто посидеть и поговорить? Вы, кажется, хотели о чем-то спросить меня.
Эльза достала из кармана золотой портсигар с тонкими папиросами и закурила.
И это тоже было для Бо открытием. Он впервые видел женщину, которая курит. Впрочем, он решил ничему не удивляться.
— Я слышала, вы были в Африке? — спросила Эльза.
— Да. Но это долгая история. Впрочем, если вам интересно…
— Нет-нет, не стоит.
Эльза выпустила облачко дыма и внимательно проследила, как оно растаяло в воздухе.
— Мы чего-то ждем? — спросил Бо.
— Вообще-то да, — сказала Эльза.
— Чего же?
— Прилива вашей смелости. — Эльза повернула голову к Бо и посмотрела ему в глаза.
«Та-ак, — подумал Бо. — Вот так, значит?»
Чувство неловкости и растерянности уже угнетало его. Он почти физически ощущал свою никчемность, провинциализм, ограниченность. Эта женщина совсем лишила его уверенности. Она заставляла его все время играть какого-то другого человека, каким Бо никогда не был. Она превратила его в мальчишку, который надел отцовский костюм и пришел на танцы. Он из кожи вон лезет, чтобы выглядеть взрослым и опытным. А сам боится взглянуть даме в глаза.
Бо встал.
— Я пойду, — сказал он. — Боюсь, у меня ничего не получается.
— Да-да, — сказала Эльза. — Идите.
Она снова иронично улыбнулась и снова пустила облачко дыма.
— Простите меня, — сказал Бо. — Я, наверное, действительно не тот, за кого вы меня приняли.
— Да, — согласилась Эльза.
— Всего доброго.
— Прощайте.
Бо вышел в переднюю, надел пальто, погладил прибежавшую собаку и вышел на улицу.
Конечно, это было бегство. Позорное, жалкое бегство. Хорошо, что наступил вечер и прохожие не видели, как Бо краснеет до корней волос при одном воспоминании о сегодняшнем знакомстве.
Он слышал, конечно, о движении суфражисток, даже думал всегда, что поддерживает их борьбу за равные права с мужчинами. Нет, не только думал. Он, помнится, как-то подписывал их петицию. Все их требования казались ему вполне разумными и достойными.
Но теперь выходило, что именно против него было направлено это движение. Не лично против Бо, но против всего строя мыслей мужской половины человечества. И все разумные и достойные требования суфражисток становились вдруг неприемлемыми и абсурдными, когда дело касалось лично тебя.
«— А что, собственно, произошло? — думал Бо, как обычно, диалогически. — Почему я решил, что это мое, данное от рождения право, брать женщину под мышку и тащить, куда мне вздумается? Почему я знакомлюсь с ней, а не она со мной? Почему я приглашаю, а не она?
— Ну что ты говоришь! Это же дикость! Ты же сразу решил, что Эльза кокотка.
— Она не кокотка.
— Но тебе больше нравятся недоступные, правда? Ты ведь их уважаешь? Тебе нравится ухаживать, добиваться благосклонности, завоевывать.
— Да. Но это, честно говоря, ужасно. Наши отношения с женщинами строятся на какой-то заведомой лжи. На какой-то нечистой игре. Ведь и он и она знают, чем все закончится, но с упорством, достойным лучшего применения, выстраивают какие-то лабиринты, ткут тончайшие узоры, плетут сети в виде кружев… И все это называют — любовь. Сколько вздохов, стихов, цветочков, подарочков, томных взглядов и недомолвок!..
— Но ведь это красиво! Да, собственно, вся мировая литература строится на любовной интриге. Лучшие поэты, композиторы, писатели, художники…
— Лгут! Возводят женщину до степени божества, чтобы потом помыкать ею, как рабой. Но вдруг это божество говорит: постойте, я сама хочу выбрать того, кто мне нравится. И что тут начинается! В каких только грехах ее не обвинят!
— А ты? Не ты ли сейчас позорно бежишь именно от такой гордой и самостоятельной?
— Да. Больше скажу — как только Уитни попыталась быть самостоятельной, я тут же преподал ей урок послушания. Я — как все. Это страшно, но я должен в этом сознаться честно.
— Ну так вернись к Эльзе. Еще раз извинись и… хи-хи… отдайся.
— Слушай, ты хочешь со мной поссориться?
— А что я, собственно, такое сказал? Я только продолжил твои мысли.
— Но, Боже мой, думать и делать, к сожалению, не одно и то же!
— А может быть, к счастью?»
До открытия гастролей оставалась неделя.
Билеты были раскуплены на все спектакли. Ходили упорные слухи, что ожидается присутствие на премьере монархической семьи. Впрочем, в Лондоне тоже ходили об этом слухи, но никто так и не пришел.
Однако Бо это сейчас мало волновало, потому что он закончил репетиции с новой актрисой и с головой ушел в работу над новым спектаклем. Пока еще без актеров, Бо целыми днями просиживал в своем номере, обложившись книгами, записями, репродукциями, и что-то постоянно читал, рисовал и записывал. К нему допускался только агент, который раз в день делал доклад о текущих делах.
Об Эльзе Бо заставлял себя не думать, но из этого мало что получалось, потому что ставить он собирался историю о Жанне д’Арк. И невольно, изучая историю жизни французской героини, сравнивал ее с Эльзой.
Иногда он приглашал к себе Чака Боулта, чтобы просто поболтать и отвлечься от работы.
Чак был прекрасным собеседником. Вообще в его компании было весело и интересно. Он знал массу негритянских спиричуэлс и пел их приятным густым басом.
— Я хочу в Америку, Бо, — сказал он однажды. — Знаешь, Европа как-то расслабляет меня. Здесь я почти забыл о цвете своей кожи, о том, сколько невзгод нам пришлось пережить, о том, что мои черные братья и сестры в Америке по-прежнему считаются недочеловеками…
— Я не понимаю, Чак. Если тебе так хорошо здесь, то что же тебя тянет в Штаты? — спрашивал Бо, хотя понимал Чака прекрасно.
— Знаешь, мать мне в детстве рассказывала историю о зайце, который попал в клетку. Там его кормили, поили, ухаживали за ним. Никто не мог убить его. Он и думать забыл о волке. Словом, все было прекрасно. А он взял и сдох. Почему? Потому что не мог бегать.
— Ну, Чак, волков и здесь хватает!
— Это не мои волки, Бо, — засмеялся Чак.
Он был прав, этот красивый негр. Европа расслабляла не только его. Бо стоило больших усилий снова войти в ритм работы, разбудить в себе азарт и вдохновение. Ведь то, что в Америке казалось важным и животрепещущим, было здесь совершенно несущественным. Ну кого здесь волновали вопросы сегрегации? Или преступности? Европа жила тихо и мирно. Это была земля, на которой никогда не начнется война. А Америка вся бурлила, раскаленный пар уже готов был вот-вот сорвать крышку с котла!
К вечеру Бо уставал и выходил гулять. Снова он слушал оркестры, играющие вальс, и невольно оглядывался вокруг — не стоит ли где поблизости свободная женщина по имени Эльза Ван Боксен.
В тот вечер он пригласил к себе Чака и ждал его, заказав в номер ужин на двоих.
Поэтому, когда раздался стук в дверь, он ничуть не удивился и сказал:
— Входи, Чак.
Дверь открылась, но на пороге стоял не Чак Боулт, а улыбающаяся Эльза, которая держала в вытянутой руке пару ботинок с коньками.
— Вальс на льду, — сказала она. — Ну хоть на это вы способны?
И все завертелось, как в вальсе.
Бо в тот же вечер ночевал у Эльзы. А на следующий день и вовсе перебрался из гостиницы в ее музейный дом.
По утрам Эльза уходила к своим ученикам, а Бо поднимался только к десяти, завтракал и шел в театр, чтобы еще раз удостовериться — все готово к премьере.
По вечерам они с Эльзой обязательно шли куда-нибудь, она терпеть не могла оставаться дома.
— Ты же знаешь, Бо, я не люблю этот дом, — говорила она.
— Давай снимем другой. Мне кажется, в Вене много домов.
— Не могу. Это семейная реликвия. Я обещала отцу, что никогда не покину этот дом.
— Знаешь, мне кажется иногда, что в нем водятся привидения.
— Это тебе не кажется, — шутила Эльза. — Дом действительно полон привидений.
И она высоким голосом восклицала:
— Ого-го-о!
Эхо возвращалось таинственным и даже пугающим.
Но и Бо нравилось вместе с Эльзой ходить к ее друзьям. Это не были обычные официальные приемы. Это были встречи художников и музыкантов, актеров, архитекторов, газетчиков… В этих компаниях Бо чувствовал себя как рыба в воде.
— Знаешь, — как-то сказал ей Бо, — я боюсь, что начинаю в тебя влюбляться.
— Ну и глупо! — засмеялась Эльза. — Прекрати, пожалуйста!
Бо и сам засмеялся вместе с ней, но неприятный осадок в душе у него остался.
Как-то он задержался в театре допоздна, потому что собрал актеров на первую читку пьесы. После читки было много разговоров, он отвечал на вопросы, сам спрашивал, спорил, словом, не заметил, как наступил вечер.
Дома Эльзы не было. Ганс сказал, что хозяйка ушла час назад.
Бо никак не мог вспомнить, куда же они собирались пойти сегодня, поэтому не стал искать Эльзу, а забрался в библиотеку и стал просматривать огромные старинные фолианты.
Да, таких книг он не видел! Тут было целое богатство — переплетенные кожей тома, напечатанные еще допотопным способом. А какие иллюстрации! Их даже нельзя было назвать иллюстрациями — это были маленькие произведения искусства, каждое нарисовано вручную.
Здесь Бо нашел и книги по истории Франции, и о том периоде, когда Орлеанская Дева командовала войсками.
Когда он посмотрел на часы, то с удивлением увидел, что уже три часа ночи.
«Наверное, Эльза уже давно вернулась и спит», — подумал он и пошел в спальню.
Эльзы там не было.
Бо обошел весь дом, но хозяйку не нашел.
Услышав шаги, вышел из своей комнаты слуга, спросил, не желает ли Бо чего?
— Хозяйка еще не вернулась? — спросил Бо.
— Нет, — ответил слуга.
Бо заволновался. Не могла же она так долго оставаться в гостях.
— А ты не знаешь, куда она отправилась? — спросил он Ганса.
— Нет. Но волноваться не стоит, хозяйка обязательно вернется.
Бо отпустил слугу, а сам сел в гостиной и принялся ждать.
В четыре часа ночи он оделся и вышел на улицу.
Город был пуст. Редкий огонек горел в окне. Побродив у дома, Бо вернулся, почему-то ему показалось, что Эльза вернулась как раз в тот момент, когда он дошел до соседней улицы.
Эльзы не было.
Не было ее и в пять утра. И в шесть.
В половине седьмого Бо, который все это время бродил по пустому дому, натыкаясь на статуи, решил послать за полицией.
Сонный Ганс принял эту идею без особого энтузиазма, но все же оделся и пошел, потому что телефона в доме не было. Благо полицейский участок был рядом.
Но не успел Ганс уйти, как дверь дома широко распахнулась и вошла веселая, разрумянившаяся Эльза.
— Ты не спишь, Бо?! — обрадовалась она. — На улице так хорошо! Пойдем поиграем в снежки!
— Наверное, ты занималась этим всю ночь, — грозно сказал Бо. — У тебя очень счастливый вид.
— Правда?! Да, я прекрасно провела время!
— А я ужасно.
— Что случилось?! Ты заболел?!
— Случилось то, что я не спал всю ночь! Я волновался! Тебя не было! — закричал Бо, окончательно выведенный из себя. — Где ты была, черт побери?!!
Эльза молча сняла свою шубу, шляпку и стала подниматься по лестнице.
Бо не выдержал такого пренебрежения. Он догнал и схватил ее за руку.
— Я спросил тебя, где ты была?! Имей уважение ответить!
— Пусти, ты мне делаешь больно, — холодно сказала Эльза.
Бо отпустил ее руку.
— В таком тоне я не намерена с тобой разговаривать.
И она снова двинулась вверх.
— Но я намерен разговаривать с тобой!
— Представь, для этого нужно и мое согласие.
Вошел Ганс с двумя полицейскими, увидел хозяйку и сказал:
— Простите, господа, тревога была напрасной, как я и предполагал.
— Значит, все в порядке? — спросил один полицейский.
— Да, — сказала Эльза. — Все в порядке. Спасибо, господа.
Полицейские удалились.
— Это ты вызвал их? — обратилась Эльза к Бо.
— Да.
— Почему?
— Потому что я посчитал, что если женщина не возвращается всю ночь домой, то с ней случилось несчастье.
— А если мужчина?
— Что мужчина?
— Если мужчина не возвращается?
— Эльза! Я терплю твои суфражистские причуды, но все имеет границы!
— Бо, это не причуды. Как ты не можешь понять? Я не собираюсь хоть в чем-то менять свои привычки только из-за того, что ты живешь со мной.
— Тогда я уйду.
— Ты свободен. Надеюсь, ты понимаешь, что и я свободна. А теперь, прости, я хочу спать.
— Значит, тебе все равно, здесь я или меня нет?
— Почему же? Мне приятно, что ты со мной. Но это не дает тебе право хоть как-то распоряжаться моей свободой. Пожалуйста, Бо, не надо обострять. И ты и я — абсолютно друг от друга не зависим.
— Но зачем же мы тогда вместе?
— А разве тебе плохо?
Целый день Бо ходил как в воду опущенный. Это новое испытание для его убеждений и привычек было уже почти что за гранью возможного. Пусть они с Эльзой не семья, но безмолвно они как бы уговорились не только доставлять друг другу удовольствие, но и нести заботы и ответственность друг за друга.
Он понимал, что ему надо, пока не поздно, расставаться с Эльзой. Но сделать ничего не мог. Он уже привязался к ней. Эта женщина влекла его к себе, как горький, но пьянящий напиток. Он чувствовал ее магическую притягательность, ее непокорность только еще больше привязывала его. Так или иначе, не сознаваясь даже самому себе, он пытался привязать ее, сделать хоть в чем-то зависимой, но пока получалось, что зависимым становился он.
На следующий день было открытие гастролей.
С утра Бо встал чуть ли не раньше Эльзы. Надо было идти в театр и еще раз проверить, все ли готово? Поговорить с актерами, подбодрить их, принять почетных гостей.
— К сожалению, — сказал он Эльзе, — я не смогу заехать за тобой перед спектаклем. Но я пришлю кого-нибудь…
— Не надо никого присылать, Бо. Я сама прекрасно доеду. Мне даже будет приятно прийти в твой театр обыкновенной зрительницей, но в глубине души знать, что я тебе не совсем чужая.
— Хорошо. Мы встретимся после спектакля.
— Почему?
— Я должен быть за кулисами.
— Боже мой, Бо, какой же ты деспот! — рассмеялась Эльза. — Неужели актеры без тебя не справятся?
— Но я… Я просто привык…
— А ты отвыкни. Вот попробуй хоть раз довериться людям. Дай им почувствовать свою свободу, а значит, ответственность.
— Как это?
— А так, просто не ходи в театр сегодня вообще. Придем сразу на спектакль. И ты увидишь, все пройдет прекрасно.
— Ты с ума сошла! — рассмеялся Бо.
— Почему? Почему? Ну хоть раз попробуй! Тебе понравится!
— Нет, я так не могу…
— Ну смотри сам.
Бо подумал, помялся и сказал:
— Хорошо. Давай сделаем так. Я схожу сейчас в театр ненадолго и тут же вернусь. А вечером приду вместе с тобой.
— Полумеры, — разочарованно протянула Эльза. — Ну ладно, раз уж ты совсем не можешь — иди. Но обещай, что скоро вернешься.
— Обещаю.
Особой суматохи в театре не было. Все занимались своими делами, к Бо подходили за советом только из приличия. Он побродил за кулисами, поговорил с актерами и понял, что он действительно здесь совершенно лишний, все будет делаться и без него.
«А что? Рискну разочек? — подумал он. — Действительно, почему я всем не доверяю?»
Он вызвал агента и сообщил, что уходит. Вернется только к спектаклю.
— Но как мы без вас? — растерялся агент.
— Вы прекрасно справитесь. Я доверяю вам.
И Бо вернулся к Эльзе.
Этот эксперимент, правда, стоил ему нервов, потому что отвлечься от сегодняшнего открытия он не мог. Эльза не работала сегодня и весь день пыталась, почти безуспешно, отвлечь Бо.
Она заставила его сыграть на биллиарде. Потом они пошли выбирать ему новый галстук, а ей новую шляпку. Потом они сидели в своей любимой кондитерской, правда, Эльзе так и не удалось заставить его станцевать вальс под один из уличных оркестров.
— Да, я уже жалею, что уговорила тебя, — смеялась Эльза. — Но вот увидишь, все пройдет прекрасно.
Бо стал собираться за два часа до начала. Его нервы уже не выдерживали. Но Эльза вдруг вздумала принять ванну, потом она делала прическу, потом долго выбирала платье. Вообще-то всегда она собиралась очень быстро, в отличие от женщин, которых знал Бо. Но на этот раз…
— Эльза, мы опоздаем, — торопил Бо.
— Разве? У нас еще полчаса.
— Ты что, хочешь, чтобы я не успел даже зайти за кулисы?
— Конечно. Тебе нечего там делать. Поверь, у твоих актеров сегодня праздник двойной — открытие гастролей и твое полное доверие. Не надо омрачать ни один из них.
И Бо смирился.
Они приехали в театр как раз к третьему звонку.
В фойе было уже пусто, если не считать нескольких солдат, которые стояли караулом у входа в ложу.
— Поздравляю, — сказала Эльза. — Сегодня у тебя вся Вена, включая монарха.
Они только успели сесть на свои места, как занавес открылся и спектакль начался.
«Фу, началось без приключений! — радостно подумал Бо. — Наверное, Эльза права. Я уверен, что все пройдет прекрасно».
Эльза смотрела на сцену завороженно. Только ее рука, лежавшая на руке Бо, сжималась иногда от прилива чувств.
— Ты все еще волнуешься? — шепнула она, когда на сцене была перемена декораций.
— Да. Сейчас будет играть актриса… Словом, это ее премьера. Я волнуюсь за нее.
— Ты мне ее покажешь, ладно?
— А ты сама угадай, — сказал Бо.
Эльза кивнула.
Занавес снова открылся, и действие продолжалось. Бо мысленно повторял первые слова, которые должна была сказать введенная на роль Уитни актриса. Только бы все прошло хорошо.
— Это она? — шепнула Эльза. — Я угадала?
Бо потрясенно смотрел на сцену.
Вышла Уитни.
«Я схожу с ума, — подумал Бо. — Откуда Уитни? Она в Америке».
— Это она? — снова шепнула Эльза. — Она прекрасно играет. Ты совершенно зря волновался…
Но Бо уже не слышал ее. Он пробирался к выходу.
— Мы не знали, где вас искать, — увидев Бо, жалким голосом проговорил агент. — Она сказала, что она…
— Когда она явилась?
— Как только вы ушли…
— Где Чак? Ах, да…
Чак был на сцене.
Бо увидел в углу заплаканную Мэджи, которая должна была играть сегодня премьеру.
— Ничего, — сказал он ей. — Следующий спектакль твой, вы будете играть по очереди.
— Нет-нет… Я так… Просто я готовилась…
Бо приобнял Мэджи.
Он смотрел на сцену.
— Нам не надо было ее выпускать? — спросил агент.
— Нет, вы все сделали правильно. И я это знал.
Сцена Уитни закончилась.
Она чуть замедлила уход, потому что в зале раздались аплодисменты.
— Здравствуй, Уитни, — сказал Бо.
Она остановилась перед ним — сияющая, радостная, счастливая, прекрасная.
— Здравствуй, Бо. Я вернулась. Я вернулась совсем…
— Иди переодевайся, — сказал Бо. — Ты можешь опоздать на следующий выход.
Она кивнула и побежала в свою гримуборную…
Об Эльзе Бо вспомнил только тогда, когда закончился спектакль и отгремели овации, когда ушли поклонники, заставившие сцену и закулисье корзинами цветов, когда счастливые актеры разошлись по своим комнатам, а рабочие сцены стали носить мебель и переставлять декорации.
Бо кинулся в фойе.
Эльза ждала его.
Ему ничего не пришлось объяснять.
— Ты сегодня вернешься? — спросила она.
— Нет.
— Тогда я сейчас поздравлю тебя, можно?
Бо кивнул.
Эльза обняла его и поцеловала.
— Спасибо, американец. — Она повернулась и пошла к выходу — гордая, независимая, красивая женщина.
И снова был праздник в ресторане. И снова все пили и произносили длинные тосты, а Бо сидел рядом с Уитни, держа ее за руку, и счастливо улыбался.
Через два дня они объявили о помолвке. Театр, который затаив дыхание следил за их бурным романом, вздохнул с облегчением. Все считали, что Бо и Уитни — прекрасная пара.
На третий день Бо отправился к Эльзе. Он не мог так просто расстаться с ней. Он почему-то чувствовал свою вину, хотя она всегда говорила, что он свободен и волен поступать, как ему заблагорассудится.
«Я впервые хочу, чтобы женщина была моим другом, — думал Бо об Эльзе. — И Эльза поймет меня».
Хозяйка встретила его радушно.
— Бо! — воскликнула она и чмокнула его в щеку. — Ну наконец-то! Твой торжественный вечер затянулся. Хочешь есть? Я как раз собираюсь пойти куда-нибудь.
— Спасибо, Эльза, я не хочу… Собственно, я пришел попрощаться с тобой.
— Как? Сразу уходишь?
— Мы можем поговорить…
— Только не сейчас, — Эльза надела шляпку и приколола шпилькой. — Давай вечером, ладно?
— Эльза, ты не поняла меня. Я вообще ухожу, — с трудом выговорил Бо.
Эльза медленно повернулась к нему.
— Значит, я для тебя все-таки слишком неудобна?
— Не в этом дело… Наоборот… Мне было необычно, но очень хорошо с тобой… Понимаешь, я давно был влюблен… В общем, безнадежно влюблен… Но так получилось, что…
— Ты уходишь к другой женщине?
— Да, Эльза, прости…
Она молча покачала головой.
— Не-ет. Нет, ты никуда не уйдешь, — сказала она отрешенно. — Ты не можешь уйти…
— Прости, Эльза, я не хотел…
— Нет, Бо, ты не уйдешь. Что ты говоришь?! Я никуда тебя не пущу. Это глупость, выбрось это из головы!
— Не надо, Эльза… Я хочу, чтобы мы расстались друзьями.
Какое-то время Эльза только потрясенно смотрела на него.
— Что?! Друзьями?! И ты предлагаешь мне это?! Ты сошел с ума, Бо. Нет, ты просто шутишь, да?
— Я не шучу, Эльза… Все это ужасно…
— Я не пущу тебя никуда! — Эльза вдруг порывисто обняла его и прижалась к его груди. — Бо, милый, что ты говоришь? Ты не можешь бросить меня! Ты… Ты понимаешь, я ведь люблю тебя…
Она подняла голову, и Бо увидел в ее глазах слезы.
— Не бросай меня, Бо!
— Подожди, Эльза, но ведь ты всегда говорила, что мы свободны… Именно за это я тебя уважаю…
— А мне мало этого! Я хочу, чтобы ты был мой и только мой! Бо, милый, я обыкновенная женщина! Забудь обо всем, что я тебе наговорила, я люблю тебя, ты слышишь? Я тебя люблю!
Она опустилась на колени и обняла его ноги.
— Я умоляю тебя, не уходи!
— Ну что ты, Эльза? Ну что ты?.. Боже мой… Как же это?.. — Бо сам чуть не плакал.
— Ты слышишь, Бо, я на коленях тебя прошу — останься. Я была глупа, я была дура дурой! Ведь я же с самого первого дня любила тебя! Слышишь, Бо? Я жить без тебя не могу! Бо, пожалуйста, милый, любимый, не уходи…
Она покрывала поцелуями его руки, шею, лицо.
— Встань, Эльза, поднимись. Успокойся.
— Нет, я не встану до тех пор, пока ты не скажешь мне, что остаешься!
— Но, Эльза…
— Нет! Ничего не хочу слышать, только одно — ты остаешься?
— Боже мой… Что я наделал? Я остаюсь, — сказал Бо, чувствуя, как проваливается в какую-то пустоту.
Эльза еще долго плакала, а он утешал ее. Когда он снова и снова повторял, что да, он остается, она начинала смеяться счастливо, целовала его, клялась в любви, говорила слова, от которых у Бо кружилась голова.
Ночью близость окончательно помирила их. Эльза была безудержно-страстной, нежной, податливой и безоглядной.
— Любимый, мой любимый, — говорила она. — Мой самый лучший, самый красивый, самый добрый… Я так счастлива.
Бо заснул уже под утро. Опустошенный и безразличный ко всему.
Ганс разбудил его около полудня легким почтительным покашливанием.
— Доброе утро, Ганс, — сказал Бо. — Я скоро выйду к завтраку.
— Хозяйка просила вам передать вот это, — и Ганс протянул Бо лист бумаги.
«Милый, добрый, любимый мой Бо, — писала Эльза. — Прости меня. Прости мою бездумную слабость. Я слишком люблю тебя, чтобы удерживать. Мне было так хорошо с тобой, но это наваждение, которое пройдет. Ты не беспокойся обо мне. Все-таки я сильная женщина. Правда, какое-то время я не смогу видеться с тобой. Может быть, довольно долго. Но ты поймешь меня. И простишь. Ты говорил, что хочешь видеть меня своим другом. Я тоже этого хочу. Уверена, что когда-нибудь мы сможем воплотить эти наши обоюдные желания. Я сама найду тебя, когда почувствую, что в силах сделать это.
Желаю тебе счастья. Если кто на земле и достоин счастья, то это ты.
Прощай.
Эльза Ван Боксен».
Через два месяца в Берлине Бо и Уитни поженились…
Кино
Объехав почти всю Италию, Джон и Бьерн пришли к общему выводу — надоело болтаться без дела.
— Я поеду в Стокгольм, — сказал Бьерн. — Открою свою студию, стряхну пыль с подрамников и начну работать.
— А я…
— А ты поедешь со мной. Куда тебе еще податься?
— И что мне делать в твоей студии?
— Позировать. Я давно хочу написать твой портрет.
— Ты напишешь его по памяти, Бьерн. Ведь я приехал в Европу не затем, чтобы стать натурщиком.
— Хорошо. А зачем ты приехал в Европу?
Джон задумался. Вот так просто ответить на этот вопрос он не мог. Он и себе задавал его все последние дни, но ответа не находил.
— Ладно, тогда мы поедем в Париж, — сказал Бьерн.
— Почему именно в Париж?
— Потому что там всегда есть чем заняться. Веселый город!
Этот аргумент почему-то показался им убедительным, и они действительно отправились в Париж.
Надо ли говорить, что Бьерна знали здесь в каждом артистическом салоне, на всех выставках, во всех театрах.
Первые дни прошли настолько бурно, что Джон не успел заметить, как пролетела неделя.
— Все, — сказал он. — Я больше не могу. Мне эта богемная жизнь — вот где!
— Правильно, — тут же согласился и Бьерн. — Бросим все и поедем в Китай.
— Нет, Бьерн, я больше никуда не поеду. Прошло уже два месяца, как я уехал из Америки, а развлечениям не видно конца.
— Некоторые так живут годами.
— Но я не хочу.
— Знаешь что? У меня чудесная идея. Мы покупаем с тобой старую баржу, ремонтируем ее, оформляем под пиратский корабль и устраиваем ресторан.
— Нет, я не хочу ресторанов.
— Тогда мы вложим деньги в строительство аэроплана и научимся летать.
— Ерунда. Я ненавижу технику.
— Тогда давай снарядим экспедицию на Галапагосы и будем искать изумруды.
— Бьерн, ничего более разумного нет в твоих идеях?
— Нет, Бат, одни сумасшествия. Я, например, мечтаю изобрести лекарство для роста.
— Зачем?
— Мы могли бы помочь пигмеям. Или вот — начнем заниматься синематографом…
— Начнем! — вдруг подхватил Джон. — Если ты, конечно, не шутишь.
— Я?! Шучу?! Никогда! Я всю жизнь мечтал заняться этим.
— Согласен.
— Или купим кусок земли в Голландии и снова отдадим его морю…
— Прекрати, Бьерн, я серьезно сказал про синематограф.
— Но это была не лучшая моя идея. Есть и посмешнее.
— А мне она нравится.
Бьерн перестал улыбаться.
— Так, ты устал от беспорядочного образа жизни, — поставил он диагноз Джону.
— Прекрати! — обиделся Джон. — Хватит дурачиться. Ты можешь узнать, как?..
— Но, Джон, если ты серьезно собираешься заниматься этим балаганом, я тебе не пара и не помощник.
— В таком случае я займусь этим сам.
— Ты — сумасшедший. Это же базарное развлечение! Никто из серьезных людей этим не увлекается.
— Может быть, именно поэтому синематограф — базарное развлечение?
— Но ты представляешь себе, что это такое?
— Не думаю, что это непостижимо. Надо только начать.
— Так. Спокойно, Бьерн. Спокойно. У твоего друга не все в порядке с мозгами.
— Сколько тебе лет, Бьерн?
— Сорок четыре, — простодушно ответил тот.
— Да, — лукаво сказал Джон, — я подозреваю, что для этого дела ты уже староват.
Такого подозрения Бьерн не вынес, поэтому на следующий же день друзья отправились на фирму «Патэ синэма».
Но на фирме сидели одни клерки, которые никакого отношения к самому синематографу не имели. Оказалось, что все делается на студиях. А их в Париже было целых семь.
— Хорошо, скажите нам, где ближайшая? Мы ее покупаем. Не забудьте завернуть в цветную бумагу, — сказал Бьерн.
Им назвали адрес ближайшей студии, и через полчаса друзья входили под своды огромного складского ангара.
С первых же шагов Джону показалось, что он чудом снова оказался в Нью-Йорке, в своей редакции. Впрочем, здесь суеты и беготни было еще больше.
В течение часа они искали директора. Безуспешно. Это был какой-то неуловимый ртутный шарик. Когда Джону и Бьерну казалось, что они уже схватили его за фалды, он ускользал с невероятной быстротой.
Махнув рукой на охоту за директором, Бьерн и Джон стали ловить его помощников. Их оказалось целых пять. Их поймать было легче, но каждый из них в отдельности не представлял никакого интереса, потому что отвечал только за половину дела или даже за треть, деля его с другим помощником. А свести вместе троих или хотя бы двоих уже не представлялось возможным.
— Мне кажется, — сказал Бьерн, — они очень долго готовились к нашей встрече. Чтобы затеять такие грандиозные прятки, надо здорово поднапрячься.
В конце концов они случайно наткнулись на клетушку, обозначенную громкой табличкой: «Режиссер».
— Мне кажется, это то, что мы ищем, — сказал Джон. — Во всяком случае, здесь кто-то есть.
Он постучал.
— Быстро! — ответил голос из-за двери.
Джон решил, что это разрешение войти. И толкнул дверь.
— Ну?! — спросил их человек в клетушке. Огромные усы, бакенбарды, копна черных волос, трубка во рту.
— Добрый день, — вежливо произнес Бьерн.
— Уже здоровались, — сказал режиссер, нетерпеливо глядя на вошедших.
— У нас вопрос, — начал было Джон, но режиссер вдруг вскочил и закричал:
— Это у них вопрос! Это у меня вопрос! Сколько можно ждать?! Уже прошла целая вечность!
— Ага, — заметил Бьерн, — нас-таки ожидали.
— Я уволю вас в одно мгновение!
— Но вы еще не приняли нас, месье! — вставил Бьерн.
— И не приму. Где арбалеты?! Где монахи?! Где слон?!
— В музее, в монастыре, в зоопарке, — сказал Бьерн.
— А должны быть здесь!
— Так, все понятно, вы спутали нас с кем-то. Мы посторонние люди, — сказал Джон.
И лучше бы он этого не говорил.
— Что?!! Посторонние на студии?!! — вскочив, загремел режиссер. — Шпионы?!! Разнюхиваете?!! Кто вас пустил?!! Охрана!!! Сюда!!! Я поймал двух шпионов от наших конкурентов!!!
Он кричал так, что, казалось, не только охрана, вся студия сейчас сбежится в эту клетушку. Бьерн приготовился к тому, что будут бить. Но никто не прибежал, даже не заглянул в дверь.
— Мы не шпионы. Мы просто хотели узнать, как нам начать заниматься синематографом? — спокойно спросил Джон.
Режиссер тут же успокоился, снова сел и сказал:
— Деньги есть?
— При себе или вообще? — уточнил Бьерн.
— Да, — ответил режиссер неопределенно.
— Сколько? — спросил Бьерн.
— Двести тысяч франков — и эта конюшня ваша.
— Вы опять не поняли, — сказал Джон. — Мы хотим снимать кино, а не покупать студию.
— Ищите директора. Покажете ему синопсис и будете снимать кино.
— Кино… — повторил Джон. Он впервые слышал это слово. Оно было уже для уха приятнее, чем официальное — синематограф.
— У нас есть деньги, — сказал Бьерн, — и мы заплатим вам лично, если вы нам приведете директора.
— Пять франков, — тут же сказал режиссер.
Бьерн выложил деньги.
— Все, я отказываюсь делать этот фильм, — сказал режиссер негромко, положив деньги в карман.
Эти слова, которые слышали, казалось, только Джон и Бьерн, возымели необычайные последствия. Голоса за фанерной перегородкой вмиг стихли, как будто студия моментально вымерла. А потом начался такой шквал криков, беготни, ругани, хлопанья дверьми, что Бьерн спросил:
— Война?
— Ты с ума сошел, Шарль! — влетел в клетушку маленький человек, который действительно был похож на шарик ртути. — Ты под суд пойдешь! Ты сгниешь в долговой яме!
— Это директор, — спокойно отрекомендовал вкатившегося режиссер. — А это новички!..
Вне студии директор оказался вполне спокойным и даже немного ленивым человеком. Звали его Теодор Летелье. Бьерн тут же окрестил директора Тео.
— И что вы хотите снимать? — спросил Тео. — Комедию, виды или мелодраму?
— Виды.
— Драму, — одновременно сказали Джон и Бьерн.
— У вас есть сценарий?
— У нас в голове столько сценариев, что вам и не снилось! — заявил Бьерн.
— Расскажите хотя бы один, который мне не снился.
Они сидели в небольшом ресторанчике прямо напротив складского ангара. Здесь тоже было суетно, потому что большинство посетителей были работниками студии. Посыльный то и дело выкрикивал имена, посетители вскакивали, убегали куда-то, чтобы через минуту вернуться.
— Виды Парижа…
— Девятнадцать, — перебил Тео.
— Что?
— Девятнадцать фильмов с видами Парижа. Днем, ночью, с крыши, из подвалов, из окон, с Эйфелевой башни, с Сены…
— В дождь? — спросил Бьерн.
— И в снег и в туман… Было. Дальше.
— Я подумаю, — сказал Бьерн. — Твоя очередь.
— Я хочу снять фильм о любви.
— Интересно, — сказал Тео.
— Он репортер, она работает…
— На текстильной фабрике. Встречаются тайно от родителей. Родители узнают, увозят ее в Прованс. Он ищет…
— Было? — упавшим голосом спросил Джон.
— Да, правда, только два раза.
— Виды Парижа с аэроплана! — сказал Бьерн.
Тео задумался. Он делал это весьма своеобразно. Он вдруг снова начинал весь двигаться. Он доставал расческу и быстро проводил ею по своей жидкой шевелюре. Потом начинал обкусывать ногти. Потом двумя мизинцами прочищал уши. Потом платком протирал пенсне. При этом он застегивал и расстегивал сюртук, ослаблял и подтягивал узел галстука и часто дышал.
— Годится! — наконец произнес он. — Завтра заключаем контракт.
— Аляска, — сказал Джон. — И маленький поселок…
— Годится, — сразу же ответил Тео. — Только это будет четвертым номером…
— Уже есть и про Аляску? — удивился Джон.
— Нет, это будет четвертым вашим фильмом. Очень дорого. Начните с чего-нибудь подешевле. Я не могу рисковать.
— Двое едут на поезде и на одной станции ночью видят суд Линча.
— Третий номер, годится, — сказал Тео. Глаза его загорелись. Он заказал еще вина. — Только умоляю: на других студиях вас надуют, не вздумайте ходить туда. И никому не рассказывайте ваши сюжеты.
— А вот сюжет для первого номера, — сказал Джон. — Он заезжий охотник, она…
— Знает, где закопан клад…
— Нет. Она потеряла мужа…
— А он убийца мужа…
— Нет. Она одинока…
— Он влюбляется в нее…
— Нет. Тео, дайте мне рассказать до конца.
— Хорошо.
— Она одинока и мечтает даже не о муже, о ребенке. И как-то ночью приходит к нему с одной просьбой…
— Церковь нас предаст анафеме! — радостно закричал Тео. — Все! Договорились! Снимайте этот фильм. Завтра же заключаем контракт!
Джон был несколько удручен таким развитием событий.
— Что-то здесь не так, Бьерн, — говорил он. — Мы пришли с улицы, этот Тео нас вообще не знает и дает нам снимать кино.
— Но, Бат, он же видит, что мы люди порядочные. Почему бы не поверить нам?
— Порядочный человек — не профессия!
— А я тебе сразу сказал, что синематограф или, как ты выражаешься, кино — дело пустяковое.
— Все зависит он нас.
— Лично я собираюсь снять что-нибудь в духе Брейгеля — взгляд Бога на землю. Это должно получиться грандиозно!
На следующий день Джон и Бьерн с утра были на студии. Тео сам встретил их и быстро потащил в свой кабинет, если можно так назвать фанерную загородку, за которой еле умещались два человека. Бьерну пришлось ждать в коридоре.
— Все, контракт готов! Ознакомьтесь и подпишите! — сказал Тео, выкладывая на стол документ.
Джон взял довольно объемную пачку бумаг, отпечатанных на машинке, и стал читать.
И по мере чтения целая гамма чувств посетила его. Сначала он счастливо улыбался, потом радость сменилась изумлением, изумление смехом, смех возмущением, а возмущение отчаянием. Дело в том, что сюжет, рассказанный им вчера Тео, был записан в контракте очень подробно и совершенно неузнаваемо.
— Погоди, Тео, что это за ерунда? Откуда вдруг героиня стала дочерью священника? Почему она оказалась в женском монастыре? И как туда попал наш герой… как его? Граф Леонард. Кстати, почему он вдруг граф?
— Джон, позволь уж мне судить о том, ерунда это или нет.
— Да, но мне снимать эту… как бы помягче выразиться… глупость.
— Согласен. Это глупость. Но тебе только снимать, а мне ее продавать. А я точно знаю, чего хочет наш зритель.
— И что, он хочет вот этого?
— Скажу тебе больше, Джон, я иду на страшный риск. История слишком уж заумная. Наш зритель этого не терпит. Ему надо кашку не только разжевать, не только в рот положить, но и пропихнуть еще хорошей палкой.
— Тео! Но это сплошное вранье!
— Нет, Джон, это искусство! Кто тебе сказал, что искусство должно быть правдивым? Впрочем, если ты отказываешься снимать «Любовь монашки», я найду другого режиссера, — закончил директор.
— Но это моя история! Я рассказал ее тебе!
— За это мы выплатим тебе гонорар. Сто франков тебя устроят?
— Тео! Подожди. А если я откажусь давать вам этот сюжет?
— Тогда мы не заплатим тебе сто франков.
— Ты негодяй? — спросил Джон с удивлением.
— Нет. Я порядочный человек. На другой студии тебя бы назавтра просто не пустили на порог, а твои сюжеты использовали по собственному усмотрению.
— Значит, ты чуть ли не пример добродетельности? Тео, что ты говоришь?
— Так. Ты подписываешь или нет? У меня нет времени спорить с тобой.
— Я могу подумать?
— Полминуты.
— Если я внесу кое-какие поправки?
— Все должно согласовываться со мной.
— Хорошо. Я подписываю.
Джон уже склонился над контрактом, но снова выпрямился.
— Подожди. Здесь написано, что режиссер обязан взять псевдоним…
— Антуан Комильфо, — подтвердил Тео.
— А чем тебе не нравится мое имя?
— Во-первых, оно американское, а французы терпеть не могут Америку. Во-вторых, оно не звучное. Имя должно запоминаться.
— Но кто тогда узнает, что этот фильм снял именно я?
— Ты честолюбив, Джон?
— Да, я честолюбив, потому что надеюсь снять хороший фильм.
— Ладно, поправим этот пункт таким образом — «вопрос о псевдониме решается после завершения съемок по согласованию сторон». Теперь устраивает?
Джон взял ручку и поставил свою подпись.
— Ну, поздравляю! — пожал ему руку Тео. — Приступай к работе.
— А когда начнем снимать?
— Я же сказал — приступай. Актеры уже ждут.
— Как?! — опешил Джон. — Прямо сейчас?
— Конечно! Все готово! Через неделю фильм должен идти на экране!
— Через неделю? — еще больше удивился Джон.
— Да, поэтому за три дня ты должен все сделать.
— Но я… А… — пролепетал Джон.
— Вперед, парень, тебя ждет слава! — вполне серьезно сказал Тео.
Бьерн ждал Джона в коридоре.
— Ты что?! — испугался он. — Тебе плохо?!
— Мне — хорошо, — сказал Джон.
И это было правдой.
Все в первый раз
Не будем останавливаться на первом дне работы Джона, потому что был этот день сплошным сумасшествием. Джон ничего не понимал, кроме одного — после подписания контракта он запросто мог отправиться в свою гостиницу, потому что все делалось без него. Собственно, главным на съемочной площадке был человек, который крутил ручку кинокамеры. Он давал распоряжения, он командовал актерами, он разводил мизансцены — он снимал кино.
Когда Джон попытался что-то сказать, оператор, которого звали Тома, только с удивлением оглянулся, словно мышь пробежала некстати.
За первый день весь сюжет был снят.
Артисты заламывали руки, делали страдальческие лица, душили друг друга в объятиях, томно вздыхали и падали в обмороки.
Вечером у Джона впервые в жизни возникло желание напиться в стельку.
— Я поддерживаю, — сказал Бьерн, который еще не приступил к съемкам, потому что студия не смогла арендовать аэроплан. — Тебе надо отвлечься. Завтра, правда, наступит тяжкое похмелье, но это будут чисто физические муки. Твое сегодняшнее похмелье — другого рода. Это душевная травма, которую, кстати, я предвидел.
— Я и подумать не мог, что все это делается так халтурно! Представляешь, они за шесть часов сняли весь фильм.
— Они? А ты где был?
— Меня не замечали. Только один раз ко мне обратились, попросив пересесть куда-нибудь в другое место.
— Интересно. У меня было несколько иное представление о профессии режиссера. А что же вы будете делать завтра?
— Завтра выходной. Делать нечего.
— Тогда можно напиться. Так сказать, отметить благополучное окончание работы. — Бьерн вызвал горничную и попросил принести им в номер вина и фруктов.
— Нет-нет, — сказал Бьерн. — Лучше уж снимать виды. Я и это угадал. Впрочем, я не позволю отодвинуть себя. Они будут снимать то, что я прикажу. А ты не отчаивайся. Начнешь новый фильм — все возьмешь в свои руки.
— Отмени заказ, — вдруг сказал Джон. — Я не хочу напиваться. Я передумал.
На следующий день он пришел на студию пораньше и отослал посыльного по адресам оператора, актеров, реквизиторов и костюмеров.
Не успел мальчик убежать, как примчался Тео.
— Что стряслось, Джон? Зачем ты вызываешь людей на студию?
— Я собираюсь снимать фильм.
— Но вы же вчера все сняли. Мне Тома сказал.
— Я ничего не снял вчера. А что там снимал Тома, меня мало интересует.
— Джон, но вы израсходовали всю пленку. Где я найду еще?
— Это ваша проблема, месье. Решите этот вопрос с Тома. В контракте черным по белому написано, что я режиссер и я снимаю фильм. Позволь мне выполнить условия контракта.
Тео внимательно посмотрел на Джона.
— Не слишком ли круто начинаешь, парень?
— Я еще и не начинал, Тео, — рассмеялся Джон. Он понял, что победил.
Съемочная группа собралась через час.
Когда Джон объяснил собравшимся, зачем он их позвал, начался настоящий скандал.
— И это ты нас будешь учить, как снимается кино?! — кричал Тома. — Да тебя еще на руках носили, когда я уже крутил ручку кинокамеры!
— А что вам не нравится в моей игре? — спрашивала актриса. — Меня любит публика!
— Костюмы уже отдали на другой фильм, — мрачно вставлял костюмер.
— А декорации разобрали.
— Я отказываюсь сегодня работать, — говорил актер. — У меня совсем другие планы.
— Ну, все сказали? — осведомился Джон, когда поток возражений начал иссякать. — А теперь прошу всех на съемочную площадку. Начинаем со сцены приезда.
Он поднялся и решительно направился в павильон.
«Пойдут или нет? Пойдут или нет? — стучало в его мозгу. — Если не пойдут, я проиграл».
Первым последовал за Джоном Тома, сказав:
— Ну что ж, посмеемся!
Остальные присоединились к нему.
Декорации стояли на месте, да и костюмы никуда не пропали.
Актеры пошли переодеваться и гримироваться, а Джон оглядел декорацию и сказал:
— Уберите всю мебель и принесите простой стол и два табурета.
— Позвольте спросить, зачем? — иезуитски улыбнулся реквизитор.
— Потому что в монастыре не может стоять мебель с амурчиками и обнаженными красавицами.
— Но будет слишком скучно, — сказал реквизитор.
— Месье, боюсь, что мы снимаем не комедию. Прошу исполнять.
Реквизитор вопросительно посмотрел на оператора, но тот только поджал губы.
Вскоре мебель поменяли.
— Где актеры? — спросил Джон.
— А что, уже можно снимать?
— Нет, я хотел бы на них посмотреть.
— Но вы же видели их.
— Будьте любезны, пригласите сюда актеров, — сказал Джон, стараясь говорить спокойно.
Актеры появились с явной неохотой.
— Месье звал нас? — спросила актриса. — Уже можно снимать?
— Нет, мадам, снимать нельзя ни в коем случае. Кто сделал вам этот грим?
— Я сделала его сама. Он вам не нравится?
Черной краской глаза были обведены так сильно, словно кто-то наставил бедной актрисе синяков.
— Тогда поставлю вопрос иначе — какой интриган заставил вас поверить, что это красиво? Он просто радуется, что вы так уродуете себя. Смойте, пожалуйста, все.
— Все?! — ахнула актриса.
— Да, все, причешитесь гладко. Соберите волосы на затылке в узел. И, пожалуйста, снимите ваши сережки. Монахини не носят украшений.
— Но тогда я… Но… На экране я буду выглядеть просто белой тенью! Вы хотите погубить мою карьеру? Это вы интриган! — закричала актриса.
— Мне очень жаль, что вы не понимаете, как прекрасно ваше лицо без всякого грима, — сказал Джон.
— Но это же кино! Здесь свои условия!
— Для хорошей актрисы не должно быть особых условий. Она остается таковой всегда, я прав, мадам?
— Но хотя бы чуть-чуть подвести глаза можно? — взмолилась актриса.
— Если совсем незаметно, — согласился Джон. Он повернулся к актеру. — Месье, это ваши волосы так вьются? Или это результат фантазии парикмахера?
— Парикмахера, — мрачно сказал актер.
— У него сумасшедшие фантазии, месье. Знаете, как люди завидуют чужой славе! Скажите, при помощи воды можно смыть эту фантазию? А заодно и тени вокруг ваших глаз.
— Я не буду делать ни того ни другого.
— В таком случае мне придется расторгнуть ваш контракт, — жестко сказал Джон.
Актер изящным жестом поправил прядь своих кудряшек и сказал:
— Попробуйте.
— Без особого удовольствия, — ответил Джон.
Он послал за Тео, и тот явился моментально.
— Тео, как я должен поступать с человеком, который нарушает условия контракта? Имею ли я право расторгнуть соглашение?
— Вполне, — сказал Тео. — А что случилось? Кто-то отказывается работать?
— Это уже детали, — сказал Джон. — Я хочу расторгнуть контракт с актером, потому что он…
— Нет, — сказал Тео. — Это невозможно.
Актер победно улыбался.
— В таком случае я прошу принести мой контракт. Я выбываю из игры.
— Ну что ж, Джон, нам, конечно, будет очень жаль, — сказал Тео, — но раз ты настаиваешь…
— Нет, ты еще не знаешь, Тео, насколько вам будет жаль, — сказал Джон. — Завтра же я начну судебный процесс против твоей студии. Мои адвокаты добьются выплаты такой неустойки, что вам придется всю оставшуюся жизнь расплачиваться со мной.
Джон говорил зло и жестко. Он вдруг понял, что мягкость и уважительный тон совершенно не действуют здесь.
— Твои адвокаты? — улыбнулся Тео. — И у тебя хватит денег их нанять?
Теперь пришла очередь улыбаться Джону.
— А сколько ты бы взял, чтобы защищать мои интересы в суде?
— Я? — удивился Тео.
— Да, ты. Ты ведь юрист?
— Ну, скажем, две тысячи франков! — явно завысил свой гонорар Тео.
— Отлично. Это недорого, если учесть, что студия заплатит мне тысяч двести. — Он полез в карман, достал чековую книжку и выписал чек на две тысячи франков.
Внимательно разглядев чек, Тео ошалело пробормотал:
— Да весь этот фильм стоит в два раза меньше…
— Я согласен! — вдруг воскликнул актер. — Я сейчас все смою, месье Батлер.
Джон забрал у Тео чек и сказал:
— Суд откладывается.
Дальше пошло легче. Словом, часа через три можно было начинать снимать кино. И здесь Джон понял, что не знает, как это делать.
Как это было в жизни, он помнит, но как это снять, он не знал. Он попросил актеров сыграть сцену встречи. Сам смотрел в глазок кинокамеры. Актеры опять заламывали руки, рвали страсти в клочья, но все выглядело ненастоящим и смешным.
— Простите, месье, — обратился Джон к актеру. — Вы работали в театре?
— Я и до сих пор работаю в театре.
— А вы, мадам?
— Я тоже.
— Давайте попробуем разыграть эту сцену, как это вы сделали бы в театре.
— Но у нас нет слов.
— Говорите то, что вы считаете нужным, — предложил Джон.
— Как это?
— Очень просто. Своими словами.
Актер задумался.
— А откуда мне выходить и куда становиться? — спросила актриса.
— Выходите из двери, а становитесь туда, куда вам захочется.
— То есть мы должны делать, что захотим? — уточнил актер.
— Именно. Задача простая — вы встречаетесь с девушкой, которая вам сразу понравилась. Но существуют приличия. Вы не можете ей это сказать.
— И это все?
— Да.
— Но что здесь играть?
— Вот это и играйте — встречу двух людей, которые сразу понравились друг другу.
В первый раз у актеров ничего не получилось. Они поминутно останавливались и растерянно смотрели на Джона.
— Зачем же вы остановились?! — восклицал он. — Продолжайте!
— Но мне кажется, я выгляжу глупо, — говорил актер.
— Я! Только я скажу вам, как вы выглядите! — кричал Джон.
Во второй раз было лучше, но актеры все еще были скованны.
— Что вам мешает? — спросил Джон.
— Понимаете, я придумал, что постараюсь увлечь девушку интересной историей, но в кино это не пойдет.
— Забудьте о кино! Делайте то, что хотите.
— Зачем? Мы же снимаем кино.
— Затем, чтоб ваши чувства стали настоящими.
В третий раз у актеров получилось гораздо лучше. Появились какие-то тонкости в игре, ушла нарочитая мимика, сцена стала вдруг живой и теплой.
— Знаете что, это уже можно снимать, — сказал Джон.
И здесь впервые подал голос оператор.
— Я, конечно, сниму это. Но, к сожалению, всей вашей гениальности зритель не увидит.
— Почему?
— Потому что на пленке все пропадет.
— Что пропадет?
— Все. Видны будут только фигуры артистов, а их замечательная мимика никому не будет видна. Слишком общо.
— Тогда надо снять ближе. Пусть зрители увидят их лица.
— Как ближе? Но тогда не видно будет ног.
— И не надо. Лица для нас важнее.
— Извините, но вы сошли с ума. Это невозможно.
— Но почему? Неужели весь фильм надо снять с одной точки?
— Именно. Иначе зрители решат, что у актеров отрезаны головы.
— Глупости. Когда мы видим портреты, мы же не считаем, что это отрезанные головы. Знаете, месье Тома, мы слишком много говорим. Давайте снимать.
И началась настоящая съемка. Впрочем, продлилась она недолго, потому что Джон опять остановил все.
— Почему так много света? Лица превратились в какие-то блины. Никаких полутонов, теней — это ужасно.
— Но пленка требует много света, — с тихой ненавистью сказал Тома.
— Возможно, только я предлагаю вам попытаться рисовать светом.
— Рисовать светом? Впервые слышу.
— А кто вы по образованию?
— Я по образованию — железнодорожный мастер, — сказал Тома.
— Ясно, — сказал Джон. — Тогда я попробую сделать это сам.
Он осмотрел расположение прожекторов и приказал притушить несколько из них. А с декораций убрал свет совсем.
Поглядел в глазок кинокамеры и сказал:
— Мне кажется, так намного лучше.
В этот день они сняли только сцену встречи.
А вечером Джон заперся в номере и стал рисовать. Честно говоря, он делал это впервые в жизни. Но ему было сейчас необходимо как-то увидеть то, что вертелось в его голове, эти образы, свет, тени, движение…
Каракули получались невообразимые. Пожалуй, они не помогали ему, а еще больше затемняли желаемое. Джон махнул на рисунки рукой и пошел к Бьерну.
— Ну, как прошла съемка? — спросил он.
Бьерн только махнул рукой.
— Что? Не было аэроплана?
— Был. Но в нем всего два места. Мне не досталось. Оператор снимал то, что ему нравилось. Он, оказывается, бывший наездник.
— А мой бывший железнодорожник, — рассмеялся Джон.
— Даже не знаю, кому повезло больше, — улыбнулся и Бьерн.
— Слушай, может, ты мне поможешь? — вдруг воскликнул Джон. — Я хотел сделать эскизы завтрашней съемки, но я совсем не умею рисовать.
— Эскизы съемки? Как это?
— Ну, Бьерн, вспомни свою мозаику. Ведь это настоящее кино. Я попытался сделать то же самое. Помоги мне.
Работу они закончили только под утро. Бьерн так увлекся, что забыл даже о каком-то очередном приеме, на котором обязательно должен был побывать.
— Вот видишь?! — сказал Джон. — А ты говоришь — базарное искусство.
— Я пойду с тобой на студию, я буду помогать тебе, — сказал Бьерн. — Слушай, Бат, из этого может что-то получиться.
На следующий день было решено, что они снова начнут снимать все с самого начала.
Тео рвал и метал, пока Джон не сказал ему, что сам заплатит за издержки. Тут директор успокоился и даже на весь день засел в павильоне Джона.
Съемки продвигались медленно, потому что Бьерн переделал все декорации и костюмы. Джон переписал сценарий, и теперь история была больше похожа на правду. С актером ему все-таки пришлось распрощаться, потому что у того не было времени, он рассчитывал только на три дня съемок.
Тома первое время смотрел на эксперименты Джона весьма снисходительно и даже язвительно, но потом вдруг стал советоваться с Бьерном и Джоном. Попытался поставить свет так, как советовал Бьерн.
Вскоре на площадку стала сходиться почти вся студия. Люди ахали или, наоборот, злорадно посмеивались, но интерес был постоянным.
Тома уже вовсю снимал то, что назвали «крупный план». Ему это понравилось, и он сам предложил снимать крупно не только лица, но и руки, предметы, которыми пользовались герои. Джону идея понравилась. Ведь вместо того чтобы показывать крупно лицо переживающего героя, можно было просто показать, как нервно его рука мнет хлебный мякиш.
Скоро стала приходить проявленная пленка. Джон посмотрел снятое и ужаснулся. Это было еще хуже, чем то, что он всегда видел в кино.
На крупных планах актеры так перебарщивали с мимикой, что это становилось патологичным.
— Мы все будем переснимать, — сказал Джон.
— Но это влетит в копеечку, — напомнил Тео.
— Все, конечно, не будем, — успокоил Бьерн, — а вот кое-что обязательно переснимем.
Теперь Джон заставлял актеров на крупных планах вообще отказаться от мимики. Только взгляды, только чуть-чуть улыбки, только чуть-чуть грусти.
— Мне не хватает воздуха, — сказал Джон, когда почти вся работа была позади. — Надо сцену прощания снять на природе.
— Но это дополнительные средства, — напомнил Тео.
— Решено, едем снимать в лесу.
Когда Джон снял все, что хотел, наступило самое трудное. Надо было склеить вместе разные куски: крупные и общие планы, детали и природу, титры и сцены.
Монтажеры, склеившие не один фильм до этого, просто развели руками — они не знали, как это делать.
Джон сутками просиживал за монтажным столом. То, что ему казалось прекрасно снятым и сыгранным, оказывалось в монтаже вдруг неинтересным или выпадающим из общего строя фильма. Крупные планы никак не хотели монтироваться с общими. Действительно получалось, что у людей вдруг отрезали головы.
— Нужен переход от общего к крупному, — говорил Джон. — Но как это сделать?
— Снять средний, — пошутил Бьерн.
Но Джон принял шутку как открытие.
Срочно возобновились съемки. И были сняты средние планы. Тут же Джон попробовал то, что сам же назвал «панорама».
— Тома, а ты можешь снять сначала героя, а потом повернуть камеру и снять героиню?
— Не останавливая?
— Да.
— Не получится, Джон. Камера закреплена на штативе намертво.
— Придумай что-нибудь. Пусть камера движется.
После этих съемок монтаж пошел куда быстрее. И скоро фильм был готов.
— Мне не нравится, — сказал Джон. — Все равно мозаика не получилась. Так, отрывки какие-то. Они не соединяются.
— Значит, надо их чем-то соединить, — сказал Бьерн.
— Чем?
— Может быть, пусть актеры попытаются за экраном говорить свой текст?
— Ерунда. Не это нужно.
Бьерн задумался и стал тихо насвистывать какую-то мелодию.
— Точно! — закричал Джон. — Музыка! Должна быть музыка. Все время должна быть музыка, она все соединит!
На следующий день пригласили композитора и предложили ему написать музыку к фильму.
Композитор был довольно молодым человеком по имени Фрэнсис, который постоянно доставал из кармана серебряную фляжку с коньяком и делал глоток-другой.
— Попробую, — сказал он на прощание.
И через три дня явился с ворохом нот.
Музыка действительно сцементировала фильм. Она была чудесной, легкой и грустной, веселой и бравурной, тягостной и трагической.
— Все, Тео, — сказал Джон. — Я ставлю свою фамилию. Режиссер фильма — Джон Батлер.
В просмотровом зале собралась вся студия. От фирмы явились четверо пожилых господ в цилиндрах, Бьерн привел нескольких своих знакомых, словом, зал еле вместил желающих увидеть новое кино.
Джон волновался так, словно от успеха или провала зависели его жизнь или смерть.
Волновались, собственно, все. Только композитор был спокоен и на удивление трезв.
Застрекотал кинопроектор, осветился экран, заиграл рояль — фильм начался.
Джон не смотрел на экран. Он видел фильм уже раз двадцать. Он смотрел в зал. Он выбрал лицо девушки и наблюдал за ее реакцией.
Вспомнил, каким благодарным зрителем была его мать, как пустая мелодрама заставила ее плакать и вспоминать отца. Ах, ее бы сюда! Джону было бы спокойнее. И еще он хотел бы видеть в зале Билла Найта и Эйприл Билтмор. Может быть, он пригласил бы еще старого Джона. Но вот кого бы он никогда не смог пригласить — Мэри. Ему все время казалось, что он совершает некую подлость против этой прекрасной женщины. Да, искусство — странная вещь. Художник должен вынимать из сердца самое святое и показывать людям. Но такова его профессия. А Мэри была простой женщиной, она, возможно, просто возненавидела бы Джона.
И еще Джон думал о Марии. Ей бы тоже он не хотел показать этот фильм. Ведь так много в сюжете напоминало об их отношениях.
«Где она? Что делает? — думал Джон. — Старик сообщил, что ее ищут. Неужели так трудно найти Марию?»
Девушка, на которую смотрел Джон, улыбнулась.
Как раз сейчас на экране герой показывал героине карточные фокусы, но, поскольку он волновался, у него ничего не получалось. Девушка улыбалась правильно.
«Ну и как ты себя чувствуешь, Джон Батлер, в роли кинематографиста? — спросил Джон себя самого. — Помнишь, как ты смеялся над этим предложением Найта? Ну что, твои скептические ожидания подтвердились?»
Девушка ахнула. Все верно — герой вытащил пистолет, думая, что к нему подкрадываются грабители, он чуть не выстрелил в героиню.
«Да, мои скептические ожидания сбылись с лихвой. Но все дело в том, Найт, что я буду кинематографистом. Ты был прав!»
Свет в зале зажегся, и какое-то время была полная тишина.
Джон встревоженно завертел головой. Снова посмотрел на девушку — у той были покрасневшие глаза, она плакала…
И тут вдруг раздались аплодисменты!
Джон даже вздрогнул от неожиданности. Люди подходили к нему, к Бьерну, к актерам, ко всем, кто снимал фильм, жали руки, говорили какие-то хвалебные слова. Тео хохотал от счастья, одновременно причесываясь, прочищая уши, застегивая и расстегивая сюртук и утирая слезы.
Это был успех. Это был настоящий успех…
Джон тоже радостно смеялся, тоже обнимал своих новых друзей…
Фильм на экраны не вышел. Фирма отказалась тиражировать его, потому что считала работу провальной. Она выпустила на экран то, что снял в первый день Тома. Джон слышал, что прокат принес фирме прибыль.
Помолвка
Билтмор взялся за дело по всем правилам военной науки. Было организовано целое войско юристов, которые начали копать, как саперы, чтобы оградить Тару и все имущество Скарлетт от конфискации. Несколько частных детективов разыскивали неизвестного молодчика, который подставил Уэйда, — это была разведка. Но самое важное — Уэйд попытался узнать, кто же стоит за мистером Кларком, пытавшимся отсудить Тару.
По его настоянию в дом Скарлетт была протянута телефонная связь. Иначе и быть не могло, у Билтмора было много дел как у конгрессмена. Постоянные звонки подтверждали необходимость такой связи.
Скарлетт постепенно обретала уверенность, что дело не так уж безнадежно, Билтмор был человеком сильным, и он не дал бы Скарлетт в обиду.
В тот первый день, когда она вернулась с Уэйдом в свой дом и застала в нем Билтмора, собственно, и определил все.
Его появление казалось ей теперь естественным и даже само собой разумеющимся. Она забыла все свои сомнения, все свои страхи, она просто радовалась, что рядом с ней Тим.
Уэйд побыл у матери всего два дня и вернулся в Тару. За это время он успел вкратце поговорить со Скарлетт о Билтморе. Конечно, он, как и Джон, не сразу принял этого человека. Сын остается сыном и невольно ревнует всякого мужчину к матери, считая, что она до конца жизни должна хранить верность отцу. Но Уэйд был не так жесток, как Джон. Он только спросил:
— Ма, этот человек всерьез?
— Думаю, да, — ответила Скарлетт.
— В моем совете ты не нуждаешься?
— В таких вещах вообще нельзя советоваться.
— Пожалуй, — сказал Уэйд. — Тогда я имею право хотя бы высказать свое мнение?
— Разумеется.
— Мне не нравится Билтмор. Понимаю, что ничего другого ты от меня услышать и не ожидала. Если он когда-нибудь обидит тебя, я с ним рассчитаюсь.
— Уэйд, он не собирается меня обижать.
— И слава Богу. Только об одном прошу тебя, ма, не позволяй ему унижать себя.
— Уэйд, о чем ты говоришь? Что плохого сделал тебе этот человек? Почему ты о нем так судишь? Только потому, что кто-то вдруг стал претендовать на место Ретта? Я думала, сын, ты более разумный и великодушный человек. Мне очень горько слышать от тебя такие слова.
— Прости, ма, наверное, я не должен был этого говорить. Наверное, ты права. Я очень любил отца. И до сих пор люблю. Для меня он самое святое. Ум, чистота, честь, сила… Мне всегда казалось, что лучшего человека на свете нет. Что мой отец незаменим.
— Ты не учел одного, Уэйд, он умер! — воскликнула Скарлетт. — А я живу.
Слезы появились на ее глазах.
— Прости, ма, прости меня… — Уэйд обнял мать и губами высушил ее слезы. — Я все еще остаюсь мальчишкой, когда речь заходит об отце.
— Это прекрасно, Уэйд. Но пойми и ты меня. И прости, если сможешь.
— О чем ты, ма?! Будь счастлива. Я постараюсь подружиться с Билтмором.
— Спасибо, сын. Это было бы здорово, хотя я не хочу, чтобы ты насиловал себя. Время все поставит на свои места.
После отъезда Уэйда Билтмор предложил Скарлетт прогуляться верхом. Скарлетт понимала, что Тим возлагает на эту поездку какие-то надежды, и сама вся внутренне собралась.
Они выехали поутру по направлению к холмам. Солнце уже встало, но не жгло, была приятная прохлада, а быстрый ветер, овевающий лицо, пах увядшей травой.
Билтмор сразу же задал быстрый бег, пустив своего скакуна рысью. Скарлетт поначалу думала, что непременно отстанет. Но и ее гнедая неслась ровно и ходко. В Скарлетт вдруг появилось то чувство, которое овладевало ею когда-то в молодости, — азартное и безумное чувство любопытства — заглянуть за горизонт, пока самое интересное, что спряталось за ним, еще видно.
Она пришпорила свою лошадь, и та, словно и ей передалось настроение всадницы, понеслась, распластываясь над землей, как летучая тень.
Билтмор внезапно оказался позади. И это вызвало в Скарлетт новый прилив озорного азарта. Она по-индейски прерывисто закричала и пригнулась к самой гриве, чтобы слиться с лошадью в одно целое…
И вдруг почувствовала, что оставляет позади годы и годы. Годы одиночества и спокойного увядания, годы размеренной тихой жизни и почетного материнства. Оставляет за спиной стариковскую мудрость и рассудительность, надвигающуюся с неотвратимостью смерть. Она неслась навстречу своей молодости, свежим и непричесанным мыслям и чувствам, открытиям и наивным радостям, она неслась навстречу жизни.
На холме она остановила лошадь и, спрыгнув с нее, упала в сухую густую траву, точно так же, как когда-то, давно, не боясь удариться о камень, простудиться от холодной земли, упала и увидела глубокое небо над собой…
— Мне надо было знать, что город расслабляет! — весело оправдывался Билтмор, осаживая коня и тоже спрыгивая на землю. — Вы настоящая южанка! Наверное, амазонки были в вашем роду!
— Наверное! — засмеялась Скарлетт.
Билтмор сел рядом, бросил хлыст и снял перчатки.
— Красиво у вас! — сказал он.
— Да, эти просторы, наверное, какой-то особой широтой одаривают местных жителей.
— А! Да! Как же вы можете сказать иначе, — рассмеялся Билтмор. — Жители гор в таких случаях говорят, что у них душа возвышенная!
— А что говорят жители лесов? — спросила Скарлетт. — Что их души темны?
— Нет, что непролазны! — захохотал Билтмор.
— Жаль, что жителям городов нечего сказать про свои души!
Билтмор вдруг посерьезнел.
— Почему же? Есть что сказать, — произнес он тихо.
Скарлетт тоже перестала улыбаться и села.
— И что же они могут сказать? — спросила она.
— Что в их огромных домах, уставленных мебелью и хрусталем, так холодно. Что они строят небоскребы и мостят улицы только для одного — скрыть ледяную пустыню.
Билтмор замолчал. Скарлетт слушала его затаив дыхание.
— Моя жена умерла семь лет назад. Врачи лечили ее от грудной жабы… Но я знаю, что она умерла не от этого. Ей просто было холодно в городе… Правда, я понял это слишком поздно, когда ее уже не стало.
— Вы любили свою жену… — не столько спросила, сколько констатировала Скарлетт.
— Больше жизни, — подтвердил Билтмор. — Нельзя сравнивать, но, наверное, ничуть не меньше, чем вы любили своего мужа.
Скарлетт вспыхнула. Билтмор словно читал ее мысли.
— Да, я любила Ретта. Наверное, я люблю его до сих пор. Только это уже совсем другое чувство.
— Понимаю…
— Только вчера мы говорили о нем с сыном. Дети до сих пор обожают его.
— Это видно… Они славные ребята, — сказал Билтмор упавшим голосом.
— Я очень люблю их.
— Но мне кажется, они не очень любят меня, — грустно заметил Билтмор.
— Наверное, любовь — это не то чувство, которое они должны к вам испытывать. Может быть, уважение? — осторожно спросила Скарлетт.
— Да-да, я понимаю… Сейчас и этого было бы вполне достаточно. Но… — Билтмор осекся.
— Продолжайте, — приободрила его Скарлетт.
— Это совсем не просто — продолжать. Никогда не думал, что буду так робеть. Словом, я хотел…
— Да…
— О, миссис Скарлетт, не торопите меня… Я просто хотел спросить у вас, как вы посмотрели бы, если бы какой-нибудь уже немолодой джентльмен предложил, скажем, вам разделить с ним оставшиеся дни?
— Если это касается кого-то другого, то я, пожалуй, не стала бы высказывать своего мнения…
— А если это касается вас и меня? — чуть дыша спросил Билтмор.
— В таком случае я не стала бы делать вид, что мне это неприятно. Но все это только предположения, не так ли? — лукаво спросила Скарлетт. У нее не пропало озорное настроение.
— Нет, это не предположение. Это — предложение, — еле выдавил из себя Билтмор.
Он покраснел, покрылся испариной, руки его нервно мяли травинку.
— Надо так понимать, сэр, что вы предлагаете мне стать вашей женой? — спросила Скарлетт.
— Да. Да, Скарлетт, я предлагаю вам стать моей женой! — горячо воскликнул Билтмор.
— Я согласна.
Какое-то время Билтмор не мог выговорить ни слова. Он вскочил, потом опять сел. Полез в карман, снова вскочил, вытащил коробочку и подал Скарлетт.
— Что это? — спросила она, уже, впрочем, догадываясь.
В коробочке на красной бархатной подушечке лежало кольцо с массивным бриллиантом.
— О! Билтмор, — выдохнула Скарлетт. — Оно прекрасно. Благодарю вас.
Она тоже поднялась с земли, чувствуя торжественность момента.
— Наденьте его, я вас очень прошу!
— Помогите, — сказала Скарлетт, подставляя Билтмору руку.
Он вынул кольцо и надел на безымянный палец левой руки. Потом склонился и поцеловал Скарлетт в запястье.
Она тронула свободной рукой его лоб.
— Это помолвка, — сказала она. — В таких случаях не обязательно целоваться, но я предлагаю нарушить традицию…
Поиск святых
Впрочем, закончилось все для Джона не так уж и мрачно. Он выкупил копию своего фильма у фирмы, а Бьерн организовал несколько просмотров для своих многочисленных друзей.
Теперь уже комплименты в его адрес были более тонкими и профессиональными.
— Я и не думал, что эти серые тени могут претендовать на нечто большее, чем…
— Балаганное развлечение? — продолжал мысль собеседника Джон. — Знаете, месье Клод, я и сам думал так не более полугода назад.
Собеседником Джона был не кто иной, как Клод Моне, тот самый знаменитый художник-импрессионист, которым Джон так восхищался в Нью-Йорке.
— Да-да… Впрочем, я думал об этом, — сказал Моне. — Мне всегда тесно было в застывшей картинке, изображение должно жить, меняться, трансформироваться…
— Мне кажется, это удается вам с блеском, — искренне сказал Джон.
— Не знаю, пытаюсь, — задумался Моне. — Обещайте мне, что обязательно покажете следующую свою работу.
— Обещаю, но не знаю, когда это произойдет.
— Нельзя останавливаться, молодой человек. Если художник останавливается, он все равно движется, но только назад.
А следующая работа Джона действительно была под большим вопросом. Фирма по-прежнему предлагала ему какие-то сценарии, но ставила жесткие условия работы — неделя, и фильм готов. Джон понимал, что так работать не сумеет.
— Надо просто купить эту студию, — сказал Бьерн.
— Нет, это не выход. Это тупик. Скажи, ты станешь заниматься управлением, финансами, всей этой бюрократией?
— Да ни за что!
— Вот и я не хочу. Я хочу снимать кино, а не заниматься кинобизнесом.
— Тогда давай заплатим за фильм и снимем то, что нам нравится.
— Это тоже не годится, Бьерн. Мне хочется, чтобы фильм увидели зрители. А ты предлагаешь создать еще одну семейную тайну.
— Но разве зрители тебя не хвалят?
— Да не об этом речь, Бьерн! Мне очень приятны комплименты, но я хочу работать не ради их.
— А ради чего?
— Мне кажется, я что-то могу сказать миру. Понимаешь, всем людям. А не узкому избранному кругу интеллектуалов.
— Тогда заключай контракт с Тео. Вот он тебе предлагает историю о бедняке…
— Который становится миллионером.
— Но, согласись, что это и твоя история.
— Понимаешь, Бьерн, моя история — исключение, которое только подтверждает правило — на людей не сыплются с неба миллионы, люди зарабатывают свой хлеб насущный в поте лица своего. Я не хочу рассказывать сказки.
— Бат, ты иногда пугаешь меня! Твои цитаты из Библии попахивают таким махровым провинциализмом. Неужели ты, современный человек, веришь во все эти милые легенды? Научно доказано, что Бога нет и быть не может.
— Наукой? А знаешь ли ты, чем занимался величайший ученый всех времен и народов Исаак Ньютон на старости лет? Ньютон, который открыл все основные законы физики и этим, как ты говоришь, доказал, что Бога нет?
— Не знаю. А что?
— Он пытался разгадать Апокалипсис! Все его открытия уже написаны в Библии.
— Перестань!
— Он сам это признавал.
— Но я слышал, что он несколько тронулся умом, — язвительно заметил Бьерн.
— Да, ваша атеистическая братия очень хотела бы представить его сумасшедшим.
— Джон! Что за выражения?!
— Перестань, Бьерн, мы не дети, мы говорим о самом важном, какие еще могут быть реверансы?
— Э-э, а где твое чувство юмора? Или твоя вера запрещает смеяться?
— Я знаю, какой фильм я буду снимать! — вдруг воскликнул Джон. — И знаю, кто мне поможет!
— Не иначе Господь Бог!
— Именно! Бьерн, ты прелесть! Я тебя обожаю, хотя у тебя в голове сплошная каша!
— Нет, Джон туда еще попадают пары алкоголя!
План был таков — Джон и Бьерн добиваются аудиенции у кардинала Франции и предлагают снять фильм по Евангелию.
— Знаешь, почему я согласен с тобой? Потому что это совершенно безумная затея! Мои сумасшедшие идеи просто блекнут перед твоими! — кричал Бьерн. — Ты гений безумства!
Бьерну оказалось не так уж сложно добиться аудиенции у его святейшества. Кардинал Франции был человеком широких взглядов и прекрасно знал литературу и искусство. Он слышал имя Бьерна Люрваля и даже, как впоследствии оказалось, Джона Батлера.
На встречу Бьерн и Джон отправились весьма торжественно. К подъезду дома, где они снимали квартиру, подкатила роскошная карета в сопровождении конных гвардейцев.
— Мне это напоминает времена мушкетеров, — сказал Бьерн, когда они уселись на мягкие пружинные сиденья, обшитые синим бархатом. — Заговоры, дуэли, интриги.
— Вся разница в том, что тогда не было кино, — сказал Джон.
Кардинал оказался сухоньким старичком с острыми глазками и доброй улыбкой.
— Надеюсь, вы не станете просить благословения церкви на гомосексуальный брак, — сказал он сразу же, чем немало шокировал Джона и Бьерна. — Обо все остальном я могу с вами разговаривать.
— Нет-нет, ваше святейшество, мы не так демократичны. Но почему именно эта тема для вас запретна? — тут же спросил Бьерн.
— Просто потому, что я не готов к такому разговору.
— А что, были такие попытки?
— Пока — нет. Но я вас уверяю, будут. Знаете, люди становятся все свободнее. Впрочем, это тема долгого разговора. А у вас, я вижу, дело спешное.
— Не так чтобы уж очень, но можно и поторопиться, — сказал Бьерн.
— Как жаль, что вы атеист, — заметил кардинал. — Из вас получился бы замечательный пастор.
— Почему?
— Вы веселы и общительны. К сожалению, наши священники из всех заповедей блаженства предпочитают только — «блаженны плачущие».
— Я подумаю над вашим предложением, — улыбнулся Бьерн.
— Месье Батлер, — обратился кардинал к Джону, — я думаю, вы главный инициатор визита. Наверное, у вас ко мне какое-то важное дело. Но прежде я хотел бы узнать — вы бросили работать в газете?
— А вы читали мои статьи? — удивился Джон.
— И с превеликим удовольствием. Никогда не был в Америке, но весьма интересуюсь этой страной. Надеюсь, сейчас вы заняты не менее благородным делом?
— Именно об этом мы и хотели поговорить с вашим святейшеством.
— Прошу садиться. Может быть, вы разделите со мной скромную трапезу?
— Это, надеюсь, не сушеная саранча? — спросил Бьерн.
— А вы никогда не пробовали сушеную саранчу? — в свою очередь спросил кардинал. — Знаете, весьма пикантный вкус.
— Тогда понятно, почему отшельники так любят это блюдо.
— Отшельники — святые люди, — очень серьезно сказал кардинал. — Подвижники. Они ощущают хрупкость нашего мира, его обреченность. И пытаются его спасти. Это настоящие герои, хотя я и не люблю этого слова «герой».
— Спасти? Но как?
— Молитвой. Кроткой и непрерывной молитвой. И дай, Господи, им силы не остановиться.
Вошел слуга и доложил, что обед готов.
— Прошу, господа, мы продолжим за столом, — вставая, сказал кардинал.
Стол был просто огромен. Если бы хозяин и гости сели по разные его стороны, им приходилось бы кричать, чтобы услышать друг друга.
Но все сели рядом, и разговор был тихим.
— Видите, жизнь опережает наши помыслы, — сказал кардинал, после того как Джон рассказал о своей идее снять фильм о страстях Господних. — Современность врывается все настойчивее даже в жизнь церкви. Я сказал вам давеча, что не готов обсуждать только одну тему, а теперь выходит, что таких тем может быть намного больше.
— Ваше святейшество хочет сказать, что наше предложение нельзя обсуждать? — спросил Бьерн.
— Ваше святейшество просто в растерянности, — улыбнулся кардинал. — Но, как обыкновенный смертный, я настолько полон самоуверенности, что рискну поговорить даже о синематографе. Вы прекрасно знаете, что в свое время церковь отрицала артиста, как порождение врага человеческого. Слава Богу, это время ушло. Любое дело, свершаемое с чистым помыслом и добрым сердцем, угодно Господу. Но здесь возникает проблема иного свойства, так сказать, этическая. Великие художники на своих полотнах изображали Иисуса Христа, Деву Марию, Святых, хотя, возможно, не видели их никогда. Но, согласитесь, образ Христа, написанного на полотне, воспринимается зрителем не как образ реального лица, именно с такими чертами, таким цветом волос, такой осанкой… Это, если хотите, символ Бога. Живопись предполагает условность. А синематограф…
Джон внимательно слушал кардинала. Тот говорил как раз о том, что тревожило и Джона.
— Ведь вы же пригласите на роль нашего Спасителя актера? Ведь так?
— Так, ваше святейшество, — кивнул Джон.
— И это уже будет реальный человек. Наверное, я даже уверен, вы пригласите хорошего актера, возможно, христианина, возможно, доброго и чистого человека. Но это будет не Бог, я вас уверяю. Этично ли простому смертному играть Того, Кто в самой глубине сердца каждого человека? Не знаю, не думаю. Впрочем, я могу и ошибаться. Но что-то подсказывает мне, что здесь таится какая-то серьезная опасность не столько для религии, сколько для самого художественного произведения. Обретя плоть и кровь, изображенный вами Господь потеряет самое важное — идеальность.
— Я сам все время думал об этом, — сказал Джон. — Именно об этом. Для каждого из нас Христос свой. Я имею в виду его внешний облик. Каким бы прекрасным ни был актер, он обязательно кого-то не убедит. Может быть, даже многих. И эту опасность я ощущаю как часть той, о которой говорите вы, ваше святейшество.
— Значит, вы не посчитаете меня ортодоксом, а поверите, что я желаю добра вам.
— Но мне кажется, я нашел путь.
— Какой же? Честно говоря, я и представить себе не могу, как выйти из этого положения.
— Снять фильм об Иисусе Христе, в котором не было бы самого Иисуса.
— Как это? — по-детски изумился кардинал.
— Очень просто. Господь все время будет присутствовать, но не на экране. Мы будем видеть людей, которые разговаривают с Ним, мы будем видеть даже Его исцеляющие руки, но Он Сам все время будет оставаться за экраном. Может быть, только свет будет исходить от Него на тех, кто рядом.
— А это возможно? — спросил кардинал.
— Конечно! — воскликнул Бьерн, который об этой идее тоже слышал впервые. — Это грандиозно! Вы знаете, я уверен, что всегда сильнее воздействует не само событие, а наше представление о нем. Я видел как-то некоего мужчину, который подглядывал в замочную скважину за родами. Рожала его жена. Мужчина ужасно переживал, но не мог быть у постели роженицы. И этот культурный человек стоял на коленях у двери и смотрел в маленькую дырочку. Все, что происходило в комнате, отражалось на его лице мукой и страданием. Но когда эта мука сменилась радостью, честное слово, я чуть не заплакал.
— Удивительно. Прекрасно. Я и сам наблюдал такие сцены в жизни. Вы правы. Верно, — говорил кардинал, встав из-за стола и возбужденно расхаживая по столовой. — Спасибо вам, друзья мои. Спасибо, что вы пришли. Я со своей стороны помогу вам, чем только могу. Да, кстати, а чем же я могу вам помочь?
— Нам не очень ловко говорить об этом, ваше святейшество, — смутился Джон. — Но речь идет о средствах, необходимых для съемки, а самое главное, для тиражирования фильма.
— Деньги? Почему же неловко? Для доброго дела очень даже ловко.
Они снова перешли в гостиную и обсудили все детали предстоящей работы. Кардинал вызвал секретаря, и тот подробно записал все, что необходимо было сделать.
Когда уже прощались, его святейшество снова заговорил об Америке.
— Кому-то жаль, что Франция потеряла такую колонию, но я уверен, что это Провидение Господа. Может быть, вам удастся создать страну всеобщего благоденствия.
— Может быть, — сказал Джон.
— Когда ко мне приезжал конгрессмен мистер Тимоти Билтмор, мы много времени посвятили именно этому. У него прекрасные идеи и замечательные планы!
— У вас был мистер Билтмор? — удивился Джон.
— А вы с ним знакомы?
— Совсем неплохо. Честно говоря, я и представить не мог, что этот человек…
— Мы многого не можем представить, Джон. Сегодняшняя встреча разве не убедила вас в этом?
Домой они снова возвращались в кардинальской карете.
— А у него тонкое чувство юмора, — сказал Бьерн, рассмеявшись. — Ты убеждаешь меня, что Бог есть, а он сразу же предлагает стать священником.
— Он мудрый старик, — сказал Джон.
На следующий же день колесо завертелось. С утра появился прямо на квартире Тео и, почему-то почтительным шепотом, сказал:
— Контракт готов. Такого я в своей жизни еще не составлял. Полная свобода.
— Так должны быть составлены все контракты, — засмеялся Бьерн.
— А вы что, правда были там? — и Тео ткнул пальцем вверх, не решаясь назвать.
— Да, кардинал оказался премилым старичком, мы выпили, закусили, словом, отлично провели время, — серьезно сказал Бьерн.
По лицу Тео блуждала недоверчивая улыбка.
Действительно, контракт был составлен с предельной степенью свободы для творчества. Здесь уже не были указаны сроки, не было и закрепленного казенного сюжета, только тема. Джон фигурировал в контракте в качестве режиссера, а Бьерн — художника.
Бюджет фильма был фантастическим. Как сказал Тео, на эти деньги студия работает полгода и выпускает тридцать фильмов.
Джон и Бьерн засели за сценарий. Одновременно они собирали группу, которая и будет снимать фильм.
Тома сам пришел к Джону и попросился в команду.
— Хорошо, — сказал Джон. — Только у меня два условия — ты находишь новейшую съемочную аппаратуру и начинаешь курс живописи.
— Живописи? — чуть не поперхнулся Тома. — Но я же не художник.
— Ты же — художник! — в тон ему ответил Джон. — Ты должен знать законы композиции, световое моделирование, принципы графического изображения.
— Боже мой, Джон, но я не понимаю даже этих слов!
— А ты не только должен их понимать, ты должен владеть самими законами.
Бьерн делал эскизы к будущему фильму, но все время жаловался, что не может как следует ощутить пейзажи Иудеи.
— Мы никогда не найдем во Франции ни Мертвое море, ни Голгофу, ни Генисаретское озеро. Я уж не говорю о горе Илион.
Они с Джоном объехали сначала все окрестности Парижа, потом почти всю Францию, но евангельских пейзажей так и не нашли.
— Значит, — сказал Джон, — мы будем снимать фильм на месте настоящих событий.
— Ты с ума сошел! Поехать всей группой на Ближний Восток?
— Да, Бьерн. Туда. Уверен, что нам не придется искать нужные пейзажи.
— Но даже наш огромный бюджет не выдержит этого!
— А об этом я буду думать в самую последнюю очередь.
— Но там сейчас нет никакой Иудеи. Там сейчас… я не знаю, что там сейчас!
— Так узнай!
Как ни странно, Тео идея понравилась. Он загорелся, узнал, что группе придется ехать в Османскую империю — необъятную мусульманскую страну с очень строгими правилами. Однако там есть и английское консульство.
Словом, идея стала обретать плоть и кровь. Теперь надо было искать актеров на главные роли.
Джон решил, что из всей евангельской истории будет снят только ее трагический финал.
Но как ни сокращали они с Бьерном количество персонажей, их набралось около тридцати.
— Джон, такого количества нам не набрать. Люди не захотят на целый месяц, а то и на два отрываться от своей работы.
— Мы с каждым будем говорить отдельно.
День Джона был расписан по минутам. С утра он сидел в библиотеке, обложившись книгами по истории Иудеи и Римской империи, потом работал с Бьерном над эскизами костюмов, декораций и реквизита, потом работал с Тома, потом ехал в театры и смотрел, смотрел, смотрел спектакли.
В Париже театров было огромное количество — серьезных, которые ставили только классику, музыкальных, в которых драматические актеры играли небольшие сценки, чаще всего смешные, и совсем крохотных театров, состоящих порой из двух-трех человек, которые выступали в кабачках, ресторанчиках и кондитерских.
Джон решил посмотреть всех. Это оказалась почти непосильная задача, потому что на нее пришлось бы потратить не меньше двух лет. Тогда Джон решил, что один спектакль в вечер — слишком расточительно. Поэтому начало он смотрел в одном театре, потом переезжал к другой и так далее. Таким образом он ухитрялся за вечер посмотреть пять-шесть театральных коллективов.
Но этим его знакомство с актерами не ограничивалось. По Парижу прошел слух о грандиозном проекте американца и церкви, и в квартиру Джона стали толпами приходить актеры, которые считали, что именно они достойны играть роль Иисуса Христа. Джон терпеливо объяснял каждому из них, что Христа в картине вообще не будет. Актеры не очень-то этому верили, решая, что главная роль уже занята. Тогда они говорили, что они прирожденные Пилаты, Петры, даже Иуды…
Со всеми Джону приходилось беседовать, а это отнимало уйму времени. Ведь актеры старались показать все, на что они способны. Они читали длинные поэмы, монологи, пели и даже танцевали. А один упорно пытался показывать фокусы.
У Джона от всех этих лиц голова шла кругом. Пришлось нанимать троих помощников, которые проводили предварительный отбор. Потом они признавались Джону, что запросто могли разбогатеть — чтобы попасть к режиссеру, им предлагали довольно внушительные взятки.
В этот же период у Джона произошла знаменательная встреча. Он побывал в гостях у Луи Жан Люмьера, человека, который изобрел кино.
Это был довольно молодой, подвижный и веселый француз с большими висячими усами и бурными жестами.
— Мы это сделали с Огюстом, а все почему-то говорят только обо мне! — смеялся он. — Это очень странно, ведь брат старше меня на два года. Он обижается. Говорит, что и в семье я был любимчиком.
Джон приехал к Люмьеру, чтобы посоветоваться с ним. Тома собирался приобретать новую киноаппаратуру.
— Что вы?! — засмеялся Луи Жан. — Я теперь и не узнаю своего изобретения! Там столько замечательных новинок, что я даже завидую, как это нам не пришло в голову!
— Да, теперь все кажется простым, — согласился Джон. — Но первыми навсегда останетесь вы.
— И мне даже страшно от этого становится, месье, — сказал Люмьер, понизив голос. — Я пока еще и сам не понял, что же за штуку мы изобрели. Вот месье Нобель тоже думал, что изобрел динамит для мирных строительных работ, а что вышло?
— К счастью, ваш аппарат ничего не может взорвать, никого не может убить, — сказал Джон.
— Боюсь, что может — и взорвать, и убить, — грустно сказал Люмьер. — Понимаете, в руках у людей оказалось средство точного документирования правды. Или способа фальсификации ее. Только если динамит уничтожает тело, кино может уничтожать душу. Боюсь, кое у кого такой соблазн может возникнуть.
— Наверное, — подумав, согласился Джон. — Все зависит от человека.
— И вы верите в его разум? — спросил Люмьер.
— Да, я верю.
— Вы утешили меня, месье. Дай Бог, чтобы вы были правы.
Вскоре фирма, производящая кинопленку, обратилась к Джону с просьбой взять на себя испытание их новой продукции. Джону показали образцы, и он остался очень доволен — пленка была ровной, изображение четким, не слишком контрастным, видны были все детали даже на общем плане.
— Но мы собираемся снимать фильм не в Париже, — сказал Джон. — Мы выезжаем на Ближний Восток.
— Замечательно, — сказал представитель фирмы, — мы пошлем с вами нашего сотрудника, естественно за наш счет. Он проследит за всем. Это будет прекрасное испытание для пленки.
Тома показал Джону новую технику. Она была более громоздкой, чем старый киноаппарат, но теперь оператору не было нужды крутить ручку, аппарат работал от двух больших батарей. Кроме того, Тома заказал штатив, который позволял поворачивать камеру не только влево и вправо, но и вверх-вниз, даже позволял переворачивать ее вверх ногами. Кроме того, Тома придумал приспособление, которое позволяло камере двигаться — подниматься или опускаться, подъезжать или отъезжать. Это было небольшое металлическое коромысло, на одну сторону которого крепилась камера, а на другую — груз. Посредине коромысло было закреплено, что и позволяло поворачивать камеру в любую сторону.
— Слушай, Тома, а если нам поставить камеру на колеса? — предложил Джон. — Мы могли бы снимать идущего человека.
Тома обещал заказать и такое приспособление.
В один прекрасный день Бьерн доложил, что реквизит готов. Джон придирчиво осмотрел все чаши, сосуды, скипетры, кошельки, сумы, посохи, копья, мечи, сбрую и остался доволен.
Костюмы не были готовы потому, что Джон еще не выбрал актеров.
Это оказалось самым сложным. Десятки и сотни людей прошли перед ним, но он так и не мог остановиться на ком-нибудь. Они все казались ему слишком мастеровитыми, слишком ремесленниками. Не было в них чего-то такого, что Джон, пожалуй, и сам не смог бы определить одним словом. Что-то должно было светиться в их глазах, какое-то душевное тепло должно было от них исходить. А это были более или менее симпатичные люди, прилично одетые, причесанные, ухоженные.
— Время, время! — напоминали ему и Бьерн и Тео. — Пора, Джон, определиться.
Иногда в этой круговерти Джон вспоминал об Америке, о матери, Найте, Марии, Эйприл. Он давал себе клятву, что сегодня же освободит минутку, чтобы черкнуть им пару строк, но какое-нибудь новое дело наваливалось неожиданно — и он снова не успевал.
День отъезда неотвратимо приближался. Джон был в отчаянии. У него даже была малодушная мысль бросить все, отменить поездку, отказаться от съемок, потому что исполнителей на главные роли он так и не нашел.
Но Провидение еще не отвернулось от него. Помог случай.
Возвращаясь из библиотеки, Джон попал в толпу зевак, которые собрались вокруг мертвой лошади. Это была уже старая, жилистая, облезлая лошадка. И умерла она, видно, от старости. Несколько дюжих ребяток распрягли ее и оттащили в сторону. Хозяин лошади куда-то ушел, представление закончилось, и толпа стала расходиться.
И тут Джон увидел, как стайка нищих бросилась кромсать неостывшее тело лошади. Его так потрясло это зрелище, что он не мог двинуться с места.
Один из них не принимал участия в разделке туши, он стоял в стороне и командовал. Нищие слушались его беспрекословно. Через несколько минут от лошади остались только голова и кости. Остальное нищие затолкали в мешки и потащили куда-то. Джон, сам того не ожидая, двинулся за ними.
Делать это приходилось осторожно, потому что нищие ужасно торопились и были агрессивны ко всем, кто так или иначе проявлял к ним интерес.
В конце концов они пришли на набережную Сены и спустились под один из мостов.
Джон решил заглянуть вниз.
Мир, который ему открылся, был так не похож на тот, что бурлил совсем рядом. И в то же время эта жизнь чем-то пародийно напоминала жизнь обывателей. Мир клошаров был откровенно похож на мир муравьев.
На небольшом костре стоял чан, в который и было опущено мясо, клошары сгрудились вокруг и о чем-то тихо переговаривались. Здесь были и старики, и молодые, и женщины, и дети, и старухи.
И вдруг Джон увидел — это они! Это их лица, их глаза. Когда лощеный франт уступает место расфуфыренной мадемуазель — это привычка, деталь легкого флирта, но когда голодный нищий делится с больной женщиной куском жесткого невкусного мяса — это поступок. В этот момент его глаза начинают светиться именно тем блеском доброты.
Забыв обо всем, Джон спустился вниз и подошел к клошарам.
Разговоры тут же стихли, все молча уставились на Джона. Потом Джон вспоминал, что какое-то ощущение опасности промелькнуло в его сознании, но он тут же забыл о нем.
— Здравствуйте, мадам и месье, — сказал Джон как можно более почтительно. — Могу ли я поговорить с вами? Или сейчас не стоит нарушать вашу трапезу?
Клошары обернулись к своему командиру, тот выступил вперед и сказал:
— Мы не трогали твою лошадь. Это мясо заработала Жильда и продала нам по дешевке.
— Я вовсе не о мясе собираюсь с вами говорить. Кстати, приятного аппетита.
— А о чем?
— Прежде всего хотел спросить вас, знаете ли вы, что такое синематограф?
— Конечно, знаем, — уверенно ответил старший. — А что это?
— Это нечто вроде театра.
— А, понятно, балаган, — сообразил старший.
— Так вот, я хотел пригласить кое-кого из вас на работу…
— Мы не работаем, — резко перебил его старший.
— Но это не физическая работа. Это, как бы поточнее сказать — такая игра.
— В карты?
— Нет. Но вам за нее будут платить.
При этом сообщении клошары загалдели, агрессивность их испарилась.
— Тогда мы согласны, — сказал старший. — В чего играть?
— Это я объясню позже. Еще один вопрос — среди вас есть верующие?
— А как же, месье, мы ведь зарабатываем и на паперти.
— В таком случае, пожалуйста, поднимите руки, кто из вас христианин?
С некоторой робостью поднялось несколько рук. Джон в это время молил Бога, чтобы руки подняли те, кого он уже выбрал, чьи лица ему особенно понравились. Так и получилось. Первым был старший, потом болезненного вида женщина, один безглазый урод, размалеванная красавица и задумчивый старик.
— Прошу вас, господа, подойти ко мне, — попросил Джон. — А теперь скажите вы, — обратился он к фатоватого вида оборванцу, — вы не верите в Бога?
— Нет, — ответил тот с улыбкой. — Я в него верил когда-то, но жестоко обманулся.
— Вас я тоже прошу подойти ко мне.
— А сколько будете платить? — спросил фат.
Джону так и хотелось ему ответить — тридцать сребреников.
Он отвел клошаров к себе домой, чем немало испугал консьержку, заставил их вымыть и переодеть. Этим занялись помощники.
Бьерн бегал от Джона к нищим и обратно, суетился и потирал руки:
— Гениально! Потрясающе! — кричал он. — Просто евангельские лица!
Джон и сам был на вершине счастья. Правда, буквально на следующий же день его радость поубавилась, потому что к дому потянулись клошары со всего Парижа, а было их куда больше, чем актеров. И эти не были так воспитаны. Они что-то горланили на улице, лезли в дом, даже разбили окно.
Джон несколько раз выходил к ним, выбрал еще нескольких, а остальным сказал, что, к сожалению, для них работы нет.
Клошаров это не убедило. Они продолжали буянить, пришлось заниматься ими полиции.
Да и отобранные Джоном «актеры» оказались далеко не паиньками. Помощникам приходилось постоянно следить, чтобы они чего-нибудь не утащили, не напились, не подрались.
Вскоре, правда, Тео снял для них целый дом. Поставил охрану и никого не выпускал на улицу.
На роль Пилата, Ирода, Каиафы, Анны, фарисеев, попросту говоря, врагов Христа Джон взял профессиональных актеров. Сюда они годились, потому что многие понимали свое ремесло как исключительное лицедейство, близкое к лицемерию.
Срочно начали шить костюмы, а Джон уезжал в дом клошаров и начинал репетиции.
Собственно, репетициями это можно было назвать с большой натяжкой.
Джон просто читал им отрывки из Евангелия от Матфея и разговаривал. Каждая такая встреча все больше убеждала его, что он не ошибся. Слушая, возможно в первый раз, известные строки Писания, клошары по-детски глубоко и трепетно их переживали. Они в голос возмущались интригами чернокнижников, жалели Марию, ненавидели Иуду, презирали Пилата и плакали над распятием Христа.
Джон срочно вымарал из сценария все диалоги, потому что понял, эти люди сумеют передать все и без слов, тем более что слов не слышно, а титры только ослабляют впечатление от фильма.
И настал час отъезда.
Тео сумел утрясти непростые дипломатические сложности. Кардинал помогал ему в этом, как мог. В газетах даже появилось несколько статей, в которых поездка группы преподносилась как небывалое событие, которое войдет в историю Франции.
Джон волновался, как мальчишка. Хотя, если честно сказать, он и был мальчишкой. С первого взгляда никто и не принимал его за режиссера, главного человека в съемочной группе. Люди с улыбкой пожимали руки Тео, Бьерну, даже помощникам, принимая Джона за какого-нибудь рассыльного, что возвращало Джона воспоминаниями в дни его начала работы в газете.
Но стоило ему поговорить с человеком хотя бы минуту, он становился в глазах нового знакомого безоговорочным лидером.
В самые последние дни перед отъездом Джон вдруг получил сразу две телеграммы. Одна была от матери, а другая от Найта. Обе они разволновали Джона.
«Выхожу замуж за Билтмора. Свадьба через месяц. Жду. Мама».
«Срочно приезжай. Есть потрясающие новости. Найт».
Обе они взывали к Джону — вернись, но, к сожалению, Джон уже не распоряжался собой. Он тут же ответил обоим пространными телеграммами, в которых оправдывался, обещал, сетовал и каялся. Мать он поздравил сдержанно, выразившись почти в тех же словах, что и Уэйд, дескать, если что, я всегда на твоей стороне.
Больше ничего он поделать не мог.
Пароход отправлялся ранним утром в начале июля. Стояла прекрасная погода. Провожать группу прибыл сам кардинал Франции, чем немало смутил все портовое начальство.
— Это доброе дело, месье Батлер, — сказал кардинал. — Бог вам в помощь. Хочу добавить только одно. Никогда не отчаивайтесь.
Дуэль
Смысл этих слов Джон понял намного позже, а тогда они показались ему удивительно некстати. Он был полон оптимизма, надежд, азарта, веселья и добра.
Почти треть корабля заняла съемочная группа. Только вся аппаратура, реквизит и декорации заняли целый трюм. В самой команде Джона было не менее ста человек. Он иногда даже удивлялся, откуда столько народу? Но каждый был нужен, каждый знал свое место и занимался своим делом.
Корабль отплывал из Бордо. Через несколько дней он должен был сделать остановку в Лиссабоне, а потом плыть до Неаполя. В Неаполе предстояло перегрузиться на другой корабль, который довезет группу до Александрии, а уж оттуда до Иерусалима придется добираться по суше. В общей сложности поездка должна была занять месяц.
Попрощавшись со всеми провожающими, Джон поднялся на борт, капитан пожал ему руку и представился Хозе Сальватьерро.
А потом корабль стал отходить от пристани.
Джон вместе со всеми стоял у поручней и махал рукой.
В этот момент неизвестно откуда появилась огромная туча и, закрыв солнце, разразилась просто-таки проливным дождем. И провожающие и отплывающие бросились в укрытия.
— Дождь в дорогу — это к добру! — смеялся Бьерн.
— Глупости! — смеялся и Джон. — Дождь — это дождь!
Бьерн вдруг схватил его своими на удивление крепкими руками, прижал к стене и сказал:
— Не спорь со мной! Это — к добру! Понимаешь, я знаю, что к добру! Я тебя, австралийца, встретил возле той церквушки к добру, я протащил тебя по Европе к добру, я привел тебя на студию тоже к добру. И теперь послушай меня — я люблю тебя, но не позволю с собой спорить. Ты должен, дикарь, уважать седины.
— Седины? — включился в игру Джон. — Если ты покажешь мне хоть один седой волос, я паду ниц.
— Пожалуйста, — сказал Бьерн, — тебе придется падать ниц раз двадцать.
Он наклонил голову и указал пальцем на свое темя.
— Видишь? Что это, по-твоему?
— Где-где? — всмотрелся Джон. — Если ты называешь этот волос седым, то я — китаец.
— А ты хочешь сказать, что он не седой?
— Нет, не седой.
— А я говорю — седой.
Джон взял волосок двумя пальцами и выдернул его.
— Ну что, седой? — спросил он, показывая волос Бьерну.
— Ты выдернул не тот! Это подмена! Это явная ложь! — наигранно возмущался Бьерн.
— Ах не тот?! Хорошо! Вот другой! — сказал Джон и, не успел Бьерн даже ахнуть, выдернул еще три волоска.
— Ты с ума сошел! Моя шевелюра! Изверг! Мучитель! Китайский австралиец!
— Ну, где тут седой? Где? Нормальные, молодые, пышные волосы! Да с такими волосами тебе впору готовиться к конфирмации!
— Это не те! Ты показываешь мне другие волосы! Я точно знаю, что моя голова убелена мудрыми сединами!
— Хорошо! Покажи мне сам! Пожалуйста!
Бьерн стал перебирать волосы на макушке, не решаясь выдернуть хотя бы один.
— Прости, мне некогда наблюдать за твоим поиском мудрости, — сказал Джон и, сделав презрительную гримасу, удалился.
Дождь прекратился только тогда, когда выплыли из залива в открытое море. А это случилось уже поздним вечером.
За день Джон успел осмотреть весь корабль, побывать в гостях у всех актеров и «актеров», познакомиться почти со всей командой и даже с некоторыми пассажирами. Многие из них плыли только до Лиссабона. Среди них были в основном испанцы, черные, жгучие, красивые.
В кают-компании, где пассажиры ели в четыре смены, Джон попросил все столы сдвинуть, чтобы группа сидела вместе. Это было забавно, как актеры учили «актеров» держать вилку и пользоваться ножом. Старший клошар, которого звали Поль, не нуждался в учебе. Он прекрасно умел вести себя за столом. Более того, оказалось, что он здорово разбирается в винах, в устрицах, в соусах, в мясе, вообще во всех тонкостях французской кухни.
— Откуда такие познания, месье Поль? — поинтересовался Джон.
— Старые запасы, режиссер. Думаю, вы не поверите, если я скажу, что был когда-то богат и даже немного знатен.
— Почему же? Очень даже поверю.
— Но вас, наверное, интересует, почему я теперь ни то ни другое.
— Честно говоря, да.
— Да наврет он все, месье, — вставила красотка, которая торжественно обещала, что после съемок бросит свое порочное ремесло.
— Молчи, девушка, — сказал Поль грубовато. — Месье сам поймет, вру я или нет.
— Надеюсь, — сказал Джон.
— Это позорная история, месье. Но мне почему-то не стыдно ее рассказывать.
— Мы слушаем вас, Поль.
— Все началось довольно банально, я был молод и, поверите ли, недурен собой. Отсюда, как дважды два, выходит, что я волочился за каждой встречной юбкой. Франция, месье, страна ловеласов. Во всяком случае, тогда я был в этом уверен. И знаете, имел успех. Да простят меня дамы. Так все и длилось многие годы. А надо заметить, месье, что любовные связи во Франции — это помимо плотских удовольствий еще и хорошее подспорье в делах.
— Хорошо говорит, — шепотом сказал Джон, оборачиваясь к Бьерну и только в этот момент вспомнив, что друг не пришел на ужин. Получилось, что он поделился с Тома.
— Красиво, — согласился оператор.
— Знаете, как это бывает, жена замолвит мужу словечко, тот поддержит в нужную минуту. А дела у меня, в отличие от любовных, шли из рук вон плохо. Наше поместье пришло в упадок еще при покойном отце. Он раза два перезаложил дом и земли, я еще раза три. Нигде не работал, жил, как птичка Божия. И тут случилось то, о чем вы не раз читали в романах, месье. Муж одной красотки застукал меня со своей женой. А был, месье, это очень хороший человек. Я за честь посчитал бы с ним дружить. Он не был красив собой, но очень умен, добр, талантлив. Чего еще не хватало его жене? Ума не приложу. Но, видно, ей нужен был красивый самец, а я таковым являлся на тот момент. Словом, она была моей любовницей, да простят меня дамы.
— Хотите, я расскажу конец вашей истории? — спросил вдруг Джон.
— А что? Интересно! — оживился вдруг Поль. — Попробуйте.
— Значит, так. Он застал вас со своей женой и, как это принято в цивилизованных странах, вызвал на дуэль. Так?
— Точно, — согласился Поль.
— А поскольку был он человеком сугубо мирным, судя по вашему описанию, то первым своим выстрелом воспользоваться не смог. Не попал. Так?
— Правильно, — сказал Поль.
— А вы воспользовались. И убили его. Суд. Тюрьма. Разорение. Так?
— Не так, — вдруг сказал Поль. — Вот вы и не угадали, месье. А знаете почему? Я ведь не зря помянул тут романы. Вы их слишком много прочитали, режиссер.
Поль говорил резко, грубо, словно вызывал Джона на скандал. В кают-компании повисла напряженная тишина.
— Вы правы, — сказал Джон. — Простите меня.
— То-то же, — сказал Поль и снова принялся за еду.
Недосказанная история повисла в воздухе, заставляя присутствующих растерянно оглядываться то на Поля, то на Джона.
— Но что же в произошло на самом деле? — спросил наконец Джон. — Пожалуйста, месье Поль, продолжайте, иначе мы сейчас умрем от нетерпения.
Поль выдержал большую паузу, отложил вилку и нож, выпил вина, вытер салфеткой рот и только после этого сказал:
— Вы были правы, режиссер. Этот достойный человек действительно вызвал меня на дуэль. Вы правы, он был сугубо мирный человек, поэтому сама мысль убить кого-то была ему в дикость. Но он это сделал. Ведь он, как и я, был из высшего света. Ему нашептали, его упорно убеждали, что он должен смыть свой позор моей кровью. Он явился вызывать меня сам, не через секундантов. И этот вызов, месье, был похож на принесение извинений. Он так умолял меня понять его, не винить, не осуждать. Нет, он не боялся, он и у барьера совсем не думал о смерти. Повторяю — ему претила сама мысль стрелять в человека.
Поль вздохнул и опустил голову, теперь он говорил медленно, с трудом, еле слышно, но в кают-компании была такая тишина, что каждое его слово доносилось до всех.
— Мы стрелялись в Булонском лесу. Это тоже банально. Но и это веление света. Хотя дуэли во Франции давно запрещены, но люди делали и по сей день делают это почти открыто. Нас было всего семеро — я, он, по два секунданта с обеих сторон и врач. Но, уверен, за деревьями собрался почти весь парижский бомон. Я даже как будто слышал запах духов в утреннем лесу.
Он стрелял первым. С тридцати шагов. И он, естественно, промахнулся. Думаю, стреляй мы с пяти шагов, результат был бы тот же. Вот до этого момента вы были правы, режиссер. Но дальше…
Поль снова выпил вина.
— Знаете, что сделал я, месье? Я не выстрелил, нет. Но сделал это не из благородства в общепринятом смысле. Мое благородство было неожиданным для меня самого. И заключалось оно в том, что, когда он направил на меня пистолет и выстрелил, я побежал. Я закричал и побежал, как заяц. Тогда я еще не понимал, почему так сделал, что это со мной произошло. Я понял это гораздо позже. Он сам рассказал мне о моем благородстве. В одном могу поклясться, месье, я не испугался. Это я знал точно. Здесь было что-то другое. Но, одним словом, я бежал с места дуэли.
Надо ли говорить, что на следующий день для меня закрылись все двери. Все, месье, до единой. Мне, шалопаю, были рады в любом приличном доме, мне, не убившему человека, отказывали в приеме. Свет возненавидел меня. Меня не хотели знать, словно я был прокаженным. Стеснялись даже прошлого знакомства со мной. Ну как же! Ведь они не разглядели во мне труса и бесчестного! Они так ошибались! Скоро стали являться судебные исполнители, дом был продан за долги со всем имуществом и землями. Я оказался в прямом смысле слова на улице. А поскольку я ничего не умел, кроме как говорить комплименты, то вскоре начал голодать, холодать… Дальше путь прям и неизвилист. Но как-то, когда я уже снимал угол под лестницей в не очень богатом доме, ко мне пришел он. Я поначалу испугался, решил, что он настаивает закончить дуэль. Но он пришел, месье, поблагодарить меня. Да-да! И не за то, что я его не убил. А за то, что показал ему, как он выразился, всю черную пропасть его падения. Ведь гуманистом слыл не я, а он, ведь ему казалось невозможным убить человека. Но он стрелял. А я своим позорным бегством показал, что я выше его, выше молвы, выше предрассудков. Что я — человек. Это не мои слова, месье. Это он так выспренно выражался. Он жал мне руки. Он благодарил меня, он называл меня свободным и независимым. Правда, уходя, он не пригласил меня в гости, не обещал помочь. Он просто покаялся и — достаточно. Потом он написал книгу. Она имела большой успех, она перевернула общественную мысль Франции. Он рассказывал о некоем господине, за которым легко угадывался я…
— «Убиваю дуэль»? — спросил Джон.
— Да, так называется книга. Автора я больше никогда не видел. Ну, а теперь скажите, правда это или нет?
— Спасибо, — сказал Джон. — Большое вам спасибо…
— На колени! Сейчас же на колени! — вдруг раздалось из двери.
На пороге с видом победителя стоял Бьерн и держал двумя пальцами что-то невидимое издали. Взгляд его был обращен к Джону.
Все, кто присутствовал в кают-компании, только рты пооткрывали.
— Смотри, я нашел, вот он! Смотрите все и скажите честно — это седой волос? Ну! Смелее! Седой? — подносил он пальцы к глазам сидящих за столом.
— Седой, — растерянно согласилась одна из дам.
— На колени!
— Сдаюсь! — расхохотался Джон, вспомнив об утреннем шутливом споре. Он вышел из-за стола и опустился на колени перед Бьерном.
— Все видели? — торжествовал Бьерн. — Вот так должны уважаться седины! Вставай, Джон! Тебе еще много раз придется становиться на колени.
Бьерн осмотрел заулыбавшихся коллег и добавил:
— У местного корабельного кота много белых волос!
Пока Джон гонялся за Бьерном по всей каюте, собравшиеся хохотали до упаду. Так закончился этот первый день путешествия.
Собственно, это и все, что стоит рассказать о плавании. Остальные дни тянулись уныло и однообразно. После короткой остановки в Лиссабоне на борту появились люди в экзотических восточных одеждах, но к себе никого не подпускали, жили особняком и общались только друг с другом.
В Неаполе перегрузились на корабль, который вез большую партию оружия. И Джон подумал, что в этом мире все рядом — трагическое и смешное, мир и война, Восток и Запад, любовь и ненависть.
На двадцать пятый день причалили в порту Александрии. Отсюда предстояло добираться на повозках и в экипажах.
Еще в Средиземном море на пассажиров обрушилась такая жара, что они часами не вылезали из ванн, наполненных холодной водой, а уж когда прибыли в Александрию, горячий воздух просто обжигал легкие. Не помогало ничего. Выпитая вода тут же потоками изливалась из всех пор, словно эта вода не выпита, а опрокинута на голову. Солнце слепило, било в глаза. Это была настоящая пытка. Джон теперь понял, почему у древних египтян солнце было божеством — здесь действительно от него зависела и жизнь и смерть.
Не успел корабль пришвартоваться, как на борт поднялись вооруженные люди, одетые в красные широкие шаровары и фески, они тут же окружили трюм с оружием и начали его выгружать. Джон наблюдал, как сотни винтовок в ящиках и без ящиков переходили по цепочке с корабля на берег. Люди работали дружно, но зрелище это было грустное.
Когда разгрузка закончилась, вооруженные люди так же быстро покинули корабль и на повозках уехали.
— Мы можем сходить на берег? — спросил капитана Тео.
— Нет, — ответил тот, — еще не прибыли представители властей.
— А эти, с оружием?
— Это была армия. Они показали мне свои бумаги. Нами они не распоряжаются, они только получили оружие.
— Хозе, но если нас никто не собирается проверять, может быть, мы сойдем сами?
— Не советую, — ответил капитан.
— И сколько же мы будем их ждать? — волновался Тео.
— Бывает, ждем неделями.
— И что, никто никогда не пытался сойти на берег?
— Были такие безумцы, — мрачно сказал капитан. — В лучшем случае их убили.
— А в худшем? — спросил Тео.
— В худшем — они оказались в тюрьме. Даже смерть лучше мусульманской тюрьмы, — ответил капитан.
Это убедило Тео не рисковать и ожидать прибытия властей.
Капитан ушел в свою каюту, посоветовав пассажирам пользоваться комфортом корабля, пока есть такая возможность. И все с удовольствием разбрелись по своим ваннам, чтобы спастись от жары.
Джон не был исключением. Он вылезал из ванны только для того, чтобы что-нибудь съесть или поспать. Впрочем, в последние дни он научился в ванне даже дремать.
И сейчас он лег в воду, которая была ненамного прохладнее его тела, и сразу почувствовал, что веки его слипаются.
И тут же раздался близкий выстрел.
Джон моментально проснулся и увидел, что за окном уже ночь. По палубе грохотали шаги множества людей, слышались громкие крики по-арабски, хлопали двери, визжала какая-то женщина.
Джон мигом выскочил из ванны, быстро оделся, выбежал из каюты, и тут же в лицо ему больно ткнулось дуло винтовки.
Человек в шароварах и феске что-то сказал Джону и мотнул головой в сторону выхода. Джон понял, что ему приказывают идти на палубу. И он пошел.
Первое, что увидел он в свете тусклых фонарей — сбитую тесную толпу своих коллег. А второе — скрюченное тело капитана в луже крови. Капитан еще был жив, он агонизировал, ноги его дрожали мелко, а изо рта катилась розовая пена.
Джон ничего не понимал.
Его толкнули в толпу, и он оказался рядом с Полем.
— Они убили капитана, — сказал Поль каким-то отстраненным голосом.
— Почему, за что? — спросил Джон. — Где наш переводчик, что происходит? Где Тео? Где Бьерн? Что случилось?!
Тео и Бьерн тут же вышли на палубу, правда, тоже не по своей воле. Бьерн бросился было к капитану, но его ударили по спине прикладом и толкнули к остальным.
— У нас письмо английского консульства! — закричал Тео. — Я прошу вас не трогать людей. Мы под защитой Британской короны!
Он словно забыл, что солдаты его не понимают.
— Кто здесь у вас главный?! Я требую представителя властей!
Стоящий рядом с Тео солдат ударил его прикладом в лицо. Тео захлебнулся кровью и тихонько заскулил.
Потом из толпы выхватили почему-то клошара, которого Джон назначил на роль Иуды. На него стали кричать, размахивать саблями, а он только улыбался своей фатоватой улыбкой, потому что иначе улыбаться не умел.
Джон понимал, что случилось какое-то недоразумение, но как объясниться с людьми, не владеющими ни одним из европейских языков. В группе был переводчик, но где он, никто не знал.
Клошара схватили за руки и повели к трюму. Он беспомощно улыбался и оглядывался на толпу.
— Его сейчас убьют! — догадался Джон. — Это надо остановить!
И он, вылетев из толпы, сбив с ног нескольких солдат, бросился к клошару, на него навалились несколько человек, но Джон увернулся, отшвырнул одного, хуком заставил согнуться в три погибели второго…
Солдаты бросили клошара, чтобы помочь своим.
— Сюда! Ко мне! — закричал Джон. — Мы их перебьем, как бешеных собак!
На его призыв отозвались два человека — Бьерн и Поль. Они тоже стали вовсю орудовать кулаками, и солдаты, а их было не так уж и много, как оказалось теперь, вдруг бросили рукопашную и опрометью кинулись к трапу.
Толпа, воодушевленная успехом, двинулась вся.
— Назад! — закричал Джон. — Ложись!
Он сделал это очень вовремя, потому что спустившиеся с корабля солдаты дали залп из своих винтовок. Пули просвистели у упавших на палубу людей над головами.
— Где команда?! Где матросы?! Нам надо отчаливать! — кричал Джон.
Он обернулся и увидел, что рядом с ним на палубе лежит переводчик.
Джон схватил его за ворот и закричал:
— Почему вы молчали?! Почему вы не пытались с ними договориться?
— Я… месье, я… — лепетал переводчик.
— Сейчас же скажите им, чтобы прекратили стрельбу и объяснили, что им нужно.
— Я… Месье Батлер, я сейчас… Я забыл, как будет по-арабски… — Губы у переводчика дрожали, он чуть не плакал.
— Успокойтесь, — сказал Джон. — Вы все прекрасно помните. Ну, говорите! Громко и четко.
Переводчик действительно немного успокоился и, приподняв голову, закричал по-арабски.
Стрельба не сразу, но смолкла.
Потом кто-то из солдат или командир, видно с палубы не было, что-то быстро сказал.
— Он говорит, что мы продали оружие бандитам, — прошептал переводчик. — Он требует отдать им деньги.
— Скажите, что оружие никто не продавал. Что приехали такие же солдаты, предъявили документы и забрали груз. — Джон говорил спокойно, потому что понимал — ситуация начинает проясняться.
Когда его слова были переведены, на берегу некоторое время молчали.
Потом снова раздался тот же голос.
— Он требует показать документы, которые предъявили те, кто забрал груз.
— Скажите, что документы у капитана, что, если один из них поднимется на борт без оружия, мы сможем их найти.
— Он нам не верит. Он ждет подкрепления и тогда просто уничтожит всех нас.
— Передайте ему, что он дурак. Груза все равно нет. А если он уничтожит нас, завтра же здесь будет английский крейсер и уничтожит Александрию. Только дословно!
Видно, страх — единственное средство, способное привести в чувство самого тупого человека.
Через минуту на борт поднялся солдат без оружия.
Джон вместе с ним обыскал капитанскую каюту и нашел документы.
— Пусть читает, — сказал он переводчику.
— Он не умеет читать. Он отнесет документы командиру.
— Нет, так не выйдет. Он останется здесь, нам так будет спокойнее.
Джон и не предполагал, что в нем может быть эта жестокая расчетливость. Но речь сейчас шла о судьбах сотен людей, за которые он отвечал.
— А документы мы сбросим на причал.
Когда они вернулись на палубу, то Джон увидел, что женщин и стариков здесь больше нет. Командовал Бьерн. Он раздал мужчинам бутафорские мечи и копья, кое-кто надел римские шлемы и даже металлические нагрудники.
— Просто римская армия! — улыбнулся Джон.
— Мы больше не собираемся воевать голыми руками, — сказал Поль.
— Надеюсь, воевать вообще не придется, — успокоил его Джон.
И действительно, через два часа солдаты убрались восвояси, а на их месте появилась таможенная служба, которая осмотрела корабль, проверила багаж пассажиров и позволила всем спускаться на берег. Таможенники говорили по-английски.
— Нет, — сказал Джон. — Мы подождем представителей полиции. На борту произошло убийство. Мы не можем так этого оставить.
— Не надо господин говорить убийство, — на ломаном английском произнес таможенник. — Никакой убийство.
— Убили капитана, — сказал Джон. — И вы за это ответите.
— Господин хотеть неприятность? — спросил таможенник. — Я не хотеть и не желать господин неприятность. Армия — всегда прав.
Джон понял, что спорить бессмысленно.
Как только группа и остальные пассажиры стали спускаться на берег, причал, до этого безлюдный, вмиг заполнился шумной толпой, которая расхватала вещи, быстро выгрузила остальной багаж. Тут же стояли повозки, и их хозяева дрались между собой за право везти груз. Словом, через полчаса группа уже была в городе. Ночь решили провести здесь. А отправляться утром.
Джон обратил внимание, что в этот поздний час улицы были полны народа. Работали лавки и питейные заведения, кричали уличные торговцы, сновали грузчики…
— Днем они спят, — объяснил переводчик, который уже пришел в себя. — Слишком жарко, а к вечеру начинается жизнь. Впрочем, обратите внимание, месье Батлер, вы не увидите ни одной женщины.
Действительно, толпа была чисто мужской.
— Женщины здесь вообще редко выходят из дому. Законы шариата.
Гостиница, в которую привезли иностранцев, располагалась в пышном доме, скорее похожем на восточный дворец. При этом комнатки были маленькими и грязными.
Впрочем, Джон не обратил на это особого внимания. Он так устал от сегодняшних переживаний, что у него было одно желание — упасть на постеленный прямо на полу матрас и забыться сном. Уже в полудреме он вдруг вспомнил слова кардинала, сказанные в порту Бордо.
— Никогда не отчаивайтесь.
Джон решил, что они относятся к сегодняшнему дню…
Русские
Для Бо и Уитни время словно бы перестало существовать. Они целыми днями могли просиживать в номере гостиницы, разговаривая обо всем сразу, могли с утра уйти в горы и не заметить, как наступает вечер. Они могли веселиться всю ночь напролет, забыв обо всем.
Гастроли закончились, и труппа была отправлена в отпуск. Кто-то вернулся в Америку, кто-то, наоборот, вызвав семью, остался отдыхать в Европе. Бо и Уитни уехали в Швейцарию.
Эта маленькая уютная страна словно бы специально была создана для влюбленных. В ней как будто бы тоже время остановилось. Никаких политических бурь, никаких светских скандалов.
Бо и Уитни уехали в маленькую деревушку у подножия Альп, где была небольшая гостиница. В это время года гостиница была полна — здесь жили еще три пары таких же беззаботных и счастливых людей — двое англичан, молодых, белокурых, ловких, удивительно похожих друг на друга, недавно вступивших в брак, — Тери и Линда Уинстоны. Они с утра до вечера играли лаун-теннис, оглашая тихие окрестности веселыми выкриками и смехом.
Другая пара — пожилые супруги из Ирландии. Он — скотопромышленник, неразговорчивый, но предупредительный джентльмен с окладистой седой бородой. Она — подвижная толстушка, мило краснеющая каждую минуту по любому поводу. Звали почтенных супругов мистер и миссис О’Брайен.
Третья пара интересовала Бо больше других. Это были господа из России. Он молодой красавец с ослепительной улыбкой и плохим французским, она намного старше его, болезненного вида, с чуть капризным выражением лица, худая, беловолосая.
Если англичане оккупировали теннисный корт, ирландцы на целый день отправлялись в горы, то русские, надев лучшие свои наряды, с утра садились на террасу и читали. Она — толстенькие томики французских романов, он — газеты и журналы.
Ее звали труднопроизносимым именем Прасковья, а его — Стив.
История этой семьи оставалась для Бо загадкой. Разница в возрасте слишком уж бросалась в глаза, чтобы не угадывать за ней некую тайну. Если Стив был просто брачным аферистом — это было бы скучно. Но Стив и не выглядел таким при всей своей красоте. Он был заботлив, трепетен со своей супругой, которую Бо и Уитни называли между собой миссис Перс.
Из коротких и ни к чему не обязывающих разговоров Бо понял, что супруги приехали в Швейцарию на лечение. Собственно, лечение требовалось только миссис Перс, но муж последовал за ней. Жили они в городе Томске, о котором Бо никогда не слышал. Раз в неделю к миссис Перс приезжал доктор, осматривал ее, прослушивал ее больные легкие и, выписав очередную микстуру, уезжал.
Иногда вечерами мистер О’Брайен предлагал мужчинам сыграть в вист, но Бо терпеть не мог карты. А вот Тери и Стив с удовольствием играли. Возможно, они узнавали в это время что-нибудь интересное о семье русских.
Бо находился в неведении.
После возвращения Уитни из Америки и разрыва Бо с Эльзой Ван Боксен оба уже не расставались ни на день. Они словно боялись, что даже за минуту, в которую они не будут рядом, может случиться непоправимое.
— Да, я бежала от тебя, — сказала тогда Уитни. — И от себя тоже. Это было отчаяние. Но я не могла иначе. Я ехала в Америку с непоколебимым желанием порвать с тобой и с нашей любовью навсегда. Ты же знаешь, Бо, я сильная женщина. Я была уверена, что мне это удастся. И мне это удалось бы. Мне это уже почти удалось. Я не стала собирать вещи, не стала никого предупреждать не для того, чтобы оставить какие-то мосты или напустить туману. Нет, это было настоящее паническое бегство. Билет я заказала за три дня, но еще не была уверена, что воспользуюсь им. А вот на последнем спектакле я вдруг подумала, что после вечера в ресторане я сама, понимаешь, сама приду к тебе и буду умолять на коленях, чтобы ты меня не выгнал. Я даже знала, как я это сделаю. Я продумала все подробности. Ведь я актриса, Бо, я представила себе будущую сцену во всех деталях. Это было удивительное ощущение — страха, брезгливости к самой себе и какого-то безоглядного веселья — ну и пусть! Что-то в этом чувстве было ужасно низким, но и захватывающим. И я тогда решила бежать.
Ваша телеграмма застала меня еще в пути. И это тоже был большой соблазн — сразу же пересесть на корабль, идущий в Америку, и сразу же вернуться. Вернулось то же чувство — низкое и пьянящее. И здесь я дала волю своей фантазии, все представила в деталях. Но я не вернулась. Я поехала к мужу и увидела его глаза. Знаешь, Бо, это были глаза побитой собаки, которую хозяин вдруг решил приласкать. Сол плакал, вымаливал у меня прощение, хотя в чем он виноват, он бы и сам не объяснил. Дети были рады. Словом, Бо, я была дома. Ты понимаешь, что это значит?
— Да, — ответил Бо.
— Нет, ты этого не понимаешь. Для белых дом — такая же привычная и обыкновенная вещь, как рука или воздух. Для черного дом — символ его принадлежности к роду человеческому, это идефикс, это фетиш, это символ и божество. Построить дом для черного приблизительно то же, что для белого — мечта всей жизни. У нас никогда не было своих домов, Бо. Впрочем, что я об этом? Ты ведь хочешь знать, почему я все же вернулась. И думаешь, наверное, что я не справилась с любовью, с той неумолимой чудовищной силой, которая ежесекундно хватала меня за шиворот и тащила в порт, на корабль, в Европу, к тебе? Нет, Бо, я справилась. И вот тогда послала телеграмму.
— Да, это был четкий ответ. Жесткий, резкий, безоговорочный, — сказал Бо. — Настолько однозначный, что я сразу же подумал — она может вернуться.
— Ты правда так подумал? — удивилась Уитни.
— Очень смутно. Мимолетом.
— Удивительно. Потому что именно тогда, когда телеграмму уже нельзя было вернуть, я решила возвращаться.
— Великая путаница по имени Уитни.
— Великая путаница по имени жизнь.
— Но я ничего не понял.
— Я и сама только сейчас начинаю себя понимать, Бо. Все намного проще, чем может показаться. Я просто испугалась однозначности. Однозначность — конец, смерть. А я хотела жить. Сказав тебе однозначное «нет», я поняла, что это как удар топора. За ним — ничего. Я не очень сильная женщина, Бо. Я думала всегда и сейчас, что ничего не кончается, понимаешь, все можно вернуть, нет никаких однозначностей и окончательных решений. Может быть, только смерть. Но и за ней что-то есть. А здесь я сама рубанула. Сама сказала окончательное «нет». Будь на твоем месте другой человек, я бы ни секунды не сомневалась — даже после этого все еще можно вернуть. Но ты! Ведь сознайся, Бо, ты бы никогда больше не захотел меня видеть, ведь так? Ни через год, ни через сто.
— Не знаю.
— Нет, не захотел бы. Будь на твоем месте другой, мы могли бы попытаться искать какие-то другие пути, мы бы пошли на компромисс, но ты — максималист, Бо. А максимализм, помноженный на максимализм, дает в итоге смерть.
— Ты говоришь какие-то очень важные и нужные слова, Уитни, — сказал Бо. — Ты так проницательна и так тонка. Но, честно говоря, я совсем не это хотел услышать. Мне даже страшны твои рефлексии, потому что слишком много идет от ума, а не от сердца.
— Дурачок. Думать я стала только сейчас. А тогда это было Бог знает что! Я просто вышла из дому и приехала. Вот что это было тогда.
— Но почему?! По-че-му?!
— Потому что люблю тебя. Ты это хотел услышать? Могу повторить еще миллион раз.
— Ты хочешь мне сделать одолжение?
— Я хочу, чтобы ты обнял меня и поцеловал. Я ни разу с тобой не целовалась. И еще, знаешь, Бо, я ни разу не целовалась с человеком, которого люблю. Ведь я теперь свободна.
Когда Бо вернулся после ночи, проведенной у Эльзы, Уитни ни о чем его не спросила. Он сам сказал ей:
— Теперь и я свободен.
Сол согласился на развод на удивление быстро, все прошло без Уитни. Он прислал бывшей жене большое письмо, в котором писал, что понимает ее, что все ей прощает, что дети пока побудут у него, пока она не вернется, что он не держит зла и на Бо.
А потом была свадьба в Берлине. Скромная, тихая, только в узком кругу друзей. Уитни вернула себе девичью фамилию и не стала брать фамилию Бо.
Гастроли завершились победоносно. Берлинские газеты взахлеб расхваливали спектакль. Вокруг состава труппы даже разгорелась небольшая газетная дискуссия — ведь несколько видных немецких ученых провели, по их словам, серьезные исследования представителей разных рас и пришли к выводу, что белая раса превосходит все остальные и в умственном развитии, и в творческих способностях. Не менее видные ученые оспаривали такие выводы. Газеты внесли в этот спор свою долю аргументов, среди которых был и театр Бо.
А после Берлина Бо и Уитни оказались в Швейцарии.
— Я чувствую, что с каждым днем становлюсь все толще, — смеялась по утрам Уитни. — Бо, мы с тобой великие лентяи. Сколько раз мы были на прогулке?
— Целых три!
— Это за десять дней.
— Мне и этого кажется многовато. Я хотел бы вообще никуда не выходить из нашей комнаты. А еще лучше — не вылезать из постели.
— Бо!
— Да, я говорю чистую правду! А ты думаешь иначе?
— Честно?
— Честно.
— Честно говоря, я думаю точно так же, как ты.
— Тогда брось свою расческу и иди сюда.
Уитни не надо было долго уговаривать…
Но как-то утром они проснулись от того, что за стеной, где были русские, раздался крик, потом грохот упавшего стула. Потом громкий разговор. Женщина и мужчина о чем-то громко спорили.
Бо невольно прислушивался, но понять ничего не мог — русские спорили на своем языке. Он только улавливал интонации — обиженные и плачущие женские и грубые, жесткие мужские.
— Да, — сказала Уитни. — Что-то у них не ладится.
— Нам придется встать и выйти на террасу. Я не могу слышать этого, — сказал Бо.
Но к завтраку русские спустились как ни в чем не бывало.
Они безмятежно улыбались друг другу и своим соседям, говорили о разных пустяках, русский рассказал даже какой-то анекдот, который очень насмешил молодых англичан.
В этот день все четыре пары решили отправиться на прогулку вместе.
— Мы знаем одно чудное местечко, — сказала миссис О’Брайен и покраснела. — Водопад, эдельвейсы, высокая трава.
— Моей жене нельзя ходить на большие расстояния, — с сожалением заметил Стив. — Наверное, мы все-таки останемся здесь.
— О! Это вовсе не далеко, — снова покраснев, сказала ирландка. — Мы доходим туда с мужем за двадцать минут. Мы можем делать остановки.
Разговор происходил с двойным переводом, потому что Стив и Перс говорили по-французски, а англичане и ирландцы только по-английски. Переводчиком был Бо, который владел обоими языками.
— Как ты себя чувствуешь, дорогая? — спросил Стив жену.
— Мне кажется, я одолею этот путь, — ответила Перс.
— В случае чего, мы просто понесем вашу жену на руках! — бодро заявил молодой англичанин.
На самом деле Бо считал, что женщине лучше бы никуда не ходить. Он видел, что даже за то короткое время, пока они были знакомы с русскими, болезнь Перс прогрессировала. Она стала еще более худой и бледной. Да и по лицу доктора он догадывался, что дела идут не лучшим образом.
Но общий энтузиазм был так велик, что Бо не стал вносить в эту атмосферу свой скепсис.
Дамы пошли переодеваться для прогулки, Стив удалился на кухню, чтобы заказать кое-каких продуктов в дорогу. А Бо, ирландец и Тери остались на террасе.
— Вы слышали, что сегодня происходило в их комнате? — заговорщицким шепотом сказал Тери. — Настоящий скандал.
— Я ничего не слышал, — сказал О’Брайен.
— А вы, мистер Бо?
— Я не прислушивался, — мягко укорил англичанина Бо.
— А зря. Я немного понимаю по-русски, не все, так только, урывками. Они все время говорили слово «деньги».
— Ну и что? — раздраженно спросил Бо.
— Видно, мистеру Стиву маловато тех денег, которые дает ему жена.
— С чего вы решили, что он у нее на содержании? — спросил Бо. — Мне кажется, Тери, вы просто ошибаетесь. И вообще, оставим этот разговор.
Англичанин поджал губы и замолчал.
Вскоре дамы появились, Стив принес корзинку с провиантом, и компания тронулась в путь.
Сначала надо было идти через деревню, мимо беленьких чистых домиков под черепичными крышами. Встречавшиеся по дороге местные жители все как один здоровались с иностранцами, мужчины почтительно снимали шляпы, а женщины делали короткий книксен. Бо подумал, что в большом городе эта замечательная привычка сошла на нет. В Таре тоже все знали друг друга, но и с незнакомыми приезжими тоже здоровались и даже останавливались поболтать.
В маленькой пивной сидели пожилые мужчины и степенно пили пиво из глиняных кружек. Они делали это так аппетитно, что Бо тоже захотелось выпить кружку холодного горьковатого напитка.
Англичанин и ирландец приняли предложение Бо скорее из любопытства, им было интересно узнать, чем швейцарское пиво отличается от знаменитых английского и ирландского.
А Стив отказался, он отправился с дамами дальше, предложив остающимся мужчинам догонять их.
Пиво оказалось невкусным. Англичанин и ирландец долго смеялись над этим, придумывали для швейцарского пива разные смешные применения. Впрочем, остальных посетителей пивной их смех совершенно не смутил.
Когда мужчины догнали дам и сопровождавшего их Стива, те уже были за деревней на дороге, полого поднимавшейся в гору.
— Мне тоже очень хотелось попробовать, — созналась Уитни, — но я испугалась, что подумают обо мне эти дамы.
— Должен тебя успокоить — пиво дрянь.
История с пивом еще долго оживляла прогулку. Правда, Стив и Перс начали потихоньку отставать. Как уж медленно ни шли остальные, Перс не поспевала. Она поминутно останавливалась и прерывисто дышала.
— Может быть, вам лучше вернуться? — спросил Бо.
— Нет-нет, ничего, — ответила Перс. — Я только немного отдышусь.
— Нам еще долго идти? — спросил Бо у ирландцев.
— Здесь уже рукой подать, — ответила миссис О’Брайен и снова покраснела.
— Вы идите, мы вас догоним, — сказал Стив. — Немного отдохнем и тронемся за вами.
Стив усадил жену на большой теплый от солнца камень, а сам присел на траву.
— Хорошо, — сказал Бо. — Если вы почувствуете, что вам не стоит продолжать прогулку, возвращайтесь.
— Мы обязательно догоним вас, — ответила Перс.
Они остались, а остальные продолжили путь. Он действительно оказался совсем близким. Через какой-то километр вся компания вышла в то самое сказочное место, о котором говорила миссис О’Брайен.
Струи высокого водопада разбивались на мельчайшие брызги, и луч солнца, попавший на них, разноцветно переливался.
— Радуга! — закричала Уитни. — Смотрите, радуга!
Компания бросилась к водопаду — ну кто же не мечтает поймать руками радугу, — но брызги в мгновение промочили одежду до нитки.
Женщины с визгом бросились назад. Мужчины тоже ретировались.
Побродив вокруг, компания решила устроить пикник. Впрочем, делать это пришлось в стороне от водопада, потому что его грохот совершенно не давал говорить. Уитни, Линда и миссис О’Брайен расстелили прямо на траве белоснежную скатерть, поставили глиняные миски, а в них выложили простую еду — зеленый лук, листья салата, томаты, каравай черного хлеба, овечий сыр. Здесь же стояла большая плетеная бутылка красного вина.
— Я считаю, что мы должны подождать русских, — сказал Бо. — Они должны вот-вот прийти.
— Может, стоит за ними сходить? — сказала миссис О’Брайен.
— Правда, надо сходить и узнать, может быть, они вернулись? — сказал Тери. — Я могу выполнить эту миссию.
Бо почему-то не хотелось, чтобы шел англичанин.
— Я пойду, — сказал он. — А вы развлекайте дам и мистера О’Брайена.
И он быстро поднялся, чтобы не вступать в спор, и побежал туда, где они оставили русских супругов.
Дорожка была извилиста и узка, по бокам ее возвышались густые кусты орешника, поэтому Бо не видел русских, пока не подошел к месту, где они оставались, совсем близко. Подошел и замер на месте.
Опять были слышны крики, плач, опять голос Перс жаловался, а голос Стива грубил. Теперь и Бо различал русское слово «деньги».
Он решил уже повернуть обратно, но вдруг услышал звук громкой пощечины. Он невольно выглянул из-за кустов и увидел только, как Перс падает на землю.
Бо выскочил из кустов и вцепился в замахнувшуюся для нового удара руку Стива.
— Вы с ума сошли! — закричал Бо. — Что вы делаете, месье?!
Стив выругался словами, которых Бо не понял, вырвал свою руку и молча быстро пошел вниз к деревне.
Бо поднял с земли Перс. У нее из носа текла кровь.
— Простите, мадам, — сказал Бо, — я не хотел быть свидетелем вашей ссоры. Это вышло случайно. Я просто вернулся узнать, скоро ли вы присоединитесь к нам.
— Ничего… Ничего страшного, — сказала Перс, утирая кровь носовым платком.
— Вам очень больно? Лягте на траву и поднимите подбородок повыше. Сейчас это пройдет.
Бо побежал к ручью, смочил носовой платок и, вернувшись, приложил его к носу Перс.
— Вы, наверное, подумали о Стиве ужасно? — спросила Перс.
— Это не имеет значения.
— Прошу вас, не рассказывайте никому о том, что вы видели.
— Вы могли бы и не просить об этом. Это ваша тайна. Вы простите меня, что я стал ее невольным свидетелем.
— Он любит меня. Вы просто не знаете. Он очень любит меня, — сказала Перс.
— Да-да, мадам, успокойтесь.
— Нет, вы мне не верите. Вы считаете, что он изверг и негодяй. Ведь так?
— Если честно, то да, мадам. Согласитесь, ударить женщину — не признак благородства, а ударить женщину слабую, — Бо выбрал слово помягче, — это просто ужасно.
— Да-да, я знаю, со стороны это так выглядит. Но я сама во всем виновата. Это я постоянно довожу его до бешенства. Я, знаете, месье Бо, я очень ревную его. Мне кажется, что он мне… Только не смейтесь! Мне кажется, что он мне изменяет.
— Наверное, вы ошибаетесь, мадам. Ведь Стив не отходит от вас ни на минуту.
— Вот-вот. Я все прекрасно понимаю. Но это сильнее меня. Я придираюсь ко всяким мелочам. Например, мне кажется, что он тратит слишком много денег. И я решила, что он тратит их на любовницу.
Бо непривычно и странно было слышать такие откровения от совершенно незнакомой женщины. Он что-то знал о русском характере — открытом и широком, загадочном. Теперь он воочию убеждался, что это именно так. Ни один европеец или американец не станет изливать душу незнакомому человеку. Да и со знакомым поостережется.
— Наверное, я сошла с ума, но и я его люблю, месье, люблю без памяти. Знаете, ведь он ухаживал за мной восемь лет. Когда это начиналось, он был совсем мальчишкой. Только-только закончил гимназию и поступил в горную академию. А у меня уже были муж и ребенок. Собственно, это Михаил и привел в наш дом Степу…
— Кого?
— Стив — по-русски Степан. Уменьшительно — Степа. Действительно, Степа. Он был так молод и горяч. Боже мой, месье, как он мучил меня. Как он мучил себя самого…
— Если вам не хочется, — сказал Бо, — можете не продолжать.
— Нет-нет, я должна вам рассказать, чтобы вы поняли, надо понять все, тогда вы простите его.
— Только не волнуйтесь. Не надо волноваться, это вредно для вас.
— Боже, какие записки он писал мне! Как искал способа увидеть меня! Он даже хотел покончить с собой, если я не позволю ему бывать у нас. Он измучил меня окончательно. Ведь я не могла бросить Михаила. И не только потому, что это означало бы страшный позор и для меня, и для мужа, не только потому, что я лишилась бы ребенка, но и потому, а это самое главное, что я Степу не любила. Нет, месье, я не любила его совсем.
Бо чувствовал себя крайне неловко, словно ему, равнодушному и недостойному, исповедуется чистый и открытый человек. Он не мог взглянуть женщине в глаза, он не мог даже как-то реагировать на ее откровения. Он только слушал и молчал.
— Это длилось восемь лет, месье. Восемь лет такого кошмара. Я думала, что уже схожу с ума. Муж что-то подозревал, но видел мою безграничную преданность и поэтому не принимал всерьез молодого инженера. Ведь Стив закончил академию и стал работать инженером у мужа. А Михаил во всем винил Стива, поэтому вскоре уволил его. Впрочем, Стив стал вскоре сам владеть несколькими шахтами. И дела его пошли хорошо, а у мужа, наоборот, дела разладились. Знаете, Михаил стал пить. Он так пил, месье! Он пил страшно!
Бо, конечно, и представить себе не мог, как мог пить незнакомый русский Михаил. Он просто поверил Перс.
— Собственно, водка его и погубила, месье. Он погиб в шахте, упал с большой высоты, потому что был пьян и не заметил какой-то там опасности. Знаете, месье, я думала, что умру, когда не стало Михаила. И Стив спас меня. Ведь Михаил в последнее время сильно меня избивал. Собственно, это ему я обязана своей болезнью. Но не подумайте, я продолжала его любить.
Вот этого Бо понять не мог.
Перс стало уже легче. Кровь не шла. Она пересела на камень, но не остановила свой рассказ, видно, ей надо было выговориться до конца.
— А Стив появлялся в доме редко, ненавязчиво. Он ничего не говорил, просто сидел и смотрел на меня, словно оставался тем мальчишкой-гимназистом. Он просиживал целые ночи у моей кровати, когда я болела. И мое сердце потихоньку стало оттаивать. А потом мы поженились. Он так был счастлив, месье. И я. Я тоже была счастлива. Я и сейчас счастлива, потому что люблю его, потому что и он меня любит по-прежнему. Мы живем здесь уже полгода. У Стива остались в Сибири дела, его шахты, но он не собирается возвращаться, пока я не выздоровлю. Так что не вините его, месье. Это просто недоразумение.
Она замолчала. Бо тоже не произносил ни слова. И так в тишине они сидели до тех пор, пока не появился Стив. Он сквозь зубы процедил Бо извинения, взял Перс под руку и повел в гостиницу. Перед ней он не извинился.
«Нет, — подумал Бо, — это очень красивая история, чтобы быть правдой. Но, возможно, она помогает Перс не отчаяться окончательно».
Он вернулся к компании и объяснил, что ему пришлось помочь отвести Перс прямо в гостиницу. Он лгал, но что ему оставалось делать?
Уитни он тоже не сказал ничего.
А через три дня случилась беда. У Перс горлом пошла кровь.
Вызванный доктор прибыл очень быстро, но помочь уже ничем не мог. Бо слышал, как он сказал Стиву:
— Мужайтесь, возможно, ей осталось жить недолго.
Стив был бледен, но особого переживания на его лице Бо не увидел.
— Впрочем, все в руцех Божиих, — добавил доктор. — Медицина бессильна.
Стив коротко кивнул, бросил взгляд на Бо и ушел в комнату Перс.
Все постояльцы переживали кризис. Англичане даже не вышли на корт играть в свой ежедневный лаун-теннис.
Бо и Уитни тоже почувствовали какую-то тревогу, не за себя, нет. Это была мудрая и тихая тревога друг за друга. Ведь вот, оказывается, как хрупка человеческая жизнь. Вот как зыбко все в этом мире. Бо держал все время Уитни за руку, словно хотел быть постоянно уверенным, что его любимая рядом. Наверное, схожие чувства испытывали и остальные.
Перс умерла под вечер.
Доктор вышел из ее комнаты, снял пенсне и долго-долго протирал его белым платком.
— Летальный исход, — сказал он.
Постояльцы, словно завороженные, смотрели, как он сел в экипаж, надвинул поглубже шляпу, тронул палкой извозчика и уехал.
Бо только теперь понял, что тот разговор на узкой тропинке был для Перс последним. Она как будто чувствовала близкую кончину, поэтому рассказала Бо свою историю. На месте Бо мог быть кто угодно — ей надо было выговориться, она не могла унести свои чувства в могилу…
Через несколько минут из комнаты показался Стив.
Лицо его неприятно поразило собравшихся. Стив улыбался. Конечно, это была не искренняя веселая улыбка, это была гримаса, но она была так неуместна сейчас. Впрочем, то, что произошло потом, поразило постояльцев еще больше.
— Ну что, господа, давайте выпьем за помин души рабы Божьей Прасковьи! — предложил Стив, у которого язык уже и так заплетался.
Он со стуком поставил на стол початую бутылку русской водки и крикнул:
— Гарсон, принеси стаканы!
Ирландцы поспешно встали со своих мест и ушли в номер.
— Они не хотят пить за мою жену, Царство ей небесное, — сказал Стив. — Они ее презирают.
— Простите, мистер Стив, но мы тоже не будем пить, — сказал Тери.
Стив не понял их и вопросительно взглянул на Бо.
— Они говорят, что, на их взгляд, сейчас не время пить, — вольно перевел Бо.
— Сейчас не время? Сейчас самое время! Хотя это их дело. Англичане всегда были рыбами. Но вы-то выпьете со мной, месье Бо?
— Мне кажется, надо отдать какие-то распоряжения. Надо как-то приготовиться к похоронам, — сказал Бо, надеясь, что Стив образумится.
Но тот только махнул рукой:
— Глупости. Рано отдавать распоряжения. Еще успеется. Сейчас надо выпить, такой закон.
— Простите, Стив, но я тоже не стану. И вам не советую.
— А кто вы такой, чтобы давать мне советы?! — вдруг палился кровью Стив. — Что вы тут все принялись меня учить жизни? Осуждаете? Да? Вам не нравится? А я плевал!
Гарсон принес стаканы, и Стив, наполнив один из них до краев, залпом выпил водку.
Линда и Тери наблюдали за этим, затаив дыхание. Но Стив только громко выдохнул и налил себе снова полный стакан.
— Я приглашу хозяина гостиницы, чтобы он распорядился по поводу похорон, — сказала Уитни, поднимаясь.
— Что она сказала? — снова не понял Стив.
— Моя жена, месье Стив, решила сама заняться тем, чем должны заниматься вы, — сказал Бо.
— А я ее об этом просил? Скажите своей мулатке, чтобы не лезла не в свои дела.
Стив снова выпил стакан и снова громко выдохнул.
— Только ваше положение не позволяет мне надавать вам пощечин, — сказал Бо, поднимаясь с места. — Впрочем, думаю, вас это привело бы в чувство. И немного поуменьшило бы вашу радость по поводу смерти Перс. Вы мне противны, Стив.
Он взял Уитни под руку и вышел с террасы.
— Ну и пожалуйста! — вслед им крикнул Стив. — Катитесь!
Хозяин гостиницы тут же послал за женщинами, которые должны были приготовить тело к погребению, и за гробовщиком.
— Он ужасный человек, — сказала Уитни, когда они с Бо остались наедине. — Никогда не думала, что можно так откровенно радоваться смерти ближнего.
— Может быть, он просто не в себе? — не очень уверенно сказал Бо.
— Да, я знаю, люди, бывает, впадают в ненормальное состояние от смерти близких. Но никогда не видела, чтобы именно таким образом.
— Ах, Уитни, душа человеческая — потемки.
— В душе Стива слишком уж темно.
— Но Перс говорила, что он очень любит ее…
— Бедняжка, она так жестоко ошибалась, — сказала Уитни. — Я не хотела тебе говорить, но этот Стив…
— Что? Продолжай!
— Бо, только обещай мне, что не тронешь его. Просто уедем отсюда завтра же.
— Я не трону его, — сказал Бо, уже догадываясь.
— Он… Словом, он делал мне какие-то предложения… Я ведь не знаю французского, но лицо его… Это было видно — оно было сальным и мерзким.
У Бо только желваки ходили на скулах.
Уитни взяла его за руку.
— Он — негодяй, Бо, но ему не под силу испачкать нас. Забудь.
— Это легко сказать, — начал было Бо, но тут с террасы донеслись крики, и Бо бросился туда.
Стив и Тери сцепились в драке. Стив что-то рычал, но теперь его понять не мог никто — он ругался по-русски.
— Отпустите моего мужа! — кричала Линда. — Вы негодяй, варвар! Отпустите его!
Бо схватил Стива и отшвырнул в угол.
— Не хотите ли, чтобы я вызвал полицию? — спросил он, склонившись над русским.
Все это приобретало характер какой-то дикой фантасмагории. Драка над телом несчастной мертвой женщины.
— Зовите! Всех зовите! Я плевал на всех!
— Вы противны! Вы мерзки! Вы исчадие ада! — закричал Бо. — Это вы погубили ее! Вы! Я ненавижу вас так, как только можно ненавидеть. И обещаю, что ославлю вас на всю Россию!
Стив захохотал.
— А сейчас убирайтесь отсюда. Мы не хотим вас видеть.
Бо взял Стива за шиворот и потащил к каморке, которую поспешно открыл хозяин гостиницы, прибежавший на шум. Бо втолкнул Стива туда и закрыл дверь на ключ.
— Тери ничего такого ему не сказал, он даже не думал, он просто…
— Хватит, Линда, — перебил жену Тери.
— Но ты только спросил его…
— Замолчи!
— Господа, я думаю, нам лучше разойтись, — сказал Бо. — Давайте не будем усугублять то, что уже и так дошло до крайности.
— Но Тери не имел в виду ничего дурного…
Англичанин схватил Линду под руку и утащил в номер.
— Мы перенесем тело в другую комнату, — сказал хозяин. — А потом, когда все будет готово, отправим покойницу в часовню.
— Да-да, — сказал Бо. — Пожалуйста, займитесь этим. Я заплачу.
— Может быть, вызвать полицию? — спросил хозяин.
— Не стоит, мсье. Этот человек придет в себя, и вы откажете ему от места. Он уедет. И думаю, с удовольствием.
Оставаться в гостинице было невозможно, поэтому Бо и Уитни решили уйти в горы, в то самое место у водопада.
Почти всю дорогу они молчали. Только возле камня, на котором несколько дней назад Перс рассказывала Бо историю своей несчастной жизни, они остановились.
— А что спросил у него Тери? — задумчиво произнесла Уитни.
— Какая разница? Стив искал только повода, чтобы поскандалить, — ответил Бо, немного удивившись, что Уитни волнуют такие вещи.
Они пришли к водопаду, но теперь их уже не радовала ни радуга, ни эдельвейсы. Они сели на траву и молча слушали грохот падающей воды.
— Кто-то зовет тебя! — вдруг сказала Уитни.
От этих слов у Бо мурашки пошли по коже. Он ничего не слышал, ведь водопад заглушал все.
— Тебе показалось, — сказал он. Но тут и до него донесся далекий голос:
— Месье Бо! Месье Бо, где вы?
Голос доносился с тропинки. Кто-то поднимался к ним.
Бо и Уитни поднялись и пошли навстречу.
Это был гостиничный гарсон.
— Месье Бо, хозяин просил вам срочно передать вот это.
Гарсон достал из кармана конверт.
— Это письмо адресовано вам. И хозяин подумал, что женщина, возможно, оставила какие-то распоряжения насчет похорон.
— Да-да, — сказал Бо, открывая конверт, на котором действительно было написано: «Для месье Бо».
«Месье Бо, когда Вы будете читать это письмо, меня уже не будет в живых. Вы единственный человек, которому я могу довериться. Возможно, это русская сентиментальность, но мне необходимо выговориться перед смертью. Бог не простит меня, но пусть хоть люди меня не осуждают. Мы любили друг друга. Это была самая великая любовь, которую я только могу представить. Может быть, это только я так думаю, может быть, все было обыкновенно и заурядно. Но это мое. И умереть, сознавая это, — великая радость для меня. Думаю, только Вы можете это понять. Не знаю, почему мой выбор пал на Вас. Он странен даже для меня, но пусть уж так. Казалось бы, что мне до мнения остающихся жить, если я ухожу в вечность, а видите — меня это тревожит. Заклинаю вас, приложите все силы, чтобы люди не думали обо мне плохо. Понимаю, это будет непросто, но такова моя последняя воля на этой земле. Мне и после смерти хотелось бы оставаться рядом с моей любовью, но, увы, это невозможно, поэтому и не прошу Вас об этом. Простите меня за все. Если можно, помолитесь за мою грешную душу. Только одно прощает меня — великая моя любовь…»
Еще когда Бо начинал читать, какая-то смутная тревога вдруг стала овладевать им и укреплялась по мере чтения все больше. Но все равно шоком, потрясением, ударом молнии было последнее слово письма.
Только секунду Бо стоял в оцепенении и вдруг рванулся вперед, помчался, полетел…
— Что случилось, Бо? — закричала испуганная Уитни.
— Быстрее! Быстрее! — на бегу ответил Бо, даже не оборачиваясь к бежавшей за ним Уитни.
Последним словом письма была подпись: «Стив».
Бо летел, не разбирая дороги, налетая на кусты и камни. Он даже один раз упал, но вовсе не заметил боли. Уже давно затихли восклицания Уитни, которая не поспевала за бешеным бегом мужа.
Он промчался через деревню под изумленными взглядами стариков в пивной и влетел в гостиницу, крича хозяину:
— Где?! Где ключи от вашей каморки?!
Перепуганный хозяин метнулся к стойке, выхватил связку ключей и подал Бо.
Тот каким-то чутьем нашел в связке нужный, открыл замок и рванул дверь на себя…
В первый момент Бо показалось, что он успел — Стив стоял, отвернувшись в угол, и плечи его двигались. Бо шагнул к русскому, схватил его за руку и тут понял, что все-таки опоздал.
Стив повесился на кожаном пояске от брюк. Ноги его почти касались пола, поэтому казалось, что он стоит. Сквозняк от распахнутой Бо двери просто качнул тело Стива…
— Он покончил с собой, — сказал хозяин завороженно. — Он повесился. Как вы догадались?
— По письму… Где оно было?
— Мы стали убирать в комнате покойной. Оно лежало на столе, — говорил перепутанный хозяин. — Боже мой! Повесился!
Бо действовал мгновенно. Он втянул хозяина в каморку, закрыл дверь и горячо зашептал:
— Нет, он умер от разрыва сердца, понимаете?! Он не повесился. Понимаете?! Я хочу, чтобы их похоронили вместе. Я заплачу за ваше молчание столько, сколько вы захотите.
Хозяин потрясенно покачал головой.
— Но это грех, это нельзя…
— Это можно. Это нужно, — втолковывал ему Бо. — Вы сделаете так, как я велю. Или вы хотите, чтобы все узнали, что в вашей гостинице жил самоубийца?
Этот аргумент подействовал на хозяина куда более сильно.
— Хорошо, хорошо… Я буду молчать. Хорошо…
— Теперь вот что — идите в их комнату и принесите его сорочку. Проследите, чтобы никто не видел вас. Сюда тоже никого не впускайте. Даже мою жену. Лучше всего заприте меня, пока вас не будет.
Хозяин вышел и запер дверь.
Бо приподнял тело Стива и отцепил поясок от крюка, вбитого в стену. Тело русского было на удивление легким.
Вместе с хозяином они переодели Стива в другую сорочку, потому что эта была испачкана кровавой пеной, перенесли его в номер и только тогда объявили всем, что Стив умер от разрыва сердца.
Как ни странно, в это поверили сразу.
— Да, он так много выпил водки, — сказала миссис О’Брайен, — никакое сердце не выдержало бы.
— А мне думается, — заметил Бо, — здесь были другие причины. Душевного свойства.
— Уж не хотите ли вы сказать, что он умер, не вынеся смерти жены? — спросил Тери.
— Именно это я хочу сказать.
— Не очень на него похоже. Но не вы ли сами утихомиривали его, когда он здесь буянил? Не вы ли сами обвиняли его в смерти жены?
— Я был так же слеп, как и мы все. И мне теперь очень стыдно за это.
— Да, грустная история, — сказала миссис О’Брайен.
— Трагедия, — произнес мистер О’Брайен.
— Кстати, мистер Тери, о чем вы спросили мистера Стива в тот день? — Уитни смотрела англичанину прямо в глаза.
Тери вдруг покраснел, словно в него переселилась миссис О’Брайен.
— Да так, глупости. Я уже не помню… — сказал он.
— Тери спросил, много ли денег оставила ему жена? — простодушно разъяснила Линда.
У Бо было огромное желание влепить англичанину пощечину. Но он вдруг подумал, что такие же мысли совсем недавно посещали и его, он ничуть не лучше молодого Тери. Да и вопрос этот был вполне разумным для европейца. Впрочем, для американца тоже.
— Загадочная русская душа, — сказал Тери.
— Нет, просто — душа, — возразил Бо.
Перс и Стива похоронили на маленьком деревенском кладбище. Могилы их были рядом. Бо и Уитни остались на похороны, остальные уехали раньше.
Только священник, хозяин гостиницы, Бо и Уитни провожали русских в последний путь.
— Наверное, я не поняла его тогда, — сказала Уитни, когда они с Бо возвращались с кладбища. — Ведь он говорил по-французски, а я не знаю языка. И это правильно, что их похоронили вместе.
Бо посмотрел на жену. Она все поняла. Она плакала.
В этот же день они уехали.
Перед отъездом хозяин сказал Бо:
— Я хочу назвать гостиницу «Двое влюбленных». Мне кажется, это может привлечь постояльцев. Неплохая мысль, как вам кажется?
Брачный контракт
Настойчивость Тима и пугала и радовала Скарлетт. После того памятного обручения под открытым небом Билтмор по делам уехал в Вашингтон. И, оставшись наедине с собой, Скарлетт вдруг подумала, что не хочет никакой свадьбы. И как она вообще могла согласиться? Это просто смешно. Это невозможно. Что подумают соседи, знакомые, как она будет выглядеть в глазах собственных детей? Свадьба! В ее возрасте! После стольких лет траура по Ретту. Нет, это невозможно. И зачем? Они прекрасно могут жить вместе с Тимом безо всякой свадьбы. Да, это тоже не очень понравится людям, но это хотя бы будет не так вызывающе. Конечно! Тим согласится. Ведь он разумный человек. Неужели от свадебной церемонии так много зависит?
Скарлетт утвердилась в этой своей мысли и, когда Тим вернулся, выложила ему свои соображения.
Наверное, если бы она сказала ему, что вообще видеть его не хочет, он обиделся бы ненамного больше.
— Ты не любишь меня, — сказал он упавшим голосом. Ты испугалась нашей любви.
— Нет, Тим, ничего я не испугалась. Я по-прежнему люблю тебя, а за время твоего недолгого отсутствия так по тебе соскучилась…
— Что решила расстаться со мной? — спросил Тим.
— Но разве я сказала хоть слово о расставании? Нет, Тим, я не хочу с тобой расставаться. Я очень дорожу тобой. Я люблю тебя. Неужели тебе этого мало?
— Да, я хочу, чтобы ты стала моей женой.
— Я твоя жена, Тим. Это тебе говорю я. Или тебе нужно обязательно, чтобы это сказал священник?
— Скарлетт что произошло, пока меня не было? — спросил Тим. — Кто-то убедил тебя не делать этой глупости?
— Не надо так говорить, Тим, у меня уже не тот возраст, чтобы кто-то сумел так легко менять мои убеждения.
— Но ведь они поменялись.
— Да нет же! Я по-прежнему хочу быть с тобой. Меня смущает только эта никому не нужная церемония.
— Что ты говоришь? Она в первую очередь нужна нам! Мы же становимся мужем и женой перед Богом и людьми.
— Неужели Богу и людям необходимо, чтобы мы кричали об этом на каждом углу? Ведь в конце концов это касается только нас двоих.
— Скарлетт, пойми, есть и другие причины, которые мне не хотелось бы называть, потому что ты и сама о них знаешь…
— Ты имеешь в виду свой пост конгрессмена? Свою репутацию честного политика?
— И это тоже. Это вовсе не предмет для насмешки. Я не добивался этой репутации, Скарлетт, я так жил. И хочу жить так впредь. Пойми, это не каприз, это не поза. Это основной принцип моей жизни — быть честным Неужели же мне надо тебя убеждать в этом?
— Значит, если я откажусь от свадьбы, ты расстанешься со мной?
— Ну зачем ты так?! Я не собираюсь от тебя отказываться. Я просто надеюсь на понимание с твоей стороны Мы же должны помогать друг другу. И причина не только в этом. Я назвал свою репутацию только потому, что это первое, что пришло мне в голову. Ведь помимо моей репутации есть еще и твоя. Есть еще и дела, которые мне хотелось бы вести, многое, ты сама это знаешь, надо исправлять, спасать, выводить из-под удара. На каком основании я буду вести их? Боже мой, я опять говорю совсем не то! Хотя это тоже важно, но самое главное — я хочу, чтобы ты была моей женой. Понимаешь, женой, а не любовницей, прости за то, что я называю вещи своими именами.
Скарлетт все понимала, она знала, что Тим прав, но сама мысль о свадьбе казалась ей почему-то кощунственной. Даже если отбросить мнение окружающих, что Скарлетт волновало в последнюю очередь, было еще что-то, чего она не могла объяснить и самой себе, какое-то смутное чувство, противящееся супружеству.
«Наверное, это просто старость, — думала Скарлетт. — Это она заставляет меня постоянно оглядываться, сомневаться, раздумывать. Она уже очень крепко сидит во мне. И за те минуты, когда мне удается о ней забыть, она потом мстит жестоко».
Тим был терпелив. Он не давил на Скарлетт, не поднимал постоянно эту тему, он, казалось, даже смирился с решением, но был грустен и задумчив. Скарлетт сама начинала разговор, скорее для того, чтобы дать возможность Тиму переубедить себя. И он снова говорил очень правильные вещи — о любви, о делах, о репутации, о семейном очаге. Но теперь не настаивал, а как бы просто мечтал о том, что может быть потеряно.
В конце концов Скарлетт подумала, что ничего такого уж страшного не произойдет. Тим обещал устроить так, чтобы церемония привлекла как можно меньше народу, чтобы все было тихо и скромно. Они только позовут детей и самых близких.
— И еще мне хотелось бы заключить брачный контракт, — сказал он. — Я не так здоров, как кажусь, наверное, тебе и другим. Мои дни, возможно, сочтены. Мне бы не хотелось умирать, зная, что оставляю тебя беззащитной. Думаю, Дост составит соглашение, которое устроит тебя.
Скарлетт насторожила не сама идея заключить брачный контракт, что было вполне обыденным, а то, как Билтмор говорил об этом. В его упоминании о нездоровье и близкой смерти был какой-то перебор, желание вполне обычную процедуру выдать за некую жертву с его стороны.
— А если я не захочу, — сказала Скарлетт только для того, чтобы проверить, верны ли ее ощущения.
— Почему? — удивился Тим.
— Просто не захочу.
Билтмор вздохнул, опустил голову и произнес:
— Я боюсь тебя, Скарлетт. Знаешь, я иногда просто панически тебя боюсь. Ведь я же знаю, почему ты так говоришь. Тебе кажутся мои предложения какими-то нечистыми. И я знаю, что они тебе такими кажутся. И я ищу способ разубедить тебя, а получается еще хуже. Я теряюсь, я просто теряюсь. Тебя насторожило то, что я заговорил о смерти? Ведь так? Тебе показалось, что я что-то играю. Но я именно потому об этом заговорил, чтобы у тебя не было никаких подозрений на мой счет. Скажи мне, почему я все время боюсь твоих подозрений? Что такое между нами неладно? Что заставляет тебя подозревать, а меня постоянно разубеждать тебя? Видишь, как неловко у меня это выходит! И не может выйти ловко! Ведь труднее всего доказать, что ты не виноват, когда ты действительно не виноват.
— Прости меня, Билтмор. Наверное, ты прав. Это я во всем виновата. Я не хочу тебя ни в чем подозревать. Я верю тебе. Это моя старость все время дергает меня за руку.
— Старость?! — рассмеялся Билтмор. — И это говоришь ты?! Вот тут уж позволь мне не поверить в твою искренность. Ты вовсе не стара и даже не чувствуешь себя такой. Это у тебя вечная отговорка! Она чем-то ужасно удобна тебе. Забудь. Не вспоминай об этом. Попытайся понять, что за этим стоит. Что на самом деле сдерживает тебя?
И тогда Скарлетт действительно спросила себя — что? Билтмор был прав — это ее внутренняя ложь. Старость здесь ни при чем. Все намного проще — обыкновенный страх, какой испытывают женщины всех возрастов, когда вступают в брак. Страх ошибиться.
Свадьба действительно была скромной. Только Уэйд смог приехать. Было несколько друзей Билтмора, его дочь Эйприл, самые верные подруги Скарлетт — и все.
Через три дня после свадьбы Билтмор снова уехал в Вашингтон.
А еще через неделю во время ужина у мэра Скарлетт вдруг упала в обморок.
Ее доставили домой, приехавший врач долго осматривал ее, прослушивал, а потом с удивлением и смущением сказал:
— Я не нахожу никакой причины вашего обморока, мэм, кроме одной — вы беременны.
Молитва правоверных
Первые дни съемок в пригородах Иерусалима прошли на какой-то общей волне энтузиазма. Это было понятно, ведь группа добиралась с такими трудностями, с такими тяжкими приключениями, что начало спокойной работы воспринималось как подарок.
Иерусалим оказался маленьким и полуразвалившимся городком, в котором и речи не могло быть о какой-нибудь гостинице. Квартиры, в которых Тео попытался расселить группу, были так ужасны, грязны, кишели тараканами, крысами, еще какими-то экзотическими и опасными насекомыми и грызунами, что жить в них не было никакой возможности.
Тогда было решено разбить небольшой палаточный городок поближе к местам съемок, обустроить его и сделать базой.
Это тоже заняло некоторое время. Правда, Тео был на вершине счастья, потому что рабочая сила здесь стоила сущие гроши. Но и работали наемные рабочие кое-как. Тео носился как угорелый и только понукал их. Но стоило ему отвернуться, как рабочие снова бросали свои дела, усаживались в кружок и вели свои бесконечные беседы.
Тео уже знал несколько арабских слов. Среди них, конечно, были — «работай», «уволю», «деньги», «плохо» и «хорошо». Он обходился ими так ловко, что рабочие понимали его прекрасно.
Джон начал съемки со сцены встречи с Марией. И приключения начались тут же.
Съемочную площадку окружили несколько всадников и угрюмо рассматривали то, что творилось на каменистой дороге. Изредка они перебрасывались словом-другим и снова молча и, как казалось всем, осуждающе вперивались в пришельцев.
На следующий день всадников стало больше. И они уже подъезжали к самому месту съемок. Теперь их недоброжелательность уже не оставляла сомнения.
Джон посоветовал Тео обратиться к городским властям, чувствуя, что всадники так просто в покое их не оставят. Тео сходил к местным начальникам, и на следующий день всадников стало еще больше. Кто из них должен был защищать, а кто собирался нападать, было совершенно неясно.
Тогда Джон сам отправился к начальству.
Самым главным в городе на этот момент был мусульманский священник, аятолла, который принял Джона довольно радушно, выслушал его опасения и сказал:
— Я не в силах остановить правоверных, наблюдающих, как попираются законы шариата.
— Что вы имеете в виду? — опешил Джон.
— Ваши женщины ходят с открытыми лицами, а ваши мужчины с голыми ногами. Коран требует строгого соблюдения всех своих законов.
— Вы когда-нибудь бывали в Европе? — спросил Джон.
— Нет, — сказал аятолла, — это край неправоверных, я не хочу оскверняться.
— Это ваше дело, но мы там живем. И живем по тем законам, которые приняты в этих, как вы говорите, неправоверных странах. У нас женщине вовсе незачем скрывать свое лицо. У нас, если человеку жарко, он раздевается, если холодно — надевает шубу. Но самое главное, мы никому не пытаемся делать замечания, а тем более преследовать человека только потому, что он не похож на нас.
— Этого не может быть, — сказал аятолла. — Все страны живут по своим законам.
На этот случай у Джона было кое-что припасено. Он достал из кармана фотографии и передал аятолле. На них были запечатлены улицы Парижа, экипажи, автомобили, а также люди разных профессий и национальностей. Были среди них и мусульмане, которые совершенно спокойно стояли в своих экзотических одеждах среди европейцев.
— Пожалуйста, — сказал Джон, — вы сами можете убедиться.
Увидев фотографии, аятолла повел себя более чем странно. Он вдруг начал истово молиться, припадая к земле и рискуя расшибить себе лоб.
— Зря вы ему это показали, — сказал переводчик, через которого происходили переговоры. — Коран запрещает изображать людей. Это великий грех.
— Я возьму этот грех на себя, — сказал Джон. — Пусть он просто посмотрит.
Но аятолла и слушать не стал ничего, он выгнал Джона вместе с переводчиком, не пожелав больше разговаривать.
— Хорошо еще, что он не знает, что такое — кино, сказал переводчик, когда они оказались на улице.
Джон понял, что продолжение съемок под угрозой срыва.
— Я решу эту проблему религиозной несовместимости одним старым и верным способом, — сказал Бьерн когда Джон вернулся на базу.
Он о чем-то пошушукался с Тео и на следующий день сам отправился к аятолле.
Еще не успел Бьерн вернуться, как из города прискакал всадник, что-то крикнул конным недоброжелателям, и те молча развернули коней и ускакали.
— Ну и как ты достиг таких сказочных результатов? — спросил Джон, у которого отлегло от души.
— Деньги, Бат, обыкновенные деньги. Даже самый правоверный мусульманин любит деньги, — с улыбкой торжества сказал Бьерн, а потом добавил: — К сожалению.
Несколько дней съемки шли спокойно. Джон уже успел снять сцену в Гефсиманском саду, самоубийство Иуды и много пейзажей.
Приближалось время снимать большие массовые сцены, но Тео, который обещал собрать огромную массовку, все отговаривался всякими пустяками.
— Тео, ты не можешь собрать людей? — напрямик спросил его Джон. — Скоро мне нечего будет снимать.
— Почему? А фарисеев? А Ирода? А Понтия Пилата? — удивился Тео. Сценарий он знал наизусть.
— Может быть, тогда ты сам будешь снимать? — обиделся Джон. — Зачем тебе режиссер? Ты все знаешь лучше меня!
— Не обижайся, Джон. Я соберу тебе людей! Это так просто! Завтра же пойду и соберу.
Но и назавтра, и через три дня массовки не было.
— Что случилось, Тео? Где люди?
— Люди? Ты имеешь в виду?.. — растерялся директор.
— Да, Тео, я имею в виду людей для массовых сцен.
— А ты уже хочешь снимать массовые сцены?
— Да, Тео, я хочу уже снимать массовые сцены, — теряя терпение, сказал Джон. — Я хочу их снимать вот уже вторую неделю. Что, в конце концов, происходит, Тео? Зачем ты меня водишь за нос?! У тебя не получается собрать людей?! Ты так и скажи!
Тео вдруг опустился на стул и убитым голосом произнес:
— Джон, я боюсь их.
— Кого? Людей? — не понял Джон.
— Да, я боюсь этих людей. Я боюсь приводить их сюда. Ты же видел этих всадников, они могли всех нас поубивать. Они же убили капитана, словно муху, даже не охнули. Джон, они поубивают и нас. Они просто дикари.
— Подожди, но ты же нашел общий язык с рабочими! Ты прекрасно с ними управлялся…
— Джон, мне это стоило десяти лет жизни, — взмолился Тео. — Нам надо было брать с собой экспедиционный корпус. Нам надо было строить укрепления, ставить пушки. Джон, они нас так не оставят!
Тео чуть не плакал. Он был в полной панике.
— Прекрати, Тео! Возьми себя в руки, что ты несешь?! Бьерн договорился с аятоллой! Мы в полной безопасности! — пытался успокоить директора Джон, хотя и сам чувствовал, что опасность есть. Он ловил себя на том, что даже во время съемок, когда он полностью поглощен происходящим на съемочной площадке, его не оставляет неприятное ощущение — кто-то чужой и враждебный все время смотрит ему в спину.
— Да, договорился? А где этот договор? Где наши гарантии? Да завтра ваш аятолла просто передумает и пошлет сюда сотню головорезов! Да если бы даже он подписал какую-то бумагу, я не был бы спокоен ни минуты. Эти люди живут по совершенно другим законам. Для них нет честного слова, для них не действительны никакие договоренности, они сегодня забывают то, что было вчера. Нет, я не говорю, что они ведут себя так со всеми. Со своими одноплеменниками они, возможно, очень честны и порядочны. Но мы для них — враги, Джон. Понимаешь, мы — враги. Мусульманину прощается один грех, если он убьет неверного.
— Хорошо, допустим, все, что ты говоришь, — чистая правда. Но что же нам делать? Что, Тео?!
— Я не знаю, Джон, я не знаю…
— А я знаю. Нам надо закончить съемки и уехать отсюда. И сделать то и другое как можно быстрее. Поэтому, Тео, возьми завтра с собой помощников, отправляйся в город, плати любые деньги, но приведи людей. Хочешь, я сам с тобой поеду?
Тео отказался от помощи Джона, а на следующее утро отправился в Иеруслим.
Джон решил убить двух зайцев сразу и снимать сцену у дворца Пилата и распятие Христа. И там и там нужны были огромные толпы. Только в одном случае люди обозлены, полны ненависти, жажды смерти, а в другом — печальны и раскаянны.
Джон понимал, что если Тео и приведет людей, то это будут далеко не артисты. Им долго придется объяснять и что такое кино, и что вообще они должны делать И, что самое трудное, зачем. Играть эти люди не будут. Надо найти способ вызвать в них нужные реакции. И Джон нашел. Теперь оставалось ждать Тео.
Конечно, Джон предполагал, что Тео приведет-таки хоть сколько-нибудь людей. С ним были помощники. Но что он приведет столько — Джон и представить не мог. Сначала на дороге появилось облако пыли огромных размеров, словно двигалась упавшая на землю туча, а потом из этой пыли показались люди. Они шли и шли — старики, молодые, женщины в паранджах, черные и голые дети.
— Тео перестарался, — сказал Бьерн. — Он привел весь город.
Но Джон уже не слушал его. Он отдал команду Тома начинать съемку. Просто снять эту бесконечную вереницу в облаке пыли.
Тома понял Джона с полуслова, и камера заработала.
Люди шли молча и серьезно. Они не обращали внимания на какой-то странный ящик, который жужжал рядом с ними. На широкой площадке они останавливались и тут же усаживались на землю.
У Тео было радостно-растерянное лицо.
— Слишком много, да, Джон? Я и не хотел. Мы только объявили им, что они смогут получить деньги. Они пошли все сразу. Вон, видишь, несут старика на носилках. Все пошли. Я не знаю, как расплачусь с ними.
Когда вся толпа наконец устроилась на площадке, Джон взял рупор и поднялся на возвышение. Только здесь он понял, что люди не понимают его. Но переводчик уже пробирался сквозь толпу.
— Только ничего не говорите им про Христа. Он для них — самозванец, — умолял переводчик.
— Вы будете переводить меня слово в слово. Запомните, слово в слово.
Джон поднял руку, и наступила тишина.
Камера уже работала.
— Люди добрые! Вы живете в святом месте! Вся история рода человеческого прошла через эти степи и горы, — сказал Джон и остановился, чтобы переводчик мог повторить его слова. — Великий Магомет — ваш пророк.
Не успел переводчик перевести, как вся толпа склонилась к земле.
— Алла акбар!!!
— Но у верующего человека много врагов, которые хотят исторгнуть из его сердца самое святое! Они обряжаются в разные одежды, но суть их одна — зло.
Толпа загудела.
— Посмотрите на меня! Я выгляжу нормальным человеком, и вы слушаете меня. Но что станет с вами, если я скажу — женщины, откройте ваши лица!
— Я не буду это переводить, — прошептал переводчик.
— Переводи! — сквозь зубы прорычал Джон, искоса взглянув на камеру — Тома не останавливал съемку.
После слов переводчика толпа вскочила на ноги, закричала, в Джона полетели камни, грязь. Он еле успевал уворачиваться.
— Остановите их! — взмолился переводчик.
Но Джон молчал. Ему надо было, чтобы снято было как можно больше.
И когда толпа уже решительно двинулась в его сторону, он закричал:
— Но я никогда не позволю себе нарушить законы вашей страны! Никогда я не попрошу женщину открыть лицо!
Переводчик повторил это несколько раз, потому что шум не смолкал. А когда до всех дошло сказанное, толпа вдруг рассмеялась.
Джон посмотрел на группу. У многих были бледные лица.
«Да, — подумал он, — кажется, я чуть не испортил все».
Толпа снова уселась и приготовилась слушать переводчика. Напряжение спало. Люди переговаривались, смеялись, кто-то даже шутливо подбегал к женщинам, словно пытаясь снять с них паранджу.
Джон выигрывал время, чтобы Тома успел переставить камеру. Теперь предстояло снимать распятие.
Солнце било толпе в лицо, оно уже опускалось к горизонту, а этого-то Джону и нужно было.
Он оглянулся на рабочих, взглядом спросил у Бьерна, все ли готово? Тот кивнул.
И тогда Джон спустился ближе к людям и сказал:
— А теперь я обращаюсь к вашему состраданию. Я знаю, что мусульмане — очень добрые люди.
Шум в толпе стих.
— Они беспощадно карают преступников и жалеют безвинных.
Переводчик начал переводить, а Джон махнул рукой Бьерну.
Толпа, как завороженная, стала вдруг вся подниматься, устремив взгляды туда, где из-за холма вырастали огромные деревянные кресты, с распятыми на них людьми.
— Эти люди безвинны! — сказал Джон.
Тени от крестов покрыли толпу. И та стояла потрясенная и безмолвная.
Слова переводчика упали в полную тишину.
Только жужжала кинокамера.
Конечно, на крестах были не люди, а сделанные очень натурально муляжи. Но, видно, эта натуральность и потрясла толпу. Джон вдруг увидел то, чего никак не ожидал. Сначала одна женщина, потом другая, а потом почти все сбросили закрывающие их лица плотные ткани и в голос завыли. Мужчины даже не обернулись. Джон видел, что в глазах у многих стояли слезы.
Женщины падали на землю, бились в истерике, рвали на себе волосы. Джону стало жутко. Он не знал, что делать дальше. Его, как ему казалось, невинный обман обернулся настоящей трагедией для этих доверчивых людей.
Впрочем, чисто профессионально Джон молил Бога, чтобы Тома все успел снять. Чтобы получилось так же сильно, как это было вот здесь, в жизни. Он видел, что оператор и сам волнуется. Никто не ожидал такого эффекта.
Но вот Тома поднял голову от глазка и развел руками:
— Все! Пленка кончилась!
Теперь надо было что-то делать.
— Но не плачьте, мусульмане! — начал Джон, еще не зная, что скажет дальше. И решил, что скажет правду. — Эти люди обретут вечную жизнь за свои страдания! Вечную жизнь и вечную славу!
И толпа снова как один повалилась на колени и прокричала:
— Алла акбар!
Вечером, когда вся группа, сидя под открытым небом, в который раз с жаром обсуждала дневную съемку, вспоминая мельчайшие детали, которых Джон даже не увидел, не заметил, когда смеялись и делились собственными страхами, Бьерн сказал:
— Это тебе, Бат, надо быть священником! Заставил молиться Христу правоверных мусульман.
— Во всех человеческих религиях, как бы ни отличались они друг от друга, добро всегда остается добром, — сказал Джон.
— Вот видишь, ты и говоришь уже, как богослов.
— Это я просто от нервного перенапряжения, — сказал Джон. — Если кто и волновался больше всех, то это был я. Знаете, господа, как я боялся! Но вот удивительная вещь — вдруг наступил момент, и мне словно кто-то шепнул — все будет хорошо.
— Не иначе ангел.
— А что ты думаешь, Бьерн? Разве ты сам не чувствуешь здесь, в этих местах, присутствие высшей силы?
— Бат, прекрати, ты начинаешь говорить скучно. Что за елейный голосок? Что за проникновенные интонации? Это тебе не к лицу.
— Да, мы же современные люди! Нам к лицу только ирония, мягкий цинизм…
— Перестань! — закричал Бьерн, закрывая уши. — Я слышать тебя не могу! Даже если ты говоришь совершенно честно, это все как-то слишком слащаво! Почему все религии такие серьезные и наставительные? Впрочем, может быть, речь идет не о религии, а об адептах. Вы все так серьезны, словно это ваша большая заслуга — Иисус Христос и его заповеди. А я думаю, что Христос был веселым человеком. Добрым, легким и свободным. Это уже Матфей, Марк, Иоанн и Лука сделали из него ходячий указующий перст. Этакого буку, зануду постоянного. Я не верю им. Впрочем, они проговорились. Не получился у них морализатор. А уж очень старались. А не получился. Он и вино пьет, и женщины рядом. Но самое главное — он слаб. Ведь боится же он распятия.
— Это богохульство, — сказал Тео. — Христос ничего не боится.
— А как же «отведи от меня чашу сию»? Да и просто по жизни: неужели мытарь Матфей пошел бы за Христом, бросив все, если бы тот только осуждал? Все дело в том, что он больше прощал! Он умел прощать человеческие слабости. А это умеет только тот, кто сам слаб. Что? Чего ты смотришь? — повернулся Бьерн к Джону.
— Я слушаю, — сказал тот.
— Нет, ты не просто слушаешь, ты как-то этак слушаешь. Ты что там себе придумал?
— Ничего, — сказал Джон и улыбнулся.
— Ничего! Так я тебе и поверил! Ты меня слушаешь и что-то себе придумал. А я тебе на это скажу — и не надейся! Еще не нашлась та сила, которая бы заставила меня бросить мирские удовольствия. А? Что? Получил?
— Получил, — согласился Джон и рассмеялся.
— Нет, вы посмотрите! Он еще смеется! Да что ты себе позволяешь, мальчишка! Это для них ты большой режиссер и великий начальник, а для меня ты Бат и сопляк.
На Джона возмущение Бьерна действительно производило странное действие. Он уже не мог удержаться. Он уже хватался за бока, утирал слезы и падал на землю от хохота.
— Ну посмотрите на него! Шут гороховый! И тебя мы назначили командовать разумными серьезными людьми? Да Тео даст тебе сто очков вперед в разумности! Да любой! Нет, вы посмотрите на них всех! И эти люди снимают фильм про Иисуса Христа!
Джон заразил своим смехом всех. И каждое слово Бьерна теперь встречал дружный хохот. Спросить сейчас любого, что его так развеселило, не ответил бы.
— Прости, Бьерн. Это не над тобой, — сквозь смех проговорил Джон. — Мы просто все сегодня ужасно перенервничали.
— Ну, это другое дело. Тут я готов вас поддержать. Мне стоит только вспомнить Поля, который на всякий случай напялил на голову чалму, и все — я помираю.
— Я надел ее просто от солнца, — смеясь сказал Поль.
— Ну да! Панама-то не помогает от солнца! — еще пуще зашелся Бьерн. — Он ведь снял панаму и надел чалму!
— А кто прятал в брюках деревянный меч? — в свою очередь спросил Поль.
— Я беспокоюсь за реквизит! — ответил Бьерн. — Я за него отвечаю!
И снова все стали припоминать смешные подробности недавней съемки.
Джон посидел еще немного с людьми, а потом встал и пошел в сторону холмов.
Духота уже пропала. В воздухе тихим звоном разносилось стрекотание сверчков. Где-то кричали ночные птицы. Близкое черное небо было полно звезд. На горизонте мерцал одинокий огонек. Действительно, все было здесь наполнено какой-то могучей силой покоя и мудрости. Словно огромное невидимое крыло заслонило эту землю от тягот и невзгод. Да, это было бы великое счастье — родиться на этой земле и умереть.
Джон сел под дерево, прислонившись затылком к его пыльному стволу, и стал смотреть на звезды.
— Хочу домой — сказал он вслух совершенно неожиданно для себя.
Отчаяние
Съемки приближались к концу, когда вдруг появился на площадке совершенно неожиданный в этом далеком от цивилизации месте автомобиль.
Появился он не один, а в сопровождении всадников и мальчишек, которые со всех ног мчались за неизвестным чудом.
Вся съемочная группа, затаив дыхание, следила, как автомобиль, подскакивая на кочках и колдобинах, подъехал к базе и остановился.
Вышел из него человек, затянутый кожей, в огромных очках-консервах, с развевающимся белым шелковым шарфом вокруг шеи. Приблизившись, человек снял очки и кожаное кепи и оказался девушкой.
— Привет! — сказала она уставившимся на нее кинематографистам. — Я Диана Уинстон. Можно мне поглядеть, чем вы тут занимаетесь?
Появление автомобиля и девушки произвело на всех такое сильное впечатление, что какое-то время никакого ответа не было.
Девушка рассмеялась:
— Теперь понятно, почему кино — немое. Наверное, вы не умеете разговаривать.
— Прошу прощения, мисс Диана, но ваше появление можно назвать только чудом. А чудеса делают людей немного глупыми, — первым нашелся Бьерн. — Кстати, разрешите представиться — Бьерн Люрваль. Большой ваш поклонник.
Джон с удивлением взглянул на друга.
— Правда, вы знаете обо мне? — удивилась девушка.
— Да кто же не знает вас?! — расплылся в улыбке Бьерн. — Вы ведь та самая сумасшедшая и взбалмошная Диана, которая отправилась путешествовать по арабскому Востоку, оставив все прелести Лондона и поместья вашего досточтимого батюшки лорда Самюэля Уинстона! Честно говоря, будь я на его месте, отшлепал бы вас хорошенько.
Эти, мягко говоря, непочтительные слова вовсе не обидели Диану. Она улыбнулась и протянула Бьерну руку.
— Очень приятно, мистер Бьерн. О вас я тоже слышала немало. Не вы ли тот безумный художник, который собирался раскрасить собор Парижской Богоматери в розовый цвет? Нет, кажется, вы собирались сделать из Эйфелевой башни большой парус, чтобы в Париже всегда был свежий воздух. Будь я на месте ваших друзей, давно бы засадила вас в сумасшедший дом.
— Уверен, что наши палаты были бы рядом, — ответил Бьерн. — Впрочем, боюсь, что все сумасшедшие дома для вас недостаточно сумасшедшие.
Джон вертел головой, не понимая, что за абсурдный разговор он слышит. Остальные были в не меньшем недоумении.
— В таком случае окружающим придется терпеть мои причуды, — сказала девушка.
— Но я-то их терпеть не собираюсь, — сказал Бьерн. — У нас тут серьезное дело, а вы, зная ваш характер, все развалите до основания.
— Разве то, чем занимаетесь вы, еще можно развалить? Простите, мистер… — повернулась Диана к Джону.
— Батлер. Джон Батлер, — представился Джон.
— И вы терпите этого разгильдяя, мистер Батлер?
— Но я… Мы с Бьерном…
— Что, вы хотите сказать, что вы с этим олухом друзья?
— Да, мы с ним…
— В таком случае я сначала поцелую вас, а потом уже этого увальня.
И Диана, не дав опомниться Джону, чмокнула его в щеку.
— Ну, а теперь ты иди сюда! — приказала она Бьерну.
— Нет-нет, все! Ты на моих глазах целуешься с посторонними мужчинами, а я что, должен это спокойно сносить? Да по законам шариата тебя нужно побить камнями!
— Ну скажите, мистер Батлер, разве можно любить этого шведа-француза-англичанина-немца-бельгийца да еще в придачу араба?
Диана обняла Бьерна. Тот был на седьмом небе от счастья. Конечно, в первую очередь потому, что приехала его невеста, о которой он, кстати, ничего не говорил Джону, а во-вторых, потому что ему опять удалось всех разыграть.
— Все, хватит вам киснуть в этой пыли, — сказала Диана вечером, когда съемки закончились, — мы поедем в город в хороший ресторан.
— В ресторан? — переспросил Джон. — А вы уверены, что в этих краях знают такое слово?
— В этих краях знают все, — твердо заявила девушка.
Она посадила друзей в автомобиль и повезла к городу.
— Что-то я не припомню ни одного ресторана, — сказал Джон, но вид Дианы был настолько убедителен, что он решил довериться ей.
Бьерн ни на минуту не прекращал пикироваться со своей невестой. Надо сказать, они делали это весело и легко. Так, Бьерн высмеял внешний вид Дианы и ее автомобиль. Она — его внешний вид и их лагерь. Он — ее сентиментальность, которая заставила девушку добираться к нему за тридевять земель. Она — его сентиментальность, которая заставила Бьерна вообще вспомнить о невесте, когда вокруг столько восточных красавиц.
Тут уже в разговор вмешался Джон:
— Насчет этого вы можете быть абсолютно спокойны, мисс, ни одной восточной красавицы мы не увидели.
— Я?! Спокойна?! Да могу ли я оставаться спокойной, если мой жених так бестолков, что не нашел ни одной интересной девушки во всей Османской империи?! Или он стал слишком привередлив, а стало быть, побрезгует и мной, или он потерял мужскую привлекательность, стало быть, им побрезгую я!
Иерусалим они проехали, поднимая тучи пыли и пугая жителей, и снова оказались среди равнины.
— Мы случайно не в Лондон едем? — спросил Бьерн.
— Нет, но оттуда рукой подать, — серьезно ответила Диана.
Действительно, ехать пришлось около часа. Бьерн уж дал волю своей иронии, дескать, ему придется поесть за двоих, потому что за обратную дорогу он проголодается. И не поступить ли им, как поступают разумные люди, когда проголодаются, взять и лечь спать прямо здесь?
Но вскоре показались огоньки, и Бьерн спросил:
— Подъезжаем? А где оркестр и комиссия по встрече?
— Все будет, дорогой, все будет.
Джон решил, что Диана опять пошутила, но вдруг услышал звуки духового оркестра, грянувшего английский военный марш.
— Я больше люблю немецкие марши, — сказал Бьерн, словно его каждый день встречают с музыкой.
Чудеса не кончались.
Английский военный оркестр стоял у обочины дороги и играл именно для них. Капельмейстер взмахнул жезлом, и оркестр, сверкая медными трубами, грянул вдруг «Дудль янки». Джон решил, что просто ослышался.
Автомобиль остановился, но Диана не собиралась выходить. Она встала и помахала солдатам рукой. А они прокричали:
— Гип-гип ура! Ура! Ура!
По ковровой дорожке, печатая шаг, к автомобилю подошел офицер и отдал Диане рапорт. А несколько солдат принесли букеты цветов.
— Бьерн, она что, из королевской семьи? — нашел единственное объяснение происходящему Джон.
— Ага, — ответил швед. — Оттуда.
Диану, Джона и Бьерна проводили в большой каменный дом, где их встретили несколько дам и военных в довольно высоких чинах. Джон почувствовал себя неловко в своем пыльном костюме, а Бьерн был, словно рыба в воде.
— Нам надо бы помыться с дороги, — сказал он Диане.
— Да-да, конечно, не сяду же я с тобой за стол, когда ты в таком виде. — Надо сказать, что и у нее вид был не самый нарядный.
Джона и Бьерна проводили наверх, выдали полотенца и халаты и показали, где находится ванная комната.
Да, такого блаженства Джон не испытывал уже месяц, хотя ему казалось, что вечность. Вода была горячей, чистой, пресной. Мыло мылилось, мочалка сдирала накопившуюся грязь. Ведь в лагере они могли только обтереться водой — ее постоянно не хватало даже для питья и приготовления пищи.
Через час, освеженные, почищенные и благоухающие, они снова спустились в гостиную. К этому времени гостей прибавилось, а с их появлением все тотчас же двинулись к столу, который по периметру был накрыт в столовой.
Военный оркестр теперь был на балкончике и негромко наигрывал вальсы.
— Ну и как объяснить все это? — спросил Джон у Дианы.
— Просто мой отец…
— Но оркестр играл «Дудль янки», и этого не мог сделать ваш отец. Ведь он, насколько понимаю, в Лондоне.
— А это уже сделала я. Вам было приятно?
— Мне было грустно. Я так давно не был дома.
— Кстати, здесь ваш соотечественник. И снова кстати, он вас знает.
— Кто же?
— Ах, у меня дурная память на имена. Я и Бьерна-то запомнила только с десятой встречи.
— С одиннадцатой, — поправил тот. — До этого она называла меня, поверишь ли, Самуэлем, как отца.
— Но это единственное мужское имя, которое я знала с детства и не боялась забыть, — сказала Диана. — А, кстати, вот и ваш соотечественник, Джон.
Джон обернулся, и улыбка сошла с его лица. Перед ним стоял, улыбаясь и протягивая руку, молодой Янг.
Джон, который машинально тоже протянул руку для пожатия, отдернул ее, словно обжегся.
На мгновение Янг растерялся, его голубые глаза сузились, блеснув металлом.
Это секундное замешательство заметил Бьерн и выручил Джона, сказав:
— Пойдем к столу, Бат, есть хочется.
Джон резко отвернулся от Янга и пошел за Бьерном и Дианой к столу.
— Потом, — шепотом сказал ему Бьерн, — потом все расскажешь.
У Джона все дрожало внутри, словно он готовился к драке. Он даже с трудом держал в руках вилку и нож. В ту сторону, где сидел Янг, Джон не мог заставить себя посмотреть. Но чувствовал, что Янг тоже не в самом спокойном расположении духа. Ведь он не знал, почему Джон вдруг не захотел поздороваться с ним. Что творилось в его голове, оставалось только догадываться.
А Диана вообще не заметила инцидента. Она была блистательна, улыбчива, остроумна, обворожительна.
Из доходивших до сознания разговоров Джон понял, что они в доме командующего британской военной миссией. Что Диану здесь ждали, ведь ее отец действительно приближенный к королевскому двору, более того, курирующий именно королевские вооруженные силы.
Впрочем, Джон не увидел особого подобострастия по отношению к Диане, а скорее дружеское расположение.
Ужин был великолепен. Помимо традиционных английских блюд, здесь были и экзотические, которыми особо гордились хозяева. Узнав, что Джон и Бьерн снимают кино, хозяева и гости засыпали их вопросами, на которые приходилось отвечать Бьерну. Джон по-прежнему был мрачен и молчалив.
— Что вы, сэр, — говорил Бьерн, отвечая хозяину, — десятая муза — дочь остальных девяти. Она еще маленькое дитя, но знаете сами, как люди относятся к малышам. Они с ними сюсюкают, играют, сажают, извините, на горшок, но не воспринимают всерьез, пока малышка вдруг не выкинет какой-нибудь фортель. Наша девчушка уже слезла с горшка. Теперь ждите от нее фортеля.
Джон не выдержал и краем глаза взглянул в ту сторону, где сидел Янг.
Место было пустым. Джон решил, что Янг пересел, но, оглядев весь стол, не нашел его.
Только после этого он почувствовал вкус еды и вина. Дрожь его прекратилась, и он даже смог отвечать на вопросы хозяев.
Потом начались танцы. Янг так и не появился больше в столовой. Джон прошел по дому, но и в других комнатах Янга не было.
«Ну и слава Богу, — подумал Джон. — Чего-то этот негодяй все-таки испугался».
Настроение у него заметно улучшилось, и он даже пригласил на вальс Диану, которая, впрочем, отказалась, извинившись за то, что просто не умеет танцевать вальс.
— В это трудно поверить, — сказал Джон. — Мне всегда казалось, что юных леди в знатных домах обязательно учат танцам.
— Обязательно, — сказала Диана. — Все дело в том, кто учитель. Мой учитель учил меня целоваться.
— Я правильно догадался? — спросил Джон. — Это был Бьерн?
— Да, это был он. Потом оказалось, что он не отличает менуэта от польки. Впрочем, меня это не волновало.
— Ну что ж, это очень на него похоже.
— Что это похоже и на кого? — услышав конец разговора, подошел Бьерн.
— Все на все похоже в этом мире, — сказала Диана.
— Эту глубокую мысль я запомню навсегда, — сказал Бьерн. — Тем более что это наверняка твоя первая мысль в жизни.
— Молодежь не скучает среди нас, стариков? — подошел к ним хозяин дома. — Мы так отстали от жизни в этом краю, что выглядим, наверное, безнадежными консерваторами?
— Нет-нет, — сказал Джон. — Это мы отстали от жизни.
— Да, здесь это немудрено. Дикий край, дикий народ, дикая природа. Но, черт возьми, прекрасно все равно!
— И часто у вас бывают такие приемы? — спросил Джон, подбираясь к тому, что интересовало его на самом деле.
— Нет. Редко. К великому сожалению моей супруги.
— Но я вижу, у вас нередко бывают гости.
— Вы имеете в виду мистера Янга? Нет, он тоже редкий гость. Да и гостем его трудно назвать. Он скорее по делу. Интересуется организацией нашей миссии.
— Он военный?
— Нет, сэр, он прибыл к нам по просьбе конгресса Америки. И я этим горжусь. Нам есть что показать.
Молодой Янг интересуется организацией военной миссии. Это было неожиданно и непонятно для Джона.
— Вы собираетесь сегодня же возвращаться в Иерусалим? — спросил хозяин.
— Да, сэр, к сожалению, нам придется покинуть вас. Завтра с самого утра у нас работа.
— Хотелось бы посмотреть, что это за работа такая загадочная?
— Милости прошу, сэр. Мы пробудем здесь еще две недели.
— Обязательно воспользуюсь вашим приглашением. А сегодня я пошлю с вами конвой. Ночью по этим местам пробираться небезопасно. Кстати, не вы были на том корабле, который привез оружие? — вдруг вспомнил хозяин.
— К сожалению, мы, сэр. Я так толком и не понял, что там произошло. Какие-то поддельные документы?
— Нет, документы были в полном порядке. Они были настоящие. Только местная армия состоит из нескольких враждующих группировок. Просто одна из них оказалась проворнее остальных. Вам еще повезло…
— Вот здесь мне трудно с вами согласиться, сэр, — сказал Джон. — Убили капитана. Да и наши жизни были под угрозой…
— Я знаю. Но куда хуже дело обстояло бы, если б к кораблю одновременно приехали две группировки. Началась бы такая бойня! — улыбнулся хозяин.
— Вы так легко об этом говорите?
— Я — солдат, сэр, — самодовольно улыбнулся хозяин.
— Да-да… Простите, но нам, очевидно, пора уже ехать, — заторопился Джон. — Благодарю вас за гостеприимство.
— Ну что ж, очень жаль. Я отдам распоряжения.
Хозяин ушел, а Джон сказал Бьерну:
— Все, поехали отсюда.
— Нет-нет, — сказала Диана, — никуда вы не поедете! Я еще не показала вам восточных красавиц.
— С меня достаточно и восточных красавцев, — сказал Джон мрачно. — Благодарю вас, мисс, вечер был познавательный.
— Я поеду с вами, — сказала Диана.
— Не надо! Только вот этого не надо, — засмеялся Бьерн. — Мне твоя жизнь дорога как память.
— Хорошо, я приеду завтра.
— Не стоит, очень уж дальняя дорога.
— Мне не привыкать.
— Завтра я буду очень занят.
— Ты не хочешь меня видеть?
— Твой образ всегда в моем сердце.
Джон с удивлением смотрел на Бьерна. За легким тоном угадывалось желание обидеть девушку, оттолкнуть ее.
— Он шутит, — сказал Джон. — Он просто устал и так неловко шутит. Конечно, приезжайте к нам, когда захотите.
— Я не просил тебя, Бат, быть моим адвокатом, — вдруг грубо оборвал его Бьерн. — Если мне понадобится, я найму себе настоящего.
У Дианы задрожали губы. Оказывается, она умела не только смеяться.
— Ты не хочешь меня видеть? — снова спросила она.
— Не сейчас, — ответил Бьерн. — Прости, нам пора. Спасибо за ужин.
Действительно, к ним приближался хозяин, показывая жестами, что они могут ехать.
Бьерн первым пошел к выходу.
— Простите его, мисс, — сказал Джон, не зная, как утешить девушку. — Он просто…
— Он просто не хочет меня видеть. Прощайте, Джон.
Диана подала Джону руку, и тот пожал ее.
Обратно ехали в кэбе, запряженном четверкой упитанных и резвых коней. Шесть всадников сопровождали экипаж, держа винтовки на коленях. Сзади шли два военных фургона.
Бьерн сразу же забился в угол, закрыл глаза и сказал:
— Прошу меня не тревожить, я сплю.
Джону оставалось всю дорогу мучиться вопросами и не находить ответа.
На этот раз путь занял куда больше времени, поэтому, когда приехали в лагерь, уже светало.
Офицера, который командовал сопровождением, Джон пригласил в свою палатку и предложил чаю.
— Это недолго, у меня примус. Я сейчас согрею воду.
— Благодарю, сэр, — гаркнул офицер. — Если вы позволите, я отдам распоряжения и вернусь.
— Да, конечно.
У Джона слипались глаза, но он заставлял себя не уснуть на ходу.
Офицер вышел и через минуту вернулся. Вода уже закипала.
— Присаживайтесь, прошу вас, — сказал Джон. — Сейчас все будет готово.
— Благодарю, сэр, — снова гаркнул офицер и сел.
И тут Джон услышал какие-то странные звуки.
Он выглянул в окошко и увидел, что солдаты разбирают фургоны и деловито устанавливают большие, просторные и крепкие палатки. Другие копали яму, собираясь ставить в нее огромный бак.
— Простите, это?.. Вы что, собираетесь и свой лагерь разбить здесь? — спросил Джон офицера.
— Никак нет, сэр! Это предназначается вам! За два часа, уверен, мы закончим работу.
— Это очень любезно с вашей стороны, но мы, уверен, не просили…
— Это приказ, сэр.
— Для нас?
— Для нас, сэр.
Разбуженные активным строительством, из своих палаток стали выходить сонные артисты, рабочие, костюмеры.
Действительно, устанавливаемые солдатами жилища были куда надежнее и комфортабельнее, чем те, которыми пользовались кинематографисты.
Кое-кто стал помогать солдатам. Женщины готовили завтрак. И уже скоро все вместе уселись вокруг костров.
Солдаты чувствовали себя на верху блаженства, потому что вокруг них было много красивых и внимательных женщин. Особым успехом пользовалась, конечно, красотка, которую Джон подобрал на набережной Сены.
Только одного человека Джон не увидел — Бьерна.
Солдаты уехали, пообещав обязательно вернуться, чтобы завершить работу.
Съемки в тот день начались позже обычного. Бьерн так и не появился на площадке. Когда Джон послал за ним, посыльный вернулся с известием, что художник совершенно пьян и не может даже встать.
Джону пришлось распоряжаться одному.
А вечером он пришел к другу и сказал:
— Это твое дело — грубить мне. Ты можешь перестать называть меня своим другом. Но на съемочную площадку будь любезен являться.
— Хорошо, мистер Батлер, я буду являться на съемочную площадку, — ответил Бьерн нетвердо. — Еще какие будут распоряжения?
— Никаких. Просто я не заслужил такого отношения. Мне жаль, что ты оказался обыкновенным. Мне очень жаль.
Джон вышел из палатки.
Он так устал за эти дни, что даже обижаться по-настоящему у него не было сил.
Съемки шли только благодаря почти героическим усилиям. Жара, пыль, духота, мухи — это были по сравнению с остальным маленькие досадные мелочи.
Все валилось из рук, все шло наперекосяк. У Джона уже появился суеверный страх перед съемкой. Если он назначал на завтра сцену ловли рыбы, то оказывалось, что на озере ветер и волны, запросто переворачивающие лодки. Если он хотел снимать исцеление прокаженных, то наступала такая жара, что грим, изображающий язвы проказы, стекал с тел актеров, как вода. Если собирался снимать беседу Христа с учениками, то солнце, наоборот, скрывалось за тучами и ветер поднимал тучи пыли…
Новая камера постоянно отказывала. Она то вдруг останавливалась как раз посреди съемки, то начинала рвать пленку, то вдруг мотор ее начинал так бешено крутиться, что казалось, сейчас пойдет в разнос. Тома ночи напролет сидел над ней, чистил, ремонтировал, но назавтра происходило то же самое.
Скоро начали пропадать костюмы и реквизит. Нет, их никто не крал. Просто в нужный момент оказывалось, что костюм Понтия Пилата исчез. Перерывался весь лагерь, все вещи, включая личные. Костюма не было. Он находился только на следующий день, когда снималась уже другая сцена. Один раз пропал ящик с копьями для римской стражи. Это было вообще какое-то наваждение. Огромный ящик, который был виден отовсюду и всегда, пропал как раз в тот день, когда снималась сцена несения креста на Голгофу. И тоже нашелся на следующий день.
Но самыми тяжелыми оказались съемки актеров и «актеров». Если профессионалы все-таки работали в полную силу, то собранные Джоном клошары в самые ответственные минуты выходили вдруг из повиновения. То кто-нибудь из них напивался до бесчувствия, то вдруг ни с того ни с сего начинал спорить с Джоном о каком-то пустяке, бросал все и уходил с площадки. То в один из дней они все вдруг решили, что им мало платят, и устроили забастовку. Начался настоящий скандал. Оказалось, что им платят ничуть не меньше, чем профессионалам. Тогда возмутились профессионалы. Почему, дескать, им платят столько же, сколько этим, с улицы?! Тео метался между теми и другими, что-то обещал, грозил, уговаривал… Но и это было еще не все. И актеры и «актеры» совершенно не понимали, чего от них хочет Джон. Они кривлялись, переигрывали, принимали «трагические» позы, чуть ли не рвали на себе волосы, а Джон просил их как раз об обратном. Они не могли его понять. И здесь труднее оказалось работать с профессионалами. У тех уже были свои любимые штампы, и при каждом удобном случае они извлекали их из своего актерского багажа на свет Божий.
С некоторых пор возле съемочной площадки снова стали появляться всадники, и снова с явно недружескими намерениями. Когда Бьерн снова отправился к аятолле, тот заломил такую цену за спокойствие, что Тео только за голову схватился, когда узнал об этом.
Бюджет трещал по швам. Люди начинали болеть от грязи и жары…
Но самое страшное было то, что Джон, хотя он и не видел отснятого, чувствовал, что фильм не получается. Ни разу он не был доволен тем, как прошла сцена. Разве что только тогда, когда собралась массовка.
И вот теперь — Бьерн.
«Нет, — подумал тогда Джон, — кардинал говорил не о событии в порту. Он имел в виду все то, что происходит сейчас. Но это так легко сказать — не отчаивайтесь! Ведь тут речь идет о таких важных вещах, может быть, о самых главных в жизни».
Бьерн пришел к Джону ночью. Вошел в палатку и молча уселся на кровати.
Джон не спал. Он вообще мало спал последнее время. Словно жил на каком-то заводе, который двигает его руки и ноги, шевелит мозги, но который вот-вот кончится.
— Ну, рассказывай про этого белокурого красавчика, — наконец произнес Бьерн.
Джон молчал.
— Ты его знаешь? Он негодяй? Да?
Джон не ответил.
— Я видел, как тебе хотелось двинуть ему в челюсть. Зря ты сдержался. Вот была бы потеха. Правда? Ну, чего молчишь?
Джон опять ничего не сказал.
— Я очень люблю ее, Бат, — тихо произнес Бьерн. — Знаешь, я люблю ее ничуть не меньше, чем тебя. Но по-другому, конечно. Боже, что я вытворял, чтобы увидеться с ней! Учитель танцев — это еще цветочки! Я ведь был в их доме и полотером, и страховым агентом, и коммивояжером. Я устраивал засады, я охотился… Это целая романтическая история, Бат. Я думал так, как увижусь, сразу скажу, что люблю. Если откажет — застрелюсь. У меня и пистолет был на этот случай. Я уже готовился к смерти всерьез. Но она вдруг сказала — да. И — понеслось.
— Мне ведь надо молчать, да? Тебе вздумалось поизливать душу, теперь я гожусь? — сказал Джон.
— Да не будь занудой. Ну ладно, извини.
— Извинил. Продолжай.
— Отбил охоту! На чем я остановился?
— Понеслось, — напомнил Джон.
— Вот именно. Понеслось. Это ты очень хорошо сказал, Бат, именно понеслось.
— Это ты сказал.
— Правда? Ну тоже — ничего. И вот так понеслось, Бат, что я забыл все на свете. Что она со мной вытворяла, Бат! Она сводила меня с ума, потом приводила в чувство, чтобы снова свести с ума, чтобы снова привести в чувство… Я забросил живопись, я отказался от работы в трех театрах, о которых мечтал, я перестал читать книги, Бат, я превратился в такого сладенького, добренького, миленького, влюбленненького усипусечку. Цветочки, альбомчики, открыточки, прогулочки, записочки, бантики, платочки, поцелуйчики… В какой-то момент я понял, что меня вырвет. И я решил ей сказать «прощай».
— Грубовато получилось, — сказал Джон. — По-солдатски.
— Нет, милый. У меня ничего не получилось, потому что это она сказала мне «прощай». А я даже не успел открыть рта. И все понеслось снова. Оказалось, что ей самой все это противно до чертиков. И теперь понеслось совсем иначе — я стал нигилистом, циником, ифан терибль, ниспровергатель, грубиян. Выставки, симфонии, богемные вечера, водка, сигары, автомобильные гонки, бокс. В какой-то момент я понял, что теперь-то уж меня точно вырвет. И я решил просто исчезнуть. Когда мы встретились в Италии, я там просто отмокал. Понимаешь, как ты вовремя мне попался? Не будь тебя, я бы снова примчался к ней. И понеслось бы.
— Но ты мне никогда ничего не рассказывал.
— Да и ты про себя не слишком откровенничал, судя по вчерашней встрече.
— Это отдельный разговор.
— А я потому ничего не рассказывал, что считал — этого уже нет. Ошибка. Есть. Моя ошибка. Перед самым отъездом я ей написал.
— Понятно.
— Ничего не понятно. Я ей написал, что больше не связан с ней никакими обязательствами, что она свободна и я свободен. Бат, я каждый день ждал ее, хотя был уверен, что она не появится. А она появилась.
— Бьерн, ваши отношения можно было решить как-то иначе… Не знаю, мне показалось все это очень картинным, ненастоящим. Ты говорил с ней в последнюю минуту с таким надрывом, что и глухому было бы понятно, ах как ты ужасно мучаешься. Ты отрываешь от собственного сердца…
— Правда? Но, в конце концов, это на самом деле так.
— И она приедет, уверяю тебя.
— Она уже приехала. Она у меня в палатке.
Джон даже приподнялся с подушки.
— Я не слышал.
— Она примчалась на лошади. Говорит, автомобиль приносит ей несчастье. Она там сейчас одна, она ждет пока мы помиримся с тобой.
— Мы помирились, можешь идти к ней.
— Нет, мы пойдем вместе. Она мне не поверит. Поднимайся, Бат, выручай.
— Выручать?
— Ну да. Я же сделал ей предложение. Как только вернемся в Европу, мы поженимся. Если я не приведу тебя, она мне откажет.
— Ну, ребята, с вами не соскучишься!
— А я что говорю?!
Диана сидела при свете лампы и читала сценарий.
— Привет, Джон, — сказала она как ни в чем не бывало. — А что, так и было на самом деле? — кивнула она на сценарий.
— Диана, я тебя заставлю читать настоящие книги! — вскричал Бьерн.
— Это Библию, что ли?
— Бат, давай ее отшлепаем? — Бьерн взялся за свой кожаный пояс.
— Фи, Бьерн, ты грубиян. Кожаным ремнем! Женщину! Нет чтобы просто рукой.
— Ну, я вижу, вам весело и хорошо. Мы с Бьерном помирились. Я пойду спать, — сказал Джон.
— Подожди, Джон. Куда ты? У нас сегодня помолвка. Неужели ты не выпьешь с нами шампанского? — сказала Диана.
— Хотите, я вам кое-что скажу? — вдруг серьезно спросил Джон и сел на табуретку. — Только, пожалуйста, не перебивайте меня. У меня была девушка. Она и сейчас есть, я уверен. Мы очень любим друг друга.
— А! Я знаю! Мария! — сказал Бьерн.
— Да, только не перебивай. Понимаете, мы очень хотели с ней быть вместе. Но нас вот так взяли, как котят, и швырнули в разные стороны. И теперь я не могу ее найти, а она не может найти меня. Она бедная девушка. Собственно, это неважно. Важно то, что и она, и я отдали бы многое, чтобы сейчас оказаться рядом. А когда я смотрю на вас, мне все время хочется закричать — что вы делаете?! Если вы любите друг друга, так будьте вместе. Что вы все играете в какие-то прятки?! Что вы все испытываете? Что хотите доказать?! Да как вам не стыдно?! Вы знаете, что я ненавижу вас за это?! Вы мне противны со своим снобизмом!
Диана слушала Джона, чуть приоткрыв рот. Растерянная улыбка не сходила с губ Бьерна.
— Нет, вам нельзя жениться. Вам надо бежать подальше друг от друга. Вы же измучаете себя! Вы измучаете всех. Вы станете сами себе противны, и слово «любовь», которое для вас и сейчас-то мало что значит, вообще станет синонимом ругательства. Спокойной ночи.
Джон встал и вышел из палатки.
И только здесь, под чистым небом, почти под таким же, как там, в Джорджии, той ночью, когда он бежал из дому, Джон рукавом вытер глаза, которые почему-то были полны слез.
«У меня ничего не получается в жизни, — сказал Джон самому себе. — И я не могу не отчаиваться! Слышите, кардинал, слышите, вы, мрачный пророк, я отчаялся!»
…Съемки закончились через две недели.
Через месяц группа вернулась в Париж.
А еще через три дня Джон узнал, что вся снятая пленка оказалась пустой.
На ней не осталось ни одного кадра. Сплошное черное поле. Только на мгновение мелькает толпа людей и поднимающаяся тень распятия.
Новый сезон театр должен был открыть новой постановкой, но Бо так и не решил, на чем остановиться. История Жанны Д’Арк в какой-то момент показалась ему недостаточно динамичной. Он стал переделывать пьесу, но неудовлетворение не пропадало, а нарастало. Вся история Орлеанской Девы, при всей ее героичности и обнаженности страстей, была уж больно романтичной. И совсем не отвечала на те вопросы, которые мучили Бо.
После альпийской трагедии все пьесы, все сюжеты казались ему мелкими и обыденными. Потрясение, пережитое в Швейцарии, заслоняло все.
В конце концов Бо бросил Жанну Д’Арк. И ничуть не жалел об этом.
Он стал переворачивать целые пласты драматургии в надежде найти хоть что-нибудь созвучное его настроению. Но, прочитав две-три первые страницы, отбрасывал пьесу, хватался за другую, чтобы и ее, не дочитав, отбросить.
К нему потянулись вереницей молодые, никому не известные авторы. Они несли целые кипы рукописей, трудночитаемых, неряшливых, с разрозненными листами или, наоборот, аккуратные, отпечатанные на машинке, с гладкой бумагой и отсутствием ошибок. В них попадалась пара диалогов, написанных живым языком. Но на этом все достоинства пьес заканчивались.
Бо мрачно бродил по библиотекам, останавливаясь у полок с беллетристикой, вдруг хватал с полки книгу и начинал ее бешено листать. Он стал теперь просматривать романы и повести. Но и здесь его ждало полное разочарование.
Но на этом неудачи Бо не заканчивались.
Налоговая инспекция вдруг стала проверять счета театра и нашла в них какие-то огрехи. Правительству Америки казалось, что театр заработал слишком много денег в Европе и не хочет делиться. Бо, как директор театра, должен был еще заниматься и этим. Тоскливые чиновники управления дотошно просматривали все бумажки по многу раз, обращались к нему по всяким пустякам, дергали его своими дурацкими вопросами — откуда, куда, сколько, зачем, почему?
Бо с трудом держал себя в руках. Каждый раз, когда в его кабинет, скромно постучав в дверь, заходил чиновник управления в своих сатиновых нарукавниках, у Бо было желание разбить о его голову графин, но только спрашивал:
— Не желаете ли водички?
Самое главное — Бо понимал, что вся эта инспекция неспроста. Владельцы других театров только диву давались. Даже крепкие бродвейские театры никогда не подвергались столь иезуитской пытке. Кое-кто намекал, что все это расистские происки. Но Бо от этого не становилось легче.
Но, пожалуй, главная беда была дома.
Когда Бо и Уитни вернулись в Нью-Йорк, бывший муж Уитни вдруг объявил, что не собирается отдавать ей детей. Он это сделал не сам, он прислал адвоката, который, ссылаясь на какой-то законодательный акт, утверждал, что Сол имеет полное право не возвращать детей их матери, поскольку она своим моральным обликом не может служить примером для малышей.
К сожалению, а может быть, к счастью, Бо в этот момент не было дома. Он бы размазал крючкотвора по стене.
Когда он вернулся, Уитни была вся в слезах и ему с трудом удалось добиться от нее путного слова.
Недолго думая, Бо позвонил Солу.
— Хорошо, — сказал он. — Ты достаточно наказал Уитни, ты заставил ее плакать целый день. Она может так прорыдать еще неделю, если тебе так нужно, но потом верни детей матери.
— Когда она тайком ушла из дому, она не плакала, — сказал Сол. — Что же это сейчас у нее проснулись материнские чувства?
— Боюсь, ты не совсем прав, Сол. Не мужское это дело судить о материнских чувствах. Наше дело быть опорой и поддержкой. Мы же не женщины, нам не пристало затевать мелкие интрижки.
— А ты ошибаешься, Бо, если считаешь, что все в твоей жизни будет являться тебе на золотом подносе. За все надо платить. Мне, наверное, не стоит объяснять, за что должна платить Уитни.
— Почему же, объясни.
— Без особого удовольствия, но — пожалуйста. Она будет плохим примером для детей. Ее моральный облик не соответствует элементарным представлениям о материнстве…
— Что ты несешь, Сол? — перебил его Бо. — Откуда у тебя эти казенные словеса? Ты что, читаешь по бумажке?
Некоторое время на том конце провода молчали, и Бо понял, что про бумажку он скорее всего угадал.
— Ну-ка, скажи своими словами, Сол, за что ты наказываешь женщину, с которой прожил несколько лет, с которой ты перестал здороваться с зеркалом и сморкаться в рукав. Ты начал читать книги, хотя в твоем деле это вовсе не нужно. Я видел у тебя махровый халат, Сол. Ведь это Уитни тебе его купила. Ты же всегда думал, что это просто пальто! Слушай, она сделала человека из тебя! Неужели ты сомневаешься, что она вырастит ваших детей? Перестань, Сол, я вовсе не хочу тебя обидеть, но ты ведь поешь под чью-то толстую дудку! Тебе еще не надоело петь чужую музыку? За всю жизнь не надоело?
Сол молчал.
— Слушай меня внимательно — сейчас я приеду к тебе, мы выпьем с тобой по стаканчику виски, ты набьешь мне морду, и я увезу малышей к матери. Ты меня понял, Сол? Если хочешь, я привезу с собой то письмо, которое ты прислал в Европу. Потому что для меня ты всегда был и остаешься благородным человеком.
— Нет, Бо. Я не отдам детей, — сказал Сол, и Бо показалось, что человек этот плачет.
— Хорошо. Скажи мне тогда, кто тебе посоветовал эту глупость?
— Никто мне ничего не советовал.
— Если твой паршивый адвокат, то пусть лучше займется побыстрее собственной защитой. Я намереваюсь проломить ему башку.
— Я это решил сам.
— Брось, Сол, ты никогда не додумался бы до такой подлости.
— Это не подлость, а эта, как ее… вонздмензие…
— Возмездие, ты хочешь сказать? Возмездие, дурачок. Запомни хорошенько, у тебя плохие учителя.
Бо бросил трубку так, что она чудом не развалилась.
Уитни слушала весь их разговор.
— Ничего, — сказал Бо. — Мы просто украдем их, когда они пойдут в школу. Пусть попробуют потом отобрать.
— Нет, Бо. Я не хочу так. Лучше я потеряю их навсегда, чем втяну их в грязную историю.
— Ты не потеряешь их.
Бо в тот же вечер связался со своим адвокатом и изложил суть дела.
— Неужели есть такой дурацкий закон? — спросил Бо.
— Да, есть такой законодательный акт. В случае невыполнения матерью своих обязанностей она лишается материнских прав.
— Что значит — «невыполнение»?
— Это трактуется очень широко, Бо. К сожалению, ваш случай подпадает под возможную трактовку. Уитни ушла из дома к другому мужчине, этим она нарушила свой материнский долг.
— Стало быть, если бы она не ушла, а просто погуливала на стороне…
— Это в трактовку не входит. Жена не разрушает семью.
— Мило. И что же делать?
— Судиться, Бо, что же еще? Я берусь за это дело. Тут есть где разгуляться.
— Слушай, ты говоришь так, словно я тебя приглашаю на разбой.
— Бо, милый, суд — сплошной разбой. Но будь спокоен, я опытный разбойник. Мы вернем матери детей.
— Слушай, меня от тебя иногда просто тошнит.
— Меня и самого от себя тошнит. Зато я не толстею.
Словом, был подан иск, и судебное колесо завертелось.
Но еще до того как началось слушание дела, Бо уговорил-таки Уитни съездить в школу и хотя бы повидаться с детьми. Он в глубине души надеялся, что Уитни просто возьмет малышей за руку и уведет за собой, никто не посмеет ее остановить.
Они приехали к школе за десять минут до окончания уроков. Бо не выпускал Уитни из автомобиля, пока из школы не стали выходить малыши. Это была школа для черных детей. Бо впервые видел такое количество огромных глазенок и курчавых черных волос. И еще он подумал, что никогда бы не узнал малышей Уитни в таком количестве негритят.
Но Уитни узнала.
Она выскочила из машины и бросилась в толпу школьников. А еще через мгновение прижимала к себе мальчика и девочку, которые обнимали и целовали ее.
Что она им говорила, Бо не слышал. Школьники так галдели, что вообще ничего не было слышно.
Бо не стал подходить к Уитни. Он наблюдал издали, с другой стороны улицы. Он увидел, как Уитни поправляет девочке бантик, мальчику воротник, как она смеется и плачет, как кружит детей на руках, как счастливы малыши…
«Чего она тянет? — думал Бо. — Ей надо вести детей к машине. Мы просто сядем и уедем».
Видно, до Уитни долетели его мысли, потому что она взяла детей за руки и направилась к автомобилю.
То, что произошло дальше, Бо вспоминал потом с горьким чувством досады. Ему надо было подойти сразу, ему сразу надо было увезти Уитни с малышами подальше от школы.
Из-за поворота вдруг вылетела машина и, сигналом распугивая детей, затормозила у самых ворот. Из машины выскочили два огромных детины, отшвырнули Уитни, схватили детей и запихнули в автомобиль.
В этот момент Бо уже мчался туда. В этот момент он уже забыл обо всем на свете. Он стал бы колотить в их толстые рожи с таким удовольствием и остервенением, что превратил бы их в отбивные.
Но он не успел.
Школьники, остановившиеся поглазеть на происходящее, мешали ему бежать. Не мог же Бо сбивать их с ног.
Машина снова загудела и умчалась.
Уитни отряхивала пальто. Она не плакала. Только уголок ее губ плотно сжался и опустился вниз.
Бо взял ее под руку и молча повел к машине.
— Прости меня, — сказал он, когда они вернулись домой. — Это была моя затея.
— Мы не будем с тобой счастливы, — тихо произнесла Уитни. — Счастье не построишь на горе.
Джон целыми днями простаивал на палубе, словно хотел первый увидеть землю, как когда-то моряки Колумба. Но на самом деле все обстояло наоборот. Джон хотел, чтобы Америка не показывалась как можно дольше. Чтобы пароход плыл и плыл себе по бескрайнему океану, а Джон целыми днями без особых мыслей смотрел бы на воду.
Да, читатель, в жизни даже очень молодых людей наступает такой момент, когда им кажется, что все уже позади, что они знают обо всем на свете, что прекрасно разбираются в людях, могут решить любую проблему, только к ним никто не прислушивается. Эта мировая печаль по поводу примитивности бытия посещает чаще всего человека лет в двадцать. Может быть, в этом возрасте люди и правы, может, действительно жизнь примитивна и становится понятной для нас еще в юные годы, а потом мы сами мудрствуем лукаво, простые, в общем-то, вещи стараемся усложнять, чтобы не было так скучно и однообразно жить на земле. Может быть, так. А может быть — нет.
Во всяком случае, Джон сейчас находился на самом пике этого разочарования и отчаяния. Жизнь обманула его слишком сильно. Бессмысленно, зло, подло.
В тот день, когда он узнал, что вся их титаническая работа с кровью и потом, работа на пределе возможностей, работа со святой и благородной целью оказалась убитой, сожженной, уничтоженной, Джон испугался одного — возненавидеть Бога.
Он не понимал, как Бог допустил это? Как позволил? Почему обманул?
Разве не Ему приносились все их жертвы, разве не во имя Его славы они пережили столько страшных дней и ночей? Почему же Он отвернулся от них? Что они делали не так? Чем прогневили Его?
Джон искал ответа и не находил его. Вернее, он находил ответ, но слишком страшный — Бога нет.
Может быть, в таких случаях другой человек напился бы, подрался, поскандалил бы, в конце концов. Может быть, и Джон так поступил бы в любом другом случае. Но этот ужасный обман лишил его каких бы то ни было сил. Он превратил Джона в безвольный кусок чего-то желеобразного и беспомощного. Джон часами сидел, отупело глядя в одну точку, и повторял:
— Этого не может быть… Этого не может быть…
Тео бросился с иском к фирме, поставившей некачественную пленку, но здесь оказалось, что фирма эта лопнула, ее владельцы скрылись, заключив еще несколько крупных контрактов и прихватив с собой приличную сумму. Скандал был не очень велик, потому что дело это было обычным.
Бьерн и Диана, поутешав Джона, уехали в Лондон. Они всерьез собирались жениться и ехали за благословением лорда Уинстона.
Вся группа сразу же занялась другими делами, какое-то время еще Тома приходил к Джону и молча просиживал у него час-другой, но потом и он пропал.
В своем оцепенении Джон пробыл почти месяц. Тео чуть не каждую неделю звонил ему и предлагал какой-то фильм, но Джон отказывался. Как-то Тео сообщил Джону, что его первый фильм вышел в прокат и даже с успехом идет по экранам всего мира. Джона и это не обрадовало.
В начале ноября ему позвонили из резиденции кардинала и просили его прибыть на следующей неделе.
Джон обрадовался такому приглашению. Так много вопросов хотел задать он прозорливому старику.
И снова приехала карета в сопровождении гвардейцев, но теперь Джон ехал в ней один.
Кардинал встретил Джона приветливо, усадил рядом и сказал:
— Мои клерки несколько часов сидели и смотрели вашу черную пленку. Они, знаете ли, не поверили, что все пропало. Я пытался их образумить, но они обязаны блюсти интересы церкви. Простите их, если можете. Да, кстати, они сказали, что один момент на пленке получился.
— Я знаю, — сказал Джон. — Очень короткий момент распятия Христа.
— Мне сказали, что у вас снимались мусульмане. Это правда?
— Да. Как раз этот момент и остался.
— И как они к этому отнеслись? У них очень строгая религия.
— А как нормальные люди отнесутся к казни невинного?
— Значит, вы им не говорили, о чем снимаете фильм?
— Нет, ваше святейшество.
— Забавно. Вы заставили молиться Иисусу Христу правоверных мусульман, — улыбнулся кардинал.
— Интересно, именно такие же слова сказал Бьерн сразу после съемок. Вы помните Бьерна Люрваля?
— Прекрасно помню. Как он? Где?
— Он уехал в Лондон. Собирается жениться.
— Замечательный человек.
— Да, — сказал Джон.
Кардинал какое-то время молчал и только исподлобья поглядывал на Джона.
— Вам, наверное, сейчас приходят в голову самые страшные мысли? — спросил он наконец.
— Да, ваше святейшество.
— Вы думаете о том, что вас предали, обманули, да?
— Да.
— Вам кажется это ужасным. Ведь вы затеяли доброе христианское дело. Во славу Господа нашего Иисуса Христа. А все обернулось такой трагедией. Наверное, так вы думаете или приблизительно так.
— Так, — сказал Джон.
— И вы ждете от меня каких-то объяснений. Например, почему я сказал вам — не отчаивайтесь? Что я за пророк такой?
— Да, я хотел у вас спросить и об этом, но…
— Что? Почему вы замолчали?
— Если честно, ваше святейшество, меня сейчас уже ничего не волнует. Я ничего не хочу знать. Мне даже не горько и не больно. У меня внутри пустота.
— Да, это отчаяние. Это великий грех, с которым человеку справиться труднее всего. Мне врачи часто говорят — не волнуйтесь, будьте спокойнее. Очень меня смешит этот совет. Он равносилен тому, чтобы встать у бушующего моря и заклинать — не волнуйся, успокойся.
Вспомнив эти слова кардинала сейчас, на палубе корабля, Джон ухмыльнулся и сказал волнам:
— Успокойтесь, не волнуйтесь…
— Под силу это было только Христу, — продолжал кардинал, — только он мог утихомиривать бурю. Но отчаяние можно утихомирить. Надо только понять, что привело к нему. Почему оно вообще стало жить в вас?
— Но это ясно, — сказал Джон. — Разве не отчаялись бы вы, узнав к концу жизни, что во Франции, скажем, не осталось ни одного верующего?
— О! Это сильное сравнение. Не во всем правомерное, но любое сравнение хромает. Да, я был бы потрясен, я был бы убит, возможно, я был бы на грани отчаяния. Но я бы спросил себя — почему так? Где ошибка? Не Его, моя? Может быть, мне не стоило заниматься пастырством, может быть, я прошел мимо какого-то более важного дела, решив, что оно суетно и недостойно моих великих устремлений?
— Значит, мне не нужно заниматься кино, — равнодушно сказал Джон.
— Может быть, — сказал кардинал. — Я не знаю. Это вам решать. Но в вашем случае, Джон, применима и другая формула — чем ближе к Богу, тем сильнее искушение.
Эта мысль на секунду заинтересовала Джона. Но только на секунду.
— Я вовсе не собираюсь вас утешать. Хотя мне этого очень хочется. Будь я менее верующим, я бы сказал, что это просто слепой случай, что все в жизни бывает, но я точно знаю, что здесь промысел Божий.
Кардинал снова помолчал.
— Я был в Иерусалиме. Это было давно. Я тогда был в силах совершить такое паломничество. Не знаю, как вы, но для меня эти места навсегда остались в ощущениях наполненными неиссякающей великой силой. Я уверен, что именно там по-прежнему творится история мира. Она непонятна нам, смертным, с первого взгляда, она иногда удивляет нас, даже пугает, но когда-нибудь мы поймем, что во всем, с нами происходящем, есть небесная мудрость. Отчаиваться можно только из-за того, что мы слепы.
— Значит, вы догадывались?
— Конечно. Никакой мистики тут нет. Помните, мы говорили с вами об отшельниках? Эти люди рассказывают удивительные вещи. Нечистый воздвигает перед ними горы золота, вполне осязаемого, настоящего, сулит им все наслаждения жизни, но и ранит их, подвергает болезням, гонениям, на них обрушивается столько, что хватило бы на сто жизней простого человека. Почему? Потому что они близки Богу.
— Но почему же Бог не защищает их? Почему он не защитил нас?
— Бог не только на небе — Он и в нас. Не изгоняйте Его из себя отчаянием.
Встреча с кардиналом если и охладила богоборческий пыл Джона, то не вывела его из уныния.
Помаявшись еще неделю, он собрал вещи и сел на пароход, идущий в Америку.
И вот теперь он стоял на палубе, глядя на воду, и ни о чем не думал. О своем возвращении он никого не предупредил. Он даже не задумывался над тем, куда пойдет в первую очередь, с кем увидится. Он даже толком и не знал, зачем плывет на родину. Поэтому он и мечтал о том, чтобы плавание не кончалось.
Но корабль точно по расписанию прибыл в порт. И Джон снова ступил на землю Америки.
Его никто не встречал, никто не махал ему рукой. И Джон подумал, что и отъезд его был таким же грустным.
До дома он добрался на конном трамвае, краем сознания удивляясь, что все вокруг говорят по-английски, а не по-французски.
«Ах да, ведь я в Нью-Йорке, — подумал он с каким-то даже удивлением. — Я в самой столице мира».
В доме было пусто, неуютно и холодно. Прямо в пальто Джон уселся в кресло и стал смотреть на пыльный стол, книги, телефон…
И телефон вдруг зазвонил.
Это было так неожиданно, что Джон даже вздрогнул.
«Наверное, ошибка, — подумал он. — Кто может звонить в пустой дом?»
Но тем не менее протянул руку и взял трубку.
— Ну, наконец! — услышал он. — Второй час звоню тебе! Прости, что не смог встретить. Сейчас приеду.
Это был Найт.
Джон понял это, только когда Найт уже бросил трубку.
Пришлось подниматься, снимать пальто, идти в подвал, приносить уголь и растапливать камин.
Джон еле успел это сделать, когда в дверь позвонили.
Честно говоря, Джон был рад Найту. Они не виделись почти год, им было что рассказать друг другу, и раньше Джон с нетерпением ожидал бы Найта. Но сейчас он ни о чем не хотел говорить, он просто был рад. Они обнялись.
— Как ты узнал? — спросил Джон.
— Да, милый, ты забыл, что такое репортерская профессия! Мы каждый день просматриваем списки пассажиров всех межконтинентальных рейсов. А вдруг прикатит какая-нибудь знаменитость. Видишь, мне повезло! Ну, давай сядем, и ты дашь мне интервью.
Найт кинул пальто на диван и, устроившись в кресле, раскрыл блокнот.
— Интервью?
Джон брал в своей жизни несколько интервью, но сам их никогда не давал.
— Конечно, ты же теперь знаменитость. Твой фильм смотрела вся Америка.
— Ну уж и вся?
— Нью-Йорк, по крайней мере. А Нью-Йорк, Джон, это и есть вся Америка. Итак, маэстро, расскажите немного о себе.
— Кончай, Найт. Я не собираюсь давать никакого интервью.
— Ну что ж, ты лишаешь меня куска хлеба, — сказал Найт, не особенно огорчившись, и сложил блокнот. — Я всегда знал, что у друзей лучше не просить интервью.
— Лучше расскажи ты мне. Твоя телеграмма… Я тогда не мог приехать… Что случилось?
— О, Джон, случилось многое. Тебя так не хватает здесь. Знаешь, я даже попросил знакомого священника, чтобы он помолился о твоем возвращении.
— Это не смешно, — сказал Джон, решив, что Найт намекает на съемки в Иерусалиме.
— Конечно, не смешно. А почему ты решил, что я собираюсь тебя развеселить? — удивился Найт. — Я говорил совершенно серьезно.
— Прости, я подумал, ты… В общем, неважно, что я подумал…
— Ну ладно, потом расскажешь, что ты подумал. А теперь я тебе расскажу. Послушай, — вдруг перебил себя же Найт. — Ты с дороги, устал, хочешь есть. Может, пойдем в ресторан? Здесь рядом открылся неплохой китайский ресторанчик.
— Я не голоден, я просто замерз, — сказал Джон. — Поэтому пойдем.
— Да, у тебя тут не жарко, — согласился Найт.
Они вышли из дому, прошли два квартала и действительно оказались перед китайским рестораном «Дракон».
Джон хотел уже войти, но Найт остановился и начал рассматривать что-то на тротуаре.
— Подожди, — сказал он. — Я сейчас.
Найт наклонился и поднял пару черных лакированных ботинок.
— Красивая вещь, — сказал он. — В Нью-Йорке попадаются иногда очень красивые вещи. Посмотри, как мастерски сделан каблук. Видишь эти тонкие латунные гвоздики? Они вбиты не как попало, тут какой-то рисунок. Представляешь, сапожник заранее знает, что никто и никогда не увидит этот рисунок, ему проще было бы наколотить гвоздей просто, чтобы только держали, а он пижонит. Нет, ты посмотри!
И Найт поднес ботинки к самому носу Джона. Действительно, гвоздики были набиты неким узором.
— А шов? Бат, это не шов, а песня прочности и надежности. Такой шов нельзя придумать, он должен присниться в чудном сне, преследовать человека всю жизнь, манить к себе, звать. Человек должен мучиться собственным несовершенством, пока не достигнет этого шва. А достигнув, передать секрет детям и завещать его, как величайшее наследие. Нет, ты специально посмотри на этот шов.
Джон снова посмотрел на ботинки. Шов действительно был крепким.
— Но вот вершина сапожного мастерства — язычок, — продолжал Найт. — Какой гений придумал это — сделать разносчик новостей и сплетен, интриг, наветов и поэзии безмолвным согревателем ноги? Сверху на такой язык ложится плотная сыромятная шнуровка. Как бы безмолвный не стал вольничать. Представляешь, идет человек, а его ноги болтают что-то о ваксе, сапожной щетке, с которыми у ботинок роковой роман, о пыли и грязи. Нет, этого нельзя представить, поэтому язык спрятан, зашнурован и молчалив. Но он хочет говорить. Он копит свои великие кожаные мудрости. Вот изящный язык. Он будет изъяснять пятистопным ямбом. Он будет философски рассуждать о вещах. Сапожник знал это, он выдумал для него эту форму женского локтя — чуть припухлую, тонковатую, хрупкую, изогнутую параболической орбитой…
— Что случилось, Найт? — спросил Джон.
— Что случилось, Бат? — спросил Найт. — Ты уже умер или вот-вот? Ты выглядишь погано, друг. Тебе сто два года! Зачем тебе жить так долго и так скучно? Кому ты нужен — молодой старичок? Это молодая страна, в ней ненавидят стариков. В ней любят молодых и злых до дела и правды. Пока ты там, в загнивающей Европе снимал назидательные фильмы об Иисусе Христе, твоя страна подошла к ранней смерти. Если ты приехал сюда, чтобы добавить горя, то лучше убирайся обратно! Мне противно на тебя смотреть!
— Я устал, Найт. Пойдем поедим.
— От чего ты устал? От собственного несовершенства? Поздравляю! Займись буддизмом. Гимнастикой. Мой посуду — сразу увидишь плоды своего труда. Мне противно говорить об этом, Бат, но ты бросил все ради собственной славы! Ты предельно честолюбив, Джон. Предельно!
— Неправда.
— Правда. Я видел твой фильм. Ты вытащил на свет Божий то, что должен был забыть навсегда. Так не делается ради других, Бат, так делается ради собственных амбиций. Хорошо еще, что у тебя провалилась затея с Евангелием. Вот уж где было разгуляться твоей надутости. Тебя вовремя щелкнули по носу! Знаешь, эти ботинки сделаны куда более мудрым человеком. Потому что сделаны для людей. Посмотри, хозяин не выбросил их в мусорный бак. Он аккуратно поставил их возле дома. Он просто отпустил их на свободу. Их найдет другой человек и будет носить еще долго. А твой фильм умрет, уже умер. Мы все восхитились тобой, но никого ты не утешил и не согрел. Все. Пошли есть. Я рад, что ты вернулся. У нас есть дела.
И Джон вдруг улыбнулся. Этот ушат холодной воды, который вылил на него Найт, словно смыл всю пыль теплой тоски, в которой Джон так здорово пригрелся. Он снова увидел себя посреди мира, посреди ветра, посреди жизни, он снова забыл о том, что уже знает все на свете и обо всем может судить. Морщины на его сердце стали разглаживаться. Ну, конечно! Ну, правильно! Кому нужны его мучения?! Кому нужны его амбиции?! Есть живые люди, есть дела и поступки, которые надо совершить. А остальное — прах.
Джон вдруг моментально проголодался.
— А что с Марией? — спросил он. — Как поживает Эйприл? Какие новости о Ридере, Стенсоне и об Аляске? Как там старый Джон, ты с ним виделся? Что газета?
Он засыпал Найта вопросами, и тот подробно отвечал на все.
— Марию мы не нашли. Если бы она была в Америке, мы бы хоть что-то о ней знали. Оказалось, что она приходила в редакцию, когда мы с тобой пропадали на Аляске. Старина Хью разговаривал с ней. А потом она пропала. Кто-то видел еще девушку, по описанию похожую на Марию, которая избивала на улице пожилого мужчину. Но, возможно, это была не она. Бат, мы сделали все или почти все. Газета два месяца печатала объявления о розыске. Ее нет в Америке, Бат.
— Понятно, — сказал Джон.
— Эйприл уехала на Кубу. Кажется, учит там детей. Это сейчас стало таким поветрием — молодые едут учить и лечить. Но она иногда приезжает. Я не видел ее с тех пор.
— Да, тогда получилась не очень красивая сцена. Я только не понял, зачем ты?..
— Это я приберегу на десерт. Твой старик жив и процветает, кажется, приобрел еще одну фабрику. Вот с ним я вижусь часто. Он, знаешь, чувствует себя ужасно виноватым перед тобой.
— А, да. Тут у меня есть для тебя новости. Знаешь, кого я встретил в английской военной миссии под Иерусалимом?
— Диану Уинстон, — сказал Найт.
— Да, но это она привезла меня в миссию.
— У! Какие связи!
— Я встретил там молодого Янга, Найт. Что он там делал, как ты думаешь?
Джон даже представить не мог, что Найта так взволнует это сообщение.
— Подожди, — сказал он. — Повтори еще раз — Янг был в английской военной миссии? Что он там делал?
— Я не успел его расспросить. Я не успел даже дать ему по морде. Он куда-то пропал.
— Он испугался тебя?
— Не знаю. Я не подал ему руки.
— Дурак! Какой же ты дурак, Джон! Какой же ты чистоплюй и идиот!
— Перестань ругаться. Я вспомнил, хозяин сказал мне, что Янг приехал изучать организацию миссии или что-то в этом роде по просьбе конгресса.
— Конгресса? Интересно. В самом конгрессе об этом не знают ничего. Очень интересно. Слушай, Бат, так главные новости у тебя! У меня так, ошметки какие-то. Ну-ну, рассказывай.
— Больше нечего.
— Так вот. Теперь об Аляске. Знаешь, чем кончился суд?
— Чем?
— Его оправдали.
— Подожди, какой суд?
— Над Питером Свитом, над кем же еще!
— Если ты мне теперь расскажешь, кто такой этот Питер, буду тебе очень признателен.
— Нет, ты даже не с Луны свалился. В нашей Солнечной системе об этом знают все. Где ты был, черт возьми, Бат?
— Ну не слышал, не слышал.
— Тогда рассказываю с самого начала. В небольшом городке на юге Штатов был шериф по имени Питер Свит. Такой, знаешь ли, свой в доску парень. И этот шериф устроил рядом с городком такой, знаешь ли, бойскаутский лагерь для обалдуев в возрасте от двадцати до шестидесяти лет. Эти детки учились скакать на лошадях, спать под открытым небом, маршировать, носить военную форму, стрелять и разводить костры. Такое устроили себе развлечение с военным уклоном. Дальше — больше. В городке они устроили форменную тюрьму каторжного режима. Карали непослушных, вершили свой суд и даже казнь. Я ведь недаром говорил тебе, что они научились разводить костер. Да, там здорово попахивало ку-клукс-кланом. Негр при встрече с белым должен был опускаться на колени. Тебе это ничего не напоминает?
— Рассказ эскимоса.
— Точно. Этот наш любимый Наг пел нам песню про Ридера, но слова будто списаны с этого городка. Ну так вот. Что-то эти ребятки там недосмотрели, и какому-то человеку удалось из городка бежать. Он и сообщил в полицию штата. Бюрократы эти послали чиновников с проверкой. Те вернулись с отчетом, похожим на описание рая — чистый уютный городок, порядок и законность, шериф — просто ангел с крылышками. Да, дескать, есть там лагерь, но совершенно безобидный ковбойский лагерь. И дело заглохло. Но тут ребятки Свита перестарались. Они убили бежавшего. Да так неумело, что убийц сразу же схватили, а те выдали и тех, кто их послал, и все про лагерь и каторжную дисциплину.
Послали отряд полиции, арестовали самого Свита и почти всю его шайку.
— Но почему же тогда суд оправдал этого негодяя? — спросил Джон.
— А все дело в том, что Свит сам никаких приказов не отдавал, ни в одном убийстве не принимал участия. Он только организовал лагерь, а остальное, мол, — инициатива самих жителей. Не будешь же наказывать человека только за то, что он учил людей скакать на лошади.
— Потрясающе! И всех отпустили?
— Нет, троих осудили за незаконное ношение оружия.
— Подожди, а как же убийства?
— Не доказано. Ничего не доказано. Слушай, более беспомощного суда я в жизни не видел. Прокурор нес что-то несусветное, судья постоянно отводил свидетелей обвинения, а большая часть из них вообще не явилась в суд. Пропали люди. Нет их.
— Да, странно.
— Подожди, это еще не конец. Надо бы тебе прочитать речь Свита на суде. Но я перескажу тебе самое главное. Этот поборник законности и сильной власти заявил, что он занимался исключительно благородным делом. Что у него тысячи последователей. Что все равно они очистят Америку от преступников и атеистов.
— Хорошая речь.
— В городке, Бат, всего шестьсот жителей, включая грудных младенцев, — сказал Найт и внимательно посмотрел на друга.
— Подожди, я что-то не пойму связи.
— Связь простая. Свит проговорился на суде. Он сказал о тысячах последователей. Понимаешь, Бат, он имел в виду не только свой городок. Он намекнул нам, что существует организация. Большая, разветвленная, крепкая организация.
— Ну, это он мог так сказать и ради красного словца. Ведь любой политик всегда кричит, что за него весь народ.
— В точку, Бат. Ты попал в самую точку. Политика! Понимаешь, это не ку-клукс-клан, не тупые ублюдки, за которыми только несколько сотен домохозяек. За этими ребятками кто-то покрупнее.
— Постой, Найт, дай я все переварю. Если за тем, о чем ты говоришь, есть хоть сотая доля правды, это страшно. Во-вторых, как ты связываешь всю эту историю со Стенсоном и Аляской? Только потому, что вранье Нага оказалось похожим на действительность?
— Помнишь, Бат, я спросил тебя, не видел ли ты в том ущелье алмазов под ногами? Мы тогда все искали причины. Дело в том, что алмазы — мелочь. Там, на Аляске, да и в этом городке под ногами валялось нечто куда более ценное — власть. Я знакомился с протоколами допросов, в них встречалась фамилия, которая тебе хорошо известна. Стенсон.
— О! Вот куда он подался с Аляски?! Так-так-так… Значит… Постой, а кто все же тот загадочный мистер N?
— Ну, Бат, я разжевал тебе все так, как приготовишке, а ты… Бат, это Тимоти Билтмор!
— Что?! Ты с ума сошел! — Джон вскочил на ноги. — Билтмор?! Найт, ты городишь чепуху!
— В таком случае это не я горожу чепуху, а Стенсон. Мне про Билтмора сказал именно Стенсон.
Джон сел.
— Да, я знаю, Бат, — сказал Найт после молчания.
— Она никогда не ошибалась в людях, — сказал Джон. — Именно поэтому я тебе не верю.
— Я и сам не хочу себе верить. Твоя мать…
— Моя мать, повторяю, никогда не ошибается в людях! — раздельно сказал Джон. — Но я обещаю тебе, Найт, что я сам лично поговорю с Билтмором. Я вот так, прямо в лицо спрошу его. И он выдаст себя, если виноват. Но если он не виноват…
Джон не договорил. Он вспомнил, как тяжело расставался матерью. Она ведь чувствовала себя виноватой перед ним. Во всяком случае, так ему казалось, когда они прощались. Но вот она вышла замуж за Билтмора. Вышла замуж. Это было невозможно. Конечно, Джону бы уцепиться сейчас за то, о чем говорит Найт, представить своего нового родственника негодяем и подлецом. Но это было бы подло в первую очередь по отношению к матери. Да, он не любит Билтмора, хотя тот ни словом, ни жестом никогда не дал для этого повода. Джон не любит Билтмора потому, что очень любит отца. Но его отношение к отчиму (Боже, теперь Билтмор его отчим!) совсем не значит, что Билтмор негодяй.
Словом, Джон запутался в собственных рассуждениях. Знал точно только одно — мать никогда не ошибалась в людях.
— Слушай, что-то у меня кружится голова от всего этого, — признался он Найту.
— Я думаю, дело в том, что мы выпили с тобой уже две бутылки вот этого напитка… Как он там называется? Нет, я не выговорю.
Джон сам взял меню и попытался прочитать название. Но буквы расплывались перед его глазами.
— Все, — сказал он. — Пошли на воздух.
— Пошли, — согласился Найт.
Они оба вдруг моментально опьянели, поэтому с трудом поднялись на ноги.
Пройдя несколько метров, придерживаясь руками за стены домов, Джон остановился:
— Подожди, я сейчас вернусь. Я хочу забрать с собой те замечательные ботинки.
— Я пойду с тобой, а то ты заблудишься, — сказал Найт.
Они вернулись к ресторану и только сейчас увидели, что ботинок нет. Кто-то уже унес их.
— Да, я был прав, — сказал Найт. — В Нью-Йорке встречаются красивые вещи. Но ненадолго.
Проблемы с налоговой инспекцией вдруг сами собой исчезли. Уэйд только сообщил Скарлетт, что приезжал налоговый инспектор и сказал, что все обвинения с Уэйда сняты, никаких штрафных санкций на него не наложат, это была ошибка инспекции. Он даже принес извинения.
Сказочная простота, с которой разрешился этот вопрос, немного испугал Скарлетт. Она не думала, что такие дела решаются столь быстро и безболезненно. Теперь она ждала возвращения Тима, чтобы он развеял ее сомнения.
Но не это беспокоило Скарлетт больше всего. После сообщения доктора она несколько дней не могла прийти в себя. Все это казалось какой-то фантастической насмешкой. Она беременна! У нее будет ребенок! Этого не могло быть, потому что этого не могло быть. Скарлетт вспомнила, с каким трудом она рожала Джона, а ведь тогда она была на двадцать лет моложе. Врачи говорили ей, что это чудо. И вот теперь — снова?
Но доктор, которого она допросила с пристрастием, сказал, что такие случаи бывают, правда крайне редко. Он пообещал ей наведываться почаще и следить за протеканием беременности.
«Нет, — думала Скарлетт, — если это не насмешка, то это чудовищное недоразумение. Это страшная ошибка природы. Я не могу и не должна рожать, я больше этого не вынесу! Да я и думать об этом боюсь».
Она просила доктора никому ничего не рассказывать, чем не на шутку обидела старика.
— Я, мэм, давал клятву Гиппократа. Секреты моих пациентов уйдут со мной в могилу. Как вы могли?!
Но Скарлетт не обратила особого внимания на эту обиду. Она могла теперь думать только об одном — о беде, которая на нее свалилась.
Через несколько дней она проснулась вдруг с полным убеждением, что доктор просто напутал. Ну, конечно, он принял ее слабость за беременность только потому, что не нашел другого объяснения. С чего он сделал такое заключение? Он ведь не осматривал ее, как это делают акушеры. Да нет, просто старик немножко тронулся умом. Не может Скарлетт забеременеть.
И эта мысль как-то утешила ее на пару дней.
Но тут она заметила в себе изменения, которые ничем другим, кроме беременности, объяснить не могла. У нее снова кружилась голова, ее подташнивало от жирной пищи и все время не хватало воздуха.
«Если это не беременность, то я неизлечимо больна, — думала она. — Завтра же вызову доктора и пусть обследует меня, как положено в таких случаях».
Доктор приехал, и она выложила ему все свои сомнения.
— Это понятно, мэм, в вашем положении, в вашем… хм-хм… зрелом возрасте в такие вещи верят с трудом. Я тоже поначалу не поверил сам себе, мэм. Конечно, я осмотрю вас как следует. Но приготовьтесь к тому, что мой диагноз верен.
— Но как вы можете судить об этом? Откуда такая уверенность?
— Очень просто, мэм, на своем веку я повидал много беременных женщин. Есть сотни верных признаков, которые намного более достоверны, чем даже прекращение менструации.
— Все равно я хочу, чтобы вы осмотрели меня.
— Тогда это лучше сделать у меня в клинике. Если вам будет удобно, завтра.
— Нет, сейчас. Мы едем к вам сейчас. Немедленно, до завтра я не вытерплю.
— Хорошо, мэм, мы можем поехать сейчас.
Скарлетт велела запрячь двуколку и, как только это было сделано, отправилась с доктором в его клинику.
Клиникой, впрочем, небольшой домик с четырьмя комнатами назвать можно было с некоторой натяжкой. Хотя доктор принимал здесь довольно много пациентов с разными симптомами.
Две медсестры и еще один помощник — вот и весь персонал клиники. Но было здесь чисто, уютно, в одной из комнат лежали две женщины, только что прооперированные доктором по поводу аппендицита.
Скарлетт понимала, что теперь ее тайна, если она, конечно, существует, может стать известной всем. Поэтому еще по дороге она договорилась с доктором, что он осмотрит ее один, без сестер.
— Хорошо, мэм, конечно. Никто ничего не узнает.
В клинике, правда, Скарлетт пришлось ждать, пока доктор осмотрит парня с кровоточащей раной на руке и сделает перевязку.
— В следующий раз придешь уже не ко мне, а к миссис Карлайн, — сказала доктор, провожая парня. — Это наша старшая медсестра. Понял?
— Да, сэр.
— Но если с тобой что-то случится в другой раз, ты честно скажешь мне, где поранился. Договорились?
— Хорошо, сэр.
Доктор проводил Скарлетт в кабинет и, пока она раздевалась, а он мыл руки, сказал:
— Какая-то эпидемия у этих молодых парней. За последние три недели уже четвертый приходит с резаной раной. И все врут одно и то же — порезался стеклом.
Доктор уложил Скарлетт на гинекологическое кресло и тщательно осмотрел ее.
— Теперь, мэм, я хочу задать вам вот какой вопрос, — сказал он, закончив осмотр. — Если вы вдруг решите не рожать ребенка, а я это вполне могу понять и допустить, могу ли я быть уверенным, что вы обратитесь за помощью ко мне, а не попытаетесь сами решить свои проблемы?
— Это значит?.. — упавшим голосом сказала Скарлетт.
— Да, мэм, вы на втором месяце беременности. И все протекает нормально.
У Скарлетт вдруг на глазах появились слезы.
— Ну-ну, — сказал доктор. — Успокойтесь, пожалуйста. Пока ничего необратимого нет. Я несколько раз производил такие операции… В смысле — прерывал беременность… Это позволено во врачебной практике только в тех случаях, когда жизнь матери находится под угрозой или когда беременность протекает ненормально. Кстати, ваш случай подпадает под это разрешение. Я имею в виду ваш возраст и связанное с этим состояние организма. Так вот, все прошло для моих пациенток без опасных последствий. Главное — не задерживаться с решением.
— А что, есть опасность для моей жизни? — спросила Скарлетт.
— Я бы сказал так — она возможна. Хотя…
— Что?
— Я уверен, что вы выносите и родите замечательного ребенка. У вас на удивление здоровый организм. Речь идет о том, что от вашего решения будет зависеть все. Если вы скажете, что хотите избавиться от плода, значит, ваша жизнь в опасности. Если решите рожать — никакой опасности нет.
— Понятно, — сказала Скарлетт. Она не могла сейчас ни о чем говорить. Ей надо было еще раз все обдумать спокойно, если это возможно в ее положении.
Теперь, когда все сомнения были развеяны, Скарлетт даже как будто успокоилась. Все стало на свои места. И теперь окончательное решение зависело от нее.
«Самый главный вопрос, — рассуждала она, — говорить ли об этом Тиму? Как он воспримет новость, не так уж и важно. Скорее всего он обрадуется. Важнее то, что теперь и он будет считать себя вправе принимать решение. Тим наверняка будет настаивать на родах. Я, конечно, объясню ему все опасности, но все равно решение уже будем принимать мы вдвоем. Хочу ли я этого? Хочу ли я перекладывать ответственность на него? Да, все упирается в то, чего я, собственно, сама хочу. Могу ли я рожать? Хочу ли я рожать? Нет, главное не Тим, а я сама».
Скарлетт обдумывала ситуацию и так и этак, но никакого решения принять не могла.
Когда Билтмор позвонил и сообщил, что чрез три дня приезжает, она не посмела сказать ему о том, что беременна. Она не знала, посмеет ли вообще сказать ему об этом.
Ночи теперь превратились для нее в сущую пытку. Если днем она еще хоть как-то могла отвлечься, занимаясь хозяйством, принимая гостей, просматривая счета, то ночью заботы наваливались на нее с неотвратимой силой и не давали сомкнуть глаз до утра.
«Я не подумала еще и о детях. Джон и Уэйд и так не очень благожелательно относятся к Тиму и моему замужеству. Что будет, если они узнают теперь об этой новости? Они, конечно, добрые и хорошие ребята, они не станут уговаривать меня делать аборт, но они еще больше отдалятся от меня. А роднее их у меня нет никого на свете».
Скарлетт смотрела в темный потолок с тенями раскачивающихся за окном голых веток вяза. Эти ветки напоминали ей сплетение множества хищных страшных рук, которые тянутся к ней, хотят дотронуться до нее своими холодными колючими пальцами. Они словно собрались задушить ее…
Вдруг неведомо откуда взявшееся теплое чувство, как трепетный огонек свечи, стало вырастать в ней.
«Боже правый! Ведь внутри меня живет маленький комочек новой жизни! Будущий человек! Мой ребенок! Он будет лежать у меня на руках, пить мое молоко, он будет смотреть на меня своими глазенками… Как же я не подумала об этом? Как же я могла решать, жить ему или умереть? Как я буду смотреть в его глаза, если хочу сейчас оборвать эту тонкую нить жизни только потому, что, видите ли, я уже не в том возрасте, да что подумают другие, да что скажут дети! Нет, я положительно сошла с ума! Мои мысли были о чем угодно, только не о нем. Это он, он, а не мои взрослые сыновья сейчас самое близкое мне существо. И я хочу, чтобы он был! Да, мне страшно его рожать. Но я хочу этого ребенка! Бог дарит мне такое счастье, и я с благодарностью принимаю его. А мои страшные мысли… Прости меня, маленький мой. Легко ли тебе начинать жизнь и чувствовать, что тебя, невинного, уже ненавидят? Прости меня, прости меня, окаянную… Ты будешь жить. Ты родишься здоровым и счастливым. Я все оставшиеся годы буду искупать перед тобой свою вину за эти безумные дни! Да теперь никто не отнимет тебя у меня. Никто!»
Скарлетт лежала в темноте, и светлые слезы катились из ее глаз.
Огонек маленькой свечи вырос в ровное и постоянное горение. Это было пламя великого чувства, название которому — материнство.
На следующий же день Джон решил ехать к матери. Во-первых, он так по ней соскучился, о стольком ему надо было ей рассказать! Он хотел повидать Уэйда, его жену, их детей, проехаться верхом по звенящей земле, посидеть в библиотеке отца, подумать. Но была у него еще одна цель. Джон хотел раз и навсегда разрешить все загадки, заданные ему Найтом. Для этого надо было увидеть Билтмора. Джон надеялся встретить отчима там.
Он начал уже готовиться к отъезду, когда вдруг зазвонил телефон и старик Джон, запинаясь и поминутно прося прощения, умолял о встрече.
— Мне не о чем с тобой говорить, Джон. Ты сам знаешь, я никогда тебя не прощу.
— Я знаю, знаю… Извини, но дело не во мне… это… Надо увидеться… Извини, пожалуйста, но я тебя очень прошу.
— Хорошо, приезжай сейчас. Только не надейся, что я переменю свою точку зрения.
Джон положил трубку и сам себя выругал. Почему он так безапелляционно говорил со стариком? Ведь ясно же, старик мучается, он сам уже не рад, что тогда отказал Джону.
«Ну и пусть помучается, — злорадно подумал Джон. — Люди должны отвечать за свои поступки. Впрочем, послушаем, что он нам скажет».
Пока Джон еще не приехал, надо было позвонить Найту. Сегодня утром, проспавшись после вчерашнего сумасшедшего опьянения, Джон кое-что вспомнил и собирался поговорить об этом.
В редакции между тем сказали, что Найт уехал и будет только к трем. Голос, который отвечал, показался Джону знакомым.
— Кам? Это ты? — спросил Джон.
— Да, мистер Бат, это я, — ответил Цезарь.
— Ты теперь сидишь на телефоне? Пошел на повышение?
— Нет, сэр, я по-прежнему работаю с Найтом.
— А почему же ты не с ним?
— Он не взял меня, сэр. Сказал, что справится без меня.
— Как твои дела, Кам?
— Отлично, сэр. Найт учит меня писать короткие сообщения.
— О! Смотри, Найт сделает из тебя настоящего репортера.
— Я не собираюсь быть репортером, сэр. Это чертова работа, доложу я вам.
— Тебе она не нравится?
— А что тут может нравиться, сэр? Разве вы не помните наши похождения на Аляске? Ну и натерпелся же я страху. Вам же обязательно лезть на рожон. А я потом выручай вас из беды!
Джон засмеялся. Да, Цезарь оставался все тем же маленьким философом и скептиком.
— А кем же ты хочешь быть, Кам?
— Редактором, сэр. Сиди себя и отбирай лучшее из того мусора, что понатащили репортеры. Старик Хьюго, небось, не поехал сам на Аляску. Он потом только чиркал ваши статьи.
— Да, но Хьюго начинал репортером на Западе. А там в автора непонравившейся статьи стреляли из пистолета.
— Вы все лжете, сэр. Кто это станет палить из-за какого-то клочка бумаги?! Ничего подобного мне Хьюго не рассказывал.
— Он бережет твои нервы, мальчик. Он знает, что ты все равно никогда не станешь газетчиком.
— Почему это?
— Потому что боишься.
Старик приехал через полчаса. Он побоялся протянуть Джону руку, мял свою велюровую шляпу самого престижного фасона и переминался с ноги на ногу.
— Ну ладно, проходи, — сказал Джон. — Зачем пожаловал?
— Ты все еще обижаешься на меня, парень?
— Нет, я за последнее время воспылал к тебе невероятной любовью.
— Хорошо, прости, не будем об этом. Просто мы по-прежнему компаньоны, и я должен тебе сообщить о наших делах.
— Ты же знаешь, я не очень-то интересуюсь бухгалтерией.
— Нет-нет, никаких цифр. Я о другом. Дела наши идут прекрасно. Я купил еще одну фабрику, в Сан-Франциско. Не было возможности с тобой посоветоваться. Ты как раз уехал из Европы…
— Ну, дальше.
— Я присяду, если ты не против?
— Садись. Правда, у меня не очень много времени.
Старик снял пальто и сел на краешек кресла.
— Хороший у тебя дом, — сказал он, оглядевшись.
— Ты что, видишь его в первый раз?
— Нет, но как-то не было случая сказать тебе об этом.
— Хорошо, сказал. Дальше, — поторопил старика Джон.
— Можно мне закурить сигару?
— Я не держу сигар.
— Что ты, у меня свои. Гаванские, угощайся.
Старик раскрыл портсигар и протянул Джону.
— Нет, спасибо.
— А я пристрастился. Хорошая штука, если в меру. Пахнет солнцем и морем. Думаешь, это легко?
— Курить сигары? — не понял Джон.
— Вести дела. Ты думаешь, это легко?
— Я не знаю.
— Это очень трудно, Джон. Это невозможно трудно. Во-первых, надо все время держать нос по ветру. Чуть зазевался — и твой товар никому не нужен. Ты вылетаешь в трубу, и за тобой гоняются кредиторы.
— Ты что, набрал кредитов?
— А как же! Я же купил фабрику. Но это не самое страшное. Надо иметь дело с тысячами людей. Знаешь, Джон, эти нынешние рабочие стали совсем другими. Мы были проще. Мы радовались любому центу, который звенел в кармане. Эти хотят все больше и больше. Он научились считать, Джон. Они знают все: сколько дохода у фирмы, сколько я плачу налоги, сколько идет на закупку сырья… Все. И они посчитали, что я плачу им мало.
— Ты платишь им мало?
— Я плачу им, как все. Даже больше. Но они считают, что я плачу им мало. Знаешь, теперь пошло это течение — профессиональные ассоциации. Большая сила. Чуть что — забастовка. Когда я начинал, они были как шелковые. Теперь приходит ко мне тот самый парень, помнишь, из Огайо, которого я по твоему приказу взял грузчиком, так вот он приходит и говорит — требуем повышения зарплаты, страхования, строительства дома для детей. Понимаешь, страхования они хотят!
— Да, тот парень мне сразу понравился, — улыбнулся Джон.
— Подожди, ты на чьей стороне, парень? — удивился старик.
— Я на своей стороне. Продолжай.
— Но и это еще не все. Теперь женщины требуют, чтобы я платил им наравне с мужчинами. Слышишь, Джон, где это видано?! И знаешь, чем больше я им плачу, тем хуже они работают.
— Мрак! Если все обстоит так плохо, почему бы тебе не бросить все? Денег теперь у тебя хватит на всю жизнь тебе и твоим детям. Хотя, прости, у тебя нет детей.
— Ты все шутишь. А мне не до смеха. Теперь еще повадились эти из благотворительных организаций. Помнишь, я тебе говорил про сиротский приют. Знаешь, сколько приютов я уже озолотил? Четыре! А они все идут и требуют. Не просят, Джон, а требуют.
— Я надеюсь, ты им не отказываешь? Кстати, мои средства полностью в твоем распоряжении.
— А ты думаешь, я выкрутился бы, если бы не пользовался ими? Только ты не волнуйся, у тебя на счету еще ого-го! В два раза больше прежнего.
— Да забери хоть все.
— Опять шутит! — развел руками Джон. — Но я что-то все о мелочах. Самое страшное, Джон, не рабочие, не налоги и не финансовый риск. Самое страшное, — старик понизил голос, — рэкет.
— Рэкет?
— Э-э! Ты отстал от жизни. Любой человек в Америке теперь знает это слово.
— И что оно значит?
— Робин Гуда знаешь?
— Благородный разбойник?
— Не знаю, как там насчет благородства, но разбойники они страшные. Джон, они обдирают меня до нитки. Они скоро пустят меня по миру с протянутой рукой.
— Ничего не понимаю. Ты что, носишь все деньги с собой?
— С собой я ношу двести долларов в мелких купюрах.
— Так как же они тебя грабят?
— Я сам отдаю им столько, сколько они попросят.
— Ничего не понимаю. А зачем ты им даешь?
— Они очень просят. Они так настойчиво просят, Джон, что нельзя не дать. Вдруг загорается склад готовой продукции. Или ломаются сразу все станки. Они умеют очень убедительно просить, Джон.
— Так они обыкновенные вымогатели. А ты говоришь — рэкет! Пойди в полицию.
— Да-да, с полицией они дружат крепко. Часто ко мне приходит именно полицейский.
— А ты не пробовал достать винчестер и всадить в кого-нибудь из этих Робин Гудов хороший заряд дроби?
— И пробовать не стану. Каждая дробинка обернется смертью для многих людей, которые работают у меня. Первая достанется мне.
— Ты говоришь опять страшные вещи, старик. Не может быть, чтобы на них не было управы.
— Вот за этим я пришел.
— Ты меня спутал с кем-то. Я не знаю ни одного вымогателя. Я знаю одного предателя, но он и сам себе не может помочь.
— Ты говоришь обо мне? Еще не забыл?..
— И никогда не забуду, старик.
— А знаешь, почему я тебе тогда отказал?
— Потому что ты трус.
— Правильно. Я трус. Я до смерти боюсь смерти, извини за каламбур. Я боюсь, что назавтра мои фабрики просто взлетят на воздух вместе с людьми. Я боюсь, в конце концов, что тебя «случайно» собьет автомобиль.
— И все из-за паршивого Янга? Из-за этого ублюдка?
— Из-за него тоже, Джон.
— Но с чего ты взял?
— Не с потолка. Думаешь, ты один такой умный? Пойди в полицию! Я тоже не дурак, Джон. Я нанял армию детективов. И они мне кое-что разузнали.
— Что Янг связан с вымогателями? Никогда не поверю. Это слишком опасно.
— Разве? Для него это не опасно, потому что это не главное дело его жизни. Так, мелочь, побочный промысел. Если для него это опасно, почему же никто его до сих пор не посадил? Да это даже и не такой уж большой секрет. Янг делает эти дела и не особенно скрывается. А ты хочешь, чтобы я пошел в полицию, которую он купил или запугал, и сказал им — эй, ребята, хватайте вашего благодетеля! Вам за это будет почет! Ты этого хочешь, наивный человек?!
— Если бы мы с тобой заявили на Янга в полицию, никто бы не посмел его защищать. Понимаешь, он стал бы опасен и не нужен, как яичная скорлупа. Не нашлось бы ни одного даже самого продажного полицейского, который сказал бы — пошли вон, я не посажу преступника.
— Конечно, потому что мы с тобой не успели бы дойти до полицейского участка.
— Ерунда! Я гуляю по городу, и никто меня не трогает. Давай, Джон, просто попробуем!
— Он снова шутки шутит! Я не стану этого делать, парень. Во всяком случае, не сейчас. Я знаю, Янг когда-нибудь сам попадется. Он налетит на свой же собственный капкан. И тот отрубит его белокурую башку! Но я не охотник, Джон.
— Это я понял. Боюсь, что ты даже не мужчина.
— Пускай! Зато я жив и, слава Богу, здоров.
— Хорошо. Так чего тебе надо от меня?
— Защиты.
— От Янга? Хочешь, чтобы я его вызвал на дуэль и пристрелил?
— Не от Янга. Вернее, не только от него. От рэкета. Ты можешь это, Джон.
Джон уставился на старика, словно тот вдруг проглотил свою собственную шляпу.
— Подожди, дай я попробую угадать ход твоих мыслей, — сказал он наконец. — Газета? Нет. Не то. Как сказал один мальчуган, кто станет палить из-за клочка бумаги? Да и с этим ты мог обратиться к Найту. Он специалист по уголовным репортажам. Янга убивать ты мне не предлагаешь. Хотя, может быть, я бы согласился. Нет, сдаюсь, мне больше ничего не приходит в голову.
Старик снова оглядел комнату, в которой они сидели.
— Что собираешься делать? — вдруг спросил он.
— Вообще или сейчас?
— Да, — неопределенно ответил старик.
— Вообще не знаю. А сейчас собираюсь уезжать к матери…
Старик вскинул на Джона глаза.
— Убирайся во-он!!! — заорал Джон, вскакивая и хватая старика за лацканы. — Ты самый мерзкий негодяй, которого я только встречал в жизни!!! Вон отсюда, мразь!!! Убирайся!!! Я больше не хочу видеть тебя!!!
— Я ничего… Что я такого?..
— Во-о-он!!!
Джон проволок старика до двери и вытолкнул на улицу, потом вернулся в комнату, схватил пальто, шляпу и трость и вышвырнул все это следом.
— Я ничего такого не хотел сказать… — пролепетал старик.
Но Джон уже не слушал его. Он захлопнул дверь.
Нет, сейчас он должен отдышаться и прийти в себя. Это просто надо выбросить из головы. Это надо забыть, как дурной сон. Больше он никогда не будет иметь дел с этим… С этим…
Джон не мог успокоиться. Он метался по комнате, отшвыривая со своего пути кресла, столики и стулья…
Зачем он только стал слушать? Ведь он же с самого начала чувствовал, что старик пришел не с добром. Надо было вообще не встречаться с ним. Надо было вышвырнуть его раньше. Теперь он чувствовал себя так, словно выкупался в выгребной яме.
«За все надо платить?! Ничего не достается даром? Он решил и меня использовать для своих платежей? Они все здесь посходили с ума! Это какая-то ненастоящая жизнь! Это какой-то сплошной кошмар! Ничего святого ни у кого! Старик сидит и спокойно рассказывает, как он подкупает полицию, Найт что-то плетет о власти. И никто ничего не делает. Все только жалуются. Ах, какая несчастная страна! Да пусть она погибнет к черту, если в ней всем наплевать на самих себя!»
Благородному гневу Джона не было предела. Это обычная защитная реакция — искать виновного на стороне. Человеку так трудно сказать — я сам во всем виноват. Он будет обвинять жену, соседей, начальника, правительство, всю нацию, но только не самого себя.
Конечно, Джону пока не в чем было себя упрекнуть. И его раздражение имело несколько иную причину. Старик действительно ничего не сказал. Но и одного его взгляда было достаточно.
Джон понял, что старик имел в виду Билтмора.
Во-первых, Джон ни секунды не сомневался — Билтмор здесь ни при чем. Да, этот человек может не нравиться, да, и сам Джон не пылал к нему любовью, да, он считал, что мать совершила ошибку. Но ошибка ее была только в том, что она оставалась живым человеком, не собиралась себя хоронить, как этого, наверное, хотелось бы Джону. Мать, что самое главное, никогда не ошибалась в людях, это точно. Это в самом деле так. Поэтому старик оскорбил не Билтмора, он оскорбил мать Джона. Как он себе это представлял? Джон будет с кем бы то ни было сговариваться, заискивающе глядя в глаза, чтобы его компаньона не трогали лихие парни Робин Гуды? А мать? Даже если Билтмор действительно замешан в эти грязные дела, что, мать будет тоже принимать участие в этом сговоре? Нет, жаль, что он не надавал старику хороших оплеух. Старик заслужил добрую взбучку.
«Но опять Билтмор, — немного успокоившись, подумал Джон. — Два человека называют одно имя по разным, правда, поводам, но по поводам одинаково безобразным. У них на руках какие-то сведения, какие-то аргументы. А что у меня? Интуиция? Святая вера в то, что мать не ошибается людях? Чувство вины перед Билтмором? Что, этого достаточно, чтобы не верить ни старику, ни Найту? Ведь они рисуют жутковатые, но вполне стройные картины. И Билтмор вписывается в них вполне органично. А я ставлю против их логики только чувство?»
Джон остановился у окна.
Холодный дождь поливал улицы, прохожих, экипажи и автомобили. Любой город под дождем выглядит мрачно. Нью-Йорк в этом смысле не исключение. Только в нем любое событие и явление природы усугубляется до крайности. Под дождем Нью-Йорк выглядит просто одной огромной могилой.
«Да, у меня нет других аргументов. Только мои чувства. Только вера в то, что пока человек не осужден, он не виновен. Не я ли так красочно описывал простым парням в Лате, что такое презумпция невиновности? Неужели только потому, что тогда речь шла о моей собственной шкуре? Билтмор не виновен до тех пор, пока не будет доказано обратное. Тем более что у меня на этот счет есть и кое-что еще, кроме моих чувств».
Джон снова стал собирать вещи, которые должен был взять с собой в дорогу. Завтра утром он отправится на вокзал и сядет в поезд. Он ничего не будет сообщать матери. Пусть для нее это будет неожиданностью. Джон был уверен, что приятной неожиданностью. А потом он с Билтмором поднимется в кабинет отца и задаст все вопросы. Он действительно сразу поймет, виноват Билтмор хоть в чем-нибудь или чист. Если чист, Джон попросит у него прощения, постарается загладить свою вину и перед Билтмором, и перед матерью.
«А если не чист? — спросил сам себя Джон. Ответ был прост и страшен: — Тогда я убью его».
Бо нашел пьесу.
Потом он не раз удивлялся, как эта мысль не пришла ему в голову раньше. Что за бессмысленные поиски устроил он, когда надо было догадаться сразу же? Восточная мудрость гласит, что трудно найти в темной комнате кошку, тем более если ее там нет. Но Бо как раз искал без системы, без мысли, без какого-нибудь порядка. И нашел именно так.
Об авторе он что-то слышал краем уха, кажется, даже что-то восхищенное, но по вечной своей привычке не верить оценкам других решил, что это очередной дутый пузырь, о котором никто не вспомнит уже через месяц. И пьесу он взял так, как брал и остальные, только потому, что это была пьеса.
Первые две странички он прочитал без особого интереса и, отбросив брошюрку, взялся за какой-то роман. И вдруг понял, что хочет посмотреть, что там было дальше в этой пьесе.
Он вытащил ее из груды уже отбракованных книг и решил посмотреть еще странички две-три. Уж этого ему будет достаточно.
И прочитал пьесу от начала до конца, не отрываясь. Нет, это не было такое уж динамичное, наполненное событиями действие. Более того, герои говорили пространно, подолгу сидели на одном месте, почти ничего не происходило. Это были обыкновенные люди, они не совершали героических поступков, они были вялыми и скучными. Но они все были — людьми! И Бо ловил себя на ощущении, что и он точно так же сказал бы на месте того или другого героя, точно так же поступил бы. Бо даже знал, как будут развиваться небогатые внешне события, и они действительно так развивались, но не потому, что автор писал нечто штампованное, а потому, что его рукой водила не выдуманная, а настоящая жизнь с ее логикой.
Пьеса называлась очень странно и совершенно не кассово. На это название скорее клюнули бы орнитологи, чем простые зрители. Но Бо название пришлось по душе.
И, конечно, самое главное, эта пьеса ответила ему на миллионы вопросов о тех событиях, которые происходили в Швейцарии, которые происходят с ним сейчас, которые происходили с ним всю жизнь. Она ответила на миллионы вопросов, а поставила вопросов бесконечное множество.
До самого возвращения Уитни Бо не мог успокоиться. Он должен был сейчас же, сию минуту поделиться радостным, почти что детским своим открытием. Он хотел прочитать жене сразу всю пьесу. Или хотя бы особо понравившиеся места… Нет, лучше всю пьесу. И завтра — за работу.
Уитни поехала к отцу. Скоро должен был начаться судебный процесс, адвокат просил отца Уитни выступить в качестве свидетеля. Уитни должна была обо всем договориться.
Бо не находил себе места. Его совсем не останавливало то, что герои пьесы белые, а большая часть труппы — черные актеры. Это не имело никакого значения. Это вообще не имеет значения. Эту пьесу могли играть все — индейцы, пигмеи, негры, эскимосы, потому что она была про людей.
Конечно, Бо мог позвонить к отцу Уитни и рассказать жене о своей счастливой находке, но он не хотел смазывать впечатления. Они будут говорить с женой, глядя друг другу в глаза, говорить до утра, говорить все время. Ведь Бо не просто нашел пьесу — он знает теперь, что будет в театре.
Налоговая инспекция продолжала перетряхивать все бумажные вороха, не находя, правда, ничего для себя интересного. Бо казалось, что эти канцелярские крысы пошли уже по четвертому кругу. Некоторые счета он уже знал наизусть, но клерки снова и снова приходили к нему за разъяснениями.
Его злость по этому поводу, достигнув высшей точки, грозила перерасти в крупный скандал или даже преступление. Как-то Бо завелся так, что начал кричать на клерка своим громким, хорошо поставленным голосом. Он заводился все больше и больше, видя, что клерк гаденько улыбается, уже готов был действительно схватить графин и расколотить его о голову человека в сатиновых нарукавниках, когда в кабинет вдруг вбежала Уитни.
— Бо, срочно пойдем со мной! — сказала она.
Бо словно налетел на бетонную стену. Уитни была чем-то взволнована не на шутку.
Он выбежал за ней в коридор, готовясь к самым неприятным известиям.
Она остановилась только на темной сцене.
— Они добились своего, — сказала она. — Они почти добились своего!
— Кто?! Что случилось?! — испугался Бо, решив, что что-то произошло с детьми Уитни.
— Скажи, если бы я сейчас не вошла в кабинет, ты стукнул бы инспектора по голове пепельницей?
— Графином, — сказал Бо, не сразу входя в резкий поворот разговора.
— Вот этого они и добиваются, — сказала Уитни. — Думаешь, они ищут что-то в наших бумагах? Они еще месяц назад поняли, что в бумагах ничего нет. Они ищут другого. Им надо, чтобы ты, или Чак, или кто-то другой только один раз сорвался по-настоящему. Все. Их дело будет блестяще выполнено. Во, они ищут возможности закрыть театр. Любыми средствами. А ты сегодня хотел им в этом помочь. Слава Богу, что я услыхала твой грозный голос. Слава Богу, что я успела тебя остановить. Приди в себя, Бо. У нас нет другого пути, кроме одного — облизывать этих пропахших чернилами пареньков. Вам справочку? Пожалуйста? Другую? Будьте любезны. Почему эта буковка нечеткая? Ах, как мы виноваты перед Америкой! Мы больше так не будем! Простите нас!
— Это противно! — сказал Бо.
— Перестань. Ты же актер. Этих пареньков просто надо переиграть. Ведь не они профессионалы, а ты. Надо, чтобы у них сдали нервы, понимаешь? И они уйдут. Они будут придумывать что-то еще, но у нас будет время. Мы должны оставить их с носом.
И Бо понял, что Уитни права.
Он тут же вернулся в кабинет и попросил прощения у клерка, чем вызвал его крайнее изумление.
С этого дня Бо находил в общении с инспекторами даже своеобразное удовольствие. Он действовал почти так, как показала Уитни. Он был предупредителен и даже заискивающ. Он был терпелив и любезен. И результаты стали появляться немедленно. Теперь уже злились инспектора. Они раздражались, капризничали, хамили. Но Бо делал вид, что ему даже приятно общение с ними.
Постепенно они перестали лезть к нему со своими дурацкими вопросами, хотя еще и не ушли из театра. Но Бо чувствовал, что скоро эта пытка кончится.
Уитни приехала домой под вечер. Уставшая, грустная, с поселившейся теперь в ее глазах какой-то безысходностью.
— Ну, как поживает отец? — спросил Бо.
— У него все в порядке. Здоров, бодр. — Уитни говорила неохотно.
— Как вы побеседовали?
— Хорошо.
— Он согласился быть свидетелем?
— Нет.
Бо, который хотел побыстрее закончить с сообщениями о визите к отцу и поэтому задавал дежурные вопросы, вдруг услышал совершенно неожиданный ответ, который не сразу дошел до его сознания.
— Что?
— Отец не хочет давать показания, — устало повторила Уитни.
— Как это? Он не хочет, чтобы тебе вернули детей?
— Он не хочет, чтобы я была твоей женой. Он хочет, Бо, чтобы я вернулась к Солу.
— И чем же я ему так не мил?
— Да всем. Он уверен, что ты недобрый человек. Нечестный… Развратный… Что, ты хочешь, чтобы я перечисляла все эпитеты, которыми он наградил тебя?
— А с чего это он вдруг меня так возненавидел? Когда мы с ним виделись в последний раз…
— Единственный, заметь, — вставила Уитни.
— Да, мы виделись один раз. Мы прекрасно с ним побеседовали. Из чего он заключил, что я такой плохой?
— Вот из этого раза и заключил.
— Но он видел меня всего каких-то два часа. Он что, распознает людей так быстро?
— Еще быстрее, чем тебе кажется. Белый человек — черная душа, черный человек — белая душа. Вот и вся его премудрость.
— Так ему не нравится, что я белый?
— Да, Бо.
— Подожди. Это какая-то ерунда! В твоем роду ведь тоже были белые…
— Именно поэтому они ему не нравятся. Вся семья до сих пор скрипит зубами, когда вспоминает моего деда.
— И этого достаточно, чтобы ненавидеть всех белых?
— Им этого достаточно. Но разве ты не можешь назвать другие причины для ненависти?
— Так. Понятно. Я белый, поэтому тебя надо лишить детей. Да?
— Нет, меня надо лишить тебя, — поправила Уитни.
— Неужели они всерьез думают, что это возможно? Неужели они думают, что ты поддашься?
Уитни молчала. Она налила себе кофе и молча маленькими глоточками пила его из большой кружки.
— Почему ты молчишь? — спросил Бо.
— Я очень устала.
— Ты не ответила на мой вопрос.
— Какой?
— Ты можешь поддаться?
— Не знаю, Бо. Я правда очень устала.
— Это не ответ! Я задаю простой вопрос. И хочу слышать такой же ответ.
— Нет ответа, — сказала Уитни.
Бо пристукнул ладонями по столу:
— Так! Это тоже ответ! Прекрасно! В таком случае тебе нечего волноваться по поводу исхода суда. Можешь сейчас же и вернуться к Солу. Я даже могу отвезти тебя и передать из рук в руки. Собирайся.
Уитни молчала. Потом она поставила чашку и поднялась.
Бо не стал больше ждать. Он вышел в переднюю и надел пальто.
— Я жду тебя внизу, — сказал он.
Уитни вышла почти следом за ним. Так же молча села в автомобиль и закрыла дверцу.
Бо тронул машину.
До дома Сола ехать было недалеко, но в это время на улицах был так много авто и конных экипажей, что машина Бо то и дело останавливалась.
У него с Уитни было время хоть что-то сказать друг другу. Но они не произнесли ни слова.
— Твои вещи я пришлю завтра, — сказал Бо.
— Спасибо, — сказала Уитни.
— Прощай.
— Прощай.
Бо развернул машину и поехал домой.
Никаких мыслей не было. Только ноющая боль в груди. Только боль и пустота. Он сейчас войдет в свою квартиру, снимет пальто и останется навсегда один.
Бо вошел в квартиру, снял пальто и… увидел пьесу, которую читал утром. Она лежала на самом видном месте, там, где оставил ее Бо, когда вернулась Уитни.
Первым его желанием было схватить брошюрку и зашвырнуть в самый дальний угол.
Но, прикоснувшись пальцами к шершавой, серенькой обложке, Бо как будто почувствовал тепло. Это было удивительно, фантастично, невозможно, но от пьесы исходило вполне осязаемое тепло и покой.
И Бо раскрыл ее и снова начал читать.
«— Отчего вы всегда ходите в черном?
— Это траур по моей жизни. Я несчастна.
— Отчего? Не понимаю… Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня за эмеритуру, а все же я не ношу траура.
— Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.
— Это в теории, а на практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованье всего 23 рубля.
Вот тут и вертись.
— Скоро начнется спектакль…»
Это была «Чайка» русского писателя Чехова.
От станции Джон решил пойти пешком. Не потому, что его замучили ностальгические воспоминания и он хотел насытиться видом родных мест. Поля и перелески, дороги и плантации были сейчас вовсе не пригодны для такого занятия. Зима даже в этих краях делает свое мертвое дело. Низкое небо серыми тучами давит на пожелтевшую землю, ветер пронизывает холодом, шуршит высохшими травами.
Нет, у Джона была совсем другая причина. Он боялся появляться в доме матери. Это был какой-то неосознанный страх. Страх перед тем, что он мог там увидеть. Поэтому и оттягивал встречу.
Вспомни, читатель, как радостное ожидание встречи с добрыми друзьями, или с любимым человеком, или даже с родными местами бывает вдруг омрачено каким-то неясным, тянущим предчувствием беды. Ничего, казалось бы, ее не предвещает, по логике вещей ее не может быть, не должно. Начинаешь все приписывать собственной мнительности, даже посмеиваться над собой, но предчувствие отступает только на миг, чтобы снова вернуться желанием бросить все и никуда не идти, не ехать, ни с кем не встречаться. Но ты все-таки едешь, идешь и встречаешься, и тут оказывается чаще всего, что предчувствие тебя не обмануло, тебя обманула логика.
Джон тоже высмеивал свою собственную мнительность, перебирал в голове возможные неприятности, не находил ничего неисправимого, успокаивал себя этим, но тоска не отступала.
Да, он предполагал, что будут неприятные разговоры, выяснение отношений, что будет, возможно, даже крупный скандал, что может произойти и что-то посерьезнее, пострашнее, но предчувствие говорило о каких-то других опасностях, которых Джон не мог угадать.
С ним был только дорожный баул, который он, войдя в орешник и выломав палку, повесил на нее и устроил на плече. Не потому что баул был так уж тяжел, а просто ему нравилось уподобиться старинному путнику, в этом была какая-то игра, тоже отвлекающая от тревоги.
Он возвращался как раз той дорогой, которой когда-то убегал из дома. Теперь это бегство казалось ему далеким и немного смешным приключением. Детским, наивным, несколько экзальтированным. Сегодня он поступил бы совершенно иначе.
Впрочем, Джон сегодня многое сделал бы иначе, чем вчера. Все. Уже буквально на следующий день он смеялся и даже злился на себя вчерашнего, а на следующий день — то же самое. Если кто-то утверждает, что человек полностью становится самим собой уже к восьми годам, то к Джону это относилось в самой малой степени. Джон менялся каждый день, стремительно и безостановочно, его характер, его убеждения, взгляды уже через неделю были неузнаваемыми.
У Джона не было привычек.
Как ни оттягивал он час возвращения, а брести бесконечно по зимним полям было невозможно, и Джон наконец ступил на порог родного дома.
И как только открыл дверь, все тревоги и предчувствия куда-то улетели, словно и не селились никогда в его душе.
В доме слышался гул многих голосов, смех, кто-то играл на рояле, слуги проносились по коридорам с подносами, множество верхней одежды висело на вешалке…
— Джон?! — остановилась черная служанка, чуть не выронив супник, дымящийся вкусным паром. — Боже мой! Вот радость-то! Миссис Скарлетт! Хозяйка! — закричала она.
Из столовой показалось сразу несколько лиц, на которых удивление и тревога моментально сменились радостью. К Джону бросились, стали обнимать, целовать, хлопать по спине, выкрикивать слова приветствия.
— Вырос! Возмужал! Окреп! — громко приговаривал Уэйд, сжимая брата в железных объятиях.
Мать с трудом пробилась через эту толпу знакомых и друзей, обняла Джона и сказала:
— Ну вот ты и дома. Это хорошо. Теперь наш праздник переменит повод. Мы празднуем возвращение моего сына! — обернулась она к гостям.
Джон невольно искал глазами в толпе, окружившей его, Билтмора, но того не было.
— Мама, ты прости, что я не сообщил…
— Какая ерунда! Ну-ка, быстро мыть руки и за стол! Бегом, сынок, мы ждем тебя.
С Джона мигом сняли пальто, забрали у него баул и даже палку бережливо поставили в угол.
«Что с ней случилось? — радостно думал Джон о матери. — Я не видел ее такой веселой с тех пор, как не стало отца. А такой молодой я ее не видел вообще!» Джона неприятно кольнула ревность к Билтмору, ведь ничем другим, кроме замужества, Джон не мог объяснить столь разительную перемену в матери.
— А что вы праздновали сегодня? — спросил Джон.
Какое-то неловкое молчание было ответом.
Первой нашлась мать.
— Ты в дороге перепутал дни, сынок. Мой день рождения не завтра, а сегодня.
Джон покраснел до корней волос. Ни про завтра, ни про сегодня он и думать не думал. Он вообще забыл, что у матери день рождения. И она это поняла. И она его простила и даже выручила.
— Мамочка, дорогая моя! — Джон обнял ее. — Ну, конечно. Дай я тебя поцелую. Нет-нет, мы не будем менять повода. Мы выпьем за мою мать, Скарлетт О’Хара, за женщину, которая дала нам жизнь и все в этой жизни.
От чувства стыда Джон говорил неловкие слова, какие-то вымученные, но никто этого, слава Богу, не заметил.
Расспросы и воспоминания начались сразу же. Джон и представить себе не мог, что у каждого сидящего за столом осталась о нем память. Эти люди, оказывается, следили за его жизнью в Нью-Йорке, читали его статьи, даже многие ездили в Атланту, чтобы посмотреть его фильм. А он, честно говоря, о многих из них попросту забыл. Да, это будет ему хорошим уроком.
Джон не решался спросить, но Скарлетт, словно угадав его мысли, сказала:
— Тим не успел. Он приедет только через два дня.
— А где Дост? — спросил Джон про адвоката, всегдашнего гостя на таких торжествах.
— Дост в Вашингтоне. Тим взял его с собой. Кажется, у Доста теперь будет головокружительная карьера.
— Я слышал, у вас прибавление семейства, — сказал Джон Уэйду. — Как назвали девочку?
— Кэрри, — ответила Сара, смутившись.
— Красивое имя, — сказал Джон.
— Мы хотели назвать Скарлетт, но мать — ни в какую! — засмеялся Уэйд.
— Еще чего?! Я буду смотреть на красотку, которая во всем лучше меня и носит мое имя? Да я сойду с ума от зависти к ее молодости! — засмеялась мать.
— Ты выглядишь прекрасно, — сказал Джон. И это было чистой правдой.
— Я знаю, сынок, — улыбнулась мать. — Этому есть причина. Но только — тш-ш… Потом.
Застолье стало рассыпаться, потому что люди разбились на группки и обсуждали свои дела. Общий разговор прекратился, чему Джон был рад, ему не очень нравилось внимание к собственной персоне. Ему хотелось побыстрее сесть с матерью в кабинете и поговорить по душам.
— …Это какое-то наваждение, — говорила соседка Джона своей подруге. — Они каждое воскресенье отправляются на эти прогулки.
— Мой муж тоже ездил, — отвечала подруга. — Ли, ну-ка сам расскажи, что там было?
— …Я против строительства дорог, — говорил джентльмен, который сидел напротив Джона, нескольким слушающим его дамам. — Видел я эти автомобили. Игрушка. Они никогда не приживутся у нас.
— …Нет, я считаю, что для них надо строить отдельную школу, — убеждала своего собеседника — старого доктора молодая леди в пунцовом платье. — Для их же спокойствия.
Джон слушал обрывки этих разговоров, и покой опускался на его душу. Ничего здесь не изменилось. Те же разговоры велись и два года назад, и пять, и десять… Да, появились новые слова, но убеждения людей остались прежними. Эти убеждения менялись очень медленно, если менялись вообще. В них и была опора стабильности, здорового консерватизма, на котором зиждилась вся американская жизнь. Нет, в Гражданской войне Юг не был побежден. И Север не победил. Были какие-то бои, какие-то походы… Но разве коснулось все это жизни этих людей? Они по воскресеньям по-прежнему ходят в церковь, они устраивают милые семейные праздники, они любят своих лошадей, они отправляют детей к теткам на каникулы, они женятся и рожают, они работают тяжело и по вечерам считают свои сбережения… Да, где-то там происходит что-то, но все это так далеко, что не кажется им правдой. Ведь не верят же они романам, которые иногда читают. Нет, это придуманная жизнь. А настоящая — здесь. Когда заболела корова, когда понижается цена на хлопок, когда сгорел сарай у соседа, когда Сью сбежала с заезжим хлыщом, а потом вернулась с ребенком. Вот эти события для них важнее всех мировых катастроф. Они не смогут показать на карте Европу, Азию или, более того, Антарктиду. Они и Америку-то не найдут. Они не знают, что в Париже все поголовно говорят по-французски, а пицца пришла из Италии. Но они замечательно знают свой двор и свой дом и содержат все это в порядке и достатке. Их не волнуют импрессионистская живопись или бунты в Индии. Но они стараются украсить свою церковь и поставить громоотвод на свою крышу.
Кажется, что настоящая жизнь проходит мимо них, не касаясь своим горячим дыханием их домов и пастбищ. Но, может быть, только благодаря им люди в Нью-Йорке и Вашингтоне, в Бостоне и Сан-Франциско, во всех больших городах мира могут не думать о еде и тепле, а могут ходить в театры и на политические собрания, выпускать газеты и думать о будущем мира, писать картины и философские книги…
Джон сам удивился этим своим мыслям. Ведь совсем недавно он называл этих людей мещанами, обывателями, презирал их и бежал от них.
«Наверное, я становлюсь терпимее, — думал он. — А вот хорошо это или плохо? Совсем другой вопрос».
В тот вечер поговорить с матерью не удалось. Гости разошлись поздно, Скарлетт и Сара помогали слугам убирать со стола. Скарлетт терпеть не могла беспорядка. Джон поговорил с Уэйдом, но так, на общие темы, а потом отправился спать.
Уже когда глаза его слипались, а тело, словно вдруг потеряв вес, уплывало в теплую темноту, он вспомнил о предчувствиях, которые томили его по дороге домой. Вспомнил и улыбнулся — и предчувствия обманывают нас…
Утром, когда Джон проснулся, матери уже не было дома, она ушла по делам и за покупками.
Джон с Уэйдом запрягли лошадей и поехали кататься.
— Как идут дела, Уэйд? — спросил Джон, когда лошади сменили рысь на спокойный шаг.
— Было совсем плохо, Джон, но сейчас лучше.
И Уэйд подробно рассказал Джону о заезжем проходимце, который чуть было не посадил его в тюрьму. Рассказал и о том, как Билтмор взялся распутывать это дело и успешно справился.
— Знаешь, Джон, я относился к нему поначалу очень настороженно. Мне непонятно было, как это мать может забыть отца и приветить кого-то другого.
— Я тоже так думал, — признался Джон.
— И я думаю, Билтмор догадывался об этом. Знаешь, он не пытался умилостивить меня, не лез в друзья, не заискивал. Он вел себя во всех отношениях достойно. Но не это самое главное — посмотри, как помолодела мать.
— Да, ее просто не узнать.
— Мы-то с тобой не могли ее так осчастливить, а Билтмор смог. Поэтому я теперь отношусь к нему с огромным уважением.
— Он завтра приезжает?
— Да, и я хочу дождаться его. Он сообщил, что проходимца поймали и теперь будут судить. Мне охота узнать подробности. Ведь я этому Стенсону доверял, как самому себе…
— Как ты сказал? — остановился Джон.
— Я сказал, что доверял, как самому себе…
— Нет, фамилию… Ты назвал фамилию Стенсон?
— Да. А что, тебе она знакома?
— Еще как! Стенсоном звали и того бандита, который грабил поселки на Аляске. Слушай, когда он появился у тебя?
— Да вот в прошлом году. Весной…
— Все совпадает… Ах, как жаль, что я не видел его и даже не расспросил у Найта, как выглядит Стенсон.
— Ты думаешь, это тот самый?
— Вполне возможно. Хотя, погоди, кое-что я про него знаю. Он бывший полицейский, здоровяк, светловолосый…
— Стенсон, в общем-то, не худой, светловолосый, а вот по поводу полицейского ничего сказать не могу. Да мало ли Стенсонов в Америке?
— Да-да, конечно. Это было бы слишком. Но, чем черт не шутит, а когда дело касается Стенсона, то здесь без черта не обходится. Значит, ты говоришь, его поймали?
— Да.
В дом братья вернулись к обеду. Скарлетт уже была дома, распоряжалась, чтобы накрывали на стол.
— Теперь ты дня два не сможешь сидеть! — засмеялась она, видя, как Джон спрыгнул с лошади и схватился за поясницу.
— Да, отвык, — засмеялся Джон. Он и не думал, что городская жизнь так быстро лишит его навыков, приобретенных еще в детстве. — Я прямо как старик.
— Ну, давайте к столу, — сказала Скарлетт. — Сегодня для вас приготовили тыквенную кашу. Помните?
Как было забыть тыквенную кашу?! Это была любимая их детская еда. От целой тыквы отрезалась макушка, вынимались зерна, а туда засыпался рис с изюмом и цукатами. Запеченная в духовке, каша была удивительно хороша.
— А ты ездила за покупками? — спросил Джон и вдруг увидел, что мать смутилась от его вопроса.
— Да, так, надо было кое-что купить, — сказала Скарлетт скороговоркой.
За столом, уплетая за обе щеки кашу, Джон рассказывал о своих путешествиях, о Бьерне, об Иерусалиме, о Париже и клошарах. Рассказ его был на удивление весел. Джон и представить себе не мог, что сможет обо всех своих мытарствах рассказывать легко и смешно.
Скарлетт, Сара и Уэйд хохотали до слез, когда Джон рассказывал о кино, об аятолле, а уж Бьерн пользовался особым успехом. Его шуточки Джон пересказывал с особым удовольствием и смаком.
— А как поживает твой друг Найт? — спросила Скарлетт.
— По-прежнему. Работает, пишет, теперь вот обучает репортерскому ремеслу мальчишку. Помнишь Цезаря?
— Да. Симпатичный мальчуган.
— А вот я, мама, давно уже ничего не слышал о Кэт.
— Она пишет. Часто, в отличие от тебя и Бо. У нее семья, муж занимается торговлей недвижимостью. Словом, все хорошо.
— А к актерской профессии она не думает возвращаться?
— Нет. Говорит, что театр и семья несовместимы, во всяком случае, у нее не получается.
— Да, — сказал Джон, — наверное. Вот ведь и Бо никак не женится.
— Женился! — воскликнула Скарлетт. — Представляешь, наш Бо женился. Я-то думала, что вы оба, живя в Нью-Йорке, будете дружить и помогать друг другу. А вы даже ни разу не встретились.
— Да, с тобой мы за это время виделись чаще. Значит, он женился? Что ж, наша семья уделила этому вопросу должное внимание в этом году.
— Жаль, что тебя не было на свадьбе, — сказала Скарлетт. — Правда, все было скромно и тихо. Только родные и самые близкие. Тебя особенно мне не хватало. Ты правда не мог приехать или…
— Нет, я правда не мог приехать.
— Скажи, Джон, ты все еще обижаешься на меня за это?
— Нет, мама, это ты меня прости. Нормальный детский эгоизм. Я тогда был не прав.
— Ну вот и прекрасно. Сам увидишь, вы с Билтмором поладите.
— Надеюсь. И очень этого хочу.
— Да уж, пожалуйста, сынок.
Скарлетт на минуту замолчала, а потом торжественным и чуть взволнованным голосом сказала:
— Уэйд, Джон, Сара. Я должна вам сообщить кое-что очень важное. Вы уже взрослые и самостоятельные люди. У вас своя жизнь, свои заботы, даже свои семьи. Но мы всегда остаемся родными, самыми близкими людьми на земле. Жен выбирают сами, а мать дается Богом. Мать на всю жизнь — одна…
— Мама, такое торжественное вступление, что я уже начинаю немного волноваться, — сказал Уэйд.
— Хорошо, сынок, я буду покороче, хотя это и нелегко… Словом, через полгода у вас появится братик или сестричка.
Джон не сразу понял, о чем идет речь. Они только что говорили о Кэт, которую давно не видели, и он решил, что Кэт собирается через полгода приехать. Но потом сообразил, что мать еще упомянула брата. Бо, что ли?
— Мама, ты хочешь сказать?.. — наконец догадался он.
— Вот так ма! Вот так молодец! — закричал Уэйд. — Слышишь, Сара?!
— Мамочка, вы просто чудо! — Сара подбежала к Скарлетт и расцеловала ее.
— И как ты решилась? — спросил Уэйд. — Ты просто героиня!
— Ох, мне и самой было страшно поначалу, — смеясь от радости, сказала Скарлетт.
Джон поцеловал мать.
— Ма, ты потрясающая женщина всех времен и народов!
— Я так люблю вас, дети мои! — говорила Скарлетт. Гора свалилась с ее плеч.
На следующий день Джон и Уэйд поехали на станцию встречать Билтмора.
Он прислал накануне телеграмму, в которой сообщил, когда точно прибудет. «Встречайте нас семнадцатого декабря в три часа пополудни. Тимоти Билтмор».
— Они с Достом поместятся на нашей двуколке? — спросила Скарлетт. — Или запрячь еще одну?
— Ничего, ма, — сказал Уэйд, — в крайнем случае я пересяду к кучеру.
— Лучше я пересяду, — сказал Джон. — Ты все-таки старший брат.
По дороге братья обсудили новость, которую сообщила им мать. Оба пришли к выводу, что она смелая женщина, что она молодец, и оба в глубине души подумали, что очень хотят увидеть своего будущего брата или сестру.
До прибытия поезда оставалось еще несколько минут, и Джон прошел к товарным вагонам, где когда-то садился на поезд в Нью-Йорк.
Ковбои загоняли в вагоны коров и быков, лениво переругивались, хохотали по всякому пустячному поводу.
— Что, парень, — спросил один из них, — хочешь стать ковбоем?
— Нет, — ответил Джон, — я бы не вынес. Очень уж тяжелая работа.
— Ишь ты! Понимает! Правильно, парень, пастух он и есть пастух.
Издали показался пассажирский, и Джон, пожелав ковбоям удачи, поспешил на перрон.
Первым из вагона вышел Билтмор, за ним Дост, а потом — Джон даже опешил от неожиданности — вышла Эйприл.
— Хоть что-то у нас работает как следует, — сказал Билтмор, протягивая руку Уэйду. — Познакомьтесь, это моя дочь. Эйприл Билтмор.
— Очень приятно, Уэйд Батлер, — несколько чопорно представился Уэйд.
— С вами, Джон, я ее знакомить не стану, — улыбнулся Билтмор, пожимая Джону руку.
— Здравствуйте, Эйприл. Здравствуйте, Дост.
— Отец все волновался, что мы опоздаем и вы здесь замерзнете, — сказал Эйприл, не глядя Джону в глаза.
— Прибыли минута в минуту, — сказал Билтмор с гордостью, словно это он вел поезд.
На сиденье к кучеру теперь пришлось пересаживаться обоим братьям, потому что Дост и Билтмор привезли с собой по два здоровенных чемодана. Но кое-как разместились.
— А вот вас я не ожидал увидеть, — сказал Билтмор Джону, когда уже тронулись. — Вы когда приехали?
— Два дня назад, — ответил Джон.
— Ты знала? — спросил Билтмор у дочери.
— Нет, — сказала она.
— Но догадывалась, — улыбнулся Джон.
Эйприл промолчала.
Дост начал рассказывать о своих новых делах в Вашингтоне, все время ссылаясь при этом на Билтмора.
Джон сидел к гостям спиной и только иногда поворачивал голову, чтобы задать какой-нибудь вопрос. Спиной он чувствовал взгляд Эйприл, чувствовал какое-то напряжение, но, как ни странно, это напряжение не мучило его. Наоборот, оно наполняло Джона радостью и уверенностью.
Вскоре показался дом, и Билтмор, который почти не принимал участия в разговоре, произнес, ни к кому, собственно, не обращаясь.
— Уф, волнуюсь…
Скарлетт вышла встречать на крыльцо.
Джону было любопытно, как они поздороваются с Билтмором. Любопытно и неловко. Он никак не мог забыть, что мать когда-то встречала на крыльце отца.
Билтмор поцеловал Скарлетт руку, она чмокнула его в щеку.
— Пэри, вот неожиданность! — обрадовалась Скарлетт. — Отец даже не намекнул!
— Это вышло случайно. Я приехала за день до его отъезда…
— Ну проходите, проходите…
В доме уже готовились к обеду. Скарлетт отвела Эйприл в ее комнату, о чем-то они перешучивались с Билтмором, что-то она спрашивала у Доста…
Джону стало легче. Нет, Билтмор не заменяет отца, не утверждает себя в этом доме. Он просто рад видеть Скарлетт, он совсем не нервничает, но и не хозяйничает. Он ведет себя достойно.
И тут же Джон подумал, что не хотел бы оказаться на месте Билтмора — ты приходишь в дом с добрыми намерениями со своим интимным чувством, а на тебя смотрят каждую секунду с немым вопросом — как ты себя поведешь? что скажешь? как посмотришь?
— Вы надолго, Джон? — спросил Билтмор.
— Не знаю. Не думаю. Но немного поживу.
— Устали?
— Скорее другое — отстал. Все-таки Америка живет как-то уж очень быстро.
— Мы перед Европой дети, — сказал Билтмор. — Они уже могут позволить себе посидеть и подумать, а нам все хочется бежать и куда-то успевать. Да нам и есть куда бежать, правда?
— Наверное. Только вот куда?
— О! Вы задаете сразу же самые трудные вопросы. Читали Маркса, Ницше, Кропоткина?..
— Нет. Только слышал…
— А вы почитайте, вот люди задумались об обществе, и каждый что-то придумал. И каждый придумал абсолютно свое. Да так убедительно. Прямо вот начни — и счастье человеческое обеспечено. Все убедительны. Все, а куда бежать нам? За кем?..
— Тим, ванная готова, — сказала Скарлетт, входя в гостиную.
— Да-да, спасибо, иду. Простите, Джон, я вас покину, но мы еще поговорим об этом.
«И не только об этом, — подумал Джон. — Все-таки я задам ему все вопросы, которые хочу задать».
— Я надеялась увидеть вас здесь, — сказала Эйприл, когда после обеда они остались вдвоем в гостиной. — Но если вам неприятно, я могу завтра же уехать. Я так и сказала отцу, что побуду только денек. Мой отъезд не будет выглядеть странно.
— Нет, почему же, не надо уезжать, — сказал Джон.
— Хорошо, я не уеду.
— Я слышал, вы сейчас работаете на Кубе? Расскажите.
— Я преподаю в маленькой школе в Сантьяго. Пятьдесят шесть детишек от шести до пятнадцати лет. Просто учу их грамоте.
— Вы знаете испанский?
— Пришлось подучить. Но дети ведь не знают даже азбуки. Учителей не хватает. Врачей не хватает…
— Трудно?
— Очень. Знаете, когда ехала, был такой энтузиазм, казалось, это так романтично. Нас поехало семеро. Теперь осталось только двое. Романтика быстро улетучивается. Остается тяжелая работа, неустроенный быт, одиночество…
— Понятно.
— Но еще и дети, их глаза, улыбки, они уже начинают потихоньку писать и читать. Еще это остается. И это держит.
— Так вы решили навсегда?..
— Нет. Вот только доведу этот класс и уеду. Я слабая.
— Но те пятеро, которые уже уехали, они еще слабее.
— Так можно оправдать себя в чем угодно. Всегда можно найти тех, кто хуже. Но ведь больше тех, кто лучше. О чем мы говорим?
— Что?
— Нет, ничего, ладно.
— Уэйд собирался объезжать мустанга, хотите посмотреть?
— Конечно. Я ни разу не видела.
Джон не был уверен, что Уэйд справится. При взгляде не брата он подумал, что тот немного сдал. Появилась мешковатость, медлительность, а в объездке это могло сыграть с Уэйдом злую шутку.
Мустанг был красив и очень возбужден, он словно чувствовал, что сегодня может закончиться его свободная жизнь, поэтому, наверное, решил не сдаваться так просто, а стоять до конца. В самом деле обуздать лошадь дело не такое уж трудное, самое трудное — не дать ей погибнуть. Мустанг, чувствуя на себе ездока, пытаясь сбросить его, входит в такое исступление, что запросто может переломить собственный хребет. Ездоку надо быть все время начеку, предупреждать любое движение мустанга, чтобы своим весом не совершить нечаянное убийство.
Уэйд надел кожаные брюки, перевязал волосы платком и опоясался широким ремнем. Это была форма объездчика. Вообще-то можно было обойтись и без нее, но Уэйд сказал, что так чувствует себя увереннее.
Он вошел в загон, взял лассо и с первого же раза заарканил мустанга. Теперь начиналось самое трудное — надо было надеть седло. Оно лежало на перекладине, так чтобы можно было легко дотянуться до него рукой.
Мустанг перестал дергать лассо и успокоился. Уэйд потихоньку стал подводить его к себе. Тот шел неохотно, петлял, начинал рваться, но Уэйд, отпустив лассо на метр, потом подтягивал его на два. В конце концов он и мустанг оказались рядом. Уэйд похлопал коня по загривку. Тот фыркнул и мотнул головой.
— Помочь тебе?! — крикнул Джон.
— Не стоит, — ответил Уэйд. — Он может испугаться.
Уэйд достал из кармана морковь и дал коню, но тот не взял. Уэйд рассмеялся.
— Норовистый!
И каким-то неуловимым движением накинул на коня уздечку. Конь снова помотал головой, но освободиться уже не мог. Седло Уэйд тоже надел ловко, затянул ремни, попробовал, крепко ли сидит на коне сбруя.
— Ну, с Богом, — сказал он и, ступив на перекладину, оказался в седле.
Раньше он запрыгивал с земли. И Джон подумал, что Уэйду-таки придется попотеть.
Какое-то мгновение мустанг стоял неподвижно, а потом вдруг резко наклонил голову и вскинул круп.
— Хоп! Хоп! — крикнул Уэйд и тронул коня шпорами.
Что тут началось! Эйприл даже схватилась за Джона. Мустанг так болтал бедного Уэйда, словно собирался сделать какой-то трудносмешиваемый коктейль. Джон внимательно смотрел на само седло. Еще ни разу мустангу не удалось опустить на себя ездока всем весом. На долю секунды раньше, словно угадывая мысли коня, Уэйд приподнимался в седле.
Попрыгав на месте, мустанг рванулся по кругу, вставая на дыбы и вскидывая задние ноги. Это было самое трудное испытание для объездчика. Конь норовил выскользнуть из-под Уэйда.
— А зачем это вообще делается? — спросила Эйприл быстро.
— Конь должен слушаться человека. Уэйд сейчас пытается его себе подчинить, — не поворачиваясь к Эйприл, ответил Джон.
— То есть он ломает его волю? — уточнила девушка.
— Да, можно сказать и так.
Пронесясь по кругу в одну сторону, мустанг неожиданно развернулся и понесся обратно. Он мчался так близко к ограде, что Джон боялся, как бы Уэйд не разнес на кусочки свою коленную чашечку. Но Уэйд успевал в опасных местах убирать ногу, и мустанг терся о перекладину собственным боком.
Теперь наступил ответственный момент. Джон почувствовал это по тому, как Уэйд покрепче перехватил поводья. Теперь он должен был научить мустанга слушать себя. Это тоже надо было делать со знанием особенностей дикого коня. Никаких резких движений, мягко, но настойчиво.
И Уэйд повел поводьями влево. Мустанг от неожиданности сразу же повернул куда следует, но тут же опомнился и устроил наезднику новую встряску. Но Уэйд не дал ему особенно разгуляться. Он повел поводья вправо, на себя, снова влево, мустанг терял контроль над самим собой, он поворачивал туда, куда не хотел. Это бесило его и лишало сил. Он просто остановился. Но Уэйд не дал ему и стоять. Он пришпорил его и снова повел по кругу.
— Отличная работа, — сказал Джон.
— И это все? — спросила Эйприл.
— Практически все, — сказал Джон. Он мог гордиться братом, ни мешковатости, ни медлительности теперь не было. Уэйд оставался таким же молодым и ловким. Только ко всему этому прибавился еще опыт.
— Да, как быстро ломается воля, — с сожалением сказала Эйприл.
И не успела она произнести эти слова, как мустанг, уже, казалось, безропотно исполняющий все приказы человека, вдруг сделал такое, чего Джон почти и не видел. Он как бы сложился пополам, а потом бешеной пружиной распрямился.
Уэйда швырнуло на гриву, нога его выскочила из стремени, и он чудом удержался в седле.
Джон увидел, что у брата из носа течет кровь.
Уэйд, впрочем, этого не заметил. Он снова завладел поводьями и снова повел коня по кругу.
— Молодец! — прошептала Эйприл и даже захлопала в ладоши.
Джон так и не понял, к кому относятся ее слова, к Уэйду или мустангу.
Вечером у Уэйда опух нос, и он стал похож на пьяницу.
— Нет, ты видел, что он сделал?! — кричал Уэйд восторженно. — Он сложился вдвое!
— Честно говоря, он не очень-то и складывался, — сказал Джон. — Но ты, конечно, можешь говорить всем что он был страшно норовистый.
— А разве нет?
— Дохленький, хиленький, сонный какой-то, — подначивал брата Джон. — Я думал, ему уже лет под семьдесят.
— Ага, значит, говоришь, сонный и старый?
— Да, пожалел бы его седины.
— Ладно, там есть еще один мустанг. Тоже очень старый и сонный. Вот ты его завтра и объездишь, договорились?
— Конечно. Тебе эта работа уже не под силу, старичок.
— Ах ты нахал! — засмеялся Уэйд и, схватив брата, начал с ним бороться.
— Э! Э! Я тебе не сонная лошадка, — засмеялся и Джон. — Я так просто не дамся.
— Ты не сонный, ты не старый? Да ты развалина городская!
— Я не дам честь города в обиду!
Братья свалились на пол и стали кататься по ковру.
— О, да тут вольная борьба! — сказал, входя, Билтмор. — Можно делать ставки?
— Я ставлю на Уэйда! — сказала Эйприл, которая вошла вместе с отцом.
— А я на Джона!
— Я тоже ставлю на Джона, — сказал Джон.
— Уэйд, если вы победите, мы сорвем приличный куш! — засмеялась Эйприл.
К сожалению, борьбе не дано было завершиться, потому что пришла Скарлетт и быстро ее прекратила, сказав:
— Как дети! Прекратите сейчас же!
Поправляя одежду и отпыхиваясь, братья повалились в кресла.
— А я хотел предложить вам сыграть в триктрак, — сказал Билтмор.
— Это в карты? — спросил Джон.
— Да, очень простая игра.
— К сожалению, не умею играть в карты, — сказал Джон.
— Ну, тогда расскажите нам о своих путешествиях.
— Какие там путешествия?! — заскромничал Джон. — Вы ведь повидали больше меня.
— Не знаю, не знаю… Хотя кое-где я был. Ну, про Европу не стану, про Африку тоже — просто придется повторять то, что написано в каждом журнале. А вот в Австралии мало кто был.
— Уж больно далеко! — сказал Джон.
— Стоит того. Удивительная страна. Вы знаете, что там нет хищников?
— Правда? Вот здорово! — сказала Эйприл.
— Оказывается, ничего хорошего. Переселенцы завезли туда кроликов для развода, на первых порах, конечно радовались, что тем ничего не угрожает. Но потом кролики стали размножаться так бурно и безостановочно, что уничтожали целые поля пшеницы, сои, да всего, что только росло и зеленело. Они стали настоящим бедствием для Австралии. На них началась беспощадная охота, потому что они грозили просто вытеснить человека с материка.
— Интересно, — сказал Джон. — Оказывается, хищники нужны. Впрочем, да, естественный отбор, Дарвин…
— Только не упоминайте это имя при местном священнике, — сказал Билтмор. — Вы рискуете быть отлученным от церкви.
— Да я и сам в эту теорию мало верю, — сказал Джон. — Природа не механична. Она одухотворена…
— Кстати! — воскликнул Уэйд. — Вы же не рассказали мне о Стенсоне!
— Почему кстати? — с улыбкой спросил Билтмор.
— Кстати, о хищниках, наверное, — сказал Джон.
— А! Да, действительно, — согласился Билтмор.
— Ну так что Стенсон? — снова спросил Уэйд.
— Вам лучше об этом рассказал бы Дост, он занимался этим делом, но, поскольку его нет… Да, этого Стенсона поймали. Опять на каких-то махинациях. Правда, там все произошло быстрее. Хозяин, который его нанял, что-то заподозрил, ну и… Но самое печальное то, что Стенсон на свободе.
— Как это? — спросил Уэйд. — Отпустили?
— Нет. Сбежал. Да так лихо! С пальбой, кого-то ранил…
— Вот гад! — хлопнул себя по колену Уэйд.
— Подождите, — сказал Джон. — Он стрелял?
— Да, в полицейского. Очень тяжелая рана.
— Странно, — сказал Джон.
— Что странно? — не понял Уэйд.
— Странно, что он стрелял в полицейского. Ведь насколько я знаю, во всех штатах за убийство полицейского приговаривают к смерти, а судя по тому, что рассказывал Уэйд, этот Стенсон был обыкновенный аферист. Ему грозило лет пять от силы. Зачем ему было стрелять в полицейского?
— Да брось, Джон, — сказал Уэйд. — Если человек хочет убежать, он идет на все.
— Нет, братец, не на все. Тут только одно из двух — либо этот Стенсон сумасшедший, чего не может быть, потому что он довольно хитроумный малый, либо за ним числится еще что-то. Покрупнее. Настолько покрупнее, что он не боится стрелять в полицейского.
Говоря это, Джон смотрел на Билтмора. Если тот знает Стенсона, он как-нибудь выдаст себя.
— А вы правы! — сказал Билтмор. — Я сразу не подумал. Но это действительно так. Парню вовсе незачем было так рисковать своей жизнью. При хорошем адвокате он вообще мог отделаться условным наказанием.
— Кстати, и вот теперь действительно кстати, — сказал Джон, — вы не знаете, был ли этот Стенсон когда-нибудь сам полицейским? И может быть, он бывал на Аляске?
Билтмор задумался.
— Кажется, да, — сказал он. — Вы знаете, точно! Он раньше был полицейским. Его уволили за превышение полномочий. И потом он уехал на Аляску. Вы что, его знаете?
Джон, постаравшись придать своему голосу как можно больше безмятежности, в свою очередь спросил:
— А вы?
— Теперь знаю, — ответил Билтмор и улыбнулся. — К сожалению.
Джон, который весь даже сжался от напряжения, следя за Билтмором, не увидел в его лице ни тени смущения или растерянности. Билтмор ответил просто и уверенно.
— Я не знаю его, — сказал Джон. — Но с ним познакомился Найт, когда мы ездили на Аляску.
— А! Так я же читал ваши статьи! — вспомнил Билтмор. — Этот С. и есть Стенсон?
— Да. И это как раз тот самый.
— Потрясающе! — сказал Уэйд. — Все-таки это он.
Скарлетт и Эйприл внимательно слушали мужчин, только изредка покачивая головами.
— Это не самое потрясающее, — сказал Джон. Он решил идти до конца. — Знаете, в чем дело, мистер Билтмор, этот Стенсон назвал Найту ваше имя.
Тишина в комнате наступила такая, что страшно было даже вздохнуть.
Все невольно повернулись к Билтмору. Тот смотрел на Джона, не мигая, только лицо его побледнело. Он каким-то неуверенным движением провел пальцами по лбу и спросил:
— Я что-то должен сказать?..
— Ты с ума сошел, Джон, — прошептала Скарлетт.
— Но и это еще не все, — четко произнес Джон. — Мой компаньон, которого тоже зовут Джон, владелец двух текстильных фабрик, очень жалуется на крупную банду вымогателей…
— Так я еще и вымогатель? — перебил Джона Билтмор. — Ну все…
— Мистер Билтмор, я готов принести какие угодно извинения, чувствовать себя всю жизнь перед вами в неоплатном долгу, но я должен был задать эти вопросы и прошу вас дать на них ответы. Я знаю, что вы не обязаны этого делать. Я знаю, что никто не предъявил вам никаких обвинений официально. Но я не судья, здесь нет присяжных заседателей. Здесь ваша семья. Мы должны услышать ответ.
Билтмор повернулся к Скарлетт.
— Ты тоже? — спросил он звенящим от напряжения голосом.
Скарлетт только растерянно развела руками.
— И я хочу услышать, — сказала вдруг Эйприл.
— Я только не знаю, как мы после этого будем смотреть друг другу в глаза, — сказал Билтмор.
— Я еще раз повторяю, — сказал Джон, — готов принести какие угодно извинения. Более того, готов навсегда порвать и с Найтом и с Джоном.
— Ответ один, — сказал Билтмор. — Ложь. Хотя это не ответ, во всяком случае, для меня.
— Простите меня, мистер Билтмор, мне достаточно вашего слова, — сказал Джон.
— А вот мне — нет. Ведь вашим друзьям назвали не Смита какого-нибудь, а Билтмора. И мне надо знать теперь — почему? И вам это надо знать. Пока мы это не выясним, ни я, ни вы не успокоимся.
— Я уже не волнуюсь, — сказал Джон. — Я просто верю вам.
— Но я волнуюсь, черт побери! — закричал Билтмор. — Кому и зачем надо марать мое имя? Да так грязно! Так чудовищно!
— Знаете, — сказал Джон. — Если вы сейчас не ненавидите меня и готовы выслушать…
— Ненавижу?! Да я Бога должен благодарить, что вы мне сказали это! Конечно, противно, тяжело, но я хоть буду знать, что что-то вокруг меня происходит, какие-то страшные дела творятся моим именем!
— Знаете, мистер Билтмор, у меня тоже возникли по этому поводу очень сильные сомнения. Это никак не укладывается ни в какие рамки — конгрессмену незачем так рисковать своим именем. Я сейчас говорю даже не о вас, а о некоем среднестатистическом конгрессмене. Так вот, Найту об этом рассказал Стенсон. Почему? Он же прекрасно знал, что Найт репортер, что у репортеров секреты хранятся только до ближайшего выпуска газеты…
— Ну-ну…
— Найт говорит — я же защищал вас, спорил с ним, — что Стенсон собирался его убить. Все равно Стенсон не стал бы так рисковать, если бы речь шла о настоящем покровителе.
— Разумеется. Значит, Стенсон! А ведь этот негодяй был в наших руках! Если бы вы сказали раньше! Я бы уж порасспросил его!
— Но есть и более осязаемая ниточка. Янг, — сказал Джон.
— Янг? Янг умер.
— Молодой Янг.
— Молодой Янг? — переспросила Эйприл. — А этот что?
— Вот тут уж у меня сомнений нет — этот парень настоящий преступник.
— Да ну! — махнул рукой Билтмор. — Хлыщ, бездельник, папенькин сынок — да. Но преступник?!
— Мне тоже что-то не верится, — сказала Эйприл.
— Но здесь уже я отвечаю за достоверность. Я видел все своими глазами.
— Что ты видел?! — испугалась Скарлетт.
— Суд Линча. Янг был там и был самым активным.
— И ты видел это?!
— Да, ма, я видел именно Янга. Хотя тогда я еще не знал, что его так зовут.
— Боже! А я с этим человеком здоровался за руку! — воскликнул Билтмор.
— Больше того, папа, ты собирался отдать меня за него замуж, — тихо сказала Эйприл.
— Но это точно был он?
— Я могу присягнуть на Библии.
— Да, но подождите. Янг — понятно, но как это связано со мной? То есть с моим именем?
— Мой компаньон, которого…
— Тоже зовут Джон, — нетерпеливо вставил Билтмор.
— Мы были с ним, когда Янг казнил людей. Но пойти в полицию он отказался, объяснив это как раз тем, что Янг связан с вымогателями. Впрочем, он сказал, что тот мелкая сошка, а вот главный — вы, мистер Билтмор.
— Янг! — сказал Билтмор. — Ах ты маленький ублюдок! Знаете что, Джон, он и есть главный! А мое имя взял для прикрытия, потому что просто знаком со мной.
— Не думаю. Тот, кто руководит, вряд ли стал бы так рисковать.
— Тоже верно.
— Мистер Билтмор…
— Джон, не могли бы вы называть меня по крайней мере Тимоти?
— Спасибо, — сказал Джон. — Так вот, я ведь встретил Янга в английской миссии в Иерусалиме. Он приехал туда изучать военную организацию. Мистер Тимоти, его послал конгресс Соединенных Штатов.
Билтмор молчал целую минуту, уставившись на Джона с открытым ртом.
— С вами не соскучишься, — сказал он. — Конгресс никого не посылал в английскую миссию.
— Как видите, послал. Я хочу сказать…
— Вы хотите сказать, — перебил Билтмор, — нечто ужасное. Этим занимается кто-то в конгрессе. Я бы сказал, что это невозможно. Еще полчаса назад. Теперь я просто боюсь что-либо говорить. Джон, это слишком серьезно. Это, если хотите, государственный переворот.
— Меня не пугают слова, — сказал Джон. — Меня пугают поступки и их последствия.
— Ну что… Мне надо ехать в Вашингтон, — сказал Билтмор. — Надо начинать расследование. Джон, вы обязуетесь выступить на слушаниях, если это понадобится?
— Конечно. Вы могли бы об этом и не спрашивать.
— Да-да… Простите… Да-да…
Билтмор был настолько растерян, что встал и, не сказав ни слова, вышел.
— Вот это да-а-а… — протянул Уэйд.
— Джон, ты все сделал правильно, — сказала Скарлетт.
— Спасибо, мама, я больше всего боялся, что ты меня не поймешь. Я был неправ. Ты не лучшая женщина всех времен и народов, ты лучшая женщина во Вселенной.
Джон знал, что ему предстоит еще разговор с Эйприл. Но девушка не проявляла, казалось, никакой заинтересованности в этом. Джон отправлялся гулять по парку и сообщал об этом ей, но она только советовала ему потеплее одеться. Или он говорил, что идет в библиотеку, чтобы побыть одному. И она даже шла с ним, но в библиотеке занималась исключительно книгами.
«Ну и хорошо, — думал Джон. — Что я смогу ей ответить. Я не люблю ее. Да даже, если честно, побаиваюсь ее. Наверное, она тоже все забыла. Мы прекрасно можем оставаться друзьями. Но все-таки странно, что она не пытается поговорить».
На следующий день Билтмор уезжал. Джон все пустил на самотек, и Скарлетт сама уговорила Эйприл остаться у них еще на несколько дней.
— Мы собираемся отправиться на охоту, — соблазняла девушку Скарлетт. — Вернее, это будет просто конная прогулка. Терпеть не могу, когда убивают животных, но пострелять люблю. По мишеням.
Еще от отца в доме остались отличные охотничьи ружья и два крупнокалиберных пистолета. Отец когда-то шутил, что из такого пистолета можно завалить броненосец.
Эйприл согласилась. Они проводили Билтмора и обратно ехали вдвоем. На сей раз Джон вел двуколку один.
— Как хорошо, что я осталась. Вернулась бы сейчас в Нью-Йорк, снова началась бы безалаберная жизнь. А здесь так мирно и тихо.
Начал накрапывать дождь. Джон остановился и поднял верх.
— Не стоит, — сказала Эйприл. — Дождик небольшой.
— Все равно. Он может усилиться.
— Ну и что? Я люблю дождь.
— Но не в такой холод.
— Я люблю дождь, — упрямо повторила Эйприл.
Джон снова тронул лошадей.
«Что за ерунда? — думал он. — Я сам вызываю ее на разговор, которого не хочу. Что я за бестолочь такая?! Она молчит, а меня это раздражает. Хотя, конечно, это обидно».
— Вам правда здесь нравится? — спросил он.
— Да, чудесно. Почти так же у нас в усадьбе.
— И вы остались только поэтому? — сказал Джон и тут же мысленно выругал себя.
Эйприл не ответила.
— Я спросил, вы остались?.. — хотел повторить Джон.
— Я слышала, что вы спросили, — перебила его Эйприл даже с каким-то раздражением.
— Итак?
— Ваша мать беременна?
Джон даже обернулся.
Эйприл не смотрела на него.
— Да, — сказал он.
— Она ничего не сказала отцу.
— Не успела.
— Думаете? Для этого ведь не нужно много времени.
— Как знать. Мне кажется, вашему отцу было не до этого.
— Да, вы задали ему вопросики!
— Я должен был это сделать. И что, правда, он собирался выдать вас?..
— Да, — снова перебила Эйприл. — Слушайте, Джон, если вас не затруднит, давайте не будем об этом говорить.
— О чем, об этом? — Джон ненавидел себя.
Эйприл опять не ответила.
«Я сейчас взбешусь! Что со мной происходит?! Ну чего я в конце концов добиваюсь?!»
— Чего вы добиватесь? — в унисон его мыслям вдруг спросила Эйприл. — Вам что, надо все называть своими именами? А немного такта вам не помешало бы.
— Извините.
— Хорошо. Впрочем, я сама виновата. Знаете, я все-таки завтра уеду.
— Почему?
— Потому.
«Какая же она противная! Что она о себе возомнила? Пусть катится ко всем чертям! Тоже мне — принцесса!.. Боже, что со мной происходит?!»
— Простите, Джон. Я просто в дурном настроении. И вообще я дура.
— Мне не за что вас прощать. А если честно, мне надоело разговаривать таким образом. Я чувствую себя какой-то прожженной кокеткой! Самое-то противное, что у меня и это не выходит!
Эйприл вдруг засмеялась.
— Вот уж никогда бы не подумала, что вы так следите за собой!
— Вот, пожалуйста! Мне и самому смешно! Все, давайте, уезжайте. Правильно. Пока я совсем в дурака не превратился.
До самого дома они молчали.
Вечером Джон разговаривал с матерью. Она просила его пожить с ней, потому что ей так одиноко.
— Мама! — шутливо погрозил ей пальцем Джон. — Не лукавь. Говори начистоту.
— Да, я не хочу, чтобы ты уезжал! Я… Я просто боюсь за тебя.
— За меня?! Но что со мной может случиться? Если ты имеешь в виду всю эту историю с Янгом…
— Я не знаю, что я имею в виду. Просто мне будет спокойнее, если ты будешь рядом.
— Ма, тебе не будет спокойнее. Тебе будет за меня стыдно, что я прячусь за твоей юбкой.
— Ничего, это я как-нибудь переживу.
— Да нечего волноваться!
— У меня не очень хорошие предчувствия, — созналась Скарлетт.
— О! Я когда ехал к тебе, меня тоже мучили дурные предчувствия! — обрадовался сходству Джон. — И, как видишь, не оправдались!
— Нет-нет, я очень тебя прошу.
— Но я еще не завтра собираюсь уезжать. Я поживу, конечно.
— Полгода, — сказала Скарлетт.
— А вот этого не обещаю.
Джон действительно хотел пожить с матерью, хотя с каждым днем чувство неудовлетворения собой нарастало в нем все больше. Он хотел работать. Он снова хотел погрузиться в этот ад кино. Он понял, что теперь уже жить без этого не сможет.
— Ты не сказала Билтмору о ребенке? — спросил он.
— Не успела, — сразу же ответила Скарлетт.
— Но для этого не нужно много времени.
— Нужно. Это не так просто сказать. А мы не успели даже побыть вдвоем. Я скажу, я обязательно скажу…
Они еще поговорили о том о сем и пошли спать.
А наутро Джону пришлось ехать за врачом, потому что Эйприл заболела…
Отшельник
— И зачем только мы послушали этого американского пуританина? — говорил Бьерн, вспоминая Джона в минуты наслаждения семейной жизнью. — Мы превращаемся в пару воркующих голубков, которых я терпеть не могу. Кто сказал, что голуби красивые птицы? Они вредные птицы — на месте скульптур я бы возненавидел их всем своим каменным сердцем. Знаешь, что снится скульптурам? Они ловят голубей и гадят им на головы! Хорошо, что мне не поставят памятник.
— Как это?! — отвечала Диана. — А зачем я тогда с тобой живу? Я мечтала на старости лет писать мемуары под названием: «Я была женой гения бестолковости».
— Правда? Ты хочешь сказать, что я помру раньше тебя?
— Конечно, я уж постараюсь.
Бьерн и Диана проводили свой медовый месяц в небольшом сербском селе. Почему в Сербии? Потому что ничего более абсурдного ни он, ни она придумать не могли.
— Если ты думаешь, что я собираюсь поехать куда-нибудь в Венецию, — сказала Диана после свадьбы, — то мы завтра же подаем на развод.
— Венеция? Что это такое? Не знаю такой страны. Вот знаю прелестный городок Мастар. Там рядом есть не менее прелестная деревушка Сребровица. Представляешь, там никто никогда не видел паровоза и телефона.
— Этого не может быть. Таких райских уголков на земле не осталось.
— Поедем и проверим. Если я ошибаюсь, мы взорвем их телефонную станцию и пустим паровоз под откос.
— Согласна!
И они действительно поехали в Сербию, в этот неспокойный край, откуда бежали даже местные жители.
И вот теперь жили там в заброшенном домике и были почти счастливы.
— Мне не хватает одного, — как-то утром заявила Диана. — Козы.
— Ты права! Как мы можем жить без козы в такой сложной политической обстановке? Это нонсенс!
И он отправился на скудную ярмарку и привел в дом козу.
— Теперь надо ее доить. Ты умеешь доить козу? — спросил он Диану.
— Он еще спрашивает! Ты же видел на нашем родовом гербе рога?
— Да, но я думал, они относятся к мужской части вашей славной семьи.
— Не только. Это было самое любимое светское развлечение всех дам рода Уинстонов — доить по утрам коз.
— Бедные козы! — воскликнул Бьерн.
— Нет, они были счастливы! Умирая, они всегда говорили нам добрые слова.
— Хорошо, значит, ты будешь доить козу по утрам?
— Не могу же я нарушать традицию!
Днем молодожены отправлялись по окрестным горам, встречали настороженных людей, пытались с ними разговаривать, но ничего не получалось. Люди не понимали их, а они не понимали людей.
— Как жаль, что никто не может нам рассказать по поводу паровоза и телефона, — говорила Диана.
— Знаешь, я попытаюсь объясниться с ними знаковыми символами. Ведь в прежней жизни я был художником.
— Художником? Ты? Это тебе наплел какой-то грубый льстец. Ты никогда не был художником.
— Ладно, но я попробую.
И Бьерн на листе бумаги нарисовал паровоз и телефонный аппарат.
— Что это? — спросила Диана, рассматривая рисунок. — Очень похоже на колбасу и рогалик. Ты что, хочешь есть, милый?
— Это не колбаса, а паровоз.
— А почему тогда от нее идет запах?
— Это не запах, а дым из трубы.
— Нет-нет, не спорь со мной. Я сейчас приготовлю тебе что-нибудь поесть. Правда, такой колбасы здесь не достанешь…
Первый встреченный ими крестьянин, рассмотрев рисунки, долго думал, а потом кивнул и жестом пригласил молодоженов следовать за собой.
— Он ведет нас в паровозное депо, — сказал Бьерн.
— Нет, он нас ведет в коптильню.
Крестьянин долго вел их куда-то в гору, пока они не оказались перед входом в пещеру.
— Ну, что я говорил! Это телефонная станция!
Крестьянин заглянул в узкий черный проем и что-то крикнул.
Из пещеры долго не было никакого ответа.
— Повреждение на линии, — сказал Бьерн. — Придется посылать телеграмму.
И в этот момент из пещеры вышел бледный, седой, одетый в рубище старик.
Крестьянин что-то стал говорить старику, тот кивал, слушая и поглядывая на Бьерна.
— Вы говорите по-английски? — вдруг спросил он.
Если бы Бьерн и Диана увидели, что старик полетел по воздуху, они удивились бы меньше.
— Г-говорим, — заикаясь, ответил Бьерн.
— Этот крестьянин рассказывает про какие-то рисунки, которые вы ему показывали.
— А! Это была шутка, — растерянно улыбнулся Бьерн. — Мы с женой поспорили, что на земле не осталось места, где бы не видели паровоза и телефона.
Бьерн достал лист и показал старику.
— Да, такое место найти трудно. Но вы попали в точку. Этот крестьянин не знает ни того ни другого.
— А вы художник?
— Так, иногда. Меня зовут Бьерн Люрваль. А мою жену Диана Уинстон.
— Уинстон? Лорд Уинстон не ваш отец?
— Да, сэр. Вы его знаете?
— Только слышал.
— Так вы из Англии?
— Как верно заметил ваш супруг — иногда. Наверное, вас мучает любопытство?
— Не то слово, сэр. Я чуть язык не проглотил, когда услышал, что вы обратились к нам по-английски.
— Минутку, — сказал старик. Он обратился к крестьянину, который все это время стоял рядом. Видно, он объяснил ему, чего хотели от него эти господа. Крестьянин заулыбался, снял шляпу, поклонился и ушел.
— К себе я вас не приглашаю, — сказал старик. — Нам будет тесновато в моей обители. Но мы можем побеседовать здесь. Зовите меня Серафим.
Он присел на камень и жестом предложил молодоженам тоже садиться.
— Если вы сейчас скажете, что вы отшельник, я посчитаю, что это дурная шутка, — сказал Бьерн.
— Почему?
— Потому что не так давно я разговаривал с кардиналом Франции, и мы как раз говорили об отшельниках. Такое совпадение…
— Думаю, это не совпадение, — загадочно сказал старик. — Мне не нравится слово «отшельник», куда больше годится — «пустынник». Но дело ведь не в названии.
— Это так странно, — сказала Диана. — Я слышала о таких людях… И всегда думала, что они из простонародья. А вы, как я понимаю…
— Нет-нет, я не из дворян. Я тоже из простонародья. Хотя, согласитесь, это условное деление людей.
— Разумеется, — сказала Диана. — Но все же…
— Как хорошо, что вы пришли сюда, — сказал старик. — Вы оба так молоды и насмешливы, что я невольно вспомнил себя в таком же возрасте.
— Ну, сказать про меня, что я молод… — улыбнулся Бьерн.
— Не кокетничайте. Вы молоды. Впрочем, возраст ведь не имеет значения. Знаете, я был таким же скептиком, как и вы. Хотя нет, боюсь, я был еще большим. Если бы кто-нибудь в мои светские тридцать лет сказал мне, что я стану пустынником! Правда, ни у кого и мысли такой не возникло.
— А знаете, мне вот все равно кажется, что во всем этом есть какая-то неправда, — сказал Бьерн. — Диана не зря сказала про простолюдинов. Для них, мне кажется, метаморфозы такого рода естественны.
— Почему?
— Аскетичная жизнь, отсутствие информации, наивная вера… Вы меня понимаете?
— Ошибка! Эти люди и так близки к Богу. Он не призывает их к служению. Ведь он ловец душ заблудших. Действительно, что-то здесь кажется слащавым, «романтичным», экзальтированным. Но вы видите только результат. А это путь. Это тяжелый и благотворный путь. Дай Бог мне силы и времени дойти его до конца. Согласен, кажется невозможным уйти от мирских дел, наслаждений, мыслей, от светской мудрости… Всего этого так много! Оно кажется таким единственным. Но если только на секунду представить себе, что есть другие заботы, мысли, мудрость и даже наслаждения… Нет, я не могу объяснить. Слово изреченное есть ложь. Потому что оно не в силах вместить мысль.
— Нет, почему же? Я вас понимаю.
— Вот то-то и оно. А это нельзя понять. Это можно только почувствовать. Понимаете, это как сильное влечение к женщине, к вину, к игре. Я говорю только о силе, хотя цели совершенно разные. Но вы можете с этим справляться?
— Есть влечения, с которыми не могу, — сказал Бьерн.
— Так вот здесь чувство куда более сильное, непреодолимое, неостановимое… Словом… — Старик вдруг рассмеялся. — Давайте не будем об этом. А то получается, словно я оправдываюсь перед вами. Честное слово, я ни в чем не виноват. Это просто со мной случилось, благодарение Богу. Лучше вы расскажите о себе.
— Да мы обыкновенная «золотая молодежь», — сказал Бьерн. — Обыкновенно прожигаем жизнь обыкновенным необыкновенным способом. Ничего интересного. А вот вы, чем вы питаетесь, скажем?
— Человеку не так уж много надо. Что-то приносят мне крестьяне. А вы хотите есть?
— А вот сухих кузнечиков вы не едите? — спросила Диана. — Мне Бьерн все уши прожужжал, что это какое-то изысканное блюдо.
— Интересно, я вас понимаю, я и сам задавал бы те же самые вопросы когда-то. Но теперь мне даже не хочется на них отвечать.
— Тогда ответьте на тот вопрос, который вы сами себе хотели бы задать, — предложил Бьерн.
— Я не смогу на него ответить. Боюсь, никто не сможет ответить на этой земле.
— И что это за вопрос? — поинтересовалась Диана.
— Вопрос простой: Бог оставил нас, или он еще с нами?
— Вот это да! И вы задаете этот вопрос? Что же вы тогда здесь делаете?
— Я — молюсь. И верю. Но иногда я не чувствую Господа. Дьявол приходит ко мне часто. А вот Господь… Неужели он оставил нас? А вы не чувствуете этого? Вам не кажется, что Бог отвернулся от людей?
— Но это действительно странно слышать от вас, — сказал Бьерн.
— Нет. Эта мысль придает мне силы. Знаете, когда моя молитва действительно искренняя, когда я больше всего боюсь, что мы остались одни. Я прошу Его вернуться.
Старик опустил голову, и Бьерн с Дианой вдруг увидели, что он заплакал. Просто слезы текли по морщинистому лицу и терялись в седой бороде…
Сказать, что эта встреча произвела на Бьерна и Диану сильно впечатление, значит ничего не сказать. Она потрясла и перевернула их. До самого вечера они если и говорили друг с другом, то только междометиями. Но думали они, оказывается, по-разному.
— Впервые в жизни встречаю святого, — сказала Диана. — Потрясающий старик. Ты ведь знаешь, люди давно уже не удивляют меня… А этот просто выбил меня из колеи. Знаешь, я чувствовала себя рядом с ним как напроказившая девчонка. А я не чувствовала себя так никогда.
— Он просто сумасшедший, — сказал Бьерн. — Милый, добрый, умный сумасшедший…
— Ты сам сумасшедший! — закричала Диана. — Ты и мизинца его не стоишь!
— Возможно, но он все равно ненормальный. Знаешь, все эти благие словечки, все эти мысли о вечном и великом — первый признак сумасшествия. Спроси любого психиатра.
— Боже мой! Да ты же настоящий циник! — ужаснулась Диана. — Я думала, это масочка такая у тебя, а она, оказывается, к тебе крепко прилипла.
— Я — трезвый человек. Мне претит всякая выспренность. В том числе и твой обвинительный пафос.
— Я больше не желаю с тобой разговаривать.
— Это правильно, а то ты наговоришь мне гадостей из-за этого ненормального старика. А потом будешь жалеть.
Диана ничего не ответила. И они действительно не разговаривали до следующего утра.
Утром Диана пошла доить козу. Оказывается, она всерьез собиралась это делать. Она взяла ведро, веревку, маленький стульчик и отправилась в сарай.
Бьерн не пошел с ней, хотя ему было очень интересно, получится ли у нее хоть что-нибудь.
Дианы не было минут десять. Сначала Бьерн слышал шум какой-то подозрительной возни в сарае, потом все стихло. А потом Диана вдруг закричала:
— Бьерн! Бьерн! — словно коза уже забодала ее.
Бьерн бросился в сарай на выручку, но увидел, что Диана жива и здорова. Коза привязана, под ней стоит ведро, а Диана сидит на стульчике и почему-то хохочет.
— Ты кого купил?! — сквозь хохот спросила она.
Бьерн не понял вопроса и уставился на Диану.
— Ну-ка, найди ее вымя!
Бьерн заглянул под козу и тут понял, что молока он сегодня не увидит. Коза оказалась довольно мужественным козлом.
Через неделю они вернулись в Лондон. Ссора из-за отшельника была, казалось, забыта…
«Уважаемый мистер Чехов»
Бо приступил к репетициям, и все, что до этого волновало его, отступило на второй план.
Пьеса в театре была принята далеко не восторженно. Актеры сомневались, интересно ли будет зрителям смотреть, а им, актерам, играть эту простую историю без сильных трагических поворотов, без динамики и без американских реалий. Бо злился, спорил, высмеивал вкусы актеров, доказывал и убеждал. Больше всего ему было обидно, что даже Чак оставался к пьесе равнодушным. Иногда Бо впадал в уныние, потому что чувствовал, что актеры не пойдут за ним. Актеры предлагали очень сильно сократить пьесу, оставить только историю любви и самоубийства, тогда еще, может быть, будет хоть кому-то интересно.
Он понимал — все дело в том, что актеры, узнав вкус победы, были настроены сейчас по-боевому. Им хотелось пьесу с острыми политическими высказываниями, с декларациями о равенстве, пьесу-скандал, а он предлагал им какую-то милую, но вполне мирную историю. Так спортсмен, сумевший удивить окружающих, пытается повторить свое достижение, не понимая, что этим, во-первых, никого уже не удивишь, а во-вторых, это путь бесперспективный.
Бо еще и еще раз читал пьесу, рассказывал о всех персонажах, о каждом событии, раскрывал смысл фраз и поступков героев. Но встречал только равнодушие или, в лучшем случае, снисходительное понимание.
Уитни в театре не появлялась, хотя и не сообщала, что уволилась.
На следующий день он отправил ей вещи, после чего позвонил ее муж и сказал, что вещи прибыли, поблагодарил. Бо дал отбой своему адвокату, так как теперь не было предмета для судебного разбирательства. И сразу принялся за репетиции. Конечно, они были для него еще и спасением, отвлекали от грустных мыслей, от забот и тревог. Но оказалось, что забот и тревог репетиции несут с собой еще больше.
«Что же здесь не так? — думал Бо. — Свалить все на нечуткость актеров, на их безвкусие и ограниченность — большой соблазн. Но у меня нет других актеров, я должен работать с этими. И я должен добиться, чтобы они мне поверили, чтобы они загорелись, увлеклись, влюбились.
— Они уже увлечены и влюблены, — отвечал он сам себе. — Только совсем в другое. Ведь актеры так увлекаются! А ты хочешь уверить их, что они зря рисковали собой, когда нарочно вызывали скандал, когда доказывали всему миру, что они люди, что они гордые. Ведь ты же сам влюбил их в эту идею. А теперь — нате вам! — возьмем русскую историю и будем копаться в мелочах? Потому что это и есть истинное искусство? Нет, они жаждут борьбы!
— Борьба, борьба! Да русская пьеса полна борьбы! И за человеческое достоинство, и за справедливость, и даже за равенство!
— Но это русская история, пойми! «Что он Гекубе, что ему Гекуба?» Так, кажется, у Шекспира. Им нет дела до русских, у них полно своих забот.
— Значит, они ограниченные люди, значит, боли других для них ничего не значат!
— Только без пафоса. У них хватает своих болей. О них и собираются они говорить.
— Но здесь же обо всех! Не только о русских! Это общемировые проблемы!
— Очень туманно. Как-то неубедительно. Да ты и сам с трудом продираешься через все эти русские имена, названия…
— Так все дело в именах?
— Может быть…»
И на следующий день Бо отправил в Россию телеграмму:
«Уважаемый мистер Чехов. Обратиться к Вам меня подвигнуло то обстоятельство, что я являюсь искренним Вашим поклонником. Ваша пьеса «Чайка» — величайшее произведение драматического искусства. Наш театр в Нью-Йорке принял ее к постановке, о чем Вас уже известили. К сожалению, у меня нет возможности лично обсудить с Вами все вопросы относительно Вашего произведения, но при первом же удобном случае я не премину побывать в России и встретиться с Вами, если Вы того пожелаете. Теперь же обращаюсь к Вам с огромной просьбой позволить мне изменить русские имена в «Чайке» на английские и американские. Понимаю всю чудовищность этой просьбы. Не посчитайте меня невеждой, я с большим уважением отношусь к авторскому праву, но обстоятельства таковы, что это изменение даст жизнь пьесе в Америке. Подробнее я изложу причины столь экстравагантного предложения в письме, которое отправляю Вам следом. С огромным уважением и почитанием к Вам…»
Не дожидаясь ответа из России, Бо на следующий же день предложил актерам заменить русские имена и названия на более близкие и им, и ему.
Действие из небольшой русской усадьбы перенеслось на небольшое американское ранчо. Москва стала Лос-Анджелесом, рубли превратились в доллары, Ирина Николаевна Аркадина поменяла имя на Ирэн Арчин, Маша на Мэри, словом, все стало выговариваться легче и проще. Только Дорн остался Дорном.
И актеры, перестав запинаться на непривычных словах, вдруг стали читать пьесу как бы другими глазами. Оказалось вдруг, что история эта вовсе не русская, даже удивительно было, что написал ее кто-то в далекой стране, — это была настоящая американская история. Грустная и смешная, трагическая, безысходная, светлая, лиричная…
— Бо, тебе надо было сделать это раньше! — сказал Чак. — Ты прости нас, мы же темные люди! Я имею в виду не только цвет кожи. Нас действительно волнует только то, что не дальше нашего порога. Как ты угадал, что все это про нас?
— Потому что на земле все люди одинаковы.
С этого дня репетиции пошли куда веселее. Актеры теперь и сами доказывали Бо, почему, скажем, нельзя вымарывать ту или другую сцену (а у него была попытка кое-что сократить).
— Как это можно выбрасывать, ты что?! Это же самая главная сцена у меня! — спорили они, совсем забыв, что еще несколько дней назад предлагали искромсать пьесу до неузнаваемости.
Ответа на телеграмму не было. А по расчетам Бо даже письмо уже должно было дойти до России. Но это его не останавливало. Потому что работа пошла!
Чак, конечно, репетировал известного писателя Тригорина, которого теперь звали Маунтэйн[2]. Оказалось вдруг, что он владеет не только широкими мазками трагических ролей, но и тонкими психологическими линиями.
Аркадину-Арчин Бо предполагал дать Уитни, но ее не было, поэтому та же актриса, которая вводилась на ее роль в Вене, репетировала и теперь.
Неожиданно даже для самого Бо история стала приобретать столь желаемое актерами вольнолюбивое звучание, хотя в диалогах не было изменено ни одного слова. Но маленькое ранчо, которым владеет престарелый негр Сорин-Сорри, давало вполне определенный намек на то, что он бывший раб, сумевший неимоверно тяжким трудом заработать на этот клочок земли с небольшим домиком. Он, конечно, старается все сделать для своих родных, чтобы они забыли его рабское прошлое. И история молодого Треплева-Токина становилась более выпуклой. Ему трудно было пробиться в литературе еще и потому, что он негр.
Нет, Бо не акцентировал на этом внимание, более того, он удерживал актеров от плоских аналогий, но все это наполняло пьесу помимо его желания, просто потому, что дело происходило в Америке.
Налоговые инспектора ушли из театра. Правда, перед своим уходом они заставили Бо пережить несколько тяжких минут. Их было трое. Они вошли к нему в кабинет, один остался стеречь дверь, а двое других подошли к столу.
— Мы сегодня же можем передать материалы проверки в суд, — почему-то шепотом сказал один из них. — Как вы к этому относитесь?
— Мне жаль вас, ребята, — ответил Бо.
— А нам жаль вас. Говорят, что вы талантливый режиссер, а связались с черной мразью.
— Да, ребята, связался, — спокойно ответил Бо, хотя это стоило ему неимоверных усилий. — Вы по этому поводу собираетесь судиться?
— Нет, мы засадим тебя за решетку за нарушение финансовых дел и злостную неуплату налогов.
— Желаю вам удачи, ребята. Она вам очень понадобится. И боюсь, не пригодится.
— Это тебе понадобится удача, — сказал другой клерк. — Твои документы будут свидетельствовать против тебя.
— Вы имеете в виду те ведомости, которые подложили в наши бухгалтерские книги? — с улыбкой спросил Бо. — Да, я уже знаю об этом. Но самое смешное, ребята, что я это предполагал. И все документы у меня в четырех экземплярах, заверены нотариусом и хранятся в банке. Вашими бумажками мы будем пользоваться в туалете. Хотя нет, испачкаться побоимся.
Клерки словно приросли к месту. Вот теперь Бо торжествовал. Теперь бесились они. Теперь у них лица налились кровью и злобой.
Один из них склонился к самому лицу Бо и злобно прошипел:
— Ты!.. Мы тебя!..
— Вы только начните, ребята, — сказал Бо, выдвигая ящик стола, в котором лежал, поблескивая вороненой сталью, револьвер.
— Ага, ты нам угрожаешь!
— Пошли вон отсюда, — устало сказал Бо. — И передайте вашему хозяину или хозяевам, что теперь настало мое время наступать.
Он вышел из-за стола и, широко открыв дверь, крикнул:
— Господа инспектора уходят из нашего театра!
И тут же возле кабинета сгрудились актеры и рабочие. Они провожали клерков аплодисментами.
Бо тут же связался с Хьюго Рескиным и попросил о встрече.
— Бо, дружище! — закричал Хьюго в трубку, — ты пропал так основательно, словно навсегда перешел в историю. Что там у тебя стряслось?
— Я приеду и расскажу. Кстати, как там поживает Джон?
— Кстати, как там поживает Джон? — в тон ему спросил редактор. — Я думал, что хоть ты с ним поддерживаешь связь.
— Да, это очень стыдно, Хьюго, но я за все время не увидел его ни разу. Я — скотина.
— Не так широко, Бо, ты просто свинья. Я только знаю, что твой брат сейчас у матери в Джорджии. Сам хотел бы его повидать.
— Вот как? Ну, как закончу работу, поеду туда же… Так как насчет встречи?
— Я сам приеду к тебе. Сегодня после девяти вечера тебя устроит?
— Давай в половине десятого. У меня как раз закончится репетиция.
— О’кей!
В тот день репетиция шла как-то особенно складно. Бо уже вывел актеров на сцену и стал разводить спектакль. Пока что все двери, деревья, фонтан, скамейки и прочие детали декорации заменяли стулья. Их было на сцене штук восемь, только Бо и актеры знали, что они обозначают.
Кое-кто уже репетировал без текстов в руках. Чак выучил роль сразу и ужасно нервничал, если его партнер не знал реплику. Но сегодня на сцене царил какой-то удивительный дух согласия. Среди персонажей начали вдруг натягиваться те самые ниточки, которые и связывают разных людей в одном действии. Местами Бо забывал, что актеры ходят в своей одежде, что двигаются между стульев на плохо освещенной сцене, потому что они начинали жить. Путь к этой жизни тоже был непрост. Пьеса зло мстила тем, кто пытался играть роль по старым канонам. Как только актер начинал переигрывать, повышать голос или рвать страсти, текст его начинал звучать как насмешка над ним самим. Бо даже не приходилось особенно поправлять, актеры сами начинали чувствовать фальшь и переходили на обыкновенные человеческие голоса. И вот тогда пьеса становилась благодатной почвой для настоящих чувств.
Но все это тоже не устраивало Бо, потому что терялась какая-то магия пьесы, история становилась уж больно обыденной, да, жизненной, да, правдивой, но и только. А в пьесе было и еще что-то, неуловимое, но ужасно притягательное.
А вот сегодня актеры, кажется, нащупали это «что-то», и магия пьесы ожила. И они, и Бо даже забыли об обеденном перерыве, что было в театре свято. Они увлеклись, они загорелись. За кулисами никто не шумел, свободные от сцен актеры затаив дыхание наблюдали за тем, что происходило на маленьком ранчо где-то на Западе.
С Бо даже случилось то, что непозволительно режиссеру — он перестал смотреть на сцену критически. Он уже не контролировал репетицию, она катилась сама по себе, он только переживал за героев пьесы, смеялся и грустил.
Когда дошли до конца, актеры, которые обычно спешат убежать домой, легко выходят из состояния творческого напряжения, на этот раз никуда не торопились. Они молча стояли на сцене, словно прислушивались к эху своих недавних голосов, о чем-то думали… Была такая сказочная минутка, о которой мечтает любой художник, — ангел с небес спустился к ним.
Бо только сейчас вспомнил, что во время репетиции его о чем-то спрашивал помощник, а он, даже не поняв вопроса, кивнул согласно.
Оказалось, что на репетицию пришли известные всей Америке Лора Кайл и Фред Барр. Они сидели в глубине зала и тоже молчали.
— Привет, ребята, я вас даже не заметил, — сказал Бо. — Вы уж меня извините.
— Нет-нет, что ты! — сказал Фред, поднимаясь. — Это ты нас извини.
Они подошли к Бо, пожали руку, Лора чмокнула Бо.
— Где ты выкопал эту пьесу? — спросил Фред.
— Знаешь, я не особенно и копал. Это же Чехов.
— Из эмигрантов?
— Нет, русский. А! Понятно, — увидев удивление гостей, сказал Бо. — Мы просто поменяли имена.
— Не может быть… Потрясающе! — воскликнула Лора и улыбнулась своей очаровательной улыбкой.
— Мы ведь пришли на минутку, — сказал Фред, — но, как видишь, просидели почти весь день. У нас к тебе дело, Бо.
— Если вы хотите позвать меня в «Богему», то сегодня не получится. Я жду Хьюго Рескина.
— В «Богему» — это идея, но это потом. Мы хотели предложить тебе театр на Бродвее.
— Вот так? — ошарашенно произнес Бо.
Какой режиссер не мечтает о том дне, когда к нему придут и скажут эти слова? Таких режиссеров нет.
— Я понимаю, это не короткий разговор, но мы просто должны дать тебе время подумать.
— А что тут думать? — сказал Бо. — Я согласен! Вы слышите, я согласен без всяких размышлений.
— Ну и отлично. Когда ты заканчиваешь репетиции?
— Через месяц. Самое большее через полтора. Но какое это имеет значение — я буду репетировать на новой сцене.
Бо повернулся к актерам, но увидел, что остался уже один Чак.
— Слышишь, Чак? Ты хочешь работать со мной на Бродвее?
— Я хочу работать с тобой везде, — сказал Чак.
— Так вот — мы продолжим репетиции в новом театре!
— Подожди, Бо, — мягко сказал Фред. — Речь идет о театре, в котором уже есть своя труппа. Ты, конечно, можешь взять с собой нескольких актеров. Но — не всех.
— Да у меня актеров-то всего десять, — сказал Бо.
— Но речь идет о двух, максимум — трех. Ты же не выгонишь из театра меня и Лору?
Лора очаровательно улыбнулась.
— Что ты, Фред, я очень хочу работать с вами.
— Тогда тебе придется распрощаться со своей труппой. Думаю, они уже вполне встали на ноги. Теперь с ними посчитает за честь работать любой режиссер.
— Нет, Фред, это мои актеры. Они, как мои дети. Даже когда дети становятся на ноги, мы не отдаем их другим родителям. У меня идея — мы объединим оба театра. У нас будет две сцены. На одной постоянно будем играть спектакли, а на другой репетировать и учить. Да, Фред, мы можем на базе этого театра открыть театральную школу. Неужели тебе не хочется иметь учеников?
— Это очень заманчиво, Бо.
— Я думаю, и Лора не откажется вывести в свет несколько театральных звезд.
Лора снова улыбнулась.
— Но дело все в том, Бо, что у дирекции театра весьма консервативные взгляды… Словом, ты понимаешь, о чем я говорю?
— Нет. Разве консерваторы против театральной школы?
— Речь не об этом… — Фред понизил голос. — Они с осторожностью относятся к черным актерам.
— А как они относятся к тому, что я сейчас вышвырну тебя отсюда вон? — так же тихо спросил Бо.
Фред повернулся, чтобы уйти, но Бо схватил его за руку:
— Подожди, герой. Я еще не отпустил тебя. Я еще не заглянул в твою душу.
— Бо, не надо, — попросила Лора.
— С тобой отдельный разговор. Так вот, Фред. Я теперь хочу спросить тебя — как тебе спится по ночам? Ночи ведь тоже черные? Как на тебе сидит вот этот сюртук, этот цилиндр и эти перчатки? Все это тоже черное. Скажи мне, Фред, тебе не стыдно? Просто стыдно и все. Понимаешь, такое простое чувство. Оно тебе знакомо?
— Ты делаешь мне больно, — сказал Фред.
— Нет, я еще не делаю тебе больно. Я только начинаю.
— Бо, я прошу тебя! — воскликнула Лора.
— Фред, ты актер и должен действовать по указке режиссера. На сцене ты делаешь это великолепно! Зачем же ты делаешь это в жизни? Кто твой режиссер? Что за пакостный спектакль он ставит? Почему ты согласился в нем на роль статиста? Ты, человек с положительным обаянием, играешь мелкого злодея. Не крупного даже — так, мальчика на гадких побегушках. Фред, я очень хочу работать на Бродвее. Я всю жизнь мечтал об этом! Кажется, ты убил мою мечту. Я больше не буду с тобой здороваться.
Бо отпустил Фреда и брезгливо вытер руки платком.
— А теперь о тебе, Лора. Ты думаешь, что в этом человеке весь смысл жизни? Ты думаешь, что вот эти мелкие актерские интрижки и есть искусство? Ты думаешь, карабкаться к успеху по чужим головам, это и есть — загадка творчества? Твоя улыбка может покорить мир, а она покорила пока что только мусорную кучу. Я имею в виду не только Фреда, а всех, кто послал вас сюда, чтобы меня купить. Запомните, ребята, актер должен быть вне политики, вне денег, вне моды. Но он не может быть вне морали. Прощайте. Передайте в «Богеме», что я больше к ним ни ногой.
Этот инцидент, как ни странно, вовсе не испортил настроения Бо. Тот магический отголосок сегодняшней репетиции все еще жил в нем. Он попрощался с Чаком, который так и не понял, почему они уже не будут репетировать на Бродвее, и остался в зале один.
Теперь и он пытался прислушаться к эху замолкнувших голосов. Еще раз вернуть себе это чудное ощущение всевидящего ока, которое наблюдает за жизнью удивительно близких людей, за их бедами и радостями, за их интимными поступками и взглядами…
Бо вышел на сцену. Только что здесь были актеры. Они ходили между этими стульями, как будто их тени еще остались здесь.
В театре было тихо. И Бо сам начал расхаживать между стульев, обозначающих декорации, сам стал с собой разговаривать.
И тут услышал шаги.
Как же он забыл?! Ведь к нему должен прийти Хьюго!
Бо взглянул на часы. Ну, конечно, как раз половина девятого!
— Я здесь! — крикнул он в коридор. — Я на сцене.
— А где же тебе еще быть?
Бо почему-то даже не удивился. Это был такой день, когда удивляться перестаешь, потому что слишком часто пришлось бы этим заниматься.
Уитни стояла в проходе между рядами зрительских кресел и, слегка наклонив голову, смотрела на Бо.
Легче умереть
Паника в доме началась невообразимая. Конечно, срочно послали за доктором, но, пока он ехал, ни Скарлетт, ни Джон, ни Уэйд, ни Сара не находили себе места. Эйприл было очень плохо. Жар, бред, тошнота… Эйприл металась по постели, все время пыталась сорвать с себя одеяло, на секунду открывала глаза и о чем-то начинала просить, но тут же снова впадала в тяжкое небытие.
Скарлетт все время меняла ей компрессы, Джон слушал постоянно ее пульс. Уэйд пытался влить ей в рот какое-то питье, срочно приготовленное по рецепту Сары. Но Эйприл тут же исторгала все из себя со страшными муками.
Все думали одно и то же — она может не дотянуть до приезда доктора.
— Боже, это я виноват, — чуть не плача, говорил Джон. — Это она простудилась вчера, когда мы возвращались со станции… Пошел дождь, а она была раскрыта… Это я виноват…
— Боюсь, она привезла с Кубы какую-то тропическую болезнь. Наш доктор не умеет Лечить это, — говорила Скарлетт.
— Надо пустить кровь, — предлагал Уэйд. Он был здоровым малым, и все его общение с докторами ограничивалось одним случаем, когда в детстве он видел, как врач пускал кровь заболевшей негритянке. Та, как ни странно, выздоровела.
Когда врач приехал, все были уже в полном отчаянии. Старичок прогнал всех из комнаты, где лежала Эйприл, оставил только Сару.
Он осматривал Эйприл довольно долго. Скарлетт, Уэйд и Джон, которые ожидали за дверью самого худшего, просто извелись.
Наконец доктор вышел из комнаты и сказал:
— Если она не доживет до завтрашнего утра, она умрет.
Абсурдистский юмор этой фразы не уловил никто. Потому что поняли одно — девочка на грани смерти.
— И ничего нельзя сделать?! — закричала Скарлетт.
— Медицина бессильна. Я могу лечить, мэм, если знаю от чего. Но ваша гостья больна неизвестной мне болезнью.
— Я так и знала! Это какая-нибудь тропическая лихорадка! Мы сейчас же пошлем в Атланту!
— И совершенно напрасно. Я знаю симптомы всех тропических болезней. Ничего похожего — это не чума, не холера, не лихорадка, не дефтерит, не корь… Это вообще не болезнь…
— Как это? — опешила Скарлетт.
— У нее все в порядке, симптомов скоротечной болезни нет. И тем не менее…
— И тем не менее — она умирает?!
— Да. Я еще не сделал анализы, но и без них скажу вам абсолютно определенно. Эта болезнь не лечится или лечится сама по себе! Впрочем, действительно, давайте вызовем других врачей, устроим консилиум. Возможно, я чего-то не знаю.
Скарлетт срочно отправила в Атланту несколько экипажей по адресам, которые указал старик.
— Но сейчас, что нам делать сейчас? — спросила она доктора.
— Молиться, — сказал он.
— А если пустить ей кровь? — спросил Уэйд.
— У нее нормальное давление.
— Но у нее жар! Она бредит! — сказал Джон.
— Я ничего не понимаю, — растерянно ответил доктор.
Врачи стали приезжать к вечеру. Их собралось пятеро самых разных специальностей. К этому времени старик уже сделал анализы и принес их результаты врачам на консилиум.
Эйприл к вечеру несколько успокоилась, она уже не металась по постели, жар спал, но теперь она, бледная и недвижная, лежала почти без признаков жизни.
Врачи долго осматривали ее, прослушивали, изучали результаты анализов.
Потом они долго совещались. И только после этого пригласили всю семью.
— У нас к вам один вопрос, миссис Скарлетт, — сказал один из них, довольно молодой, с острой черной бородкой и в пенсне без оправы. — Не переживала ли мисс Эйприл в последние дни какого-нибудь сильного душевного потрясения?
Скарлетт мгновенно обернулась к Джону, и тот, сам того не желая, густо покраснел.
— Мисс Эйприл была свидетельницей одного неприятного разговора, который косвенно касался и ее. Но разговор был закончен вполне мирно, все недоразумения были решены.
— Не проявляла ли мисс Эйприл в последнее время раздражение, агрессивность, возбужденность?
— Нет, наоборот, она была вполне безмятежной.
— Может быть, кто-то из вашей семьи знает что-либо, чего не знаете вы? — мягко спросил доктор.
Скарлетт снова обернулась к Джону.
— Мисс Эйприл жаловалась на свою неустроенную жизнь на Кубе. Она очень устала, — сказал Джон. — Но говорить о ее раздражении, агрессивности… Нет, она была спокойна, — сказал Джон, понимая, что говорит полуправду, но быть искренним до конца не мог.
— Спасибо. Наш консилиум пришел к выводу, что болезнь мисс Эйприл нервно-соматического свойства. То есть она следствие какого-то сильного нервного срыва, оказавшего разрушительное влияние на весь организм. Дело усугубляется тем, что, очевидно, мисс Эйприл таила свои переживания, не давая им выхода. Организм просто не вынес перегрузки. Теперь нам остается ждать, что он сам, даст Бог, справится с болезнью.
— Значит, вы тоже ничем не можете ей помочь? — спросила Скарлетт.
— Увы, мэм, мы можем только сочувствовать. Впрочем, к нашему приезду кое-что сдвинулось в лучшую сторону, насколько мы поняли. Ведь так?
— Да, утром у нее был жар и тошнота.
— Будем надеяться, что все обойдется. Мы сделали ей инъекцию опия. Это должно смягчить ее страдания. Больше мы ничем помочь не можем, простите нас, мэм.
Врачи уехали, остался только старик, который уселся у комнаты Эйприл и задремал.
— Надо сообщить Тиму, — сказал Уэйд.
— Не надо, — ответила Скарлетт. — Подождем до утра.
Джон заперся в своей комнате. Ему было о чем подумать. Конечно, он винил во всем только самого себя. Врачам он не сказал, но сам-то знал, что он, и только он, причина этого страшного недуга.
Характер Эйприл был таков, что ей легче было умереть, чем выдать свои чувства хоть по какому-либо поводу. Поэтому причиной мог стать и разговор с Билтмором, во время которого она присутствовала, и их стычка в дороге. Каких же усилий стоило Эйприл держать все в себе! А Джон, считавший себя уже знатоком людей, не заметил этого. Он увидел только то, что было на поверхности, — беззаботность, иронию, достоинство. Как ему теперь исправлять свои ошибки? Что ему делать?
Джон дождался, когда в доме все успокоится, и сам пошел в комнату Эйприл.
Он отослал сиделку и остался с девушкой наедине.
Эйприл лежала на спине. Ее волосы, влажные и спутанные, рассыпались по подушке. Грудь ее совсем незаметно вздымалась от слабого дыхания. Она была бледна до синевы, черные круги вокруг глаз и спекшиеся губы.
Джон взял ее за руку и сказал:
— Наверное, ты не слышишь меня, но я все равно должен тебе сказать… Это очень жестоко с твоей стороны, Эйприл, так безжалостно поступать с собой и со мной. Ну что я знал о тебе? Только то, что ты светская дама, немного капризная, утонченная, своевольная и гордая… Твое внимание льстило мне. Ну, конечно, я же настоящий мужчина, для которого женские чувства только повод для самоуверенности. Я не принимал твоих чувств всерьез. Мне и сейчас трудно на них ответить, потому что я люблю другую девушку. Это совершенно дурацкая ситуация. Мне надо было бы тебе сказать, что я к тебе неравнодушен, но я не могу тебе лгать. Я сейчас делаю что-то ужасное, возможно, я вообще убиваю тебя, но я могу говорить с тобой только честно. Эйприл, не уходи от нас. Дай мне возможность что-то обдумать, что-то сделать. Нет, понимаешь, нет на земле ничего конечного. Я сейчас не утешаю тебя, не обещаю каких-то волшебных изменений, я просто прошу тебя — живи. Вместе нам легче будет справиться с тем, что на нас обоих свалилось. Мы просто сядем друг напротив друга и будем долго говорить с тобой обо всем. Мы обязательно найдем выход. Я обещаю тебе — мы выкрутимся, прорвемся, я знаю… Эйприл, пожалуйста, не умирай… Прости меня… Если хочешь, можешь не прощать, а наоборот — возненавидеть… Только живи…
Джон еще что-то горячо и путанно говорил ей. Гладил ее руку, поправлял волосы. Эйприл была неподвижна. Джон впадал в отчаяние, плакал, просил Господа спасти девушку, а потом в нем вдруг появлялась надежда, и он начинал улыбаться, шутить, подбадривать Эйприл…
Под утро он уснул, стоя на коленях у ее кровати и положив голову на ее руку.
Проснулся он от холода. И, еще не открыв глаза, с ужасом подумал, что произошло самое страшное.
Но то, что он увидел, потрясло его еще больше — Эйприл не было в комнате…
Серафим
В Лондоне была мерзкая погода. Выходить из дому не хотелось, да Бьерн и не собирался никуда выходить. Он после долгого перерыва вернулся в свою студию в мансарде, осмотрел свои пыльные полотна, эскизы, наброски, и ему показалось, что он рассматривает чьи-то чужие работы. Сейчас он видел все свои огрехи так ясно, словно они не имели к нему никакого отношения.
Бьерн сложил все в угол и, поставив чистый холст, начал его грунтовать. Обычно художники не любят этим заниматься. Они даже покупают уже грунтованные холсты, потому что грунтовка кажется им механической и нетворческой работой. Но Бьерн сам наносил на серый холст белую краску. В это время он не только создавал tabula rasa[3], он создавал несметное количество картин, которые могут на нем появиться. В это время его фантазия работала особенно интенсивно, вспыхивающие в сознании образы или отпадали тут же, или оставались в памяти, чтобы потом, выстроившись в некую цепочку, выявить первое, самое важное звено, которое и становилось потом картиной.
Бьерн хотел написать так много! И Джона, поднимающего толпу мусульман перед распятием, и мертвого капитана на палубе корабля, и кардинала Франции, и Диану в кожаном костюме, и отшельника, плачущего от страха, и Тома, склонившегося к кинокамере, и клошара, бегущего от убийства, и военный оркестр, и даже перевернутую церковь в том городке, где они встретились с Джоном.
Широкая кисть мягко ходила по холсту и одну за другой словно зачеркивала эти картины. Бьерну являлись новые, но и они пропадали под белым снегом грунтовки. И так было до тех пор, пока полотно ровно и плотно не покрылось до самых углов.
Бьерн отложил кисть, отошел от мольберта и присел на высокий табурет. Он хотел еще раз посмотреть на белый лист и угадать-таки, что же появится на нем.
И тут понял, что он не знает, как будет выглядеть будущая картина. Больше того, он понял, что вообще ничего не хочет писать. Что это белое пространство ему куда дороже тех, пусть замечательных, великолепных, фантастических, образов, которые он представлял.
Бьерн даже испугался этого понимания. Попытался отвергнуть его, стряхнуть с себя наваждение. Но получилось еще хуже — он представил вдруг свой автопортрет. Он терпеть не мог автопортреты, поклялся себе, что никогда не будет малевать свою собственную физиономию и — на тебе!
А мысль засела плотно. Она уже заполнила всю его фантазию, она становилась почти видимой, реальной. Бьерн с некоторым удивлением рассматривал ее — да, это он… Но и не он. Его лицо, волосы, руки, но другое имя у этого человека и, что самое странное, — другое дело.
Бьерн даже засмеялся, когда угадал, что за портрет он представил. Это было абсурдно, глупо, пошло, это была какая-то противная насмешка его же сознания. Бьерн даже представить себе не мог, что в нем может жить такой примитивный ход мыслей, такая несусветная мелодраматическая банальность.
Бьерн представил себя в пасторском облачении.
— Я тоже хочу посмеяться, — вошла в комнату Диана и с удивлением уставилась на чистое полотно. — Скажи хоть, как называется эта картина? Пока что мне не смешно.
— Она называется — автопортрет в пасторском облачении.
— A-а… Очень похоже. Только немного однообразный колорит. А так — очень похоже.
— Пошли гулять, — сказал вдруг Бьерн. — Мне очень хочется погулять.
— Вот это уже смешнее, — сказала Диана. — Представляешь, как мы с тобой начнем чихать дуэтом? Обхохочешься.
— Я хочу гулять, — капризно повторил Бьерн. — Если не хочешь, я пойду один.
— Нет, красавчик, один ты никуда не пойдешь. Я буду сопровождать тебя всюду. Только ты поможешь мне одеться потеплее.
— А тебе для этого нужна помощь?
— Конечно. Я начну перебирать свои наряды, отвергну теплое, надену красивое. Ты же не хочешь, чтобы я действительно простудилась.
— Ладно, давай быстрее.
Они спустились в квартиру, которая была на втором этаже в том же доме.
— Это пойдет? — спросила Диана, показывая белое бальное платье. — Мне оно так нравится.
— Подожди, я сам.
Бьерн пошире распахнул створки гардероба и стал перебирать платья. Диана перевезла с собой, как она сказала, только самое необходимое. Этого набралось столько, что пришлось переоборудовать под ее платья еще и большую кладовую. Бьерн никогда не выбирал наряд для женщины, поэтому сразу же запутался во всех этих шарфиках, поясках, шляпках, шубках, боа, перчатках и сапожках.
— Быстрее, милый, я уже замерзла, — сказала Диана.
Бьерн обернулся. Диана стояла перед ним обнаженная и причесывала свои пышные волосы.
— Ну, что ты выбрал?
Бьерн бросил на пол всю охапку одежды, которую держал в руках и шагнул к Диане.
— Да, я выбрал, — сказал он, обнимая жену. — Тебе больше всего идет костюм Евы.
Надо сказать, что в супружеской жизни Бьерна и Дианы была некая интимная тайна, маленькая трещинка, которая тем не менее оставляла в обоих неприятный осадок.
Диана не любила близости. Она уступала Бьерну только после длительных домоганий с его стороны, уступала неохотно, всем своим видом показывая, что делает мужу большое одолжение. В самые страстные секунды она оставалась абсолютно холодной и могла спросить, скажем:
— Ты не хочешь поменять мебель, Бьерн? Эта мне уже надоела.
Бьерн испробовал все, чтобы хоть как-то разбудить в Диане страсть. Он подолгу ласкал и целовал ее, он говорил ей такие слова, от которых у любой женщины закружилась бы голова, он создавал специальную атмосферу нежности и романтичности в их спальне, он даже пытался подпоить Диану — все было тщетно.
Диана относилась к близости с отвращением.
— Это какой-то животный атавизм, — говорила она. — Не думай, пожалуйста, что я синий чулок, но я чувствую себя униженной, когда ты наваливаешься на меня и пыхтишь, как ломовая лошадь. Неужели я тебе интересна только тем, что могу удовлетворить твой звериный инстинкт?
Согласитесь, после таких слов у любого мужчины пропала бы всякая охота к интимной жизни. Надо сказать, что Диана постепенно добивалась своего. Бьерн все реже делал свои попытки. И даже как-то уже смирился с этим.
«В конце концов, — думал он, — мы же замечательные друзья. Я ее очень люблю, а без этого можно обойтись».
И вот она стояла перед ним обнаженная, явно провоцируя его, лукаво улыбалась и поднимала руки, от чего ее острая грудь смягчалась в очертании.
И Бьерн обнял ее и сказал:
— Я выбрал тебя. Тебе больше всего идет костюм Евы.
И почувствовал, что Диана в его руках не осталась холодной, изнеженной и капризной куклой. Она вдруг вся как бы раскрылась ему навстречу, она тоже обняла его и потянулась к нему губами. Бьерн увидел ее глаза — такими они никогда еще не были, — затуманенные страстью и желанием. А Диана покрывала поцелуями его лицо, шею, волосы. Она распахнула его рубашку и стала целовать его грудь. Легкие стоны вырывались из ее груди, стоны нетерпения и наслаждения.
Она была неутомима и нетерпелива. Словно пыталась вобрать в себя всего Бьерна, всего, без остатка, словно хотела сама раствориться в нем, стать с ним одним целым навсегда. В этих ласках была какая-то путающая обреченность, как будто Диана боялась, что, прекратив их, она потеряет любимого навсегда.
Упав с вершины наслаждения, Бьерн не успел даже отдышаться, как Диана снова обволокла его требовательными ласками, и они снова погрузились в горячий туман, в котором слышно было только одно слово:
— Люблю!.. Люблю!.. Люблю!..
Диана уводила его в этот туман все дальше, все бесповоротнее, и, как только он терял силы, она вливала в него новые, передавая ему свои…
Они потеряли счет времени, они утонули друг в друге, они позабыли обо всем.
— Люблю!.. Люблю!.. Люблю!.. — Бьерн уже не мог различить, кто произносит эти слова, они звучали и звучали в его затемненном сознании…
Утром, обессилевшие, легкие, словно летящие по ветру, они снова оказались в своей квартире…
Диана уткнулась в грудь Бьерна и дышала теплом его тела.
— Я люблю тебя, — прошептала она, словно эхо из тумана. — Я так не хочу тебя потерять…
Через полгода Бьерн принял послушание в монастыре святого Франциска под Шербуром, а еще через три года, закончив духовную семинарию, стал пастором в небольшом французском городке.
При рукоположении ему дано было имя Серафим…
Премьера
Премьера была назначена на субботу. Оставалось всего три дня, а Бо никак не мог заставить себя встать, умыться, одеться и пойти в театр. Словно птица, которая летит через океан к острову, падает в море, не рассчитав силы, перед самым берегом.
Бо знал, что, если он не придет на генеральную репетицию, спектакль просто не выпустят на зрителя. Но знал он и другое — спектакль готов. Ему не нужны никакие репетиции, его можно играть в любое время, и этот спектакль — лучшее, что сделал в своей жизни Бо.
Последние полтора месяца были особенно трудными. Нет, не сама работа над спектаклем, а все, что сопутствовало ей. А событий навалилось столько, что Бо удивлялся, если за день ничего не происходило.
Если начать с самого пустякового, то это был счет, который предъявили театру за аренду помещения. За эти деньги вполне можно было купить небоскреб в самом центре Манхаттена. Бо таких денег, естественно, не имел. Он посоветовался с юристами, и они его совсем не обнадежили. Хозяин мог просить за свой дом столько, сколько ему взбредет в голову. Конечно, Бо понимал, откуда ветер дует. Он встретился с хозяином и сказал, что платить не будет вообще, так как съезжает из этого помещения. Такой поворот событий несколько отрезвил хозяина, он стал снижать сумму, но Бо уже не хотел иметь с ним дела. Срочно начали искать другое помещение. И тут оказалось, что никто не хочет сдавать Бо для театра ни метра. В конце концов нашли какой-то заброшенный ангар, в котором было холодно и сыро, но репетировать было можно.
Тогда оказалось, что хозяин собирается содрать с театра штраф за неустойку. Ведь у него был с Бо договор об аренде на четыре года. Бо выплатил неустойку, что оказалось немалой суммой.
Потом начались приключения с декорациями и костюмами. Все агентства, которые изготавливали для театров все необходимое, тоже вдруг оказались настолько загруженными работой, что никак не могли взяться за заказ.
Тогда Бо решил поручить все обыкновенным портным и мебельщикам.
Когда с этим более или менее разобрались, из театра вдруг один за другим стали уходить рабочие сцены, уборщики, осветители. Они честно признавались Бо, что просто боятся за свою жизнь. Им угрожали в письмах, кое-кого здорово побили на улице.
Конечно, Бо наносил ответные удары. Статья, которую опубликовал Хьюго, на какое-то время заставила расистов отступить. Но это продолжалось только неделю.
Бо не выплачивал своим актерам зарплату, потому что денег в кассе и на счету не было ни гроша. Впрочем, актеры все прекрасно понимали и не роптали.
Самому Бо пришлось в очередной раз съезжать с квартиры и искать более дешевую.
Но со всем этим Бо кое-как справлялся. У него даже были кое-какие победы.
Однажды он возвращался с репетиции и наткнулся на нескольких черных парней.
Они явно ждали именно его.
Бо теперь носил с собой револьвер, поэтому довольно спокойно встретил угрозу.
Впрочем, револьвер доставать не пришлось. Парни оказались на удивление хлипкими. Он расшвырял их довольно быстро, но потом собрал в кучу и произнес душеспасительную речь, в которой попытался открыть недоумкам глаза. Надо сказать, парни поверили ему. Они даже стали приходить по вечерам к театру и охранять вход, хотя от таких бойцов толку было чуть.
Но все эти беды Бо называл уменьшительно — неурядицы, потому что была беда, совершенная им самим и теперь им самим расхлебываемая.
Уитни стояла в проходе между зрительскими креслами и, чуть склонив голову набок, смотрела на Бо.
— Здравствуй, Бо, — сказала она. — Как интересно видеть тебя на сцене. Наверное, из тебя вышел бы отличный актер.
Она медленно прошла к сцене и, облокотившись, задумчиво осмотрела стулья, кулисы, прожектора…
— Оказалось, что я не могу без этого жить, — сказала она еле слышно. — Я не могу жить без театра и без тебя, Бо. Хотя я иногда не могу отделить вас друг от друга. Ты вывел меня на сцену, ты дал мне почувствовать вкус игры, ты открыл для меня этот странный и притягательный мир. А театр открыл мне тебя. Я думаю, что ты вообще не живешь вне театра. Вся твоя жизнь — продолжение вечных постановок, спектаклей, читок, гастролей… Ведь так, Бо? Я вернулась к своим детям. Они так любят меня. Они так по мне соскучились. Сол был сама тактичность и осторожность. Он ни словом, ни взглядом не упрекнул меня ни в чем. И мне было покойно и хорошо там. А потом все повторилось, Бо. Я вдруг встала среди ночи и пошла к тебе. Ты не почувствовал, что я стояла у твоей двери? Ты не услышал меня, моего дыхания? Это было вчера. И позавчера. И три дня назад. Я стояла у твоей двери и не могла постучать. Потом я шла к детям. А вот сегодня пришла к тебе. И даже, как видишь, постучала и вошла. Я знаю, что ты репетируешь новый спектакль. Слышала, что это какая-то удивительная пьеса. Но я пришла не поэтому. Потому что, если бы я не пришла, Бо, я бы просто умерла.
Уитни помолчала, потом положила голову на сцену, как на плаху, и тихо попросила:
— Не убивай меня, Бо, разреши мне вернуться.
Бо помнил, каким жестоким он был когда-то с ней. Как сам заставил ее бежать в Америку. Он помнил, что максимализм не годится, когда рядом с тобой любимый человек, что человеку надо прощать слабости. И он сказал:
— Ты не умрешь, Уитни. Ты еще походишь к моей двери недельку, другую, упиваясь жалостью к себе, и забудешь все, как страшный сон. Знаешь, в чем дело? Дело в том, что я белый, а ты — нет. У меня черная душа, а у тебя светлая. Моя душа хочет всего и сразу, а твоя жалеет и прощает. Моя душа мучает меня самого. А твоя любит тебя. Нашим душам не ужиться. Пожалуйста, уходи из моей жизни навсегда. Я думал — ничто в жизни не кончается. Кончается любовь, потому что она есть, Уитни. И она кончается. Я не люблю тебя. И никогда не любил, прости. Я любил какой-то придуманный образ. Это была женщина, свободная от всех предрассудков, равная, твердая, сильная. Это не ты, Уитни. Наверное, таких женщин вообще нет. Но моя черная душа хочет всего и сразу. Я думал когда-то, что человека трудно закабалить. Нет, его труднее освободить. Он не хочет быть свободным, потому что некому отвечать за него. Он сам себе и судья, и адвокат, и даже палач.
Ты замечательный человек. Я буду помнить тебя всю жизнь. Я буду благодарить судьбу, что она свела нас вместе. Но я больше не хочу тебя знать. Если бы ты сегодня не вернулась, я так на всю жизнь и остался бы уверенным, что потерял свою любовь. Но ты вернулась… И оказывается, что я тебя не люблю.
Бо встал и, не оборачиваясь, ушел со сцены.
Вот это и была самая большая беда, которую он не мог теперь вынести. Он сам создал ее, она же его теперь и раздирала.
Едва ступив за порог театра, Бо понял, что сделал величайшую в своей жизни глупость, но почему-то не стал возвращаться. И на следующий день, и через неделю, и до сих пор он ничего не сделал, чтобы эту беду отвести. Какая-то упрямая сила удерживала его позвонить, написать, встретить.
А другая сила все время толкала — ну же, перестань, тебе ничего не стоит вернуть все обратно…
Все-таки надо вставать. И Бо, который пил уже несколько дней, заставил себя подняться и пойти в театр.
И тут, в театре, Бо вдруг почувствовал, что что-то происходит вот сейчас, сию секунду, решительное и доброе в его жизни. Это было минутное чувство, которое тут же пропало в суматохе дел. Сразу же прибежало много людей, и у всех дело было самое неотложное. Бо подписывал, советовал, ругал, настаивал, высмеивал, приободрял…
Прошла генеральная репетиция. Прошла прекрасно. Костюмы был отлично пошиты, декорации сделаны ничуть не хуже, чем в театральном агентстве.
— Все, договорился, — прибежал запыхавшийся администратор, — нам на месяц сдадут зал на Бродвее. Завтра можем ставить декорации.
И Бо, который знал, что добиться этого было неимоверно трудно, невозможно почти, даже не удивился. Он только вспомнил то мимолетное чувство счастья, которое посетило его сегодня.
Подошел рабочий и сказал, что с Бо хотят поговорить.
— Кто?
— Сами увидите.
И Бо увидел старых своих знакомых — осветителей и рабочих сцены, которые пришли проситься снова на работу в театр. И снова Бо не удивился.
Охранники, которых Бо когда-то вразумил, приветствовали его. Бо увидел, что их уже стало больше.
— Не бойся, шеф. Они не посмеют вас тронуть, — сказал здоровяк, которого Бо раньше не видел.
— Кого ты имеешь в виду, парень?
— Белых, — ответил тот.
И эта полоса удач длилась до самой субботы. Театр, в который они переехали, оказался вполне пригодным для их декораций, здесь был и хороший свет, и удобный вместительный зал, и большая сцена, и отличные гримуборные.
В субботу Бо был на работе с самого утра. Он знал, что все и так будет сделано, но не мог оставаться дома.
Да и актеры пришли пораньше, ходили по театру бледными тенями, путая друг друга, потому что вдруг ни с того ни с сего выкрикивали куски из своих монологов.
А к вечеру и вовсе началось столпотворение. Такого количества звонков Бо не помнил. Билеты просили посольства и банки, партии и университеты, газеты и железнодорожные компании, просто знакомые и совсем незнакомые.
Бо давал билеты всем, потому что до этого дня не было продано ни одного. Зрители словно выжидали, кто же победит? И теперь спешили поздравить триумфатора. К шести вечера зал был распродан полностью и еще на неделю вперед.
Теперь Бо вышел в фойе встречать гостей. Почему-то ему уже не хотелось скандала на премьере. Ему хотелось достучаться до сердец всех людей, которые появятся сегодня в театре. Ему хотелось сказать им что-то очень важное. А для этого нужны тишина и доверие.
Те, кто знал Бо, пожимали ему руки и говорили какие-то слова. Ах, как ему не хватало всех их, когда театр душили!
Хьюго все время был рядом и постоянно делал какие-то пометки в блокноте.
— Это снова будет сенсация! — говорил он. — Кстати, Бо, познакомься, это Билл Найт, между прочим, друг твоего Джона.
Бо и Билл смогли пообщаться недолго, но неожиданно договорились, что отправятся в Джорджию вместе.
Прозвенел третий звонок.
Фойе опустело.
И Бо, минуту подумав, решил смотреть спектакль из зала.
Он вошел в ложу, когда уже погас свет. Одно место было свободным, и Бо присел на краешек стула, готовый встать, как только появится законный хозяин.
Прозвучала увертюра, медленно пошел занавес… и вдруг чья-то рука легла на руку Бо.
— Тш-ш-ш… Потом, обо всем потом поговорим…
Бо, не веря самому себе, обернулся.
Эльза смотрела на сцену, и тихая улыбка была на ее губах.
Вот на сцене Маша-Мэри и Медведенко-Барри, вот старый негр Сорри, молодой писатель, врач, Нина Заречная-Ривер…
— А сейчас выйдет она? — тихо спросила Эльза.
Действительно, в этот момент должна была появиться на сцене Аркадина-Арчин, и Бо невольно сжался — ведь это могло произойти, Уитни могла быть сейчас там, она могла уже готовиться к выходу. Бо понял, что почти уверен, что именно Уитни сейчас выйдет. Он весь превратился в зрение, ничто уже не существовало вокруг него…
Вот Дорн сказал:
— Тише, идут…
Бо сжался, даже перестал дышать…
Нет, Уитни не было.
Бо перевел дыхание, к нему снова вернулся слух, он снова был в театре, и на его руке лежала рука Эльзы…
Амбар
Всполошив весь дом, Джон обыскал все комнаты, даже кладовки, но Эйприл нигде не было. Платье ее осталось, обувь, пальто…
Никто в доме не видел ночью, куда подевалась Эйприл…
Нашли ее только через полчаса. Она лежала без чувств в том самом загоне, где Уэйд объезжал мустанга.
— Это невозможно, — говорил старичок доктор, — она не могла уйти сама. У нее же совсем не было сил.
Эйприл перенесли в дом и снова уложили на кровать, обложили грелками, потому что на улице девушка совсем замерзла.
И тут Эйприл открыла глаза.
Увидев над собой встревоженную Скарлетт, она слабо улыбнулась, но когда перевела взгляд на Джона, в глазах ее мелькнул испуг и она попыталась встать.
— Уйди, Джон, уйди! — попросила мать. — Ты видишь, она тебя боится.
Джон чувствовал себя совершенным идиотом. Каким-то нашкодившим мальчиком, который скрывает свои безобразия. Он вышел из комнаты и, потерянный, сел в гостиной.
Уэйд появился через некоторое время и сел рядом.
— Ну ты даешь, братец, — сказал он удивленно. — Зачем же так мучить девчонку?
— Да я не мучаю ее, Уэйд, — с отчаянием произнес Джон.
— Ну-ну, я понимаю тебя… — попытался успокоить брата Уэйд.
— Да ничего ты не понимаешь! Вы все ничего не понимаете! Я сам ничего не понимаю! Господи, за что мне такое наказание?! Чем я перед ней провинился?
— Э-э… Женская душа…
— Перестань, Уэйд, не говори пошлостей! При чем здесь женская душа? Я не виноват ни в чем перед Эйприл… Или так виноват, что этого уже не исправить.
— Может, тебе лучше уехать?
— Я уеду. Или я останусь. Я сделаю все, что надо, только скажите мне, что я должен сделать? Как я могу исправить?…
Скарлетт пробежала на кухню и через минуту вернулась снова в комнату Эйприл со стаканом горячего молока:
— Захотела есть! — сказала она на бегу.
— Кажется, ей стало лучше, — потирая руки, сказал старичок доктор, спускаясь в гостиную. — Ничего-ничего, она выкарабкается. У нее крепкий организм…
Джон встал.
— Только вот вам, сэр, я не рекомендую к ней ходить. Видно, чем-то ваш вид ее тревожит. Вы только не обижайтесь, поймите меня правильно…
— Хорошо, я не пойду, — сказал Джон и снова сел.
— Джон! — сверху позвала Скарлетт. — Пойди сюда!
Джон вскочил и бросился наверх.
— Она хочет с тобой поговорить, — шепнула Скарлетт. — Только я тебя прошу…
— Мама! — с досадой воскликнул Джон.
— Ну хорошо, хорошо… Я не буду!
Эйприл сильно похудела за эти часы. Но легкий румянец уже окрасил ее щеки. Она пила молоко, на верхней губе оставалась белая полоска, от которой у Джона защемило сердце. Этот след молока был таким детским, таким беззащитным…
Служанка, которая держала стакан, приговаривала:
— Пей, моя крошка, пей, моя маленькая, вот так, вот так… Еще глоточек…
Эйприл виновато улыбнулась Джону.
— Я измучила вас?
— Нет-нет, что вы?! То есть, конечно, мы испугались… Но это ничего, ничего… Главное, чтобы вы были…
— Я сейчас допью молоко, и мы с вами будем говорить, — сказала Эйприл. — Мы обязательно найдем выход. Мы прорвемся, выкрутимся…
— Вы слышали, что я говорил вам?
— Когда?
— Ночью. Сегодня ночью…
Эйприл растерянно улыбнулась, помотала головой.
— Нет, я не слышала. А что вы говорили? Повторите, пожалуйста, — попросила она.
Джон смутился. Одно дело говорить человеку, который при смерти и не слышит, и совсем другое вот так — глаза в глаза.
— Ну, словом, я утешал вас… Я просил вас держаться… Не сдаваться…
Эйприл улыбнулась.
— И за этим вы приходили ночью?
— Да, мы очень испугались за вас…
— Простите, Джон… Я сама не знаю, что со мной…
— Это вы меня простите, Эйприл, наверное, я наговорил вам кучу всяких глупостей, наверное, я был груб и бестактен…
— Но я же все равно… — Эйприл не договорила. Присутствие служанки смущало ее.
— Я сам посижу с мисс Эйприл, — сказал Джон. — Пойдите и отдохните.
Служанка не двинулась с места.
— Вы уже посидели с ней ночью, — сказала она. — А что вышло?
Эйприл улыбнулась.
— Ничего не случится, — сказала она.
Служанка нехотя поднялась и вышла из комнаты.
— Вы что-то хотели сказать, — напомнил Джон. С уходом служанки в комнате стало как-то слишком тихо.
— Я уже сказала. Я знаю, Джон, что вы не любите меня. Я знаю, что вы любите другую девушку. На самом деле я слышала вас ночью. Я только не все помню, но вы дали мне надежду…
— Боже мой, Эйприл, что вы говорите?! Я отказываюсь верить! Вы же сильная, гордая, независимая… И это вообще как-то не по-настоящему. Из-за чего? Из-за кого?! Да я вовсе не достоин…
— Вы славный, — сказала Эйприл печально. — Конечно, вы не рыцарь на белом коне. Вы маленький самовлюбленный мальчишка… Я все это прекрасно вижу… Джон, это не исправишь головой. Это та блажь, которую вообще не исправишь, потому что она сильнее нас. Ведь я могу наговорить про вас куда больше гадостей. Я так и делаю все время. Но это не помогает, Джон. И я даже не знаю, что мне поможет. Потому что и вас я не хочу! Я только хочу избавиться от этой блажи, а получается все наоборот. Знаете, кто-то мудро сказал — если хочешь возненавидеть человечество, заставляй себя каждый день любить его.
— Нет, Эйприл… Ладно, я больше ничего не буду говорить…
— Ну, вот, на самом интересном месте! Я прошу вас, продолжайте.
— Нет, Эйприл.
— Вы меня жалеете? Но это то же самое, что отрезать хвост собаке по кусочкам, чтобы не мучить ее.
— Ну, хорошо. Только вы не обижайтесь. Обещаете?
— Нет. Я очень хочу на вас обидеться!
— Тогда обижайтесь. Понимаете, Эйприл, я не верю в то, что все это невозможно ну хотя бы контролировать. В самом деле, в человеке очень много сил. Он может управлять собой. Мне кажется, уж вы простите меня, что это у вас действительно блажь. Понимате, Эйприл, все в жизни вам доставалось легко, как мне кажется, по первому желанию, мгновенно… Так не бывает. Человек не может умирать, если ему не досталась игрушка.
— А что он должен делать?
— Отказаться от нее.
— А если не может?
— Да может! Может, Эприл! Вы можете! Мне даже неловко, что я говорю вам об этом. Вы же сами все прекрасно понимаете!
— А вы еще и жестокий мальчик.
— Вы же сами просили…
— Но я надеялась на милосердие…
— Слушайте, Эйприл. Давайте так — просто и четко. А то мы с вами утонули в какой-то каше. Я понимаю, что такое ложь во спасение. Но это не тот случай. Я вас не люблю. И боюсь, никогда не смогу полюбить. Откажитесь от меня. Просто наплюйте. Все, нет такого человека! Я не могу быть милосердным, потому что это — ложь. Вы же не хотите, чтобы я вам лгал?
— Хочу. Я хочу, чтобы вы мне лгали. Я как-нибудь справлюсь с этим. Давайте просто попробуем. Вот возьмите и скажите, что вам кажется, вы уже начинаете испытывать ко мне какие-то теплые чувства.
— Но это действительно так. Я всегда…
— Прекрасно. Продолжайте. Скажите, что вам надо подумать, что все можно исправить…
— Хорошо. Я действительно считаю, что у нас не все позади… Хотя…
— Молчите! Без всяких «хотя»…
— Ну хорошо. А что дальше?
— А теперь поцелуйте меня.
Джон склонился к Эйприл и поцеловал ее в щеку.
— А теперь идите, я немного устала.
Джон уже хотел уйти, но остался.
— Нет, Эйприл, понимате, мы так и оставим все недоговоренным… Я так не могу. Я чувствую себя препаршиво. Я все время юлю, верчусь… Я не люблю туман. Я потому и говорил с вашим отцом, что хочу во всем ясности. Обещайте и вы мне, что постараетесь справиться с собой. Что больше не будете мучить себя. И, Бога ради, не таите все в себе. Ведь проще сказать, накричать, поссориться, чем так!
— Сказать?! Проще? Хорошо! Я люблю вас, Джон, я так люблю вас, что больше ни о чем не могу думать. Я хотела сбежать от вас, от себя, но ничего не получилось. Я мечтаю о каких-то глупостях, я мечтаю о самом стыдном, Джон. Я бы хотела, чтобы вы заставили меня кого-то убить, чтобы заставили меня сделать что-то самое унизительное! Я все сделаю! Если вы хотите, я буду вашей любовницей. Я буду ждать часа, когда вы меня позовете. Если хотите, я стану любовницей своего отца! Я сделаю для вас все! Я вас люблю, Джон, я вас так… ненавижу за это!
Эйприл рыдала. Исступление, с которым она выкрикнула эти страшные слова, потрясло Джона. Нет, Эйприл не была капризной девчонкой, захотевшей новую игрушку. Это была какая-то всесжигающая темная страсть.
Джон просто испугался.
— А теперь убирайтесь вон! Нет, не уходите! Нет, умоляю вас… Скажите, как мне с этим жить? Ведь я просто сойду с ума!
— А как мне с этим жить?! — закричал Джон, не помня себя. — Что мне делать?! Что, убить себя?!
— Что здесь происходит?! — влетела в комнату Скарлетт. — Джон, ты сошел с ума! Убирайся отсюда! Уходи!
Эйприл билась в истерике.
Прибежавший врач снова сделал ей укол опия, и она успокоилась, закрыла глаза, перестала плакать.
«Надо бежать отсюда! Здесь нельзя оставаться, — лихорадочно думал Джон, вышагивая по своей комнаты из угла в угол. — Что за напасть такая! Что у меня не так, как у других? Почему все мои отношения с женщинами так уродливы и жестоки? Зачем все взялись мучать меня? Почему получается, что я всех мучаю?»
— Джон, ты можешь мне объяснить, что произошло? — вошла в комнату Скарлетт. — Мы только-только стали успокаиваться, как ты устраиваешь в комнате бедной девочки скандал, доводишь ее до слез! Ты что, с ума сошел?
— Мама, я не хотел к ней ходить! Это она меня позвала! Я не знал, что так получится.
— Что получится? Что вообще происходит?
— Мама, это очень сложно, это нельзя так просто объяснить…
— У меня есть время! Я послушаю, я должна понять, почему мой сын хочет убить девочку, которая приехала к нам в гости!
— Хорошо, мама, я тебе объясню, может быть, ты подскажешь, что мне делать.
И Джон, как умел, рассказал ей историю своих отношений с Эйприл, начиная с того дня, как они познакомились, и до последнего разговора. Скарлетт слушала не перебивая. Только глубокая морщина прорезала ее лоб.
— Вот они и сбываются, наши с тобой дурные предчувствия, — сказала она, когда Джон закончил рассказ.
— Ах, мама, это все глупости… Лучше ты скажи мне, что я теперь должен делать?
— А что ты сам хочешь делать?
— Не знаю, хочу уехать.
— Нет, сынок, бежать нельзя. Тебе надо остаться возле нее. Ведь она очень славная, Джон. И красивая…
— Мама, я понимаю, что ты хочешь сказать, но я не люблю ее.
— Ну и что? Разве это так важно?
— Мама, что ты говоришь?
— Я говорю, что любовь еще не самое главное. Подумаешь, он не любит! Ну и что? И пусть девочка мучается, пусть умирает?
— Но я люблю другую…
— Где она? Где? Ее нет! Если она есть и любит, то почему не нашла тебя? Но ее нет. Это же так ясно!
— Она есть.
— Значит, она тебя не любит. Значит, она, дай Бог, устроила свою жизнь. А тебе теперь надо только спасти жизнь Эйприл. Поверь, это не так уж мало. Я тоже всегда думала, что важнее любви нет ничего на свете. Есть, сынок, есть много вещей важнее. Чистая совесть, человеческая жизнь, мир, милосердие… Все, из чего складывается наша судьба…
Через три дня Эйприл уже вставала и Джон даже выводил ее гулять в парк. Она теперь была грустна и молчалива. Джон развлекал ее рассказами о своих путешествиях, о друзьях. Эйприл слушала его невнимательно. Она все время как-то прерывисто вздыхала, встряхивала головой, словно гнала от себя какое-то наваждение.
Через неделю должен был приехать Билтмор. Джон и Эйприл договорились тогда и объявить о своей помолвке.
Но еще перед этим произошло событие, которое стало предвестником развязки всей этой большой истории…
Скарлетт и раньше замечала, что парни из городка собираются по вечерам и гоняют по окрестным полям, что-то делают вдалеке от людских глаз, иногда кое-кто из них приезжает к доктору со странными рваными ранами. Соседки, приходившие к ней в гости, все время жаловались на собственных детей.
Когда Эйприл стало лучше, они стали с Джоном потихоньку выходить за ограду поместья, в поле. И как-то мимо них пронеслась кавалькада коней с гикающими всадниками.
Один из них осадил своего каурого и, подъехав к Джону, поздоровался. Это был соседский парень, с которым Джон когда-то бегал на рыбалку, устраивал ночные костры, даже тренировался стрелять из лука.
— Привет, Эл, — ответил на приветствие Джон. — Куда это вы гоните?
— У нас дела, Джон. Настоящие мужские дела!
— А! Это здорово, Эл.
— Не хочешь как-нибудь присоединиться к нам?
— А что за дела, Эл?
— Не могу сказать, ты ведь пока не с нами. Вот соберешься, сам все узнаешь.
— Ладно, я подумаю.
— Думай быстрее. Скоро многие пожалеют, что сегодня не с нами! — выкрикнул Эл и, пришпорив коня, помчался догонять остальных.
Джон не придал особого значения этой встрече. Но на следующий день Эл снова встретил их с Эйприл в поле.
— Ну что, решился?
— А это правда мужское дело? — спросил Джон.
— Да уж более мужского не бывает!
— Ну хорошо. Как насчет завтрашнего дня?
— Приезжай верхом к восьми утра прямо в Сухой Лог.
— Договорились.
— Да, оденься попроще!
Джон ничего не сказал матери. Только просил Эйприл не обижаться, он ненадолго.
К восьми он был в Сухом Логу, куда приехало еще человек пятьдесят.
Эл был здесь же. Он дождался, когда соберутся все, и скомандовал:
— Рысью марш!
С гиканьем и свистом вся компания помчалась в поле.
Джону было весело. Это вообще веселое занятие — мчаться на лошади, чувствуя под собой ее горячее сильное тело, слышать улетающий топот копыт, свист ветра в ушах.
Проскакав через перелесок, вся ватага снова оказалась в поле и свернула к заброшенному амбару.
Здесь все спешились и привязали коней.
— И это все, Эл? — спросил Джон.
— Нет, еще ничего и не начиналось.
Эл уселся прямо на землю, остальные тоже.
— Мы кого-нибудь ждем? — спросил Джон.
— Да, мы ждем инструктора, — сказал Эл. — Ты тоже сядь, а когда он появится, надо вскочить и вытянуться в струнку.
— У вас тут дисциплина?
— Дисциплина нужна везде, — сказал Эл, чем немало удивил Джона, знавшего соседского парня как одного из самых отчаянных сорвиголов.
Вскоре на горизонте показался всадник. Все головы повернулись к нему.
— Инструктор, — сказал Эл.
Джон пытался разглядеть лицо всадника, но это было невозможно, потому что шейный платок с восточным узором оставлял незакрытыми только глаза человека.
Всадник лихо осадил коня, подняв его на дыбы, и спешился.
И тут же вся ватага вскочила на ноги и хором прокричала:
— Добрый день, сэр!
Человек по-военному козырнул и сразу же подошел к Джону.
— Новичок? — спросил он.
— Так точно, сэр! — ответил за Джона Эл.
— Имя? — Инструктор так и не снял платок.
— Джон Батлер, сэр, — снова сказал Эл.
— Очень приятно, — сказал инструктор. — Хотите посмотреть на наши развлечения?
— Да, — ответил Джон.
— А может быть, примете в них участие?
— Может быть.
— Ну, ребята, по коням! — сказал инструктор, и все вскочили в седла. — По моей команде едем до леса, срываем ветку и мигом обратно. Кто будет первым?
Всадники выстроились в линию, припали к гривам своих коней.
Инструктор дал сигнал, хлопнув в ладоши, и все понеслись к перелеску.
Джон тоже участвовал в соревновании. Конечно, ему трудно было тягаться с такими лихими наездниками, как тот же Эл. Да и другие парни держались в седле отлично. Но и Джон не собирался сдаваться просто так.
Он вполне достойно, где-то в середине группы доскакал до леса, сорвал ветку и, развернув коня, понесся обратно.
Четыре всадника были впереди его. Джон пришпорил коня, но почувствовал, что догнать лидеров не сможет.
Он пришел к амбару третьим.
Но самым удивительным было то, что инструктора и след простыл.
— Ну, а где же судья? — спросил Джон. И увидел, что ребята сами растеряны, ничего не понимают.
Они снова все спешились, сели на землю и стали ждать. Но инструктор так и не появился.
Обратно ехали уже не так быстро. Джон почувствовал, что Эл вдруг стал сторониться его, но не придал этому большого значения.
На следующий день он больше не видел всадников.
А потом приехал Билтмор, и Джон вообще забыл о том странном происшествии.
Билтмору сообщили, что дочь его болела, но теперь пошла на поправку. Поэтому он появился встревоженный и деловой.
— Может быть, нам стоит поехать в Европу, пусть тебя посмотрят мировые светила?
— Нет, папа, все уже хорошо. Никуда не надо ехать.
Билтмор рассказал Джону, что создана правительственная комиссия по расследованию, но действовать она будет в строжайшей тайне, чтобы не спугнуть злоумышленников. Стенсона теперь ищет полиция всех штатов, Янга — тоже, хотя это и нелегко было сделать, ведь никаких обвинений официально против Янга не выдвинуто.
Джон и Эйприл объявили о своей помолвке, чем немало удивили Билтмора. Впрочем, он быстро справился с совершенно понятным волнением и благословил вместе со Скарлетт будущих мужа и жену.
— Странная история, — сказал он. — Мой сын муж моей дочери!
Джону, правда, это показалось не забавным, а скорее грустным, но он не обнаружил своих чувств.
Решено было, что через три дня молодые поедут в Нью-Йорк. Билтмор отправится в Вашингтон. А Скарлетт останется дома.
Но всем этим планам не дано было сбыться, потому что перед самым отъездом Джона и Эйприл в доме Скарлетт появился Найт.
Джон уже лег, когда в его окно кто-то постучал.
Джон с недоумением выглянул во двор и увидел человека, который показывал ему, чтобы он вышел.
Джон приоткрыл окно, потому что в темноте не было видно, кто этот странный незнакомец.
— Тише, — сказал тот. — Выйди так, чтобы тебя не заметили.
— Найт? — не поверил себе самому Джон.
— Я, я. Быстро, Джон. Я жду тебя возле конюшни.
Все еще недоумевая, Джон оделся и тихо вышел во двор.
Найт ждал его у загона.
— Это что за ночные приключения? — с улыбкой спросил Джон.
— Приключения впереди, Бат, — ответил Найт. — Дай я тебя обниму. Мы же давно не виделись.
Друзья обнялись.
— Бо хотел приехать со мной, но что-то у него не сложилось.
— Ничего, я увижу его в Нью-Йорке.
— У тебя найдется лошадь для меня? — спросил Найт.
— Ты куда-то собрался?
— Мы. Мы с тобой, Бат, сейчас поедем в одно интересное место. Но нам надо торопиться, поэтому все объясню по дороге.
Джон мигом оседлал двух коней.
Найт с трудом забрался на своего. Все-таки он был городской житель.
Но с конем он управлялся более или менее сносно. Он направил его в поле, и только когда друзья подальше отъехали от дома, сказал:
— Значит, ты собрался жениться на Эйприл?
— Ну только не говори, что пресса знает все. Откуда тебе это известно?
— Да я живу здесь уже около недели.
— Зачем?
— Лавры Шерлока Холмса не дают мне покоя. И надо сказать, я их вполне заслуживаю.
— Куда мы едем?
— Джон, мы едем открывать тебе глаза. Я ничего больше не буду говорить. Ты все увидишь, а выводы сделаешь сам.
Джон вдруг узнал дорогу. Совсем недавно он ехал здесь с ребятами из городка. Точно, так и есть. Вот они проехали перелесок и направились к амбару.
— Слушай, а ты случайно не захватил подушку? — спросил Найт. — Знаешь, я ведь себе уже порядком натер то место, где спина теряет свое благородное название.
Он остановил лошадь возле самого амбара и не без удовольствия слез с нее.
— Хорошо, что ты захватил фонарь, — сказал он Джону, который действительно взял фонарь в конюшне. — Посвети-ка.
Найт раскрыл ворота амбара и смело шагнул внутрь.
Джон вошел следом.
— Это ведь амбар Хоткинсов, правда? — спросил Найт.
— Да, кажется, — ответил Джон, разглядывая пустое помещение.
— А чем они занимаются? — спросил Найт.
— У них вот плантация…
— Они не торговцы?
— Нет.
Найт присел и поднял с пола несколько досок.
Джон приблизил фонарь и обомлел. Под досками был вход в довольно просторный подвал, весь уставленный ящиками и бочками. Джон сразу узнал эти ящики. Точно такие же когда-то везли на корабле в Османскую империю.
Найт спрыгнул вниз. Джон последовал за ним.
Ящики были полны оружия. В бочках был порох.
— Этого хватило бы на вооружение небольшой армии, да, Бат? А такие штучки даже не у каждой армии есть. — Найт сдернул брезент, и Джон увидел диковинную пушку. — Это автоматическая винтовка. Делает четыреста выстрелов в минуту, — пояснил Найт. — Я так прикинул — здесь оружия на полмиллиона долларов. Скажи, у ваших Хоткинсов есть такие деньги?
— Если бы у них была даже десятая часть, они вряд ли стали бы тратиться на винтовки, — сказал Джон. — И ты можешь мне объяснить, как все это оказалось здесь?
— А ты сам поймешь, — сказал Найт. — Только зрелище будет не из приятных.
В самом углу Найт поднял крышку одной из бочек, и Джон вдруг услышал жужжание множества мух.
В бочке лежало человеческое тело без головы.
— Кто это?! — спросил Джон, сдерживая тошноту.
— Посмотри внимательно.
Джон, пересилив себя, приблизился.
— Это инструктор, — сказал он. На обрубке шеи висел тот самый платок с восточными узорами, который скрывал лицо инструктора от Джона при недавнем знакомстве.
Когда они выбрались на свежий воздух, Джон перевел дух и сказал:
— Хорошо. Я все видел, но ничего не понял.
— А разве ты не видел этого инструктора раньше? — спросил Найт.
— Нет, никогда. Да я и в тот раз его не разглядел. У него лицо было закрыто. Но если бы я хоть когда-нибудь видел этого человека, я бы все равно его узнал. Да и потом он сразу же исчез.
— Как исчез?
Джон рассказал о гонке на конях, о том, что, когда все вернулись к амбару, инструктора уже не было.
— Интересно. Если ты его не знал, то чего же он испугался?
— Не знаю.
— Значит, он думал, что ты с ним знаком. И можешь узнать.
— Какая-то путаница. Он думал, что я думал, что он представлял…
— Подожди, а ты ему представился?
— Конечно.
— Ну так и все! Джон Батлер — журналист. Тот самый!
— Ты хочешь сказать, что это был Стенсон?
— Нет. Это был Свит.
— Какой Свит?
— Помнишь, я тебе рассказывал про суд? Это тот самый поборник законности и порядка, который в городке Толл организовал…
— Как?! Как ты сказал?! — перебил друга Джон.
— Свит.
— Нет, городок. Как он назывался?
— Толл…
— Найт, это же тот городок, где мы со стариком видели суд Линча! И Янга!
— Ну, теперь ты уже сам можешь делать выводы.
Джон сильно растер ладонями лицо.
— Нет, — сказал он. — Я все равно ничего не понимаю.
— Бат, — вкрадчиво сказал Найт, — кому ты рассказывал о Янге?
— Тебе.
— И все?
— Нет, Найт, ты опять хочешь вывести меня на Билтмора. Это не пойдет. С этим все ясно. Билтмор здесь не при чем.
— Правда? Откуда такая уверенность?
— Я разговаривал с ним…
— И рассказал ему о Янге?
— Да, Найт, рассказал. Но Билтмор вернулся в Вашингтон и организовал комиссию по расследованию. А Янга ищет полиция всех штатов. Найт, это не Билтмор. Стенсон не стал бы раскрывать тебе имени настоящего организатора. Ведь ты же репортер. Он не мог так рисковать.
— Мог. Он должен был так рисковать. Он все сделал очень точно. Лучший способ скрыть правду — сказать ее.
— Очень уж мудрено. В таком случае Билтмор создал комиссию, чтобы раскрыть себя самого?
— Он не создавал никакой комиссии, Джон.
— Этого ты знать не можешь. В конгрессе тебе о ней ничего не могли сказать, потому что она секретная.
— Но президент о ней должен знать?
— Президент — да.
— А он не знает. Я говорил с ним два дня назад, Джон. У президента очень радужные представления об Америке.
— Президент должен тоже хранить тайну.
— Допустим. Допустим, ему наплевать на то, что в стране готовится государственный переворот. Но в таком случае почему же полиция не арестовывает Янга?
— Она его ищет.
— И не удосужилась заглянуть к нему домой?
— Не может быть… — пролепетал Джон.
— Ведь в вашем доме есть телефон. Просто позвони Янгу. Хочешь с ним поговорить?
Вот только когда Джон вспомнил о своем дурном предчувствии… Вот теперь оно было впору. Потому что…
— Но если Билтмор лжет, это значит…
— Это значит, что тебе недолго осталось жить на свете. Ты собирался в Нью-Йорк? Ты бы до него не доехал…
Джон не дослушал Найта. Он вскочил на коня и помчался домой.
По логике вещей — жить оставалось недолго не только Джону. Свидетелями были еще мать, Эйприл, Уэйд и Сара.
Встреча
Бо действительно не смог поехать вместе с Найтом, потому что Эльза, с которой Бо собирался познакомить свою родню, просила его немного повременить.
— Дай отдышаться, Бо. Я не могу так сразу, я должна хотя бы немного привыкнуть к этой мысли. Потом у меня в Нью-Йорке кое-какие дела. Мы поедем через неделю.
— Знаешь, Эльза, я знаю эти дела — мы и через год не сможем выбраться. А я не виделся с семьей уже столько лет. Мой двоюродный брат жил у меня под боком, а я не встречал его ни разу.
— Обещаю тебе, что через неделю мы поедем в Джорджию.
— Точно?
— Бо, я держу слово. Запомни это раз и навсегда.
И они остались.
Спектакль шел с огромным успехом. Все билеты были распроданы. Администратор стал уже искать новое помещение, чтобы еще месяца на два арендовать его. И скоро нашел.
Больше всего Бо тревожило то, что он так и не получил ответа от мистера Чехова.
— Это можно сделать очень легко, — сказал ему Хьюго. — Я попрошу нашего корреспондента в России встретиться с Чеховым и обсудить все проблемы.
Так и было решено. Хьюго отправил телеграмму корреспонденту, а тот пообещал встретиться с доктором Чеховым. Для Бо было открытием, что Чехов, оказывается, был врачом.
Вскоре он узнал, что в Нью-Йорке появилась еще одна театральная труппа, в которой играют темнокожие актеры. Он даже пошел к ним на репетицию и познакомился с режиссером и всеми артистами. Эта труппа ставила исключительно музыкальные спектакли. Но все ее участники, как один, признавали заслугу Бо, который первым осмелился вывести на сцену негритянскую труппу.
Эльза не лгала, когда сказала, что у нее есть в Нью-Йорке дела. С детства она усвоила одну простую истину — счастья не построишь на чужом горе.
Бо говорил ей, что с Уитни у него все закончилось и он теперь абсолютно свободен. Но Эльза все-таки решила поговорить с бывшей женой Бо. Что она скажет ей, какие слова найдет — Эльза и сама этого не знала.
Когда она ехала в Нью-Йорк, у нее и мысли не было, что все может так обернуться. Она уже смирилась с тем, что Бо потерян для нее навсегда. Она только мечтала об одном — увидеть его хотя бы раз, посмотреть на его счастье. И конечно, она очень хотела побывать на спектакле. Ведь она по-настоящему была влюблена в творчество Бо. Что-то в ее душе откликалось на мощную мелодику его спектаклей. Словно кто-то очень близко ее знающий ставил перед ней волшебное зеркало, и она видела себя всю насквозь, до самых заветных уголков.
То, что произошло, было для нее неожиданным и поэтому путающим подарком. Она почувствовала и тот момент во время спектакля, когда Бо весь сжался в ожидании выхода Уитни, когда словно весь устремился к сцене, и тот момент, когда вернулся как бы из летаргического сна и оказался снова рядом с ней.
Бо даже не пошел в тот вечер вместе с актерами праздновать премьеру. Они с Эльзой заперлись в его номере и стали говорить-говорить… Всю жизнь державшая себя в железных доспехах независимости, сурово казнившая себя за тот безумный вечер в Вене, когда она умоляла Бо не уходить, Эльза теперь смеялась и плакала, не стесняясь своих чувств, своих ласк, своих слов.
И с Бо творилось тоже что-то необычное. Он тоже как будто превратился в мальчишку. Они говорили наперебой, вспоминали, радовались и каялись, но вдруг замолкали и горячо ласкали друг друга, а потом снова начинали говорить. И это была для обоих как отдушина после долгого заточения в духоте. Оба были просто счастливы, счастливы и беззаботны.
Бо сказал, что обязательно познакомит ее со своими родными. Эта мысль естественно продолжила их разговоры, Бо вдруг показалось, что именно этого ему всегда не хватало — крепкой семьи. Семьи, где все друг другу помогают, где все заботы — общие. Она, эта мысль, была неожиданной для него самого, свободного одинокого волка. Эта мысль была предвестником устойчивого и постоянного счастья, которое раньше путало Бо, а теперь казалось единственным достойным жизни человека.
Но на следующее утро Эльза поняла, что не может вот так просто принять это счастье, она должна знать наверняка, что никому от этого не станет больно.
И она пошла к Уитни.
Дверь открыла служанка и на вопрос Эльзы ответила, что хозяйки нет дома, она сейчас гуляет с детьми в сквере напротив.
Эльза поблагодарила и спустилась в сквер.
Уитни сидела на скамейке с книгой в руках, но не читала, а смотрела на детишек, которые бегали между кустами, весело смеялись и кричали.
Эльза не стала сразу подходить. Она решила понаблюдать за Уитни издали. Она хотела получить ответы на свои вопросы в самом лице этой женщины, в ее глазах, улыбке, жестах.
Уитни действительно улыбалась, глядя на малышей. И Эльза, которая ожидала найти в улыбке затаенную грусть, невысказанную печаль, не увидела этого. Это была счастливая мать добрых и милых детей.
Потом Уитни снова вернулась к книге, но и здесь ее лицо не омрачилось печалью. Она читала, перелистывая страницы, что-то увлекательное, потому что какое-то время не могла даже поднять от книги глаз.
Потом к ней подбежала девочка, и они о чем-то поговорили. И снова Уитни улыбалась безмятежно.
— Здравствуйте, миссис Уитни, — сказала Эльза. — Я Эльза Ван Боксен. Не уделите ли вы мне минутку?
— Здравствуйте, миссис Эльза, — недоуменно ответила Уитни. — Чем могу служить?
— Вы разрешите присесть?
— Конечно. Извините.
— Наверное, этот разговор вам покажется странным и даже неприятным, вы можете мне прямо сказать об этом, и я уйду, но, поверьте, мне он крайне необходим, чем бы он ни закончился.
Уитни вдруг нервно отложила книгу и поправила боа.
— Значит, вы?.. — спросила она.
— Да, — ответила Эльза.
— И что вам от меня нужно?
— Скажите, миссис Уитни… м-м… даже не знаю, как это спросить… Словом, это большое горе для вас?
— Горе? Что вы имеете в виду?
— Ваше расставание с Бо… Простите, это звучит так глупо…
— Ах, вот вы о чем… И почему же вас это волнует?
— Вот это проще объяснить. Ведь я в какой-то мере — причина этого расставания, хотя, насколько я знаю, это произошло еще до того, как я приехала в Нью-Йорк. Просто теперь Бо будет непросто вернуться к вам, даже если он этого очень хочет. Он порядочный человек и…
— Да?
— И я не хотела бы пользоваться его порядочностью.
— То есть вы пришли меня спросить, хочу ли я, чтобы Бо вернулся? Нужно ли мне это?
— Да.
— Я хочу, чтобы он вернулся. Мне это нужно.
— Понятно, — сказала Эльза. — Еще раз простите меня. Всего вам доброго.
Она встала и решительно двинулась к выходу из сквера.
— Постойте! — остановила ее Уитни. — Подождите! Миссис Эльза, не уходите, пожалуйста!
Эльза остановилась.
Уитни подошла к ней и взяла под руку.
— Пожалуйста, давайте продолжим наш разговор.
Они вернулись к скамейке.
— Что вы собрались сделать? — спросила Уитни.
— Уезжать, — коротко ответила Эльза.
— Правда? Вы не шутите?
Эльза достала из сумочки билет и показала Уитни. Это был билет на пароход, который сегодня вечером отправлялся в Европу.
— Вам не следует уезжать, — сказала Уитни. — Вам следует остаться.
— Почему?
— Чтобы быть с Бо. Знаете, я ведь сказала правду — я очень хочу, чтобы Бо вернулся, он мне очень нужен. Но я не хочу терять своих детей. Я понимаю, что это звучит странно — выбирать между мужчиной и собственными детьми. Но так сложилось. Ничего нельзя исправить. Можно затеять суд, мы так и хотели поступить. И я уверена — мы бы его выиграли. Но дело не в этом. Дело в том, что я постоянно буду выбирать. Дело в самой возможности этого выбора. Понимаете, это просто значит, что я могу легко уходить и легко возвращаться. Одинаково легко. А хоть что-то из этого должно быть трудно.
— Вы любите его?
— Я люблю свою любовь к нему. Это действительно льстит моему самолюбию, но в любой момент я могу ею с легкостью пожертвовать. А потом снова попытаться вернуть. Оставайтесь, прошу вас. Ведь я же просто измучаю Бо. Он всегда был доступен для меня, и я этим пользовалась. Это же я должна просить у вас прощения. Ведь там, в Вене, это я отняла его у вас. И не пришла к вам и не спросила — вам больно? Теперь у меня такой возможности не будет. И я действительно постараюсь обо всем забыть. Знаете, я уже привыкаю к мысли, что у меня нет Бо. Мне пока очень трудно без театра. Вот это в самом деле тяжело. Но уж тут ничего не поделаешь.
— Спасибо вам, — сказала Эльза. — За вашу честность и любовь к Бо. Я не уеду. Я останусь. А вы снова будете работать в театре. Только тогда я буду совершенно спокойна.
Глаза Уитни наполнились слезами. Она схватила Эльзу за руку и благодарно сжала.
— У вас чудесные дети, — сказала Эльза.
— Правда, вам тоже они нравятся?
— Правда. В них есть ваше сердце.
На следующий день Хьюго сообщил Бо, что корреспондент встретился с доктором Чеховым и обо всем с ним поговорил. Оказалось, что доктор не получал ни письма, ни телеграммы, но все изменения, которые сделал в пьесе Бо, он понимает и дает на это свое разрешение.
— И еще он сказал, что очень хочет посмотреть спектакль о маленьком американском ранчо, — закончил Хьюго с улыбкой.
— Чудесно! Когда я вернусь из Джорджии, мы пригласим доктора в Америку.
— Значит, ты все-таки едешь?
— Сам удивляюсь, Хью. Меня тянет туда, словно магнитом. Никогда не думал, что семейные связи сидят во мне так глубоко. Что это — старость?
— Это мудрость, — ответил Хьюго. — Передавай привет Найту и Джону. А завтра я привезу тебе для Найта небольшой пакет.
И еще через три дня Эльза и Бо сели в поезд.
— Какая огромная страна! — говорила Эльза, рассматривая пробегающие за окном бескрайние поля, леса, горы. — Какая огромная и неустроенная!
— Подожди, мы молодая нация! Мы еще покажем вашей старушке Европе! — смеялся Бо. — Вы еще будете нам завидовать.
Эльза выходила на каждой станции. Обязательно узнавала ее название, что-нибудь непременно покупала и спрашивала у продавца:
— Скажите, сэр, когда-нибудь старушка Европа будет вам завидовать?
— Непременно, мэм. У нее просто слюнки будут течь! — бодро отвечал продавец.
Бо самодовольно смеялся и давал продавцу денег намного больше, чем требовалось за товар.
— Вы все здесь или гиганты, или сумасшедшие! — с восхищением говорила Эльза.
— И то и другое! Это та земля, Эльза, где все человеку дается при жизни — и награды, и возмездие!
Бо был счастлив. Это чувство редко посещало его. Только в детстве он испытывал то же. Это легкое ощущение безбрежности жизни, дыхание полной грудью, ощущение бессмертия как данности и даже привычной обыденности.
Он действительно хотел домой. Он хотел обнять Скарлетт. Похлопать по спине Уэйда, поспорить с Джоном, который тоже ведь стал заниматься искусством. Он хотел просто пройтись по полям, поболтать со встречными, поваляться на траве. Съесть огромную тарелку дынной каши. По вечерам они с Эльзой будут сидеть на веранде и разговаривать. Потом придет усталость от отдыха, желание снова взяться за работу. Он начнет обдумывать новый спектакль, и начнется новая сладкая мука. Но сейчас он просто едет к родным.
Ночью они говорили с Эльзой о любви. Оказалось, что и она всегда скептически относилась к этому понятию. Это была и для нее какая-то общая договоренность — считать, что любовь существует. Часто за любовь принималось влечение. Но люди все же настаивали на некоей высокой любви, идеальной. Мечтали о ней, добивались ее… Эльза тоже считала это некоей игрой, условностью.
Но вот теперь что-то дало трещину в ее скепсисе. И она начинает верить…
На их станции поезд остановился ночью. Бо никого не предупредил, поэтому их никто и не встретил. Оказалось, что здесь они с поезда сошли одни. Сонный железнодорожник объяснил, что им или придется ждать до утра, когда появятся извозчики, или идти пешком.
Бо отдал чемоданы на хранение, и они с Эльзой пошли к имению.
— Мы придем, а все еще спят, — говорила Эльза. — Перепугаем всех.
— Что ты! Нам так будут рады! Ты себе и представить не можешь, какой переполох начнется в доме! Я сам поставлю всех на ноги! Они поклонятся представительнице великой Вены!
— Вот этого не надо.
— А это я наврал. Тебя станут рассматривать долго и подозрительно. Будут расспрашивать, сколько у тебя дохода, нет ли у тебя детей на стороне, в который раз ты выходишь замуж и умеешь ли ты мыть посуду.
— Ну, тогда я тоже буду совать нос во все углы, морщиться за обедом и сетовать на неизысканную пищу, на воду, на воздух, на дом и на все на свете.
— Я думаю, вы найдете общий язык.
Дорога оказалась не такой уж ближней. К дому Бо и Эльза подошли, уже когда стало светать.
— Сейчас мы устроим небольшое представление. Я буду швырять камешки в окно и прятаться, пока им не надоест и они сами не выйдут из дома, — заговорщицки предложил Бо.
— Мальчишка! — засмеялась Эльза.
Впрочем, с камешками ничего не вышло, потому что когда они подошли к воротам, то увидели двух всадников, подскакавших к крыльцу и спешившихся.
— Джон! — радостно воскликнул Бо шепотом. — Ну сейчас я его напугаю. Побудь здесь.
И Бо, скрываясь за кустами, стал приближаться к дому.
Эльза увидела, как Бо притаился рядом с Джоном и его спутником. Как те двинулись к дому и как Бо одним прыжком оказался возле своего родственника… И тут какой-то резкий звук оборвал утреннюю тишину.
Бо покачнулся и упал…
— Что ты один можешь сделать?! — кричал Найт, конь которого еле поспевал за скачущим во весь опор конем Джона. — Нам надо скакать в полицию!
Но Джон даже не оборачивался.
Сейчас он думал только одно — успеть! Ведь в доме остались самые близкие ему люди. Остались, не подозревая об опасности. Впрочем, Билтмор ведь тоже не подозревал ни о чем. Он думает, что у него еще есть время. А времени у него не должно быть.
— Найт! — наконец отозвался Джон. — Скачи в полицию сам. Я должен быть дома!
— Нет, Бат, я вместе с тобой!
И хотя кони неслись быстрее ветра, дорога до дома показалась Джону бесконечной.
Уже начинало светать, когда показалась усадьба.
— На стене в кабинете висят ружья! — крикнул Найту Джон. — Патроны в нижнем ящике стола. Беги сразу же туда!
— Хорошо!
Они махом перелетели через ограду и подскакали к крыльцу.
— Только ты мне объясни, где кабинет, — сказал Найт, спешиваясь.
— По лестнице вверх. Направо третья дверь.
— Пошли.
— Я первый, — сказал Джон и шагнул к крыльцу.
И в ту же секунду одновременно кто-то бросился на него сзади и прогремел выстрел.
Джон инстинктивно обернулся и увидел вдруг очень знакомое лицо. Это был Бо.
Бо еще улыбался и протягивал руки к Джону.
— Вот мы и увиделись, — сказал он.
Качнулся вперед и упал ничком на землю.
Все это произошло мгновенно.
А дальше кто-то закричал высоким голосом и раздались еще три выстрела…
Пули просвистели мимо…
Джон и Найт пригнулись и бросились в дом, потому что стреляли из сада.
Еще через несколько секунд Джон уже держал в руках ружье и, заряжая его, бежал к выходу.
Какая-то незнакомая женщина склонилась над телом Бо. Ужас застыл на ее лице.
Все это Джон отметил краем сознания.
Он выскочил в сад и помчался туда, откуда стреляли.
А из кустов снова прогремел выстрел, и на этот раз пуля выбила фонтанчик земли из-под ног Джона.
Он выстрелил почти наугад. И сразу же понял, что попал, потому что в кустах кто-то громко охнул.
Джон для верности послал еще две пули и только тогда медленно подошел.
Стрелявший действительно был мертв. Но это был не Билтмор. Джон никогда не видел этого человека, хотя догадывался, кто он. Это был Стенсон.
Впрочем, Джон недолго стоял возле неподвижного тела.
Он бросился домой.
Возле Бо уже собрались все, кто был в доме, кроме Билтмора и Эйприл.
Скарлетт утешала незнакомую женщину. Кто-то уже побежал за доктором, потому что Бо хоть и был без сознания, но — живой. Пуля пробила ему легкое сзади чуть ниже сердца.
Джон немного успокоился. Но и здесь он не задержался. Он должен был схватить Билтмора.
Впрочем, за него это уже сделал Найт.
Он держал конгрессмена на мушке, а тот бледный и испуганный сидел на стуле в гостиной, одетый и даже причесанный.
Забившись в угол, стояла Эйприл. Лицо ее было — одни огромные глаза.
Когда Джон вошел, Билтмор испуганно закрылся руками и вскрикнул.
— Это был Стенсон, — сказал Джон Найту.
— Боже мой, Стенсон был здесь?! — воскликнул Билтмор. — Это Стенсон стрялял в вас? Значит, он хотел убить и меня!
Джон и Найт переглянулись.
— Зачем ему было убивать вас, Билтмор? — сказал Найт. — Только затем, чтобы убрать заказчика убийства?
— Мистер Найт! Вы говорите абсолютную чушь! Я не знаю Стенсона. И мне незачем было заказывать ваше убийство. Это какая-то дикость, Найт! Джон, объясните ему, что все не так, как он думает.
— Зачем? Мы просто позвоним сейчас Янгу и пригласим приехать к нам. Пусть он все объяснит.
— Но Янг скрывается.
— У себя дома, — сказал Найт.
— Значит, его уже арестовали.
— Черт возьми вас, Билтмор, совсем! — закричал Найт. — Как же вы умеете постоянно выкручиваться! Ну надоело, понимаете, надоело!
— Найт, вы сошли с ума! Вы городите какую-то чепуху! Вы говорите глупости. Мне все передал Джон. Мы объяснились. Работает комиссия.
— Никакой комиссии нет, Билтмор. Это — ложь. Я сам говорил с президентом.
— Но президент ничего не знает!
— Хорошо, мы сейчас же звоним в Нью-Йорк, и, если Янг дома, вы прекратите выкручиваться, договорились?
— Янга не может быть дома! Его арестовали! Его должны были арестовать!
Найт поднял трубку телефона и заказал разговор с Нью-Йорком.
В это время приехал врач. Решено было делать операцию прямо в доме.
— Останься с ним, Найт, я помогу, — попросил Джон.
Бо перенесли в спальню и подготовили к операции.
Незнакомая женщина вызвалась ассистировать. Она приехала с Бо и представилась его невестой Эльзой Ван Боксен. В суматохе не было времени особенно разговаривать.
Скоро появились и полицейские, которых Найт отправил к амбару.
Соединили с Нью-Йорком.
— Доброе утро, — сказал в трубку Найт. — Мистера Янга младшего позовите, пожалуйста… Да, это его друг мистер Билтмор… Когда?.. Понятно… И он не сказал, куда идет?.. Спасибо. Я позвоню попозже.
Найт повесил трубку.
— Он вчера вышел из дому вечером и до сих пор не вернулся, — сказал Найт несколько озадаченно.
— Вот! Его арестовали! — радостно воскликнул Билтмор.
— Или предупредили, — сказал Найт.
— Я никого не предупреждал. Найт, Джон, это какая-то страшная ошибка! Правда! Я и сам теперь понимаю, насколько она сильно бросает на меня тень. Но я здесь ни при чем!
— Билтмор, кто должен был арестовать Янга? — спросил Найт.
— Полиция.
— С кем конкретно вы говорили об этом?
— Я говорил с комиссаром Туборгом. Вы можете ему позвонить!
— Кто входит в комиссию?
— Конгрессмены Лайн, Карт и Нильсон. Я знаю только эти три фамилии.
— Они в Нью-Йорке или в Вашингтоне?
— Лайн и Карт — в Вашингтоне. Нильсон в Лос-Анджелесе. У всех есть телефоны. Позвоните им сейчас же, Найт. Я думаю, что Стенсон стрелял не в Джона, а в вас! Ведь он вам назвал мое имя. Они опять хотели подставить меня!
— Я сейчас позвоню комиссару и Лайну, — сказал Найт. — Я с ними знаком. И если то, что вы говорите, правда…
— Найт, только не надо каяться и просить прощения. Я и сам на вашем месте подумал бы то же, — сказал Билтмор.
Найт поднял трубку, но в этот момент раздался тихий голос Эйприл.
— Не надо звонить, Найт. Вам скажут то же, что говорит отец. Только это будет еще одна ложь…
Билтмор бросился к двери, сбив с ног Найта.
Но его легко поймали, не дав даже выбежать из дома.
Сила и слава Америки
Судебный процесс прошел незаметно. Газеты не писали о нем, хотя корреспондентов на процесс допускали. Правительство и президент обратились к издательствам с просьбой не поднимать шума, потому что это может подорвать престиж Соединенных Штатов.
Билтмора приговорили к десяти годам каторжных работ. Янга — к повешению. Лайн, Карт, Нильсон, Туборг и другие конгрессмены, члены правительства, бизнесмены, полицейские, партийные функционеры и просто исполнители получили разные сроки.
На суде фигурировала карта Соединенных Штатов. Это она была в пакете, который передал Найту Хьюго. На ней были заботливо нанесены многочисленные базы огромной организации, которая собиралась установить в стране другой порядок. Много говорилось об идеологии этой организации — расизм, единовластие, отмена демократических институтов…
Цель организации была проста и близка к успешному завершению. Члены ее контролировали на момент ареста огромную часть территории страны. Их армия насчитывала несколько сот тысяч добровольцев. У них было оружие, командиры, разработаны планы действия.
На суде Билтмор произнес пламенную речь о том, что Америка погибает от распущенности и засилья негров и эмигрантов. Богатейшая страна мира превращается в свалку отбросов всего цивилизованного мира. Только сильная власть, власть в традициях времен завоевания Дикого Запада, могла вернуть Америке былую силу и величие.
Эта речь некоторыми была даже принята благосклонно. Но когда прокурор стал показывать суду фотографические снимки обезглавленных женщин, повешенных мужчин, сожженные трупы, склады оружия, схемы организаций, их порядок действия, в зале поднялся страшный шум. Почти в каждом штате, городе, городке эти организованные отряды должны были уничтожить всех демократически избранных мэров, шерифов, судей… Входили в это число и просто видные граждане страны.
Во время одного из судебных заседаний из зала стали стрелять в подсудимых. Правда, никого даже не ранили, но с этого инцидента подсудимых отгородили от зала непроницаемой стеной.
Джон не ходил на заседания. Ему о них подробно рассказывал Найт.
Бо понемногу поправлялся. Эльза собиралась везти его в Швейцарию, как только он сможет отправиться на корабле.
Эйприл снова слегла. На этот раз она болела намного дольше.
Она не хотела видеть Джона. Хотя он приходил к ней каждый день. Ей казалось, что она виновата перед ним. Впрочем, это так и было. Хотя Джон простил ей все. Он передавал Эйприл, что по-прежнему хочет жениться на ней.
Через два месяца после суда Джон снова стал снимать кино.
Это была короткая новелла о любви…
1918 год
Наконец в доме все уснули.
Ретт подождал еще немного. В доме было тихо.
Тогда он встал с кровати, стараясь не скрипеть половицами, достал из комода мешок, поднял оконную створку и выпрыгнул на улицу.
Ретт бежал так, что ветер свистел в ушах. Но усталости не было. Так птица летит из силков, так зверь бежит из капкана, так невольник вырывается из пут. Они мчатся и мчатся, не замечая усталости, пока не свалятся замертво, пока не наткнутся на преграду, пока не умрут. Но Ретт вовсе не собирался умирать или натыкаться на преграду. Он знал поля и перелески этого края лучше собственной ладони. На ладонь ему вообще некогда было смотреть, а по полям он бегал с самого раннего детства, стараясь поспеть за конем своего старшего брата.
Ретт навсегда покидал родной дом. Ретт бежал в столицу мира — Нью-Йорк. Конечно, он мог сделать это и менее романтическим способом. Сказать брату, и тот обязательно его бы отпустил. Но Ретт должен был все сделать сам. Сейчас он добежит до станции и сядет в проходящий товарняк. И уже через несколько дней будет в Нью-Йорке.
Ретт бежал, не оглядываясь, поэтому не видел, что из окна грустно смотрит ему вслед его брат Джон.
Джон давно знал, что братишка собрался бежать, знал и ни словом не дал понять Ретту. Он просто положил в его дорожную сумку бритвенный прибор своего отца.
— Все-таки убежал? — спросила жена.
— Да, — сказал Джон. — Дай Бог тебе удачи, мальчик.
Уже пять лет после смерти Скарлетт Джон жил здесь. Здесь была и его студия. Хотя поначалу мало кто хотел ехать из Голливуда в такую глушь, но потом собрались отличные работники. Когда павильоны простаивали, Джон сдавал их другим съемочным группам. Скоро пришлось расширяться, потому что многие известные кинематографисты считали за честь поработать на студии Джона.
Скарлетт умерла легко. До последнего дня она чувствовала себя здоровой и полной энергии. Ее можно было увидеть днем в саду и на кухне, в кабинете и в столовой, она ездила в Тару к Уэйду, в Нью-Йорк к Бо и в Калифорнию к Джону. А в тот день она вдруг позвала к себе Доста и сказала:
— Пусть Джон вернется.
И ночью умерла во сне.
Ее похоронили рядом с Реттом Батлером. На похоронах было много людей, которых она любила и которые любили ее.
А Джон выполнил ее последнюю волю и вернулся домой.
Теперь они с женой жили здесь.
Билтмор умер в тюрьме через три года. Его сын, которого Скарлетт родила летом, так и не увидел отца. Впрочем, он считал, что отец его погиб. Скарлетт назвала мальчика Реттом, хоть этим пытаясь загладить свою вину перед вечной своей любовью.
Бо теперь владел театром на Бродвее. У него была и театральная студия, и несколько сценических площадок. Из Швейцарии, где он лечился после ранения, Бо съездил в Россию и познакомился с доктором Чеховым. На всю жизнь сохранил он память об этом тихом и мудром человеке.
Уитни все-таки развелась с мужем. Она жила теперь одна со своими детьми, работала у Бо в театре и очень дружила с Эльзой.
А Эльза стала организатором общества за равноправие женщин. Разъезжала по всему миру, выступала с пламенными речами, писала книги и статьи. Бо немного посмеивался над ней, но Эльза не обижалась на мужа.
— Я терплю твой деспотизм только потому, — шутила она, — что люблю тебя.
Одна беда омрачала их жизнь. У них не было детей. Впрочем, они взяли на воспитание двух малышей, с которыми в основном приходилось заниматься Бо, так как Эльза все время была в отъезде.
Бьерн приезжал в Америку. Он работал теперь в канцелярии кардинала и отвечал за международные связи католической церкви. Стал он совсем кругленьким, уютным, чуть медлительным, но остался таким же веселым и даже озорным. Он привез Джону предложение вновь снять фильм об Иисусе Христе. Но Джон отказался.
— Я уже снял этот фильм, Бьерн, — сказал он.
— Но ведь его никто не видел.
— Никто? — спросил Джон.
И Бьерн — а Джон никак не мог привыкнуть к новому имени друга, Серафим, — понял, что имеет в виду Джон.
Старый Джон передал все дела тому самому парню из Огайо, которого Джон когда-то устроил на работу. Он сделал это не без злорадства — пусть теперь сам покрутится с этими профсоюзами! Жил в особняке в самом центре Нью-Йорка и целыми днями принимал делегации из сиротских домов, щедро раздавая им деньги. С Джоном старик помирился. Джон сам попросил у старика прощения. Ведь тому действительно было чего бояться. Иногда старик звонил и спрашивал, не собирается ли Джон прислать в Нью-Йорк какого-нибудь молодого и честолюбивого парня. Старику есть о чем рассказать юноше.
Вот теперь, если старик повстречается с Реттом, у них может получиться беседа.
Диана стала социалисткой и собирала в Европе помощь для революции в России. Замуж она больше никогда не вышла.
Уэйд по-прежнему жил в Таре, теперь он был одним из самых известных в стране производителей табака. Каждая табачная фирма считала за честь сотрудничать с ним.
Дети его отправились учиться в Европу. А Сара долгое время болела, но теперь дела у нее пошли на поправку.
— Надо отправить телеграмму Бо, чтобы он присмотрел за Реттом, — сказал Джон жене.
— Ты хочешь, чтобы все повторилось? — спросила она.
— Нет, просто хочу, чтобы мальчик не пропал.
— Он не пропадет. У него ваш, батлеровский характер.
— Да. Вот уж в этом я теперь совершенно уверен.
— Отправишь завтра утром. А сейчас ложись. Тебе надо поспать.
Джон лег рядом с женой, но уснуть не мог.
— Сколько лет прошло с тех пор, когда мы увиделись впервые? — спросила жена.
— Семнадцать, — сказал Джон. — Тебе тоже не спится?
— Да. Разве можно уснуть…
Джон обнял жену.
— Ничего, мы еще не старики, — сказал он. — Грустно, конечно, что нельзя уже вот так взять дорожную сумку и бежать куда глаза глядят. Но каждый поступок для своего возраста.
— Ты правда так считаешь?
— Нет, я так не считаю, — признался Джон.
— И я, — сказала жена.
— Вот видишь, значит, мы еще не старики.
Жена пригрелась на его плече и скоро уснула. А Джон подумал, что она права. Он и сейчас готов бросить все и бежать на край света. Впрочем, нет, не все. И не всех…
Найт теперь был главным редактором вместо Хьюго, а лучшим его репортером стал Цезарь. Кроме того, Найт организовывал первую в Штатах радиостанцию, вкладывал в это дело огромные деньги. На его счету было много еще раскрытых безобразий в жизни страны. Доставалось и президентам, и конгрессменам, и губернаторам… Каждую зиму Найт приезжал к Джону. Он писал теперь книгу. Это Джон его заставил. Просто взял клятву, что тот будет на месяц бросать все дела и писать о своих приключениях в бытность репортером. Найту это занятие понравилось. Он наконец женился, и у него даже появился малыш. Найт привозил его к Джону. И тот, впервые в жизни, нетвердыми своими ножками топал по настоящей земле, не залитой асфальтом и не забитой камнями.
Нет, всех Джон никогда бы не бросил. Не для того он так долго искал своих друзей. Не для того он так долго искал свою жену.
Эйприл болела почти год. Но когда вышла из больницы, уехала, не оставив ни адреса, ни просто письма. Джон искал ее на Кубе, в Африке, в Южной Америке. Ее не было нигде.
Он снова начал снимать в это время кино. Его фильмы выходили небольшими тиражами, но имя Джона было хорошо известно всем, кто любит кино не как развлечение, а как искусство.
Теперь он постоянно работал с Тома, который перебрался из Европы в Америку. Они снимали документальное кино, они снимали игровые фильмы, видовые, большие и маленькие…
В то время они искали актеров для экранизации рассказа Мопассана «Пышка».
Собственно, актеров они нашли, только возникла одна курьезная проблема — актриса отказывалась сниматься обнаженной. А для Джона очень важная была сцена, в которой Пышка, доведенная до отчаяния своими спутниками, вынуждающими ее уступить офицеру, срывает с себя одежду и бросает ее прямо в лица этих буржуа и святош.
Он подолгу говорил с актрисой, убеждал ее, рассказывал о сцене, но она была непоколебима.
Тогда помощники подсказали ему выход — нанять статистку, которую Джон снимет со спины. Джон согласился.
Правда, этот выход не показался ему таким уж идеальным. Он не любил обмана нигде, тем более в кино. Домой он в тот день вернулся расстроенный. Попытался переосмыслить задуманную сцену, но ничего не получалось.
Он вышел на улицу, чтобы просто прогуляться.
Шел дождь. Не самое удачное время для прогулок. Но Джону даже нравилось. На улице было мало людей, и никто не мешал Джону думать.
Он несколько раз обошел квартал, так ничего не придумал и вернулся домой.
И здесь он увидел, что на его крыльце сидит какой-то незнакомец.
Сердце Джона тревожно екнуло, хотя он сначала и подумал, что это какой-то нищий. Они часто сидели на крыльце у Джона, зная, что он обязательно пошлет им поесть и какие-то деньги.
Но это был не нищий.
Когда Джон подошел ближе, незнакомец поднялся и шагнул навстречу. Луч фонаря упал на лицо — это была Эйприл.
Джон весь вечер отпаивал ее горячим вином, кутал в теплые одеяла, но Эйприл никак не могла унять дрожь. Только потом Джон понял, что дрожала Эйприл не от холода.
Ее рассказ был грустным и однообразным. Она переезжала с места на место, снова на Кубе учила детей, но потом поехала в Боливию. Там снова попала в больницу. Из Боливии уехала в небольшой городок в Карпатах. Но и там пробыла недолго. Потом она еще была в Канаде, в Австралии, в Индии и вот сегодня вернулась в Америку.
Эйприл плакала, Джон утешал ее. Он говорил, что теперь они уже не расстанутся. Что он ее никуда не отпустит от себя. Что он ее ни в чем не винит. Он любит ее и счастлив, что она вернулась, ведь он так долго ее искал.
Эйприл навестила отца в каторжной тюрьме. Билтмор сильно сдал, но по-прежнему остался убежденным, что когда-нибудь его идеи победят. Эйприл спросила его, неужели он собирался убить Джона? И Билтмор ответил, что ради спасения Америки он бы убил даже ее.
Только наутро Эйприл уснула.
Джон счастливый помчался на студию, чтобы побыстрее закончить дела и вернуться домой.
Помощники сообщили ему, что девушки уже ждут. Они взяли красоток, которые снимаются для порнографических журналов. Тем раздеться что высморкаться.
Помощники перестарались и зачем-то заставили всех девушек предстать перед режиссером голыми.
Джон вошел в павильон, где были натурщицы, быстро просмотрел всех. Выбрал трех, которым назначили фотографические пробы и, отменив другие дела, отправился домой.
Он сел в машину, завел мотор, но не тронулся с места.
«Этого не может быть, — думал он, глядя отрешенно в пустоту. — Этого не должно быть. Это никому сейчас не нужно. Зачем? Почему именно сейчас? Сегодня? Нет! Нет! Только не это!..»
Он выключил мотор, вышел из машины и вернулся на студию.
Никто еще не ушел. Помощники с удивлением смотрели на Джона, который десять минут назад попрощался и поехал домой.
— Что-то забыли, шеф? — спросил его один из них.
Но Джон не ответил. Он прошел прямиком в павильон, схватил за плечи одну из натурщиц и повернул лицом к себе.
Мария плакала…
Вбежавшие следом за Джоном в павильон помощники, девушки-натурщицы, осветители и уборщики видели, как Джон опустился перед Марией на колени, а она стояла бледная, вытянувшаяся струной, запрокинув голову, и слезы катились из ее закрытых глаз…
…Жена вздохнула во сне. Что-то пробормотала.
— Спи-спи, — сказал Джон и ласково погладил ее волосы.
— Ты тоже спи, — сказала жена. — Не надо вспоминать. Вот приедет Найт, вволю навспоминаетесь. Кстати, он наконец привезет Эйприл?
— Обещал, — ответил Джон.
— Очень хочу с ней познакомиться.
— Она тебе понравится, Мария, — сказал Джон.
Уже светало.
…Ретт бежал. Мешок ничуть не тяготил его. Да и чему там особенно было тяготить. Пара чистых сорочек, рабочие штаны и… У Ретта от мысли о последнем предмете багажа сладко екнуло внутри. Еще в мешке лежал бритвенный прибор деда. Старый, добротный, удобный в руке, которым Ретт еще ни разу не пользовался, но обязательно воспользуется, как только окажется один. Пора. Ретту уже пора бриться.
Можно было сбавить бег, можно было даже на минутку остановиться и просто поглядеть назад. Нет, Ретт был чужд всякой сентиментальности, но ему казалось, что это очень по-мужски — остановиться, последний раз взглянуть на родные места и сказать что-нибудь вроде:
— Неплохие были денечки.
Разумеется, никаких слез, никакой грусти, наоборот, легкая и спокойная усмешка. И — дальше. Словно перевернул страницу книги…
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.