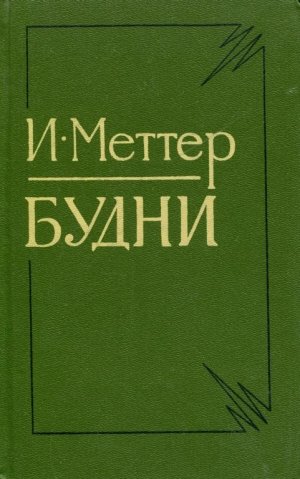
1
РАССКАЗЫ. ПОВЕСТЬ. ПОСЕЛКОВЫЕ ЗАМЕТКИ
МОЙ ДРУГ АНТОН
Александру Крону
Познакомился я с Антоном Иванычем лет двадцать назад, в те времена, когда он еще служил егерем в заказном охотхозяйстве. Егерей здесь было человек пять, но сблизился я лишь с Антоном.
Жил он на кордоне у самой реки, яростно впадавшей в залив. Просторный щитовой дом был разделен надвое: в одной половине жил Антон, во второй, вечно вполпьяна, — егерь Сергей. У обоих было по семье.
Жену Антона, Настю, постигло горе. В субботний вечер, после бани — муж с сыновьями еще парились на полке́, — Настя взобралась в доме на табурет сменить под потолком отжившую лампочку. Табурет сыграл под ее ногами, кувырнулся, она грохнулась левой половиной тела об пол. Сколько людей падают так, и ничего с ними не случается, а у Насти к утру отнялись нога и рука — обе правые.
А было ей тогда всего сорок лет.
Быть может, живи она в городе, в областном центре или даже в районе, нашлись бы на эту болезнь умелые врачи. Однако кордон на берегу реки стоял от ближайшего поселка в двадцати километрах, шесть были завалены непроезжим снегом.
Ковыляя по квартире, Настя все думала, что рука и нога отойдут, начнут действовать, но рука повисла в окончательной ненужности, а мертвую ногу пришлось волочить за собой, как полено.
Хозяйство у Антона хоть и было невелико — штук пять овец, поросенок, куры, — а и оно требовало о себе заботы. Конечно, и он подключился к домашнему делу, и сыновья, но главная обуза лежала на Насте. Казалось бы, что́ наработаешь одной половиной тела, да еще левой, а Настя справлялась. Плакала, убивалась над своей беспомощностью — и справлялась.
Не знаю, как было раньше в их доме, до Настиного горя, — при мне же и двор, и огород, и квартира содержались в такой ухоженности, что не всякая здоровущая баба достигла бы подобной исправности.
Сперва, в первый год нашего знакомства, Настя стеснялась своего калечества, и, когда я появлялся, она тотчас присаживалась на табурет или на крыльцо, скрадывая свою кособокость — сидит себе, как все люди сидят. И только глаза ее были угнетены болью.
В семье не причитали над ней, не ахали — глупому человеку могло даже показаться, что ее не жалеют. Никто не кидался ей на подмогу, когда она, согнувшись сколько могла, принималась одной рукой намывать полы или стирать белье. В доме она оставалась хозяйкой, а именно так ей и было легче на душе.
Антону я удивлялся. Ему ведь, бедняге, тоже было не просто: с сорока пяти его крепких лет он оказался супругом малопригодной к семейной жизни жены. Однако я никогда не слышал ни одного слова ропота от него. Даже сильно выпив, он не унижался до жалоб на свою злую долю. И лишь перед самой смертью Насти, когда она месяца полтора лежала в постели уже совсем недвижимая, беспамятная, а он метался, ухаживая за ней, как за малым ребенком, меняя под ней три раза на дню испачканное белье, пытаясь кормить ее с ложки, — лишь в эту горькую пору он выходил ко мне в соседнюю комнату, открывал печную вьюшку, чтобы уносило дым от курева, и, часто сморкаясь, говорил:
— Вот, мать его так… Ну надо же, как получилось…
Трех сыновей родила ему Настя, и все они вымахали в рост и в ширину кости не в отца и не в мать — сильные мужики. Двое после восьми классов не приохотились к дальнейшему ученью и ушли на шоферские курсы. А третий, Мишка, отломился от них, стал ходить в девятый класс.
До поселка, где было полное обучение, набегало в одну сторону километров двадцать в любое ненастье.
Мишка, самый молчаливый в этой и вообще малословной семье, рос непохоже на своих братьев. Все, чем сманивала окрестная местность — охота, рыболовство, грибы, — не занимало пацана.
Когда бы я ни появлялся на кордоне, он возился в сарае с какими-то железяками, проволочками, досочками, вникая в нечто для меня неведомое. Расспрашивать его было бесполезно.
— Ты что мастеришь?
А он наклонит свою большелобую, не по возрасту, голову — в глаза он редко смотрел, смущался, — и хмуро ответит:
— Одну вещь.
— Она что́, летать будет?
— Зачем летать, — отвечал он суровым голосом ученого, в лабораторию которого вломился кретин.
Для преодоления долгого пути от дома до школы Мишка построил себе самоходный аппарат: к двум широким коротким лыжам приладил велосипедное колесо, старенький движок, седло и на этом аппарате мчался по снежной целине.
Мне нравилась в семье Антона невидимость нитей, скрепляющих ее. Понять, кто главный здесь, было не так-то просто. Тут все разговаривали друг с другом ровным, достойным тоном. Не знаю уж, как в раннем детстве сыновей — этому я не был свидетель, — но вот нынче, если кто-то из них совершал поступок, который мог огорчить или возмутить отца, он замирал лицом, но своего осуждения не выказывал.
Старшие сыновья жили своими домами в соседних районах. На праздники и по выходным приезжали на кордон. Семейная жизнь их сложилась не сразу складно, однако подробности своих нескладиц они не навешивали на родителей.
Сперва переженился старший сын, Владимир.
Отцу с матерью ничего доложено не было. Приезжал Володька в гости со своей женой, года два ездил, и худого за ними не замечалось. Потом он пропал на время, а объявился уже один и с месяц так и наезжал один.
Настя спросила его:
— Ты чего это один? Может, у вас что получилось с Любой?
Володька увязывал снасти, собирался на рыбалку. Ответил:
— Ничего у нас с Любой не получилось.
Настя попросила:
— Мог бы и рассказать матери.
Володя был самый пригожий сын, рослый, белокурый, степенный в движениях. Он медленно улыбнулся в ответ:
— А ты, мама, не бери это в голову. У тебя вон сколько забот…
И пошел на реку к лодке.
Необидно он сказал, не в том смысле, что, мол, не твое это дело, мать. Сказал жалеючи, ему казалось, так будет здоровее, лучше.
А Настя попыталась было уговорить мужа узнать все-таки у Володьки, какое его семейное положение и в чем причина его одиночества.
Антон ответил кратко:
— Ему жить. Как постелет, так и поспит.
С осени старший сын стал привозить новую жену. Вероятно, она ожидала, что к ней отнесутся враждебно или, по крайности, настороженно, однако Антон и вида не показал, что в жизни сына произошла перемена.
Сидели за столом всей семьей, ели, пили, а разговор шел о том, что пора картошку копать — сажал Антон пятнадцать соток. Одной Насте хотелось бы иной беседы, но муж и сыновья были калеными мужиками, их было не сбить в сторону.
Вскорости после Володи переженился и второй сын — Петр. Этот был помягче брата, да и дело с ним было яснее: первая жена не пришлась ко двору на кордоне. Уж очень она унижала Петьку на глазах у родителей и братьев. Выпендривалась, вроде она исключительно городская и ей невмоготу жить в районе. Петя, на удивление братьям, сносил все это, ну а раз ему до фонаря, то и они помалкивали.
Пришел, однако, день, когда и он появился на кордоне один, без жены, да еще с фингалом под глазом.
— Кто это тебя так? — спросила Настя.
— Машину заводил — ручкой.
Антон колол дрова, услышал ответ сына и только буркнул незло:
— Ври поскладней.
В первый свой одинокий приезд Петя так ничего и не рассказал родителям, а недели через две заявился к ним с чемоданом, приехал на своем «Запорожце», на заднем сиденье лежал рюкзак.
Было это в пятницу, прожил он субботу, а в воскресенье к вечеру сообщил:
— Хотел я тут у вас дней десять провести, мне за прошлый год отпуск дали. Я на сеновале посплю, в сарае. Не возражаешь, отец?
— Хоть где, — сказал Антон.
Ночью зашумела река, полоснул ливень, гроза накрыла кордон, гром бил по нему, сотрясая оконные рамы в доме.
Антон спал крепко, храпел, а Настя не спала.
Она села на постели — лежала с краю, — нащупала свое платье на стуле и, прихватив его, проковыляла на кухню. Здесь она кое-как оделась, накинула мужнин плащ, хотела натянуть и резиновые сапоги, но не смогла — до мертвой ноги было не дотянуться живой рукой.
Покуда шлепала по воде от крыльца до сарая, криво согнувшись на ветру, сильно вымокла.
Сарай был не заперт на щеколду, Настя шатнулась в него и прикрыла за собой дверь. Здесь было темно, но Петя окликнул ее сверху, с сеновала:
— Мама!
— Иди в дом, — сказала Настя.
Он спустился вниз по лесенке, засветил ручной фонарик.
— Ты не переживай, мама.
Увидев, что она вся мокрая, он снял с нее плащ, накрыл своим ватником, вытер сеном ее ноги, скинул с себя сапоги и обул ее.
— Я грозы не боюсь, — сказал Петя слишком веселым голосом. — Мне тут хорошо, лежу на сене, рассуждаю сам с собой…
Сквозь щели метнулся неживой свет молнии, зарычал, приближаясь, гром и лопнул над самой крышей. Настя заплакала.
— Пока росли маленькие, все были мои, а сейчас, чем старше, тем от меня дальше… Иди в дом, заколеешь здесь.
— Не пойду, — сказал Петя. — Мне отца совестно.
— А меня не совестно?
— Так ты ж мама.
— Ну и где теперь жить будешь? — спросила Настя.
— Есть один человек, — сказал Петя. — У нас с ней давно было, еще когда я неженатый ходил.
— Что ж ты на ней-то не женился?
— Дурак был. Не понимал себя… А тут Ирка после армии подвернулась. Я в нее вроде влюбился, а она меня за человека не держала. И подали мы сейчас на развод.
— Обое подали? — спросила Настя.
— Ясное дело, обое, — соврал Петя для собственной бодрости и чтоб не огорчать мать. — Все по-хорошему, ты не думай. Дом — Ирке. «Запорожец» — мне. По оценке выходит так на так.
Торопливо рассказывая матери, желая утешить ее, он и сам убеждал себя, как все просто и складно у него получилось — никто не в обиде, — хотя на самом деле, лежа сейчас на сене без сна, он клял свой характер за унижение, робел, не выкинет ли какую штуку Ирка на суде, да и вся его будущая жизнь представлялась ему полосатой.
А Насте была неясна жизнь сыновей, они сохранились в ее упрямой материнской памяти мальчиками, и никак было не увязать этих мальчиков с теми взрослыми мужчинами, которые продолжали быть ее сыновьями, но их слова и поступки были чужими для нее. Они уже не нуждались в ее заботе, а сердце Насти все еще источало эту лишнюю заботу, словно в ее груди копилось молоко, но кормить им было уже некого.
Гроза выдалась быстрой — буйно погостив над кордоном, она переползла на залив, оттуда доносился ее разбойничий прощальный свист.
Петя проводил мать до крыльца, хотел даже перенести ее на руках через лужи, но она не далась.
Окно кухни светилось. За столом сидел в исподнем Антон, смотрел старую газету.
Настя вошла, скинула ватник.
— На свиданье бегала? — спросил Антон.
— А с кем ему поговорить, как не с нами? — сказала Настя.
— Я к ихним делам не касаюсь, — сказал Антон. — И ты не встревай.
Он снял с нее сапоги, погасил свет. Настя легла, а Антон еще подымил в открытую печную дверцу.
Он все прикидывал: в кого они пошли, его сыновья? Вроде и есть схожесть с ним и с Настей, и там, где он наблюдал это сходство, оно его радовало. А перед различием он застывал в молчаливом недоумении. И вникать в это различие не желал… Нынешним летом Антон возил одного профессора на рыбалку. Ездили они по заливу, ловили на дорожку. Щука не брала совсем, профессору было скучно елозить по одному и тому же маршруту вдоль каменной гряды, и он стал рассказывать Антону про наследственность. Выходило, по этому профессору, что дети, случается, похожи не на своих родителей, а на дедов или прадедов. И теперь, куря в печь, Антон подумал, что, может, у него в крови затаился какой неизвестный дед, на Антона он действия не оказал, а в Петьку с Володькой маленько выбрызнулся.
Когда он улегся рядом с Настей, она, словно угадав, о чем он думает, спросила:
— В кого ж они уродились?
— А ни в кого, — сказал Антон. — Время нынче такое: наведут полный дом невесток, а мы разбирайся с ними… Спи.
Живя у самой реки, Антон служил в заказном охотхозяйстве рыбацким егерем. Служба эта колготная до невозможности.
Рабочего дня у Антона не существовало — были рабочие сутки круглую неделю. Ранним ли предрассветным утром, поздней ли ночью стучались в окошко его квартиры гости — так положено было называть тех людей, что имели билеты-разрешения на ловлю. Гостям следовало выдать лодку, а с теми, кто посановитей, Антон выезжал на катере.
С мая месяца по октябрь, полгода кряду, он спал клочковато, как попало. Он и не раздевался на ночь, только стаскивал сапоги, чтоб не затекали ноги. В постель с Настей не ложился, а придремывал в другой комнате на оттоманке, подсунув под голову твердый валик — на нем не разоспишься. Лишь в сильное ненастье, когда и река и залив разгуливались, выпадала Антону тихая ночь.
Лодки и три катера стояли на воде под окнами его дома, прикованные цепями к кольцам цементного мола. Весла с якорями были замкнуты в сарае. Поднятый гостем на ноги, Антон шел, не разлепляя глаз, к сараю, выбирал там нумерованные весла, когтистый якорь с веревкой и, груженый, спускался к реке. Здесь он отмыкал ключом из огромной связки ту лодку, номер которой соответствовал веслам.
А воротившись с рыбалки, гость снова будил егеря, и тот проделывал всю прежнюю операцию уже наоборот: замыкал лодку и тащил весла с якорем в сарай.
Время суток — утро, день, вечер, ночь — мутно склеивалось в голове Антона. А тут еще и гости попадались всякие. Вырвавшись из города, с работы, от семьи, от занудных, опостылевших забот на волю, иной человек полоумел. Он шалел от безнадзорной свободы, для него наступал праздник плоти и духа, а справлял он его согласно своей натуре.
Охотхозяйство располагало крупными угодьями: тысяч десять гектаров хвойного леса со всякой птицей и зверьем и километров пять порожистой широкой реки, такой неистовой, что в ветреную погоду по ней кудрявились седые волны. Ее лукавое, капризное течение то набирало скорость, то внезапно замедлялось на поворотах до ласковой неподвижности, а затем, словно обезумев, вырывалось напрямую. Один берег был высок и лесист, а другой высок, но гол.
Река впадала в залив. На самом деле она не впадала — отчаянно неслась, гонимая наслаждением от предстоящей встречи.
Сотни раз, сидя на стрежне в заякоренной лодке, я, даже в тишь, видел, слышал и ощущал всем телом нетерпение воды, окружающей меня. Впереди и по сторонам, сколько видно было глазу, упруго натянутая поверхность реки радостно мчалась вдаль; позади же меня, задержанная лодкой, вода нервно билась о борт, хлопья пены, как на губах припадочного, скапливались у якорных веревок. Туго спружиненные, они трусливо, мелко вздрагивали. Лодка робела, ее тоже била дрожь.
Но я не знаю большего счастья, чем сидеть вот так на этой веселой живой реке, отключенным от действительности, когда все миллионы датчиков твоего занузданного существа воспринимают только бескрайнее небо и стремительную воду.
Это ощущение особенно явственно на рассвете, даже до рассвета, когда день еще не занялся и ночь еще не отступила. Это уже не кромешная темень, хотя кромешно темно, однако ты, не по-людски, а как зверь, чуешь, что сейчас медленно начнет редеть мрак. И от этого предчувствия — всего лишь от предчувствия! — ты обретаешь зоркость. Источника света еще нет нигде, но есть твоя вера, что свет вот-вот сотворится.
Я складываю на ощупь рыбацкие снасти в лодку. И так же на ощупь вставляю весла в уключины. Их пока надо держать по́ борту, не спуская в воду, — рядом, вплотную колышутся соседние лодки, словно вздыхая, что я выбрал не их.
Отталкиваясь от них руками, я выползаю на свободную поверхность, и тотчас меня подхватывает течением. Река работает подо мной, она, забавляясь, вертит мою лодку, норовя вынести ее на середину. Противоположный берег не виден, да и тот, от которого я только что отплыл, уже вымаран тьмой.
Я пытаюсь уловить мгновение рассвета, ту крохотную щель секунды, когда можно воскликнуть: «Светает!»
Но мне еще никогда не удавалось сделать это.
Глаза постепенно вчитываются в темноту, я уже разбираю по складам черную стену леса на другом берегу — это и есть рассвет, но он так деликатен, так скромен, словно ему совестно расставаться с породившей его ночью.
Весла уже в воде, но я не гребу, а только подправляю ими ход лодки. Расстояние до берегов не угадать, и лишь по напористости течения я знаю: приближается самое заветное место.
Выбросив за борт два якоря, с кормы и с носа, и стравив как можно длиннее веревки, чтобы лодку не сорвало, я жду, пока она застопорится, а затем подтягиваю ее за тугие веревки и ставлю поперек реки.
Светает все больше, но еще не понять, каким будет день, — ничто вокруг не окрашено.
Ветер посвежел, он сдувает темноту, как дым.
Пора приниматься за рыбалку, но я медлю. Медлю не потому, что любуюсь природой, — я и сам сейчас как бы часть того огромного, что меня окружает, оно медлит, и я нетороплив.
И только река подо мной спешит. Вода, уплотненная своей скоростью, густа и мускулиста — метров через тридцать она низвергается в залив.
Я сижу в устье, река здесь на самом своем излете, силы ее копятся в далеких снежных горах, на бесчисленных порогах, и, прежде чем впасть и обезличиться, она вскипает в предсмертный раз.
Я разбираю свои снасти, раскладываю их перед собой, каждая мелочь на рыбалке должна знать свое место.
Ничто не беспокоит меня сейчас. Обиды, сомнения, бессмысленная суета, даже ожидание неминучей смерти — все то, что омрачает душу, поредело на этом ветру и смылось рекой. Во мне тоже рассвело.
Антон ездит на рыбалку с самыми главными гостями.
Над чем они начальники, кому они начальники, не слишком интересует Антона. Его дело — вывезти гостя на катере в залив и елозить там на малой скорости взад-вперед по тем путям, где ходит рыба. А ходит она в разное время суток и в разную погоду по-всякому: когда поглубже, у самого дна, когда вполводы, когда сытая, а когда у нее жор.
Гость ловит нехитрым способом — на дорожку. Особого ума для этой ловли не надо.
Антон сидит сгорбившись на корме подле движка. В руках у него облезлая камышовая палка, обломок старого спиннинга. Катушка тоже повидавшая виды, дребезжащая, трехрублевая. Жилка отечественная, непрочная. Блесны самоделковые.
Выехав в залив, Антон сует свою камышовую палку комлем в голенище сапога, палка влезает в него глубоко и стоит стоймя, опираясь о плечо. Над головой торчит лишь невысокий тупой кончик. Так и ловит.
А гость сидит в напряженной позе на носу лодки, вцепившись руками в свою пижонскую снасть. Спиннинг у него шикарный, облитый трехцветным лаком, жилка голубая, французская, катушка американская, блесна шведская.
Движок даже на малых оборотах тарахтит, с кормы до носа надо перекрикиваться, иначе не услышишь.
Антону положено учить гостя. Мороки с этим хватает. Как ни проста ловля на дорожку, а соображать надо. Никто тебе под водой насаживать рыбу на крючок не станет, будь ты хоть кто. Ей-то до феньки, начальник ты или просто так. Она гуляет тут, ищет для себя корм. Приглянулась ей твоя блесна — кинется на нее, дура, подумает, что малек. А раз кинулась, значит у тебя поклевка. Вот тогда и не зевай, делай подсечку. Подсек — погляди на кончик удилища: если дрожит, гнется, значит она взяла, села. Теперь веди ее на себя, слабины ей не давай, а то сойдет. Плавно веди ее, не рви… Подвел к самой лодке — подсачивай. С головы, с головы надо подсачивать, а то она выпрыгнет!.. Упустил, мать твою так!..
Вот и вся Антонова наука, но гость попадается тупой до невозможности. Блесна у него цепляется под водой за камни, за траву, обрывается. На поворотах лодки жилка уходит под днище, наматывается на винт движка — опять не слава богу. Обломком палки Антон налавливал больше, чем все эти начальники своими франтовскими снастями.
Наружно он не злился, но и не подлаживался к ним, даже если директор охотхозяйства предупреждал, что сегодняшний гость прибыл из Москвы в высоком звании. Иной прибывал со свитой. На свиту Антон и вовсе не обращал своего внимания. Выдаст им лодку, весла, якоря, а уж как там они управятся — их дело.
Рядом со всеми этими людьми, одетыми в хорошо пригнанную рыбацкую одежду с «молниями», рядом с их нагулянными телами и сытыми лицами Антон выглядел неважнецки. В засаленном старом ватнике, в мятой кепчонке или, смотря по погоде, в рваном треухе, в невысоких разношенных сапогах, щупловатый, с медным лицом, изгрызенным морщинами, он не вызывал к себе быстрого первоначального уважения.
Однако была в его повадке одна черта, совершенно непривычная для начальства, — независимость. Она была у Антона спокойная, беззлобная, не рвущая глаза, — независимость человека, искренно полагающего, что участь его зависит лишь от него самого. Он и не изменялся в их присутствии, ему ничего от них не надо было.
Еще на берегу, погрузив в катер все, что требуется, Антон не подавал руку гостю, чтоб тому было способнее переступить с мола в лодку, а только велел:
— Проходите на нос. Я на корме буду.
И, запустив двигатель, с ревом вел катер вниз по течению.
Приблизившись к устью, он утишал обороты и спрашивал:
— Ловили когда на дорожку?
Ответ выслушивал вполуха.
— Здесь другая ловля. Жилку особо длинно не распускайте. И чтоб внатяг была. Груз не цепляйте, глубина будет небольшая. Мы на щуку поедем, окунь тоже может взять. Если получится зацеп, сразу давай знать, тут камней много…
С этой минуты, с выезда на залив, Антон говорил гостю вперемежку то «вы», то, изредка, «ты». А уж когда шла ловля, «тыкал» подряд. В особо острых случаях мог и матюгнуть. Не для того, конечно, чтобы обидеть человека, а просто рыбалка иной раз оборачивалась так, что никакие другие слова не смогли бы точнее выразить азартную горечь неудачи.
Гость не обижался, быть может, привычно полагая егеря на это время своим начальником. А может, ощущая удовлетворение оттого, что умеет не отрываться от простого народа, несмотря на свой высокий пост.
Казалось бы, хоть и колготная эта егерская работа, да в общем не пыльная. Реку Антон любил, дышать на ней было привольно. Без реки он и не понимал своей жизни.
Но была в этой работе одна проклятущая особенность, его лично не обременявшая, а Настю все более тяготившая.
Гости привозили с собой водку. Возможно, в городе, на своей работе за ними это не водилось, а здесь вроде полагалось пить. Без водки ни охота, ни рыбалка не складывались.
Пили все егеря. Сосед Антона, Сергей, надирался вдрабадан. И жена его, Верка, тоже стала прикладываться, чтобы мужу досталось поменьше. А напившись, они дрались. Жили они за стеной Антоновой квартиры, шум достигал сюда свободно.
Было как-то, уже на ночь глядя, Верка сильно закричала. Сперва она кричала на своей жилплощади, а погодя стала колотиться в дверь со двора, с крыльца Антона.
Он двери не отпер. Настя просила его: отопри, а он не захотел.
Дня через два встретились они на лугу, Сергей с Антоном, — оба косили траву.
Сергей спросил:
— Ты почему мою Верку в дом не пустил?
Антон ответил миролюбиво:
— Да спали мы уже.
— Брешешь. Она ногами стучалась — покойник проснется. Сволочь ты, не пожалел женщину, я ж ее убить мог.
— Сами разбирайтесь, — сказал Антон.
— Почему это «сами»? Не в Америке проживаешь. Должен быть друг и брат. Вот напишу на тебя заявление в партком…
— Пиши, — сказал Антон, принимаясь косить. Сергей и так-то, в трезвом виде, был мусорным мужиком, а сейчас он с утра чересчур опохмелился.
— И напишу. Женщину на его глазах уродуют, а ему начхать…
Антон рассмеялся:
— Так ты ж и уродовал!
— Я — другое дело. Я муж, личность заинтересованная, могу ошибиться, а ты должен подсказать, поправить. Вот я, например, дословно тебе подсказываю: твоя Настька — колдунья!
— Пошел ты знаешь куда, — обозлился Антон.
Он потому обозлился, что насчет колдовства Насти сосед уже не впервые вязался.
А началось вот с чего. У соседки Веры было с десяток кур. И при них свой петух, лениво топтавший их. Жила эта домашняя птица вольно на кордоне, клевала что ни попадя. Настя тоже держала кур с петухом, но свою птицу она подкармливала пшеном. Настин петух, рослый, осанистый, поднакопил в себе столько сил, что стал топтать семью соседского петуха, а его самого долбил клювом и рвал шпорами. И до того довел его, что тот вообще робел громоздиться на своих кур, жил при них вроде скопца. Да они и сами уже брезговали им, стараясь попасться на глаза чужому красавцу-стиляге, уж очень он был хорош и ярко раскрашен.
С такого оборота дела соседка и кинулась на Настю:
— Ты зачем нашего петуха сгубила?
— Чем? — спросила Настя.
— Навела на него порчу. Сама калека, никому не нужная, вот тебе и завидно сделалось, что мой петька был жадный до курей.
Узнав об этом, Антон особо не расстроился.
— Наплюнь, — сказал он. — Дура и есть дура. Принявши, наверно, была.
Однако дальше пошло больше. Заболел соседский кабан. Потерял интерес к жизни, перестал хлебать пойло. Пришлось Сергею заколоть его раньше времени.
Заколов, Сергей вынул из его требухи желудок, завернул в целлофановый мешок и повез в район, в ветеринарную лабораторию. Что ему там наговорили, неизвестно, но, вернувшись пьяным на кордон, он стал орать, что Настя и на кабана навела порчу. При этом Сергей размахивал и совал под нос Антону какую-то справку.
— Наука доказала на твою Настьку! — орал он. — Под суд пойдет. На нее статья есть.
— Какая статья? — спросил Антон.
— Вредительство жизни.
И, не выпуская из своих рук справку, он развернул ее перед глазами Антона. Прочитав, Антон спокойно сказал:
— Ну и с чего орать-то? Тут же ясно написано: в желудке никакой отравы не обнаружено.
— Об том и речь! — обрадовался Сергей. — Кабы отрава, поди докажи, кто ее подкинул. А раз желудок здоровый, а кабан загибался — значит, порча, колдовство!..
— Глупость какая, — сказал Антон. — Скупайся в реке, попей квасу.
И пошел от Сергея прочь.
Но Сергей не отстал от него, забежал вперед, не давая ему дороги и грозясь по-всякому.
Антон терпел покуда, стоял молча, курил, отводил руки Сергея от себя.
— Морду тебе бить неохота, — один только раз всего и сказал.
Но тут вышли на крыльцо двое его сыновей, Володька с Петром. Они послушали, как костят их отца, однако, зная его характер, не встревали. А Сергей их не видел, был к ним спиной. Разъяренный покорностью Антона, он снова понес Настю за колдовство, за ее уродство.
Володя с Петром подошли поближе.
Отец сказал им:
— Не трожьте его, ребята. Он поддатый.
Но они не послушались, сгребли Сергея под мышки, отволокли к реке и сунули в воду головой. Два раза окунали. Ненадолго.
С того дня Сергей стал писать заявления в партком и в дирекцию. Он жаловался не на Антона с сыновьями, а на Настю — за колдовство.
Я узнал об этой междоусобице, когда она уже затихла. Дикая нелепость этой вражды изумила меня. От кордона до областного центра было всего километров восемьдесят. Над егерским домом проносились сверхзвуковые самолеты и спутники, в квартирах обоих егерей светились телевизоры, погуживали холодильники и стиральные машины — на дворе, говорят, стоял век НТР, — а причина вражды словно бы бродила еще в лаптях.
Охота в этом заказнике была добычливая. Звери здесь гуляли непуганые.
Пятнистые олени, невысокие, поджарые, на длинных доверчивых ногах, медленно выступали из леса, останавливались на мгновение, как солисты балета на краю сцены, и затем приближались тройками, пятерками к егерскому дому. Святая, добрая глупость лампадно теплилась в их глазах.
Настя сидела на крыльце, протягивала им ладонь с накрошенным хлебом.
Олени шли к ней, не удлиняя своего легкого, невесомого шага, не обгоняя друг друга, в том порядке, который завещан был их роду с первого дня творения. На их коротких головах небольшие рога высились театральными прическами дам. Бережно, чтобы не испугать Настю, они снимали с ее ладони хлеб, прихватывали его нижней губой, почти не открывая зубов, и, лишь отойдя в сторону, принимались неторопливо жевать его с благовоспитанностью гостей на званом обеде…
Охотой я не занимался, хотя меня не раз приглашали на зимний отстрел лося или дикого кабана. В моем возрасте едят мясо зверя, стараясь не задумываться над тем, каким способом его добывают. Да и вряд ли в этом хозяйстве охоту на зверя можно было с полным правом называть охотой. Недаром слово «отстрел» так похоже на «расстрел».
Правила здесь соблюдались. И то, что принято называть экологией, не нарушалось. Был план, его утверждали в Москве. Гости приезжали с билетами. Все было законно.
Оголодавшие за зиму звери выходили по глубокому снегу к кормушкам. В кормушке лежало сено, зерно, соль. Зверь ел свою пищу, лизал соль.
Гость, затаившись, сидел на вышке, загодя поставленной шагах в сорока от кормушки.
Стрелять с вышки по лосю или кабану было удобно, как в тире с неподвижными мишенями. Сановитый охотник, уложивший зверя, получал «трофейное удостоверение» — роскошный документ в пухлых корочках из настоящего сафьяна. На листках меловой бумаги вписывались обстоятельства охоты — с какого расстояния, какой дробью, картечью или пулей был убит зверь, сколько он весил и в какую точку его тела угодил заряд. Картина героической охоты была как на ладони.
Практиковались, конечно, и иные методы, более сложные — облавы с загонщиками, псовая охота на зайца, на лисицу, на глухаря с бесшумным подходом, — но все это для гостя невысокого разбора, он мог и походить по лесу и попотеть, сбрасывая вес.
Что же касается гостей позначительнее, то они были грузноваты, преклонны возрастом и непреклонны в своем страстном желании добыть трофей, не слишком утомляясь при этом. Удачная легкая охота была для них терапией, снимающей стрессы повседневной безумной ответственности.
Извещенный загодя о предстоящем приезде достойного лица, директор охотхозяйства вызывал егеря и наказывал ему:
— В субботу будешь сопровождать. — Директор даже не всегда говорил, кого именно предстоит сопровождать, но егерь и так понимал, что дело нешуточное. — Имей в виду, гость должен взять секача. Есть у тебя на примете секачи?
— Есть, Федор Корнеич, специально подкармливаю.
— И чтоб недалеко ходить. Возьмешь в гараже «козла», довезешь до места. Подъезд не тряской?
— Не тряской, Федор Корнеич. Прошлый год мы там в лесу асфальт настелили до самых берлог.
И напоследок директор отдавал наиболее важное распоряжение:
— Если промажет или подранит, ты подстрахуй. Только тактично, раньше времени не стреляй.
Все это егеря отлично знали и без предупреждения.
Постоянно сопровождая гостей и руководя их добычливой охотой, иной егерь постепенно бурел. В заказнике это прозвали «звездной болезнью» — близость к высокой звезде вызывала определенные симптомы, некую эманацию значительности своей роли. Егерь проникался чувством огромного самоуважения и безнаказанности, да еще в холуйском варианте.
Для Сергея это закончилось трагически.
Он был хорошим егерем, несмотря на свою запьянцовскую душу. А может, и благодаря ей.
Находясь в постоянном подпитии, он точнее соответствовал тому легкому, праздничному настроению, в котором пребывал на охоте гость: с Сергеем было весело и беззаботно. Он забавно врал, знал много грубых солдатских анекдотов, да и довольство жизнью нравилось начальникам — это позволяло им делать широкие обобщения. Притом Сергей метко стрелял, умело делая вид, что промазал. Охотясь с ним, гость никогда не возвращался без зверя, сваленного будто бы лично им.
Слава егеря вышла далеко за пределы района. Даже Федор Корнеич несколько остерегался его: мало ли какую телегу мог покатить этот сукин сын, сопровождая высокого гостя.
Рука провидения настигла Сергея, но, не рассчитав, хватила через край.
В будний день он вышел в лес. Вышел без всякого определенного дела, как всегда обтачивая в мозгу острую, настырную надежду, что где-то в пути повстречается человек, который может поставить.
Прошлявшись по лесу часа два и накалясь от разочарования, он услышал короткий собачий лай. Пройдя на звук, Сергей увидел пса — русскую гончую. Пес медленно кружил по поляне, вывалив язык. На пне отдыхал парень с ружьем на коленях.
Егерь был простоволос, без форменной фуражки, неподпоясанный, в тапках.
— Документ! — потребовал он, снимая из-за плеча ружье.
— Какой тебе документ? — ответил парень.
— Билет на право охоты в заказнике.
— Да я и не охочусь, гуляю по лесу.
— С ружьем гуляешь, с собакой?! Браконьер, падла, сволочь!
— Эй, дядя, — сказал парень, подымаясь. — А ты кто такой, почему обзываешься?
— Я тебе сейчас покажу, кто я такой! — Егерь вскинул ружье и из двух стволов уложил пса.
И тотчас, не доведя своего ружья до плеча, парень выстрелил.
Свою изорванную дробью собаку он унес на себе, закопал голыми руками в лесном кювете и забросал листьями.
Тело егеря нашли в тот же день к вечеру.
Милиция отыскала преступника в городе через месяц. Судили его в поселковом Доме культуры. Народу набился полный зал.
Я был на этом суде, и меня поразила реакция поселковых жителей, да, по правде сказать, временами и моя собственная реакция.
В зале, в первом ряду сидела вдова Сергея, Вера, теперь трезвая и жалкая, а через несколько стульев от нее — жена подсудимого, молодая женщина с заплывшим от горя лицом. Обе пришли с детьми: у одной двое и у другой двое.
Убийца, застреливший егеря, оказался заводским электриком. Ранее несудимым. В браконьерах не числился.
Среди многих свидетелей его защиты — товарищей по работе, соседей по дому — выступил перед судом никому не известный, посторонний городской старик. Кажется, какой-то профессор, точно не помню, да и не имеет это значения.
Он рассказал, что нынешней весной, в воскресный день, гулял с мальчишкой-внуком по набережной. На реке шел ледоход. Старик остановился прикурить сигарету, а когда оглянулся, внук бегал по качающейся тонкой льдине — она уже отошла от берега метров на двадцать и уплывала все дальше. Какой-то парень в хорошем костюме, с фотоаппаратом на шее, бросился в воду, доплыл до льдины, снял мальчишку и вплавь же доставил его к деду.
— Вот и все, — сказал старик, собрался было отойти от судейского стола, но задержался. — Дело в том, что с нами тогда был и мой сын, отец Мити, он плохо плавает, не посмел… А вот этот юноша — спас. И у меня не укладывается, не мог же он выстрелить в живого человека. Тут какое-то недоразумение. Он на себя наговаривает — я читал в газетах, это бывает…
Суд разобрался и огласил приговор. Десять лет строгого режима.
Ни у кого из присутствующих в зале не возникло сомнений: суд не нарушил статей закона. За убийство дают и больше — и пятнадцать лет, и высшую меру.
Мы выходили из узких дверей зала медленной толпой. Почти всех я знал, они были моими земляками по поселку.
Рядом со мной шел Антон, он сидел и на суде рядом, ерзал на стуле, кряхтел.
А сейчас сказал:
— Осиротили детей, четыре души…
Шофер рейсового автобуса, шедший позади нас, внезапно взъярился:
— А кто, по-твоему, осиротил?! У вас егеря — гады. Зачем было пса стре́лить? Тронули б моего легаша…
— Неужели б человека убил? — спросила почтальонша.
— Не знаю. Не пробовал… Убить, может, и не убил, а изувечил бы обязательно. По инвалидности он бы у меня получал…
По дороге к моему дому со мной поравнялся пенсионер, учитель истории. Мы жили на одной улице. Шли некоторое время молча, улица была неосвещена, он жужжал фонариком, указывая дорогу мне и себе.
— Хотелось бы услышать ваше мнение.
Я еще подбирал мысли и слова для ответа, и он, по учительской привычке, попытался помочь мне:
— Задача суда — оберегать общество от социально опасных личностей. Не правда ли?
Я кивнул, в темноте он не разглядел, посветил в мое лицо фонариком, я еще раз кивнул.
— Теперь возьмем данный случай. Представим себе невероятное: суд оправдывает этого подсудимого. Вы уверены, что он когда-либо в жизни совершит еще какое-нибудь преступление?
— Не убежден.
— Следовательно, речь идет не об исправлении, а лишь о каре, о наказании за то, что он уже совершил. В сущности, это даже месть, а не кара…
Увлекшись, он направил свет куда-то вбок, и мы оба захлюпали ногами по луже.
— Черт, когда же они наконец замостят нашу улицу!.. Продолжим. Вероятно, я не прав. Даже наверное не прав. И скажу сейчас ересь. Вы знали покойного Сергея? И я его знал — он учился у меня в пятом классе. Тупой, трусливый, жестокий мальчик… И вот он — егерь в привилегированном заказнике. Если уж употреблять это юридическое понятие: социально опасный, то именно он и был социально опасен.
Я спросил только для того, чтобы спросить:
— Значит, вы думаете, что суд был несправедлив?
— Да нет. Суд-то справедлив. Судьба несправедлива. Корень у этих двух слов один и тот же, а смысл разный: судьба глуха и подслеповата. Она не должна была сводить в лесу этого похмельного, зарвавшегося егеря и этого доброго, хорошего парня…
Он ждал от меня ответа, и у самой моей калитки я сказал:
— Есть одна профессия в мире, полностью мне противопоказанная.
— Какая? — спросил учитель.
— Я не мог бы быть судьей. И не хотел бы.
Незадолго до своей смерти Настя умолила Антона уйти из егерей.
Эта работа отвращала ее не только потому, что отнимала у него круглые сутки жизни. Главное — он стал крепко попивать. Выпив, не скандалил, даже тишал, опасаясь себя обнаружить, но обмануть Настю у него не получалось. Ноги продолжали носить его правильно, а язык чужел, переставал слушаться.
Пил он не на свои, а, как и положено егерям, ему ставили. Ставили гости, да еще отучили от закуски. Сами они приезжали сытые под завязку, пахнущие коньяком, и тут же на берегу, перед тем как отчалить, вынимали из своих фирменных сумок водку. Может, им казалось, что если они поднесут егерю, то он свезет их на такое рыбное место, куда никого еще не возил. А может, и без умысла подносили, просто так, для компании.
Антон особо не благодарил их — уговорит маленькую, утрется рукавом и выведет лодку на стремнину.
Я иногда любопытствовал; зная, что он давеча возил известного деятеля, спрашивал:
— Ну как, Антон, какой он, по-твоему, человек?
— А кто его разберет… Кругом вода, залив, на кнопку не нажмет, на ковер не вызовет… Слушай, — Антон всегда начинал с этого слова, когда у него возникала редкая охота выговориться. — Слушай, я тебе так скажу: кто производит начальников?
И, увидев, что я не понимаю его вопроса, торжествуя, пояснил:
— Начальника производят подчиненные. Есть они при нем — он начальник. А нету их рядом — он, как в бане, голый, никто.
— Так ведь ты-то сидишь рядом.
— Хрен я ему подчиняюсь. Он рыбалить не умеет, а я умею. Заглохнет движок или волна подымется — будет сидеть как попка… Слушай, я тебе опять скажу: ему надо сильнее бояться. Ему если вниз посмотреть, куда падать, сердце зайдется. А я сел на задницу — вот и все мое падение…
В Антоне меня подкупали беззлобность и бескорыстие. Другие егеря, водилось за ними, выскулят у гостя хоть какую выгоду для себя. Антон этим брезговал.
Со мной у него были отношения простые, дружеские, но даже и меня он ни о чем не просил. Разве только скажет:
— Поедешь на рыбалку, прихвати буханки три хлеба — у вас в поселке вкуснее. И пива бочкового бидон.
А привезу — лезет в карман за деньгами. Едва отучил.
Когда младший сын, Мишка, подал заявление в институт, я, зная, что конкурс серьезный, сказал Антону:
— У меня друзья в этом институте, попробую поговорить с ними, может чем-то помогут.
Антон обрадовался. Но на другой день позвонил мне в город:
— Слушай, как получилось. Мишка рассердился. Велел передать: если ты что сделаешь, он заберет документы.
Я не стал ничего делать. Его приняли в институт по конкурсу.
После смерти Насти Антону стало совсем худо: ни жены, ни работы, ни хозяйства. Еще при ее болезни он зарезал овец, кур, заколол поросенка.
Она умирала месяца полтора, он не отходил от нее ни днем, ни ночью.
Сыновья с невестками наезжали по выходным. Антон, по своему обыкновению, не корил их за малую помощь, а мне пожаловался в самые последние Настины дни:
— Ее мыть надо, она под себя оправляется, я стирать не поспеваю, топлю тряпки в реке. Голову ей расчесать надо, кормить с ложки, все делаю сам, ноги уже не держат… А они понаедут в субботу, пожалеют мать два дня из другой комнаты. Я ихним женам сказал: вы сколько получаете на своей работе? Они по восемьдесят рублей получают. Я говорю: буду платить вам по сто, ходите за Настей…
Хоронили ее на кладбище соседнего совхоза, в шести километрах от кордона. Охотхозяйство прислало грузовую машину, борта в ней откинули, кузов устлали еловым лапником.
Во двор перед крыльцом вынесли два табурета, поставили на них открытый гроб с маленькой, чисто прибранной Настей. Тело ее было намного меньше гроба. С полчаса она полежала так, ногами из дома, незрячим лицом к высокому просторному небу. День стоял ветреный, душе ее было улетать легко.
Мы шли до кладбища пешком вслед за медленной машиной. В кузове у гроба сидел Антон, придерживая руками высокий белоструганый крест.
Подле свежевырытой могилы всем нам насыпали в ладони кутьи — рисовой каши с изюмом.
В изголовье могильного холма, под самый крест, поставили наземь стопку с водкой — для прохожего, чтоб мог помянуть Настю.
Налили и нам по стопке.
Холм посыпали пшеном.
Секретарь парткома охотхозяйства отозвал меня тихонько на шаг и шепнул:
— Директор поручил мне произнести несколько слов. Но я ведь совсем не знал ее. Может, вы произнесете?
С кладбища мы вернулись на кордон.
В доме были составлены столы для поминок. Хозяйничали невестки. Антон был трезв, впервые я видел его в хорошем городском костюме, в белой рубахе с галстуком, в ненадеванных модельных туфлях. Он ходил вдоль столов, потчевал гостей, с ним чокались, а он только пригубливал. Лицо у него, как и всегда, было неподвижное, но сейчас опавшее, облетевшее, и глаза голые, не покрытые никаким выражением.
Сыновья сидели среди гостей вразнобой, далеко друг от друга. Мать, с которой они особо не считались при ее жизни, объединяла их вокруг себя своей докучливой заботой — они этого не понимали тогда, — и сейчас, когда она умерла, она тотчас начала расти в их виноватой памяти, но уже у каждого в отдельности…
Оставшись один, Антон зажил совсем плохо. Готовить на себя не стал, открывал ножом консервы, да и те до дна не ел. Курил бесперебойно, удушливо кашляя. Дом убирал чисто, мыл полы, ходил босой из комнаты в комнату, смотрел в окна на реку — она осталась, как была, и лес на том берегу, как был.
Пенсию ему дали уже давно, полную, хорошую, он ездил за ней на мотоцикле в поселок, в сберкассу. Потом забирал в магазине хлеба на неделю, водку, грузил в коляску. Пил в одиночку, когда по-черному, ничем не заедая, а когда растягивая бутылку на целый день, как лекарство.
Сыновья приезжали теперь пореже, и Антон, зная, что они хоть и молчат, но осуждают его нынешнюю жизнь, старательно дожидался, что кто-то из них проговорится, укажет ему, а он скажет: ты мне не указывай!
Никакого зла на них у него не копилось, да и не с чего было копиться. Но вспоминалась вдруг ненадолго всякая давняя чепуха, на которую он раньше нисколько не сердился, а сейчас она выборматывалась в башке, помогая ему вооружиться на всякий случай.
В эту пору мы виделись с ним, пожалуй, чаще, нежели раньше. Он был ничем не занят, одинок, и то мне удавалось выманить его на совместную рыбалку, то он и сам вдруг появлялся у меня в поселке.
Поздней осенью задул с залива над кордоном ветер, он набирал силу и вой, хотя казалось, что уже сильнее некуда, волны на реке пошли вспять против течения, а выло дремуче, словно земля еще не создана и жизни на ней нет.
В такой день возник у меня в доме Антон. Я не представлял себе, как он смог пробиться сквозь такую погоду на мотоцикле.
Он снял с головы мокрый шлем, утерся шарфом, сел.
— Как же ты доехал?
— А ничего… У тебя есть выпить?
— Если останешься ночевать, дам.
Он выпил стакан водки, поклевал через силу закуску.
— Слушай, я пропаду… Не могу один. При людях совестно, а сам с собой пла́чу.
Чем его можно было утешить? Ничем.
Под утро он укатил, не дождавшись, покуда я проснулся…
Прожив зиму в городе, ранней весной — снег еще не сошел на дорогах — я поехал на кордон проведать Антона, по правде сказать, беспокоясь, в каком виде застану его. Что он жив и здоров, мне было известно от Миши, уже работавшего в городе инженером. Я звонил ему на службу, он отвечал мне с привычной односложностью, но в голосе его появились еще и суровые нотки, когда речь заходила об отце.
Встреча с Антоном обрадовала меня. Он был неимоверно тощ, курил так же запойно, но лицо его было чисто выбрито, а в глазах посверкивало хоть и нечто неясное мне, однако живое.
Сперва мы поговорили о корюшке — она должна была вскорости пойти из залива в реку, и этот день, начало ее хода, ни в коем случае нельзя было прозевать. Антон показал мне два новых глубоких сачка на трехметровых палках, черпать ими корюшку будет удобно. Показал и новые блесны шведского образца — рыбки-переломки.
Потом мы выпили пива, я привез его для первого свидания. И стало заметно мне, что Антону как-то не по себе: встанет — сядет, встанет — снова усядется.
— Ты чего такой? — спросил я.
— Видишь, как получилось. Тут в Карасёвском проживает одна женщина. Незамужняя. Тоже вдовая, как и не я. Я б с ней поговорил, может, она и переехала б ко мне. Вообще-то, у нее квартира есть. Она не из-за площади…
— Так ты и поговори с ней, — порадовался я.
— Да уж говорил. Она согласная… Сомневаемся, как мои сыновья. Володька-то с Петькой — ничего. А вот Мишка…
— Ну, хочешь, я его подготовлю?
— Попытай, — сказал Антон.
В городе я позвонил Мише и попросил его зайти ко мне.
Приступить сразу к этому разговору оказалось сложнее, чем мне представлялось. Хоть я и виделся с ним каждый год, и не по одному разу, он как-то стремительно повзрослел — ничего мальчишеского не наскребалось в нем, кроме природной стеснительности, но и она посуровела, вроде бы он смущался не из-за себя, а из-за меня.
Я долго кружил вокруг его отца, вокруг опустелой жизни Антона.
Миша сидел, наклонив лицо к нетронутому стакану чая.
Я сказал, что лютой зимой, когда кордон заносит глубоким снегом…
— Знаю. Жил я там зимой.
— Ты жил в семье. А отец — один.
— Пить надо поменьше.
Странная вещь: этот парень, годившийся мне во внуки, подавлял меня своим невысказанным сопротивлением. И получалось действительно так, что не он меня стеснялся, а я — его.
Я никак не мог выговорить: твоему отцу надо жениться, иначе он пропадет.
В сидящем передо мной Мишке проступило вдруг такое внезапное сходство с Настей, не наружное, не с плотью ее, а с витающей ее душой, что я почувствовал себя еретиком, совращающим юношу на кощунство.
И все-таки произнес:
— По-моему, твоему отцу надо бы найти человека…
— Слышал уже, — сказал Миша. — Его дело. Ему жить. Как постелет, так и поспит.
Осенью Антон съехался с новой женой. Они не расписывались.
Пить он перестал.
Его новую жену я увижу только будущей весной.
ТУДА И ОБРАТНО
В понедельник утром отец усадил Витю на раму велосипеда, разбежавшись, вскочил в седло и покатил в Колобково.
На привязанной к раме подушке сидеть было удобно, две большие мускулистые руки отца лежали на руле. Витя тоже держал свои кулаки рядом, — управляли велосипедом вдвоем.
— Я не заметил, ты уши вымыл? — спросил отец.
— Мыл.
— Не выдумываешь?
— Честное слово, даже бабушка видела.
— В последнее время ты стал здорово привирать, — сказал отец.
Витя слушал не слишком внимательно: он всегда волновался в понедельник с утра и бывал так же возбужден по пятницам, когда отец приезжал за ним в Колобково. Дважды в неделю они проделывали этот путь на велосипеде — туда, потом обратно, — так складывалось все их лето.
Дорогу он уже выучил наизусть: сперва она широкая, пыльная, мелькающая, — мимо проносились легковые машины, грузовики, автобусы, навстречу они мчались еще быстрее, обдавая лицо пыльной бурей, нарастающим ревом, и хотя отцовские руки и грудь были рядом, Витя всякий раз вздрагивал, когда позади раздраженно гудели. Отцу это не нравилось, — в понедельник ему все не нравилось, — он бормотал:
— Перестань трусить! Нет ничего паскуднее мужской трусости.
Буйное шоссе еще продолжало нестись вдаль, к горизонту оно тоскливело ниточкой, а они свернули на лесную дорогу. Здесь стало так тихо, что даже слышно было, как отец сопит над ухом.
Солнечные лучи заблудились в верхушках сосен, разбрызгались в них, отыскивая землю, и только поляны по сторонам были весело раскалены. А тут, на узкой лесной дороге, всегда сумрачно прели лужи, пахло теплой сыростью. Уже проще было бы спешиться и вести велосипед за руль, но отец упрямо крутил педали, виляя между лужами и узловатыми корнями. Лицо его ожесточилось — Витя знал это, даже не глядя на него.
— Ты помнишь, о чем я просил тебя?
— Помню.
— О чем?
— Чтоб сам шнуровал ботинки.
— А еще?
— Не позволял кормить себя с ложки.
— А еще?
— Не смотрел до поздней ночи телевизор.
Вырулив на край поляны, жарко облитой солнцем, отец сказал:
— Давай передохнем.
Они всегда здесь отдыхали, хотя Витя нисколько не уставал. Нетерпение его росло, но он знал, что это не должно быть заметно.
Отец положил велосипед на траву и растянулся рядом. Он молчал. Витя постоял подле него, побродил вокруг, попищал в травинку, зажатую между пальцами, отыскал неподалеку под сосной муравейник и собрался было поковыряться в нем сухой веткой, но отец окликнул его:
— Поди сюда. Сядь.
Витя сел. Подложив сплетенные руки под голову и глядя закрытыми глазами в небо, отец сказал:
— Наверное, тебе часто бывает непонятно то, что я говорю. И то, что говорит тебе мама, когда ты у нее живешь. И две твои бабушки. Но все-таки, я думаю, что главное ты понимаешь. Вернее, вряд ли понимаешь, а чувствуешь наверняка… Правильно, Витюха?
— Ага.
— Что «ага»? — спросил отец.
— Ну, вообще… Папа, давай поедем, а то меня муравьи зажрали.
— Я уверен, когда ты подрастешь, тебе многое станет ясным. Надо только пока потерпеть… Ладно. Поехали, старик.
Теперь уже оставалось совсем немного. Лес поредел, Дорога стала суше, от нее зазмеились тропки, обросшие низкими кустами сорной малины, все чаще попадались кучи хлама — битый шифер, рваные консервные банки, дырявые мятые кастрюли, осколки тарелок. Показались дома поселка, сперва одинокие, далеко отбежавшие друг от друга, окруженные сараями и кладками колотых дров, затем порядок домов, разбросанных в лесу, стал выстраиваться справа и слева от дороги — и это уже была улица.
Они подкатили к забору маминого дома. Радостно завизжала дворовая собачонка, она почуяла Витю, выползла на брюхе из-под ворот и бросилась к велосипеду. Для отца эта чужая, глупая собака была помехой, она вертелась перед колесами, подпрыгивала к раме — пришлось остановиться и слезть с седла шагов за десять от калитки.
Отец снял Витю с подушки, собака кинулась к нему, поставила свои приветливые лапы на его плечи и облизала ему уши. Если бы рядом не стоял отец, Витя здоровался бы с ней подольше и поласковее, а так он только торопливо погладил ее и сказал:
— Привет!
У калитки уже появилась бабушка.
— Бледненький какой! — обняла она внука. — Болел, наверное?
И отец, как всегда, сказал:
— Мальчик совершенно здоров. Здравствуйте, Анна Максимовна.
Бабушка кивнула в ответ, взяла Витю за руку и повела к калитке.
— Может, ты все-таки попрощаешься со мной? — спросил отец.
На крыльце веранды, за кустами, уже стояла Витина мать — она всегда ждала его здесь, не выходя за ограду. Он потянул свою руку из бабушкиной и помчался к отцу. Проведя ладонью по его голове, отец сказал:
— В пятницу я приеду за тобой. — Разбежавшись, он вскочил в седло и тотчас замелькал среди сосен.
А мать уже спустилась по трем ступенькам — красивая, яркая, насквозь пронзенная солнцем, — и теперь шла навстречу, широко раскинув длинные, голые до плеча руки.
— Может, ты все-таки поздороваешься со мной?
Витя кинулся к ней и с разбегу, изо всех сил, повис у нее на шее. От матери остро пахло духами и лекарством.
Четыре дня, с понедельника до пятницы, проносились быстро, он не замечал их смены — вся неделя состояла только из этих дней: понедельника и сразу пятницы.
Вечерами надоедала немножко бабушка. Она задавала Вите вопросы, на которые ему не хотелось отвечать, но он отвечал, чтоб отвязаться.
За ужином бабушка садилась плотно рядом и, мешая смотреть телевизор, совала Вите в рот ложку с едой.
— А варенье там у них уже наварили? — спрашивала бабушка.
— Наварили.
— Вкусное?
— Ага.
— А чье вкуснее?
Ему одинаково нравились все варенья, но он отвечал:
— Твое.
Бабушка говорила «там», «у них», допытывалась, что там и как у них, губы у нее становились тоньше, в полосочку, глаза цепче, а доброе лицо напрягалось, как бывало с ней, когда она тащила из колодца ведро, полное воды.
— Мама, перестань! — просила Витина мать.
— Да что я такого особенного спрашиваю?..
Потом бабушка укладывала его спать. Перед сном она читала ему книжку. В доме отца другая бабушка тоже читала ему перед сном, и случалось, что обе бабушки читали ему одну и ту же книжку, но Витя не говорил им, что он уже знает ее, и они изумлялись, как он с одного раза запоминает содержание и даже угадывает наперед, что будет дальше.
Заходила мама, целовала его перед сном — он ждал этого.
— А кто тебя там целует перед сном? — спрашивала бабушка, когда мама уходила.
Во вторник приехал дядя Сережа — веселый человек. Он привез резиновых надувных зверей и, как всегда, крикнул с порога:
— Где парень? Давайте сюда парня!..
Они пошли на озеро втроем, с мамой, купаться. Дядя Сережа учил Витю плавать, положив его животом на свою длинную волосатую руку. Мама сидела на берегу в купальнике под зонтиком, но в воду не шла.
Набарахтавшись в озере досиня, Витя принялся носиться вокруг нее, согреваясь от бега. А дядя Сережа уже давно распластался на горячем песке затылком в мамины колени.
— Все равно он мне его не отдаст, — сказала мама.
— Но ведь еще неизвестно, какое решение может принять суд, — сказал дядя Сережа. — Если ты наконец решишь судиться.
— Я не могу на это решиться.
— Тогда не ной. Как правило, суд принимает сторону матери. Исключения бывают только в тех случаях, когда доказано, что мать неспособна воспитывать своего ребенка.
— Ты не знаешь этого человека. Сейчас он готов на все.
— Между прочим, с этим человеком ты прожила восемь лет.
— Тогда он был не таким.
— Брехня. Человек всегда такой или иной. И дело лишь в том, каким мы представляем его себе.
— Он скажет на суде, что я уже два раза лежала в нервной клинике.
— Ну и что? В наш психованный век только абсолютно равнодушный, тупой человек гарантирован от нервной клиники.
— Значит, тебя это не пугает? — спросила она, гладя его по лохматой голове.
— Меня? Меня вообще ничего не пугает… Эй, парень, греби-ка сюда!
Витя подбежал к ним.
— Согрелся? — спросил дядя Сережа.
— Ага.
— Ты червей не забудь накопать. На вечерней зорьке поедем рыбачить.
С червями ему повезло: он разрыл кучу сырых листьев подле помойки, здесь жили красные, верткие, они упруго сопротивлялись, когда он совал их в консервную банку; сверху, чтоб не выползли, подсыпал им травы.
Но на рыбалку дядя Сережа не поехал — сидел подле заплаканной мамы.
Бабушка увела Витю на веранду, где были сложены в углу удочки с подсачком и банка с червями.
— Ты знаешь, почему мама плачет? — шепотом спросила бабушка.
— Простудилась, — ответил Витя как попало, лишь бы отвязаться.
— Глупости. От простуды не плачут… Мама страдает оттого, что тебя увозят каждую пятницу. Надо иметь каменное сердце, чтобы разлучать мать с ее ребенком. Разве тебе плохо у нас?
— Почему.
— Значит, ты должен жить с нами. Верно я говорю, Витенька?
— Верно.
В обоих домах, где он жил пополам, Витя приучился говорить то, чего от него ждут. Ничего постоянного вокруг него не слёживалось, не складывалось, и, просыпаясь утром, когда еще не совсем проснулся, он иногда запутывался, с чего начнется день, с какого дома, с какой бабушки. Войдет ли одна и скажет:
— Лежи, лежи, Витенька, я сейчас молока принесу…
Или другая войдет, спросит:
— А не пора ли, мой друг, вставать?..
В пятницу утром за ним приехал отец. Завтракая на веранде, Витя услышал неуверенный лай Фунтика у ворот — пес лаял не то приветственно, не то досадливо. Поверх кустов Витя увидел голову отца, мерно плывущую за оградой, затем голова исчезла, и через минуту отец появился полностью на холмике против калитки. Прислонив велосипед к сосне, он сел на траву.
Бабушка тоже увидела его. Она сказала:
— У них там часы всегда вперед. Ребенок даже не может толком позавтракать.
— Он уже достаточно поел, — ответила мама, закуривая вторую сигарету.
— Ты должна решить для себя раз и навсегда. Имей в виду, Сереже может опротиветь твоя беспринципность.
— Господи, оставь меня в покое, мама!..
Бабушка ничего не ответила и стала торопливо собирать Витю в путь. Она сложила в корзинку сорванную на рассвете клубнику, литровую банку с вареньем и чашку самодельного творога.
Обычно он выходил к отцу за калитку сам, а сегодня мать взяла его за руку и повела. В другой руке он нес корзину.
Бабушка вышла на крыльцо и остановилась — оттуда, сверху, ей все было видно.
Мама была не в халате — в нарядном платье, причесанная, с намазанными губами, в черных длинных ресницах.
Витя шел, припрыгивая то на правой ноге, то на левой: он старался, чтобы ничего не было заметно, ему было немножко стыдно, будто он в чем-то провинился, и еще страшило его, как сейчас все получится. Он хотел что-нибудь сделать, но ничего, кроме подпрыгивания, придумать не сумел.
Когда они вышли за калитку, отец встал с травы, а навстречу не двинулся.
Они приблизились к нему, мама сказала:
— Здравствуй, Миша.
Отец ответил:
— Здравствуй.
Витя убрал свою руку из маминой, а корзину поставил на землю около велосипеда.
— Мне необходимо поговорить с тобой, — сказала мама.
— Именно сейчас, сию минуту? — спросил отец.
— Но ведь так дальше не может продолжаться…
— Витя! — окликнул его отец. — За теми соснами я видел три боровика. Вот тебе мой нож, срежь аккуратно, не повреди грибницу.
Витя взял ножик и отбежал к соснам. Прислонясь к дереву, он стал ковырять лезвием кору. С того места, где он стоял, видны были отец и мать, но он не смотрел в их сторону, а ковырял кору.
— Я слушаю, — сказал отец. — Только, пожалуйста, учти: времени у меня в обрез.
— Умоляю тебя, — попросила мама, — отдай мне сына.
— Он живет четыре дня в неделю с тобой, никто его не отнимает.
— Но так же не может продолжаться вечно! Ребенок должен иметь дом, у него должна быть мать…
— А отец исключается из этого перечня?
— Но ты же можешь приходить к нему когда угодно, брать его с собой гулять, в цирк, в кино…
— Понятно, — сказал отец. — Приходящий отец — явление более распространенное, чем приходящая мать. Лично меня это не устраивает.
Она заплакала.
— Я не умею с тобой разговаривать. И ты этим пользуешься… Ты мстишь мне, ты не можешь простить, но я же не обманывала тебя, я просто ушла…
Боровиков Витя не нашел, он и не искал их, а ковырял кору ножом, переходя все дальше от дерева к дереву, покуда отец не позвал его громким хриплым голосом.
На обратном пути, у той же лесной поляны, где они всегда отдыхали по дороге в Колобково и никогда не задерживались, возвращаясь домой, отец замедлил ход велосипеда, но еще неясно было, остановится ли он или снова наберет скорость. Всю дорогу отец молчал, только один раз буркнул:
— Не ерзай. Свалишься.
И он сдвинул свои руки на руле поближе к Вите.
Витя сидел на раме, окруженный горячим телом отца. Эта близость отцовского тела и звук его дыхания, всегда успокаивающие, сейчас пугали Витю, словно тревога отца сочилась в него через кожу.
Переднее колесо велосипеда ткнулось в горбатый корень.
Сняв Витю с подушки, отец прислонил велосипед к дереву и повел сына за руку на солнце. В эту пятницу, как и в понедельник, воздух над поляной слоился от жары.
Отец скинул с себя рубаху и брюки, остался в трусах, Витину голову повязал носовым платком с четырьмя узелками по углам и усадил рядом с собой на скользкую прогретую хвою.
— Сегодня вечером, — сказал отец, — тебе надо собрать все твои игрушки и уложить их в картонный ящик — он стоит в кладовке. А я потом перевяжу его веревкой. По-моему, веревка осталась в этой картонке еще с весны, когда мы переезжали на дачу. Ты, случайно, не вынимал ее?
— Я ее не брал, — ответил Витя.
— А бабушка не брала?
— Не видел.
— Кажется, там у сарая между деревьями висит какая-то веревка, на ней бабушка сушила белье. Ты посмотри, а то я могу забыть. И поломанные игрушки не суй в картонку — их у тебя черт знает сколько. Не понимаю, Витюха, зачем ты их ломаешь? Люди трудились, делали их для тебя, а ты ломаешь.
— Они сами ломаются.
— Само ничего не ломается, — сказал отец. — У тебя в корзинке попить чего-нибудь не найдется?
— Я не смотрел, — ответил Витя.
— А ты возьми и посмотри.
Быстро заглянув в корзинку, Витя протянул ее отцу.
— Тут клубника, творог и варенье.
— Ты так рад, как будто у тебя дома ничего этого нет.
— Все у меня есть, — сказал Витя.
Отец полежал на спине, прикрыв лицо от солнца снятой рубахой и держа свою руку на коленях Вити.
— В воскресенье вечером мы переезжаем с тобой в город, в этом году немножко раньше — тебе надо в школу, а школьный костюм и портфель мы еще с тобой не купили. Я уже два раза забегал в магазин, но побоялся покупать без примерки, ты здорово вымахал за это лето. В прошлом году мы сколько насчитали в тебе?
— Я уже забыл, — ответил Витя.
— Надо будет спросить у бабушки, она все помнит… А с мамой я договорился: ты приедешь к ней из города в следующее воскресенье попрощаться. Она еще задержится здесь, у нее неважно со здоровьем… Между прочим, как бы ты ответил, Витюха, если б у тебя спросили: тебе плохо живется у меня?
— Почему.
— Ты не хитри со мной. Скажи прямо: хочу жить с мамой.
— С тобой тоже.
— Но ты же видишь, что так не получается. Никто не виноват, что так не получилось. Я все могу сделать для тебя, Витюха, а этого — не могу. И мама не может… В конце концов, не так уж страшно, мы оба любим тебя, ты уже взрослый парень, и дело только в том, что некоторое время ты будешь жить у меня.
— А потом? — спросил Витя.
— А потом ты совсем подрастешь и сам решишь. Договорились, Витюха?
От лесной поляны до дома отец ехал быстро, хотя движение на шоссе в этот час все сильнее множилось. Нарастал рев близко проносящихся машин, злобно гудели водители, вихревая пыль замутняла дорогу — Витя не вздрагивал. И отец, не ощущая привычного трепета сына, еще ниже пригнулся к раме и крикнул ему в ухо:
— Молодец, старичок!..
Мокрое от слез лицо Вити сохло на ветру.
ПРАКТИКАНТ
— Значит, так, — сказал Гуляев. — Ты ушами не хлопай, ты на старуху посматривай. Мы с Борисом будем производить обыск, а у тебя одно задание — старуха. Она себя непременно окажет… В первый раз? — спросил он.
— В первый, — ответил Саша.
— Приучайся, — сказал Гуляев. Он остановился у ворот дома и заглянул во двор. — Сейчас запасемся вторым понятым. Давай, Борис, дворника.
Борис ушел, Гуляев в ожидании закурил, присев на тумбу у ворот.
— По мелочи найдем что-нибудь, — сказал он Саше. — Золотишка, конечно, у него нету, деньжата должны быть. Я этих делашей трёс порядочно, крепкие попадаются орешки.
— А бывало, что ничего не находили? — спросил Саша.
— Если версия отработана правильно, — сказал Гуляев, — то брака не бывает.
Вернулся Борис с молоденькой дворничихой. Вероятно, он уже объяснил ей, в чем состоят ее обязанности, потому что она молча прислонила свою метлу к стене и пошла впереди оперработников.
Поднялись по черной лестнице на третий этаж. У самой двери в квартиру Гуляев спросил дворничиху:
— Вас как зовут, товарищ дворник?
— Катя.
— Значит, Катя, сделаем так: если спросят, откуда? — отвечаете: из жилконторы. Ясно? — Он посветил спичкой у звонка и добавил: — Нажимаем три раза.
Сперва никто не откликался, и Гуляев хотел надавить еще, но потом за дверью раздались быстрые мелкие шаги и чей-то тонкий голос спросил:
— Кто?
— Я, — сказала дворничиха. — Открой, Люба.
Дверь отворилась, и девочка лет десяти, в школьном платье и в белом школьном переднике, отступя немного назад, поздоровалась:
— Здравствуйте, тетя Катя.
— Здравствуй, — ответил Гуляев, проходя вперед. — Где тут у вас свет зажигается?
Поднявшись на цыпочки, Люба дотянулась до выключателя и засветила тусклую лампочку под потолком прихожей. На стене висел велосипед без колес. Под ним стоял драный сундук. Три вешалки были прибиты по углам. Длинный темный коридор уводил из прихожей в глубь квартиры.
Гуляев пропустил вперед дворничиху и пошел вслед за ней. У третьей двери направо она остановилась и постучала.
— Чего там, — сказал Гуляев и нажал на ручку.
В комнате на неприбранной железной кровати сидела утлая старуха в стареньком темном платье и в больших, не по ноге, разбитых валенках. Голова ее была повязана толстым шерстяным платком.
— Добрый день, бабушка, — сказал Гуляев.
— И вам также, — ответила старуха беззубым голосом.
— Вот какое дело, — сказал Гуляев, — мы из горотдела милиции. Вы грамотная, бабуся?
Старуха ничего не ответила. Люба подошла к ней и встала рядом.
Наклонившись к дворничихе, Гуляев тихо и досадливо спросил:
— Бабку-то как звать?
— Ксения Макаровна. Она погостить приехала, из деревни.
Гуляев придвинулся к старухе поближе и, слегка согнувшись над ней, громко и раздельно произнес:
— Разъясняю вам, Ксения Макаровна. Сейчас мы зачитаем вам один документ, называется постановление на обыск комнаты вашего сына Лебедева Валерия Никифоровича и его сожительницы Тулиной Евдокии Ивановны. Ясно?
— На работе они, — сказала старуха. — В обед придут.
— Давай, — обернулся Гуляев к Борису.
Борис вынул из портфеля постановление и, не сходя с места, прочитал его вслух.
В комнате было неопрятно, на столе, покрытом липкой клеенкой, стояли вразброс тарелки с остатками еды, пахло консервами. На придвинутой к окну детской парте лежали стопкой учебники и раскрытая тетрадь. Постель с дивана была не убрана, а скатана к изголовью.
Покуда Борис читал, дворничиха Катя опустилась на стул у двери.
Гуляев быстрым приценивающимся взглядом скользил по комнате.
Присев на краешек дивана, Саша следил за старухой. Она сидела все так же неподвижно, редко мигая короткими веками.
Еще в самом начале, как только они все вошли, она выпростала одно свое ухо из-под толстого платка, чтобы лучше слышать голоса чужих людей, и теперь поворачивалась к тому, кто говорил, этим большим голым ухом.
Борис показал постановление старухе, понято́й Кате и, сунув его обратно в портфель, тем же плоским голосом, которым читал сейчас, произнес подряд:
— Оружие, яды, золото, драгоценности прошу выложить на стол.
— В обед обязательно придут, — сказала старуха. — Валерик велел картошки начистить, а Дуська обещалась принести котлет.
Девочка потянула старуху за рукав и, придвинув губы к ее уху, горячо зашептала ей что-то.
Тем временем Борис с Сашей убирали уже грязную посуду со стола на подоконник; клеенку сняли и, аккуратно сложив ее, повесили на спинку стула.
— Люди добрые, — сказала старуха. — Как же без хозяев-то?
— Мы, Ксения Макаровна, действуем согласно закону, — пояснил Гуляев. — Постановление вам было предъявлено, понятые тоже с ним ознакомлены…
Он подошел к платяному шкафу, стоящему у самой двери, и подергал запертую дверцу.
Борис начал обыск слева направо, Гуляев — справа налево. У окна они должны были встретиться.
Борису было проще: на его пути попадались незамысловатые вещи — телевизор, тумбочка, этажерка. У телевизора он отвинтил заднюю стенку, чтоб видны были внутренности, повернул весь ящик к свету, пошарил рукой в пыли.
Ни о чем постороннем он сейчас не думал, он не умел думать о постороннем во время работы. Его вело чутье, как ведет оно собаку, взявшую след. Отличало же его сейчас от собаки, идущей по следу, отсутствие злобности. Он искал, вкладывая в это дело только свой опыт и логику, а эмоции его сейчас в деле были ни к чему.
Еще входя в эту комнату, он тотчас же стал прикидывать, с чего надо начинать, и как вести порученную ему работу, и какие именно трудности могут встретиться на его пути.
Борис сразу понял, что Гуляев, который был старшим в группе, возьмет себе правую сторону, а ему, Борису, даст левую.
По правую руку стоял трехстворчатый шкаф, в нем могло быть много добра, в особенности под бельем на полках. Но и левая не так уж очень плоха, есть, правда, одно маленькое затруднение — железная кровать, на которой сидит старуха. Еще хорошо, если она не парализованная, а просто так сидит, отдыхает. С парализованными бывает много мороки. Над головой ее висит икона, икону тоже придется посмотреть, в прошлом году у одного торгаша вытряхнули оттуда порядочно; между прочим, эти иконы довольно халтурно производят, серийно, что ли, наверное, тоже есть план — слеплены они на живую нитку.
Деловито и беззлобно, не вслушиваясь в то, что говорят в комнате, Борис осматривал домашние вещи заведующего овощным складом Лебедева В. Н., арестованного сегодня утром по месту работы.
Мысли Бориса не уходили дальше тех домашних вещей, которые он вертел в руках.
Здесь надо отвинтить, думал он, эту крышечку надо приподнять, а эту штуковину поставить на попа и постучать по ней, нет ли там двойного дна.
Сперва сделаем так, думал он неторопливо, а потом сделаем эдак.
У Гуляева не задалось с самого начала. Начинать надо было с платяного шкафа, а дверцы его были заперты на ключ. Нижние ящики тоже не поддавались.
— Ключи у кого, девочка? — спросил он Любу.
Она ничего не ответила, ожесточенно заплетая и расплетая свои косички.
— Я вас, Ксения Макаровна, по-хорошему прошу, — сказал Гуляев. — Конечно, это для вас неприятное переживание, но постановление вам было зачитано в присутствии понятых, социалистической законности мы не нарушаем, а ключи вы должны мне вручить.
— Люди добрые, — сказала старуха, подняв на Гуляева размытые годами глаза. — Дождитесь вы, за ради Христа, Валерика. И ключи при нем, и сам разъяснит… Можете вы это понять?
Люба потрясла ее за колено и громко сказала:
— Перестань, бабушка. Не проси их.
— А ты, девочка, села бы за уроки, — посоветовал ей Гуляев, соображавший в это время, как ему быть. — Вон у тебя и книжки разложены.
Люба окинула его гордым и презрительным взглядом, подняла с пола мяч и принялась кидать его об стену, ловя в руки.
Гуляев нашарил в своем кармане связку ключей от служебного письменного стола; всовывая их поочередно в замочные скважины, он подобрал наконец подходящие и отпер шкаф.
Жуликов Гуляев ловил давно. Он был честным человеком, стремившимся исправно исполнять свои обязанности, и если бы милицейская работа всегда шла одним курсом, то Гуляев, вероятно, достиг бы больших чинов и званий. Но курс этот иногда менялся, а Гуляев, не замечая поворотов, продолжал двигаться в заданном направлении. Он крепко усвоил когда-то, что преступников надо ловить и сажать без всяких церемоний, допрашивать их можно грубо, стремясь к цели напрямик. Это уж потом пошла такая мода, что не всякое преступление надо считать преступлением, началась вся эта возня с общественностью, в которую Гуляев не слишком верил, хотя и он, выступая на собраниях и совещаниях, произносил все положенные по службе сочетания слов, но делал это крайне неуклюже. Его беда и заключалась в неуклюжести языка, она выдавала его с головой. Модно было нынче разговаривать с жуликами очень вежливо, — они и сами об этом знали и, чуть что не так скажешь, тотчас строчили жалобы.
По характеру своему и исполнительности Гуляев был солдатом, и, как всякий солдат, он считал, что дела на всем фронте обстоят именно так, как в расположении его роты.
А поскольку дел у него не уменьшалось, он считал, что все эти разговоры о снижении преступности путем воспитательной работы общественности есть не что иное, как очередная липа.
Арестовав сегодня утром Лебедева на овощном складе, а затем его сожительницу Тулину в магазине, Гуляев был совершенно убежден в том, что они опасные преступники. И сейчас им владело чувство удовлетворения оттого, что лично ему удалось их обезвредить. Оставалось только найти в этой комнате побольше нажитого нечестным путем имущества, чтобы вернуть его государству.
И Гуляев начал планомерно обыскивать шкаф.
Сперва он открыл широкую правую створку.
На круглой палке, от стенки до стенки, висела вплотную друг к дружке на деревянных плечиках мужская и женская верхняя одежда.
Запах от нее шел магазинный, неношеный, пахло из шкафа мануфактурой, а не человеческим телом.
Вынув на свет наугад несколько вещей — пальто, шубы, костюмы, — Гуляев быстро осмотрел воротники, края рукавов и убедился, что они ненадеваны.
Дворничиха Катя с горестным любопытством следила за тем, что он делал.
Богатство, открывшееся ее глазам, богатство, которое она не могла даже оценить, больно ушибло ее. Несправедливость жизни, творившейся вокруг, обижала Катю.
Ах ты господи, думала она, глядя в шкаф, что ж это на самом деле творится! Наворовали средь бела дня Валерка с Дуськой. По двору в чем попало ходили, а у них вон сколько добра припрятано. Спину гнешь, лестницы захарканные моешь, вертишь контейнеры с помоями, другой раз так накантуешься, что пальцы не разогнуть, — и все за тридцатку в получку. За Толика в детсадик — девять рублей отдай. А в торговле вон как живут. Кругом сволочи. Матери родной этот Валерка леденца не принес. Валенки у нее прохудились, так и ходит. Кругом у них с Дуськой, видать, все купленные были. Они и сейчас откупятся — сунут, кому надо. В милиции, говорят, тоже берут. Длинный этот копается в шифоньере, а вдруг да там деньги, взял и положил в карман. Поди потом дознайся. Ах ты господи, как жить, как жить?..
— Товарищ понятая, — сказал Гуляев, — прошу посмотреть сберегательные книжки.
Запустив руку по локоть под белье, сложенное доверху стопкой на полке, Гуляев нащупал пальцами и узнал раньше, чем вынул, четыре сберкнижки.
Катя подошла к нему, он разложил их на столе рядом, отогнув и разгладив картонные обложки.
— Любовь Валерьяновна Лебедева, — тихо прочитал Гуляев. — Сумма вклада тысяча двести рублей.
— Любовь Валерьяновна Лебедева, — прочитал он в следующей книжке, — сумма вклада семьсот рублей.
— Ксения Макаровна Лебедева, сумма вклада пятьсот рублей.
— На предъявителя, сумма вклада девятьсот рублей.
— Паразит! — прошептала Катя. — Вот паразит.
Старуха сидела на железной кровати не шевелясь. Ей давно хотелось прилечь на подушки, ломило поясницу, ныли опущенные вниз ноги, но лечь она не могла, потому что в комнате были чужие люди, и она была за это в ответе перед сыном. Глаза ее плохо различали то, что делалось сейчас в комнате, внучка стучала мячом по стене над самым ухом, голосов она тоже не разбирала.
Когда ей прочитали постановление, она сразу поняла, что против сына затевается неладное.
Дуська, наверное, его подвела.
От Дуськи все и повелось.
Она его по миру пустила, лишней копейки в доме нет, все дочиста проедают. Насмотрелась, слава богу, за две недели. Любу, внучку, тоже обижает, мачеха и есть мачеха. Третьего дня вступилась за девчонку, получила от ворот поворот. Ежели, говорит, вам, маманя, у нас не нравится, то мы силком не держим. Пять, говорит, рублей как высылали, так и будем высылать, картошка у вас своя. Валерка, конечное дело, молчит, она об него ноги вытирает. Придут сейчас в обед, расшумятся на старуху: зачем пустила, зачем не вскричала соседей. А я их городских порядков не знаю. Случись в деревне, послала б Любу за самогонкой…
Ее клонило в сон, и одновременно хотелось есть: при невестке она чинилась за завтраком, не кушала досыта. От голода и от страха перед сыном, который вот-вот вернется, старуха стала икать.
На столе посреди комнаты уже лежала груда вещей, добытых Гуляевым из шкафа: несколько коробок по дюжине чулок в каждой, две стопки шерстяных импортных кофточек, три стопки — нейлоновых, отрезы бостона и драп-велюра.
С барахлишком был полный порядок.
На другом конце стола Борис сложил кучу облигаций трехпроцентного займа, пять пар часов, мужских и дамских, желтого металла (так принято при обыске именовать золотые часы), несколько сережек и колец.
— Икону будем потрошить? — спросил Борис у Гуляева.
— Не надо, — сказал Гуляев, с опаской взглянув на икавшую старуху. — Давай оформлять.
Протокол составляли долго, извели много бумаги.
За окном стемнело, зажгли электричество.
Гуляев диктовал тихим голосом, Борис записывал.
Саша не принимал участия в обыске.
Сперва он сидел на диване и следил за старухой, как ему было велено.
Из разговоров в угрозыске студент-юрист третьего курса Саша Овчаренко знал, что во время обыска надо посматривать на хозяев: по выражению их лиц можно догадаться, близко ли к тайнику подошел оперработник.
Взяв газету и исподволь, поверх нее, поглядывая на старуху, Саша ничего подозрительного не замечал.
Сидела против него старая женщина, руки ее упирались в край кровати, поддерживая неверное тело, чтобы оно не повалилось набок.
Сперва лицо ее обеспокоилось, а потом утихло.
Торчало из-под платка бесполезное ухо, шевелился острый кончик подбородка, словно она жевала, глаза заволокло мутной слезой.
Раза два за время длинного обыска старуха вскидывалась, обводила слепым безучастным взглядом комнату, рука ее дотягивалась до девочки, проверяя, здесь ли она, не увели ли ее потихоньку прочь.
И была эта старуха похожа на его, Сашину, бабушку, которая растила его в деревне лет до пяти, когда отец с матерью уехали в город на заработки. Была она похожа на всех бабушек, которых он встречал за свою двадцатилетнюю жизнь. Он угадывал сейчас ее покорность и страх — на это было унизительно смотреть здоровому молодому человеку. Может быть, если б Саша занимался сейчас в этой комнате делом — искал накопленное, награбленное имущество, — то и он распалился бы против жуликов Лебедевых. Но ему поручили наблюдать старуху, и поэтому он видел только ее, а в ней видел то, что ему не было поручено.
Думал Саша и про девочку.
Она стояла спиной к нему, спиной ко всем, отгородившись от них своей обидой и попранной гордостью, она играла в мяч, чтобы доказать им всем, что ничего не случилось, как было, так и останется.
Завтра ее вызовут в классе к доске, думал Саша, отвечать урок, и если она его не выучила, то учительница будет корить ее, не зная и не догадываясь, какое горе настигло ее сегодня.
— Ну, все, — сказал Гуляев, разминаясь. — Пошабашили, братцы.
Вещи, после описи, сложили обратно в шкаф, облигации, часы и драгоценности взяли с собой в горотдел.
Во дворе попрощались с понятой. Пожимая ей руку, Гуляев подмигнул:
— Вот такая получается картина, Катюша. Недосмотрела ты за своими жильцами, крепче надо держать связь с участковым. Прошу прощения, что задержал.
Настроение у Гуляева было хорошее, все у них сегодня получилось «в цвет».
Из горотдела вышли поздно, зашли на радостях в столовку «Уют» поужинать. Скинулись на пол-литра, взяли в буфете три винегрета, заказали горячее.
Сперва жадно ели, набросившись на хлеб с горчицей. Выпили по стопке.
— Славно поработали, — сказал Гуляев. — Я думал, подальше заховают. Часы ты здорово, Борис, из тумбочки достал.
— А чего их было доставать, — сказал Борис — Лежали себе и лежали. Зря мы икону не посмотрели. И бабкину кровать.
— Ненадежная была бабка. Могла загнуться. Давайте по второй.
— Разбавляют, заразы, — сказал Борис. — Больше тридцати градусов не будет.
— Как же они теперь? — спросил Саша.
— Ты про кого? — Гуляев поднял на него захмелевшие от усталости глаза.
— Про старуху с девочкой. Они-то ведь не виноваты.
— Ну и что? — сказал Гуляев. — Мы их и не трогали. Старуха-то, положим, сынка воспитывала. Не в лесу рос. Семья и школа — во главе угла.
— Где-нибудь у них еще припрятано, — сказал Борис. — Зря я в иконе не покопался.
Гуляев положил вилку и пристально посмотрел на Сашу.
— Вон ты, оказывается, какой скромняга парень!
— Какой? — спросил Саша.
— Жалко тебе их?
— Конечно, жалко.
— А государство тебе не жалко?
Саша улыбнулся.
— Ты чего ухмыляешься? — разозлился Гуляев. — Из чего состоит государство? Из людей. Видал, чего я выгреб из шкафа? Он овощи тоннами пускал налево, капитал сколотил на наших трудностях…
— Я же не про него, — сказал Саша. — Вы поймите меня, пожалуйста. Вот мы сидим втроем, пьем, едим. А там старуха с девчонкой…
— А пошел ты на фиг! — сказал Гуляев. — Не имею я права об этом думать. Ясно тебе? И не желаю. У меня сердца на всех не хватит.
— И все-таки здесь что-то не так, — сказал Саша.
— Ах, не так? — Гуляев приблизил к нему через стол свое красное, потное лицо. — А можешь ты мне сказать как?
— Не могу, — сказал Саша.
ПОКОЙ
Утро началось с обычного занудства.
Впрочем, не совсем.
Смотря что считать началом утра: если момент вставания с постели, то занудство вползло тотчас, словно кто-то вдул его в комнату аэрозолем. Но на самом деле ночь Владимира Сергеевича всегда заканчивалась многоступенчато, не сразу, не так, как в юности — выспался, отворил глаза, и будьте любезны, вот и я. На самом деле Владимир Сергеевич уже давно спал дыряво, просыпался в кромешной тьме, успевал обрадоваться, что еще не надо вставать, и снова нырял в полузабытье.
Это свое состояние он более всего любил за надземность, где не отличить сон от яви. Была перистая легкость, с которой он уносился из дня сегодняшнего в давнее прошлое. И крылатое возвращение обратно. Было повторное верчение всего того, что пережито и передумано за последние дни, — притом не холостое прокручивание на месте, а обновленные варианты событий и мыслей, несравненно более удачные, чем они происходили в действительности. Случалось, что впоследствии он даже запутывался, не умея или не желая припомнить в точности, как же все-таки обстояло дело наяву.
Со временем Владимир Сергеевич наловчился вызывать в себе ночами подобное состояние ревизии своих реальных жизненных поступков; вернее, не вызывать — этого он не умел, — а продлевать его, то есть, проснувшись по какой-то причине, он исхитрялся вгонять себя в продолжение сюжета, досадно прерванного просыпанием. И не только обнаженного сюжета, но и мыслей, своих рассуждений. Узлы житейских проблем, туго закрученные днем, ночью, в полусне, с легкостью распутывались. Бывало и наоборот — именно ночью настигала его и вспухала перед ним безысходная невозможность решить то, от чего он с легкостью отпуливался днем.
Во всяком случае, как, пожалуй, у каждого пожилого человека, ночь приобретала для Владимира Сергеевича все большее значение: все реже бывая отдыхом, она загружалась против его воли работой памяти, рассудка и сердца.
Сейчас уже пора было подниматься с дивана, пора было выводить пса на утреннюю прогулку — это входило в обязанности Владимира Сергеевича перед его уходом на службу, — однако подыматься не хотелось: он еще не успел ответить своей матери, она привиделась ему под утро, освободив от каких-то гнетущих служебных обид, терзавших его почти до рассвета.
Он очень обрадовался свиданию с ней, нежность заполнила его душу.
Появилась она тихо и скромно, без всякого предметного фона — только ее лицо, большое, огромное, во весь экран его памяти.
Она сказала:
— Ты не бережешь себя, Вова. Собаку должен выводить по утрам Боря.
— Но он не делает этого, мама.
— А ты попроси его.
— Сто раз просил. И я, и Наталья.
— Ну, тогда вели ему.
— Это бесполезно, мама.
— Не понимаю, — сказала мама. — Ведь он же очень хороший ребенок, ведь я же помню. Может, он тяжело болел?
— Да нет, совершенно здоровый парень. Занимается йогой.
— Чем?
— Йогой.
— Скажи погромче. Я стала плохо слышать.
— Есть такое индийское учение, мама. Называется — йога. Сути его я и сам не понимаю. Кажется, самопознание и самоусовершенствование. Борька бегает на какие-то ихние семинары, а дома по утрам стоит на голове. По полчаса стоит.
— Бедный мальчик, — сказала мама. — Это же очень вредно.
— Мама, — сказал Владимир Сергеевич, — прости меня.
— За что, Вова?
— Я еще не поставил памятника тебе. И редко бываю на кладбище. С памятником получилась какая-то ерунда: еще три года назад я дал деньги этим прохиндеям из конторы, они там все мухлюют, их в прошлом году посадили, но у меня есть квитанция, я написал жалобу в похоронный трест…
В этом месте сна Владимира Сергеевича сука Альма поднялась с коврика в углу кабинета, подошла к дивану, на котором спал ее хозяин, и ткнулась своей волосатой пуделиной мордой в его щеку. Обычно Альма просыпалась позднее, но сейчас уже несколько суток она переживала беспокойный период влечения к псам противоположного пола, они снились ей, красавцы разных пород, а не только королевские пудели, попадались даже во сне и грязные дворняги, и все они, гоняясь за ней, властно пахли молодостью и желанием. Она лживо убегала от них, тревожно оборачиваясь, не слишком ли они отстали от нее, и если расстояние чересчур удлинялось, она приостанавливалась, вертелась и гнулась на месте, подразнивая их своей женственностью.
Владимир Сергеевич проснулся от толкающего прикосновения холодного носа Альмы.
Солнечные пятна еще не замерцали на обоях, он повернулся к собаке затылком. Утренний сон снова спеленал его, хотелось продлить свидание с матерью, он позвал ее виноватым сознанием, но она не возникла.
Вместо каких бы то ни было пластических видений стали вдруг отпечатываться в мозгу, как на испорченной пишущей машинке, обрывки фраз, ничем между собой не связанные. Они были беззвучны, никем не произносились, никому не принадлежали — немые цитаты неизвестной личности. Сперва бормотнулось в дремлющем мозгу: «А я вас уже предупреждал…» — и Владимир Сергеевич успел удивиться — кто предупреждал? о чем предупреждал? Быть может, это касается его нынешней работы, тем более что тотчас поплыло подряд: «Вам кажется, что мы не понимаем ваших истинных намерений?» — и вслед за этим уже и впрямую угрожающе: «Неужели вы думаете?..» На этой цитате он зашкалился окончательно, она стала повторяться — «неужели вы думаете? неужели вы думаете?» — и даже с продолжением: «Неужели вы думаете, что мы вам позволим!» От этих повторений он устал, несмотря на дремоту. Вопреки усилиям все еще сонной воли, его мозг уже начал свою мобилизующую работу, переборчиво вычисляя, где бы и кто бы мог произносить эти остерегающие фразы: в дирекции института, в исполкоме, в райкоме?..
Но тут Альма, громко заныв, стала бегать, стуча лапами по полу, от дивана к дверям и обратно.
Медлить больше нельзя было. Он торопливо встал. Вот с этого мгновения и вползло утреннее занудство.
Пройдя скорым шагом на кухню, Владимир Сергеевич зажег газ, поставил на огонь чайник, хотел было умыться и почистить зубы, но Альма так опасно перебирала лапами у входной двери на лестницу, что он накинул куртку и вбежал с собакой в лифт. Здесь, как всегда, воняло чем-то пронзительным, и для того, чтобы Альма тут же не отреагировала на эту вонь, Владимир Сергеевич строго скомандовал ей: сидеть!
Неподалеку от жилмассива, в котором он жил, еще стоял недобитый лес — гигантские корпуса шли в атаку на березняк, побелевший от ужаса.
В уцелевшей роще на просторной поляне бегали собаки. Ошалев от предоставленной им свободы, они носились по истоптанной траве, задерживаясь подле деревьев и пней для обмена срочной утренней информацией.
Владимир Сергеевич не спускал Альму с поводка, пока не убедился, что из пяти этих псов — две суки, а трем кобелям — спаниелю, скотчтерьеру и таксе — не дотянуться до рослой Альмы. Отпущенная наконец, она жадно бросилась к своим мелким кавалерам, и они закружились с ней в свадебной карусели.
Поблизости, равнодушно глядя на эту бесцельную возню, медленно бегала красавица афганская борзая, она была на сносях. Хозяин ее, директор кинотеатра «Салют», живущий в соседнем подъезде, посмотрел на взволнованную Альму и сказал:
— Ваша-то, видать, крепко пустует. Прошлый год она скольких принесла?
— Трех.
— Жидковато! — Он засмеялся. — Моя афганочка по восемь экземпляров печатает. Думаю, и нынче не подведет. С одного ее помета я двухкамерный «Минск» приобрел и няньку для внука оплатил за сезон. Это не считая шерсти на кофту супруге — за год начесали…
Опрятная старушка, хозяйка таксы, тут же стоящая, сокрушенно сказала:
— Ну как же можно в подобном тоне говорить о своей собаке! Ведь она же член вашей семьи…
— Конечно, член! — радостно кивнул директор кинотеатра. — Если хотите знать, то вот придешь с работы злой как черт, плана за квартал не дал, фильмы — дрянь, народ не желает на них ходить, а в Главкинопрокате измордуют тебя, премии лишат, супруга расстроена по своей служебной линии, и только афганочка моя встречает меня, как будто я действительно человек с большой буквы… Вы думаете, почему люди псов заводят? Для равновесия души!..
Не дослушав соседа, Владимир Сергеевич побежал за Альмой: из дальнего подъезда выводили на прогулку дога, он был известен в жилмассиве своей беспардонностью: в прошлом году, на глазах у зазевавшихся хозяев, надругался над двумя суками — колли и ньюфом, — погубив их потомство на добрый сезон.
Чайник на кухне кипел вовсю, сын и жена еще спали. Вообще-то, Борька, наверно, проснулся, из его комнаты слышен был утренний кашель курильщика — дымит натощак; вчера у него допоздна гостили приятели, шумели вполсилы, музыку не заводили, похоже было, кто-то читал стихи. Все ли ушли, или кто-нибудь остался ночевать — одному богу известно. Бывало иногда, под утро Владимир Сергеевич слышал: в ванной плескалась вода, потом по коридору раздавались тихие, мелкие, торопливые шаги и щелкала входная дверь. А однажды случилось и так, что в ванной на перекладине остался стиранный лифчик. Обнаружила его Наталья, прогладила утюгом и, отдавая сыну, сказала:
— Ты не находишь, что для девушки он великоват? Это ведь третий номер, а я ношу второй.
Борька смутился, но не сильно; обеда он, правда, не доел, ушел к себе в комнату, забрав лифчик.
Владимир Сергеевич сказал тогда жене:
— Тебя все это не смущает?
Она ответила:
— Ему двадцать лет. И поверь, все-таки гораздо спокойнее, когда он ночует дома.
— Но ты хоть знакома с ней?
— Я видела нескольких его приятельниц, но кто из них — она, пока не знаю. Теперь, может, по третьему номеру догадаюсь.
Владимир Сергеевич привык считать жену умнее себя, в нем еще сохранились остатки былой влюбленности в Наталью и чувство благодарности к ней за то, что из множества сокурсников, бегавших вокруг нее, она выбрала его, пожалуй, самого невзрачного из всех этих ухажеров. И несмотря на то, что в последующие годы обнаружилась его научная одаренность, несмотря на звания, обретенные им, одно осталось незыблемым в их семье: он, Владимир Сергеевич, доктор философских наук, профессор, достиг всего этого благодаря тому, что она, Наталья Михайловна, пожертвовала своей карьерой ради него. Некая приблизительность в этом была, впрочем, весьма иллюзорная, но от частого повторения эта приблизительность уже успела затвердеть, укрепиться, и теперь уже никто не сомневался, что дело обстояло именно так — жертва была принесена. По правде же, Наталья Михайловна закончила институт вперевалочку, с академическими отпусками, с горючими рыданиями в деканате, и разумеется, никакая научная карьера ей не светила.
Однако когда Владимира Сергеевича зачислили в аспирантуру и в дом он приносил всего сторублевую стипендию, Наталья Михайловна нахватала преподавательские часы в двух техникумах, и это дало ему возможность спокойно защититься.
Все свое неиспользованное честолюбие она пыталась привить ему, как дичку прививают сортовой черенок. А черенок не прививался, отсыхая, отваливался. И она полагала своего мужа рохлей, ни в чем и нигде не умеющим себя поставить — ни на работе, ни дома.
И он привык к этой своей роли; она его даже устраивала, позволяя ему не вникать в домашние подробности; за ним закрепились мелкие семейные обязанности, он и выполнял их.
Воспитание сына в эти обязанности не входило. Конечно, он имел право излагать Борьке свое мнение, сын не дерзил ему, а в детстве даже льнул к нему, но Владимир Сергеевич не умел с ним разговаривать, и не потому, что мальчишка раздражал его, — отцу было скучновато с ним.
Ощущая это и коря себя, Владимир Сергеевич старался возбудить в себе интерес к тому, что волновало мальчика, но искусственность отцовского любопытства угадывалась сыном.
Водил Владимир Сергеевич Борьку в зоопарк, в цирк.
Звери, яростно метавшиеся или тоскующие в своих клетках, вызывали и его ответную тоску, он не в силах был разделить восторгов сына. «Зачем это все? — думал Владимир Сергеевич. — Если это необходимо для науки, то при чем здесь вся эта гуляющая, смеющаяся толпа людей, и, главное, зачем дети? Им-то зачем наслаждаться чужой неволей, унижением?..» В цирке шутки клоунов раздражали Владимира Сергеевича примитивностью, а дрессированные животные томили его своей холуйской рабской покорностью. На утреннике, когда все вокруг грохотало от смеха и аплодисментов, семилетний Борька обернулся к отцу и крикнул:
— Папа, а почему ты не хлопаешь?
Возвращаясь после этого утренника домой, Борька восхитился было умом слона, балансирующего в манеже на бутылках, а Владимир Сергеевич сказал:
— Видишь ли, Боря, тут дело не столько в уме слона, хотя они поразительно умны, а в том, что дрессировка производится с применением болевых приемов.
— Это как? — спросил мальчик.
— Обучая животных, дрессировщик причиняет им различными методами боль, если они не выполняют его приказаний. Стоять на этих дурацких бутылках — совершенно бессмысленное для слона занятие. Но он делает это, потому что его кололи прутьями, били, мучили и довели до такого состояния, что он готов на все, лишь бы выполнить злую волю своего хозяина…
Произнеся все это гораздо раздраженнее и длиннее, чем ему хотелось, Владимир Сергеевич досадливо подумал, что вообще не следовало этого говорить. Не впервые с ним получалось так. На вопросы мальчика, повседневно изумлявшегося чуду жизни, он отвечал прозаично, развенчивая чудеса до унылого уровня здравого смысла.
И для самооправдания Владимир Сергеевич сочинил логику именно такого своего поведения: с самого раннего детства человек не должен парить в мире сказочных иллюзий, иначе, по мере взросления, реальная действительность обескуражит его и лишит необходимой сопротивляемости.
Но теория эта нередко понуждала Владимира Сергеевича произносить слова, смущавшие его самого, настолько они не совпадали с той информацией, которая потоком поступала к сыну из десятков иных источников. А порой отец и просто не понимал, как совместить свои прямые до бесстыдства ответы с тем, что отвечает он наивному, чистому, юному существу — Борьке отвечает, которого купал в корыте, возил в коляске, и время его младенчества просвистело, промчалось в щемящую безвозвратность; а сейчас, взрослея с непостижимой быстротой, сын не приближается к нему, а все более отшагивает в мутную даль. Даль — это еще куда ни шло, в ней логика движения, но вот мутность ее, неразличимость того, из чего она состоит, изумляла и пугала Владимира Сергеевича.
Иногда он пытался — все реже и реже — поговорить с Борькой, но вопросы, задаваемые сыну, звучали так, словно в программе «Время» репортер интервьюирует юношу. И Борис отвечал такими же телевизионными блоками, только глаза смотрели на отца со скукой. И чаще всего эти беседы заканчивались лениво-вежливой фразой сына:
— Да ты не волнуйся, отец. У меня все нормально.
— В каком смысле нормально?
— Ну, по тем показателям, которые могут тебя интересовать. Экзамены сдаю. Член курсового комитета. Дружинник. Не пью. На джинсы у тебя деньги не клянчу…
И каждый ответ сына не приближал его к отцу, а как бы отодвигал его в сторону. Грубость между ними не возникала, но если Владимир Сергеевич пытался проявлять излишнее любопытство к образу жизни сына или к системе его взглядов, то интонация ответов Бориса слоилась терпеливой снисходительностью. Однажды даже он дружески обнял отца за плечи и ласково предложил:
— Знаешь, папа, давай сделаем так: проведем домашний эксперимент — ты дашь мне твою научную социологическую анкету, тесты, а я на них отвечу. И нам обоим будет ясно, к какой категории советской молодежи я принадлежу.
Можно было, конечно, обидеться на сына, но Владимир Сергеевич только посетовал на самого себя, на свое уже устойчивое неумение общаться с Борькой. Это было тем более странно, что по своей профессии социолога он отлично умел беседовать с людьми самого различного уровня и возраста. И при этом он почти всегда ощущал их расположенность и доверие, впрочем вполне заслуженные, ибо, беседуя с ними, он испытывал те же чувства по отношению к ним. Его мягкость и доброжелательство были искренними, хотя и несколько профессиональными, выработанными за долгие годы работы. Его наука, уже помимо его воли, приучила его в общении с людьми, даже когда это не вызывалось служебной необходимостью, сортировать собеседников по определенным стереотипам — их было множество, и они не были элементарны, однако это не мешало им быть изученными стереотипами. Так, во всяком случае, казалось Владимиру Сергеевичу.
А вот у себя дома, в общении с женой и сыном, мозг его непроизвольно отключал некие свои участки, ведающие жизненным и научным опытом. Перед Натальей и Борькой он представал обезоруженным, беззащитным. Сталкиваясь с теми чертами их характера, которые были ему не по душе, он сопротивлялся оценивать их: оценка потребовала бы от него выводов и возможного противодействия, а на это он был неспособен. Не из робости неспособен, а потому что желал покоя…
Выгуляв Альму, он плеснул ей на кухне супа в миску. Все еще возбужденная, она есть не стала. Он походил за ней, подставляя миску под ее кочующую морду, но Альма брезгливо отворачивалась. К счастью, поднялась уже Наталья Михайловна. Увидев беспомощность Владимира Сергеевича, она молча отобрала у него миску, вынула из холодильника кусок колбасы и, отрезав толстый ломоть, накрошила его в собачий суп. От мясного запаха волнение Альмы переключилось, она окунула морду в миску и стала громко хлебать.
— Ты когда сегодня вернешься? — спросила Наталья Михайловна.
— Как всегда, часов в шесть.
— Постарайся, пожалуйста, попозже.
Он пил чай тут же в кухне на скорую руку, а Наталья Михайловна обычно завтракала позднее, но сейчас и она села за стол.
— Что-нибудь случилось? — спросил Владимир Сергеевич.
— Сегодня Альме приведут жениха. В собаководстве твердо обещали, хотя я им не верю. Ты не представляешь себе, какие там интриги! Пудель, о котором я договорилась еще два месяца назад, оказался вдруг занятым всю эту декаду, на плановой вязке. А наша Альма идет вне плана, поскольку она для них не перспективная… И знаешь, что помогло? Я случайно купила у дверей «Букиниста» томик Пикуля и преподнесла его зав нашей пуделиной секции. И теперь Альму включили в план…
Разгорячась, она продолжала рассказывать обстоятельства, сложившиеся в собаководстве, и Владимиру Сергеевичу было трудно выслушивать все это с утра, но он не хотел обижать жену и с внимательным лицом, не вникая в смысл слов, слушал звук ее голоса. Она говорила быстро и громко, слишком громко для кубатуры их маленькой кухни, и в дополнение к своему рассказу передавала интонацию тех, о ком говорила, изображая их жестикуляцию и мимику. Кто-то еще в молодости, в давние времена, похвалил Наталью Михайловну за умение интересно копировать собеседников, и теперь она стала делать это часто, утомляя его шумом и однообразием; одни и те же события она пересказывала еще и друзьям по телефону, перенося его на длинном шнуре из комнаты в кухню и даже в ванную. Об этот шнур Владимир Сергеевич постоянно спотыкался, аппарат падал на пол, бился. Борька бинтовал его изоляционной лентой. Он тоже вечно таскал аппарат за собой и, утыкаясь с ним в углы квартиры, отворотясь от родителей, употреблял иногда непонятные отцу слова и обороты речи.
Однажды Владимир Сергеевич спросил его об одном из таких оборотов — в чем его смысл, — Борька любезно ответил:
— Видишь ли, папа, наш язык постоянно обновляется, в том числе и за счет уличного жаргона. Ты почитай Даля: там ведь тоже полно всякого сленга, только Даль называет его просторечием… И вообще, отец, — тут Борис обнял отца за плечи: это означало, что дальше последует какая-либо вежливая ядовитость, — и вообще, отец, давай провозгласим дома принцип невмешательства на основе взаимной любви и уважения.
Как всегда, в том, что отвечал ему сын, была некая внешняя логика, он умел любой свой поступок, любую вздорную мысль облекать в такую доказательную форму, что у Владимира Сергеевича отпадала охота спорить. Было время — возникало раздражение, но оно уже давно омертвело, не исчезло, а как бы обескровилось и лежало на дне души не шевелясь; взамен воцарился покой отчуждения, привычное нежелание обсуждать какие бы то ни было проблемы, способные вызывать недовольство друг другом.
Даже в комнату сына Владимир Сергеевич заходил крайне редко. Стойкий сигаретный дым, книги, разбросанные где попало, на подоконнике, на диване, под ногами на полу; непонятные и не всегда приличные рисунки, приколотые булавками к обоям, — ко всему этому следовало как-то отнестись хотя бы внутренне, но то отношение, которое рождалось при виде всего этого, смущало Владимира Сергеевича, он опасался своего резкого мнения.
Наталья Михайловна ладила с сыном легко, держась с ним приятельского тона, — это получалось у нее не всегда естественно, бывало и натужно, но приятельство молодило ее в собственных глазах, а Борису позволяло жить, как ему вздумается. Над Владимиром Сергеевичем они разрешали себе изредка подтрунивать — добродушно, как им казалось.
Борис прохаживался насчет отцовской науки:
— Ты не находишь, папа, что твоя социология еще не вполне наука?
— То есть?
— Во-первых, нет никакой гарантии, что на ваши бесчисленные опросы-анкеты люди отвечают искренне. Врут, небось почем зря. Во-вторых, даже если и отвечают правду, то кому нужна эта ихняя правда? Она же стихийная, батя, и нельзя же считать ее общественным мнением…
— А каким же, по-твоему, путем следует изучать его? — вяло спросил Владимир Сергеевич.
— Да его не надо изучать. Его надо диктовать: стихии следует противопоставлять порядок. Общественное мнение сосредоточено не в недрах беспорядочной толпы, а в умах авторитетных людей, обладающих властью, конечно же выборной, то есть полномочной.
Возражать на это Владимиру Сергеевичу было скучно, да он и понимал, что сын попусту задирается, но, сам того не сознавая, Борька произносил то, что отцу уже не раз приходилось слышать от людей гораздо более значительных, нежели мальчишка-студент.
Разумеется, эти значительные люди не задавали подобных вопросов и не высказывались настолько нахально впрямую, однако их внимание к тому, чем занимался Владимир Сергеевич, оживлялось лишь тогда, когда результаты его исследований совпадали с загодя составленными указаниями, постановлениями и планами этих значительных людей. Его наука была призвана подтверждать планы, а не расходиться с ними. И если результаты его исследований грубо противоречили им, то всегда оказывалось, что ошибки надлежало искать в его научном методе, а не в загодя составленных решениях и постановлениях. Смириться с этим было невозможно. Он поначалу и не смирялся, даже иногда пёр на рожон, но это отнимало столько сил и, главное, приводило к ничтожным итогам; тешилось лишь его самолюбие — дескать, хватило у него отваги на сопротивление начальству, — но суть дела не изменялась: ответственное задание отбирали у его институтского сектора и передавали в другой институт, где все, что требовалось руководству, идеально подтверждалось и научным методом, и угодливой «потолочной» статистикой.
«И все равно я им не поддамся!» — упрямо думал Владимир Сергеевич.
— …Ты меня не слушаешь, Володя? — донесся до него голос жены. Она ласково дотронулась до его руки.
— Да нет, я все понял, — сказал Владимир Сергеевич. — Сегодня нашей Альме приведут жениха, в связи с чем я должен прийти домой позднее обычного.
— Пожалуйста, не обижайся, — просительно улыбнулась Наталья Михайловна. — Мы с Борей решили, что тебе лучше не присутствовать. Поверь, это достаточно хлопотно, да и лишний человек будет их только нервировать. Ты же сам видишь, в каком состоянии Альма. Ее бы, по правилам, вообще полагалось отвести к нему, но он живет в коммунальной квартире, а там ремонт и не работает отопление, холод собачий, у них может не получиться…
Проводив его до дверей и поцеловав на прощание — это соблюдалось всегда, — она сказала тихим, виноватым голосом:
— Я понимаю, что тебе не до того, Вова, но я так редко обременяю тебя. Ну могу я позволить себе хоть какое-то невинное увлечение. Мы так с тобой скучно живем. У тебя-то хоть есть любимая работа, а у меня…
Лицо ее, лишь чуть-чуть намазанное кремом, светилось той девичьей беспомощностью, которая когда-то пленила Владимира Сергеевича и еще не покинула его памятливое воображение.
— Ладно, — сказал он. — Приду попозже. На который час назначена свадьба?
— Его приведут в три. Но ведь знаешь, это не сразу, они должны познакомиться, она может не понравиться ему.
— Попрыскай ее своими духами, — засмеялся Владимир Сергеевич.
Путь на работу был дальний, сперва трамвай, потом метро, итого минут пятьдесят. За это время домашние события постепенно выветривались, сдуваемые пассажирской сутолокой. Люди, окружающие его плотной стеной в вагонах, даже если кто-то из них вел себя дурно, не вызывали у Владимира Сергеевича той злобы и раздражения, которые обычно возникали среди пассажиров. В незнакомой толпе, озабоченной и усталой, ему всегда чудилась непознанность каждого человека в отдельности. Психология толпы занимала его больше, чем хорошо изученный механизм организованного собрания.
И сейчас, стиснутый в метро соседями по вагону, прижатый к просторному дверному стеклу, за которым с грозным гулом проносились сумрачные, загадочные стены туннеля, опутанные толстыми проводами, он видел свое мчащееся изображение рядом с изображением ближних пассажиров. И мысли его были не пешеходные, не постепенные, а мелькающие, рожденные гудящей скоростью поезда.
«Это я, — думал он, с удивлением глядя на себя в стекле; с удивлением потому, что представлял себя иным, не таким ординарным, как сейчас получалось в стекле. — Это я… Нас тут переполненный вагон. Я — на работу. Они все — на работу. У меня — дом, семья. У них — дом и, вероятно, семья. Это у нас общее. И еще множество абстрактно общего. Но они ничего обо мне не знают. И я ничего о них не знаю. А ведь мы все заполнены до краев частным. Ерундой подчас. Чепухой. Пеной».
На остановке его выжало из дверей, и по перрону он шел уже не торопясь, занятый тем, что ему предстояло сделать сегодня в служебные часы.
У перехода подле метро низко висела на столбах длинная застекленная витрина больших фотопортретов. Дожидаясь рядом зеленого светофорного знака, он привычно скользнул по надписи над витриной: «Лучшие люди района». Дважды в день он проходил здесь и всякий раз досадливо теребился: кому и откуда известно, что они лучшие? По каким параметрам это устанавливается, определяется?..
На противоположной стороне широченной улицы засветился в светофоре зеленый человек, неподвижно шагнувший с тротуара.
В лавине людей Владимир Сергеевич совершил правильный переход проезжей части.
Хозяйка кобеля должна была привести его к Альме в три часа дня. Так было условлено по телефону.
Но она явилась в десять утра — одна.
Наталья Михайловна еще была в халате, мыла посуду на кухне, а Борис в своей комнате стоял на голове, когда в прихожей раздался звонок. Хлюпанье воды и звяканье посуды заглушило его, и Борис крикнул:
— Мама, открой, пожалуйста. Звонят!
В прихожую вошла худенькая, небольшого роста женщина, одетая по-мужски: в поношенном клетчатом пиджаке и брюках, заправленных в старые сапоги; коротко стриженная, в кепке, лицо величиной с антоновку, на котором с трудом разместились глаза, нос и рот — все это подряд, без необходимого свободного пространства, словно кто-то мощной ладонью сжал лицо, отпустил, но оно уже было не в силах распрямиться. На быстрый взгляд ей было лет пятьдесят — семьдесят.
Вместо «здравствуйте» она сказала «бонжур».
— Бонжур. Я и есть Людмила Евгеньевна. А вы, наверное, Наталья Михайловна. У вас не надо переобуваться? Вот и хорошо, а то теперь всюду заставляют переобуваться, как в музеях.
Голос у нее был хрипловато-густой, некомплектный для ее туловища.
— Поскольку нам сегодня предстоит с вами породниться, — сказала она, идя вслед за приглашающим жестом Натальи Михайловны, — я хотела бы предварительно побеседовать.
Они вошли в гостиную.
Из кабинета, расположенного наискосок, донеслось тоскливое повизгиванье Альмы. Людмила Евгеньевна догадливо улыбнулась:
— Реакция у вашей девочки точная: от меня пахнет Джоем — из-за этого жуткого ремонта он уже не мыт больше двух месяцев.
Она внимательно осмотрела гостиную: кактусы, горшки с цветами, куманьки и гжель на полках. Села и спросила:
— Вы полагаете, что это может состояться здесь?
— Право, не знаю, — ответила Наталья Михайловна. — В прошлый раз мы уводили Альму, все происходило не в нашей квартире…
— Эта комната не годится. Во-первых, здесь слишком светло. Во-вторых, они тут все переколотят и опрокинут: Джой не терпит препятствий на своем пути. Кстати, сколько дней ваша Альма уже пустует?
— В точности не могу вам сказать.
На пороге гостиной появился Борис.
— Дней восемь, — сказал он.
— Откуда это тебе известно?
— Юноше такие вещи виднее, — одобрительно кивнула ему Людмила Евгеньевна.
— Не хотите ли кофе? — спросила Наталья Михайловна. — Мой сын Борис варит его отлично.
— С наслаждением. И если позволите, без сахара. У меня диабет.
Кофе она пила неторопливо. Сняла кепку и огладила свои короткие седые волосы не женским, а небрежно-мужским движением руки.
Наталья Михайловна сперва отнеслась к внезапному появлению гостьи с обычной своей иронией, предвкушая, как забавно будет рассказывать о ней, изображать ее, но поведение Людмилы Евгеньевны становилось все более непредсказуемым и требующим внимания.
Сделав два-три глотка и определив, что это «Арабика», она вынула из своей старенькой хозяйственной сумки папку, открыла ее и протянула Наталье Михайловне.
— Ознакомьтесь, прошу вас.
В папке, во всю ее величину, лежала застекленная фотография пса: он сидел увешанный с шеи до колен ожерельем из медалей.
— Это мать Джоя, — пояснила Людмила Евгеньевна. — Умерла у меня на руках в возрасте тринадцати лет от рака. Четырежды была чемпионкой города. Рождена в семье бывшего заместителя министра торговли Российской федерации.
Рядом в папке лежало второе фото. Тоже застекленное; здесь сидел пес покрупнее, и ожерелье на нем свисало до самого пола. Морда у него была плутовато-веселая.
— Это — отец. С месячного возраста воспитывался в доме народного артиста СССР. Рекордсмен десяти выставок… К сожалению, у меня нет портретов дедов и прадедов Джоя, они эмигрировали за рубеж в начале пятидесятых годов, и всякая связь с ними, как вы понимаете, была прервана. Но лет пять назад мне удалось получить их данные через артистов ансамбля Моисеева. И я задокументировала это в родословной. Можете убедиться.
Долистав папку до конца, Наталья Михайловна попыталась пошутить:
— Шикарное происхождение! Я бы лично не могла похвастаться такой родословной.
— Разумеется. Наши браки носят гораздо более случайный характер.
Она отставила пустую чашку, сказала «мерси» и утвердительным тоном задала несколько небрежных вопросов:
— У вашей Альмы была только одна вязка? И помет состоял всего из трех щенков?.. Надеюсь, вы в курсе, что решающую роль тут играет партнер. А в этом смысле Джой безупречен и генетически, и по той среде, в которой он воспитывался. У нас с моим покойным супругом детей не было, и всю нашу душу мы вкладывали сперва в мать Джоя, а затем в него. Поэтому мне совсем не безразлично, кого он выбирает…
— Но ведь выбираете вы, а не он, — сказала Наталья Михайловна чуть насмешливей, чем ей хотелось.
— Я не выбираю, а советую ему. И бывали случаи, когда он не прислушивался к моим советам. Это его право, дарованное ему природой… Не могу ли я познакомиться с вашей Альмой?
Спросив, она тотчас поднялась с кресла.
Как только Наталья Михайловна открыла дверь кабинета, Альма бросилась навстречу, но не к ней, а к Людмиле Евгеньевне. Та наклонилась к вертящейся у ее ног собаке, погладила ее спину от холки до крестца и здесь задержалась, почесывая. И Альма застыла под ее рукой, вытянув благодарную морду с закрытыми глазами к потолку.
— Вот эта комната подойдет, — сказала Людмила Евгеньевна, оглядывая кабинет. — Здесь гораздо строже и нет безделок, которые могли бы отвлечь Джоя. А портьеры мы закроем — так будет интимнее.
— Офонареть, какие тонкости! — засмеялся Борис, он стоял в коридоре за спиной гостьи.
Она оглянулась на него, но, сдержавшись, смолчала.
И уже в прихожей, прощаясь, сказала Наталье Михайловне:
— Пожалуй, уберите из кабинета диван: в любовной игре они могут на него вскочить.
— А книг мужа они не испортят?
— Господь с вами! Джой вырос среди книг.
— По-моему, она типичный шизоид! — воскликнул Борис, когда дверь за гостьей захлопнулась. — Как ты считаешь, мать?
— А мне ее почему-то жаль, — ответила Наталья Михайловна.
— С чего жалеть-то? Водит своего кобеля по загулявшим сукам раз десять в год, получает с каждого помета по щенку, продает их по две сотни за штуку, итого в год чистыми два куска! Да это докторская пенсия в месяц!
— И все-таки трогательно, — сказала Наталья Михайловна.
— Ну это у тебя, мать, уже тоже сдвиг по фазе, извини меня, пожалуйста.
Диван из кабинета они вынесли, поставили его стоймя в конце коридора. Борис ушел на семинар, пообещав вернуться к трем и помочь матери во всем, что потребуется.
Просьбу жены прийти домой попозже Владимир Сергеевич забыл, но и без того задержался у себя в секторе.
Работа в последнее время была напряженной. И сложнее, чем когда бы то ни было. Заказчик, исполком района, пожелал научно проанализировать письма населения, поступающие в райсовет. Исследовать надо было всю эту почту за год. Предварительная работа была уже проделана сектором. Письма, просмотренные выборочно, давали понятие о том, что волнует людей самых различных профессий, возрастов и уровней образования.
Для социологического анализа следовало продумать и приготовить методики последующего опроса адресатов — это позволило бы прийти к выводам, которые и будут представлены заказчику.
Работа увлекла Владимира Сергеевича: рядом с научной задачей, стоявшей перед ним, в потоке густо обрушившейся на него информации, всплывало желание помочь кому-то из адресатов немедленно. Почта была безрадостной — в общем-то, она состояла из того, что принято называть жалобами.
Исполком не торопил Владимира Сергеевича. Ему даже давали понять, что дело, порученное его сектору, не спешное. Сперва оно казалось спешным, а в самые последние недели Владимир Сергеевич почувствовал, что интерес к его работе поостудился. Вникать в причины этого изменения он не желал.
Но среди дня кое-что внезапно выяснилось.
Позвонил ему из райсовета заместитель председателя исполкома — без секретарши позвонил, напрямую. И сказал просто, словно виделись вчера:
— Привет. У меня к тебе просьба, старина: забеги ко мне после работы. Не затруднит? Есть о чем потолковать.
Когда-то давным-давно оба они учились в университете, но дороги их впоследствии разминулись: один ушел в науку, второй — сперва на комсомольскую работу, а затем повыше. Поздравляли друг друга открытками на ноябрьские и под Новый год. В круглые даты окончания университета выпускники курса собирались в ресторане; ряды их редели, скошенные болезнями, смертями, неудачливой судьбой или чванством. Заместитель приходил всегда. Среди своих поседелых, облысевших, обрюзгших однокашников он выделялся внешней подобранностью: по утрам, до работы, делал трехкилометровую пробежку, а по выходным плавал в бассейне. Его неизменно назначали тамадой, и он вел застолье весело, дружелюбно, направляя память собравшихся вспять, к былым, давним временам, когда все они были юнцами. Пожилые выпускники молодели, как увядшие розы, опущенные в сладкий кипяток. Расходились за полночь, клялись, что теперь-то будут встречаться часто. И снова расставались до следующей круглой даты…
В председательской приемной было уже пусто, пишущая машинка секретарши накрыта чехлом, дверь из кабинета заместителя приотворена.
Еще не заглянув к нему, Владимир Сергеевич услышал:
— Заходи, заходи…
Как только он вошел в кабинет, заместитель с видимым удовольствием выпростался из кресла, расправил свое затекшее тело и шагнул навстречу.
«Шагать навстречу они все обучены», — с раздражением подумал Владимир Сергеевич, хотя никакого повода к недовольству у него еще не было.
— Рад видеть тебя, — сказал заместитель. — Устал как бес. За весь день ты сегодня первый и единственный, кто ничего не станет у меня просить… Слушай, давай выпьем крепкого чаю, у меня термос, не успел пообедать.
Оказались у него еще и домашние бутерброды. Он проворно придвинул к дивану маленький столик, расположил на нем нехитрое угощение и сел рядом с Владимиром Сергеевичем.
— Ты чего такой хмурый? Дома — порядок?
— Нормально.
— Дом — это наш тыл, — сказал заместитель. — А фронт — работа. За формулировку не отвечаю. Но ты заметил, между прочим, что применительно к работе мы употребляем множество военных терминов: наступать, брать рубеж, давать бой. Вроде мы постоянно воюем с противником… Не устаешь от этого?
— А ты? — спросил Владимир Сергеевич.
— Стараюсь не думать этими категориями. У противника предполагается иная, чем у нас, цель. Враждебная. И тогда — бой. Но ведь в большинстве своем цель у нас всех одинаковая. А вот средства — беда в средствах… Дурачья многовато. И авторитетной некомпетентности: вроде ты с ним играешь в шахматы, а он с тобой — в козла. Переубедить тупицу труднее, чем разумного оппонента. Да и тупица сейчас хитрющий — он в броне правильных словесных идей, его голыми руками не возьмешь. Согласен со мной?
— Уж очень все это абстрактно, — ответил Владимир Сергеевич хмуро, не понимая, к чему затеян весь разговор.
— Я поделиться с тобой захотел, — огорчился заместитель. — А ты со мной юлишь. Уж где-где, а в науке-то абстракций хватает. Ты ведь с цифрами имеешь дело, а я с живыми людьми. Кстати, как движется наш заказ?
Тут Владимир Сергеевич озарился: видя перед собой внимательное, умное лицо собеседника, рассказал все, что удалось сделать за последнее время.
Выслушав и даже одобрительно кивая время от времени, заместитель хлопнул его рукой по колену:
— Молодец, Володя!.. Кстати, ты помнишь, что смысл этой работы еще в купели крестил я?
— Конечно, помню. И благодарен тебе за это.
— Погоди благодарить. Меня-то вообще не за что: идея ведь твоя.
Он встал, убрал термос в портфель, смахнул крошки со столика в пепельницу и поставил его на место.
Снова сел рядом.
— Вот какая получается петрушка. Для всей этой работы мы с тобой избираем полигоном наш район. Так ведь? То есть только в одном нашем районе будет произведен научный анализ писем трудящихся. А насколько он окажется типичен для всего города? Не задумывался?
— Но с какого-то одного места всегда надо начинать. Не понимаю, что тебя смущает?
— Меня? — Грустная укоризна прозвучала в его тоне. — И не совестно тебе? Собственно, кто твой заказчик, выражаясь на вашем жаргоне?
— В общем, ты, конечно.
— Ну, положим, не я один. Я был закоперщиком, но поддержан и одобрен… Ладно, Володя, хитрить с тобой неохота. Возникли некоторые сложности. Если их сформулировать грубо, впрямую, то появилось суждение, что работа эта нецелесообразна, поскольку общественное мнение в нашем районе и так хорошо известно руководству: на жалобы мы отвечаем, необходимые меры по ним принимаем, контроль будем усиливать, чуткость — тоже. Весь этот набор тебе известен. Это одна точка зрения, так сказать, надводная. Вторая — глубинная: а почему, собственно, именно наш район должен стать опытным полигоном? Почему именно мы должны подставляться? Ведь сведения, которые вы получите и обобщите, могут обнажить кое-какие серьезные пороки нашей работы. И они станут доступны всеобщему обозрению…
— Что же из этого следует? — сухо спросил Владимир Сергеевич.
— Погоди. Не накаляйся. Это еще не все… Есть мнение, что ты намерен добиться разрешения на аналогичное исследование и в других районах, то есть уже в масштабе всего города.
— А я и не скрываю своих намерений. И тебе об этом говорил.
— Говорил, говорил, не отпираюсь. Ученому положено мечтать. Я где-то даже читал, что сейчас в науке уважают только такие идеи, которые кажутся сперва безумными… А вот посади подобного безумца в местные руководители среднего масштаба, и его схарчат не задумываясь.
— Боишься? — спросил Владимир Сергеевич.
— Пошлый вывод, извини меня, Володя. Ты насмотрелся фильмов, где все заместители трусливые прохиндеи. Доля у нас такая в кино: главный в отпуске или заболел, а его заместитель наломал дров, опасаясь принимать самостоятельные решения… Ладно, это все побоку. — Он поднялся и перешел с дивана за свой стол. — А вызвал я тебя, чтоб упредить: затеянное нами дело поскрипывает. Характер скрипа ты должен знать. И еще знай, что я с тобой в одной упряжке. Единственное различие между нами — у тебя больше возможностей. Ты, так сказать, вольный казак, ученый, наука требует, и так далее. А я служивый. С меня спрос иной. И я могу сопротивляться до определенного предела. Не потому, что боюсь, а оттого, что дальше предела — бессмысленно. Это я на всякий случай говорю. Лучше уж от меня знай, чем от кого ни попадя. И запомни — мы с тобой союзники в бою!.. Как видишь, и меня потянуло на военную терминологию…
Простились они мирно и даже по внешней видимости дружелюбно. Оба были достаточно опытны в служебных узловатостях, чтобы не тотчас обнаруживать свои непосредственные эмоции. Тем более что эмоции метались пока еще беспорядочно.
Заместитель был удовлетворен своей прямотой — он ничего не скрыл от давнего однокашника и, по сути, поступил так, как диктовала его совесть: даже не утаил, что обстоятельства могут заставить его выйти из игры, но это вовсе не означало бы изменения его точки зрения, — выход из игры, если он произойдет, будет продиктован служебной и партийной дисциплиной, без которых немыслима никакая работа. Тут заместитель совершенно некстати вспомнил слова, сказанные ему одним из университетских выпускников, сильно подвыпившим на последнем юбилее их курса. «Ты мужик умный, — сказал, — но благоразумный…»
Тогда, в ресторане, это прозвучало не обидно, да и произнес это кто-то из неудачников, — произнес, правда, в разрядку: бла-го-ра-зумный…
Не обидно было тогда, сразу, а вот впоследствии что-то расчесывалось в душе от этого слова. И всегда не вовремя, всегда некстати — именно вслед за тем или перед тем, как приходилось совершать над собой насилие, приготовляя себя к поступку, которого он стеснялся или был не уверен в его правильности. И успокаивал он себя проверенным способом: изменить я все равно ничего не могу, в данном случае не могу, но зато уж при малейшей возможности всегда поступаю согласно своим убеждениям и в первые ученики никогда не лезу — это известно всем. Сегодняшний разговор с Володей, думал заместитель, прошел на хорошем уровне, хотя некоторая муть, быть может, и возникла, но она рассеется, тем более что ничего угрожающего в нынешней ситуации пока еще не сгустилось. Есть разные мнения. И хорошо, что разные, — в споре рождается истина. Поспорим, повоюем…
Владимир Сергеевич возвращался домой устало-раздосадованный.
В вагоне метро теснота уже схлынула. Он сел в пустой угол.
Ехать хотелось долго. Ограниченность и замкнутость вагонного пространства, гул движения, независимого от его личной воли, позволяли ему отрешиться от стройных рассуждений. Здесь он пассажир, его везут с работы домой, маршрут известен машинисту поезда, самому делать ничего не требуется. И даже думать пока ни к чему. Хотя — думается, будь оно неладно… Вот и материализовалась давешняя предрассветная цитата: «Неужели вы полагаете, что мы вам позволим?» …Телепатия, черт возьми! Даже во сне он научился предугадывать запретительные интонации… Однокашник намекнул ему, а теперь он, вольный казак, ученый, может поступать так, как подскажет ему его научная совесть. Впрочем, только ли научная? Оказывается, у совести есть множество ипостасей: гражданская, партийная, научная, рабочая, крестьянская, и еще, и еще… Сейчас время дробления понятий — наука дробится и даже правда дробится. Правда сегодняшнего дня, правда завтрашняя, правда вчерашняя. Ему все реже удается соединить их воедино — всегда приходится что-то вымарывать, чем-то поступаться в своих рассуждениях, даже если он рассуждает только для себя. Привычная и давно опостылевшая работа мысли: для себя, для внутреннего потребления — и не для себя. И притом образуется — как привычный вывих суставов — вывих сознания: то, что для себя, — неправильно, а то, что не для себя, — верно… Надоело. Пропади оно пропадом. Ведь можно же стукнуть кулаком по столу!.. Вот только надо вычислить тот стол, по которому имеет смысл стукнуть. Попусту подымать волну тоже неохота…
Выйдя из утробы метро на едва стемневшую улицу — фонари лишь начинали мерцать робким, пробным светом, — он не стал дожидаться автобуса, а пошел гуляющим шагом, пытаясь расположить толпу усталых, путаных и каких-то босых, не обутых в точные формулировки мыслей в стройную шеренгу.
В сущности, ничего особенного не произошло. Нечто подобное случалось уже не однажды — пора бы привыкнуть. Социология у нас не та наука, достижения которой встречают овациями и цветами.
Он взбадривал себя в такт шагам. Досада на бывшего однокашника редела. Умеренная честность, которую тот проявил, не столь уж повседневна: мог бы вообще не упреждать, а вот упредил. Мотивы, правда, не совсем чисты, но нельзя предъявлять к людям максималистские требования. Реальные жизненные обстоятельства многоцветны, но чаще — трехцветны, как сигналы светофора: зеленый, желтый, красный. Средний человек поступает согласно этим сигналам, винить его не в чем… Впрочем, все не так: нет в реальной действительности усредненного человека, он вычислен в статистике…
Ему стало вдруг лень прогнозировать, как сложатся дальнейшие обстоятельства. В последние годы они так причудливо видоизменялись, что порой неловко вспоминать, чему же он бывал свидетелем — даже не участником, а рядовым свидетелем; правда, иногда намеренно оставался свидетелем, не желая быть участником. Однако проходит время, — все более запутываясь, думал Владимир Сергеевич, — проходит время, и потомки уже не различают грани между двумя этими позициями: для потомков мы все участники. С нас спрос. А взять бы этого потомка за шиворот и сунуть, скажем, в мою науку конца сороковых — запищал бы потомок и тотчас превратился бы в предка, то есть в меня сегодняшнего…
Он думал так, приготавливая себя к тем поступкам, которые ему предстояло совершить, отстаивая свою нынешнюю работу. И его мысли шли вразнобой с его конечным решением — оно было волевым, противоречащим ходу рассуждений… Мое дело — работать. Исполнять свой долг в любых обстоятельствах. Банально? Ну и черт с ним, что банально. Зато честно.
«Зато честно!» — произнес Владимир Сергеевич вслух, не слыша своего голоса и не подавив в себе до конца своих усталых, надоевших сомнений.
Он с облегчением вошел в подъезд. Оставалось два марша лестницы до состояния желанного покоя.
Жена встретила его радостно.
Когда Владимир Сергеевич щелкнул входным замком, она мыла пол в коридоре; полоща в ведре тряпку, Наталья Михайловна подняла мокрое лицо и откинула со лба спутанные волосы.
— Раздевайся, милый, извини, я быстренько. В кабинет не заходи, пожалуйста…
Он снял плащ, прошел в гостиную. На диване была нагромождена разная мелочь с его письменного стола. Только сейчас он ощутил острый запах псины.
Из кухни доносился чей-то девичий смех и громкий голос сына. Они появились вдвоем, Борис с девушкой, неся мытую посуду.
— Знакомься, Алена, это мой отец, — сказал на ходу Борис. — Сейчас принесу еще один прибор, ужинать будем вчетвером.
Пока он сбегал на кухню, Алена поставила на стол тарелки и протянула свою пухлую маленькую руку Владимиру Сергеевичу.
— Вообще-то, я Ольга, но дома меня зовут Аленой. Мне жаль, что мы так долго не были знакомы с вами. Но я много о вас слышала…
Вернулся Борис с обеденным прибором.
— Ну, отец, здесь была такая заморочка — жуть! Хорошо, что ты пришел позже. Если бы мы с Аленой не подоспели, мать запарилась бы до отключки. — Он громко засмеялся. — Ты не представляешь себе эту психопатку с ее кобелем! Еще сегодня утром она выдавала его за Казанову, а привела старого импотента… Нашу Альму от него с души воротило…
Алена накрывала на стол, а Борис азартно рассказывал отцу подробности собачьей свадьбы.
Владимир Сергеевич слушал молча. Ему было неловко, что все это говорится при незнакомой девушке. Он не знал, как остановить сына, но девушка, видимо, что-то сама почувствовала. Она сказала:
— Кончай, Борька. Дай отдохнуть папе, он же с работы пришел.
Борис сразу послушался. Он сдвинул груду барахла в угол и предложил отцу:
— Полежи, отдохни.
Ложиться Владимир Сергеевич не стал — сел, как в гостях, на край дивана.
Для приличия следовало что-то произнести. Он спросил у девушки:
— Вы тоже йог?
— Да это просто так, — ответила она. — Мода. Хотя — полезная. Мне вес надо согнать, лишние пять кило.
— Ничего они у тебя не лишние, — сказал Борис. — Прекрасные пять килограммов.
— Кончай, Борька, — сказала девушка.
«Почему я должен все это слушать?» — тоскливо подумал Владимир Сергеевич. И спросил:
— Вы на одном курсе с Борисом?
— На одном. Только я в Торговом.
— Между прочим, папа, — поспешно вмешался Борис, — у тебя наверняка неправильное представление об Институте торговли.
— У меня нет о нем представления, — сказал отец.
— И совершенно напрасно. Газет не читаешь. Сфера услуг сегодня в центре общественного внимания. Конкурс при поступлении в Торговый — двенадцать человек на одно место. Социологу полагалось бы знать это…
— Кончай, Боря! Ну чего ты вяжешься к отцу? Он со мной разговаривает, а не с тобой, — сказала девушка. — Вы на него не обижайтесь, Владимир Сергеевич, он вас очень уважает…
Из коридора, уже причесанная и прибранная, вошла Наталья Михайловна.
— Ребята, все кипит, все пережарилось… Володя, мой руки, Алена, неси, пожалуйста, куру.
За столом никакого напряжения не было. Наталья Михайловна вела себя так, словно ужинали они вчетвером не в первый раз и близость между ней и этой Аленой возникла уже давно.
Разговор снова зашел о сегодняшнем событии, и снова возбужденно-насмешливо обсуждались его бесстыдные подробности.
Владимир Сергеевич ел вяло и молча накалялся. Отодвинув от себя тарелку, заметил, что Наталья искоса наблюдает за ним.
— Невкусно? — спросила она.
— Нормально.
— У тебя неприятности на работе?
— Да что ты. Разве на моей работе бывают неприятности?
— Вы правы, Владимир Сергеевич, — сказала Алена. — Конечно, в науке меньше нервничаешь. У вас все можно доказать формулами. А вот, например, в торговой сети только одна формула: покупатель всегда прав. Конечно, это совершенно справедливо, но ведь публика у нас самая разная по своему культурному уровню, а товаров повышенного спроса на всех не хватает. И стресс может возникнуть каждую минуту…
— Извините, — вежливо перебил ее Владимир Сергеевич. — Какой номер лифчика вы носите?
Она опахнула свои ярко-голубые глаза кудрявыми ресницами и весело улыбнулась:
— Третий.
Борис вскинулся:
— А почему, собственно, это тебя интересует?
— Ну, вот что, ребята, — сказала Наталья Михайловна. — Закругляемся. Отец устал. Идите в свою комнату, я сама уберу со стола.
Когда они ушли, она села рядом с мужем и ласково спросила:
— В чем дело, Вова? Тебе не понравилась Алена?
— Она кретинка, — ответил Владимир Сергеевич.
— Не преувеличивай. Во-первых, она смущена знакомством с тобой и потому слишком старалась. Во-вторых, она очень любит нашего Борю.
— А он?
— Он еще не нашел себя. Он мечется… Ты же видишь, как он нервничает.
— Господи! — простонал Владимир Сергеевич. — Все они мечутся, ищут себя, калечат друг друга!.. Тридцать процентов разводов, миллионы матерей-одиночек…
— Милый, — сказала Наталья Михайловна и, обняв его, поцеловала в ухо. — Погоди обрушивать твою страшную статистику на голову одного нашего Борьки. Не надо каркать… Ты просто устал. И я вижу, что у тебя неприятности. По глазам вижу. Посмотри на меня.
Он увидел ее озабоченное, участливое лицо, все еще красивое, но уже тронутое равнодушно бегущим временем, и вдруг почувствовал свою вину перед ней: она-то при чем, она всегда оберегала его покой, и если это теперь обрушится, то не во что будет ему уткнуться. Только сейчас он ощутил чугунную усталость — не ту, что сковывает тело, а цепенит душу.
— Прости меня, — сказал Владимир Сергеевич.
— Вот и прекрасно!.. Умница, — обрадовалась Наталья Михайловна. — Сейчас я быстренько уберу со стола, в кабинет к себе не ходи, там я еще не успела прибраться, но ты не волнуйся, завтра все будет в ажуре. А сегодня поспим вместе, мы давно не спали вместе, я по тебе соскучилась.
Она говорила быстро, подряд, ее тело ловко двигалось по комнате, и, проходя мимо него, она улыбалась ему с непозабытым молодым лукавством.
Посуда была мгновенно унесена в кухню, диван широко раздвинут и застелен.
— Ну, расскажи, милый, что у тебя случилось? — спросила Наталья Михайловна, когда свет уже был погашен.
— Потом, — ответил Владимир Сергеевич. — Завтра.
Утром он осторожно поднялся, чтобы не разбудить ее, прихватил свою одежду и пошел было к себе в кабинет, но, открыв в него дверь, брезгливо отшатнулся — весь пол был загажен псами.
Альма сыто спала на своей подстилке в углу.
Завтракать Владимир Сергеевич не стал. Он ушел из дома, оставив на столе в кухне яростную записку жене и сыну: возмущение клокотало в нем, когда он писал. И он был убежден, что, прочитав ее, Наталья в слезах позвонит ему в сектор. Однако день сложился хлопотливо, Владимира Сергеевича несколько раз вызывали из его служебной комнаты да еще и подолгу разговаривали с ним по телефону — и он решил, что вряд ли Наталье удалось к нему пробиться.
К вечеру домашние события уже утратили для него оскорбительную четкость; в глубине души даже стало затлевать ощущение досады на те глупости, что он допустил в своей записке.
А в самом конце рабочего дня внезапно позвонила ему Алена. Голос у нее был торопливо-захлебывающийся:
— Я по секрету… Из автомата. Это Алена… Вы не рассердитесь на меня, Владимир Сергеевич? Я нашла утром ваше письмо в кухне. И спрятала его, не отдала Наталье Михайловне. И Борьке тоже ничего не рассказала. Они же вас очень уважают!.. А в кабинете вашем все-все вымыто… Владимир Сергеевич, миленький, вы приходите поскорее ужинать… А в понедельник мы с Борисом идем регистрироваться, он велел мне ничего не говорить вам, но это же глупо, правда?..
И ужинали они в этот вечер снова вчетвером, но уже в чисто прибранной квартире.
ХВОРЬ
Приехал новый начальник поселкового отделения связи Петр Васильевич Крылов. Семьи он не привез с собой, оказался холостяком. И прежде не был женат — это тоже стало известно.
Связисты, жильцы двухэтажного деревянного дома, вечером услышали, как в квартире их нового начальника заиграл баян. Сперва соседи подумали, что это телепередача, но монтер Дима Путятин, сверившись по своему телевизору, увидел, что на экране показывают лекцию.
Баян играл тихо, печально. Жена Димы, Паня, работавшая на почте оператором, решила, что у начальника гости на новоселье, и все ждала, когда раздастся топот пляски, шум хорового пения. Однако, кроме негромких звуков баяна, из-за стены ничего не доносилось; да и в коридоре никто не замечал, чтобы к Петру Васильевичу проходили люди.
Паня, женщина любознательная и неробкая, постучалась к нему в дверь. За музыкой он долго не слышал стука, а потом сказал:
— Войдите.
Переступив порог, она увидела: Петр Васильевич сидит посреди пустой комнаты на казенном табурете и держит на коленях баян.
Извинившись, Паня попросила у него спички. Он прошел на кухню, вынес коробок.
— А для кого вы играете? — спросила Паня.
— Для себя.
— Разве это возможно?
— Почему же невозможно, — ответил Петр Васильевич. — В этом состоит мой культурный отдых.
Он отвечал вежливо, даже как-то застенчиво улыбаясь. И, несмотря на поздний час, на нем был пиджак, белая рубаха с галстуком, глаженые брюки и уличные модельные туфли.
Свою беседу с начальником Паня пересказала мужу. Сделала она это назидательно, чтобы Дима понимал не только свою жизнь, но и другие запросы. Однако Дима, мужик грубый, подытожил ее рассуждения:
— Придурок он.
Нового начальника связисты встретили хмуро. И не потому, что он тотчас им не понравился. Скорее даже, у них не сложилось о нем никакого быстрого мнения. А дело было в том, что его сравнивали с Ольгой Ивановной, — она проработала на этом месте пять лет и уехала с повышением в другой район.
На начальницу Ольга Ивановна нисколько не была похожа. Молодая, веселая, случалось, она даже плакала, когда что-нибудь в отделении сильно не ладилось. А связистскую работу знала она досконально: могла посидеть за аппаратурой, отстучать и принять телеграмму, соединить на коммутаторе абонентов, оформить любую почтовую операцию.
В дни зарплаты деньги лежали у Ольги Ивановны на столе в конвертах, с фамилиями. Всякий работник подходил к столу и брал свой конверт. Расписывался в ведомости. Сходилось копейка в копейку, чужого никому не надо было.
Перед праздниками Ольга Ивановна причесывала женщин: она умела это делать даже горячим способом, щипцы были у нее собственные, грела их на электрической плитке. У Анны Максимовны с радиоузла уж на что были редкие волосы, а под руками Ольги Ивановны получались взбитые, как торт.
Придумала Ольга Ивановна каждый год, весной, справлять юбилеи работников по выслуге лет. Праздновали семейно: кто варил брагу, кто приготавливал жаркое, кто пек пироги. А еще приносили свою квашеную капусту, соленые огурцы, грибы. Самую большую комнату — операционный зал почты — приспосабливали после рабочего дня под пир.
На подарки юбилярам скидывались, кто по сколько мог. Мужчинам покупали рубаху, а женщинам — отрез на платье.
Узнав, что поселковые связисты пируют, районное начальство стало наезжать: привезут благодарственный адрес юбиляру, а потом гуляют на дармовщину весь вечер. С женами даже приезжали.
Рядом с начальником районной конторы Ольга Ивановна сажала Диму Путятина — он выпивал килограмм без особых для себя последствий. Дима и подливал начальнику, и сочинял такие идейные тосты, что не откажешься: за бесперебойную связь, за своевременную доставку периодической печати, за хорошую слышимость, за безаварийность.
Через час начальник пускался плясать вприсядку, а еще чуть погодя его вместе с супругой наваливали в «пикап» и увозили домой.
Когда Ольгу Ивановну перевели в другой район, плакало все отделение, плакала и она, несмотря на повышение в должности и в зарплате.
И вот приехал новый поселковый начальник.
Все осталось по-прежнему, никаких своих порядков Петр Васильевич не заводил. На работу являлся аккуратно, вовремя. Придет, заберется за свой стол в углу операционного зала и согнется над бумагами. Задумавшись, он отрывался от бумаг и смотрел перед собой дымными глазами, в них курилась тоска.
Если к нему обращались с каким-нибудь служебным делом, он выслушивал внимательно, не перебивая, даже кивал одобряюще, а потом произносил:
— Это серьезный вопрос. Я подумаю.
Бывало, что капризные клиенты требовали с него свежего клея на посылочном столе или неразбавленных чернил в чернильницах, — Петр Васильевич тоже сочувствовал им.
— Хороший сигнал, — говорил он.
Подымался он из-за своего стола редко — только в обеденный перерыв и по нужде.
Кормился Петр Васильевич дома, стряпал на себя сам. Женщины-связистки сперва жалели его, думали, может, у него больной желудок. Но потом отметили, что забирает он в магазине и селедку, и соленые огурцы, и капусту. Стряпня его была не холостяцкая — готовил он настоящие щи, жарил второе. Видно, не лень ему было обихаживать себя.
По документам Петру Васильевичу было сорок три года — возраст, по нынешнему времени, еще интересный, в таких годах еще можно пользоваться жизнью. Однако связисты не замечали, чтобы он свободно пользовался.
В отделении, на телеграфе и на коммутаторе, работало много девушек. Зарплата им идет маленькая — хуже связисток никто не получает, — но на работу ходят они прибранные, в выходной одежде. Это заведено у них так, потому что мало ли кто может заглянуть вечером позвонить по телефону или отправить телеграмму. С такого случайного знакомства и произойдет перемена судьбы к лучшему.
Все отделение помнило, как пять лет назад заскочил ночью на коммутатор молодой летчик. А дежурила в ту ночь Валя. И состоялся между этим летчиком и Валей их первый разговор. А была она одета в свое самое красивое голубое платье с кружевным воротничком. И летчик, в дальнейшем оказавшийся лейтенантом Костей Лузгиным, приехавшим к родным в отпуск, увез Валю к месту своего назначения. Письма от Вали приходили счастливые: стиральную машину купили, телевизор, холодильник.
С того года многие девушки на телеграфе и на коммутаторе ходили в голубых платьях и воротнички кроили кружевные, но ни у кого из них судьба так и не складывалась.
Когда появился в отделении Петр Васильевич, мужчина неженатый, кое-кто из свободных от семьи связисток, может, и примерил его к себе в мужья, но это оказалось пустое дело. Анна Максимовна с радиоузла первая сказала:
— Девочки, я вам точно говорю: если мужик проходил до сорока лет неокрученный, то он и на вас не ошибется.
Но Тася с телеграфа не послушалась. Она решила сама испытать. Терять ей особо ничего не приходилось, она была в разводе и жила как умела.
На Первое мая, погуляв в Доме культуры на танцах, она вернулась домой поздно. Увидев из окна, что Петр Васильевич вышел с ведром к колонке, Тася накинула на плечи жакет и появилась у калитки.
Петр Васильевич набрал ведро, поставил его на землю.
— С хорошей вас погодой, — сказал он.
— И вас также. С чего это вы, на ночь глядя, воду таскаете?
— Попить свеженькой.
— В праздник, Петр Васильевич, люди не воду пьют, а вино.
— От вина у меня нежелательный эффект, — сказал Петр Васильевич. — Голова от него болит.
— Пирамидоном надо закусывать, — посоветовала Тася. — Если желаете, у меня есть пирамидон.
Он засмеялся:
— Запасливая вы, товарищ Синицына.
— Тасей меня зовут, — сказала Тася. — А правда, Петр Васильевич, что вы замечательно играете на баяне?
Он ответил:
— Прошел курс обучения.
— Мечтаю послушать, — сказала Тася.
— А не поздний час? — засомневался Петр Васильевич.
— Детское время, — успокоила его Тася.
И он повел ее к себе на квартиру.
Она думала, что он вскипятит сейчас чаю, может, у него и вино припасено для праздника, но Петр Васильевич тотчас поставил на колени баян и стал играть.
Играл он опять печальное. И чем дольше он играл, тем грустнее становился сам. На Тасю он не обращал никакого внимания. От этой музыки ей захотелось спать. Она вздремнула минуты на две, а потом обиделась:
— Что ж это, Петр Васильевич, я ведь у вас в гостях.
— А что? — спросил он.
— Могли бы и побеседовать со мной.
Он отложил баян и сказал:
— Суть в том, товарищ дорогой, что исчезает из жизни сердцевина.
Тася подождала немного, думая, что он разъяснит свою мысль.
Он разъяснил:
— Музыка имеет такое воздействие на человека, что он от нее становится одинокий.
— Зачем же вы тогда играете?
— Постичь хочу взаимопонимание.
Тася была отчаянная, она сказала:
— Нормальный мужик не может существовать без женщины. Это закон природы, а вы его нарушаете.
— Законы природы внутри нас, — сказал Петр Васильевич. — Их много, а человек один, до всего руки не доходят.
— Может, у вас горе какое было? — спросила Тася.
Он ответил загадочно:
— Человек без горя — как птица без крыльев.
И снова стал играть на баяне, низко наклонив над ним лицо.
Тася посидела еще немного, поскучала и пошла.
Пытались сблизиться с Петром Васильевичем и другие связисты, соседи по дому. Корысти у них не было никакой. Зазывали его поначалу в гости — он приходил, однако своим присутствием нагонял такую тоску, что и пить при нем было скучно, и плясать, и жить.
А по работе особых странностей за ним не отмечалось. Районное начальство было довольно им. Квартальные отчеты он присылал вовремя, составлял их по всей форме, план выполнения брал какой дают.
С планом этим всякий раз была возня: что ни квартал, то все больше его завышали. Связисты нервничали, в особенности телеграфистки. При Ольге Ивановне, бывало, удавалось отбиться немного от контрольных цифр, а Петр Васильевич с начальством не спорил.
Трудно было с планом и на почте и на телеграфе. Пойди угадай, сколько в поселке купят конвертов, сколько отправят телеграмм!
Оператор Паня Путятина в конце ква́ртала трудилась до позднего часа — писала и простые и заказные. Был у нее на этот случай давно составленный список адресов, туда входили дальние родственники, деревенские соседи-земляки и даже покойники. Письма Пани были коротенькие, одинаковые: «Привет из Дубково, желаю вам всего наилучшего, а главное — здоровья!» Расходы ее составляли рублей пять. Зато в удачный квартал премию получала рублей десять, так на так и выходило.
А вот с телеграммами дело было посложней. На телеграмму не всякий потратится, в поселке жизнь протекала медленно, стучать телеграммы особо не о чем: ну, картошку посадили, ну, корова отелилась, ну, закололи поросенка — вот и все.
Однако по осени Тасе повезло.
Заболела и стала умирать одна гражданка, местная старуха. Жила при ней дочь. И начала она по телеграфу собирать старухиных родственников — детей, внуков, братьев, сестер, — раскидало их по всей стране.
Съехались они, а старуха еще протянула с неделю. Задержались родственники для похорон, для поминок, для дележа наследства.
А поскольку непредвиденная задержка, снова полетели телеграммы — кому по месту работы, кому семейные.
И телеграф по показателям вышел на первое место в районе.
Петр Васильевич объявил Синицыной Тасе благодарность в приказе.
А устно посоветовал:
— Не успокаивайтесь на достигнутом, товарищ Синицына. Этот успех надо нам закрепить.
— Как же я его закреплю, Петр Васильевич? — спросила Тася.
— Умелой пропагандой почтово-телеграфных отправлений среди населения.
— У людей горе, — сказала Тася, — а нам счастье: план выполнили.
— С одной стороны, так, — согласился Петр Васильевич. — А посмотреть с другой, госдоходы идут на удовлетворение нужд трудящихся. Копейка, товарищ Синицына, рубль бережет.
Все это он произносил тихо и мягко, словно делясь с Тасей своими сокровенными, им самим открытыми мыслями.
Постепенно связисты начали замечать, что их начальник стал очень мнительный к своему здоровью. Руки мыл на дню раз двадцать: посидит за столом, попишет, потом вдруг вскинется и побежит к рукомойнику; мыло лежало у него в письменном столе на работе. И полотенце тоже. А двери перед собой он никогда не открывал голыми руками — возьмется бумажкой, они у него, нарезанные, распихнуты были по карманам.
Сперва на него даже обижались:
— Что ж это, Петр Васильевич, вы нами брезговаете?
Но он вежливо пояснил:
— Все люди бациллоносители, и я в том числе.
По вечерам выходил Петр Васильевич на прогулку. Только гулял он не как все: вперед не смотрел, а глядел как-то вбок, и шел не по прямой, а вкривь, — сделает несколько шагов, остановится, посмотрит на небо и пойдет в сторону. Никак не угадаешь, куда он выйдет.
В поселке никто так не гулял.
А если навстречу попадалось ему стадо поселковой скотины — голов пятнадцать всего, — Петр Васильевич еще издали замирал на секунду, потом поспешно отваливал вправо или влево, хоть в лужу, хоть в грязь, и далеко огибал коров.
Дима Путятин, поймав его как-то на этом, спросил:
— Неужто скотины боитесь, Петр Васильевич?
— Да нет, примета плохая, — ответил Петр Васильевич.
Дима, человек грубый, расхохотался в голос. Однако Петр Васильевич не обиделся:
— Народ тысячелетиями копил приметы, не зря все-таки.
— Значит, вы и в черную кошку верите? И в чертову дюжину?
— Смотря на каком этапе, — сказал Петр Васильевич.
Раза три в году начальник бюллетенил, ложился в больницу, и не в местную, поселковую, а в город, в областную. Названия его болезни никто не знал. Дима считал, что он придуривается.
— Здоровенный мужик, его колом не убьешь.
— Он на нервной почве, — пыталась оправдать начальника Паня.
— Почва у всех одинаковая, только один вкалывает, а другой симулирует свою дурость.
Время шло, связисты так и не смогли привыкнуть к новому начальнику. Научились работать без него, вроде его и не было вовсе. Он сидел за своим столом в углу операционного зала, к нему редко обращались.
Самый беспокойный народ, телефонистки, издерганные устаревшим коммутатором, пробовали подступиться к Петру Васильевичу.
Он выслушивал их, не перебивал, одобрительно кивал головой:
— Хороший сигнал. Я подумаю.
И отпускал их с миром.
Приезжало иногда районное руководство из конторы связи. Было оно маленького росточка, пузатенькое, на крепких ножках. Времени у него всегда было в обрез. Срочно собирали производственное совещание. Руководство говорило:
— Прошу, товарищи связисты, высказываться откровенно. Какие имеются нужды, в чем у вас загвоздка, в чем слабина.
Связисты высказывались. Последним выступало руководство. Оно призывало повысить дисциплину труда и наладить качественную связь.
А начальнику отделения перед отъездом строго советовало:
— Ты, Петр Васильевич, свой народ не распускай. Больно они у тебя языкастые. Как фамилия, которая про плохую аппаратуру говорила?
— Телеграфистка Синицына Татьяна.
— Ты что, выговор ей когда-нибудь объявлял?
— Нет, — ответил Петр Васильевич. — Благодарность.
— С чего ж это она баламутит? Ты слышал, что она о тебе сказала?
— Слышал.
— И народ твой нехорошо заулыбался. Я б за такие улыбочки!.. Надо, Петр Васильевич, подкручивать гаечки. Не роняй свой авторитет, уронишь — не подымешь…
Энергично сев в трепаный «газик» и навоняв продуктами неполного сгорания, руководство мчалось инспектировать следующий поселок.
Вечерами из квартиры Петра Васильевича доносились все более грустные звуки баяна. Мелодии были незнакомы соседям — старинные.
— Переживательная музыка, — вздыхала Паня — она жалела начальника.
Он и на работе становился все сумрачнее, молчаливее. Порой даже, задумавшись, не отвечал, когда к нему обращались. А то вдруг являлся на почту оживленным, болтливым, на месте не сидел ни грамма, заглядывал на телеграф, на коммутатор.
Анна Максимовна с радиоузла, женщина положительная и самостоятельная, беседовала с ним и на личные темы.
Он сам спрашивал ее:
— Как жизнь молодая, Анна Максимовна?
Она отвечала:
— Плохо, Петр Васильевич.
— Что так?
— Сын школу бросил, учиться не хочет.
— Общее явление, товарищ дорогой. Результат легкой жизни молодежи.
— Где ж она легкая?.. Мы же вдвоем на мои семьдесят пять рублей и кормимся, и одеваемся, и обуваемся…
— Деньги — второе дело, — успокаивал ее Петр Васильевич. — А первое дело: перед молодежью все двери открыты.
Анна Максимовна принималась горячо доказывать ему, что ей хотелось бы видеть сына образованным, не таким, как она, не таким, как здешние забулдыги работяги.
Петр Васильевич поправлял ее:
— Ошибочно рассуждаете, Анна Максимовна. Рабочий класс у нас доминирует.
Надумал вдруг Петр Васильевич строить себе кабинет. По размеру невеликий — два метра на три. Спланировал возвести его рядом с сортировкой. Утвердил он смету, раздобыл стройматериалы, заключил договор с ремстройконторой.
Связисты не понимали, зачем ему понадобился кабинет, но Петр Васильевич охотно разъяснил всем:
— Там меня не будет отвлекать текучка мелочей.
Шесть квадратных метров кабинета строили долго.
В поселке все строили долго, и непременно зимой. Лето уходило на оформление документов, на отпуск средств, а к зиме требовалось срочно эти средства тратить: заканчивался хозяйственный год, и деньги могли списать.
На улицах в декабре пылали костры, каменщики долбали очугуневший грунт отбойными молотками, заливали в котлован мерзлый раствор цемента. Для обогрева рабочих строили дощатые времянки с буржуйками, курить здесь было сладко. За труд на холоду платили раза в два выше.
Петр Васильевич сильно нервничал и убивался на этом строительстве. Бюллетень он не брал, а ходил в местную больницу на электропроцедуры. И еще впрыскивали ему в тазовую область витамины.
К весне кабинет был готов. Перенесли туда сейф, письменный стол, кресло. А больше и места не было. На дверях привернули шурупами табличку: начальник отделения связи.
Теперь он сидел здесь один. Заходили к нему работники редко, был он без особой надобности.
С весной приблизился по календарю День связистов. К этому дню, как было заведено при Ольге Ивановне, стали готовиться.
Два юбилея хотели справить: оператор Паня Путятина прослужила в отделении двадцать лет и монтер Давыдов Анатолий — десять.
Недели за полторы женщины стали договариваться между собой, кто что приготовит на праздничный ужин. Накупили сахара для браги. О подарках условились по секрету от юбиляров: Пане постановили шерсти на платье, а Давыдову — нейлоновую рубаху. Кто-то из мужиков предложил было приобрести для Давыдова спиннинг, но потом вспомнили, что он рыбу не удит, а глушит взрывчаткой.
Еще надо было написать загодя юбилярам поздравления. Прежде их сочиняла Ольга Ивановна, она умела делать это так чувствительно, что связисток прошибала слеза при чтении за юбилейным столом.
И нынче Тася Синицына с Анной Максимовной пошли к начальнику — просить его составить поздравления.
Переступив порог кабинета, они заметили, что Петр Васильевич сидит за столом, обхватив голову руками. Но, когда женщины вошли, он поднял свое печальное лицо.
Тася Синицына быстро изложила просьбу.
Петр Васильевич ответил не сразу, словно Тасины слова добредали до него издалека и еще полностью не добрели. Полагая, что Тася слишком бестолково трещит, Анна Максимовна обстоятельно, по второму разу, рассказала, какой будет общий порядок торжества.
— Позвольте, — сказал Петр Васильевич. — Как же это понимать? — Его лицо болезненно сморщилось. — Вы желаете служебное помещение занять под частную пирушку? Под бытовое пьянство?
Связистки растерялись.
Он продолжал тихим скорбным голосом:
— У меня здесь денежные суммы, документы, служебная корреспонденция, за все это я несу строжайшую материальную ответственность…
Первой опомнилась Синицына Тася:
— Товарищ начальник, при Ольге Ивановне мы всякий год чествовали…
— Ольга Ивановна мне не указ, — мягко возразил Петр Васильевич.
Тут вступила Анна Максимовна:
— У нас же деньги собраны, подарки куплены, объявлено людям… Как же теперь быть-то, Петр Васильевич?.. Срам!
Он прикрыл рукой глаза и, помолчав, произнес:
— Хорошо. Я подумаю.
Но связисты так и не узнали, что он надумал.
Назавтра начальник не вышел на работу. Не было его и на другой день. Не встречал его никто ни во дворе, ни в сельпо, ни на улице.
Паня позвонила в район, там он тоже не появлялся. Соседи не слышали из его комнаты ни звука. Домашний телефон Петра Васильевича не откликался на звонки.
К концу второго дня в отделении связи сильно обеспокоились: в банке следовало получить деньги, а чек не подписан начальником.
Отрядили к нему с чеком Паню Путятину.
Она сперва постучалась в его квартирную дверь — и раз, и другой, и третий, все громче и громче, — потом стала дергать за ручку.
Дверь не поддавалась.
Дима сбегал за топором, но Паня прогнала его прочь. Она потыкала ключами из своей связки в замочную скважину — один ключ подошел.
Начальник лежал на застеленной кровати поверх одеяла. В костюме, в галстуке, обутый.
Он был живой, не спал, смотрел в потолок.
Паня спросила:
— Вы болеете, Петр Васильевич?
Он не ответил.
— Если желаете, — сказала Паня, — я могу вызвать неотложку.
И опять он смолчал.
Приблизившись к нему, она попросила:
— Петр Васильевич, чек надо подписать: люди приходят за деньгами по переводам… Жалобы строчат…
Так ничего и не произнеся, он сел на постели, взял из рук Пани самописку, чек, сделал на нем надпись и снова лег, теперь уже обернувшись лицом к стене.
Прибежав к себе на работу, Паня собралась было рассказать сослуживцам, какой чудной нынче Петр Васильевич. Однако, развернув чек, охнула.
Поперек этого документа строгой отчетности было написано: «Христос с вами!»
И в положенном месте стояла подпись начальника.
В тот же день Петра Васильевича увезли в больницу. Сперва в местную, а затем в городскую.
Разузнав, где он лежит, Паня поехала навестить его.
В палату ее не пустили. Вышел к ней врач, худенький старичок, он понравился Пане: никуда не торопился, пригласил ее сесть, сам сел на диван рядом, расправил свой крахмальный халат на коленях и спросил:
— Вы кто будете, родственница больного?
— Нет, — ответила Паня. — Я с ним работаю: он — начальником отделения связи, а я там — оператором.
Старичок еще спросил:
— А давно ли вы или ваши товарищи по службе стали замечать за ним какие-нибудь странности, причуды, какие-либо отклонения от нормы в его поведении?
Паня начала вспоминать и припомнила:
— Вот мой супруг говорил, что Петр Васильевич боялся скотины.
— У него что, корова была? — спросил врач.
— Нет, он чужой скотины боялся, когда она с поля встречь шла.
— Ну, этого я тоже опасаюсь, — сказал старичок. — А вот по работе, на службе вы ничего не замечали? Ведь все-таки он был вашим начальником…
— Нормально все было, товарищ доктор. И вина он не пил, и на подчиненных не выражался…
Старичок подумал, пристально посмотрел на Паню. Ей даже померещилось, что он ее жалеет.
— Задам-ка я вам еще один, последний вопрос: не случалось ли у больного заметно мрачного состояния, настроения? Бывал ли он подолгу молчалив, хмур?
— Ага, ага! — обрадовалась Паня, она очень хотела помочь и этому старичку и Петру Васильевичу. — Бывал, бывал… Молчит, слова не скажет.
— И вас это не удивляло?
— Так ведь мы думали, он нами недоволен: знаете, план не всегда выполнишь, дисциплина тоже… Товарищ доктор, — жалостливо спросила Паня, увидев, что врач заканчивает беседу, — а скоро он поправится?
— Трудно сказать.
— Ну, как хоть называется его болезнь?
— Депрессивное состояние.
— На нервной почве? — спросила Паня.
— На нервной.
Она нагнала его у дверей:
— Извините меня, дуру, наши девчата интересуются: почему он на чеке написал про Христа? Может, он в бога верует?
— Не думаю, — сказал старичок. — Вряд ли он верит в бога…
ВДВОЕМ
Уже засыпая, Анна Кирилловна слышала, как дочь на цыпочках проходила из своей комнаты в кухню. По квартире разнесся запах кофе. Из-за стены доносилась еле слышная музыка: у Тани работал проигрыватель.
Все эти звуки и запахи Анна Кирилловна уже знала, они ей не мешали. Знала она, что сейчас в Таниной комнате погаснет свет и будут зажжены около постели две свечи.
«Бедная девочка», — подумала Анна Кирилловна.
Она намеревалась думать дальше, но тотчас заснула.
Утром, поднявшись на работу раньше Тани, Анна Кирилловна увидела на кухонном столе две грязные тарелки с остатками еды — со скорлупой от крутых яиц и шкурками колбасы, две рюмки и пустую бутылку. Бутылку Анна Кирилловна поставила в ящик — там их стояло с десяток, все не было времени сдать в магазин, — а тарелки перемыла, покуда вскипал чай.
Поднялась и Таня. Проходя в ванную, сказала:
— Доброе утро, мамуля.
В ванной она была долго, Анна Кирилловна успела позавтракать без нее. Дочь вышла, когда мать надевала пальто.
— Забыла тебе вчера сообщить, — улыбаясь, сказала Таня. — Сегодня к нам переедет Алеша. Только, пожалуйста, не задавай мне никаких вопросов.
— Ты счастлива? — спросила мать.
— Ну конечно, мамуля.
Они поцеловались. От Тани пахло табаком.
В трамвае Анна Кирилловна подумала, что надо заказать третью пару ключей от квартиры для этого Алеши, хотя лучше бы немного погодить. Был как-то года два назад случай, когда ключи они вручили сразу, и зря: замужем Таня пробыла месяца три, не более. Сложные и неудачные отношения дочери с ее мужьями Анна Кирилловна пыталась постичь, но это ей не удавалось. Ее собственный опыт был невелик — единственный муж Анны Кирилловны погиб в войну почти тридцать лет назад, память уже растеряла подробности их жизни, да и прожили они вместе недолго.
Работа библиотекаря приучила ее доверять книгам, в особенности в вопросах любви, и многочисленные романы, чтением которых она увлекалась, смешали ее представления о действительности. И вместо того чтобы раздражаться на авторов книг, неверно изображающих человеческие отношения, Анна Кирилловна сердилась на мужчин, друзей ее дочери, которые вели себя совсем не так, как это было предписано литературой.
День выдался в библиотеке длинный и суетливый: сперва пришлось стоять на обмене, сотрудники института толпились у барьера, бродили у полок в обеденный перерыв, и Анна Кирилловна беспокоилась, не пропадет ли снова томик Сименона. Особенно бдительно она посматривала на преподавателя истории Студенцова. Бесстыдство, с которым он таскал из библиотеки книги, было неописуемо. Студенцов знал, что Анна Кирилловна ему не доверяет, посмеивался над ней за это и, уходя из читального зала, сам подносил ей свой толстый портфель, раскрывал его и, окая, просил:
— Обыщите.
Он стоял перед маленькой седой Анной Кирилловной крупный, нахально-обаятельный, с большими свежими зубами, лохматый.
— Обыщите, мадам, — просил он.
Это он стал проделывать после того, как однажды Анна Кирилловна, пунцовея от стыда, тихо сказала ему:
— Иван Герасимович, в прошлый раз вы случайно унесли с собой «Женщину в белом», не записанную в ваш формуляр. Верните ее, пожалуйста.
Она думала тогда, что в ответ на это он смутится, расстроится или станет возмущаться. Однако Студенцов захохотал и спросил:
— А как же вы заметили, мадам? Я же завернул ее в газету…
Книгу он тогда вернул, но с тех пор систематически терял другие книги, чаще всего детективы, а взамен притаскивал всякую макулатуру. Сегодня он вернул все, что за ним числилось, но слишком уж долго вертелся у стеллажей.
После обмена, затянувшегося до трех часов, она налаживала выставку новинок. Ничего из этих новинок она еще не читала, но, бегло ознакомившись с краткими аннотациями, рекомендовала их читателям. К своей профессии Анна Кирилловна относилась без лишнего интереса. Библиотечного образования Анна Кирилловна не имела, нужда загнала ее на эту работу. Уже лет шесть, как она могла выйти на пенсию, но судьба тридцатилетней дочери все не складывалась, денег постоянно не хватало.
Несмотря на то что Анне Кирилловне было за шестьдесят, она все еще жила, как в молодости, рассчитывая на какой-то удачный неожиданный случай: на крупный выигрыш по лотерейному билету, на внезапно умершего богатого родственника где-нибудь за границей, да и бог его знает на что. Ей казалось, что судьба ошиблась, обделив их с дочерью — двух хороших женщин, — и непременно постарается как-нибудь исправить свою глупую ошибку. Это постоянное подспудное ожидание случая порой утомляло ее, и тогда Анна Кирилловна впадала в отчаяние: ей ничего не хотелось делать, она лежала после работы у себя на диване, жевала конфеты, чтобы сбить аппетит, и читала романы. В квартире становилось пыльно и грязно. Таня убирала только по вдохновению, когда на нее вдруг накатывала крутая волна аккуратности. И тогда она мыла, чистила, била посуду и стекла, вышвыривала на помойку нужные и ненужные вещи.
Они жили слаженно, любя друг друга и ничего не скрывая друг от друга, однако Анне Кирилловне приходилось больше стараться для этой слаженности, нежели Тане. Мать немного побаивалась дочери, боялась ее внезапно возникающей резкости, даже грубости, боялась она и своего одиночества, которое могло бы возникнуть, если бы эта слаженность нарушилась.
Сейчас, заканчивая выставку новинок, Анна Кирилловна думала, что сегодня вечером в их квартире появится этот Алеша, которого она видела всего два или три раза, женатый мужчина, кажется врач-психиатр, молодой человек года на три моложе Тани. Понять, что он собой представляет, Анна Кирилловна еще не успела. Вчера он принес большую коробку конфет, — вероятно, Таня сказала ему, что мать любит сладкое, а может, и сам сообразил.
На улице стемнело, висел в воздухе тонкий холодный дождь, когда Анна Кирилловна вышла из института. В магазинах толпилось много людей, раздраженных непогодой, усталых после работы. Потолкавшись среди них, она вдруг почувствовала, что нет у нее сил выстаивать длинные хвосты в кассу, к прилавкам и нет у нее желания возвращаться сейчас домой. Купив билет в ближайший кинотеатр, Анна Кирилловна даже не поинтересовалась, какой фильм идет.
А к Тане вечером пришел Алексей. Он пришел с небольшим чемоданом и с собакой.
— Вот все мое имущество, — сказал Алексей.
Из чемодана он вынул подстилку для пса, положил ее на пол в коридоре и скомандовал:
— Лежать, Буран! Место!
Большая черная собака легла, загородив полкоридора.
— Понимаешь, — сказал Алексей, обняв Таню, — я вышел из дому в чем был. Ну его к богу в рай, барахлишко!..
Они сели ужинать. Алексей никуда не торопился, он не посматривал украдкой на часы, он был весь тут, около Тани. И она была счастлива сейчас тем привычным неустойчивым счастьем, отрывочным и подозрительным, которое уже начинала считать подлинным, хотя знала — и ненавидела это свое знание, — что ничего подлинного в нем нет. Это было ясно ей и по тому маленькому пустому чемодану, с которым пришел Алексей, по его суетным глазам, по неумолкающей, быстрой его речи, перескакивающей без всякой связи с одного на другое, и даже по черной собаке, тоскливо глядящей на входную дверь. Пес особенно мешал Тане — он принадлежал другой женщине и лежал сейчас в коридоре как ее представитель и союзник.
Когда Алексей обнял Таню, она увидела через его плечо этого чужого пса — он растянул свою пасть и нервно зевнул.
— Закрой дверь, — попросила Таня.
Не выпуская ее из рук, Алексей прикрыл дверь ногой. Он не испытывал сейчас никакой неловкости. Ему было свободно и легко. В глубине души он даже гордился собой, восхищался тем, что ушел навсегда из дома, не прихватив никаких своих вещей, не взяв ничего, кроме Бурана. И ему казалось, что Таня тоже должна гордиться его благородством.
— Вообще-то, Танюха, — сказал он, — есть неписаный закон: мужик должен уходить с пустыми руками. Причиняя женщине душевную муку, он не имеет морального права обездоливать ее еще и материально. Верно, Танька?
— Я не задумывалась над этим.
— У меня в клинике, — сказал Алексей, — лежит один геолог. Здоровенный парнище, он трижды пытался покончить с собой: от него ушла жена. И он впал в такую глубокую депрессию…
— Чем ты его лечишь? — спросила Таня.
— Аминазин, андаксин, элениум… Ты не представляешь себе, чего только не изобрела современная фармакопея, чтобы заставить человека смотреть на жизнь легче, чем она того заслуживает. Я сам пробовал: проглотишь две таблетки, и на все начихать.
— А я пробовала, и у меня не получается.
— Надо запивать теплой сладкой водой, — сказал Алексей. — Беда в том, Танюха, что психопатология — наука довольно грустная. При строгом подходе — все мы чуточку тронутые. — Он хлебнул водки, не чокаясь. — Но если бы мне пришлось подбирать психическое заболевание для себя, знаешь, на чем бы я остановился? На паранойе. Для нее характерна великолепная черта: параноик утрачивает начисто чувство самокритики, он никогда не спорит с самим собой — все, что он решил, кажется ему непреложным…
— Зачем ты мне все это рассказываешь? — спросила Таня.
— Ну просто для общего развития…
— Неправда. Ты дал мне понять, что у тебя сомнения.
— Да чего ты, Танька? Я же сделал все, как ты хотела.
— А что я хотела?
Он сказал:
— Давай лучше выпьем.
— Если ты сделал это только потому, что я захотела…
— Танечка, не будь занудой, я тебя умоляю. Я же ушел из дома именно из-за этого занудства.
— И тебе было все равно, куда уйти?
Он выпил стопку в один прием, обтер свои толстые добродушные губы и ноюще произнес:
— Но я же пришел к тебе!
— По-твоему, я должна быть очень благодарна за это. Имея столько возможностей, ты избрал именно меня. Спасибо, Алеша.
Он поднялся с дивана и зашагал по комнате. Услышав его шаги, Буран встал в коридоре на все свои четыре лапы и коротко взлаял.
— Лежать! Место! — крикнул Алексей.
— Чего ты хочешь? — спросил он, остановившись подле Тани. — Что я должен сделать еще, кроме того, что я уже сделал?
— Ничего, — сказала Таня.
— Ты сама говорила, что тебе надоели наши краденые встречи, мой постоянный страх, отсчитанное, как по счетчику, время. Теперь всего этого нет. Я здесь. В чем дело?
— Ни в чем, — сказала Таня. — Все в порядке, Алеша. У меня скверный характер. Я запущу проигрыватель, и все пройдет.
Она поставила пластинку, не выбирая. Впрочем, их было не так уж много, и она ставила их бессчетное количество раз.
Алексей сказал:
— Дежуришь сутки в клинике, устаешь как бес — ты не думай, я не жалуюсь на свою работу, я ее люблю, — но потом приходишь домой, и хочется, чтоб был праздник. Знаешь, как важно, с какими глазами тебе открывают дверь?.. Вот с тобой не так. Ты молодчага, Танька.
— Со мной — праздник? — спросила Таня.
— Праздник. В особенности когда ты без комплекса.
Он развязал галстук, стянул с себя рубаху и, поставив ногу на стул, принялся расшнуровывать туфли. Таня спросила:
— А какой у меня комплекс?
— Не надо, Танюха. Опять заведемся. Давай так — нам дико повезло, на огромной планете мы все-таки с тобой встретились…
Стоя уже в носках на полу, он обнял ее, повернул к себе, длинно поцеловал.
Все, что он говорил Тане, она много раз слышала не только от него. Эти слова про праздник, усталое нытье о своей тяжкой работе, желание забыться, воспользоваться тем, что есть сейчас, сию минуту, — всем этим она была сыта по горло. Давным-давно, когда она впервые услышала это, ей было лестно, что именно подле нее и из-за нее человек испытывает подобные ощущения. Она старалась, иногда даже через силу, поддерживать эти ощущения, сама распаляя их и в себе. Но шло время, совершенно разные люди говорили ей примерно одно и то же и приходили к ней за одним и тем же, и она сама предоставляла в их распоряжение одно и то же. Они почему-то не удерживались подле нее надолго.
— Погоди, — сказала Таня. — Я постелю.
— Да ладно, — сказал Алексей. — Потом.
Он мешал ей стелить, но она постелила. В дверях послышался шорох, собака злобно зарычала в коридоре.
Таня сказала:
— Кажется, мама пришла.
— Тихо, Буран! — скомандовал Алексей. — Тихо, это свои.
Таня выглянула из комнаты. На пороге квартиры стояла оробевшая Анна Кирилловна.
— Его зовут Буран, — объяснила ей Таня. — Не бойся, мамуля, он не кусается… Ты извини нас, мамочка, мы уже легли.
Анна Кирилловна пробралась к себе в комнату, хотела было пойти на кухню за чайником, но, побоявшись чужой собаки, села в кресло против телевизора и включила его.
У постели горели две свечи. Прикурив от одной из них, Таня спросила:
— А все-таки, какой же у меня, по-твоему, комплекс?
— На фиг тебе это знать? — устало спросил Алексей.
— Мне любопытно.
— Пожалуйста. Комплекс у тебя такой: все мужчины — эгоисты и обманщики.
— А это неверно?
— Как всякое обобщение. Я терпеть не могу рассуждений, начинающихся со слова «все»: все интеллигенты, все рабочие, все зубные врачи…
— Значит, ты особенный? — спросила Таня.
— Особенный. И ты особенная. Кончай курить, Танюха. Это глупо — лежать в постели и заниматься философией. Есть совсем другое, прелестное занятие.
— А война? — спросила Таня. — Ты мне еще не сказал, что все равно когда-нибудь будет война.
— Будет.
Глубокой ночью зазвонил телефон. Свечи, захлебнувшись в стеарине, уже давно погасли. Таня в темноте нащупала трубку и хриплым голосом откликнулась:
— Да.
Кто-то молча дышал на другом конце провода.
— Положи трубку, — шепотом попросил Алексей.
Но аппарат зазвонил еще и еще раз.
— Моя благоверная, — сказал Алексей. — Дай мне, пожалуйста, сигарету.
— А откуда она знает мой телефон?
— Она все знает. Это такой человек, Танюха…
— Мне неинтересно слушать, какой она человек, — сказала Таня.
— У нее очень ранимая психика, — сказал Алексей. — В прошлом году она перенесла тяжелую форму инфекционной желтухи.
— А корь?
— Что корь? — не понял Алексей.
— Корь у нее была?
— Была, вероятно, в детстве. Почему ты об этом спрашиваешь?
— Просто так. Чтобы доставить тебе удовольствие рассказывать о ней.
Она поднялась с постели и накинула халат, лежавший на полу.
В окно, в щели вокруг задернутых штор, пробивался неопрятный осенний рассвет. От его сочащегося, больного света комната казалась холодной и грязной.
— Куда ты? — спросил Алексей.
— Сварю кофе.
Утром, как всегда, Анна Кирилловна поднялась раньше Тани. Вымытая после ужина посуда стояла в кухонном шкафчике. Надо будет попросить этого Алексея сдать бутылки в магазин, решила Анна Кирилловна. И привинтить как следует зеркало в прихожей. Картошки бы хорошо принести с рынка килограммов пять.
Таня вышла из своей комнаты уже одетая и причесанная.
— Доброе утро, мама.
Сложив руки на коленях, она села против матери за стол.
— Разве ты не будешь принимать ванну? — спросила Анна Кирилловна.
— Я уже мылась.
— Хорошо, что вы убрали из коридора этого Урагана, — сказала Анна Кирилловна. — Он ужасно страшный. Я боялась пройти мимо него ночью в уборную.
— Его зовут Буран, а не Ураган, — сказала Таня.
— А чем его кормят?
— Не знаю.
— Таких громадных собак, кажется, кормят овсянкой. Я куплю ее на обратном пути из института.
— Никто тебя не просит, — сказала Таня. — И вообще, не вмешивайся в то, что тебя не касается.
Анна Кирилловна замолчала. Она доела свой завтрак, стараясь не глядеть на дочь.
— Что ты на меня так смотришь? — раздраженно спросила Таня.
— Странно. Разве я уже не имею права взглянуть на тебя?
— Ты только и мечтаешь, чтобы я выскочила замуж за какого-нибудь кретина. Лишь бы на нем были брюки и пиджак, а остальное для тебя не имеет значенья…
— Опомнись, лапонька, — сказала Анна Кирилловна.
— Мама, отчего заболевают инфекционной желтухой? — спросила Таня.
— Кажется, от крыс.
— Господи, как мне все надоело! И сама я себе надоела… Мамуля, давай жить вдвоем. Ведь правда нам никто не нужен?
По лицу Тани текли слезы.
— Я его выгнала в семь утра. Вместе с его дурацкой собакой.
— Куда же он пошел в такую рань? — спросила Анна Кирилловна.
— Домой. У него есть дом. И у меня есть дом. У всех есть дом. Это только тебе кажется, что если в доме нету мужчины, то это уже не настоящий дом.
— Глупости, — сказала Анна Кирилловна. — Твой отец умер, когда тебе было полтора года.
— Он тебя любил?
— Вероятно. Зачем бы он стал жить со мной, если бы не любил?
— А в чем это выражалось? Почему ты была уверена, что он тебя любит?
— Не знаю, — сказала Анна Кирилловна. — Не помню. Может, я и не была уверена. Когда вспоминаешь прошлое, оно всегда представляется лучше, чем было… А сейчас-то мне, вообще, уже кажется, что я всю жизнь прожила одна…
— Ты жила не одна. Ты жила со мной. А теперь я буду с тобой… Хочешь, я сварю сегодня суп, какой ты любишь, с цветной капустой?
— Свари. Только не реви, глупая. Не стоят они твоих слез, дураки такие.
— Все! — сказала Таня. — Плевала я на них.
Она поднялась из-за стола и вытерла кухонным полотенцем щеки.
— Боже, какая это мерзость — штопать их носки, стирать их белье, подлаживаться к их настроению!
Проводив мать до дверей и целуя ее на прощанье, Таня шепнула ей на ухо:
— Прости меня, мамочка.
В институт Анна Кирилловна приехала совершенно разбитая. Предстоял длинный утомительный день. И, как назло, именно в этот день пришли толстые пакеты с новыми учебниками — ими следовало заменить старые, вышедшие из употребления.
В библиотеке в утренний час было пусто. Бродя вдоль стеллажей и занимаясь своим делом, Анна Кирилловна вдруг услышала:
— Глупое занятие, не правда ли?
Она обернулась. За спиной у нее стоял преподаватель Студенцов. Он дотронулся носком туфли до стопки книг, уже снятых с полок.
— Вам-то что? — сказал Студенцов. — С глаз долой — из сердца вон. А вот нам, историкам… Вы чем расстроены, голубушка Анна Кирилловна?
Он смотрел на нее участливо, наклонив свое большое, гладко выбритое лицо к самому ее плечу.
И внезапно Анне Кирилловне стало нехорошо — у нее закружилась голова. Пошатнувшись и бледнея, она невольно привалилась к Студенцову, он придержал ее сильной рукой и довел до стула.
— Голубушка, что с вами?.. Чем я могу вам помочь?
Подобная дурнота случалась с ней уже не однажды, она нисколько не испугалась. Студенцов же, встревоженный не на шутку, сбегал за водой, добыл где-то валидол, валерьянку и не отходил от Анны Кирилловны, покуда она окончательно не пришла в себя.
«Какой он славный! — думала о нем весь день Анна Кирилловна. — Надо бы познакомить его с моей Таней».
А Таня не пошла на службу. Она яростно убирала квартиру, варила обед, отнесла в магазин полную авоську пустых бутылок, но в магазине кончилась тара, прием был прекращен, и, не желая тащиться с бутылками обратно, она выбросила их на помойку.
КОСТЕР
Грузовик с мебелью подгромыхал к поселковому Дому культуры засветло. Баянист Толик — мужчина немолодой, но все еще Толик — выпрыгнул из кабины прямо в сугроб и, заснеженный до колен, взбежал по ступеням.
Промчавшись сквозь пустое фойе, он влетел в кабинет директора. Очки у Толика запотели, никого не различая в тумане, он крикнул с порога:
— Привез, Анна Григорьевна!.. Водитель психует, надо разгружать…
У Анны Григорьевны шла летучка — обсуждали киномеханика Костю. Дело это было привычное, Костю в Доме культуры любили и именно потому всякий раз набрасывались на него с особой охотой, полагая, что, чем яростней обсудят его, тем получится объективней. Ругать его было приятно, он страдал на глазах, грыз сигареты, прикуривая одну от другой, кивал головой, мокрел лицом — товарищи видели, что напрягаются не зря.
Однако тут вломился в кабинет Толик, и Костю тотчас позабыли, бросились к дверям. Правда, Анна Григорьевна посулила ему на ходу:
— С тобой еще разберемся!
И он кинулся вслед за всеми.
Персонал Дома уже облепил грузовик. Водитель, выпрошенный у соседнего совхоза, отвалил борта машины и хмуро курил в стороне, примериваясь, на что бы остервениться; он даже завел было специальным сволочным тоном:
— У меня резина лысая, рулевые тяги на соплях, я в ремонте стою…
Но Анна Григорьевна сунула ему в просторную лапу подотчетную пятерку, и водитель захлебнулся. Злая судорога сползла с его лица, он сказал:
— Другой разговор, — и начал помогать разгружаться.
Полсотни стульев для малого зала внесли по цепочке в фойе, они были свеженькие, остро пахли лаком. С двумя мягкими креслами и сервантом прокантовались изрядно — они не втискивались во входную дверь, пришлось отбивать вторую створку. Кладовщик расшиб топором палец и помянул недобрым матом ремстройконтору. Напрудили холода в фойе, натоптали грязи, но вся новая мебель была наконец перетаскана сюда.
Здесь оглядели ее, поплюхались в креслах, испытывая их упругость, отдышались на стульях.
Художник Дома культуры Петя Лобанов подвигал стеклами серванта.
— Теперь, Анна Григорьевна, — сказал Петя Лобанов, — будет у вас в кабинете интерьер.
Петя не учился на художника, был самоучкой, и классов окончил немного — семь, но работал по своей специальности давно. В окрестных совхозах его нарасхват укланивали для нужд наглядной агитации. Он хорошо рисовал на фанере и на железе перевыполнение планов, натурально изображая рогатый скот, свиней и кур. В неотложных случаях у него получались с фотокарточек и знатные люди. Была у него в подвале Дома культуры мастерская, тут он писал афиши для танцев и кино. Жил Петя Лобанов в полном достатке, даже покупал книги в уцененке и знал кое-какие слова по искусству с приблизительным смыслом. В Доме культуры Петя держался особняком, отчаянно ревнуя свою жену, бухгалтера Галю. Хотя она и соблюдала ему верность по всем статьям, но, будучи приветливой, производила ненужное впечатление. За это впечатление Петя и тиранил ее своей ревностью.
Сгрудив в фойе привезенную мебель и передохнув на ней, сотрудники доделали работу до конца: вынесли из директорского кабинета старомодный буфет, поношенные кресла и втащили туда обновку.
Когда зажгли полный верхний свет и настольную лампу, все ахнули от распахнувшейся перед ними красоты.
Художник сказал:
— Сюда бы еще трюмо, Анна Григорьевна, и получится у вас замечательный тет-а-тет.
Кладовщик же Федор Терентьевич сформулировал гораздо точнее:
— С новосельем бы надо, Анна Григорьевна.
По мелочи наскреблось у каждого. Магазин уже был закрыт, но продавщица винного отдела жила неподалеку, кладовщик сбегал к ней, она отпустила ему в форточку пол-литра белого, бутылку вермута и кулечек помадки.
В старом буфете у Анны Григорьевны стоял юбилейный набор фужеров, подаренный шефами для клубных «Огоньков». На письменном столе расстелили газету. Заглянул в дверь участковый, он был в активе Дома культуры — на вечерах самодеятельности художественно свистел народные мелодии. Налили и ему. Выпили хоть и по-быстрому, но культурно. Коллектив был крепкий, дружный. Если и отмечали вот так радостное событие в директорском кабинете, то попусту не болтали, говорили дело в рабочем порядке.
И сейчас посидели-постояли недолго, а перед уходом Анна Григорьевна объявила:
— Завтра будем списывать старую обстановку. С утра утвержу в сельсовете комиссию. Федор Терентьич, у нас в кладовой солярка еще есть?
Кладовщик ответил, что литров десять сыщется.
— А не мало будет?
— Вообще-то, маловато. Смотря по погоде.
Киномеханик сказал не к месту:
— Товарищи, маленькое объявление: я в Главкинопрокате индийский фильм выцыганил. Нулевым экраном, две серии, очень переживательный…
Сотрудники оживились было, но Анна Григорьевна сказала, чтоб расходились по домам. А киномеханику велела:
— А ты, Костя, останься.
Дверь кабинета она прихлопнула на французский замок и не прошла за свой письменный стол — опустилась в новое кресло. Косте сказала:
— Не подпирай стенку. Садись.
Тяжело вздохнув, он сел во второе новое кресло.
— Думаешь, мне приятно с тобой разбираться? — спросила Анна Григорьевна и тоже вздохнула. — Ребенка бы хоть своего пожалел.
— Я жалею, — сказал Костя. — Всю получку отдал Тоське, до копейки.
— А на какие шиши с Люськой гуляешь?
— Мы не гуляем, — сказал Костя.
— А как же это, интересно, называется?
— У меня к ней чувство.
— Ну и что? Значит, у каждого будет чувство, и он, задрав хвост, побежит от семьи?
На этот вопрос Костя не сумел ответить. Он маялся в кресле. Анне Григорьевне, женщине доброй, тоже было тошно: ее сын прошлым летом разошелся с женой, оставив ребенка. Все материнские слова и горючие слезы она уже извела, убеждая сына, и теперь на долю Кости остались одни ошметки.
— Подумал бы ты над своим моральным обликом, — сказала Анна Григорьевна.
А Косте хотелось помочь ей, он видел, как ей трудно с ним, знал, что в районе с нее спрашивают за него — Тоська писала заявления повсюду.
— Меня в Первомайское зовут, — тихо сказал Костя. — Если хотите, я туда перейду.
— А думаешь, в Первомайском тебе аморалку спустят?
— Там директор совхоза крепкий мужик. Бывший генерал, — пояснил Костя. — Клуб недавно поставил. Он отбодается.
— Не отпущу, — поднялась Анна Григорьевна.
На этом их беседа закончилась.
С утра Анна Григорьевна пошла в сельсовет. Председатель, человек недавний, — говорили, из моряков, — сперва не мог взять в толк, какая комиссия и для чего. Анна Григорьевна рассказала, он снова не понял.
— Сельсовет-то здесь при чем?
— Мы подчиняемся вам, Сергей Иваныч.
— Но мебель принадлежит Дому культуры? Вы за нее отвечаете?
— Директор не является материально ответственным лицом.
— Постановочка, — сказал председатель, расстегнув ворот кителя. — А за что же вы тогда отвечаете? За танцы, что ли?
— Почему это за танцы? — обиделась Анна Григорьевна. — У нас кружки, у нас самодеятельность, лекции…
— Дошло, — сказал председатель. — Значит, средства наши, а идеология ваша. Нам, выходит, попроще: сощелкал на счетах — сошлось, не сошлось, сразу видать. Ладно. На какую сумму списываете мебель?
— Двести сорок семь рублей.
— Ух ты! А может, на ней еще посидеть можно?.. Слушай, директор, давай отдадим ее в пионерлагерь!.. Клопы в ней не завелись?
Анна Григорьевна разъяснила ему: мебель потому и списывается, что ее никому отдавать нельзя. Председатель перебил ее:
— Когда меня сюда назначали, я предупредил в райкоме: глядите, товарищи, как бы не промахнуться. Мне ваши полста целковых в дополнение к моей пенсии не нужны. А опыта у меня нет — всякий прохиндей может подключить меня под статью… И договорились мы так: первый месяц я никаких бумаг лично не подписываю. Вникаю в курс. Знакомлюсь с народом. — Он улыбнулся и протянул ей руку через стол. — Вот и с вами познакомился. С очагом культуры.
И посоветовал Анне Григорьевне оформить бумагу у его заместителя.
Комиссия в составе трех человек, во главе с учительницей истории Рябовой, собралась вечером, заседала недолго — текст акта был известен, его сочиняли по знакомому образцу.
Покуда комиссия заседала, во дворе Дома культуры раскидали лопатами снег. Командовал кладовщик. Он выбрал продуваемое ветром место. Помощников потребовалось много, собрались все сотрудники Дома.
Снова построились цепочкой и вынесли старую мебель во двор. Топоров в кладовой оказалось всего две штуки. Но обошлись: колоть стулья назначили киномеханика Костю, а кладовщик вызвался сам.
— Ломать не строить, — сказал он, поплевав себе в ладони, и ухнул по стулу.
Сиденье провалилось, а ножки устояли, воткнулись в снег.
— Вот дьяволы! — сказал кладовщик. — Качественно произвели, поставить бы их самих рушить…
Костя взял в руки другой стул и рассмотрел его.
— Он же на шурупах и на клею, дядя Федя. Может, отвертку принести?
— Чикаться еще, — сказал кладовщик. — Бей так. На баб у тебя силы хватает…
Работа шла с треском и грохотом, обломки разлетались по двору. Члены комиссии подбирали их и сваливали в кучу. Баянист Толик сбегал в кладовую за соляркой.
— Снизу, снизу поливай! — кричал кладовщик. — Куда ты, дуролом, сверху льешь?.. Сверху они сами схватятся.
Он кричал громко, и все его движения были сейчас громкие, а лицо пылало отчаянным вдохновением.
Председатель комиссии учительница Рябова, свернув жгутом пучок газет, стояла неподалеку, рядом с директором Анной Григорьевной.
— По-моему, уже можно поджигать, — сказала Анна Григорьевна. Ей было неприятно, что во двор на этот грохот забредали поселковые жители.
— А с креслами как? — спросила Рябова. — В целом виде они не сгорят, дымить будут на всю округу. Они у вас на вате?
— Вряд ли на вате. Сейчас больше в ходу поролон.
— Между прочим, — сказала Рябова, — говорят, все эти поролоны вредны для нашего организма. Я, например, перестала носить нейлоновое белье — у меня от него происходят разные женские отклонения…
— Галя! — позвала Анна Григорьевна. — Сбегай, пожалуйста, за ножницами, надо распороть кресла.
Галя побежала в подвал, в мастерскую мужа-художника, он нагнал ее и велел:
— Переодень платье. Выпялилась, как на праздник.
— Петенька, — сказала Галя, — это же старенькое, три года назад куплено…
— Все сиськи наружу. Я сказал — переодень!
Он отобрал у нее ножницы и, вернувшись во двор, стал кромсать обивку кресел.
Костер все еще не разжигали, хотя куча порубанных стульев была уже изрядной. Неподалеку стоял, накренившись в снег, нетронутый буфет. В зеркалах двух его створок стеклилось сейчас холодное зимнее небо и верхушки далеких сосен.
Киномеханик Костя, вспотевший от непривычно яростной работы, снял с головы меховую шапку и отер ею пот с лица.
— Анна Григорьевна, — сказал Костя, — давайте я хоть зеркала отвинчу. Вы посмотритесь в них…
К буфету шагнула Рябова и посмотрелась. В зеркале окантовалась до пояса молодая женщина с широким плоским лицом, румяная, старательно мелкозавитая.
— Зеркало качественное, — подтвердила Рябова.
Она понравилась себе и даже взбила рукой прическу. Незамужнее тридцатилетнее сердце учительницы сохло, и всю свою загустевшую от одиночества страсть Рябова оглушала общественной работой.
— Зеркало качественное, — еще раз установила она и отошла в сторону.
Анна Григорьевна тихо сказала:
— Греха-то большого не будет, если мы их снимем.
— Как хотите. Я лично не могу взять на себя такую ответственность.
— Долго вы там будете совещаться? — заорал кладовщик. — У меня поросенок с утра не кормленный…
Выручил художник. Кресла уже были вспороты, он подошел к буфету, тоже посмотрелся в зеркало, поправил на голове велюровую шляпу.
— Собственно, об чем дискуссия? — спросил художник.
— Я их бить не стану, — сказал Костя. — Не могу я их ничтожить…
Художник взял из его рук топор и, даже не размахиваясь, стукнул по одному зеркалу и по второму. Они брызнули лучами, не разлетаясь.
— Путем, — сказал художник.
Гора обломков была велика. Рябова разодрала газетный жгут и отдала половину Анне Григорьевне.
— Вы зайдите с того конца, а я — с этого.
Костер занялся тотчас. Сперва схватились не все обломки, вороватый огонь хитро перебегал по ним, выбирая, что повкуснее, — он облизывал солярку, краску, дымные острия пламени зацвели на ветру. Костер был безмолвным сперва, но потом залопотал, затрещал, рассказывая, как ему сытно жрется.
Небо почернело, во дворе стало темнее, жаркий свет пылал только здесь.
— Давай вали кресла! — скомандовал кладовщик. — Теперь пойдет.
Втроем они ухватили изрезанное кресло, подтащили его поближе и, с усилием размахнувшись, повалили его в огонь.
На полыхание и вонь костра во дворе поднакопились люди. У окраины поселка помещался Дом престарелых, вечерами они выходили подышать свежим воздухом. Забредя на огонь, престарелые держались во дворе кучно, группой.
Когда в огонь повалилось одно кресло и вслед за ним второе, самая дряхлая старуха — голова ее мерно подрагивала на неуверенной шее — испуганно спросила:
— Батюшки, что ж это деется?
Отечный старик подволочил свои ноги поближе к костру, заслонил локтем лицо от жара и рассмотрел, что горит. От пальто на выпуклом животе пошел пар. Кладовщик ухватил старика за руку и потащил в сторону.
— Хроник!.. Сгоришь к чертям собачьим, а потом за тебя отвечай…
— И ответишь. За все ответишь. Стрелять таких надо по закону военного времени!
— А ты повернись ко мне задницей и расстреляй! С вашей пищи будешь заместо пулемета.
Кладовщик ожидал, что вокруг засмеются, но никто не рассмеялся.
Странное действие производил этот костер. Он околдовывал своим первобытным, библейским пламенем, призывая пещерную душу к разрушению, а душа добрая плавилась в огне, становясь еще жалостливее.
Директор Дома Анна Григорьевна, глядя на огонь, думала: «Хочешь сделать как лучше, а получается как хуже…»
Баянист Толик давно мечтал сочинить песню о своем поселке, и сейчас она зазвучала в нем: шумит сосновый бор, горят костры, подле них трудятся славные ребята.
Художник Лобанов думал, что нет здесь в поселке людей, понимающих его высокие запросы. Бежать надо отсюда в область… А платье это Галкино сегодня же изорву на тряпки, чтоб не заголялась перед коблами.
Киномеханик Костя думал, что, может, и получится уломать Тоську — хоть на выходные отдавала бы ему ребенка.
Учительница Рябова думала, что в роно надо поставить вопрос о классном руководителе девятого «А» — уж очень к нему липнут девочки, а он вдовец.
Кладовщик Федор Терентьевич, ни о чем не думая, украл два стула и теперь сожалел, что не припрятал еще два — никто б не хватился, столько их тут нарублено.
Участковый, заглянувший сюда на огонь, постоял всего минут пять, но успел подумать, что уголовное дело на буфетчицу надо бы завести, да неизвестно, как к этому отнесется начальник, может сказать — мало занимаешься профилактикой.
Бухгалтер Галя и сейчас еще продолжала любить своего художника, хотя понимала, что сегодняшней ночью он может оттаскать ее за волосы.
Водяночный престарелый старик рассуждал про себя, его спекшиеся губы узко разлеплялись в бормотанье:
— Раньше порядок был. Боялись потому что. Без страха народ не воспитать…
А все остальные престарелые, сбившись неподалеку от костра в кучу, хором думали, что жизнь свою они уже прожили, но никто из молодежи не желает прислушиваться к их советам.
РЕКА
В эту пору, уже на излете белых ночей, света еще хватало; к полуночи он стал скареднее, но на реке, ничем не заслоненной от пустого, бесцветного неба, все, что мне хотелось бы различить, не утратило своих очертаний.
Ниже по течению, метрах в сорока от моей лодки, стояла на якорях вторая, а выше, на таком же расстоянии — третья. Они появились недавно, к вечерней зорьке, а я торчал здесь с раннего утра. Я сидел на самой стремнине, на стрежне, поперек течения, — вода психовала в борт за моей спиной: реку гневила упрямая неподвижность моей лодки, два якоря, с кормы и с носа, намертво взнуздали ее.
Рыбалка в то утро была беспокойной — мальки непрерывно стягивали наживку с четырех крючков поводка без всякой видимой на глаз поклевки. Да и подсекать их не было никакой охоты, а они столовались у моего поводка на дармовщину, раздражая меня своей веселой наглостью.
Черви у меня были отменные — верткие, красные, тугие, я надевал их причудливым бантом по три штуки на седьмой номер каждого крючка: крупный лещ льстится именно на такую наживку, но сволочь малек умудрялся сдирать ее без малейшего подрагивания жилки. Глубина здесь была большая, метров восемь, а мне приходилось то и дело вытаскивать всю длиннющую снасть в лодку и снова и снова нацеплять жирных червей на объеденные пустые крючки, словно я нанялся в шеф-повара́ у этой сволочи малька.
Солнце в то утро взошло свежее, пылкое, оно быстро вошло в силу и калило мою спину, но мне было не до природы. По сторонам я не глядел, сидел сгорбившись и тупо уставясь на кончик короткого удилища, торчащего над бортом лодки. Глаза уже слезились от надоевшего блеска быстро текущей воды. Я силился думать о чем-нибудь важном и постороннем, не относящемся к рыбалке, но все мои мысли заклинило на том глубинном, нагулявшем жир леще, с золотой чешуей по спине и широким бокам, с небольшим и вежливым ртом, — на том воспаленно вожделенном леще, который вот-вот подплывет к моему поводку, распугает хулиганскую мелюзгу, залюбуется верткими червями, быть может снисходительно улыбнется их старанию уйти от него, а затем всосет их кончики своими толстыми губами и, сперва не двигаясь, станет засасывать их все глубже, и, уже отведав этой прелести, рванет весь бант в сторону; а тоненький кончик моего удилища чутко дрогнет, а затем и все оно упруго изогнется, и я рывком подсеку именно в ту долю мгновения, когда лещ кинется наутек с бантом червей во рту.
И тогда наступит самое главное. Еще не видя своей добычи, а лишь ощущая в руке ее сопротивление и подводную тяжесть, я лихорадочно верчу катушку удилища, то наматывая жилку, то отпуская ее вглубь, когда лещ рвет ее на себя с предгибельной силой. Мы еще не видим друг друга — он и я, — мы боремся вслепую, на моей стороне техника, оружие, опыт, на его — наивная бешеная жажда свободы. В этой борьбе нет места ненависти: я даже люблю его, моего будущего леща, и нисколько не злюсь, что он бешено сопротивляется, мне только важно, чтобы он не сошел с крючка. О чем думает в этой борьбе лещ, я не знаю, мне и не положено знать, ибо моя цель — изловить его, и если я начну задумываться над его ощущениями, то в мою душу может прокрасться жалость, и тогда я не борец. Борец, во имя конечной победы, не смеет отвлекаться от борьбы, и я продолжаю с тупой бдительностью наблюдать за кончиком удилища.
Отдаленный шум доносится до меня с реки, он возник ниже по течению, медленно приближаясь. Я пальнул взглядом в том направлении, но поверхность реки гладка, отглазурена слепящим солнцем, а метрах в двухстах река делает поворот, и из-за поворота стелется этот шум. Нет в нем ничего механического, машинного, человеческого, но и природа тиха вокруг меня — не шелохнется камыш у берега, недвижима листва на прибрежных кустах.
Я не в силах отклеить свои зрачки от кончика удилища, боясь прозевать моего вожделенного леща, а шум, похожий на торопливый топот, приближается по реке. И когда явственность его уже неоспорима, любопытство одолевает меня. Я подымаю усталые от напряжения глаза и смотрю вдоль реки. Хотя солнце по-прежнему жарит вовсю, по воде ко мне топочет дождь — сплошная толпа капель, перегородив реку, стуча по ней пятками долговязых, до неба, струй, выбежала из-за поворота и спешит сюда в веселой атаке. Не добежав до моей лодки метров десять, ливень танцует поперек реки, его ровная линия кипит брызгами — ливень пляшет свою лезгинку на месте.
А я сижу неподалеку на жарком солнце, река вокруг меня гладка. Подняв изумленные глаза к небу, я вижу, что это озорует всего-то одна тучка, силенок у нее чуть-чуть, выскажется этим коротким узким ливнем и иссякнет. Все-таки надо иметь мужество выползти в одиночку на бескрайне голубое небо и проявить свою личность!..
Покуда я любовался этим невиданным зрелищем, удилище мое затряслось — я услышал, как оно стучит о борт лодки, схватил его, подсек, но было уже поздно. Сколько раз давал себе слово не любоваться природой во время рыбалки. Борец не смеет отвлекаться от борьбы даже во имя прекрасного…
И дальше — как отрезало: не клевало до вечера вовсе. Бдительность моя ослабла, на смену пришла лень. Я пытался развлечь себя воспоминаниями, но они не терпят насилия, им нельзя приказать, их приход самоволен.
Поближе к вечеру возникли на реке две лодки — одна выше по течению, другая ниже моей. Я изредка посматривал то вперед, то себе за спину, ревниво пытаясь понять, как складывается ловля у двух этих рыбаков, много ли они таскают. Судя по тому, что они не снимались с якорей, у них должно было недурно брать, однако, когда бы я ни поглядывал в их сторону, мне не удавалось заметить, чтобы они пускали в ход подсачек, — значит, лещ и к ним не приходил и таскают они такую же мелочь, что и я.
Пытался я от скуки различить, кто они такие, знаю ли я их, — на этой реке у меня много знакомых рыбаков, — но дальность не позволяла мне всмотреться в их лица, да и сидели они в лодках пригнувшись к бортам. А после полуночи их фигуры и вовсе исчезли, это значило, что они улеглись на дно своих лодок поспать. Я и сам иногда поступал так, в те далекие годы, когда рыбу еще не извели в этой реке, — сутками не вылезал на берег; ловля продолжалась и во сне: колокольчики, подвязанные к кончикам удилищ, трепетным звоном своим будили меня — лещ, язь, судак рвали наживку.
Но нынешний день наскучил мне и нищенством улова, и душевной пустотой; долгое, настороженное сидение без клева усиливает бесцельность существования. К тому же заныла спина, затекли ноги, и я решил переждать на берегу те два-три часа, когда неопределенность этой белой ночи сменится белым днем, — очнется от сонной одури природа, очнусь и я.
Вытащив тяжелые якоря, увязшие в глинистом дне, — лодку поволокло вниз по течению, — я с усилием развернул ее веслами поперек реки и подгреб к берегу.
Приятно было ступить на крепко слежавшийся влажный песок, ощутить под ногами земную твердь и распрямить изломанное неподвижностью тело.
Спешить, торопиться некуда было. Все вокруг принадлежало мне, а я был естественной частью того, что меня окружало. Я не был чужим, лишним здесь, как случалось бывать среди людей, ничто не обижало меня вокруг, не вызывало моей зависти или раздражения. Ровный, тихий, как шепот, свет угасающей белой ночи ничему не придавал выдающегося значения, ничего не подчеркивал, никого не выделял. Этот песчаный берег, окруженный раскидистым ольшаником, сосны и ели позади него, добродушное бормотание реки — все было преисполнено такой благожелательности ко мне, что вызывало ответную доверчивость. Я был равен тому, что видел, и равен самому себе.
Отойдя от воды, я растянулся на сухом песке, подгребя его под плечи, как подушку. Думал, что подремлю, и затягивало в сон, но желание насладиться покоем, не проспать его, владело мной.
Я лежал с закрытыми глазами. Тишина, окружавшая меня, была не похожа на комнатную: хотя и здесь ничто не достигало сейчас до моего слуха, но в комнате ночная тишь маленькая, неживая, насильственно созданная, — в комнате человек окружен немым, мертвым барахлом, — а здесь, на берегу, молчание было распахнуто настежь, живое, огромное, его можно было услышать, я сам соучастник этой тишины, могу нарушить ее, мне есть с кем перемолвиться здесь, и я лишь не знаю того языка, который пригоден для этого. Лежа навзничь на песке, я всем телом принимал безмолвные сигналы окружающего пространства, — ко мне обращались, я включен в сеть, слава богу, городу не удалось выбить из меня проводимость.
— Радикулит вы себе обеспечили! — чей-то сильный голос раздался подле меня.
Значит, все-таки я заснул. И действительно озяб.
Рослый бородатый мужик перетаскивал рюкзак на берег, его лодка уткнулась носом рядом с моей. Он вытряхнул рыбу из своего садка на песок у самой воды.
— Уху будем варить. Соорудите костерок, а я пока почищу эту дрянь. Вы-то хорошо обрыбились?
— Да нет, у меня такая же мелкота, как и у вас.
— А почему место не меняли?
— Глядел на вас — вы не меняете, ну и я сидел.
— Это мы любим, — засмеялся бородач. — Не иметь собственного мнения: как все, так и я… Вон еще один подгребает, тоже, наверно, кошке наловил, глядя на нас…
Третья лодка вонзилась в песок неподалеку. Из нее легко шагнул человек в ярко-желтой рыбацкой резиновой робе — я уже встречал его в нашем поселке и на реке. Кажется, он был сыном или племянником известного в городе психиатра, жил летом на его даче, а чем занимался сам, этого я не знал. Он издали вежливо поздоровался, но желания присоединиться к нам не обнаружил. Вынув из лодки двуручный спиннинг, умело забросил блесну и прислонил удилище к одной из рогатин, воткнутых в песок у самой воды, — их тут было понатыкано с десяток. Затем он достал из лодки еще два спиннинга и, продолжая возиться со своими снастями, не собирался, видимо, отдыхать.
Бородач покосился в его сторону, близоруко всмотрелся и спросил меня странно угрюмым тоном:
— Знакомы с парнем?
— Да нет, шапочно.
Отдав ему мой садок с чахлым уловом, я пошел за топливом.
Мелкий сушняк был раскидан по берегу — ломаный пересохший камыш, еловый лапник, занесенный сюда ветром, но это могло сгодиться на разжог, на краткое яркое пламя, а нам нужен был долгий деловитый костер, на котором и уха кипела бы, не выплескиваясь, и посидеть подле ровного огня можно было часа два до рассвета.
Продравшись в густой ольшаник, я вырубил два длинных сухостойных хлыста и поволок их по песку к берегу; понатаскал еще замшелые отжившие сучья. Самое главное — уложить сердцевину кострища: когда огонь схватится и выжрет мелкое топливо, займутся и толстые хлысты, они будут гореть медленно и жарко, не давая высокого пламени, сидеть подле такого костра — наслаждение. Предвкушая его, я хлопотал, приминал и расправлял, как прическу на моднице, все, что было натаскано мной.
А бородач распотрошил наш улов, нарезал луковицу и картошку. Мы делали свое дело молча. Воткнув в песок две рогатины, я примерил к ним палку для казана: припасы для ухи и посуда были у бородача, я ничего не прихватил с собой, кроме бутербродов.
Он осмотрел мою работу, подвесил казан, но, когда я вынул из кармана спички и наклонился над ворохом сухого камыша, бородач сказал:
— Погодите. Сперва познакомимся. Обменяемся, как говорится, анкетными данными. Поскольку я помоложе — представлюсь. Балабин Анатолий Кузьмич. Сорок девять лет. Образование юридическое. Женат. Умеренно пьющий в свободное от работы время.
Вынув из кармана куртки плоскую бутылку коньяка и две пластмассовые стопки, он вонзил их в песок.
Я ответил ему, отрекомендовавшись учителем литературы.
— Вот теперь поджигайте, — велел Балабин.
Он быстро дошел до своей лодки, достал большой кусок брезента и, вернувшись, расстелил его на песке поблизости от уже трещавшего костра.
— Располагайтесь. Будем как дома. Точнее — лучше, чем дома. Это у вас что? Бутерброды? Начнем с них.
Голос у него был категорический, не рассчитанный на возражения. Наполнив коньяком стопки, он протянул одну мне и чокнулся:
— Будем здоровы.
Бутылка была початой — вероятно, сидя в лодке, он уже прикладывался к ней. Лицо его, дотоле торопливо-напряженное, расслабилось, оно словно выглянуло из бороды, как из кустов: показались хоть и усталые, но молодые глаза, обнаружилась симпатичная курносость и пухлые обидчивые губы, — в общем, я его мысленно побрил, и он помолодел.
Балабин прилег на бок, глядя в костер.
От пламени, сосредоточенного подле нас, белая ночь потускнела, небо не стало темным, но его сил хватало лишь для того, чтобы скромно освещать себя робким дежурным светом.
Толстые ольховые хлысты еще не запылали, но искры уже плясали по ним. Я повернул их, они густо задымили.
— Чудна́я штука! — сказал Балабин. — Запах дыма отвратителен в квартире, а тут нюхаешь его с удовольствием… А знаете почему? Всякая городская дрянь, растворенная озоном, кажется менее значительной. Была б моя воля, остался бы я тут навечно. Все, что нужно душе человеческой, здесь имеется…
— Рыбалка-то, положим, с каждым годом хужеет, — лениво сказал я.
Огонь костра завораживал и меня.
— А вы давно тут ловите?
— Двадцать пять лет. Лещи брали по три кило штука. Плотва крупная, угри попадались. Вода в этой реке была в устье такая чистая, что ею можно было аккумуляторы доливать.
— Обычная штука, — сказал Балабин. — Где люди, там и гадость. Вам, конечно, как педагогу, эта мысль чужда?
— Дело не в моей профессии. Просто я не люблю обобщений.
— А как же без них-то? Без них у нас не проживешь. Первейшее дело — суметь обобщить наблюдаемое явление. Вот вы, например, — извините, что повторяю, — постарше меня будете. Следовательно, прошли через ту эпоху, когда частные явления вообще не рассматривались: скажем, судьба отдельной личности. Она особой роли не играла, она обобщалась социально. То есть вопрос ставился так: не «кто ты таков, голубчик?», а «из каких ты голубчиков происходишь?». Неверно я рассуждаю, товарищ педагог?
— По-всякому бывало, — ответил я.
— Я про закономерность толкую, — сказал Балабин. — А по-всякому бывало и при царе Горохе…
Кажется, он был недоволен мной, моими уклончивыми, ленивыми ответами, а может, я и просто показался ему ограниченным стариком. Своего раздражения Балабин не скрывал, оно возникло внезапно. Он поднялся, пошуровал костер, хотя его совершенно не нужно было шуровать — уха уже кипела. Помешав ее длинной деревянной ложкой, Балабин ворчливо спросил:
— Как насчет перца? Перец переносите? Язву не нажили?
— Язвы у меня нет.
— А я нажил. Много чего нажил. Ваше поколение поздоровее было.
Раздражать его еще более мне не хотелось, но я все-таки сказал:
— С чего ж оно могло быть здоровее? С войны, что ли?
— О войне речи нет. Там полегли без разбора, она не сортировала, кто да кто…
Он выловил ложкой ломтик картошки из ухи, попробовал его зубами. Потом шагнул в сторону, к бутылке, налил стопки и, уже не чокаясь, сказал вроде бы даже не мне, а себе:
— Помянем моего отца.
Я спросил:
— Погиб на фронте?
— Вернулся слепой. С тоски умер. Зашибал крепко.
Уха была готова, мы сняли казан с перекладины, я только помогал Балабину, а он действовал сноровисто: налил в алюминиевые миски уху, нарезал хлеб, кусок шпига, все это расставил и разложил на брезенте.
Огонь уже выгрыз середину длинных ольховин, я споловинил их и подтянул в центр костра, в самый его жар, они тотчас вспыхнули. С реки тянуло ночной сыростью, но мы были отгорожены от нее живым теплом огня.
— Ну, как ушица? — спросил Балабин.
— Отличная.
— Не пересолил?
Его хмурое бородатое лицо подобрело, уху он хлебал с аппетитом, держа миску на скрещенных ногах.
— А насчет поколений вы не обижайтесь. Может, я неправильно высказался. Моя работа не способствует точным выводам: она однобокая, слишком много человеческой дряни приходится наблюдать. — Он внезапно улыбнулся. — Мы с вами, в сущности, смежники. Специальности у нас смежные: ваша продукция попадает ко мне. Не вся, конечно, а бракованная…
Я не сразу сообразил, о какой смежности идет речь. Он заметил мое недоумение.
— Сейчас подскажу. Я следователь прокуратуры. А подсудимые — ваши ученики: кончали когда-то школу или даже еще учатся в школе. Это, конечно, если говорить в общем виде. Так сказать, образовательный ценз преступников значительно повысился по сравнению с тыща девятьсот тринадцатым годом… По телевизору показывали, как темный, глупый мужик отвинчивал гайки со шпал на грузила для рыбалки…
— Это рассказ Чехова «Злоумышленник», — ввернул я.
— Возможно, — кивнул Балабин. — У меня память на книжки плохая, да и времени нет… А стариков таких темных сегодняшний день не сыскать, и на железной дороге уже не гайки воруют, а груженые вагоны. По правде сказать, нет у меня впечатления, что образованность имеет прямое воздействие на совесть. Несоответствие меня удивляет: прогресс науки и разгул человеческого бесстыдства. Это я, конечно, в общем виде… В моей следовательской практике знаете какие дела меня поражают? Думаете, кошмарные убийства, грабежи, изнасилования? Преступления подонков закономерны, в них нет неожиданности. А вот каким путем так называемый порядочный человек доводит себя до преступления…
Я сказал:
— Но вы же сами говорите: так называемый…
— Да ведь я это говорю уже после того, как выяснилось, что он преступник! А до того все убеждены, что он совершенно порядочный. Рядом с ним работаем, на собраниях сидим, вместе голосуем… Мы его даже иногда избираем — да и почему не избрать? Отличный мужик, вкалывает на совесть, идеология у него наша, соцпроисхождение самое что ни на есть, ни грамма компромата!.. А получив власть, вдруг преображается. И откуда берется барство, паскудное ощущение вседозволенности? Мало того, что гребет все к себе, но ведь еще и врет, лицемерит, правильные слова произносит. И ты попробуй излови его, получи санкцию — вокруг него частокол, не подступиться к нему. А изловчимся, сцапаем за шиворот — такая окажется мразь, ничтожная душонка! Вот тут-то изумимся: да как же так, да как же это получилось, что он достиг? И главное — с самим собой как ладил? Как договаривался с самим собой? Меня его теория интересует. У обыкновенного ворюги, у жулика нет никакой теории, он понимает о себе, что он ворюга. А этот-то, который был и слыл порядочным, почитаемым, — его-то почему угораздило? И должен же он сочинить для самого себя какую-то теорию!
— Зачем ему теория? — спросил я.
— Затем, чтобы оправдать для себя свою двоякость. Он не желает понимать о себе, что грабит народ. Он желает думать, что ему положено. Конечно, негласно положено, а поскольку негласно, значит, масштаб дозволенности неопределенный, и в какую минуту ты переступил ее порог — тебе вроде бы неясно, ты можешь убедить себя, что тебе неясно… Давайте выпьем, — внезапно прервал он свою торопливую речь. И, жадно выпив стопку, бормотнул: — Работать следователем больше десяти лет не рекомендую: душа срабатывается до пупка…
Уху мы доели молча. Балабин отнес посуду к реке, я поднялся было помочь ему, но он приказал:
— Отдыхайте, чего там… Врачи прописали мне телодвижения.
Покуда он полоскал миски и ложки, я вытряхнул брезент и подправил костер. Огонь его был совсем невелик, но изрядная куча углей спокойно излучала тепло. Вернувшись с реки, Балабин погрел над ними мокрые руки.
— А знаете, почему в старину ольховые дрова называли царскими? Горят не треща, не стреляя. Молчаливые дрова. Власть любит безмолвие…
С той минуты, как я узнал, что Балабин — следователь прокуратуры, у меня возникло одно соображение: мне почудилось — быть может, я смогу воспользоваться этим внезапным знакомством. Однако и независимо от моей внезапно возникшей цели, Балабин увлек меня внутренним своим напряжением — его куда-то гнуло, волокла жажда выговориться. Она была настолько могуча, что его собеседник, то есть я, не имел никакого значения: Балабин даже не посматривал на меня, не дожидался моей реакции, а если я пытался что-то ответить ему, то он перебивал меня, не вслушиваясь.
— Вам известно такое понятие: профессиональная деформация психологии? — Он лег лицом к костру. — И жаль, что неизвестно, хотя вы наверняка подвержены ей. А в результате страдают ваши ученики. Следовательно — общество.
Тут я разрешил себе улыбнуться.
— Но, позвольте, ведь вы же совершенно не знаете меня!
— Предположительно, в общем виде заключаю. Я и сам профессионально деформирован: мой взгляд на жизнь искажен моей профессией, нормальное зрение не позволяет рассмотреть то, что мне необходимо…
— А разве совесть… — начал было я.
— Среди прочего пригождается и она. Но ограниченно, ибо расплывчата и относительна… А знаете, куда бегут уставшие следователи? В адвокатуру. Смешно: пока работают, ненавидят адвокатов, а потом туда же и суются… Лично я, — сказал вдруг Балабин со злостью, — выпил бы еще стопку. Не составите компанию?
— Чисто символически.
Мне уже было достаточно, да теперь уже и без закуски.
В бутылке столько и оставалось — полная стопка ему, а мне на донышке.
И эта опустевшая бутылка успокоила его. Выпив, Балабин блаженно растянулся на брезенте. Я решил, что сейчас самое время рассказать то, что меня волнует.
Я спросил:
— Вы на этой реке впервые рыбачите?
— В здешних местах — впервые, а много выше посиживал. Тут ведь у вас заказник, я думал, наловлю…
— И наловили бы, если бы черт знает что не делали с этой рекой! В нее сточные воды спускают из сортиров, из бани, из совхозных коровников. Десять лет назад построили на миллион рублей очистные сооружения, безграмотно построили, давно разрушаются. Вся гадость течет прямо в реку, рыба дохнет или уходит в Ладогу…
— Слыхал, — сказал Балабин.
— Всего вы, положим, не могли слышать. В позапрошлом году я написал письмо на телевидение. Районный санинспектор приложил к нему двадцать актов о штрафах и анализы загрязненной речной воды…
— Помогло? — спросил Балабин. В его тоне мне послышалась равнодушная ирония.
— Помогло. Приехали на спецмашине кинооператор и редактор телевидения. Объездили мы развалины очистных сооружений, канавы с текущими нечистотами, зря вырубленные лесные просеки. Засняли. И тут же записали на магнитофон гневную речь санинспектора…
— И помогло? — снова спросил Балабин.
— Да вы дослушайте! — рассердился я. — После этого мы поехали к начальнику того стройучастка, который возводил все эти негодные сооружения, рыл канавы, валил лес. Мы хотели расспросить его, а он выгнал нас из своего кабинета. К счастью, его хамство было записано на пленку.
— Да плевал он на вашу пленку! — зло хохотнул Балабин. — Чего ему было опасаться? Именно в том году ваш поселок получил первое место в республике по благоустройству.
Я вылупил изумленные глаза на Балабина.
— То есть как же первое место?
— А вот так. Очень даже просто… Стыдно, гражданин педагог: двадцать лет живете в населенном пункте и не знаете его выдающихся достижений.
Он вдруг сел и впервые посмотрел на меня пристально.
— Вам известно, чья персональная дача находится в десяти километрах от вашего поселка?
— Известно.
— Отчего же вы тогда удивляетесь? Разумеется, в соревновании сельсоветов ваш поселок ухватил первое место, поскольку хозяину этой персональной дачи должно доставлять удовольствие, что населенный пункт, в котором он проводит свое свободное время, — наилучший. Кстати, это еще позволяет ему делать широкие обобщения: жизнь у нас повсюду прекрасна!..
— Значит, его обманули?
— Конечно! Но — почему и для чего? Да он сам жаждет этого обмана. И если вы попытаетесь открыть ему глаза, то он может рассердиться: у него начнет не сходиться, а он привык, чтоб сходилось…
Обо всем, что сейчас говорил Балабин, я уже думал, открытий для меня в этом не было. Я даже знал больше, чем Балабин: телепередача о губительном загрязнении нашей реки была объявлена в программе, но за час до ее выхода в эфир — задержана. Это возмутило меня. Мне было совестно и перед районным санинспектором, которого я уговорил выступить, и перед молоденьким редактором, он влип в эту историю тоже с моей подачи. Но, как уже не раз бывало со мной, возмущение булькало и пузырилось во мне, борясь с привычной, постылой осмотрительностью: а тебе что́, больше всех надо?.. Вообще-то, по моей профессии, мне всегда надо больше всех — в этом ее суть. Но осмотрительность придерживала меня за шиворот, она давно натерла мне холку, как хомут старой кляче.
Быть может, даже не в осмотрительности дело, а в душевной усталости, убеждал я себя, — усталость выглядит как-то поблагороднее, чем осмотрительность. Я не верил, что мне удастся добиться справедливости, но неверие возмущало меня еще более.
И я пошел в редакцию газеты.
Меня принял заместитель главного редактора — его отличные статьи об охране окружающей среды я читал. Он выслушал меня сочувственно, нисколько не подвергая сомнению мои сведения, — вероятно, он знал все, что делается с нашей рекой. А я еще рассказал ему о задержанной телепередаче. Судя по выражению его похмуревшего лица, он знал и это. Грешить на него не стану, глаза его озаботились. Он ответил не сразу — снял очки, закурил, придвинул и ко мне пачку сигарет.
— Если хотите, — сказал я, — акты о штрафах и текст выступления санитарного инспектора я могу оставить вам. Здесь, кстати, и магнитофонная пленка с записью хамства начальника стройучастка.
Открыв мою папку, он полистал ее, не вчитываясь, а продолжая что-то обдумывать. Потом сказал:
— Тут надо все поточнее вычислить… У вас есть какие-нибудь веские знакомства?
Я не понял.
Он объяснил:
— Ну, какие-либо личные знакомые с именами, со званиями?
Все еще не беря в толк, что к чему, я произнес фамилию довольно известного писателя.
— А еще?
Я ляпнул народного артиста СССР.
— Это уже теплее… Попытайтесь организовать письмо в нашу газету за подписью трех-четырех деятелей подобного калибра. Такое письмо мы сможем напечатать.
Организовать это письмо мне не удалось.
Известный писатель, к которому я обратился и даже свез его в мой поселок, охотно съездил со мной на рыбалку, восхитился пейзажем, — рыбы мы не поймали, — а насчет письма уклонился: его жизненная позиция, обворожительно излагаемая в застольных беседах с друзьями, была известна мне давно. Ее-то он и повторил тем искренно-доверительным тоном, которым владел в совершенстве, когда лгал:
— Ты ведь знаешь: в своих книгах я стараюсь писать правду, ни в чем не фальшивя. И это наше с тобой прямое дело — создавать художественные произведения, изображающие суровую суть жизни. Без дураков. А всякая посторонняя возня с собиранием подписей — это уж только в крайних случаях: либо когда ты уже не имеешь возможности уклониться, либо если ты убежден, что твоя подпись поможет.
— Но ведь здесь и есть этот крайний случай!
— Крайний-то он, возможно, и крайний. Но вот победа — фифти-фифти. Уж очень серьезен дядечка, обитающий на этой даче. Он ведь может и так рассудить: не шумите, не трещите, ваша возня только создает сенсацию и мешает нам работать. Вы, дескать, мыслите масштабами одного поселка, не учитывая резонанса от публикации негативных фактов. Молодежь у нас и без того нигилистична…
Известный писатель продолжал излагать свою позицию, осточертевшую мне до смерти, ибо я сам, не разделяя ее, презирая ее, не мог противопоставить ей свою личную гражданскую отвагу. И разница заключалась лишь в том, что у меня это болело, повергало в злую бессонницу, а у него — нет. А на кой черт, кому нужна эта моя боль и ночи без сна, кому от них польза…
Середина костра выгорела дотемна, он выглядел сейчас неопрятно, по краям его валялись огрызки обгорелых сучьев. Я подгреб их ногами к центру и, опустившись на колени, принялся дуть что есть мочи, до головокружения.
Балабин спал. Во сне его лицо утратило напряженную живость, постарело, борода залохматилась, обнажив седину. И, лежа, он как-то укоротился.
Костер дымил, но не ожил. Мне надоело возиться с ним.
Ночь посветлела, небо уже проснулось, но еще не полностью, а словно нехотя потягивалось во всю ширь; у горизонта медлило раннее утро, оно не сулило солнца.
Я устал и был недоволен собой.
Покой, освобождение от всяких связей с действительностью — все то, чем сладка рыбалка, — сменилось ощущением вины. Оно глодало меня с подагрическим постоянством.
Сидеть у погасшего костра было бессмысленно.
Я попытался разбудить Балабина, но он, не открывая глаз, недовольно замычал.
Собрав свои пожитки, я пошел к лодке. Прежде чем отъехать, пополоскал руки в реке, растирая в ладонях мелкий песок, и плеснул в лицо прохладную воду, смывая с него бессонницу.
Молодой человек, всю ночь кидавший спиннинг с берега, оказался сейчас поблизости от меня, он бродил по колено в воде с места на место.
— Берет? — спросил я.
— Паршиво. Одного окушка взял, грамм на двести. У вас опарыша лишнего нет? На червя плохо берет.
Я отсыпал ему из консервной банки кучку опарышей.
— Да они у вас уже почернели, окукливаются, их не нацепишь на крючок!
— Уж какие есть, — сказал я.
Сварливый тон этого парня мне не понравился. Одет он был хлыщевато, в ярко-желтый резиновый костюм, непригодный для холодной ночи. Руки и нос его посинели, он часто сморкался, зажимая ноздрю пальцем.
— Замерзли? Надо было вам посидеть у нашего костра, погреться. Да вы и сейчас еще можете взбодрить его, там сухого топлива хватает.
— А я и посидел бы, — проворчал парень. — С вами-то еще ничего, можно. Хотя, сказать по правде, посмотрел я одну вашу книжечку — предпочитаю научную фантастику. Не люблю, когда меня воспитывают. Извините за выражение — фигня это все. А уж напарник ваш у костра — обыкновенный алкаш.
— Мы пили с ним поровну, — сказал я, садясь в лодку.
— Да что вы мне рассказываете! Он у моего отца лечился. Ему уже два раза антабус делали…
— Зачем же вы разбалтываете врачебную тайну? Мало ли какие бывают у человека обстоятельства, у него работа нервная…
Мою лодку уже отнесло течением метров на десять от берега, и парень крикнул мне вдогонку:
— Да какая у него работа? Врет он все. Его еще в прошлом году выгнали…
Я отгреб от берега как можно дальше, к противоположной стороне реки и заякорил лодку в том месте, где никто никогда не ловил, — здесь было слишком глубоко и течение рвалось с такой силой, что якоря сперва волочило по дну и лишь потом они вонзались в белую донную глину.
Лодка криво застопорилась, но мне было все равно.
Донку закинул без всякой надежды, даже не сменив подсохших за ночь червей на крючках.
Я был лишним здесь со своими заботами. И оскорбительно временным, не оставляющим следа в том вечном, что меня окружало сейчас.
Мои часы остановились, я забыл их завести.
Солнце так и не показалось, но я понял, что сейчас пять утра: с берега донесся хруст лесного валежника, неторопливый топот коровьего стада и сиплый крик пастуха:
— У-у, курва, куда пошла?!
Он гнал совхозное стадо всегда в одно и то же время, и его ласковое обращение к заблудшей скотине неслось обычно над рекой точно в пять утра.
ОЦЕНЩИК
— Я из мебельного, — сказал Карев. — Вы приглашали оценщика.
Пожилой осанистый мужик впустил его в квартиру. Карев снял свое вымокшее пальто, пристроил его с краю просторной вешалки. И мокрые калоши скинул у самых дверей.
В прихожей было чисто.
Хозяин повел его по комнатам, показывая мебель. Вещи были малоинтересные: платяной шкаф, ясеневый, требующий ремонта, письменный стол, дубовый, с тумбами, кресло, правда, ценное, вольтеровское, на любителя — если его привести в порядок, то оно пройдет в магазине хорошо, быстро. Это кресло Карев не стал особо осматривать, только кинул на него боковой взгляд, вроде оно и не привлекало его вовсе. А шкаф, стол и еще кое-какие случайные мелочи он исследовал подробно, перечисляя вслух их недостатки.
Однако хозяин квартиры и сам не выражал какого-нибудь острого интереса к оценке своей мебели. Он сказал:
— По мне, стояли бы они тут до самой моей смерти. Да вот дочка с мужем надумали заводить новый гарнитур.
— Но вы уполномочены продавать эти вещи? — спросил Карев. Он устал, это была седьмая квартира за сегодняшний день.
— А кто меня уполномочит? — сказал хозяин. — Мебель моя, хочу — продам, хочу — сожгу.
По давней привычке, уже ненужной сейчас, Карев взглянул на него внимательней, прикидывая, что за человек. Ни к каким выводам Карев не пришел — человек как человек.
Пенсионер, наверное.
Может, отставник, хотя вряд ли.
Да на кой мне черт все это нынче знать.
Поскрипев дверкой шкафа и подвигав перекошенными ящиками письменного стола, чтобы еще раз продемонстрировать их изношенность, Карев назвал цену вещей.
— Окончательно? — спросил хозяин.
— Окончательно, — сказал Карев.
— А кресло?
— С креслом — проблема. Не пойдет оно у нас, наверное. Громоздкое. В новые дома его вносить через окно.
— Ну и бог с ним. Я его на помойку выставлю. Добрые люди подберут.
— Зачем же на помойку? Десятку могу предложить.
Так они и сговорились. Карев пометил на бумажке все согласованные цены, записал телефон магазина — завтра с утра можно справиться, когда машина придет за мебелью. Внизу он расписался.
Хозяин взял в руки бумажку, всмотрелся в роспись и спросил:
— Это у вас какая буква стоит?
— Буква «Я», — ответил Карев. — Меня зовут Яков Степанович.
— Понятно, — сказал хозяин. — Здравствуйте, Яков Степанович.
— Здравствуйте, — сказал Карев.
— Дай господь памяти, — задумался хозяин. — Под какой же фамилией вы меня последний раз брали?.. Серегин я тогда, кажется, был.
— Серегин, Антон? — быстро спросил Карев.
— Убей — не помню, может, и Антон… А я вас сразу признал, Яков Степанович: еще вы пальто снимали в прихожей, я подумал — ищет кого-нибудь Яков Степанович. Только не мог взять в толк, зачем вы ко мне-то пришли. Я ведь этими делами с войны не занимаюсь. — Серегин засмеялся. — А под оценщика вы здорово ловчите. Не знавши, не различишь.
Карев сказал:
— Уволился я из милиции, Серегин. Пятый год работаю в мебельном комиссионном.
— По болезни?
— Да нет, здоров я. А ты-то на пенсии?
— Сто целковых дали. Не жалуюсь… Дочка у меня кончает торговый техникум, зять — экономист. Жить можно, Яков Степанович. Спасибо вам — дали мне тогда чистый паспорт.
— А у тебя почему такая большая пенсия? — спросил Карев. — Ты где работал последнее время?
— Шофером-дальнорейсовиком. Водил МАЗ.
— Калымил небось?
— Сказать по совести, случалось. Но не рядился, брал, сколько дадут. Создавал людям удобство… А вы правда уволились, Яков Степанович, или шутите?
— Правда.
Серегин покачал головой.
— Такой были работник, это ж поискать! Вы нашего брата разматывали — будь здоров. Известно было: раз попался к Кареву — колись до пупа… По собственному желанию ушли?
— По собственному.
— С ума сойти. Вы ж на сегодняшний год уже, наверное, полковник были?
— Майор, — сказал Карев. — Не в званиях дело, Серегин.
— Как посмотреть, — сказал Серегин. — У меня было звание — жулик. А нынче — водитель первого класса. Две большие разницы…
Он дотронулся до локтя Карева.
— Яков Степанович, сделайте мне уважение: такого человека встретил, охота посидеть с ним. У меня пол-литра настояно на калгане, я не алкаш, но раз выпал такой случай…
— Это для чего ж, на калгане? — спросил Карев.
— Для желудка.
На улице шел дождь, Карев устал, ему все надоело.
— Ладно, — сказал он. — Отметим встречу.
Они пошли на кухню.
Серегин усадил гостя за стол, а сам принялся хозяйничать.
Делал он это суетливо, радостно, но умело. Собрав на столе тарелки, вилки, ножи, он не положил их навалом, а расставил два прибора друг против друга и даже расстелил подле них бумажные салфетки треугольничком.
Поколдовав у плиты, он вынул теплое жаркое в латке, достал из холодильника колбасу, соленые огурцы, сыр.
Карев посмотрел на запотевший графин с коричневой водкой.
— Тут, Серегин, не пол-литра — граммов восемьсот.
— Возможное дело, — сказал Серегин. — Зять доливает, я доливаю, мы не меряем.
— И обое лечитесь? — спросил Карев.
— Я лечусь, а он — так… Между прочим, Яков Степанович, зятек мой не знает про меня. Вообще-то он парень дельный, только зануда.
— А дочь знает? — спросил Карев.
— Не вполне. В случа́е они придут, значит, я вам поставил, чтобы вы мебель оценили подороже… Давайте по первой, Яков Степаныч, за встречу.
Калган оказался крепкий, но вкусный. Отсыревшее тело Карева тотчас угрелось, он не ел с утра — день выдался беготливый — и сейчас налег на закуску. Ему было приятно, что против него сидит за столом приветливый, домовитый Серегин — человек, которого он, Карев, кажется, довел до ума. Подробностей серегинской уголовной биографии он уже не помнил, промелькнули лишь какие-то маловразумительные обрывки, однако тот факт, что этот Серегин знал Карева в лучшие его боевые годы, а не мебельным оценщиком, торгашом, растрогал Якова Степановича.
— Значит, говоришь, доволен жизнью? — спросил Карев.
— Я теперь, Яков Степаныч, ударился в религию, — робея, сказал вдруг Серегин.
— Сбалдел, — сказал Карев. — К психиатру тебе надо.
— Вы погодите, Яков Степаныч. Почему именно к психиатру? Вреда от меня людям нету. Вот когда вы сажали меня в тюрьму — вред от меня имелся.
Карев спросил:
— Освежи-ка, Серегин, в моей памяти: ты ведь тогда фармазоном, кукольником был?
— Кукольником.
— Чисто работал. Помнится, я на тебя месяца три извел, покуда словил.
— Да и не словили бы, Яков Степаныч, кабы мне эта жизнь не опостылела.
Карев обиделся:
— Но ты ж все-таки не явился с повинной, а поймали мы тебя!
— Бдительность моя ослабла, — пояснил Серегин. — Устал я. И задумываться начал. А в нашем деле задумываться нельзя… Бабе одной, старухе деревенской, продал я куклу заместо мануфактуры, все деньги у бабы выгреб, вечером проиграл их в очко, и такая меня взяла тоска по себе…
— А не врешь? — спросил Карев. — Уж больно у тебя получается форсисто.
— Зачем мне нынче врать? — сказал Серегин. — Совершенно незачем. А тут еще на допросе вы попали в самую мою больную точку. У кого, спросили, воруешь, Серегин? У неимущих воруешь?..
— Что-то ты путаешь, Серегин, — сказал Карев. — Не мог я так говорить. Откуда в нашей стране неимущие? Наверное, сказал: воруешь деньги, заработанные трудом.
— Не путаю, Яков Степаныч. Под заработанные трудом я б тогда не раскололся. Я под неимущих раскололся. Это меня и проняло.
Врет, подумал Карев. Жулики — народ сентиментальный, любят о себе думать красиво. Устал — это возможно, бывает, конечно, — устают.
— Ну и в чем же заключается твоя религия? — спросил Карев. — Сектант ты, что ли?
— Нет, — сказал Серегин. — Зачем.
— Это хорошо. А то на сектантов статья, кажется, есть, не помню номера.
— Объяснить вам свою религию я не могу, — сказал Серегин. — У меня нету таких слов, чтобы кто-нибудь понимал их до глубины.
— Ишь ты, — сказал Карев. — Умный какой: придумал себе персональную веру. И помогает она тебе?
— Помогает, Яков Степаныч. У меня от нее покой на душе.
— Покой у тебя, Серегин, от твоей пенсии, а не от веры. Отыми у тебя пенсию, ты и в церковь перестанешь ходить.
— А я в нее и так не хожу, Яков Степаныч. Моя вера домашняя: где я, там и она со мной.
— Хорошо, — сказал Карев. — Допустим.
Калган начал одолевать его.
Внезапный интерес к своему давнишнему подследственному, а нынче совершенно неизвестному ему человеку разбирал Карева все острее. Да и взболтнулась в его душе вся та муть, которую он уже давно не допускал до своего сознания.
— Вот ты говоришь — покой. А если тебя обидеть? Ну, например, по работе взяли бы да крепко обидели?
— А я б не обиделся, — сказал Серегин. — От меня зависит.
— Ты мне голову не морочь, — раздражился Карев: он теперь легко выходил из себя. — Как это возможно не обидеться, если тебя именно обижают?.. Я вон в угрозыске протрубил тридцать пять лет, сам говоришь — неплохой был работник…
— Замечательный были работник, Яков Степаныч, — сказал Серегин, — Я вас век не забуду.
— Ты-то вот не забыл, хоть и срок из моих рук имел, а Санька Горелов сегодняшний день встретит меня на улице, к фуражке не приложится своей белой ручкой…
Карев в сердцах выпил.
— Закусите «краковской», Яков Степаныч, — жалея его, предложил Серегин и вежливо спросил: — Это какой же Санька? Который по ювелирным магазинам работал?
— Да нет, — буркнул Карев, он жевал колбасу, не чувствуя ее вкуса. — У тебя все жулики на уме… К вашему сведению, Александр Юрьевич Горелов получил нынешний год полковника.
И на кой бес я тут рассоплился, досадливо сверкнуло в голове Карева, но остановиться он уже не мог: слежавшаяся в нем за долгие годы боль самовозгорелась вдруг, как торф. И не в калгане был избыток температуры, подпаливший эту давнюю боль.
— Мой отдел в Управлении знаешь как ребята называли? Штучным. Мы простых дел не расследовали. И Санька этот талант был, сукин сын. Я в него вбил все, что знал, все, что умел! Он же пришел ко мне после юридического слепым щенком — в оперативной работе ни черта не петрил, протокола допроса не умел оформить… Боже ж ты мой, как я его любил!..
— Уж очень вы переживаете, Яков Степаныч, — сказал Серегин. — Желаете, я вам заварю крепкого чайку?
Карев помотал отяжелевшей головой.
— И на что, дурак, польстился? На холуйскую должность: перешел от меня к начальнику Управления писать доклады. Башка у него сработала куда положено. И наружность подходящая: костюм пошил себе в модном ателье, завел очки на здоровые глаза, модельные туфельки. Выступит где-нибудь на совещании в исполкоме, в гороно или в редакциях, а там ахают: ах, как выросли кадры милиции! Начальнику приятно — он растил. Да и удобно — Санька сочиняет речи, статьи, обобщает опыт, и все научно, с цитатами из трудов. Ловит-то жуликов нынче не он, а обобщает — он… И стал я, Серегин, нынче негож. Комиссовали меня, подпал под сокращение. Процент роста я им снижаю. Кабы мне кто-нибудь пятнадцать лет назад подсказал, что Санька меня продаст, я бы тому человеку плюнул в глаза…
— Вас один человек продал, Яков Степаныч, — сказал Серегин, — а Иисуса Христа — двенадцать любимых апостолов. Это уж, наверное, так заведено, Яков Степаныч. Предать они предали, а веру его, учение его людям понесли. Даже взять Иуду. Не было бы Иуды, не было бы и подвига Христова, и был бы он обыкновенная личность. Сезонник, плотник.
— Слушай, Серегин, — улыбнулся Карев, — неужели ты веришь во всю эту хреновину?
— Верю, — сказал Серегин. — Две тыщи лет моей вере.
— Значит, согласно твоей вере, и Гитлера прощать надо?
— Гитлера — не надо, — сказал Серегин.
— А как же ты разбираешься: кого — надо, а кого — не надо?
— Совестью своей, Яков Степаныч. Душой.
— Интересно! Ты своей совестью судишь, я, значит, своей, и выходит на поверку — самосуд? Анархия?.. А бог твой при чем же?
— Он при всем, — ответил Серегин.
— Какая же у него получается роль? — спросил Карев. — Наплодил на земле людей, они друг дружке вцепляются в глотку, жгут, режут. За давешнюю Великую Отечественную двадцать миллионов душ извели!.. А он — что?
Серегин подумал немного и сказал:
— Вопрос знакомый, Яков Степаныч: я от него сам сколько ночей не спавши. И сейчас отвечу. Бог в наши людские дела не мешается, доверяет нам. А человек должен сам за себя отвечать, все ж таки мы люди, а не звери, и почему это с господа надо взыскивать за нашу подлость?
— Ну, а его-то роль, я у тебя спрашиваю? Наблюдатель он, что ли?
— Он наблюдает, — подтвердил Серегин.
Карев устало зевнул.
— Не пыльная у него работенка, Серегин. На такую должность и я гож…
Серегин собрался было ответить, но из прихожей донесся стук входной двери и неразборчивые голоса — женский, мужской. Быстро подхватившись, он вышел из кухни; дверь за собой плотно прикрыл.
Карев уже остыл от спора и от своей размозолевшей обиды.
Пора было собираться домой.
Немножко-то на душе полегчало.
Из прихожей послышался строгий мужской голос:
— А вы точно не продешевили, батя? Мебель-то ведь сейчас подорожала.
И кроткий, тихий ответ Серегина:
— Да какая же это мебель, Костя? Рухлядь.
И тут же вступил женский голос:
— Где я теперь достану корень калган? Могли бы и чаю попить. Водку брала, «Экстру», по четыре двенадцать…
Карев вышел в прихожую. В наступившем молчании он надел свое пальтецо, калоши и, не глядя на молодых людей, сказал старику:
— Спасибо за угощение, хозяин… А насчет кресла у меня вышла ошибка: поставим его в магазине за тридцать.
Когда дверь за ним захлопнулась, Серегин, прищурившись, посмотрел на своих родственников и сказал:
— Ну и гады же вы! Хорошего человека обидели…
А дождь на улице припустил еще усердней, Карев вымок тотчас наново и шел не разбирая пути.
Ничуть он на этих людей не обиделся и только жалел Серегина за его темноту.
А насчет Саньки Горелова — да ну его, Саньку… Горчичники надо на ночь поставить — в груди сипит, — чаю с медом выпить.
Ох и погодка, так твою…
НОЧЬЮ
— Перестань!
— А потом ты поехала с ним…
— Перестань! Перестань.
— А потом ты поехала с ним на Клязьму, и вы взяли в гостинице два отдельных номера. Представляю себе, какое у тебя было счастливое лицо, когда вы ехали вместе на Клязьму.
— Я заткнула уши, можешь говорить все, что угодно.
— И это продолжалось два года. Хочешь, я повторю то, что ты сказала ему по телефону?
— Не смей. Ведь ты же обещал мне.
— Ты сказала, что любишь его и что гордишься им. Мне ты никогда не говорила, что гордишься мной. Ты позвонила ему с утра, с самого раннего утра…
— Господи, какое это имеет значенье — утром или вечером!
— Если ты звонила с утра, значит, ты с этим проснулась, значит, ты думала об этом круглые сутки. Думала всегда. Все эти два омерзительных года. Ты радовалась, когда я уезжал в командировки, в Рязань, в Баку, в Ростов, в Свердловск, в Ташкент. Ты укладывала мой чемодан, провожала меня на вокзал, тебе надо было лично убедиться, что поезд действительно ушел. Ты говорила мне на прощанье, когда я уже стоял в тамбуре вагона: «Береги себя». Я еще тогда замечал, каким невыразительным голосом ты это говорила. Тебе надо было поскорей вернуться с вокзала, скорее звонить ему, что я уехал, что вы свободны…
— Опять начинается с самого начала. Это невыносимо. Ведь ты же обещал мне.
— И теперь я хожу по нашей квартире, где все заслежено им. За что бы я ни взялся рукой, куда бы я ни ступил, всюду был он. Он ел из наших тарелок, пил из наших рюмок, я спал с ним на одних и тех же простынях. Ты предавала меня все эти два года…
— Я никогда не предавала тебя.
— Ты предавала меня самым пошлейшим образом.
— Я говорила ему, что я люблю тебя. Его корежило от моих слов. Перестань, ради бога, перестань. Ведь так ничего не получится. Я же все сделала, как ты хотел. Я же рассталась с ним. Мы не видимся полгода. Я не думаю о нем, не вспоминаю его.
— Не лги.
— Все эти полгода ты каждый день, по многу раз в день, спрашиваешь меня внезапно: о чем ты думаешь? И я каждый раз тотчас же отвечаю тебе, о чем я думаю. И всегда оказывается, что это не о нем.
— Боже, каким я был идиотом все эти два года!
— Ну, пожалуйста, ну я тебя прошу. Ну хватит.
— Ты сказала, что в нем сто восемьдесят пять сантиметров роста. Значит, он не помещался в нашем зеркале.
— Не знаю. Откуда я могу это знать.
— Я знаю. Я мерил. Он помещался в нашей постели, потому что она на двенадцать сантиметров длиннее зеркала. Постель я тоже мерил. Тебе понятно, до чего я дошел?
— Если ты сейчас же не прекратишь, я заткну уши.
— Он на двадцать пять лет моложе меня. Значит, в сорок первом году ему было восемь лет. А в тридцать седьмом — четыре года. Ужасно трудно представить себе, что ты любила человека, который не знает, что такое война… Ведь он ни про что ни черта не знает…
— Я же тебе говорила, я всегда сравнивала его с тобой, и всегда не в его пользу. Он даже обиженно спрашивал меня: «Тебе не о чем со мной разговаривать?»
— Ты открывала ему дверь со счастливым лицом. Ты накрывала для него на стол со счастливым лицом. Ты ходила при нем красивая от счастья. Если б он не был моложе тебя на десять лет, все повернулось бы иначе. Ты рассталась с ним, потому что у тебя не было другого выхода.
— Он не знал, сколько мне лет.
— Но ты знала, сколько тебе лет.
— Он говорил, что я для него моложе всех на свете.
— Молодой женщине не говорят, что она моложе всех на свете. Ты осталась со мной, потому что у тебя не было другого выхода.
— Был.
— Не было.
— Я могла остаться одна. Не обязательно от одного мужа переходить к другому.
— Ты боялась остаться одна.
— Я ничего не боюсь. Можешь оскорблять меня сколько угодно. Скажи еще, что я осталась с тобой ради денег. Если ты это скажешь, я от тебя немедленно уйду.
— Когда я позвонил тебе ночью из Свердловска, то сразу догадался по твоему голосу, что ты пьяна. Я трижды подряд звонил тебе в ту ночь и слышал, что ты пьяна, но ты говорила, что у тебя такой голос спросонья. Как будто я не знаю за двадцать лет жизни с тобой, какой у тебя голос спросонья. Сколько вы выпили тогда?
— Я тебе уже говорила. Это невыносимо.
— Сколько?
— Мы пили не поровну.
— Я тебя спрашиваю, сколько?
— Бутылку на двоих.
— Коньяк?
— Не помню.
— Ты извинялась перед ним за то, что я трижды звонил в ту ночь?
— Выпей, пожалуйста, валидола. Вот я накапала в рюмку. И пожалуйста, я тебя прошу, я тебя очень прошу, ну пожалуйста, ну хочешь, я стану перед тобой на колени…
— На этих коленях ты уже стояла.
— Ведь мы же с тобой условились. Ведь мы договорились. Ты опять не будешь спать всю ночь.
— Если тебе было скучно с ним, то на чем же это держалось два года? Ты не думай, я совсем не боюсь, что ты уйдешь от меня. Я боюсь, что эти два года ты жила со мной. Я боюсь назад, а не вперед.
— Не надо было все время оставлять меня одну. Ты не должен был этого делать. Двадцать лет я была верна тебе.
— А потом?
— А потом это случилось. И сейчас — прошло. Я не вспоминаю о нем. Ведь самое главное то, как я к этому сейчас отношусь.
— А я не знаю, как ты к этому сейчас относишься. Стоит мне сказать хоть одно дурное слово о нем…
— Ты не должен говорить о нем плохо, это унижает тебя.
— Какие подарки ты ему делала?
— Я не стану отвечать тебе.
— За два года у него было два дня рождения. Ты помнишь, когда у него день рождения?
— Помню.
— Что ты ему дарила?
— Какие-то пустяки. Ты же меня сто раз об этом спрашивал. Я тебя умоляю, не унижай себя.
— А что он тебе дарил? Может быть, в нашей квартире и сейчас существуют его подарки? Я должен это знать. Я их не трону, даю тебе честное слово. Но я хочу знать.
— Я тебе рассказывала. Он приносил мне конфеты. Большую коробку.
— Одну?
— Две.
— И все?
— Все.
— Маловато за такой срок. А цветы?
— Цветы не дарил.
— А ведь я дарил тебе когда-то много цветов. Разве неправда?
— Правда. Прими снотворное, вот две таблетки. Проглоти их, пожалуйста, так, — у меня нет сил идти в кухню за водой.
— Странный молодой человек. Жить с женщиной и не приносить ей цветы. Тебя это не удивляет?
— Я больше не могу разговаривать. У меня нет сил. Ты как будто нарочно раздираешь себя в клочья.
— Я тебя люблю.
— И я тоже. Сейчас начнет действовать снотворное. Полежи. Старайся ни о чем не думать.
— А это возможно?
— Конечно, возможно. Надо только постараться.
— Совсем ни о чем?
— Ну конечно, родненький. Все будет хорошо. Вот увидишь. Я тебе обещаю. Будет даже лучше, чем было когда-то.
— Ужасно долго — два года.
— Лежи тихонечко. Молчи. Не мешай снотворному. Это очень хорошее снотворное, то самое, которое ты любишь. Ты чувствуешь, оно начало действовать? У меня уже заплетается язык.
— Как у пьяной?
— Немножко похоже. Спи, милый.
— Со мной ты никогда не допивалась до такого состояния. Со мной ты вообще не любила пить. А куда ты девала пустые бутылки перед моим приездом?
— Я сплю.
— Представляю себе, как вы были бы счастливы, если бы я умер.
— Прекрати сию минуту!
— Эта сволочь ходила бы по твоей квартире, стреляла бы у тебя деньги на папиросы, ты бы его ждала с замирающим сердцем, рыдала бы оттого, что он обижает тебя…
— Он никогда меня не обижал. Ни разу за два года. Я никогда не плакала от него столько, сколько от тебя.
— Еще поплачешь. Когда он бросит тебя, потому что ты старше его на десять лет. Ты была для него хорошо обеспеченной шлюхой. И не более того. Какое счастье, что в нем сто восемьдесят пять сантиметров роста. Значит, ему не подойдут мои пиджаки. Вы отнесете все это в скупку. Может быть, ты даже поставишь памятник на моей могиле и напишешь на граните что-нибудь трогательное. Представляю себе, какую пошлость вы сочините вдвоем…
— Если ты сейчас же не замолчишь…
— Ну что ты можешь мне сделать, если я сейчас же не замолчу? Ну что? Что еще? Что еще, хуже того, что ты сделала? Ты знаешь, как я сейчас живу? Все, что случилось в мире, случилось для меня либо до того, как ты с ним сошлась, либо — после. До рождества Христова или после рождества Христова. Можно с этим жить? Я тебя спрашиваю?..
— Ну, пожалуйста, не плачь. Не плачь, миленький. Ведь ты же знаешь, что я тебя люблю и любила всю жизнь. Случилась беда. Она прошла. Ведь это случалось не только у нас. Ведь это бывало у людей. Проходит время… Смотри, сколько времени прошло с тех пор. Иногда ты по три ночи подряд не напоминаешь мне об этом. Это все для меня как прошлогодний снег. Поверь мне, я тебя очень прошу, поверь.
— На чем же это все-таки держалось два года?
— Это уже не держалось. Я все время хотела это кончить. Еще бы немножечко, и это кончилось бы само собой.
— Дай мне, пожалуйста, еще снотворного.
— Сходить за водой?
— Не надо, я проглочу так.
— Если бы ты не разговаривал, мы бы давно заснули. Уже светает. Через два часа тебе идти в институт. Поспи хоть немножечко. Положи голову ко мне на плечо.
— Я знаю, что веду себя унизительно. Я тебе обещаю — больше это не повторится.
— К сожалению, ты мне уже много раз обещал. Но это неважно. Я тебе верю. Поспим немножко. Пожалуйста, поспим…
— Теперь я возьму себя в руки. Увидишь.
— Спасибо, родненький. Давай поспим. У всех людей когда-нибудь что-нибудь случается. А потом проходит. И у нас пройдет. Спи, пожалуйста. Спи.
РЯБОВ И КОЖИН
Выйдя из электрички, Рябов еще раз пролистал свою записную книжку. Адрес Кожина, добытый с таким трудом, был помечен не в алфавите, а на отдельной страничке — потом ее можно будет выдрать и забыть навсегда, если это удастся.
На пыльной площади перед вокзалом стояли вразнобой несколько автобусов. Маршруты их были приколочены на жестянках к столбам. Автобусы стояли подле них, как лошади у коновязи. Рябов отыскал Звонаревку и стал в хвост людей, выскочивших раньше него из поезда.
Грибники, рыболовы, замученные дачники — все это тотчас угадывалось по той ноше, которую они волокли в руках и на спине. У одного лишь Рябова торчал под мышкой тощий портфель.
Распухший от пассажиров автобус заковылял по проселку. Недолгое время машина дребезжала вдоль полей, уже по-осеннему пустых, а затем втянулась в лес. Здесь пыль унялась, в открытые окна всосался горьковатый запах хвои, с лиц пассажиров постепенно сдувало городскую остервенелость.
На одном из крутых поворотов возникло внезапно озеро, казалось, автобус с ходу вонзится в него, но щебенка свернула влево и долго тянулась берегом.
Отсюда и начиналась Звонаревка. Озеро разливалось с краев поселка, а улица уходила по пригорку вверх.
От автобусной остановки Рябов пошел назад, к берегу. Он не знал, где стоит дом Кожина, но в адресе значилась Береговая улица, стало быть, где-то здесь и следовало ее искать.
С пригорка, на глаз, озеро лежало свободно и просторно, оно любовалось чисто продутым солнечным небом, преданно повторяя его. Когда же Рябов спустился с пригорка и приблизился к озеру, оно вдруг исчезло: весь берег был занят садовыми участками — кусты, дома и деревья заслоняли воду.
Сады здесь было обширные и еще жирно зеленые. Найдя на одной из оград нужный ему номер, Рябов не стал тотчас отворять калитку, а сперва отошел в сторону, повыше. Тут, в песке, стояла высокая старуха сосна, уже умершая до половины, корни ее, как кости из могилы, выпирали из песка.
Рябов посидел на каменистом корне, глядя сквозь зелень, высаженную вдоль ограды, на дом Кожина. Рубленый, окрашенный по бревнам в кирпичный цвет, дом крепко опирался на высокий цементный фундамент. Под край шиферной кровли влетали ласточки.
Из сада доносились детские голоса, и на их фоне тюкал топор — кто-то колол дрова. Все эти звуки и всё, что простиралось сейчас перед глазами Рябова, не имело никакого отношения к тому, зачем он приехал сюда.
Он вошел в калитку и, миновав растрепанные кусты сирени, оказался у крыльца. Дверь в дом была открыта. На перилах крыльца сушились детские пеленки.
Рябов громко спросил с порога:
— Есть кто-нибудь? Разрешите?
Никто не откликнулся.
Сквозь распахнутую дверь веранды виден был стол, заваленный снятыми яблоками, тазами со смородиной и крыжовником. В углу валялись рваные резиновые сапоги и какое-то тряпье.
— Эй, хозяин! — крикнул еще раз Рябов.
И снова никто не отозвался.
Он спустился по тропке к озеру — отсюда доносились голоса детей.
У мостков двое мальчиков ловили раков. Они ныряли под высокий берег и, фыркая, появлялись на поверхности, — подплыв к мосткам и победно крича, швыряли добычу в ведерко.
Рябов подождал, покуда один из них, озябнув, не вылез из озера. Попрыгав на одной ноге, склоня голову набок, он вытряхнул воду из уха. Только теперь мальчик заметил Рябова.
— Вам дедушку? — спросил он.
— Мне нужен Кожин, Сергей Михайлович, — сказал Рябов.
— Правильно. Это мой дедуль. Пожалуйста, минутку обождите, я только натяну штаны.
«Господи, — подумал Рябов, — у этой сволочи такой вежливый внук».
Вслед за мальчиком он пошел в дальний угол сада. Здесь стоял дощатый сарай, а подле него коротенький, по-бабьи раздавшийся мужчина, в длинной, не по росту пижаме, сильно заношенной, колол дрова. Еще издали Рябов заметил, что тот делает эту работу как-то странно: ударит раза два колуном по чураку и поглядит в сторону, под куст. Потом еще ударит и снова поглядит. Под кустом, в тени, стояла детская коляска, в ней сидел годовалый ребенок. Он, не отрываясь, пялился на мужчину: как только тот переставал колоть дрова, лицо ребенка искажалось в плаче, а после каждого удара он подпрыгивал и восторженно бил в ладоши.
— Дедусь, — сказал мальчик, сопровождавший Рябова, — вот дяденька тебя спрашивает.
Обернув свое мокрое от пота, одутловатое лицо и обтерев рукавом лысину, покрытую слипшимися седыми перьями, мужчина пожаловался:
— Нашел себе забаву, стервец! — Он кивнул на ребенка в коляске. — Нравится ему, видите ли, когда я колю поленья… А я прошлый год инфаркт перенес…
Воткнув с размаха колун в чурак, он велел старшему внуку:
— Присмотри за Олешкой.
И устало пошел к дому. Рябов двинулся за ним. Позади, в кустах, тотчас заорал ребенок.
— Вы по какому вопросу? — на ходу, не оборачиваясь, спросил Кожин.
— Даже не знаю, как бы это вам поточнее объяснить, — сказал Рябов.
Они вошли в дом. Сняв на веранде со стола два таза с ягодами и освободив таким образом его половину, Кожин одышливо опустился на рваную кушетку, пнув ногой в сторону разбросанные по полу игрушки.
Рябов сел на стул, открыл свой портфель, вынул из него бутылку водки и сверток с колбасой.
— Я по делу моего отца, — сказал он. — Разговор будет нелегкий. Давайте выпьем. Есть у вас стаканы?
— Найдем, — сказал Кожин.
Не поднимаясь с кушетки, он протянул руку к шкафчику, стоящему рядом, погремел там на ощупь посудой и добыл два мутных стакана.
— Вообще-то, я днем пить воздерживаюсь. Доктора не велят… Чем будем закусывать, яблочком? Нынешний год уродились хреново — тля завелась, уж чем только я ее не морил…
— У меня с собой колбаса, — сказал Рябов.
— Прихватили из города? В наш поселок колбасные изделия завозят редко. Мы больше на подножном корму… Вы сами откуда будете?
— Моя фамилия Рябов, — сказал Рябов. — Это вам ничего не говорит?
Кожин секунду подумал.
— По правде сказать, ничего… Был у нас на рабфаке парнишка, вместе учились, фамилия вроде похожая… Да нет — Дятлов Мишка его звали, рыжий такой, на вид худощавый, куда потом подевался, забыл…
Налив водку в оба стакана, Рябов выпил свой. Второй он придвинул на край стола, к кушетке. Кожин споловинил, отрезал кусок колбасы, положил на него ломтик яблока, закусил и допил стакан до дна.
— Я уж для укрепления памяти, — сказал он, — употребляю морскую капусту, вычитал в газетке. Сжевал я этой капусты, наверное, центнер…
— Хорошо, — сказал Рябов. — Сейчас я вам напомню. Мой отец, Николай Семенович Рябов, проходил у вас по делу завода имени Коминтерна.
— Это в каком же году? — спросил Кожин.
— В тридцать девятом. Вы вели это дело. Я читал протоколы допросов: мне давали всю папку при посмертной реабилитации отца. Тогда, сразу, я не стал разыскивать вас. Не мог. Не было сил…
— Да-а, — вздохнул Кожин.
Рябов подождал, не скажет ли Кожин чего-нибудь еще. Но он ничего не сказал.
— Меня привело к вам желание посмотреть в глаза того человека, который заставил моего отца…
— Дедушка! — раздался крик из сада. — Олешка в штаны наделал…
У веранды протарахтела коляска, мальчик прикатил своего брата к порогу. Кожин радостно засуетился, ковыльнул с крыльца, вынул ребенка из коляски, уложил на кушетку и принялся раздевать его.
— Вот паразит, — ласково приборматывал он. — Вот шельмец… Где я на тебя штанов напасу…
Наклонившись, он стоял к Рябову спиной, выпятив округлый зад. Собрав в комок испачканное белье внука, Кожин протянул его мальчику:
— Беги, сполосни на озере.
— Дедусь, я же раков распугаю.
— Ничего, они любят кало.
Рябов терпеливо ждал. Время сейчас было разъято для него на две неравные части: ту, длинную, из которой он приехал сюда, и эту — коротенькую, нелепую.
Завернув ребенка в свежую пеленку и прикрыв его, спящего, ватником, Кожин, уже снова вспотевший от хлопот, обернулся к гостю:
— Вот так и кантуюсь с утра до вечера, с зари до зари… А думаете, дочь понимает? Приедет на выходной и еще смеется: тебе, папаня, персональную пенсию дали специально для воспитания смены…
Рябов спросил:
— Послушайте, я не ошибаюсь: вы действительно были старшим оперуполномоченным в тридцать девятом году?
— Служил, — ответил Кожин. — Пришел в органы в тридцать втором по комсомольскому набору.
— Значит, вы должны помнить, как все это было с моим отцом!
— Товарищ, дорогой… — начал было Кожин и даже приветливо улыбнулся Рябову, желая что-то пояснить ему.
Но Рябов упрямо продолжал:
— По протоколам допросов очевидно, что отец первые дни отвергал обвинения, которые вы ему предъявляли. А потом внезапно всё подписал… Вы не бойтесь, я не пришел к вам сводить счеты, мстить. Мне и не придумать мести… В сущности, я даже не очень точно понимаю, зачем мне понадобилось идти к вам…
Рябов разлил по стаканам водку, рука у него дрожала, но, когда он выпил, она перестала дрожать. Кожин глотнул вслед за ним. Он хмелел, но Рябов этого не замечал. На него самого алкоголь сейчас не действовал, а только отгораживал, оставлял в одиночестве.
И в этом одиночестве он думал вслух, не слыша своего голоса:
— Пяти лет меня забрали в детдом. Мать выслали, она умерла в ссылке. У меня не осталось даже их фотокарточек. Если бы я сейчас встретил на улице своих родителей, я бы их не узнал. Они мне снятся, но, может, это и не они. Странно, но я сейчас больше сирота, чем был в детстве. Мне казалось, что с годами горе притупляется. Вероятно, оно и притупляется, когда причина его ясна, объяснима: умерли от старости, от болезни, погибли на фронте. Когда же причина необъяснима — ты не можешь понять ее, то с годами происходит черт знает что: я живу назад, а не вперед. Я живу по второму разу, не в силах ничего изменить, исправить. Даже если бы я знал тогда, наперед, что так должно случиться, я не смог бы этого предотвратить, я не мог бы спасти их. И никто не мог…
Рябов уже не сидел на стуле, а беспорядочно толокся по веранде.
На Кожина он не смотрел. Ему было невозможно смотреть на Кожина. Куда бы сейчас Рябов ни глядел, ему ни на что не смотрелось: ягоды, яблоки в тазах, разноцветные стекла веранды, детские игрушки, разбросанные по полу, — все это отщелкивалось хрусталиками его глаз, но тут же засвечивалось по пути к осмыслению.
Он спросил:
— Вы допрашивали моего отца. Почему он сознался? Что вы с ним делали?
— Вопросы, наверное, ставил. Улики были.
— Не могло быть никаких улик. И не было их. Вы помните, в чем вы его обвиняли?
— Да разве все дела упомнишь? Сами посудите — вон сколько лет прошло… А может, и не я вел.
— Вы вели. Ваша подпись в протоколах.
— Раз подпись, значит, я, — согласился Кожин.
От выпитой водки, от солнца, калившего спину и затылок, его совсем разморило. Дел на сегодня было назначено много: падалку подобрать, протереть смороду, сапоги прохудившиеся заклеить, им сносу не будет, Олешка три дня некупанный, с пятницы, как Варька умотала в город к своему коблу, извести бы подсыпать в парник — закислилась земля, а мужика этого можно бы, конечно, шугануть, да жалко человека, он-то ни при чем, пацаненком был, когда отца взяли, тоже не мед расти без родителей, а сейчас вбили ему в башку про нарушение соцзаконности, по дурости своей думает, что врагов и вовсе не было, наболтали народу зря, теперь и сами не знают, как расхлебать, черноплодку тоже пора снимать, клюют ее дрозды, заразы…
С высоты своего роста Рябов не видел осевшего лица Кожина. Различалась сверху пятнистая от солнечного ожога лысина и куль кожинского тела.
Он сказал этому кулю:
— Я вам сейчас напомню. Вы предъявили отцу обвинение в том, что он хотел взорвать железнодорожный мост.
Насчет моста что-то колыхнулось в памяти Кожина. С десяток дел было у него про этот мост. Разные лица и группировки хотели его подорвать. Сознавались-то они все…
Дальше мысли Кожина начали слипаться. Замотавшись с утра, он не успел позавтракать, водка ударила его натощак. Голос Рябова пробивался издалека, вроде там катился длинный товарный состав, отдельные слова погромыхивали на поворотах. Иногда оттуда проскакивала какая-то фраза, а затем снова мерно громыхало.
— Я не понимаю, как вы можете с этим жить? — говорил Рябов. — Как вам удается жить с этим?..
«Права качает…» — успел еще подумать Кожин из той мглы, куда его сладко засасывало.
Рябов остановился подле стола, вылил в стакан остаток водки и сказал:
— Мне ничего не надо от вас. Решительно ничего. Я только хочу понять, как можно носить это? Оно и во мне торчит, а вам-то как удается…
Теперь он заметил, что Кожин сидит совершенно недвижимо, голова его наклонена к груди. В первое мгновенье Рябов решил, что старику стало плохо. Согнувшись над ним, он заглянул в его лицо.
Кожин спал.
Отступив на шаг и не глядя нащупав на столе свой стакан, Рябов изо всей силы плеснул водкой в лысину, в лицо Кожина.
До станции он шагал опрометью. И лишь в электричке опомнился.
В вагоне было шумно, трещал транзистор, рядом на скамьях играли в подкидного дурака.
И всё это были люди, не знавшие, зачем Рябов приезжал в Звонаревку.
Да он и сам не знал.
СНОХА
В электричке они поссорились. Ссора возникла из пустяков, но, как это всегда у них бывало, наворотилось много лишних грубых слов, причина ссоры тотчас же была забыта, а злость осталась.
Минут за десять до станции Анатолий сказал:
— Давай, Варька, сделаем, чтоб старики не заметили. А то, честное слово, неловко получается: вечно приезжаем поругавшись…
— Подумаешь, — сказала Варя. — Перед своими давить фасон. Пусть знают. Я не умею лицемерить, как ты.
— При чем тут лицемерие? Может, я просто огорчать их не хочу. Или, может, мне стыдно…
— Стыдно? — она повернула к нему красивое осатанелое лицо. — Тогда надо было жениться на другой. Впрочем, ты еще успеешь.
— Дура, — сказал Анатолий. — Вот дура.
— От такого же и слышу.
И все началось сначала, по второму разу.
День был субботний. Покуда они шли от вокзала к родительскому дому, по дороге попадались знакомые. Шли парни из РТС, кое с кем из них Анатолий и Варя учились когда-то в поселковой школе.
— Алё, Толька! — закричали парни еще издали.
Поравнявшись, они посмотрели годовалую дочку, которую нес Анатолий, стрельнули у него сигарет и пошли своей дорогой.
— Они тебя совершенно не уважают, — сказала Варя.
Он не стал ничего отвечать.
— Вообще мильтонов мало кто уважает. Хорошо еще, что ты форму не носишь. Стошнить может от вашей формы.
— Зарплату приношу — не тошнит, — сказал Анатолий миролюбиво. — Брось, Варька, ей-богу, надоело…
— Ты не можешь мне запретить высказывать свои мысли.
— Да я не запрещаю. Я прошу.
— А попрекать меня своей зарплатой тоже не имеешь права. Вот после курсов поговорим, кто больше будет домой приносить.
Он видел, что Варя завелась надолго. Они всегда приезжали в поселок поругавшиеся. Матери он не стеснялся, матери он ни в чем не стеснялся, а отца было совестно. И теперь еще, как назло, эти чертовы парикмахерские курсы. Отговорить ее не удалось. На все его доводы она отвечала, что это очень хорошая специальность — делать людей красивыми.
— Ты возишься круглые сутки с жульем, считается благородная профессия. А мои клиенты будут порядочные люди. И заработок подходящий.
— Чаевые, — подсказывал Анатолий.
— Зависит от точки зрения. Для кого — чаевые, а для кого — благодарность за душевное отношение. Вообще, хорошенькая женщина имеет право получать подарки. Ты мне цветы когда-то приносил?
— Но я же потом на тебе женился.
— Ну, знаешь! Если из-за каждого букета выходить замуж…
Спорить с ней было бессмысленно. Он либо терялся, либо выходил из себя и только усилием воли сдерживался, чтобы не ударить по ее нарядному лицу. Иногда ему казалось, что она ждет, чтобы он ее ударил. Ей нужно зачем-то, чтобы он оказался негодяем. Ссоры их заходили так далеко, что и вспоминать было тошно. Варя никого не стеснялась, ей было море по колено, когда она злилась, присутствие свидетелей даже как будто вдохновляло ее.
Из-за этих проклятых парикмахерских курсов придется сегодня просить стариков, чтобы они взяли к себе месяца на три Иришку. Мать скажет: хорошо, пожалуйста, раз нужно, чего там, где трое, там и четверо. А отец ничего не скажет, закурит, подвигает желваками, поглядит вверх, в потолок…
Когда они подошли к дому, мать стирала на крыльце, а младший брат Витька — поскребыш — носился за оградой на трехколесном велосипеде.
— Тю! — закричал Витька. — Варюха опять покрасилась!..
Открывая калитку, Анатолий вспомнил, что и на этот раз не захватил им никакого гостинца. Он всегда вспоминал об этом, открывая калитку. Вот свинство. Хоть бы Варе когда-нибудь вскочило в голову. Постоянно получалось, что именно в дни приезда, раза два в месяц, он ходил без денег. Хозяйство у них в городе велось как попало. Иногда приезжала из поселка мать, привозила на милицейском газике мешок картошки со своего огорода, капусту, огурцы. Елена Ивановна вздыхала, глядя на жизнь сына, ее расстраивал беспорядок в доме, она говорила невестке:
— Я тебя, Варя, совершенно не понимаю. Почему у вас не хватает денег до получки? Как же другие-то люди живут?
— Может, у них запросы меньше, — усмехалась Варя. — Вы, мама, не можете этого понять.
— Почему же, интересно, я не могу? — обижалась Елена Ивановна; голос ее густел: обиженная, она всегда разговаривала басом.
— Потому что, мама, вы свою жизнь уже отжили. И время было другое. Вам кажется, что самое главное — набить желудок. А мы с Толиком смотрим иначе. Мы лучше будем голодные…
— Я ему третьего дня белье стирала, — перебивала Елена Ивановна, — у него кальсоны все рваные. И носки тоже.
— Ну и что?
— Неудобно все-таки. Женатый человек. Офицер. В институте учится…
— А он в институт в кальсонах не ходит. И вообще, мама, позвольте нам жить, как нам нравится.
— Грубиянка ты, — подымалась Елена Ивановна.
— Спасибо за комплимент, — отвечала Варвара, выкладывая привезенную картошку в авоськи.
От мужа Елена Ивановна старалась скрыть, что помогает сыну, но делала это неумело, и Василий Капитонович догадывался: из дому исчезал то отрез, выданный ему на брюки, то пара белья, а то вдруг оказывалось, что не дотянуть до дня зарплаты. Поблажки эти сердили Василия Капитоновича, он никак не мог взять в толк, почему сын, старший лейтенант милиции, здоровый парень двадцати семи лет от роду, должен доить своих родителей. Но говорить с ним об этом Василий Капитонович не решался, а выпив, привязывался к своей жене, виня ее за баловство.
— Ну чего ты меня-то мучаешь? — басила Елена Ивановна. — Посмотри лучше на мои руки, все пошли пупырьями, нервы уже не выдерживают.
— Пускай больше сюда не ездят, — говорил Василий Капитонович.
— А ты скажи им! Чего ты ко мне-то вяжешься? Твой же сын, как и не мой.
Лукин бывал изредка в городе по делам службы, но к сыну домой не заходил. Сноху свою терпеть не мог, да заодно не любил и всю ее семью. Варькиного брата пришлось сажать в тюрьму за украденный в Доме культуры баян; Варькина мать курит, как мужик, горластая баба, нарожала от трех мужей кучу детей — пять девок, одна красивей другой, да еще двух парней; с парнями этими постоянная морока, и Василию Капитоновичу — местному начальнику милиции — другой раз бывает совестно смотреть людям в глаза: породнился с семейкой, спасибо большое Анатолию. Когда пришли с обыском за баяном, теща Анатолия подняла такой крик, что сбежалась вся улица. Баян лежал в сарае, закиданный дровами, теща сказала, что сами милицейские его туда и подбросили, им за это премия идет.
В городе Василий Капитонович виделся с сыном только в Управлении.
Старший Лукин заглядывал в ту комнату, где работал Анатолий, и громко говорил:
— Привет молодежи!
Здесь сидели трое оперуполномоченных. Они все подымались, когда появлялся в дверях старик Лукин, он молодцевато обходил их, сверкая насмешливыми глазами, и крепко пожимал им руки.
— Стараемся? — подмигивал он. — Давайте, давайте, товарищи дорогие! У вас грамотуха посильнее, чем у нас…
Молодые люди приветливо улыбались подполковнику Лукину, но Анатолий старался как можно скорей тактично оттеснить его в коридор, боясь, что отец как-нибудь глупо, старомодно пошутит.
В коридоре яркие глаза Василия Капитоновича гасли, он смотрел в потолок и спрашивал:
— Как зачеты?
— Сдаю понемногу, батя.
— Иришка здорова?
— Здорова. Ты чего, пап, приехал? Отчет привозил? У вас, говорят, три кражи висят нераскрытые…
— Вот ты приедешь на выходной в гости и раскроешь.
Общность работы не сближала их. Они смотрели на свое дело по-разному. В споре Василий Капитонович легко раздражался, багровел, грубил, говорил сыну «вы», обращаясь к нему во множественном числе:
— К вашему сведению… Вы не в курсе вопроса… Нахалы вы!..
Елена Ивановна разнимала их:
— Будет вам! Надоели. Сцепились, как два петуха.
Сын, улыбаясь, умолкал сразу, а отец еще долго гневно бормотал:
— Вот так… По рогам вам надо дать…
В этот приезд, как только Анатолий с Варей вошли за ограду, Витька подкатил на трехколесном велосипеде и радостно завопил:
— Тю! Варюха опять покрасилась!
— По шее получишь, — сказала ему через плечо Варвара, целуя Елену Ивановну.
— Где батька? — спросил Анатолий.
— В бане, сейчас придет.
Пока мать хлопотала по хозяйству, он вышел в палисадник поклевать на грядках клубнику. В родительском доме он чувствовал себя мальчишкой. Не прошло и десяти минут, как они уже носились с Витькой по двору, наводили друг на друга, прицеливаясь, указательные пальцы, орали: «Ба-бах! Ба-бах!» — и падали замертво.
Варя помогала Елене Ивановне накрывать на стол. Когда вот так собиралась вся семья и невестка вела себя без фокусов, Елена Ивановна бывала счастлива. Ей хотелось, чтобы у всех у них был достаток — харчи, одежда, квартира, а если всего этого будет вдосталь, то не может не быть и счастья. Она росла когда-то в огромной нищей семье — их было одиннадцать душ детей, какого только горя не пришлось ей хлебнуть — и считала с тех пор, что все беды в семьях исключительно от нужды, от нищеты.
Василий Капитонович пришел из бани, когда стол уже был накрыт к ужину.
— Здравствуй, сноха! — сказал он с порога. — Зови мужиков, голодные, наверное, как черти… Леля, — обернулся он к жене, — дай на полбанки, ко мне сын приехал.
В магазин пошли вдвоем с Анатолием.
Им было приятно сейчас идти по поселку, где все знают их. Оба высокие, крепкие, лобастые; у отца седая голова, синие, как порох, глаза. Он уже успел в бане выпить полтораста граммов, и теперь все в нем играло и требовало ответа.
— Ты в магазин не заходи, — сказал сын. — Неудобно все-таки…
— Глупость, — сказал отец.
В очереди за водкой стояли плотники ремстройконторы, работяги из промартели, всего человек десять. Ленька Каляев, застенчивый пьяница, раза два в год сидевший по нескольку суток в камере, увидев Лукина, приветливо заулыбался.
— Я немножко, Василий Капитонович, — сказал он. — С получки.
— У тебя каждый день получка, — сказал Василий Капитонович. — Завтра Ритка прибежит жаловаться.
— Не-е, — заверил Ленька. — Я ей деньги снес. А это — халтура, погреб копал одному человеку.
Когда подошла очередь, Василий Капитонович протянул сыну три рубля, тот отдал их продавщице и взял бутылку «Московской», а на остальные — сигареты.
За ужином все шло гладко, покуда Варя не сказала:
— Мы хотели, мама, попросить вас взять Иришку. Я на курсы поступила.
Елена Ивановна испуганно посмотрела на мужа и спросила загустевшим голосом:
— На какие курсы?
— На парикмахерские. Дамских мастеров в городе совершенно не хватает.
Василий Капитонович смотрел в потолок.
— Три месяца обучения, — сказала Варя, — Очень серьезная программа: укладка, окраска, завивка. Отличников даже посылают на практику в косметический кабинет…
— Значит, теперь будете оба с образованием? — спросил Василий Капитонович.
Он налил себе полную стопку и выпил один.
— А деньги, — сказала Варя, — мы двадцатого будем привозить. Главное, конечно, попасть после курсов в хорошую точку. Куда-нибудь в центр города, например возле ДЛТ или Пассажа.
— Сунуть придется? — равнодушно спросил Василий Капитонович.
— Ну, почему непременно «сунуть»? — сказала Варя. — Можно позвать человека в гости, красиво принять… Вот только надо расплатиться за шифоньер. Когда у нас последний взнос, Толик?
— Не помню, — сказал Анатолий; раздраженно, сбоку, он взглянул на отца.
— Ты никогда ничего не помнишь, — сказала Варя. — В конце концов, я тоже человек. Ничего, кроме пеленок, не вижу…
Она заплакала, выскочила из-за стола и побежала в другую комнату.
Анатолий поднялся вслед за ней.
— Иришку мы возьмем, — торопливо сказала Елена Ивановна. — А ты чего молчишь? — спросила она Василия Капитоновича.
— Надо взять, — сказал он, наливая себе еще стопку. — Парикмахерское дело серьезное. Теперь стричься будем по блату.
— Можешь не иронизировать, — сказал Анатолий и вышел из комнаты.
Елена Ивановна принялась убирать со стола.
— И на самом-то деле трудно им, — сказала она. — В городе, Вася, жизнь дорогая. Мы с тобой никуда не ходим, а они люди молодые. В кино сходить и то рубль на двоих, а еще захочется в буфете лимонада выпить. Одеться надо, обуться. Смотри, как Толик оборвался…
— А ты б взяла мой костюм, отдала. По поселку можно в трусах бегать.
— Все злишься, — сказала Елена Ивановна. — Пил бы меньше.
— А это мое дело. Я на свои пью.
— Виновата я, что ли, раз у них такое положение — ребенка не с кем оставить.
— А чего ж, — сказал Василий Капитонович, — пошла бы к Варьке в домработницы.
Он встал, притворно потянулся и зевнул.
— Вася, — жалобно сказала Елена Ивановна, — гуляет она, по-моему. Кольцо видел у нее новое на руке?
— Не приметил, — соврал Василий Капитонович.
— Когда вы ходили в магазин, я спросила, откуда кольцо, она говорит — подруга подарила. Где ж это бывают такие подруги? И сумочка у нее новая… Поговорил бы ты с Толиком.
— Пусть сами разбираются.
— Отец все-таки.
— А он меня не спрашивал, когда женился.
Надев плащ, Василий Капитонович пошел к дверям.
— Вася, — еще раз жалобно обратилась к нему жена. Он остановился вполоборота к ней и вскинул глаза к потолку. — Думаешь, я не понимаю, с чего ты стал вино пить? Через Варьку и пьешь…
— Ладно, — сказал Василий Капитонович. — Будет. Поговорили.
— Ну и кому ты этим доказываешь? — спросила Елена Ивановна. — Выведут на пенсию прежде времени. А нам еще Витю подымать надо… Вася, не ходи в чайную. — Она дотронулась до его локтя. — Слышишь, Вася…
Он ничего не ответил и вышел.
На улице было темно. Светились окна Дома культуры, оттуда доносилась музыка — там заканчивались танцы.
В этом поселке Василий Капитонович работал десять лет. Он уже давно понял, что здесь ему дослуживать свою службу до конца. Вся жизнь его прошла вокруг города, то в одном сельсовете, то в другом, он никогда не жаловался на свою судьбу. В городе ему бывало неуютно, он чувствовал себя там ничтожным человеком, от которого ничего не зависит. Да и не понимал он городских людей, их интересы были далеки ему.
Последние годы ему приходилось сильно напрягаться, чтобы поспеть за тем, что происходит вокруг. Многого он не мог постичь, и это его изумляло, а порой раздражало. Вся его прошлая жизнь представлялась ему сейчас стройной и последовательной; люди, с которыми доводилось когда-то встречаться и работать, казалось, были чище и лучше, и даже пороки их выглядели интересней.
У него было слишком мало слов, чтобы выразить свои сложные чувства и мысли, поэтому нетерпеливым собеседникам чудилось, что он ограниченный, грубый и темный человек. Начальство уже давно поставило на нем крест и даже немного стеснялось его — он это видел и не испытывал зависти к молодым работникам.
Прожив в поселках всю свою службу, Василий Капитонович часто ездил по окрестным деревням — райком посылал его уполномоченным при всякой кампании, — и в качестве уполномоченного он совершал множество ошибок, зная при этом, что он совершает ошибки; он шел зачастую против своей мужицкой совести, требуя от людей то, чего они не могли дать; сердце его болело от того, что он видел в избах и на поле, и, чтобы заглушить эту боль, он ожесточался. Ожесточиться ему было проще, нежели другому человеку, ибо по роду своей милицейской работы он должен был часто бывать жестким.
Однако когда пришло время и наступила возможность списать свои ошибки и начать жить иначе, Василий Капитонович уже окостенел, ошибки эти стали дороги ему, он не хотел отказываться от них и с презрительным изумлением наблюдал тех работников, которые с легкостью, даже с какой-то залихватской покаянной гордостью зачеркивали все, чем жили и за что получали зарплату прежде.
У этих работников, думал Василий Капитонович, получалось так, что они и тогда были правы, и теперь тоже правы. Выходит, всегда их верх, с горечью думал он.
Не было никакой логики в том, что он думал, и в спорах с сыном он терпел поражение. Анатолий беседовал с ним снисходительно и вяло, как это часто принято у молодых людей, когда отжившие свой век старики донимают их пустыми разговорами.
Сила была на стороне Анатолия. И не только потому, что отец был гораздо невежественней его, а просто время для Анатолия сложилось иначе, удачней: его еще ничем нельзя было попрекнуть, не лежало на нем никакой вины, и он пользовался этим вовсю, видя в этом свою личную заслугу.
— Ты бы, батя, помалкивал, — ласково говорил он. — Наломали вы дров порядочно.
— Никому не секрет! — горячился Василий Капитонович. — Наломали. А к вашему сведению, порядка больше было.
— Да какой же это порядок, батя, когда ты сам рассказывал, что в деревнях от голода пухли? Тогда ты молчал?..
— А я вам дословно повторяю — работали честней! Партийное слово даю — честней!.. Воровали меньше. Боялись. Мелких жуликов было погуще, а таких карасей, каких сейчас ОБХСС хватает, мы сроду не ловили.
— Не до того было. Вам всюду враги народа мерещились.
— Я лично их не касался, — свирепел Василий Капитонович: ему осточертели эти попреки. — Я ворье сажал… А пусть мне сопляки пояснят, зачем я нынче с председателем райпотребсоюза Блиновым должен здороваться за ручку? Почему мы с ним вместе на активах сидим? Он, сволочь, народное добро расхищает, на нем пробы негде ставить!.. Могу я его арестовать?
— Должен.
— А кто мне даст санкцию? Я пришел к секретарю райкома, он говорит: ты не тронь Блинова, мы на него по партийной линии воздействуем. Ты, говорит, товарищ Лукин, с коммунистами поаккуратней. Работать надо с людьми, товарищ Лукин, воспитывать их!.. А не спрашивает меня секретарь, хочу я быть с Блиновым в одной партии или не хочу!
— Зря расстраиваешься, — сказал Анатолий. — Теперь-то будет попроще. Не таких орлов берем… Это уже пройденный этап.
— А почем я знал, что он будет пройденный? Я на том самом этапе жизнь оставил… Выходит, зря, что ли?
И действительно, сын был прав: Блинова вскорости арестовали — приехали из Управления и взяли, — но Василий Капитонович не мог простить себе, что смолчал тогда в райкоме. Смолчал, потому что боялся перечить секретарю. А боялся потому… Да стоит ли объяснять, почему он боялся! Сколько раз он давал себе слово поступать так, как велит его совесть, сколько раз убеждался в том, что если бы поступал в свое время по совести, то потом оказалось бы, что именно эти поступки и были государственно верными. Долго его приучали отличать свою точку зрения от государственной, словно в его личной точке зрения непременно есть что-то зазорное, шкурное, и он на самом деле стал стесняться своей точки зрения, полагая ее слишком мелкой.
Нынче времена изменились — Василий Капитонович это видел, — но его огорчало, что изменения эти произошли без активного его участия.
Хотелось ему внушить свой жизненный опыт сыну, но не умел Василий Капитонович этого сделать, не хватало ни слов, ни терпения.
И сейчас, идя по темной улице поселка, он горевал, что сын отламывался от него все сильней, все дальше — Варька уводила его в сторону. Поделиться своим отцовским мужским горем было не с кем, и стал Василий Капитонович полегоньку попивать, сперва из-за Варьки, а потом уж без особых причин, только для того, чтобы утвердиться в своей обиде. Да и чувствовал он себя выпивши вольнее, ему казалось тогда, что он пронзительней понимает окружающую его жизнь.
Проходя мимо освещенных окон чайной, он различал в папиросном дыму фигуры людей, стоящих у высоких столиков.
Неподалеку, на улице, прохаживался милиционер.
Заходить в чайную Василий Капитонович не стал, хотя мог свободно сделать это: посмотреть, кто, как и на какие шиши пьет, милицейскому работнику всегда полезно. Но сейчас он был расстроен приездом сына.
Подойдя к милиционеру, Василий Капитонович сказал:
— Ты вот что, Савчук. Добеги до квартиры Леньки Каляева. Он давеча брал в магазине пол-литра. Погляди, не шумит ли на детей.
Милиционер тотчас же быстро ушел, а Василий Капитонович побродил еще немного, записал на всякий случай номера грузовых машин, остановившихся подле Дома культуры, — на машинах приезжали беспокойные солдаты из далекой стройроты на танцы, — прошел мимо трех магазинов, вглядываясь в полутьму, на месте ли сторожа; и всю дорогу, не переставая, думал, что с сыном надо серьезно поговорить насчет Варьки.
Когда он вернулся домой, все уже спали.
Посидев на кухне, Василий Капитонович попил теплого чая с не остывшей еще плиты, просмотрел на ночь газеты. Потом выпил лекарство от сердца и улегся в постель.
Среди ночи его разбудила жена.
Он сел на постели, еще не соображая, о чем речь.
— Ругаются, — прошептала жена.
Из соседней комнаты доносились голоса: громкий, злой — Варькин и сдавленный — Анатолия.
Василий Капитонович нащупал в темноте пачку сигарет, лег и закурил.
Курево в темноте было безвкусное.
Ссора за стеной не унималась.
— Вася, — прошептала жена. — Не случилось бы чего…
— Спи, — велел ей Василий Капитонович.
Они лежали рядом. Он слышал, как дрожало ее плечо.
— Срам-то какой, — сказала она.
Заплакала Иришка. Хлопнула дверь из соседней комнаты в кухню.
Он поднялся и, как был, в кальсонах, пошел на кухню.
Анатолий стоял спиной и мыл над раковиной лицо. Когда он обернулся и увидел отца, один глаз у него стал испуганный, а вторую щеку вместе с глазом он прикрыл рукой.
Василий Капитонович ничего не сказал и сел за кухонный стол.
Анатолий снял левой рукой с вешалки пальто, накинул его на плечи, потом наклонился и стал шнуровать полуботинки.
— Далеко собрался? — спросил Василий Капитонович.
— В город.
— Первый поезд в шесть утра. А сейчас ночь.
— Я на вокзале пережду.
— Так, — сказал Василий Капитонович. — Интересные новости.
Анатолий сунул руку в задний карман брюк, вынул пистолет и протянул отцу.
— Я с ней жить не буду, — сказал Анатолий рыдающим голосом. — Шлюха она.
— Это точно? — спросил Василий Капитонович. Ему было и жаль и противно смотреть на сына.
— Пойми меня, папа, — сказал Анатолий торопливо, захлебываясь, словно отец уговаривал его. — Я уже давно заметил. Чужая она. Я вас огорчать не хотел… Она с кем попало шляется. Прихожу с работы, в пепельнице лежат окурки «Казбека», а я «Север» курю. Я сперва курил «Беломор», она говорит — не по средствам… Я спрашиваю, откуда «Казбек»? Она говорит, управхоз приходил, я проверил управхоза — у него сигареты…
— С сигаретами, — сказал Василий Капитонович, — бывают перебои.
— Да что ты мне рассказываешь! — рассердился Анатолий. — А кольцо откуда у нее? А сумка?..
Забывшись, он снял руку со щеки. От правого глаза до подбородка щека была расцарапана.
От стыда и отвращения Василий Капитонович отвернулся.
— Уйду, — сказал Анатолий. — Я за себя не ручаюсь… Лучше уйти. Уйду, и дело с концом. Она нам чужой человек, папа. Она меня доведет… Из-за нее у меня три экзамена не сданы…
— Могут отчислить, — сказал Василий Капитонович.
— Вполне! — почему-то с радостью согласился Анатолий. — И работа в голову не лезет. А наше дело, папа, знаешь какое?
— Ваше дело я знаю, — сказал отец.
Он поднялся со стула.
— Куда ты? — спросил сын.
— К матери. Досыпать.
Подтянув на впалом животе кальсоны, босой, с зазябшими ногами, он повертел в руках пистолет, положил его на стол и пошел из кухни.
Укладываясь подле жены, Василий Капитонович неловко погладил ее по остывшему круглому плечу.
— Ну как, Вася? — прошептала Елена Ивановна.
— Все в порядке, — сказал он.
— Поговорил с ним?
— Ага. Беседовали. Спи, Леля.
— Спасибо тебе, Вася. — Она поцеловала его в висок. — Никогда я никого не любила, кроме тебя.
Он скрипнул зубами и еще долго не мог заснуть.
Утром в кухне пили чай.
Анатолий вышел из комнаты с перевязанной щекой. Варя держала на коленях ребенка и поила его с ложечки теплым молоком. Витька убежал в школу.
— Значит, насчет Ириши мы договорились, мама, — сказала Варя. — В среду Толик привезет ее.
— Я, наверное, бюллетень оформлю, из-за флюса, — сказал Анатолий. — Если в городе не дадут, попрошу здесь в больнице. Батя поможет.
Василий Капитонович ничего не ответил. Он пил чай.
Сын поглядывал на него украдкой. Ему было совестно за все, что произошло на глазах у старика, и хотелось сказать ему, что больше это никогда не повторится. В конце концов, он хозяин в доме. И никаких парикмахерских курсов он не потерпит.
Когда собрались на вокзал, Елена Ивановна вышла провожать их на крыльцо. Сверток с пирогами она положила сыну в портфель.
— Туфли у тебя нечищеные, — сказала Елена Ивановна.
— Ну что ты, мама, вечно привязываешься ко мне с туфлями, — сказал Анатолий. — Почищу в городе.
— Удивительный вы человек, мама, — сказала Варя. — Как будто у людей нет других интересов, кроме туфель.
Они пошли к автобусу. Анатолий нес дочку, Варя — портфель.
В комнате, у окна, стоял Василий Капитонович. Глядя им вслед, он громко произнес:
— Сопляк. Вот сопляк.
НА КОММУТАТОРЕ
Телефонистка Даша Полякова влюбилась в солдата. Солдат был щупленький, как куренок, востроносенький, некрасивый. Он приезжал в поселок на грузовике вместе со своими однополчанами по субботам на танцы. Грузовик подваливал к поселковому Дому культуры, солдаты, словно по тревоге, прыгали через борта машины на пыльную землю, отряхивались и гурьбой шли в зал.
Дашин солдат был самый смирный. Он робел в зале, обтирая спиной стенку и поводя своим вострым носом вслед танцующим. Лицо у него становилось восторженным, когда он выискивал в колышущейся, плотной и потной толпе кого-нибудь из своих бойких товарищей по стройроте.
Девушек в поселке было много, судьба их нередко складывалась и решалась именно по субботам, поэтому к танцам они относились серьезно, ожидая их и готовясь к ним всю долгую и трудную неделю.
Работала Даша на коммутаторе в поселковом отделении связи. График у телефонисток был сменный — то в ночь, то в день, то в утро. Семейные часто просили Дашу подменить их — она никому не отказывала. Так уж считалось среди поселковых связисток, что Дашина жизнь не задалась. Девушка она была в годах, собой непривлекательная, про нее говорили, что «на ней никто не ошибется».
Ее жалела даже толстая телеграфистка Нина, которой достался загульный муж-печник, она жила с ним нерасписанная, с него вычитали алименты куда-то в Вологду. Когда печник приходил домой сильно выпивши, Нина боялась оставлять с ним ребенка и брала его с собой в ночное дежурство. Расстелив ему пальтишко на стульях, она укладывала его спать неподалеку от своего рабочего места. Он просыпался иногда среди ночи, скучал, лез под руки. Тогда Нина отводила его в соседнюю комнату, сажала на стол рядом с телефоном и, возвратившись к себе на телеграф, звонила ему.
Он снимал трубку.
— Привет, Славик. Это я, мама.
Славик сперва длинно сопел в трубку, а потом спрашивал:
— Чего тебе?
Рано утром, по дороге на работу, печник приходил мириться. Он топтался у маленького окошка телеграфа — по утрам здесь было пусто.
— Пришел? — спрашивала Нина, не глядя на него, чтобы поглубже остервениться.
— Пришел.
— Ну и катись. Не отсвечивай тут.
— Выслушай человека, — просил печник. — Может, он сам переживает.
— А чего ему переживать? Залил себе глаза винищем.
Он просовывал в окошко свою лохматую веселую голову.
— Давай по-хорошему, Нинок. А? Я же тебя, дуреху, люблю. Создадим семью, оттоманку возьмем в кредит…
— А пить бросишь? — спрашивала Нина.
— Как дважды два, — отвечал печник.
Пить он не бросал, Нина так и маялась с ним, но все-таки она была семейная, а Даша — одинокая. Одиноких девушек в поселке жалели.
Приехала Даша сюда из дальней деревни Кировской области. Оставшись сиротой и продав за бесценок родительскую избу, Даша отпросилась у председателя колхоза в город, к крестной. Крестная продержала ее у себя на квартире недели две, вместе они ходили в милицию выплакивать прописку, но милиция, притерпевшаяся к слезам, отказала, и крестная свезла Дашу в этот поселок, где у нее жил свояк. Свояк работал монтером в отделении связи, он и выучил Дашу на телефонистку.
Работа на коммутаторе была чистая, зарплата хоть и небольшая, но постоянная, не так, как в колхозе. В один из выходных дней Даша съездила в город, сделала себе в привокзальной парикмахерской шестимесячную, там же подбрили ее белесые брови, подчернили их, они стали будто с чужого лица, — и с того дня Даша превратилась в городскую, как и все девушки в поселке.
С солдатом она познакомилась еще по телефону.
Неподалеку от поселка, километрах в десяти, стояла воинская часть. Воины строили какой-то спецгородок, собраны они были со всех сторон света — каменщики, плотники, штукатуры — и проходили срок действительной службы в стройроте. У них водились деньги, за работу платили неплохо — хватало на что выпить и погулять воякам.
Случалось, по ночам из воинской части звонили на коммутатор. Солдатам было скучно у своих полевых телефонов, и они болтали ночами с поселковыми связистками. Вот так и познакомились Даша с Петей.
Не видя той, с кем он говорит, Петя не испытывал привычной своей робости. Рядом с ним сидел рослый, нахальный сверхсрочник, губастый мужик, покоритель девок во всей округе. Петру хотелось отличиться перед ним, поэтому он лихим движением поправил наушники и сказал в микрофон:
— Разрешите завести с вами знакомство?
Даша тоже не раз слышала, как разговаривали в таких случаях телефонистки. Она ответила:
— Если не секрет, как вас зовут?
— С утра был Петром, — ответил Петя. — А вы, наверное, Людмила?
— Обознались, — сказала Даша, хихикнув.
— Возможно, маленько ошибся, — сказал солдат, подмигнув сверхсрочнику. — Но если не Людмила, то около того.
— Вероника, — сказала Даша. — Прошу поиметь в виду, у меня жутко ревнивый супруг.
И она вынула штепсель из гнезда воинской части, нарочно обрывая первый разговор на самом интересном месте.
Солдат Петя тотчас же позвонил снова:
— Алё. Нескромный вопрос: у вас когда выходной?
— А почему вам интересно? — спросила Даша, у которой уже иссякал в памяти весь ее нехитрый девичий опыт.
И они условились встретиться в субботу в Доме культуры.
На это первое свидание Дашу собирало все отделение связи. Почтальонша Тая дала ей свой синий выходной берет.
— Ходишь в платке, как колхозница, — ворчала Тая, надвигая берет на Дашины брови. — Между прочим, воли его рукам не давай. Солдату — только бы полапаться. Он взял увольнительную, ему надо во время уложиться.
Толстая телеграфистка Нина надела на Дашу свои бусы и предупредила:
— Главное смотри, чтоб не выпивши был.
Клава, с поселкового радиоузла, дала свой желтенький жакет.
— Не слушай ты их, — сказала Клава. — Солдат такой же человек, как и все. Среди них тоже попадаются самостоятельные. Может, и найдешь свое счастье.
Клава была старше и добрее других женщин-связисток. Она считала, что есть где-то на свете счастье, оно лежит неподобранное, как клад, важно только найти его и отломить свою долю.
В субботу Даша пошла на танцы вместе с почтальоншей Таей. Они пришли, когда зал Дома культуры был уже сильно заполнен. Пустой военный грузовик стоял неподалеку от подъезда. Оглушительно играла радиола. Таю тотчас же, прямо от дверей подхватил кто-то из местных ребят и повел в колышущуюся толпу. Даша остановилась у стены, не прислоняясь к ней, чтобы не запачкать мелом чужую кофточку.
Только сейчас она сообразила, что ведь они с Петей не договорились, как узнают и найдут друг друга в этой толпе. Потихоньку, вроде бы скучая, она стала выискивать глазами парней в солдатских гимнастерках.
«А может, он офицер?» — подумала Даша, и она стала прикидывать, мог ли офицер произносить все те слова, что говорились ей по телефону. Получалось — мог.
Потом она стала думать, брюнет он или блондин. Она уже видела, как он улыбается, как кладет свою твердую большую руку ей на спину и вертит под музыку по всему залу, — у нее захлестнуло сердце.
Танцующие пары топтались подле Даши, она стояла у стены в ряд с пожилыми людьми, пришедшими поглазеть на молодежь. Пожилым людям казалось, что веселье в зале какое-то ненастоящее, не такое, как было когда-то. Лысый счетовод сельпо стал пробираться в центр зала, желая показать присутствующим свои особенные коленца. Но толпа выдавила его обратно к стене рядом с Дашей.
Радиола на минуту умолкла. К Даше протолкалась румяная, задыхающаяся Тая. Указывая на кого-то глазами, она шепнула:
— Чего стоишь? Твой-то дожидается тебя.
И, взяв Дашу за руку, повела через весь зал.
У противоположной стены, привалившись плечом к ней, стоял рослый губастый сверхсрочник. Он обводил своим победительным взглядом всю эту гражданскую мелочь, набившуюся сюда в Дом культуры.
Подтягивая за собой упирающуюся Дашу, Тая подошла к нему.
— Товарищ военный, — сказала Тая, — у нас к вам имеется один вопросик. Вы случайно никого не дожидаетесь из лиц женского пола?
— Наше дело такое, — сказал сверхсрочник, лениво приосаниваясь. — Мы их всегда дожидаемся.
— Шутки тут неуместны, — отрезала Тая. — Одной гражданочке был даден звонок. Желательно выяснить, не являетесь ли вы тот человек, которому была обещана встреча?
— Почему же не встретиться, — сказал сверхсрочник, делая шаг к Тае. — Встреча зависит лично от нас.
Снова заиграла радиола. Хозяйским жестом сверхсрочник взял Таю за спину, сдвинул свою руку пониже и толкнул Таю впереди себя под первые такты музыки.
Даша осталась одна. И когда она осталась совсем одна, к ней робко шагнул щуплый востроносенький солдат — до той поры он стоял в тени сверхсрочника.
— Я Петя, — сказал солдат. — Будем знакомы.
В этот первый вечер они мало разговаривали. Только стояли друг подле друга. Раза два солдат брался танцевать с Дашей, но сапоги его быстро запутывались в ее туфлях. Остановившись посреди зала, Петя пережидал музыку, не выпуская из своей намокшей ладони Дашину руку.
Даша не могла вспомнить потом, о чем же они все-таки разговаривали в этот вечер. Ей только сразу стало жалко солдата. Жалко, что он наголо остриженный, что у него мятая, выцветшая гимнастерка с грязным подворотничком на тоненькой, ломкой шее. И себя она тоже пожалела. И так ей стало хорошо оттого, что она жалеет и его и себя, потому что тогда сразу оказывалось, что они чем-то связаны.
А солдат Петя уже год трубил действительную и за этот год впервые обнимал женщину, потому что ребята из стройроты, куда бы они ни приезжали, всегда поспевали раньше его, а потом в казарме, разуваясь и раздеваясь перед сном, выхвалялись друг перед другом своими скорыми, легкими атаками.
Обнимая Дашу, солдат думал, что, может, сегодня и ему что-нибудь посветит. Думал он об этом без особой страсти, робея от собственных нахальных мыслей. В толпе танцующих Петя различал своих стройротских — чаще других попадался на глаза сверхсрочник. Пете казалось, что сверхсрочник подмигивает ему, бодря и обнадеживая его.
После танцев он пошел провожать Дашу домой. На улицах поселка было темно, два фонаря горело только у входа в Дом культуры. Даша жила неподалеку, но, чтобы подольше побыть с солдатом, сказала ему, что дом ее стоит в конце поселка.
Они шли в темноте.
— Давно здесь живешь? — спросил Петя. — Ты сама откуда?
— Из-под Тамбова.
— Далёко, — сказал Петя. — Незнакомые места. У тебя там кто-нибудь оставшись?
— Нету никого.
Переждав, Петя спросил:
— А здесь с кем дружишь?
— Тут больше семейные. Нина есть, у нее муж сильно пьет, а трезвый он хороший.
— Это которая с нашим сверхсрочником пошла?
— То Тая. Она в разводе. Еще Клава есть, вдова.
— Подобрались у вас. А тебя, правда, Вероникой звать?
— Неправда.
— Я слышал, — сказал солдат. — Нормально зовут, Дарьей. Зачем наврала?
— Не знаю, — сказала Даша. — От скуки, наверно.
— Значит, ни с кем не дружишь? — снова спросил солдат.
Он все хотел задать какой-нибудь вопрос, после которого можно было бы обнять девушку, — времени у него оставалось в обрез. Они стояли уже у крайнего дома на шоссе. За оградой носилась собачонка и тявкала на них.
— Твой песик? — спросил солдат.
— Ага.
— Пройдемся еще маленько.
Отойдя шагов на двадцать в темноту, они остановились под сосной. Протянув руку, Петя нащупал Дашино плечо, хотел притянуть ее к себе, но вместо этого погладил.
— Если желаешь, — сказал он, — я буду к тебе приезжать. Ты чего дрожишь? Холодно?
— Нет, — сказала Даша. — Просто так.
— Надоело мне служить, — сказал солдат. — Помереть можно с тоски на этой службе.
— Приезжай, — сказала Даша. — Я в ту субботу возьму отгул.
Он ушел вскорости, а она переждала еще немного у чужой калитки, прислушиваясь к тому, как все глуше и глуше грохотали его сапоги по асфальту. Потом Даша пошла по этому шоссе к своему дому, и мимо нее, на полдороге, пронесся грузовик с поющими солдатами. Она подумала, что и Петя, наверное, поет вместе со всеми.
Идти домой ей сейчас не хотелось, она заглянула к себе на телеграф. Дежурила на телеграфе толстая Нина. Даша отдала ей бусы, посидела немножко у коммутатора, покуда Нина принимала с аппарата ночную сводку погоды. Лицо у нее было заплаканное, в углу, на стульях, спал Славик.
— Давай подменю, — сказала Даша. — Спать все равно неохота.
Нина стала собираться домой, разбудила Славика, одела его, он долго, со сна, не попадал ногами в ботинки.
— Теперь уж окончательно, — всхлипнула Нина, завязывая ему шнурки. — Пойду на принцип, и все. Сегодняшний год ни разу цельной получки домой не принес, с аванса — пять рублей, а в окончательный расчет — восемь.
Уже от двери она спросила Дашу:
— Твой-то приходил?
— Пришел, — сказала Даша.
— Ну как, ничего? Потанцевали?
— Потанцевали.
— Если б не Славик, я б давно от него ушла. Больно он мне нужен, алкоголик несчастный…
После ухода Нины застучал аппарат, поползли телеграммы: Даша обрывала ленту, наклеивала ее на бланки. Изредка мигали лампочки вызовов на щите коммутатора. Звонили в милицию, в больницу, на междугородную.
Работалось Даше легко.
Часам к двум ночи все утихло.
Она включила электрическую плитку, погрела в чайнике утрешний кипяток, попила его, закусив сайкой, валявшейся в шкафчике. Коммутатор молчал. Даша подумала, что, может, и Пете сейчас не спится и он тоже сидит около ихнего воинского коммутатора. Все кругом спят, и только они двое думают друг про друга. И она стала думать, о чем может сейчас думать Петя. Наверное, он считает, сколько еще времени осталось ему до конца службы и куда они поедут, когда он демобилизуется. Наверное, у него нет гражданского костюма, а сейчас в универмаге дают на выплату, если, конечно, постоянная прописка. И еще у них в отделении все связистки два раза в месяц закладывают в общую кубышку по рублю в получку, а потом к концу года тянут из шапки жребий, кому выпадет очередь на все деньги. Ей захотелось немедленно рассказать обо всем этом Пете, чтобы он не расстраивался и ему было легче дослуживать свою службу до конца.
Даша воткнула штепсель в гнездо воинской части и длинно, настойчиво позвонила. Что-то не сработало в коммутаторе напрямую, и она решила соединиться через районный центр.
— Дежурненькая, — попросила Даша, — дай мне, пожалуйста, номерок.
А солдат Петя давно спал на своей койке в казарме. Спал он, скорбно сведя редкие брови и воткнув голову в подушку. По дороге в часть, и еще перед сном, над ним долго потешался сверхсрочник, расспрашивая его, откололось ли ему сегодня. И солдат говорил, что полный порядочек, но никто ему не верил и все требовали подробностей.
ПОДРОБНОСТИ ЖИЗНИ
Повесть
Все хлопоты по устройству золотой свадьбы родителей взял на себя младший сын Анатолий. Вообще-то, по количеству гостей, вполне можно было устроить это мероприятие в квартире Анатолия, квадратных метров у него хватало, но за столом пришлось бы сидеть впритирочку, стулья стрелять у соседей, а жена Ирина избегалась бы по магазинам, рынкам и всю неделю до торжественного дня торчала бы с утра до вечера у плиты.
На дочь Галю рассчитывать никогда не приходилось: не испортила бы настроения — и на том спасибо. Просить помощи у старшего брата Бориса бессмысленно, он человек одинокий, в общем-то неудачник, жалеть его надо, а не взывать к его помощи.
Обдумав и взвесив все эти обстоятельства на одном из скучнейших заседаний ученого совета, ректор Института связи Анатолий Егорович Самойлов, даже не посоветовавшись с женой, заехал в конце рабочего дня в ресторан «Метрополь» — здешний директор его знал: институтские диссертанты банкетировали в «Метрополе» ежегодно, а Самойлов на этих пиршествах был фигурой достаточно внушительной. С директором он договорился в общих чертах, не вникая в подробности, — выбрал самый небольшой банкетный зал, сказал, что ни оркестра, ни квартета не надо, а относительно ужина заедет жена Ирина Владимировна и уточнит меню. Предложил, если необходимо, внести тотчас аванс, но директор учтиво отказался.
— Для меня достаточно вашего слова, Анатолий Егорович. А денежными расчетами займется с вашей супругой бухгалтерия. Кстати, по старому нашему знакомству, могу посоветовать: алкогольные напитки — они у нас со стопроцентной наценкой — закажите в минимальном ассортименте, а для полного удовлетворения прихватите с собой.
— Благодарю вас, — сказал Анатолий. — У нас народ мало пьющий.
— На сегодняшний день это редкость, — качнул головой директор, и движение это было не то одобрительное, не то осуждающее.
Ирина Владимировна охотно согласилась с идеей мужа, спросила только, какой суммой можно располагать.
— Не жмись, — сказал Анатолий.
— А твой брат будет участвовать в расходах?
— Чисто символически. Я бы вообще не хотел брать у него деньги.
— Борис рассердится, если ты откажешься.
— А я не откажусь, скажу, что устроил все со скидкой, что нас трое — ты, Галка и я. А он — один. В общем, предоставь все это мне.
— Ради бога! — сказала Ирина Владимировна. — Ты же знаешь, что я никогда не вмешиваюсь в твои семейные дела. Только учти, как бы не возникла неловкость: Борис встретится на этом юбилее с Митей.
— Разумеется. И оба будут рады. Митьке давно пора перестать дуться на своего отца.
— А если он не считает его своим отцом?
— Слушай, Ирина. Не запудривай мне мозги. Они взрослые мужики — сами разберутся. А в присутствии деда и бабки никакой неловкости никогда не возникает. Ты вот лучше за нашей Галкой присмотри: как бы она не отколола какой-нибудь номер. С этой психопатки станется…
Он устал, был раздражен, в таком состоянии перечить ему не следовало. Но после сытного ужина Анатолий отмяк, расстегнул верхнюю пуговицу на брюках, чтобы животу просторнее жилось, и позвонил родителям: ему захотелось тотчас сообщить им, что их юбилейная свадьба состоится в первоклассном ресторане. Отец отнесся к этому сдержанно, то есть он, конечно, произнес положенные слова благодарности, но интонация его была скупа, во всяком случае не совсем та, что доставила бы удовлетворение сыну. Зато мать, наверняка ощутившая это, — она понимала своих детей не умом, а душой, — мать отобрала у отца телефонную трубку и поговорила с Анатолием тем единственным и только ей присущим голосом, на который всегда виновато отзывалось его сердце.
Перед сном, уже погасив свет и привычно обняв Ирину, он сказал:
— Вообще-то, я порядочная скотина…
— Да что ты, милый, — ответила Ирина.
Торжество удалось на славу. Небольшой уютный зал, выбранный Анатолием, был расположен в глубине ресторанного коридора во втором этаже. Сюда выходили двери и других банкетных залов, где в этот же вечер гуляли две молодые свадьбы. Праздничный шум, кажется, никому не мешал, он доносился разнозвучным фоном: два квартета одновременно наяривали совершенно различную музыку, иногда только совпадал туш, исполняемый многократно. Пожилые голоса затягивали «По долинам и по взгорьям». Молодые глушили их Высоцким. В другом зале пожилые пытались пробить «Любимый город», но молодежь обрушила на них Окуджаву. И в этом не было никакого единоборства — сейчас все здесь жили как хотели, им казалось, что они не мешают друг другу.
Рослый, седой старик, поджарый, костистый Егор Иванович Самойлов, сидел во главе банкетного стола со своей женой Елизаветой Алексеевной, аккуратной, округлой, румяной от счастья.
Справа и слева от них — два сына, Борис и Анатолий. Они погодки, обоим — под пятьдесят. Борис изрядно потрачен жизнью, он лыс, в очках, и хотя так же высок, как отец, однако сутулится даже сидя. Анатолий — в мать, но располнел он, пожалуй, рановато; осанистый, вальяжный и уже немало выпивший, он в отличном расположении духа. Оглядев стол и увидев, что закуска на блюдах подразрушена, он поманил кивком стоявшего вблизи официанта, который давно понял, что именно Анатолий хозяин этого пиршества, и велел ему подавать вскорости горячее. Затем, постучав вилкой по бокалу, поднялся и весело-раскатистым голосом произнес:
— Попрошу наполнить фужеры! — Выждал, покуда его распоряжение было исполнено, и продолжил: — Беспорядочные высказывания аннулируются! От имени и по поручению назначаю себя тамадой! Слово для приветствия предоставляется моему старшему брату Борису Егоровичу Самойлову. Регламент — неограниченный… Давай, Борька, народ ждет! Обрисуй в цветах и в красках наших любимых стариков. И пусть молодежь поучится!..
Встал Борис.
— Дорогие мама и папа! Спасибо вам за то, что вы есть. За то, что вы такие. За то, что вы были и будете всегда!
Он чокнулся с отцом, наклонившись, поцеловал мать, отпил из бокала и сел.
С противоположного конца стола — там расположилась молодежь — крикнула внучка Галя:
— Дед, горько! Бабуля, ну, пожалуйста!
Ее поддержали молодые голоса:
— Егор Иваныч! Елизавета Алексеевна! Горько!
Старик Самойлов поцеловал жену, сперва руку, затем — в щеку.
Тамада Анатолий постучал вилкой по бокалу:
— Попрошу снова наполнить фужеры!.. От имени и по поручению приношу извинения за бессодержательность тоста моего старшего брата…
Галя наклонилась к Мите:
— Надрался мой папахен!.. А твой-то как раз сказал хорошо.
Тем временем Анатолий продолжил, обращаясь к столу:
— Слово для поздравления предоставляется моей жене Ирине Владимировне. Приготовиться моей дочери Гале.
Галя быстро, досадливо посмотрела на отца и шепнула Мите:
— Пойдем покурим.
— Неудобно, — шепнул в ответ Митя. Он старше своей двоюродной сестры годов на семь, ему лет двадцать пять.
А за столом поднялась Ирина Владимировна — красивая, еще молодая женщина, элегантно одетая. Голос ее звучит проникновенно:
— Милая Елизавета Алексеевна! Дорогой Егор Иванович! Пятьдесят лет вы дружно прожили вместе. Пятьдесят лет взаимной любви и уважения. Я вошла в вашу семью девушкой и всегда восхищалась вашей мудростью, дорогой свекор, и вашим безмерно добрым сердцем дорогая свекровь! Нет, это не те слова!.. Оба вы стали и моими родителями! Всем лучшим, что есть во мне, я обязана вам. И это лучшее, это прекрасное мы с Анатолием, как в эстафете, стараемся передать нашей Гале…
Когда Ирина Владимировна поднялась и начала говорить, Галя опустила голову, нашарила в кармане своего платья пачку сигарет и, толкнув плечом подругу, сидящую рядом, шепнула:
— Пошли, Танька, покурим…
— Тебе же сейчас тост говорить, — шепнула Таня.
— Перемучаются.
Незаметно нырнув под стол, Галя выползла из зала, благо дверь оказалась рядом, да и все внимание гостей обращено в противоположную сторону. Быть может, только дед Самойлов, сидящий во главе стола, углядел маневр внучки, но прикрыл ладонью лицо, и не совсем понятно, как он к этому отнесся — не то нахмурился, не то улыбнулся.
Галя закурила на лестничной площадке ресторана, — здесь топчутся гости и из других залов, — она стоит в стороне, опершись о перила.
Слышны аплодисменты, они доносятся с банкета Самойловых. И на площадке появилась подруга Таня — симпатичная толстуха, почему-то всегда взволнованная. Она тоже задымила.
— Анатолий Егорович предоставил тебе слово, а тебя нет! — укоризненно сообщила она.
— Обошлись?
— Он сам стал говорить.
— Ну, это надолго… Папахен, когда выпьет, не владеет сюжетом. Вообще, Танька, дети должны как можно раньше уходить от родителей. Стукнуло восемнадцать лет — и с приветом!
— А я бы ни за что не ушла из дома.
— Ну, у тебя — так, а у других — иначе. Должна быть свобода выбора. Я вообще за свободу личности…
Из-за спины раздался голос:
— Свободная личность, дай, пожалуйста прикурить.
Галя обернулась — это ее двоюродный брат Митя. Она чиркнула зажигалкой.
— Удираешь?
— Точнее, ухожу. У меня дежурство на телеграфе.
— В такой день мог бы и подмениться.
— Не смог. Я предупредил бабушку и деда…
— Ладно, ладно. Топай, маменькин сынок, гляди, чтоб она тебя не нашлепала по попке…
Застенчиво улыбнувшись, Митя кивнул девушкам и быстро исчез. Галя посмотрела ему вслед.
— Хороший, умный парень, а дурак. — Обернулась к Тане. — Знаешь, почему он удрал? Не желает лишний раз разговаривать со своим отцом, с дядей Борей… Мне бы такого отца, как дядька! Ладно, Танюха, пошли в зал. Я хочу расцеловать деда с бабкой отдельно от всех…
Часа через два Анатолий отвез стариков домой. Вел машину он, рядом с ним сидела мать. На коленях у Елизаветы Алексеевны лежал ворох цветов. Позади Егор Иванович был тоже обложен букетами и подарочными пакетами.
Они ехали по вечернему городу.
— Ну как, мама, довольна? — улыбаясь, спросил Анатолий.
— Очень… Спасибо, Толя. Всем вам спасибо, вы у меня хорошие.
Анатолий обернулся к отцу:
— А ты почему молчишь? Опять что-нибудь не слава богу?
— Не вертись, — велит Егор Иванович. — Во-первых, ты за рулем…
— А во-вторых?
— И выпил порядочно.
— Хитрый, батька! — смеется Анатолий. — Не отвечаешь на поставленный вопрос… И как ты, мама, прожила целых пятьдесят лет с таким занудливым мужиком!
— Любила! — улыбнулась Елизавета Алексеевна. — Он, Толенька, такой кавалер был…
— Кавалеры теперь бывают только в балете. — Анатолия распирала словоохотливость. — Маменька у нас карась-идеалист. Я бы тебя, мать, зачислил ко мне в институт, — может, тебе удалось бы впрыснуть в наших студентов известную долю идеализма. А то они у нас чересчур практичны, им подавай на тарелочке все готовенькое…
Движение на улице становится интенсивнее. Анатолий продолжает говорить, вертя одной рукой баранку. Свисток.
— Толя, милиционер! — всполошилась мать.
— Нормально! Моя милиция меня бережет.
Он направил машину к тротуару и остановился. Приблизившись, лейтенант козырнул:
— Инспектор ГАИ Овсянников. Прошу права. Техталон.
Он вынул из кармана кителя компостер.
— Минутку, товарищ инспектор, — Анатолий вышел из машины.
Родителям видны лишь две спины: сына и инспектора.
— Егор, — просит старуха. — Ты бы вышел, тоже объяснил…
— А чего объяснять-то?
— Ну, что едем с золотой свадьбы. Сын нас везет… Егор, выйди…
— Отбодается. Нашего Толю в ступке не поймаешь.
Анатолий сел в машину, спрятал документы. Тронулись, поехали.
— Проколол талон? — спросил отец.
— Куда колоть-то? — рассмеялся сын. — Там и так решето: три дырки.
— Неужели права отобрал? — ахнула мать. — От тебя же вином пахнет!..
— Нисколечко, — Анатолий вынул из кармана пиджака орешек. — Видала? Мускатный орех. Погрызешь — и запах отбивает.
Он подмигивает в лобовом зеркале отцу.
…Старики Самойловы живут в коммунальной квартире. Два окошка их комнаты глядят на тихую коротенькую улицу. С тротуара, поднявшись на цыпочки, можно постучать по стеклу. Занавески на окнах тюлевые, прозрачные, — из комнаты всегда видно, кто стучит; свои редко пользуются дверным звонком, разве что вечером, когда на улице темно.
На другой день после «Метрополя» пришел к ним Борис. Елизавета Алексеевна тотчас принялась кормить его, ей всегда казалось, что сыновья голодные, они и вправду ели в доме матери с каким-то детским аппетитом.
Но сегодня Борис поклевывал еду мрачно, устало. Егору Ивановичу это сейчас невдомек, он увлечен стариковским занятием: сортирует лекарственные пузырьки и пакетики таблеток в новом аптечном ящичке. Полюбовавшись своей работой, он обернулся к сыну:
— Здорово я его приладил! Пришлось пробки заколачивать в стенку… Молодец Митька — прекрасную подарил аптечку!
Борис отставил недоеденную тарелку, закурил.
— Спасибо, мама.
Уже по тому, с каким тоскливым лицом он вошел в комнату, как невнимательно, нехотя ел, Елизавета Алексеевна поняла, что душа сына чем-то омрачена. Она даже угадывала причину. И ей захотелось успокоить его.
— А я вчера порадовалась на тебя с Митей. Он сам подошел к тебе, поговорил…
— Глубочайшая беседа состоялась! — В голосе Бориса застарелая горечь. — «Здравствуй, папа. — Здравствуй, Митя. Ну, как живешь, как здоровье? — Спасибо, ничего. А ты как? — Я тоже ничего. Спасибо…» Весьма содержательно!
— Не сердись на него, Боря.
— Да я не сержусь. Старик обернулся:
— Скажи пожалуйста, какой благородный! Не сердится!.. Хотел бы я поглядеть на тебя, как бы ты беседовал со мной, если бы я улепетнул от твоей матери, когда ты был младенцем!
— Егор! — останавливает мужа Елизавета Алексеевна.
— А ты меня не регулируй. Уже сто раз говорено было!..
— Но я же им квартиру оставил, — сказал Борис. — Мне жить негде было, я уехал…
— Митька тебя до десяти своих лет в глаза не видел. Нам, старым дуракам, кажется, что для ребенка десять лет — пустяки. А это — целая жизнь…
Старику, видно, давно надоело толочь эту тему, он снова принимается за аптечку. Однако Елизавета Алексеевна чувствует, с какой упрямой обидой Борис относится к отчужденности своего Мити.
— Я думал, он вырастет, поймет… Неужели, мама, ты не можешь объяснить ему, что это глупо?
— Не могу, Боренька.
— Но почему?
— Ему это больно.
— А мне?.. Столько лет простить меня не может!
— Он простил. Давно простил. Да ведь Катя ему мать, на ноги его поставила, растила…
— А я не виноват, что она у меня денег не брала. Сколько раз отправлял по почте, а она возвращала… И вина моя в чем? Разлюбил. В пустоту ушел, ни к кому. Из честности — чтоб не обманывать. Не притворяться. Не оскорблять равнодушием… Странно — когда человек любит, у него не спрашивают: а почему, за какие-такие качества ты в нее влюбился? Но вот если разлюбишь, непременно пытают: за что? чем нехороша? Попробуй, объясни, да еще собственному сыну! И теперь он не желает видеться…
— Он хочет, Боренька.
— Откуда это тебе известно?
— Вижу… А за свадьбу нашу спасибо. Там нам было хорошо: все вместе, все опять мои…
— А чего ты их всех по очереди благодаришь? — ворчит старик. — Пятьдесят лет я́ с тобой прожил, мне надо говорить спасибо.
Борис поднялся, опираясь на палку.
— Тебе-то как раз повезло, папа.
Он вынул из кармана деньги, положил их на стол.
— Не надо, Боря, — просит мать. — У нас еще есть. А вы все и так потратились на эту свадьбу…
— Ладно, мамочка, не будем… — он целует мать. — Звоните, если что.
Мать высыпает из вазочки на стол коржики, заворачивает в пакет и кладет в портфель сына.
— Как у тебя с директором, уладилось? — спросил отец.
— Уладилось. Будь здоров, папа.
— Но чем все-таки кончилось?
— Ой, сейчас скучно рассказывать. Как-нибудь потом.
Мать пошла провожать его в прихожую. На прощанье сказала ему с порога:
— Ты, Боренька, не тереби Митю. Это пройдет у него, увидишь — пройдет.
Борис безнадежно махнул рукой и ушел.
Уж так сложились отношения в семье Анатолия Егоровича Самойлова, что, несмотря на внешнее благополучие — просторная, хорошо обставленная квартира, полный достаток, — здесь в любую минуту, иногда, казалось бы, из-за совершеннейших пустяков возникала «напряженка» — это словцо ввела в дом дочь Галя.
Самым беспокойным временем суток было для Гали утро: почему-то так получалось, что утром она вечно торопилась, опаздывая на занятия в университет, а именно утром у ее матери возникала настойчивая необходимость побеседовать. И эти беседы Галя раздраженно окрестила «воспитательскими десятиминутками».
Вот и сейчас, когда она заканчивала торопливые записи в тетради и одновременно пихала в портфель книги, в дверях ее комнаты возникла Ирина Владимировна.
— Ты когда сегодня вернешься?
— Не знаю.
— Умоляю тебя, Галюша, поешь между лекциями. Я сделала тебе бутербродики с колбаской и с крутым яичком…
Некоторое время длилась пауза, а затем Ирина Владимировна произносит крайне деликатным тоном:
— Ты меня извини, доченька, я знаю, что ты не любишь, когда вмешиваются в твои дела…
— Терпеть не могу!
— …но мне кажется, что Елизавета Алексеевна и Егор Иванович вчера на свадьбе чуточку обиделись на тебя. Ты должна была, как внучка, произнести…
— Я никому ничего не должна. Не мешай мне, пожалуйста, я и так опаздываю.
— Бабушка была такая красивая! И Егор Иваныч выглядел прекрасно. Душа радовалась, глядя на них!
— И давно?
— Что давно?
— Давно она у тебя радуется?
Ирина Владимировна ответила, сдерживая обиду:
— Но ты ведь сама слышала, какой тост я произнесла?
— Слышала. Юбилейные тосты — всегда вранье! Лицемерие!
— Боже, до чего ты груба!
— «Какая есть — желаю вам другую…» Это цитата, мама: стихи Ахматовой.
Галя уже уложила книги в портфель и, выйдя в гостиную, взяла приготовленный ей завтрак. Запихнула и его в портфель.
Ирина Владимировна снова возникла рядом.
— Значит, по-твоему, твоя мать — лицемерка?
— Не задуривай мне башку перед занятиями…
— Я восторгаюсь дедушкой и бабушкой, я от всей своей усталой души поздравляю их с дивно прожитой, дружной жизнью, и, наконец, тебе отлично известно, как я стараюсь заботиться о них!..
— Стараешься, стараешься, очень сейчас стараешься. — Галя надела плащ. — А когда я была еще девчонкой и бабка звонила нам по телефону, ты велела отвечать, что тебя нет дома… Приветик, мамахен, я побежала…
— Это ложь! — кричит ей вслед Ирина Владимировна. — Тебе доставляет наслаждение унижать, оскорблять меня…
Плача, входит в гостиную, набирает номер телефона.
— Анатолия Егоровича… Толя, я больше не могу, Галя стала невыносима…
Голос Анатолия в трубке:
— У меня совещание.
Треск, трубка повешена. Ирина Владимировна рыдает.
После ссоры с матерью Галя испытывала и некоторое раскаяние и, как ни странно, жестокое удовлетворение от того, что удалось сказать ей в глаза правду. Конечно, совестно доводить ее до слез, но какого черта я должна терпеть эти вечные нотации, да еще фальшивые, и вообще, пусть не вмешивается в мои отношения с дедом и бабкой, пусть вообще не суется в мои дела… Вот так или примерно так думала Галя в переполненном троллейбусе по дороге в университет.
А у ворот университета, вглядываясь в нескончаемую быструю толпу студентов, топтался сейчас парень лет шестнадцати, пригожий, не по годам рослый, но еще нескладный; нескладность его объяснялась, возможно, и тем, что ему очень хотелось выглядеть в этой толпе независимым, вроде он ничем не отличается от всех этих торопливых парней-студентов. Однако желанной независимости мешало, что Валера торчит здесь, как штырь, а голова его вертится то вправо, то влево, явно выискивая, высматривая кого-то.
— Валерка, здорово! — сзади хлопнул его по плечу студент.
— Здравствуй, — обернулся Валера.
— Ты чего пропал? Подевался куда-то, не заходишь к нам в общагу…
— Я заходил.
— Когда? — Студент торопится, не слишком вслушиваясь в ответы.
— Раза три заходил…
— Ну и молодец. Ну и правильно… А как, вообще-то, жизнь молодая?
— Нормально.
— Молоток, Валерка! — Студент снова хлопнул его по плечу. — Извини, побежал, лаборатория у меня…
И исчез. Еще один студент узнал, увидел на бегу Валерку:
— Салют, старик! Рад видеть… Вспоминали тебя на днях…
— Кто?
— Да всем стройотрядом. На будущий год поедешь с нами?
— Дожить надо.
Студент засмеялся.
— Здоровущий мужик — коло́м не убьешь!.. Главное, не тушуйся, заходи. Слушай, а тебе деньжат не надо? Я вчера стипендию получил, могу пятерку ссудить…
— А я сам могу тебе десятку отстегнуть, — и Валера полез в свой карман.
— Ну и дурень, обиделся, — студент сунул руку на прощанье. — А ты кого ждешь? — Это он уже крикнул издали. — Галку? — И подмигнул.
Все более хмурея, Валера неприкаянно топтался у ворот. Пожалуй, ему уже не пристало больше торчать здесь, но внезапно лицо его осветилось робкой радостью.
— Галя!
Он увидел ее в гурьбе спешащих к воротам студентов. И она подбежала к нему, улыбающаяся, веселая. Рядом поспевала за ней подруга, толстуха Таня, и еще кто-то из сокурсников, но Галя помахала им рукой:
— Идите, ребята, я вас догоню…
Отойдя чуть в сторону и не выпуская его руки:
— Ох я и виновата перед тобой, Валера! Но ты и сам хорош гусь, мог бы хоть позвонить.
— Я звонил.
— Ну, не застал, мог бы еще раз.
— Да я и еще раз…
— Валерочка, милый, замоталась — сбрендить можно! Каждый день думаю: надо повидаться, надо повидаться… А ты почему, между прочим, не на работе?
— В вечернюю смену я.
— Не врешь? — улыбнулась Галя.
— Вру.
— Смотри, я ребятам нашим пожалуюсь!
— А им до фонаря.
— И не совестно? — мельком взглянула на часы. — Слушай, Валерочка, ты в пятницу вечером непременно приходи ко мне.
— Я лучше позвоню.
— Ну, позвони… — Она уже очень торопится. — Мамы моей боишься? Она — ничего, ворчит, как все предки, но я ее в строгости держу, не распускаю… Побежала, Валера, спасибо, что пришел…
А он еще постоял у пустых ворот. Студенты схлынули.
У себя в институте Анатолий Егорович задерживался допоздна. В особенности — перед началом нового учебного года. Забот у него хватало по загривок. Лет двадцать пять назад он сам закончил этот институт, здесь остался в аспирантуре, здесь защитился и вот уже десятый год ректорствует.
Нынче он задержался у себя в кабинете по причинам особенно огорчительным, а поделиться своими огорчениями он мог лишь с Сергеем Никитовичем Карягиным, проректором по учебной части, человеком, которого он ценил и с мнением его считался. Карягину было под шестьдесят, но седина еще не тронула его густую шевелюру, а всегда внимательные глаза светились терпеливым сочувствием. Он сидел сейчас в кресле против стола ректора, но Анатолий Егорович нервно шагал по диагонали своего кабинета и садиться за стол, видимо, не собирался.
— Сколько же мы недобрали в этом году?
Заглянув в папку, разложенную на коленях, Карягин ответил:
— Сорок два абитуриента, Анатолий Егорович. Конкурса практически у нас не было: семь десятых человека на одно место.
— И девиц, как всегда, больше, чем парней?
— Примерно пополам.
— Это сейчас примерно пополам. А с зимы начнут выходить замуж, беременеть, отчисляться, брать академические отпуска…
Карягин вынул из папки листок бумаги.
— Я тут сочинил текст для газетного сообщения. «Объявляется дополнительный прием… Иногородние обеспечиваются общежитием… Выпускаем инженеров широкого радио- и телевизионно-телетайпного профиля…»
В дверь заглянул комендант общежития:
— Разрешите, Анатолий Егорович?
— Давайте, только быстренько.
— Доски для полов, сороковку, завезли, Анатолий Егорович. Сыроваты, но сойдут. А вот трубы водопроводные…
— Да я уж писал, звонил, умолял!..
— Вы извините, хотел вам подсказать, Анатолий Егорович. У меня в общежитии в семнадцатой комнате проживает студент Карасев. Челябинский сам. У вас на втором курсе. И хвост у него несданный по математике. А папаша его как раз работает в ихнем Челябинске в тресте «Водоканал». Он там хоть и не самый главный, но около того. Для ихнего треста отгрузить двести метров дюймовых труб, это все равно, что нам с вами сморкнуться…
— До Челябинска тыща километров, — досадливо перебил Самойлов. — И трест «Водоканал» не имеет к нашему институту никакого отношения.
— Трест не имеет, а папаша Карасева имеет. У него сердце болит за сына. Он переживает. Намек ему только дать, брякнуть по междугородной. Или сынишку самолетом наладить — расход невелик, а трубы в кармане…
— Сколько раз я вам говорил, — устало произнес Самойлов, — чтобы вы не впутывали меня в ваши махинации.
— Протечки у нас, Анатолий Егорович. Штукатурка на потолках обваливается… — Комендант тяжело вздохнул и исчез.
Самойлов прошелся по кабинету, сел за свой стол.
— Сорок два человека недобрали! Стыдоба! — Он потер виски, как от головной боли. — Лет десять назад, Сергей Никитич, молодежь ломилась в технические вузы. Самая была престижная специальность — инженер! А нынче и слово такое перевелось: технарями обзывают. Мы с вами родных дочерей не смогли укла́нять в наш институт — в психологи пошли, в университет… Да и дворник получает больше, чем инженер…
— Дело не в зарплате, Анатолий Егорович. Молодые люди стремятся понять, как устроен человек. По каким законам он живет. Техника на эти вопросы не отвечает. Один умный ученый сказал, что грядущий двадцать первый век будет либо гуманитарным, либо его не будет вовсе.
— Идеализируете вы нынешнюю молодежь. Ничего они не стремятся понять. Прагматики они — где бы побольше огрести, вот что они вычисляют…
Зазвонил телефон. Самойлов взял трубку:
— Да… Ирина, я сейчас занят… А она и мне дерзит так же, как тебе. Ладно, попытаюсь… — Повесил трубку, некоторое время помолчал, а затем внезапно спросил: — Сергей Никитич, у меня к вам личный вопрос. — Тон Анатолия становится чуть затрудненным: — Вы умеете разговаривать со своей дочерью Таней?
— То есть?
— Ну, в общем, вы с ней понимаете друг друга?
— Я как-то над этим не задумывался.
— Поскольку не задумывались, следовательно, понимаете. А у меня с Галей нарушена обратная связь. О жене и говорить не приходится: Галка хамит ей с пол-оборота… Меня вроде слушает, но не слышит.
— А вы ее?
— К сожалению, слышу. И мне иногда трудно поверить, что это моя родная дочь. Рос ребенок в моем доме, бегала по комнатам прелестная девочка, взбиралась ко мне на колени… И уловить то мгновение, когда вдруг все пошло в разнос, кувырком, я не могу даже задним числом. Просто внезапно оказалось… внезапно оказалось, что она меня совершенно не уважает.
— А вы ее? — снова спросил Карягин.
— Я знал, что вы это спросите! — с раздражением ответил Анатолий. — И отвечу: к сожалению, у меня нет оснований для подобного уважения. Для отцовской любви, муки — есть! Она моя родная дочь, кровь моя. Такую любовь не надо заслуживать — она запрограммирована в генах. Даже у зверей. А уважение — заслуживают. Или хотя бы стараются заслужить. — Он прошелся по кабинету. — Мы с ней не можем докричаться друг до друга, как в лесу… Ладно, замнем… Объявление в газету вы дайте. И позондируйте у вечерников: может, кто-то из них хочет перейти на дневное…
После ухода Карягина можно было ехать домой, но Анатолий Егорович медлил — не хотелось ему домой. Он провозился еще добрый час в институте, выдумывая себе якобы необходимые занятия: обошел две заново отремонтированные аудитории, хотя уже осматривал их после ремонта, заглянул в деканат и, встретив в коридоре своего шофера, сказал ему, что машину можно ставить в гараж, она ему сейчас не потребуется.
Домой он пошел пешком. Хотелось ему обрести покой, врачи рекомендуют пешую ходьбу, и действительно, иногда удавалось успокаивать себя мерным шагом, но сейчас ничего не получалось — копилось усталое раздражение. Он знал, что дома предстоит разговор с Галей, понимал, что в таком состоянии лучше бы отложить это до другого раза, и, твердо решив, что отложит, вошел в квартиру.
В прихожей, еще не снимая плаща, Анатолий Егорович оценил привычную расстановку сил: дверь в комнату Гали была плотно закрыта, стол в гостиной не накрыт для ужина, Ирина не появилась из спальни, хотя должна была отлично слышать, что он пришел домой. Ясно — желанного покоя не будет.
Так и не скинув плаща, Анатолий Егорович постучал в дверь Гали, ответа не последовало, он дернул, открыл ее и вошел в комнату. Галя лежала на диване лицом к стене. Не обернулась, читала.
Стараясь соблюсти ровность тона, он сказал негромко:
— Пожалуйста, не думай, что мне доставляет удовольствие разговаривать с тобой. И изволь сесть, а не лежать ко мне спиной.
— Села. Устраивает?
— Что ты собираешься делать дальше? Могу я задать тебе этот простой вопрос?
— Задавай сто раз.
— Тем более потрудись ответить, как ты собираешься жить дальше?
— Как все… Надоело.
— Что именно?
— Надоели приставанья мамины и твои.
— По-твоему, мы не имеем права интересоваться судьбой своей единственной дочери?
— Интересуйтесь на здоровье. Только оставьте меня в покое.
— Не дерзи мне!
— Сам вынуждаешь. Мне самой противно по-хамски разговаривать с тобой. У меня только одна просьба — оставьте меня в покое.
— Но ты ведешь себя в нашей семье не как дочь, а как угловой жилец.
— Угловой? Эта комната — моя.
— Допустим… Мама сказала мне, что ты собираешься бросить университет. Это правда?
— Возможно.
— А как же ты собираешься жить?
— Как все.
— Кто это, интересно, все? На мой взгляд, все работают.
— Ты имеешь в виду зарплату? Не волнуйся, устроюсь. И во всяком случае буду получать больше, чем твои инженеры.
— Перестань курить, я просил тебя не курить, хотя бы при мне… Куда ты собираешься идти работать?
— Еще не решила.
— Но ведь ты ничего не умеешь делать, у тебя нет специальности… Бутылки принимать, что ли?
— А у нас всякий труд почетен, папа, если относиться к нему творчески: сама слышала по ящику в программе «Время».
— Ирония?
— Ну, почему? Твоя точка зрения.
— Ты долго будешь разговаривать со мной в таком тоне?
— Мне надоело! Понимаешь — осточертело слышать про бутылки, про курево, про мое образование… Я знаю наперед все, что вы с мамой можете мне сказать.
— Нет, всего ты не знаешь. Все я не рискую тебе сказать.
— А ты рискни. Не бойся.
— Иногда мне кажется, что ты попросту неумна.
— Благодарю за комплимент.
— И ответ неумный, трамвайный. Я не могу понять, как в моем доме вырос такой человек. У тебя на глазах, с самого раннего детства, трудится мать, тружусь я…
— Поехало! Первый виток. Давай дальше. Могу подкинуть тебе текст: мы росли в тяжких условиях, у нас в юности не было того, что есть у тебя…
— Дура!
— Молоток папа! Наконец-то заговорил на общепринятом языке. В нашей компании не стесняются: дура, дурак — мы это запросто… А вот ты не имеешь права. Не смеешь! Не смеешь пользоваться моей зависимостью от тебя!..
— Ты сама довела меня… Тебе нравится, когда я опускаюсь до вашего уровня.
— Ну, конечно: наше поколение, ваше поколение. Наслушались! Не дурее мы вас. А уж почище — наверняка: не замараны, в чем вы измарались. И вообще, почему я должна жить по-вашему? Может, у меня совсем другие запросы.
— Какие у тебя запросы? — устало и тихо спросил отец.
— Мало ли… Во-первых, я хочу жить одна.
— У тебя и есть отдельная комната.
— Это только называется отдельная комната! Вы следите за каждым моим шагом. За каждым словом!
— Опомнись, Галя!
— Когда ко мне приходят друзья, мама считает своим долгом излагать мне свое мнение о них. Никто не спрашивает ее мнения… И эти вечные попреки — не убрала, не постирала, не заштопала, поздно явилась домой…
— У людей, живущих вместе, есть определенные правила общежития.
— Вот-вот, именно общежитие! Мама — комендант, а ты…
— Что — я?
— А ты, прости меня, ее магнитофон: мама наговаривает, а на тебе записывается, как на кассете… Ох, папа, если б ты только знал, как ты смешон! И никто, кроме меня, этого не видит. Ходишь такой представительный, волевой, в шикарном костюме, который мама тебе купила, в галстуке, который она для тебя выбрала, и даже стрижешься не в парикмахерской — она лично сама тебя подстригает…
Лицо Анатолия Егоровича приобретает такое горестное выражение, что Галя запнулась.
— Что с тобой, папа?
— Я никогда не думал, что у меня такая злая и жестокая дочь…
Он проговорил это тихо и медленно. И пошел к дверям.
— Папа, погоди…
Галя кинулась вслед.
А у стариков Самойловых жизнь шла своим размеренным чередом. С домашними делами они справлялись несуетливо, заблаговременно, и круг своих обязанностей они распределяли между собой без всякой договоренности, по силе возможностей каждого. А если и возникали между ними споры, то лишь потому, что либо Егор Иванович тайком пытался сделать какую-то домашнюю работенку вместо Елизаветы Алексеевны, либо она незаметно старалась подменить его. Споры случались бурные, Егор Иванович легко и пламенно вскипал, но так же быстро отходил, маясь от собственной вспыльчивости. Елизавета Алексеевна жалела его, и кротостью своей удавалось ей зачастую настоять на своем.
Нынешняя осень пришла рано, зарядили нудные дожди, в комнате стало зябко, и Егор Иванович занялся окнами: щели в старых рамах конопатил ватой и нарезал узкие полосы бумаги. А Елизавета Алексеевна хлопотала в кухне подле плиты: открыв духовку, выдвинула противень с пирожками, они еще не допеклись, и снова задвинула их на место.
Хлопнула входная дверь в квартире. Елизавета Алексеевна живо выглянула в прихожую: вернулась с работы соседка по квартире — в одной руке портфель, в другой авоська с продуктами. Раздеваясь в прихожей и проходя к себе в комнату мимо кухни, соседка аппетитно внюхалась.
— С капустой?
— С капустой, — кивнула Елизавета Алексеевна.
— Значит, Анатолия Егоровича ожидаете… Я по запаху различаю, кто к вам придет: коржики — Борис Анатольевич, салат с огурцами — Галя… А моему, кроме полбанки, ничего не надо…
Ушла к себе в комнату. На пороге кухни возник Егор Иванович, остановился, сосредоточенно наморщил лоб.
— Ты чего? — спросила Елизавета Алексеевна.
— Забыл, зачем пришел.
— А ты начни с начала, с того места, откуда пошел.
Он повернулся к окнам в комнате, постоял и снова разложил на подоконнике полоски бумаги.
С противнем горячих пирожков вошла Елизавета Алексеевна.
— Ну, вспомнил?
Муж горестно помотал головой.
— Память, Лизавета, никуда! Всякую давнюю чепуху распрекрасно помню, а за каким чертом сейчас шел на кухню — забыл… Иногда слушаешь по телевизору какого-нибудь старика, шамкает, что обрел вторую молодость, — врет ведь, сукин сын! Старость, Лизавета, — это гадость. Осенью заклеиваю окна и всегда думаю: а кто будет их расклеивать? Я ли?..
Елизавета Алексеевна озабочена чем-то иным. Накрывая на стол на три прибора, она слушает мужа вполуха.
— Не понравился мне, Егор, голос Ирины по телефону. Вроде плакала она. Не случилось ли у них чего?
— Голос не понравился? А она мне вся не нравится. На месте Анатолия я бы ее давно сменил.
— Глупости говоришь! — возмутилась Елизавета Алексеевна.
— Менять-то, конечно, поздновато. Раньше надо было смотреть… — Внезапно, радостно: — Вспомнил! Ты куда клей спрятала?
— Господи! Сам вчера под ванну банку поставил…
Он быстро шагнул в ванную. А в это время звонок в дверь.
— Толя! — И счастливая старуха бросилась в прихожую к дверям.
Она открыла дверь — вошел шофер.
— Здравствуйте, Елизавета Алексеевна. В комнату не пойду — весь грязный, с машиной возился… Анатолий Егорович велели вам передать.
Протянул старухе конверт.
— Тут две четвертных, — пояснил шофер. — И привет тоже просили передать.
Из ванной, с банкой клея в руке, появился в прихожей старик Самойлов.
Потоптавшись, шофер спросил:
— Как здоровье ваше обоюдное? Может, в аптеку надо, — я съезжу…
— Спасибо, Василий Степанович. Мы оба еще ходячие, — ответила старуха.
— Ну, тогда я покатил. До свиданьица, Елизавета Алексеевна. Счастливо оставаться, Егор Иваныч.
Ушел. Елизавета Алексеевна молча протянула мужу конверт с деньгами. Не взяв их, он сказал:
— Вот видишь, а ты беспокоилась. Дети у нас, Лизавета, первоклассные, модельные, штучные…
Оба они вошли в свою комнату.
— Ну и что здесь ненормального, Егор? У Толи дела в институте: начало занятий, ремонт общежития, не успел, прислал Василия Степановича, сегодня двадцатое…
— Правильно, все правильно, Лизавета. Можно было б и по почте, и телеграфно…
Он подошел к подоконнику с полосками бумаги, а Елизавета Алексеевна убрала со стола один прибор.
После того утра, когда Валера маячил у ворот университета, дожидаясь Галю, после торопливого, на ходу, разговора с ней он затосковал еще сильнее. Все ему тогда не понравилось: и эти парни-студенты, виновато-снисходительно приглашавшие его к себе в общагу, — на фиг он им нужен, и жалость ихняя на фиг ему нужна, — да и сама Галя… Впрочем, его неотвязные мысли о Гале распрыгивались в разные стороны: то ему хотелось сию минуту мчаться к ней и, глядя на нее, цепенеть от восторга, то он готов был бежать куда попало, лишь бы не видеть ее никогда. И хотя она сказала ему у ворот университета, чтобы он звонил ей, приходил к ней, Валера долго терпел, не подавая о себе никакой вести. Терпел он мученически, позволяя себе лишь изредка набирать в телефонной будке неподалеку от ее дома знакомый до дрожи номер и, когда трубку брала Галя, замирать не дыша.
Сюда, к ее дому он приходил, когда становилось совсем невмоготу. Все корпуса новых многоэтажных зданий были здесь одинаковы, но только не для Валеры. Ее дом, ее подъезд и в особенности одно большое окно ее комнаты были мечены его страданием, его унизительной робостью.
И вот в один из поздних осенних вечеров он наконец решился. Решение пришло не сразу, Валера долго бродил вдоль этого дома по противоположной стороне широкой, пустынной в этот час улицы; здесь в ряд стояли несколько телефонных будок, каждая зазывала его к себе в нутро, но он крепился до той минуты, покуда не увидел, как вспыхнул яркий свет в желанном окне. Тут уж Валера не выдержал и, не давая себе опомниться, шагнул в ближайшую будку. Быстро набрал номер и осевшим от волнения голосом произнес:
— Галю мне.
— А кто ее спрашивает?
Это был голос Ирины Владимировны, Валера узнал ее и продолжал молча держать трубку вспотевшей ладонью.
— Кто спрашивает Галю? — Тон ее чуть построжел. — Это, вероятно, вы, Валерий?
Он сдавленно ответил:
— Я.
— Прежде всего, следует поздороваться, Валерий.
— Здравствуйте.
— Надеюсь, вы помните, как меня зовут?
— Ирина Владимировна.
— Правильно, Ирина Владимировна. Значит, и надо произносить: здравствуйте, Ирина Владимировна.
Он покорно повторил:
— Здравствуйте, Ирина Владимировна… Мне Галю.
— Гали нет дома. И вообще, она сейчас очень занята. Очень. Я думаю, Валерий, что вам следует, хотя бы временно, воздержаться от звонков. Это мой вам дружеский совет.
И в трубке так сильно щелкнуло, словно ему врезали по уху.
— Зараза! — прошипел Валерий. Из будки он вышел не сразу, постоял тут, распахнув ногой дверь и дыша часто, как после длинного бега.
А Ирина Владимировна положила трубку, сидя в гостиной подле телефона. И именно в этот момент из ванной вышла Галя. Она заглянула в гостиную.
— Кто звонил, мама?
— Не знаю.
— Валера?
— У него очаровательная манера не представляться, поэтому не знаю. Возможно, и он.
— Не выламывайся, пожалуйста. Прекрасно знаешь, кто звонил.
— А я вообще не понимаю, что́ у тебя может быть с ним общего?!
— Перестань. Прекрати. Надоело.
— Два месяца случайного знакомства в стройотряде. У мальчишки девять классов образования, работает каким-то слесарем… Хорошо, хорошо, мне, как и тебе, совершенно безразлично социальное происхождение, мы обе с тобой воспитаны советской властью. Но ведь духовный уровень нам не безразличен? Когда Валерий был у тебя, я пыталась говорить с ним, — это кошмар: он же двух слов связать не умеет!..
В раздражении Галя уже давно заткнула руками уши и, пройдя к себе в комнату, разложила на столе учебники.
— Ты права, ты всегда права, во всем права… — Она яростно захлопнула дверь в свою комнату.
…Валера был не в силах уйти с этой улицы. Если Гали нет дома, то он должен дождаться ее здесь, она ведь сама сказала, чтобы он звонил и приходил. Ему казалось, что, как только она покажется сейчас из-за угла, как только она своим появлением затмит всю улицу, он бросится к ней и тотчас найдутся в горле такие слова, которых она никогда не слыхала от своих студентов и не читала ни в одной книжке. Он всегда вел себя с ней, как последний сопливый пацан, а он взрослый мужик и хлебнул в жизни такого, что никому им не снилось.
Он ходил от угла до угла огромного корпуса, поминутно оглядываясь, чтобы не пропустить появление Гали. Он курил одну сигарету за другой, глуша в себе накипавшую муть: надежда и отчаяние взбалтывались в его истерзанной душе, — никто не умеет мучиться так, как влюбленные подростки. Валера понимал, что ходить здесь уже бессмысленно, но ничего не мог поделать с собой, последняя сигарета выкурена, пустая пачка отброшена. Он еще раз — в сотый раз! — взглянул на окно Гали и внезапно отчетливо увидел ее: она задергивала штору, даже не посмотрев на улицу. Значит, все это время была дома. Значит, слышала, как мать унижала его по телефону, фрайернулся ты, Валерка, — он чуть не заплакал от обиды и злости.
Не замечая пути, он быстро шагал все дальше от этого проклятого корпуса. У случайного одинокого прохожего хрипло спросил:
— Закурить не найдется?
Прохожий мелькнул, даже не ответив.
Под фонарем возник табачный киоск, Валера заметил его на своем пути. Замедлив шаг, приблизился, и, увидев в стекле свое изображение, ненавистное ему сейчас, он сильным ударом локтя двинул по стеклу.
Сквозь отверстие — оно небольшое — Валера прихватил несколько пачек сигарет, набил ими карман своей куртки, затем увидел на внутреннем прилавке тарелочку с серебряной и медной мелочью — она была покрыта газетой. Сгреб всю мелочь и тоже ссыпал себе в карманы куртки.
И теперь повел себя несколько странно для вора. Он не удрал; облокотившись о наружный прилавок, разорвал одну из уворованных пачек сигарет и неторопливо закурил.
А затем взад и вперед принялся бродить по тротуару метрах в пятидесяти от киоска.
Издалека показалась фигура милиционера.
Увидев его, Валера двинулся ему навстречу.
Милиционер еще не заметил подростка, идущего по темной улице.
Однако, дойдя до табачного киоска и увидев поврежденную витрину, остановился. Осмотрев разбитое стекло и разбросанные пачки сигарет на внутреннем прилавке, милиционер обернулся и оглянул пустынную, темную улицу. Сперва он услышал звук приближающихся шагов, а затем из тьмы, освещенный уличным фонарем, показался Валера.
— Эй, парень! — окликнул его милиционер. — Поди-ка на минутку сюда.
Валера подошел к нему.
— Слушай, парень, ты давно тут проходил?
— Да нет, живу рядом, на Калинина, восемь…
— А чего ночью гуляешь?
— Я не гуляю. И не ночь сейчас. Через полчаса автобус пойдет, мне на завод, на работу. Могу заводской пропуск показать.
Вынул пропуск, протянул милиционеру. Они стояли под фонарем, милиционер посмотрел пропуск, посмотрел на Валеру: стройный, высокий подросток, белокурый, без шапки, в синей стеганой нейлоновой куртке. Этот же юноша изображен на фото по пояс в картонке пропуска.
— Паразит какой-то киоск раскурочил. — Милиционер возвратил пропуск. — Ты, часом, никого не видел, когда проходил поблизости?
— Видел.
Глаза Валеры смотрят прямо в глаза милиционера.
— Кого видел, можешь описать?
— Могу. Высокий такой пацан бежал мимо меня, лет шестнадцати, без шапки, волосы светлые, нестриженый, и куртка на нем синего цвета, нейлоновая. Бежит, а в карманах куртки у него бренчит — серебро, что ли… Наверное, он тут и тиснул с прилавка. Я у него спрашиваю: ты чего бежишь, малявка? А он отвечает: пошел ты на фиг!
Милиционер заново пристально оглядел Валеру. Тот стоит не двигаясь, зло и чуть насмешливо смотря на милиционера.
Милиционер шагнул к нему. Переспросил:
— Без шапки, говоришь, в куртке синего цвета?
— Ага.
— И в кармане бренчало?
— Ага. Бренчало.
Обеими руками милиционер похлопал по двум оттопыренным карманам Валеркиной куртки. Послышалось отчетливое бренчание денежной мелочи…
О том, что случилось с Валерой, Галя узнала на третий день: Танька Карягина позвонила ей по телефону, как назло слышимость была скверная, да и Танька лопотала быстро, волнуясь. Сперва Галя ничего не могла толком понять, а когда поняла, вскочила с дивана и дослушивала уже стоя, громко перебивая подругу:
— Он сам тебе звонил из милиции?.. С ума сойти… Обалдеть! А наши ребята уже знают? Погоди, Танька, надо, наверное, с адвокатом посоветоваться. Слушай, а когда у него взяли подписку о невыезде?..
Вошла Ирина Владимировна. Услышав последнюю фразу дочери, воскликнула:
— Я так и знала — допрыгались!
— Не мешай мне разговаривать! — резко оборвала дочь.
— Я пожалуюсь папе.
— Хоть папе римскому! — И объяснила подруге: — Да нет, это мать тут вякает… Танька, если Валера у тебя появится, расспроси его поподробнее…
Швырнула трубку, скинула с себя халат и надела платье.
— Ты доведешь отца до инфаркта, — простонала мать. — Сколько раз мы велели тебе не иметь дела с этим уголовником…
— Велели?! — в бешенстве срывается дочь. — А что вы вообще можете мне велеть?! Ну да, конечно, трехразовое калорийное питание, которое я у вас получаю, по твоим понятиям, дает тебе право распоряжаться мной…
— Боже, что́ ты несешь! Галя, опомнись!..
— Не смей называть Валерку уголовником! Он лучше и чище всех твоих дебилов, за которых ты мечтала бы выдать меня замуж…
— Я мечтаю только об одном, доченька: найди наконец себя, определи свое место в жизни. Разве этот Валера, полуграмотный сын алкоголички-уборщицы…
Галя заткнула уши:
— Прекрати! Сию минуту прекрати!
— …разве он компания для тебя! — продолжала мать. — И сама ты тяготишься этим знакомством. И друзья твои тяготятся…
— Если ты сейчас же не замолчишь…
— Хорошенькая благодарность за то, что я оберегаю твое имя, твою девичью честь!
Галя ответила внезапно спокойным тоном, в котором скрыта намеренная бравада:
— Что касается моей девичьей чести, то можешь уже не волноваться, я спала с Валерой.
Ирина Владимировна в слезах опустилась на диван. Галя, носясь из гостиной в свою комнату, укладывала в чемодан свои вещи.
Зазвонил телефон. Галя схватила трубку.
— Алло!.. Валера?.. — И тотчас ласково: — Здравствуй, бабушка. Ну, как вы там с дедом? У нас все нормально, бабуля, папа в своей шараге, мама на кухне варит варенье… Я, наверное, забегу к вам сегодня. Целую…
Анатолий Егорович вернулся домой поздно. Он уже знал о домашнем скандале, но масштабов его не оценил, покуда не увидел Ирину Владимировну. Лицо ее распухло от слез, у нее тряслись руки, она даже не обернулась, когда он появился в комнате, — сидела у телефона, держа трубку бесцельно.
Он заглянул в комнату Гали, шкаф был открыт, книги и тетради разбросаны по дивану и столу. Вернувшись в гостиную, он спросил:
— Куда она ушла?
— Не знаю.
— Ты деду звонила?
— Звонила. Говорит, что тоже не знает. Но я ему не верю.
— Отец никогда не лжет… Вещи она взяла с собой?
— Маленький чемодан.
— Деньги у нее были?
— Я давала ей вчера уплатить за квартиру, за телефон, за свет…
— Это она не станет тратить… У Мити возьмет или у своей Татьяны.
Он подошел к жене, отобрал у нее телефонную трубку, накрутил номер.
— Телеграф? Дмитрия Борисовича мне… Митя?.. Это я, дядя Толя. Галку нашу не видел? И не звонила тебе?.. Мы тут с ума сходим, а ее где-то носит. Коли объявится, скажи, чтоб не валяла дурочку и шла домой. — Повесил трубку. — Говорит, что не звонила.
— Я ему тоже не верю.
— Что ж они, по-твоему, все сговорились? Чепуха, не выдумывай… Между прочим, зная Галкин характер, ты могла бы разговаривать с ней поаккуратнее.
— Я слова не могу произнести… — рыдала Ирина Владимировна. — Ее все раздражает, она даже недослушала меня.
— Возраст такой, ну что тут поделаешь.
— Но я же помню себя в ее возрасте!
— Время наше было другое, Ирина.
— У родителей и детей всегда разное время. Это еще не повод, чтобы быть чужими людьми. Она разговаривает со мной, как с врагом.
— Не преувеличивай. Просто Галка самоутверждается. Комплекс у них такой — самоутвердиться. И самый легкий способ — отсечь прошлое. А родители — это и есть прошлое, они всегда под рукой: взял и отбросил. И главное — безопасно: любить все равно будут и заботиться будут…
Ирина Владимировна приблизилась к мужу, обняла усадила его в кресло и села рядом.
— Толя, милый, я узнала, — ты только не кипятись, пожалуйста, — открылось специальное бюро, там работают квалифицированные психологи. Понимаешь?
— Не понимаю.
— В общем, туда приходят посоветоваться, если дома что-то неладно. Ничего постыдного в этом нет. Ходят же к врачам. А тут психолог. Мы с тобой перестали понимать Галочку. Мне даже иногда кажется, что она больна. Я сержусь, но безумно жалею ее, девочка ведь тоже мучается… Быть может, есть какой-то выход, и психолог подскажет…
— Что подскажет?
— Ну, как нам вести себя с ней…
— Смешно… Мы родили, воспитывали, живем двадцать лет вместе, а посторонний человек разберется. Я должен советоваться с ним, как вести себя с родной дочерью!..
— Но ведь это наука, Толя. Психология сейчас очень далеко шагнула.
— Я устал, Ирина. Делай, как знаешь…
А в квартире стариков Самойловых царил в этот вечер обычный покой и порядок. Они сидели за столом, попивали чай. Из коробочек с лекарствами глотали таблетки — Егор Иванович, как всегда загодя, разложил их подле Елизаветы Алексеевны, чтобы она ничего не перепутала.
Они совсем было собрались укладываться спать, когда в окошко с улицы раздался беспокойный стук. Егор Иванович попытался рассмотреть, кто стучит, а Елизавета Алексеевна сразу пошла в прихожую открывать дверь и вскорости вернулась с Галей, позади них смущенно топталась толстуха — Таня Карягина.
— Дед, я из дома ушла! — с порога выпалила Галя.
— Раз ты здесь, — рассудительно и спокойно ответил Егор Иванович, — значит, естественно, дома тебя нет, то есть ты ушла, это нам понятно.
— Нет, я совсем ушла.
— «Совсем» в твоем возрасте ничего не бывает, — снова рассудительно сказал Егор Иванович, хотя отлично видел, что внучка и ее подруга сильно возбуждены. — Лизавета, налей девочкам чаю. Вы голодные?
— Как черти! Супчика у вас с обеда не осталось?
Елизавета Алексеевна молча ушла на кухню. Егор Иванович достал из буфета две тарелки, поставил их на стол.
Покуда девушки ели — Галя жадно, Таня не слишком, — старики ни о чем не расспрашивали их. Елизавета Алексеевна принялась штопать носки, а Егор Иванович просматривал давно изученную программу телевидения.
— Спасибо, бабуля, — быстро доев, сказала Галя. — Понимаешь, дед, у меня с мамой несовместимость…
— Отнеси тарелки на кухню и вымой… — велел Егор Иванович.
И когда внучка ушла на кухню, он спросил Таню:
— Когда Галка ушла из дома? Сегодня?
— Вчера.
— Ночевала у вас?
— У меня, — ответила Таня. — Мои предки уехали в командировку.
— Кто уехал? — переспросила Елизавета Алексеевна.
— Родители, — пояснил Егор Иванович. — Это высший шик — называть родителей предками. Я думаю, вот почему: родители — люди близкие, а предки — нечто весьма далекое, к меньшему обязывает. Предки обычно давно на кладбище, с ними можно не считаться.
Вернулась Галя.
— Дед, ты меня поймешь. Я вообще не признаю так называемого «голоса крови». В маме меня все бесит! Например, она обожает все предметы и всё, что видит вокруг, называть уменьшительно: картошечка, колбаска, маслице, солнышко, собачка… Гадость, сопли!
— Это, конечно, серьезное основание для того, чтобы бежать из дома, — сказал Егор Иванович.
— Не перебивай меня, пожалуйста… Она совершенно не понимает меня. Мы с ней разные люди. Она сентиментальна, неискренна, постоянно сует нос в мои дела…
— Галя! — строго остановил ее дед.
— Я знаю, что я грубая… — со слезами в голосе произнесла внучка.
— И тебе это нравится?
— Мне ничего от них не надо. Проживу, не пропаду. Пойду в почтальоны, сама читала объявления, и Митька поможет, почтальоны всюду требуются…
— А ты разговаривала с папой? — не отрываясь от штопанья, осторожно спросила Елизавета Алексеевна.
— Мой отец, твой сын, бабуля, — тряпка! Ему кажется, что он кошмарно волевой, а на самом деле… Я его иногда даже жалею…
Зазвонил телефон. Егор Иванович взял трубку:
— Да…
— Если мама, не говори, что я тут, — быстро попросила Галя.
— Спасибо, Ирина, у нас все благополучно… — Он обернулся к жене: — Лизавета, нам нужна рыба под фамилией «сабля»? — Продолжил в трубку: — Елизавета Алексеевна благодарит вас, Ирина, и говорит, что килограмм мы возьмем. Толя не звонил, заезжал его шофер… Галя?.. Она у нас… Хорошо, передам.
Повесил трубку.
— Дед, я же тебя просила! — укоризненно воскликнула внучка.
— В моем возрасте трудно переучиваться. Я говорю неправду только в крайних случаях. Твой же случай не требует этого. Ты взрослый человек, все обдумала…
— Что она просила передать мне?
— Мама просила передать, что она тебя любит и просит прощения, если чем-то обидела тебя…
— Истеричка, — пожала плечами Галя, но тотчас спохватилась: — Ладно, дед, я больше не буду. Ты не думай, что я за глаза, — я и в глаза ей говорю. И домой все равно не пойду.
Она подошла к Егору Ивановичу и, обняв его, встала перед ним на колени.
— Дедушка, мы с Танькой пришли к тебе посоветоваться. У нас ЧП — с Валеркой… Валерку арестовали.
Обернулась к подруге:
— Кто будет рассказывать, я или ты?
— Начни ты, а я буду подсказывать. Только сперва покажи Валеркину записку.
Таня вынула из кармана клочок бумаги.
— Я вслух прочитаю, чтоб бабуля тоже слышала. Это он всему нашему студенческому стройотряду написал…
— Между прочим, главным образом — из-за тебя, — подсказала Таня. — Хотя, в общем, мы все сволочи. Извините, Елизавета Алексеевна…
Галя прочитала:
— «Сегодня меня заберут. Я вор, я никто, я вам не компания. А тебе, Галя, с ними интересно, а со мной неинтересно. Вот сяду в тюрягу — может, тогда поплачешь. Думаешь, я не понимаю? Я ребятам поверил, в тебя поверил. И зачем только ты мне повстречалась. Помнить тебя буду весь свой срок. А ребятам скажи — зла на них не держу, они не виноваты, что я такой уродился, без счастья в жизни. С приветом. Валера».
И тотчас, закончив читать, Галя горячо воскликнула:
— Ты не думай, дед, все равно он очень хороший, очень порядочный…
— Так… — произнес Егор Иванович. — Начнем с того, что ты мне объяснишь, кто такой этот Валерка?..
Митя Самойлов редко виделся со своей двоюродной сестрой Галей, хотя, встречаясь порой у деда, они радовались друг другу, Галя подтрунивала над ним, иногда не слишком деликатно, но он добродушно улыбался в ответ или отшучивался. Трудная с детства жизнь приучила его к сдержанности и терпению.
Возвращаясь после работы домой, он обычно уже никуда не уходил, жалея свою одинокую мать, да и друзей у него не завелось. Екатерина Михайловна брала чертежную работу на дом — службу ей пришлось оставить из-за тяжелой астмы.
Вернувшись в тот день с телеграфа позднее обычного, Митя, как всегда, разогрел себе на кухне обед, тут же неторопливо поел, разговаривая сквозь открытую в комнату дверь с Екатериной Михайловной — она чертила за столом у окна.
— Мама, я сегодня премию получил. Пятнадцать рублей.
— Хорошо, Митенька. Пригодится… Тебе бабушка звонила.
— Знаешь, за что премия? Перевыполнили квартальный план по приему телеграмм от граждан. — Он засмеялся. — А почему перевыполнили? Тройня в нашем районе родилась у молодоженов. Они и отстукали тридцать телеграмм. — Он снова засмеялся, взглянул на мать, но она не обернулась и никак не отреагировала на его смешное сообщение.
Он вошел в комнату, снял с себя форменную куртку связиста.
— Давай, мама, я помогу.
— Спасибо. Остались пустяки… Тебе бабушка звонила.
— Почему — мне? Она ведь и с тобой разговаривала.
— Естественно. Но звонят они — дедушка и бабушка — тебе. И я, как ты знаешь, нисколько на них не в претензии.
— Мамуля, не надо, — попросил Митя.
— Тебе напрасно кажется, что я ущемлена. А я нисколько не ущемлена. Твой отец — их сын. И совершенно закономерно, что я для них — человек уже давно посторонний. А ты — их внук. И они, естественно, заинтересованы, чтобы у тебя с твоим отцом…
— Но, мамуля, — перебил Митя, — они никогда не говорят со мной об этом. Поверь мне…
— А мне совершенно безразлично — говорят или не говорят. Как бы ни поступил со мной их сын, они вправе быть на его стороне. И ты — вправе. Я знала, что ты идешь на эту золотую свадьбу, понимала, что там непременно произойдет твоя встреча с Борисом Егоровичем, но не сказала тебе ни слова. И ни о чем не расспрашивала…
— Я был там недолго. Я вернулся домой рано.
— Мне неприятно, что ты оправдываешься передо мной. Разве я когда-нибудь запрещала тебе видеться с твоим отцом?
Митя ответил не сразу. Екатерина Михайловна еще раз спросила:
— Запрещала?
— Не запрещала… Ты не нервничай, мамочка, не надо.
— Я абсолютно спокойна. Позвони бабушке. Она, вероятно, волнуется. Насколько я поняла, там что-то натворила твоя сумасшедшая двоюродная сестра.
Мирное занятие старика Егора Ивановича — он склеивал за столом битую тарелку — прервал внезапный приход Анатолия. Сын с ходу наступательно заговорил с отцом, и Елизавета Алексеевна ушла в кухню, чтобы не смущать их своим присутствием. До нее доносились громкие голоса из комнаты, иногда она заглядывала туда вроде бы за какой-то хозяйственной мелочью, но поспешно уходила. Старик-то вел себя спокойно, продолжая клеить тарелку, а сын взволнованно кружил подле отца, натыкаясь на стулья.
— Поверь, папа, — горячился Анатолий, — я по-всякому пытался разговаривать с Галкой. Изо всех сил старался быть терпимым. И я совершенно не понимаю, как тебе удается ладить с ней…
— Может, потому, что я не стараюсь.
— То есть?
— Не пытаюсь и не стараюсь. А просто выслушиваю Галю.
— Но она же черт знает что несет!
— Она думает не так, как ты. А ты — не так, как я.
— Да ничего она не думает, поверь мне.
— Вот эту оскорбительную точку зрения Галя и чувствует дома.
— Но мне же больно, больно, глядя на нее!
— А ей больно, глядя на тебя.
— Да плевала она на меня и на Ирину! И даже не пытается скрывать это… Мы ей неинтересны, понимаешь? Абсолютно неинтересны. Мы для нее выжившие из ума старики…
Снова покружив по маленькой комнате и раскидывая по дороге стулья, Анатолий приблизился к отцу.
— Никакого чувства ответственности за свои поступки. Полное отсутствие цели в жизни. И при этом она уверена, что решительно на все имеет право. Права свои они все отлично изучили, а вот обязанности… Ты чему улыбаешься, отец?
— Извини. Сходству.
— Какому сходству?
— Галя похожа на тебя.
— Ну, знаешь!.. Теперь мне ясно: дед одобряет внучку, она и льнет к нему. Дед потакает — внучка счастлива…
— А может, немножко иначе, Толя? Дед любит внучку.
— Слушай, папа, ты меня не доводи!.. Я работаю как вол, выкладываюсь… У человека должен быть дом, а я ловлю себя на том, что мне не хочется идти домой из-за своей дочери…
— Вот она и ушла из твоего дома.
— Значит, ты одобряешь это?!
— Я в ужасе от этого.
— По тебе не видно.
— Если бы в моем возрасте все было видно по мне, то, вероятно, я умер бы лет двадцать назад.
Анатолий беспомощно опустился на стул.
— Устал я, папа. Безумно устал…
Отец коснулся его плеча, погладил, как ребенка, сказал тихо:
— Мы с тобой глупые, Толя. Нам кажется, что мы знаем, как надо. Я тоже думал когда-то, что в жизни как в эстафете: бежит мое поколение, передает палочку твоему, твое побежало дальше тем же маршрутом, сунуло палочку Галке…
Вошла Елизавета Алексеевна с подносом, уставленным чашками чая и пирожками.
— С капустой, Толенька, — весело и ласково сказала она.
— Вот и прекрасно! — ответил Егор Иванович. — Мы с ним голодные как черти!..
О том, что натворила Галя, Митя узнал и от бабушки и от самой Гали. Она «отловила» его на телеграфе, позвонив туда по телефону с утра, и категорическим тоном сказала, что без него она пропадет, он необходим ей, как воздух, как вода, как хлеб.
— В обеденный перерыв я жду тебя в сквере у почтамта! — кричала Галя. — Если ты не придешь, я умру!
Разумеется, он пришел.
Быстро и небрежно поведав ему о скандале, который она учинила дома, Галя уже гораздо более горячо рассказала о Валере. Рассказ этот был короткий, скачущий. Митя ничего толком не понял.
— В общем, — заключила Галя, водя брата взад и вперед по аллеям сквера мимо дремлющих пенсионеров, — от тебя, Митька, требуются два простых мужских поступка. Во-первых, ты должен устроить меня на работу.
— Погоди, Галка, куда я тебя устрою? — мягко за-сопротивлялся Митя.
— Ты сам говорил, что вам очень нужны разносчики телеграмм.
— На эту работу надо выходить в шесть утра.
— Ну и что? Буду выходить.
— А твой университет?
— Перейду на вечерний.
— Зарплата, между прочим, шестьдесят рублей.
— Устраивает.
Он обнял ее за плечи:
— Это ведь несерьезно, Галя. Через неделю ты подашь заявление об уходе.
— Ага, понятно! Ты просто боишься, что тебя обвинят в текучести кадров. Называется — брат!
— Тебе надо вернуться домой, Галка. Бессердечно поступать так с родителями.
— Ах, бессердечно?! Кто бы говорил!.. — Она спохватилась. — Ладно, замнем. Обойдусь без тебя.
— Ты напрасно недоговорила, — тихо произнес Митя. — Именно я имею право судить о бессердечии. Мне все время приходится ощущать это.
— В дяде Боре?
— В себе.
— А по-моему, ты добрый парень, Митенька, только немножко «с тараканами». — Она покрутила пальцем у своего виска. — А поскольку ты добрый, то пойдешь сейчас со мной в юридическую консультацию. Это моя вторая просьба — только посмей отказать! Сегодня адвокат должен дать мне окончательный ответ.
— Но я же совершенно не знаю твоего Валеру!
— Меня ты знаешь?
— Приблизительно, — улыбнулся Митя.
— Этого совершенно достаточно. Дед мне поверил. И ты должен поверить.
— Допустим, — сказал Митя. — Но к чему я тебе у адвоката? Для мебели?
— Хотя бы. Ты солидный, положительный. Если я зарвусь…
— А это с тобой бывает?
— Ого! Еще как! Если я зарвусь, наступи мне на ногу…
И Митя не устоял перед напористостью Гали. Да он и не слишком сопротивлялся — судьба этого неизвестного парня, о котором так горячо распиналась сестра, заинтересовала и его.
В тот же день, к вечеру, они уже были в юридической консультации у адвоката. Как только они вошли в его кабинет, маленькую комнатку, где помещался лишь письменный стол с креслом и два стула напротив, Галя тотчас представила адвокату Митю:
— Этот товарищ тоже отлично знает Валерия и так же, как я и мои друзья, хотел бы…
— Понятно, — кивнул адвокат. Немолодой, опытный юрист, он привык недослушивать чрезмерно болтливых клиентов. — Садитесь, пожалуйста.
Взгляд его остановился на Мите.
— Итак, вы ждете моего совета по поводу возможной судьбы этого арестованного юноши?
— Видите ли, — деликатно начал Митя, — я думаю, что дело не только в вашем совете…
Быстро вмешалась Галя:
— Мы просим вас быть защитником Валеры на суде. Мы уверены, что вам удастся убедить суд…
— В чем убедить?
— В том, что Валерка совершенно порядочный человек.
Адвокат улыбнулся.
— Совершенно порядочные люди, дорогое дитя, не бывают дважды судимы за кражу в возрасте неполных семнадцати лет…
— Да первый раз он был мальчишка, пацан, тринадцать не исполнилось!.. А сейчас-то мы виноваты. Я виновата! — горячилась Галя. — Он болтался поблизости от нашего стройотряда, был в отпуске…
— Никакого отпуска у него не было: он просто удрал с завода. — Адвокат заглянул в листок бумаги на своем столе. — За этот год юноша сменил три места работы.
— Ну и что? В юности это бывает. В моем десятом классе никто вообще не знал, куда пойти после школы. Таскали свои документы из одного института в другой… А у Валеры восемь классов. Понимаете, он был неприкаянный. Мы взяли его к себе в отряд. Целых три месяца он жил с нами в палатках и замечательно работал. Валерка чудный парень и привязался к нам всей душой!.. А вернувшись в город, мы его подло бросили. И тут, конечно, обида… От обиды черт знает что можно совершить!..
Адвокат снова улыбнулся.
— Насколько я понял из той записки, что он оставил вам перед арестом, этот юноша еще и влюбился в некую девушку. Не так ли?
— Ну, предположим… — Галя опустила голову.
— И в результате «любовная лодка разбилась»… вернее, разбила и обокрала табачный ларек. Извините за плоскую шутку… Следовательно, речь может идти лишь о смягчающих вину обстоятельствах. Не так ли?
— Его должны оправдать, — упрямо твердила Галя. — Валера никогда больше не совершит никакого преступления.
— Это вам точно известно?
— Точно!
— Ну, а если его снова обидят? Скажем, любимая девушка выйдет замуж за другого, что вероятнее всего? В подобном случае этот впечатлительный юноша может совершить и более серьезное преступление — пырнет кого-нибудь ножом?
— Зачем вы так разговариваете со мной? — возмущенно вспыхнула Галя.
— А затем, Галина Анатольевна, чтобы вы трезво представили себе вполне возможную позицию судьи, — уже серьезно ответил адвокат.
И тут вмешался деликатный Митя:
— Но ведь смягчающие обстоятельства могут уменьшить меру наказания?
— Могут. Если суд призна́ет их наличие и учтет это в своем решении. А я уже навел кое-какие справки: уголовное дело вашего подопечного будет рассматриваться в показательном порядке. Выездным судом, в помещении молодежного клуба и в присутствии «трудных» подростков всего района.
— Тем лучше! — воскликнула Галя.
— Тем хуже! — сказал адвокат. — Ибо выездной суд для того и заседает показательно, чтобы воспитать не только подсудимого, но и присутствующих в зале в духе уважения к закону.
Лицо Гали стало жалобным. Она даже молитвенно сложила руки, прося адвоката:
— Я вас умоляю… Ну пожалуйста, помогите нам, возьмитесь… Вы не думайте, мы не даром, мы с ребятами скинемся… Митька, перестань давить мне на ноги!..
Адвокат не обиделся. Поднявшись из-за стола, он спокойно сказал:
— Понятно. До вас, очевидно, дошли слухи, что адвокаты получают с клиентов дополнительные суммы сверх положенного тарифа. Возможно… Что касается меня, то это исключено… Тем более когда речь идет о подростках… Хорошо, я возьмусь за это дело…
Борис Егорович не часто навещал своего брата Анатолия: перезванивались по телефону — этого им обоим хватало, жизненные и профессиональные интересы их давно разбрелись в разные стороны. Анатолий полагал, что брат постоянно копается в своих «комплексах» — этим модным термином Анатолий крестил все, что, по его мнению, мешает работе и душевному равновесию. Борис же не терпел прямолинейности брата, она казалась ему плодом ограниченного кругозора и, в общем, всего того, что тоже именовалось модным термином — бездуховность. Обоюдные взгляды давно были им известны, серьезных споров между ними уже не возникало, но, встречаясь даже изредка, они невольно касались своих «болевых точек» — эти расхожие словечки тоже были у них в ходу.
Все это не мешало братьям любить друг друга и в случае надобности отзываться на взаимные беды.
Узнав как-то у отца, что в доме Анатолия неблагополучно, Борис обругал себя за то, что не звонил брату, и пошел к нему вечером без всякого предупреждения.
Его приходу, кажется, обрадовались, накормили, напоили чаем. Анатолий недавно вернулся из своего института: устал, после ужина предложил сыграть в шахматы. Ирина Владимировна убрала со стола, помыла посуду и прилегла в смежной комнате на диван — ей было интересно, как муж поведает своему брату о безумных поступках Гали и что посоветует Борис. Однако сквозь открытую дверь не доносилось ничего заслуживающего внимания. Сперва вообще братья играли молча, а затем Анатолий сказал:
— Взялся за фигуру — ходи. Зеваешь, Борька.
— Извини.
После долгого молчания и стука шахмат по доске снова раздался голос Анатолия:
— Между прочим, из твоей школы в мой институт не было ни одного заявления. Это, Борька, не по-братски, мог бы хоть нескольких выпускников сагитировать. — И он громко засмеялся.
— Я их другому учу. Вернее, призван учить, — сказал Борис.
— Чему ж это, если не секрет?
— С помощью моего предмета — художественной литературы — нравственности, свободомыслию, совестливости.
— И получается? Не подсчитывал? Какой выход в граммах?
— Не подсчитывал. Но иногда, вероятно, получается. Судя хотя бы по тому, что инспектор роно постоянно недоволен мной.
— Ну, знаешь, по такому принципу можно далеко зайти!.. Шах.
— А мне далеко не надо, — сказал Борис. — Я — про школу. Чему я только не учил детей за четверть века работы!
Ирина Владимировна тотчас отозвалась из смежной комнаты:
— Да, да, я абсолютно с вами согласна, Боря: нашу Галю совершенно изуродовала именно школа!
— Не убежден, — сухо сказал Борис.
— А ведь последние годы, между прочим, она училась у тебя, — ввернул Анатолий.
— И я об этом нисколько не сожалею.
— Так же, кстати, как я нисколько не сожалею, что твой Митька окончил мой институт… Играй или давай бросим, ты все время зеваешь…
И снова воцарилось молчание. Ирина Владимировна подумала, что братья, вероятно, ощетинились друг на друга. Но голос Бориса прозвучал тихо и задумчиво:
— У каждого воспитателя есть, по-моему, как у танка, непростреливаемая зона: то маленькое пространство, что находится рядом. Чаще всего мы промахиваемся рядом — в своей семье. — Он поскрипел стулом и спросил: — Ты давно был у родителей?
— Дней десять назад. Звоню каждый день. И Ирина звонит.
Ирина Владимировна тотчас охотно подтвердила:
— Позавчера была у них, относила деньги и парное мясо. Полтора кило. Елизавета Алексеевна не очень хорошо себя чувствует. Правда, она довольно мнительная…
— Немножко, конечно, есть, — добродушно засмеялся Анатолий. — Впрочем, как все старушки. С одной стороны, они твердят, что им жить надоело, а с другой — обожают лечиться…
— Маму надо бы показать хорошему кардиологу, — сказал Борис. — Я разговаривал с их участковым врачом, она славная женщина и тоже считает это нелишним.
— Хорошо, — кивнул Анатолий. — Я организую. Пришлю отличного кардиолога.
— Лучше не присылай, а приезжай вместе с ним.
— Ладно. Приеду… Ты когда был у них?
— Третьего дня.
— Отец сердится на меня?
Борис ответил неуверенно:
— По-моему, нет.
— Он стал обидчив, — сказал Анатолий. — С ним бывает трудновато.
— С нами тоже нелегко… Лет тридцать назад давали старшеклассникам для сочинения вольную тему, рекомендованную Академией педагогических наук: «Достоинства и недостатки моих родителей». Давали и не понимали, как это безнравственно… — Он смешал шахматы на доске. — Сдаюсь, проиграл…
— Ну что ты все время расчесываешь себя, Борька! — досадливо сказал Анатолий.
Борис поднялся, собираясь уходить. В прихожей раздался звонок. Ирина Владимировна пошла открывать дверь.
Анатолий поднялся вслед за братом и, стараясь не обидеть его на прощанье резким тоном, сказал с усталым добродушием:
— А мне, Боренька, надоела эта либеральная болтовня, эти квартирные парламенты, всякие фиги в кармане! Мы обожаем обсуждать время, в котором жили, выискивая его просчеты. Дело надо делать! Дело. И уж во всяком случае не посвящать молодежь в свои сомнения. Им ведь только и подавай эти самые сомнения — и тотчас налицо цинизм…
Из прихожей в комнату сперва вошла Ирина Владимировна, на ходу она приложила палец к губам, давая понять, что никаких вопросов задавать не следует. За ней — Галя с чемоданом в руках и Митя.
Как только они вошли, Борис Егорович, собиравшийся уходить, опустился на стул.
Галя подошла к нему, поцеловала:
— Здравствуй, дядя Боря.
Отцу — кивнула.
Митя, тщательно скрывая смущение, приблизился сперва к Анатолию Егоровичу, поздоровался с ним за руку, затем к своему отцу.
— Добрый вечер, папа.
— Рад видеть тебя, — ответил Борис Егорович.
В комнате возникла неловкость, не ощущаемая, пожалуй, лишь Галей. А может, она и намеренно ведет себя так, словно решительно ничего особенного и не происходит в этой семье.
— Вы уже поужинали? — спросила она, ни к кому персонально не обращаясь.
И тотчас же решила:
— Митька, я только разложу вещички в своей комнате, и мы с тобой поедим на кухне.
Она ушла с чемоданом в недра квартиры.
Ирина Владимировна тихо сказала:
— Спасибо, Митенька, что ты привел ее домой.
Он пожал плечами:
— Я не приводил, она сама пришла. — И обернулся к отцу: — Как твое здоровье, папа?
— Да ничего, спасибо. А ты — как?.. Бабушка говорила, что ты сдаешь кандидатский минимум?
— А он, вообще, мог остаться в аспирантуре при нашем институте, — вмешался Анатолий Егорович. — Но ему, видишь ли, втемяшилось в мозги, что надо идти работать. Погнался за длинным рублем, поскольку аспирантская стипендия показалась ему плевой… Шучу, шучу, Митя не обижайся.
— Я на вас никогда не обижаюсь, дядя Толя.
— Это почему, собственно?
Митя улыбнулся:
— Мы живем с вами, дядя Толя, в разных измерениях.
— Хорош инженер! Учили тебя, учили, а так и не выучили, что все человечество живет в трехмерном мире, стало быть, и мы с тобой — в одинаковых трех измерениях.
— Есть еще и четвертое — в р е м я.
В комнату быстро вошла Галя, уже переодевшаяся, в халате и в домашних туфлях.
— Пошли, Митя, поедим, может, там у них еще и супчик от обеда остался…
Она потянула брата за руку, но он ответил:
— Спасибо, Галя. Я уже и так опаздываю — у меня сегодня вечерняя смена.
— Да что ты врешь-то? Сам говорил…
— Я ничего тебе не говорил, — сухо оборвал ее Митя.
— Да, да, — спохватилась Галя, только сейчас оценивая сложившуюся обстановку. — Забыла, дура. Тебе же в ночь дежурить…
Поцеловала его.
— Валяй беги, опаздываешь.
Упорно молчавший Борис Егорович поднялся со стула, опираясь на палку тяжелее обычного.
— Пожалуй, я тоже пойду…
Они вышли вместе. Сын приспособил свой шаг к медленной, хромающей походке отца. Некоторое время шли молча.
— Может, словить тебе такси, папа?
— Спасибо, не надо. Ты торопишься?
— Да нет, не особенно. До трамвайной остановки мы вполне можем дойти вместе. Тебе на каком, папа?
— Я на шестерке. А ты?
— Мне на тридцать четвертом.
— Вот и обменялись адресами, — горько улыбнулся Борис Егорович.
Снова пошли молча.
— Я очень рад, что ты часто бываешь у бабушки с дедушкой, — сказал Борис Егорович. — У тебя доброе сердце.
— Обыкновенное. Люблю их, потому и бываю.
— А мама не сердится на тебя за это?
— О маме не надо, папа. Ладно?..
Митя произнес это не жестко и не грубо, а скорее просительно, как человек, оберегающий ушибленную часть тела, до которой случайно коснулись.
Шаги Бориса Егоровича еще больше замедлились: он старался продлить свидание с сыном.
— Я все думал, все дожидался, — с трудом начал Борис Егорович. — Мне казалось, ты вырастешь, станешь взрослым человеком и постараешься понять. Бывают в жизни семьи такие обстоятельства, не управляемые логикой. Ты не думай, что я прошу у тебя прощения. Никакой вины за собой я не ощущаю. Так сложилось… Ты ведь знаешь, я ни к кому не ушел из дома. Я просто ушел…
Прохожих на улице мало, однако один из встречных, не слишком трезвый, спросил:
— Закурить не найдется, папаша?
— Я не курю.
— Думаешь — вредно? — вдогонку им крикнул прохожий. — Жить, папаша, вредно: от жизни помирают…
Пошли дальше отец с сыном. Вдали уже показались огни машин, автобусов, трамваев.
— Люди иногда расстаются вовсе не потому, что кто-то из них плохой, а кто-то хороший, — сказал Борис Егорович. — Самое трудное — когда оба хорошие… Покуда они любят друг друга…
— Не надо, папа.
— Я знаю, что говорю пошлости. То есть тебе кажется, что это пошлость. А вся мировая литература уже сотни лет пытается понять, объяснить…
Внезапно — горячо, с болью, даже остановился:
— Боже ты мой, что я мелю! Все это я заслужил. Заслужил твою неприязнь, твое нежелание встречаться со мной…
— Ну почему? Мы же встречаемся, — Митя старался говорить как можно мягче. — Ты ни в чем передо мной не виноват. Просто мы познакомились с тобой несколько позднее, чем это положено природой.
Отец молчал, лишь сильнее горбился.
Митя взглянул на него.
— Я бы даже хотел иметь такого отца, как ты. Но это не получилось, тебя слишком долго не было… Вот твоя «шестерка», папа. Входи с передней площадки, я подсажу…
И он торопливо подсадил отца в подошедший переполненный трамвай.
А затем долго смотрел вслед. Плохо сейчас Мите.
А Елизавета Алексеевна расхворалась серьезно. С постели ей было подниматься трудно, изводила одышка, и все-таки она пыталась хоть немножко заниматься хозяйством, а Егор Иванович покрикивал на нее за это и отлично справлялся сам.
Бо́льшую часть дня она лежала, опершись на высоко взбитые подушки: у постели стояла тумбочка, на ней — пузырьки с лекарствами, таблетки, боржоми. Рядом и телефон. Звонили ей по нескольку раз в день, и отвечала она всегда так, чтобы не волновать близких.
— Спасибо, Ириночка. Ничего, теперь уже получше… Не беспокойтесь, милая, сметана еще осталась. И творог — тоже…
— Не волнуйся, Боря, у нас все есть… Я уже понемногу встаю. Пожалуйста, одевайся потеплее — в городе грипп…
— Я понимаю, Толенька, ну что ты, милый, — ни капельки не обижены! Спасибо тебе за лекарство, шофер вчера привез. Поцелуй от нас Ирину и Галюшу…
Покормив жену и пообедав вместе с ней, Егор Иванович с половины дня, в общем-то, освобождался от домашних забот. Раза два в неделю обед старикам приносили Ирина Владимировна или Галя, — поставить его в холодильник, а затем согреть не составляло большого труда.
Подремав сидя в кресле подле Елизаветы Алексеевны, он нажал клавишу телевизора, однако звук не включил.
На экране возникло хоккейное поле с несущимися друг на друга игроками, трибуны, заполненные людьми, — их рты были разинуты в немых воплях.
Егор Иванович ткнул другую программу, также не включая звука.
Теперь на экране появилось футбольное поле, и снова мчались игроки, кто-то из них падает, в ворота влетает мяч, на трибунах беззвучное неистовство тысяч зрителей.
Егор Иванович нажал следующую клавишу, все еще не включая звук.
На экране возникло шоссе, по нему неслись две машины: передняя — грузовая, а догоняя ее — милицейская «Волга». Расстояние между ними сокращалось медленно, и тогда из бокового окошка «Волги» высунулась рука человека с пистолетом. Два метких выстрела — обе задние шины грузовика пробиты, грузовик осел на дисках. Из кабины грузовика и через его борта выскакивают пять преступников, а из «Волги» — два милицейских чина в элегантном штатском.
Егор Иванович выключил телевизор.
Он подошел к постели жены, взглянул на часы и, взяв с тумбочки таблетки, подал ей вместе с боржоми.
Сел на постель с краю, в ногах жены.
— Ну, хорошо, Лизавета, ладно. Спорт — замечательная штука: развивает, укрепляет, воспитывает волю к победе. Прекрасно! Но ведь и о душе надо подумать… Нет, я окончательно старомодный старик!
Елизавета Алексеевна погладила его по руке.
— Ты у меня не старомодный. Ты у меня устал, Егорушка…
— А с чего мне уставать? Я здоров как бык! Но все эти первобытные страсти отказываюсь понимать. «Болеют» за «Динамо», «болеют» за «Спартак», «болеют» за «Зенит». А болеть надо за человечество!.. Фамилии футболистов и хоккеистов известны каждому трамвайному пассажиру. И какой-нибудь вратарь в тысячу раз более знаменит, чем гениальный ученый! Из-за проигрыша любимой команды люди у телевизора глотают валидол…
Елизавета Алексеевна молча взяла с тумбочки таблетку и протянула мужу. Он проглотил ее автоматически, даже не запивая.
— Толя говорит мне: знаешь, папа, это уж у тебя «закидон» — я смотрю футбол, чтобы отвлечься… А от чего, спрашивается, вы хотите отвлечься? — Егор Иванович махнул рукой. — А эти дурацкие детективы?! Вчера встретил Анну Семеновну из второго подъезда. Идет, плачет. Что такое? Ходила, говорит, в милицию за пустяковой справкой, а дежурный лейтенант так обхамил ее, что она валидол сосет. А на экране все эти лейтенанты похожи на кандидатов наук. И жуликов ловят, как коты мышей: цоп — и поймал!..
Елизавета Алексеевна улыбнулась.
— Но ведь люди смотрят — значит, это им интересно.
— Конечно, интересно. Ну и что? Тем печальней. В истории человечества случалось, что оболванить миллионы бывало проще, чем отдельную личность.
Он успокоился так же внезапно, как и разволновался. Поправив сползшее одеяло, Егор Иванович ласково сказал:
— Главное для здоровья — это не терять равнодушия.
И в ответ на удивленный взгляд жены пояснил:
— Это не я придумал: в магазине, в очереди услышал. Один кретин посоветовал мне…
На другой день после лекций прибежала к ним Галя и заявила, что будет сейчас делать генеральную уборку. Дед попробовал протестовать, но она загнала его на диван и велела лежать, не мешая мыть пол. Лежать он категорически отказался, сказав, что подберет ноги, когда она домоет до этого места. Елизавета Алексеевна, обложенная в постели подушками, посматривала на хмурого мужа и улыбалась.
Галя мыла пол истово, подоткнула юбку, засучила рукава кофты, голову повязала бабушкиной косынкой. Обползала она все углы, сдвинув нехитрую стариковскую мебель к середине комнаты. Егор Иванович с протестующим видом читал газету. Когда внучка дошла с ведром до его дивана и заползла под него с тряпкой, он поднял ноги с пола. Из-под дивана торчала половина Галиного туловища, а руки ее выдвигали к ногам Егора Ивановича какие-то рваные пакеты и старые пыльные коробки.
— Ну ты и барахольщик, дед! — Она выползла наконец в сбитой на сторону косынке, со спутанными волосами, мокрая от усилий. — Всю эту рвань я сейчас же выброшу на помойку.
И ткнула ногой пакеты и коробки.
— Не смей! — крикнул дед.
— Выбрось, Галюша, непременно выбрось, — попросила бабушка. — Он вечно хранит что ни попадя, и всё надписывает…
Подняв с пола одну из картонных коробок, Галя прочитала на крышке крупную надпись, сделанную фломастером: «ТУФЛИ ЛИЗАВЕТЫ».
Развязала, открыла крышку — лежат изодранные шлепанцы. Подняла второй пакет — в нем старая мятая кепка со сломанным, полуоторванным козырьком.
— В этой кепке, дед, тебя моментально заберут в медвытрезвитель: в таких головных уборах ходят исключительно алкаши…
Она собрала с пола всю груду коробок и пакетов и понесла к дверям.
— А я тебе говорю, сейчас же положи на место! — снова велел дед, но уже не столь уверенным тоном.
— Неси, неси, не слушай его! — благословила Елизавета Алексеевна.
Распахнув ногой дверь в коридор — руки у нее заняты, — Галя обернулась:
— Имей в виду, дед: первый признак старости — это нежелание расставаться со всякой дрянью.
И она исчезла из комнаты, захлопнув за собой ногой дверь.
Груженная пакетами и коробками, Галя пробежала по двору к помойным бакам. Выбросила все в баки, но один сверток выпал из ее рук. Она подняла его с земли и видит на нем крупную надпись: «ГОРШОК ГАЛИ».
Развернула — в ее руках маленький детский ночной горшок. Бросила и его в помойный бак.
Вернувшись в комнату стариков, Галя подбежала к Егору Ивановичу — он сидел на диване обиженный — и с размаху поцеловала его в щеку.
— Дедушка, ты прелесть!
Затем она деловито забегала по комнате, приканчивая уборку, и, вымыв в ванной лицо, руки, обдернув на себе платье, возвратилась к старикам.
Здесь она поправила подушки за спиной Елизаветы Алексеевны и остановилась перед небольшим стенным зеркалом — торопливо причесала свою разлохмаченную голову.
— Дед, а ты пишешь воспоминания?
— Какие воспоминания? — ворчливо ответил Егор Иванович. Он уже остыл, но не совсем.
— Ну, вообще… Я, например, веду дневник. Сперва записывала разную чепуху, а теперь — мысли…
— Когда к Альберту Эйнштейну явился журналист и спросил: «Господин Эйнштейн, вы записываете свои мысли?» — Эйнштейн ответил: «Мысли у меня появляются так редко, что я их запоминаю».
Галю это ничуть не сразило.
— Я не про науку, дедушка… Я — про жизнь. Вот почему, например, мне с тобой и с бабушкой просто, а с моими родителями — невыносимо? Я, например, им вру, а вам — никогда… Ну, почему?
— Не знаю.
— Во-первых, они считают, что я им обязана, во-вторых, они меня не понимают. Я их прекрасно понимаю, а они меня — ни капельки. И их взгляды на жизнь мне противны…
— А ты не могла бы выбирать выражения помягче? — нахмурился дед.
— Могла бы. Но не хочу. Не считаю нужным… У них знаешь какие взгляды? Всё кругом правильно, прекрасно, имеются, конечно, отдельно взятые отклонения, но ты сперва заслужи право на свою точку зрения, а уж потом берись осуждать, все вы, молодые люди, циники, прагматики и ни черта ни во что не верите, ничего у вас нет святого…
Эту тираду Галя произнесла, вернее, выпалила отчаянной скороговоркой и внезапно остановилась, обернулась — она уже причесана.
— Ведь ты же так не считаешь?
Егор Иванович не ответил.
— Не считаешь? — упрямо спросила Галя.
— Стараюсь. Хотя, признаться, иногда очень хочется. Просто я не привык думать этими категориями: в с е м ы или в с е в ы… И мы — не в с е, и вы — не в с е. Лучше рассматривать каждого в отдельности. Гораздо труднее, но точнее…
С улицы послышался стук в окошко и тотчас звонок в дверь.
— Танька! — кинулась в прихожую Галя.
Она открыла дверь в квартиру, и тут же в прихожей задохнувшаяся от быстрого хода Таня произнесла одним духом, без знаков препинания:
— В понедельник в шесть вечера в клубе показательно…
Они вдвоем быстро вернулись в комнату. Таня, все еще отдышиваясь, молча поздоровалась со стариками и опустилась на стул.
Галя нетерпеливо потрясла ее за плечо:
— Кончай сопеть, Танька! Обернулась:
— Валеру судят в понедельник, выездной суд в молодежном клубе… — И мгновенно бросилась к Елизавете Алексеевне: — Бабуля, милая, любимая, ты отпустишь деда с нами?.. Танька посидит с тобой…
— Позволь, а меня ты спросила? — возмутился Егор Иванович.
— Если ты со мной не пойдешь, не будешь сидеть рядом, я ляпну на суде что-нибудь такое, вот увидишь — меня арестуют!..
— Он пойдет, — улыбнулась Елизавета Алексеевна. — И Танечка пусть идет. У нас хорошие соседи, да и я уже совсем поправилась…
Вход в этот клуб в глубине двора обычного жилого дома. Двор уже был завален снегом — зима выдалась суровая. В полутьме двора расположены несколько темных подъездов, а над дверью, ведущей в клуб, горела яркая лампочка, окруженная морозным нимбом, — она давала возможность прочесть табличку под стеклом у входа:
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «ЮНОСТЬ».
В прихожей клуба, у самых дверей во двор, топтались и курили человек десять юношей и девушек, одетых в форму студенческого стройотряда. Студенты озябли здесь, они постукивали башмаками об пол, кое-кто даже потирал уши ладонями. Но несмотря на мороз, они то и дело приоткрывали дверь в полутьму двора в нетерпеливом ожидании. Со двора донесся шум подъехавшей машины, Таня шепотом воскликнула:
— Привезли! — и изготовила свою руку с зажатой плиткой шоколада.
Студенты отступили от дверей вправо и влево, образовав узкий проход.
Дверь со двора распахнулась, сперва вошел первый конвойный, за ним — Валера, стриженный напрочь, с руками, заложенными за спину, как и положено арестованному. Его трудно узнать, он сейчас ничуть не похож на того пригожего, стройного, белокурого юношу, каким был до тюрьмы. Его лицо землисто посерело, уши торчали на голой, по-мальчишески бугристой голове. Позади него — второй конвойный. Они вошли быстро и прошли сквозь студентов скорым шагом, — Таня протянула было шоколад Валере, но ее рука повисла в воздухе.
Когда Валера шел мимо студентов, он неуверенно и как-то криво улыбнулся им, виновато и в то же время независимо, будто ему море по колено. Это была жалкая улыбка юноши, отстаивающего свое мужское достоинство, порушенное им самим, и он это отлично понимал, однако не желал никому признаться в этом.
Конвойные провели его через зал в одну из комнат клуба по соседству со сценой. Комната эта была сейчас пуста, в ней стояли всего три стула, а в углу на столике — большой телевизор: очевидно, в обычное время здесь смотрят телепередачи. Конвойные сели на два стула. Валера — на третий. Телевизор был включен, слышен азартный голос комментатора, на экране шла спортивная программа.
А Егор Иванович прохаживался по клубному залу, пока еще пустому. Ему уже удалось узнать от студентов, что мужчина, тоже осматривающий это помещение, — прокурор: он медленно ходил вдоль стен зала, заложив руки за спину и разглядывая старые клубные плакаты, прикнопленные к витринам.
Егор Иванович приблизился к нему.
— Сложное у вас сегодня судебное дело, товарищ прокурор, — произнес старик полувопросительно-полуутвердительно.
Прокурор посмотрел на него сквозь сильно выпуклые очки, за которыми не видно было глаз, и пожал плечами.
— Особых сложностей не вижу. Сажать надо парня.
И он удалился в канцелярию клуба. Это две маленькие комнатки, смежные с залом, тут обычная канцелярская обстановка — видавший виды письменный стол, дешевые стулья, старенький диван.
Сейчас здесь дожидались начала заседания два народных заседателя, прокурор, адвокат и судья.
Стоя у окна и грея руки на еле теплых батареях отопления, судья курил, поглядывая на часы.
Быстро вошел завклубом.
— Вы звали меня, товарищ судья?
— Звал. Выездная сессия, видимо, впервые в вашем клубе?
— Впервые, товарищ судья.
— Я так и полагал. Подготовку вы провели плохо… Публика не совсем та, на которую мы рассчитываем. Попрошу вас внимательно следить за соблюдением порядка в зале. Молодежи свойственно слишком бурно проявлять свои эмоции…
— А если эти эмоции положительные? — улыбнувшись, спросил адвокат.
— Судебное заседание — не театральный спектакль.
— Разумеется, разумеется…
Завклубом ушел. Все присутствующие в канцелярии сняли с себя пальто, шапки, шарфы и сложили на диван. Судья разделся первым и, ни к кому персонально не обращаясь, произнес с досадой:
— В нашем районе правонарушения, совершенные подростками, возросли за это полугодие на пять уголовных дел…
…И вот зал уже в собранном виде. Хотя он и не заполнен целиком, но народа хватает. В передних рядах человек пятнадцать студентов, среди них Галя с Таней, Егор Иванович и Митя. Поодаль — Борис.
Два-три ряда заполнены учениками ПТУ, по краям их — для порядка — воспитатели.
На сцене небольшой стол, за которым помещаются лишь судья и два народных заседателя. Между сценой и первым рядом неширокое пространство, здесь два столика: за одним, друг против друга, прокурор и адвокат, за другим — секретарь суда.
Для подсудимого стул поставлен у стены, подле него — конвойный. Валера сидел на этом стуле заложив ногу за ногу и изо всех своих цыплячьих сил пытаясь изобразить безразличие и независимость, словно ему совершенно все равно, как обернется для него это дело.
Кое-кто из студентов, и в особенности Галя, пытался подавать ему какие-то ободряющие знаки. Егор Иванович был озабочен беспокойным поведением внучки и даже шепнул ей на ухо:
— Галя, ведь ты мне обещала!..
Судье лет под шестьдесят, от его наблюдательного глаза ничто не ускользнуло, ему не по душе настроение, подспудно царящее среди некоторых присутствующих здесь. Его взгляд то и дело задерживался на Гале, хотя он допрашивал сейчас одного из свидетелей. Перед судом стоял долговязый студент, переминаясь с ноги на ногу.
Судья спросил его:
— Вы были начальником строительного отряда. Что вы можете сказать о подсудимом?
— Валера вел себя хорошо.
— Конкретней.
— У нас у всех создалось впечатление…
— Я спрашиваю вас не о впечатлениях.
— Валера хорошо работал, старательно.
— Кто непосредственно отвечал за Ковалева в вашем отряде?
— Я! — громко сказала Галя, поднявшись со стула.
— Прошу сесть и не нарушать порядок, — велел судья и обратился к начальнику стройотряда: — Продолжайте!
— Мы все отвечали за Ковалева… — Студент несколько оробел.
— Но ведь к кому-то он был прикреплен непосредственно?
— Был. К Гале Самойловой. Но это формальность… Я хочу сказать… мы все виноваты. Получилось, что в городе мы его бросили — поигрались с ним в отряде, а потом бросили. А он ведь привязался к нам. Я думаю, ему казалось, что мы так и будем навсегда вместе. Ребята понадавали ему свои телефоны, адреса — звони, Валера, приходи, Валера… Другой раз даже пообещаем встретиться с ним — и забудем, обманем… И получилось, что мы его бросили, обидели… — Студент замялся, оглянувшись на Валеру.
— И от обиды на вас, — сказал судья, — он совершил кражу? А завтра его обидит еще кто-либо, и тогда он вправе совершить уже более тяжкое преступление? Так выходит по-вашему?
И тут раздался резкий голос из зала:
— Надо же соблюдать объективность!
Судья быстро оглядел публику и строго спросил:
— Кто из вас это сказал? Прошу встать!
— Я сказала! — Галя поднялась.
— Подойдите к суду.
Пробравшись по своему ряду, Галя приблизилась к сцене. Руки ее всунуты в карманы куртки.
Валера на своем стуле подался весь вперед, скулы его сведены, он попытался вскочить, но конвойный крепко положил руку на его плечо.
Судья наклонился к одному народному заседателю, затем к другому и твердо сказал Гале:
— Вы уже были предупреждены судом. А сейчас, за вторичное нарушение порядка заседания, суд штрафует вас на пять рублей и требует вашего удаления из зала.
— Деньги сейчас платить? — спросила Галя. — Дедушка, у тебя есть с собой пятерка? — обернулась она.
Егор Иванович не успел ответить — судья строго велел:
— Штраф внесете судебному исполнителю в течение трех суток. А сейчас прошу немедленно удалиться из зала заседания суда.
Она пошла к выходу в гробовой тишине. Дед огорченно и укоризненно смотрел ей вслед. Остановившись в прихожей клуба, Галя закурила и, приложив ухо к дверной щели в зал, вслушалась в то, что там происходило.
А перед судом подле сцены стояла сейчас девушка лет двадцати, очередная свидетельница.
— Вы работали с подсудимым Валерием Ковалевым в одном заводском цеху? — спросил судья.
— Да.
— Вы являетесь комсоргом цеха? Расскажите, что вам известно о Валерии Ковалеве?
— У него была скучная работа, она не нравилась ему…
— Что значит скучная? Не пляшут же в цеху. Всякий труд необходим. Уж вы-то это отлично понимаете.
— Я понимаю. Но Валера целый день спиливал напильником заусеницы. Он хотел работать на станке…
— На станках вашего цеха дозволено работать только с восемнадцати лет. А ему еще не исполнилось.
— Я понимаю. Но на этих заусеницах и заработок у него получался маленький.
— Рядом с ним работали другие подростки и зарабатывали больше: они трудились, не волынили, не прогуливали…
— Это понятно, — кивнула девушка. — Это все правильно… Но с Валеркой и мы виноваты. Мы же замечали, например, — его в обед посылали за вином. А потом тут же в цеху распивали с ним.
— Кто его посылал? Назовите фамилию.
— Слесарь Яковлев, фрезеровщик Минаев. — Эта девушка-станочница отвечала уверенно и прямо. Наружность у нее очень славная, она вызывала доверие и симпатию.
— Подсудимый Ковалев, — обратился судья к Валере, — вас посылали за вином Яковлев и Минаев?
Валера встал. Пауза была небольшой. Он угрюмо ответил:
— Никто меня не посылал. Я покупал сам для себя. — И тотчас опустился на стул.
А девушка быстро продолжила:
— Это он их продавать не хочет. Они такие ханыги!..
— У вас в цеху восемь подростков, — сказал судья. — И любого из них посылают за вином?
— Нет, не всех, конечно.
— Значит, только Ковалева? И он охотно бегает?
— Я же говорю, товарищ судья, эти ханыги раскусили, что Валерка слабовольный… Мы хотели собраться, комсомольцы нашего цеха, обсудить то, что произошло с Валерой. Мы же знаем его. И наша вина тоже есть…
— А известно ли вам, что три года назад, будучи несовершеннолетним, Валерий Ковалев был судим за кражу? Знали вы об этом?
— Я знала, — тихо ответила девушка. — А ребята наши не знали. Я им не говорила…
Среди дня Елизавете Алексеевне внезапно стало плохо. Она крепилась, сколько могла, не желая беспокоить соседку или звонить Анатолию, но дышать становилось все труднее, кололо в груди и под лопаткой. Пыталась она накапать себе капли, пузырек выпал из рук и пролился на пол. К счастью, уходя на суд, Егор Иванович оставил на всякий случай дверь в коридор открытой и попросил соседку изредка заглядывать в комнату. И соседка, увидев, в каком состоянии Елизавета Алексеевна, тотчас позвонила в «скорую» и домой к Анатолию.
Реанимационная бригада приехала быстро. Еще раньше примчались Анатолий с Ириной. Стоя в коридоре, покуда медики хлопотали подле постели матери, Анатолий шепнул жене:
— Еще хорошо, что тебя застали дома, а ты поймала меня… Куда же отец девался?
— Сумасшедшая Галка увела его на этот дурацкий суд. И Борис, кажется, там…
Глубоко затянувшись папиросой, Анатолий решительно произнес:
— Давай так: садись в машину и мчись за отцом и Борисом. Быстренько, Ирина!..
В клубе судья объявил перерыв. Весь состав суда ушел в канцелярию отдохнуть и покурить. Говор голосов из зала доносился сюда и был не по душе судье: все шло не так, как ему хотелось бы. Устало дымя «Беломором», он стоял у окна в первой комнате канцелярии и думал, что, будь он помоложе, то, вероятно, нашел бы способ остепенить эту молодежь. Раздражение против нее мешало ему сосредоточиться.
Приоткрыв дверь и остановившись на пороге, вошел Егор Иванович. Спросил очень вежливо:
— Могу ли я обратиться к вам, товарищ судья?
Рослый, седой Самойлов вызывал уважение.
— Прошу, — ответил судья.
— Мне, право, неловко… вы, по-видимому, очень устали…
— Здорово устал.
— Должен представиться вам: Егор Иванович Самойлов. — Старик учтиво, по-стариковски, наклонил голову. — Я являюсь дедом студентки Галины Самойловой, которую вы совершенно справедливо оштрафовали и удалили из зала за нарушение установленного порядка.
Судья улыбнулся.
— Самокритично, Егор Иванович! Благодарю и хвалю. Теперь это так редко бывает! Обычно родственники нарушителя бросаются грудью на его защиту.
— Я впервые присутствую на заседании суда, — все так же вежливо, однако настойчиво продолжал старик. — Очевидно, я не правомочен… не являюсь свидетелем по делу… Но, зная свою внучку, зная ее друзей… Есть одно очень деликатное обстоятельство, которое они утаивают от вас…
Судья насторожился, погасил папиросу.
— Я не стал бы беспокоить вас, если б не думал, что это обстоятельство имеет особое значение для суда… Дело в том, что этот юноша питает к Гале…
— Ах, вот вы о чем! — перебил судья. — Это нам известно, студенты рассказывали следствию. Но вряд ли подобные незрелые эмоции могут служить серьезным оправданием для суда. Дома, за чайным столом, мы можем позволить себе роскошь посочувствовать подростку. Да и то… как вам сказать? Собственно, на что реальное он мог рассчитывать?
— Чувства не подвластны… — попытался объяснить Самойлов. — Мальчика обманули, он ревновал…
— Согласен: влюбился, ревновал. Но я задам вам один вопрос, Егор Иванович: ваша внучка вышла бы за него замуж? Ну, разумеется, не сейчас, а даже в обозримом будущем?
Самойлов пожал плечами, не зная, что ответить.
— Сомневаетесь? И я сильно сомневаюсь. А покуда мы с вами сомневаемся, этот взрывчатый, совершенно неуправляемый подросток уже содеял преступление, и мы абсолютно не гарантированы, что по тем же эмоциональным мотивам — неразделенная любовь, ревность к вашей внучке…
Судья не успел закончить — в канцелярию быстро вошла Ирина Владимировна.
— Простите, ради бога! — кивнула она судье. — Егор Иванович, я за вами. Борис и Галя уже в машине. Елизавете Алексеевне нехорошо…
Хоронили бабушку в крематории.
В центре траурного зала, на возвышении, стоял гроб с телом Елизаветы Алексеевны. Цветы покрывали ее, лишь лицо покойной было открыто.
Собралось немного людей — только родственники, Таня Карягина и соседи по квартире стариков.
Рядом с отцом стояли два его сына. Никто из них не плакал. Лицо Егора Ивановича окаменело, глаза опустели, выжженные горем.
Плакала только невестка — Ирина Владимировна, она то и дело поправляла цветы в гробу.
Галя, Митя, Таня стояли по другую сторону. У Гали были закушены губы, она вцепилась рукой в Митю, лица его не видно, оно наклонено вниз.
Струилась тихая музыка откуда-то из-под потолка и со стен зала. Когда она умолкла, к изголовью гроба приблизился молодой человек в строгом черном костюме — это работник крематория, должность его открывать траурные панихиды.
Он остановился с привычно-скорбным видом в изголовье.
Егор Иванович увидел его. Лицо старика болезненно задергалось, рот искривился, как у плачущего ребенка.
— Не надо… пожалуйста, не надо! — тихо прошептал он, его услышали только сыновья, стоящие рядом.
А молодой человек уже начал печальным голосом:
— Сегодня мы провожаем в последний путь…
Но Анатолий Егорович шагнул к нему, взял его рукой за локоть:
— Прошу вас. Мы сами… Извините… Благодарю вас… — и сунул ему десятку в карман.
От крематория Анатолий повез в «Жигулях» отца и Бориса. Остальные поехали в похоронном автобусе.
Старик сидел рядом с сыном, ведущим машину, и безучастно смотрел в стекло перед собой. Но внезапно, когда машина стала разворачиваться на каком-то углу, он спросил, словно очнувшись:
— Куда вы меня везете?
— Папа, — наклонился к нему Анатолий, — мы едем ко мне, хотим посидеть, помянуть маму…
Егор Иванович кивнул:
— Посидите, дети… Помяните… А меня отвезите домой. Домой хочу!
И лицо у него стало такое измученное, что уговаривать отца сыновья не рискнули.
…Грустно было за поминальным столом в квартире Анатолия Егоровича. Еда почти не тронута, бутылки с вином едва початы.
Старший сын Борис сидел во главе стола.
Вертя в пальцах бокал с вином и отпивая из него по маленькому глотку, Борис говорил негромко:
— Мама считала, что мы хорошие дети… И ей казалось, что любит она нас одинаково: тебя, Толя, и меня… А на самом деле, мама ошибалась: и сыновья мы были посредственные, и любила она нас по-разному — кому из нас бывало худо, того и любила больше… Это с детства: кто расшиб нос, кто заболел — тот для нее и главный…
Борис отпил вино и помолчал.
— Век буду помнить, с каким лицом она открывала мне дверь — светилась от радости, никто в жизни меня так не встречал… А я-то? Сколько раз бывало: надо бы пойти навестить, да устал, неохота. Позвоню по телефону, отмечусь… Отец это понимал, а мама — нет.
— Бабушка тоже все понимала! — сказала Галя. — Только она не допускала себя до этого понимания из гордости.
— Мама не была гордой, — произнес Анатолий.
— За себя не была, а вами всеми гордилась!
Разнося чай, Ирина Владимировна примирительно вмешалась:
— Сейчас нам надо подумать о судьбе Егора Ивановича. Он ведь не может жить один.
— У меня комната большая, я перевезу отца к себе, — тотчас сказал Борис.
— Ерунда это, — отрезал Анатолий. — Чем ты его кормить будешь? У тебя, Борька, никакого хозяйства… Папу мы заберем к нам. Верно, Ирина?
— Конечно, Толечка. Именно так.
И тут резко и звонко прозвучал голос Гали:
— Дед к вам не переедет!
— То есть как это не переедет? — громко спросил Анатолий.
— А вот так! Не станет он у вас жить! — Она поднялась из-за стола. — Я к нему перееду!..
И ушла. После недолгой, неловкой паузы Ирина Владимировна печально вздохнула и сказала с глубокой горечью:
— Если Егор Иванович действительно не согласится, не надо насиловать его волю. Нашу Галку он любит, она слушается его больше, чем нас, жилплощадь у него достаточная, в жакте возражать не будут…
— Замолчи!.. — крикнул Анатолий.
…И Галя перебралась к деду. Длилась зима.
Примостившись у подоконника, Егор Иванович чинил старую лампу. Не очень нужна ему эта лампа, но сидеть без дела ему теперь невмоготу.
А внучка торопливо дописывала письмо. Рядом на полу, у ног, портфель, набитый книгами, а на столе расставлены две тарелки, вилки, ножи.
Не отрываясь от письма, Галя сказала:
— Дед, у нас сегодня всего две лекции, я прибегу рано. Ты без меня не обедай, ладно?
— Хорошо.
— Если очень проголодаешься…
— Я не проголодаюсь.
— Дедушка, можно, я напишу Валере привет от тебя?
— Напиши.
Галя заканчивала письмо:
«У нас с дедом случилось огромное горе. Умерла бабушка. Ты не представляешь, Валерка, какие это люди! Таких больше нет на всем свете…»
Она заклеила конверт, поднялась. Одеваясь, тарахтела:
— Между прочим, забыла тебе сказать: в субботу вечером у нас с тобой гости. Дуреха Танька надумала выходить замуж. Я велела ей показать нам жениха… Салат бабушкин сделаешь, дед?
— Сделаю.
— Если жених тебе не понравится, ты непременно скажи мне — я постараюсь отговорить ее. По-моему, он еще не догадывается, что она собирается выходить за него замуж…
— Галя, — не оборачиваясь, попросил Егор Иванович. — Ты оставь мне, пожалуйста, свой паспорт.
— Зачем? — изумилась внучка.
— Сегодня в жакте приемный день у паспортистки. Я тебя пропишу.
— Это тебя мать надоумила? — яростно взвилась Галя.
— Я сам.
— Эх, дед! А еще говорил мне, что лжешь только в крайних случаях!.. Плевала я на прописку! — Схватив портфель и поцеловав деда, убежала.
А Егор Иванович еще попытался было поковыряться с ненужной лампой, а затем, поднявшись, поглядел за окно: снег сильно погустел, но в хлопьях еще видна бегущая к трамваю внучка.
ПОСЕЛКОВЫЕ ЗАМЕТКИ
1975—1985
Я никогда не вел дневников — даже в юности, когда иные мои сверстники заводили для этого толстые клеенчатые тетради, прозрачно скрывая модное свое увлечение.
Впервые необходимость в каких-то записях возникла у меня осенью и зимой 1941/42 года в Ленинграде: пережитое и увиденное потребовало исхода.
Затем эта потребность истаяла на долгие годы и возродилась внезапно лишь в поселке, где я плотно обосновался лет тридцать назад.
Живя здесь и зимами — а зимы свирепые, под сорок, с ладожскими ветрами, — я вынужден каждодневно топить в доме три очага: плиту на кухне и две печи.
А это занятие поразительно способствует всевозможным размышлениям. Я даже думаю, что пещерный человек делал свои медленные великие открытия, дремля у костра, глядя в огонь, и это помогало ему переползать из одной эры в другую, более совершенную.
Во всяком случае, могу утверждать с полной убежденностью, что сидеть у открытой печной топки и смотреть на пылающие дрова, помешивая их время от времени кочергой, — занятие в высшей степени духовное: в печном пламени, при хорошей тяге, пустая суетность с воем уносится в дымоход.
И вот именно так, глядя в огонь (холодами — в печной, а весной и летом — в садовые и рыбацкие мои костры), я стал постепенно приходить к заключению, что, быть может, и мне пора приступить к записям.
И приступил, стал вести их.
Меня тотчас увлекло, что в этом жанре нет никаких правил и законов: гуляй, автор, по какой вздумается тропке! Путешествуй, скачи во времени и в пространстве!..
Но внезапно чрезмерная вольность озадачила меня. Не привык я к ней. Уж слишком велика получается при этом ответственность. В цельной вещи, организованной композиционно, автор отвечает за все чохом. А в мелких заметках, в поденных записях, в картинках жизни его ответственность дробится и вытарчивает на каждой странице.
Как бы тут не дать слабины, подумал я, уж очень бы не хотелось на старости лет. И пришлось мне для страховки оглянуться на литературный опыт великого прошлого.
Оглянулся, увидел и несколько успокоился.
Не было и нет единообразной записной книжки писателя. Они весьма различны по типу.
Случаются поспешные заметки, понятные лишь их автору, — над ними впоследствии (если он этого заслуживает) бьются текстологи и литературоведы, пытаясь расшифровать: что бы это значило?
Есть записи — наблюдения, зарисовки. Записи-мысли. Записи-факты. Записи-сюжеты.
Что касается записей-мыслей, то это далеко не всегда мысли самого автора: они могут впоследствии стать мыслями которого-либо из его героев, и притом не обязательно положительного.
Взаимосвязь между записной книжкой автора и его будущим произведением весьма сложная, витиеватая, порой вне воли автора закодированная. Редко случается, что произведение в точности соответствует той заметке, которая послужила толчком к сочинению этого произведения. Связь между сюжетом, бегло записанным, и будущей вещью не бывает прямой: герои самовольничают, ломают задуманный сюжет, видоизменяют его согласно своему реалистическому характеру.
Есть записные книжки филигранно отделанные — это великолепные самостоятельные литературные произведения, хотя авторы их, возможно, и не ставили перед собой такой цели.
И есть трагические записные книжки. В том смысле трагические, что писатель вел их потому, что понимал: книгу ему уже не написать. И весь свой талант, душу, совесть расточал в отрывочных записях.
А они перерастали в последнюю, посмертную книгу автора.
Потребность вести заметки возникала у меня сперва непроизвольно и мимолетно, но очень быстро превратилась в настойчивую, теребящую необходимость. И я поддался ей бесхитростно, не задумываясь над ее особенностями.
Жизнь в далеком от большого города поселке приблизила меня к той, быть может, не совсем типической действительности, о которой я ранее не имел четкого представления. Новые впечатления обрушились на меня. На долгие годы это во многом определило характер моей литературной работы.
Но мне не удалось высказать все, что я наблюдал и о чем думал в течение этого многолетия. Не удастся, разумеется, никогда.
Заметки, которые я веду здесь, постоянные, неотвратимые, названы мною поселковыми, хотя то, чего я касаюсь, — не только жизнь в моем захолустном населенном пункте.
Мало ли какие соображения и воспоминания взбредут в голову старого человека, сидящего в одиночестве долгими зимними вечерами у жарко топящейся печки с открытой дверцей.
Жители нашего поселка не говорят о своих владениях:
— У меня в саду…
Или:
— У меня на огороде…
А вместо этого:
— У меня на участке.
Свои огороды и сады они называют участками, то есть так, как это называлось, когда им отводили землю для застройки.
В этом слове — участок, — пожалуй, ярче всего видно, что наш поселок переселенческий. И хотя ему уже лет сорок, подлинных корней здесь нет. Сорок лет — пустяки для корня.
Обживается дом, обживается местожительство не только продолжительностью жизни в нем, но и смертями близких, могилами.
В могилах — корень, то есть под землей, как у дерева.
Нечто подобное происходит и в городе, в городском доме.
Я живу в относительно новом доме, он построен лет двадцать назад. И первые десять лет дом был для меня все время новым, не моим.
Но вот в одном из подъездов умер приятель-сосед. В другом — и муж и жена, мои близкие друзья.
В третьем скончался великий поэт, которого любил не только я, а вся страна.
Затем — еще, и еще, и еще.
И дом обжился, стал моим. Мне здесь умирать.
«Почему Вы пишете?» — обратилась ко мне французская газета «Либерасьон». В своем письме редакция сообщала, что вот уже лет шестьдесят, начиная с двадцатых годов нынешнего века, «Либерасьон» адресуется ко многим писателям мира с этим вопросом.
Как-то так получилось, что я не собрался с духом ответить вовремя, а сроки в письме были указаны. И вот теперь, когда они давно миновали, мне все-таки захотелось сформулировать, может, уже просто для себя — почему же я пишу?
Разумеется, мне известен самый верный и самый, казалось бы, простой, но, к сожалению, изрядно поношенный ответ: пишу потому, что не могу не писать. Когда это выстраданное объяснение прозвучало впервые, да еще в устах великого писателя, оно было исчерпывающим: его гениальные произведения свидетельствовали, что он не мог не написать их. А одно из них даже так впрямую и называлось: «Не могу молчать».
Однако затем формулировка эта стала запросто блуждать по рукам литераторов, как бумажная кредитка, не обеспеченная золотым запасом авторского таланта и высокой нравственности; постепенно она превратилась как бы в непременное и рядовое свойство каждого члена Союза писателей. И получалось, что все писатели чохом не могут молчать. Но ведь в конечном счете, как ни парадоксально это звучит, читатель, а не писатель судит, была ли у него, у данного автора, такая уж острая, не дающая ему перевести дух потребность сочинять свои произведения.
Это пространное вступление понадобилось мне лишь для того, чтобы объяснить, что я не рискую воспользоваться столь соблазнительным ответом на вопрос, заданный мне французской газетой.
Не рискую, не имею права, хотя бы потому, что были долгие годы, да и сейчас случается, что я испытывал и продолжаю испытывать кипящую необходимость поделиться некоторыми своими мыслями и наблюдениями, но далеко не всегда делаю это. Получается, что я умел и умею, мог и могу молчать. Правда, бывало и бывает, что молчание — это не всякий раз форма робости, а иногда — мужества. Устоять, не включаясь в общий хор и даже для вида не раскрывая бутафорского молчаливого рта — пусть очевидно будет, что ты промолчал, — для этого тоже требовалась некоторая отвага.
Но все-таки, почему же я пишу?
Как бы я ни старался, мне не ответить на этот вопрос кратко и афористично. Помимо того грандиозного ответа, что уже приведен мною, их много, быстрых писательских афоризмов:
…пишу, как птица поет.
…пишу, как дышу.
…пишу, как бабочка собирает пыльцу с цветков.
Приторно красиво, но, между прочим, не лишено смысла. Как говорится, все это имеет место: и птица, и дыхание, и бабочка. Во всяком случае, от многих недурных поэтов мне доводилось слышать нечто похожее.
Вообще-то, я бы рад и о себе думать подобным изящным образом. Но не получается. Беда вот в чем.
За долгие годы литературного труда были разные причины, побуждавшие меня к этому занятию. В юности — совершенно легкомысленные и, конечно же, не лишенные самонадеянного честолюбия. Невежество позволяло мне рассчитывать на успех. В свое оправдание скажу лишь — состояние это держалось во мне не слишком стойко и не чрезмерно долго. К счастью, я уже тогда любил подлинно хорошую литературу, а это понуждало меня трезво относиться к своим возможностям. Именно потому, уже начав печататься, я дважды на достаточно продолжительное время прекращал мои литературные опыты. И если подумывал, не воротиться ли к ним, то все с меньшими и меньшими надеждами на какой-либо серьезный результат.
Профессиональным литератором я чувствовал себя не подряд, а время от времени даже тогда, когда регулярно жил литературным трудом. Поверьте — это ни в малейшей степени не кокетство: просто цели, которые я ставил перед собой, были заведомо мелки, и я это отлично сознавал. И писал я тогда, потому что эти мелкие цели были для меня довольно легко достижимы. А ведь работа эта еще и кормила меня. Не слишком — но кормила.
Могла бы кормить и вкуснее и сытнее, но для этого мне следовало переступить некоторую грань нравственной, да и попросту эстетической брезгливости. И тут у меня хватало сил воздержаться. Порой даже не слишком сознательно — воротило с души, и все.
Отношение к своей литературной работе менялось у меня по мере накопления жизненного опыта: не только моего — социального, проникающего сквозь кожу, сквозь поры.
С годами появилось или, вернее, проявилось и загустело вдруг в душе, как на фотопластинке, ощущение, что на моих глазах происходит нечто необычайное — и я хотел это запомнить. Обязан запомнить. Еще не шла речь о каком бы то ни было осмыслении — западало в душу происходящее.
Мне повезло: судьба отмерила для моего обозрения и участия достаточное количество невероятных отрезков истории. Думаю, что у всякого вдосталь пожившего человека не раз возникало желание поделиться своими впечатлениями, разгрузить свою натруженную, изумленную память. Кстати: преемственность поколений в этом и состоит, во всяком случае должна состоять. Иногда на пути этой естественной преемственности возникают искусственные запруды. Всегда, во все времена, возникало властное желание отшибить людскую память, если невозможно переиначить ее в нужном направлении.
Вот тут, пожалуй, где-то поблизости и кроется ответ на вопрос, заданный мне французской газетой «Либерасьон».
В последние десятилетия я пишу потому, что хочу посильно помочь себе и читателям связать причины и следствия, то есть попытаться понять, по каким причинам мы такие, какие есть, и ощутима ли в нас возможность видоизмениться к лучшему.
В предполагаемой будущей реформе среднего образования планируется усиление производственного обучения. За счет чего же найдутся часы для этого? В первую очередь предполагается сократить преподавание литературы. И доводы тут такие: литературу преподают в школе так плохо, что это вызывает лишь отвращение школьников к предмету.
Для доказательства подобной точки зрения в газетах обычно приводятся высказывания каких-либо инженеров, медиков и прочих, утверждающих, что школа в свое время привила им равнодушное или неприязненное отношение к литературе.
По сути, идиотическое, тупоголовое доказательство. Самое большее, что из него следует, — в школе плохо преподают литературу, плохие учителя словесности. Не более и, разумеется, не менее того. По такой причине уменьшать объем и без того скудных знаний — преступление. Ведь если инженеры конструируют плохие машины или если врачи плохо лечат, из этого вовсе не следует, что на их обучение надо сокращать часы преподавания необходимых дисциплин.
А то, что учителя далеко не всегда соответствуют своему назначению, явствует из зловещей статистики последних лет: через пять-шесть лет после выпуска из пединститута около семидесяти процентов учителей бросают свою профессию и уходят на работу в совершенно другие сферы, вплоть до торговли или парикмахерской. Физики и математики — зачастую на производство. Словесники — куда попало, где получше в смысле условий работы. Педагогические институты по-прежнему выпускают необходимое количество учителей, а острый дефицит в этой профессии неизменен.
Что же касается отвращения школьников к литературе, то это тоже вранье: по честной социологической статистике, по анкетированию, проведенному в школах, оказалось, что среди ребят наибольшей популярностью и любовью обладает именно литература. Сорок один процент ответов подтвердил это. А уж следующие предметы оказались оторванными от этого уровня интереса ребят на целых десять процентов.
Да и не в процентах дело: сокращать часы литературы — это грабить душу, духовность будущих поколений!
Неподалеку от меня живет Костя Минаев.
Он добрый и вежливый алкоголик.
Пьет вся его семья.
Старуха мать, ей за семьдесят, я видел, как ее брезгливо подбирали соседи — обгаженную, заголившуюся до бедер, — она лежала в снежном сугробе в одном тоненьком старом ситцевом платье; я был убежден, что на этот раз она не выживет, но вот прошло с тех пор лет пять, и старуха жива, лакает все так же.
Жена Кости, женщина не скандальная, приветливая, — всегда вполпьяна. Работает она уборщицей то в школе, то в продуктовом магазине. Часто ходит с фингалом под глазами — с мужем они дерутся, но как-то дружелюбно дерутся, не озлобляясь друг на друга, и наутро после вечерней или ночной пьяной драки подымаются не поссорившиеся.
Сын Кости, славный парень, спокойный, тихий, прослужил на флоте четыре года, вернулся в поселок, приобретя на корабле отличную специальность электрика. Уцелев в дальних тяжких походах, он утонул в неглубоком поселковом озере, будучи пьяным на рыбалке.
Сам Костя Минаев работает шофером на канализационной автомашине. Это огромное сооружение со шлангом, похожим на жирную, грязную змею. Шланг опускается в выгребную яму, куда предварительно Костя выливает десятка три ведра воды, помешивая длинным шестом. Затем Костя запускает насос автомашины, и содержимое ямы всасывается в цистерну. Такая у него работа.
В доме Кости фантастически грязно и неопрятно. Да и сам дом выглядит полуразрушенным, заплатанным кое-как ящичными дощечками.
И все это не от нищеты, а от лени и нерадивости хозяев.
Озлобления, зависти, пессимизма — этих свойств, характерных для алкашей, — у Кости нет и следа. Он улыбчив, приветлив, вежлив, не жаден. Встречаясь, протягивает свою никогда не мытую руку, здоровается и неизменно спрашивает меня:
— Если не секрет, над чем сейчас работаете?
Вероятно, он полагает, что замыслы положено держать в тайне, но ему-то, Косте Минаеву, вполне можно довериться: он не украдет и даже может еще кое-что присоветовать.
Было однажды и так — он предложил мне:
— Я бы рассказал вам свою жизнь, а вы бы записали, могла бы получиться интересная книга.
В последний раз я встретил его лет пять назад — он умер в том году, сорока семи лет от роду, от цирроза печени, болезни пьяниц.
А тогда, встретив меня в последний раз, он снова, как обычно, спросил:
— Если не секрет, над чем сейчас работаете?
— Сочиняю киносценарий для фильма об алкоголиках.
Костя неодобрительно поморщился:
— Ну, зачем вы? Кому это нужно? Зря вы, честное слово!.. Написали бы чего-нибудь веселое, чтобы люди посмеялись, отдохнули…
В сущности, этот милый ассенизатор-алкоголик посоветовал мне то же, чего требовал Комитет по делам кино. Вот и получалось, что требования народа отлично известны руководству кинематографии.
С этой странной особенностью вкуса, миропонимания поселковых жителей — разумеется, наиболее темного их состава, — с их неприятием, с активным нежеланием видеть фильмы и читать книги, в которых описывается жизнь людей, подобных им самим, — с этой особенностью я сталкивался не раз.
Для мыслящего человека характерно желание понять окружающую действительность и свое место в ней, как бы горько это порой ни выглядело.
Люди же, влачащие бездуховную жизнь, стремятся утешиться искусством: им хочется увидеть на экране красивую, беззаботную, удачливую жизнь, полюбоваться в парках и на шоссейных дорогах этими ужасающими гипсовыми девушками с ракетками, полногрудыми, толстобедрыми женщинами, вздымающими на мощных руках сытых гипсовых детей; а из книг они обожают «ро́маны» про любовь, и непременно с благополучным концом.
И здесь дело не только в художественном безвкусии, а в мировоззрении — эти люди, повторяю, ищут утешения, они желают обманываться искусством, их даже злит и раздражает правда искусства, литературы.
Кому-то из них иногда удается сделать карьеру, пробиться в должность работника культуры — заочное образование усердно содействует этому. И вот тогда дело приобретает угрожающий характер: приобретя некоторую власть, этот работник культуры получает возможность диктовать свои поселковые вкусы.
Здесь иногда встречаешь детей со взрослыми лицами, в особенности — девочек.
Ей всего-то восемь-десять лет, она идет, размахивая портфельчиком с книжками, в школьном платьице, а лицо у нее, как у немолодой женщины, тусклое от забот. И это не ее девчоночья озабоченность — это уже выражение лица генотипа. На нем как бы записано прошлое и будущее.
Когда я поселился здесь тридцать лет назад, на улицах поселка было принято здороваться со всеми встречными. И меня приучили к этому. Мне очень по душе эта приветливость, а у детей она особенно трогательна.
Но вот постепенно, с годами, добрый обычай выветривается. Прошлым летом, встретив на моей улице мальчишку лет семи, я сказал ему:
— Здравствуй.
Он удивленно посмотрел на меня. Я спросил:
— Почему ты не отвечаешь мне, почему не здороваешься?
— А я с вами не знаком, — сказал мальчик.
И я тотчас понял, что он не местный, не поселковый, а городской.
Над рекой летним вечером невысоко над водой пляшут в воздухе поденки — крохотные мотыльки, веселые, быстрые. Их миллиарды, и никакого у них занятия, кроме этого беззаботного танца. Продолжительность их жизни — сутки: в таком стрессовом темпе долго не протянешь, — обессилев, они падают замертво в воду. Сутки — это недолго на наш людской счет. Но поденки живут в другом масштабе: вероятно, и среди них есть погибающие в младенчестве, в юности, есть и долгожители.
И весь этот цикл — сутки.
Я поздно полюбил природу.
Детство, юность, зрелые годы прошли без душевной потребности в ней, я ее не замечал; какие деревья росли в палисаднике двора моего харьковского детства — не помню сейчас, не знал и тогда. Если бы в те дальние времена силой злого волшебства эти деревья в одну темную ночь были выкорчеваны и заменены другими, наши дворовые пацаны заметили бы это не сразу.
Жалкое городское детство. Не о здоровье речь, не об отсутствии витаминов и хлорофилла. И даже не о красоте пейзажа. О том ощущении нравственности, которое изначально присуще природе.
Проклятое косноязычие!.. Попробую объясниться в любви к ней.
Любовь горожанина к природе особая — он приходит к ней измочаленный человеческими отношениями, их мутью, неустойчивостью, коварством.
…Мой сад зарос незамысловато, здесь все некошено, перемешано, — его и садом не назовешь. А участком — неохота.
Выйдешь утром на крыльцо, и навстречу тебе неторопливые волны доброжелательного простодушия, доверчивого постоянства, душевной благодарности за то, что не погубил, за то, что помог родиться… Верзила клен, растрепа, — немым и еще несмышленым прутиком я посадил его против окна моей комнаты тридцать лет назад, а сейчас он болтливо машет мне своими пятернями-листьями… Два гостеприимных дуба у ворот долго набирали силу, я запросто принес их на плече и вкопал у въезда, не надеясь, что эти два хлыстика пойдут в рост; они и зябли молчаливо лет пять, место у них неподходящее — только безграмотный глупец мог воткнуть их в землю неподалеку от старых, крепких сосен. Но какая-то сокрытая сила, уверенность в своем мощном семени не дала им погибнуть даже в свирепый карельский мороз; накопив богатырский сок, они медленно двинулись вширь и вверх. Им сейчас тоже под тридцать, как всему, что растет в нашем саду. Для дуба — младенчество. Не троньте их.
С весны поселилась в моем саду сорока. Где ее гнездо, я не знаю. Быть может, живет она в сосновом лесу за забором.
Но деревья, растущие у меня, огород, кустарники чем-то привлекают ее — сто раз на дню она появляется здесь, летает, скачет по ветвям, по земле.
И это приводит в бешенство моих постоянных, многолетних жильцов — дроздов. Ни воробьи, ни скворцы, ни синицы нисколько не волнуют их, а вот к этой одинокой сороке они испытывают слепящую ненависть. Корма в моем саду хватает для всех с избытком, никакими химикатами я не пользуюсь, на дюжине старых яблонь, на липах, кленах и кустах полно гусениц, червей, насекомых — клюй вволю, сколько твоей птичьей душеньке угодно.
Почему же мои дрозды так ненавидят всего-то одну эту сороку?
Гнезд ихних она не разоряет, птенцов не губит, но стоит ей появиться в пределах дроздовьей видимости, как они с воплями, с решимостью смертников-камикадзе с высоты кидаются на нее. Заклевать ее они не могут, да и не пытаются, и она это отлично понимает, но коммунальный скандал, поднятый дроздами, оскорбляет ее, и она, не слишком торопясь, с достоинством улетает.
Кажется, я все-таки понял причину ненависти дроздов к этой сороке. Она чересчур нарядно одета.
Они, трудяги, всю свою жизнь в серенькой робе, как в спецовке, честно вкалывают, исполняя свой долг, кормят семью, растят детей, а эта залетная штучка, гастролерша, выпялилась в концертное платье, с черным длинным шлейфом-хвостом и ослепительно белым бюстом, и на рукавах-крыльях белая вышивка, а, между прочим, петь-то она совершенно не умеет, и поселилась, тунеядка, на чужой жилплощади — еще, чего доброго, мужей уведет.
Висит объявление в нашем поселковом книжном магазине:
«14-го августа будет производиться подписка на собрание сочинений А. Вознесенского. При подписке необходимо иметь при себе местный паспорт и паевую книжку сельской потребительской кооперации».
Вот и сбылась давняя мечта Некрасова, когда мужик не Блюхера и не Милорда глупого — Андрея Вознесенского с базара понесет.
В поселковом Доме культуры висит огромный щит, на котором перечислены многочисленные кружки — вокала, музыки, художественного чтения, кройки и шитья. И еще такие:
«Зажги свою звезду».
«Души золотые россыпи».
И мне очень захотелось записаться в эти кружки, чтобы зажечь мою звезду и докопаться наконец до золотых россыпей моей души.
С улицы имени профессора Попова — она упирается одним концом в мой забор — доносятся по субботам истошные женские вопли:
— Помогите!.. Помогите!..
Это средь бела дня.
На помощь никто не идет — и я в том числе: вся наша улица Связи и улица имени профессора Попова знают, в чем дело и что последует далее.
Далее тот же женский голос вопит:
— Бандит! Сволочь идейная!..
А в ответ — голос мужчины:
— Сука! Ты меня идеей не попрекай!..
Минут двадцать они так орут, все более и более утомляясь.
Вероятно, можно было б орать у себя в доме, затворив дверь, но им обоим интересно информировать две наши улицы: мы все должны знать, что он — идейная сволочь, а она — сука, перед которой он защищает честь своей идеи.
Ему, Петру Васильевичу, семьдесят четыре года. Он отставник, демобилизован лет двадцать назад.
По поселку ходит в высоких резиновых галошах на босу ногу. Сильно полуграмотен, хотя и не догадывается об этом. У него пенсия — сто восемьдесят рублей. Всю пенсию отдает жене. Выпивает же, и изрядно, на те деньги, что прирабатывает мелкой халтурой — плотничает не слишком умело, кладет фундамент, все это любительски, однако на водку заработанных денег вполне хватает.
Случается, запивает крепко и, не в силах дойти метров триста от поселкового «Уюта» до своего дома, валится на дорогу замертво.
Не стесняется этого, иногда лишь поясняя:
— Вчера я, знаете ли, выпил немножко лишнего…
Небольшого роста, крепенький, ровно толстенький, в очках, лысый, он производит вполне приличное впечатление: если б сидел на каком-либо собрании в президиуме, никто б не догадался, что пьяница.
Любит порассуждать:
— Я, знаете ли, привык анализировать: пытаюсь понять, что за человек моя жена? — (Они прожили пятьдесят лет вместе.) — И мне кажется, понял. Ее отец был в царское время сельским старостой. Привык командовать семьей. От него она и переняла это… Или вот: сидит у вокзала, торгует ягодами, зеленью. Мне, как бывшему офицеру, противно, а она требует, чтобы я поливал огород. Я ей прямо заявил: твой частнический огород поливать не буду. И питаемся отдельно…
Баба у него действительно противная — старая раскоряка в очках, со злым лицом и въедливым голосом, на базаре торгует со страстью.
В последний раз, когда они лаялись во весь голос, поливая друг друга мутными помоями брани, именно в этот момент состыковались в космосе два наших корабля.
Из ходовых нынче формул: «Добро должно быть с кулаками», «Добро должно уметь постоять за себя» — люди легко отсекают понятие добра и охотно оставляют вторую часть: кулаки и «постоять за себя».
Мой сосед, заводской мастер, — страстный и умелый рыбак. Ему не дали билет на право ловли в заказнике. Он всяко пытался получить это разрешение у егеря. Жаловался мне сокрушенно:
— Не нашел с ним общего языка. Не получился у нас с ним общий язык.
Я не сразу догадался, что «общим языком» он называет взятку: ему не удалось всучить егерю ни бутылку, ни деньги.
А вообще-то говоря, это довольно точное обозначение взятки — общий язык. Вроде эсперанто.
Вчера, возясь в своем саду, я долго слушал разговоры дроздов-родителей со своими детьми.
Крупные, но еще бесхвостые, неуклюжие птенцы были выпущены родителями из гнезда на самостоятельную прогулку. Гуляли птенцы в высокой траве неумело, путаясь в ней ногами и сваливаясь на сторону.
Мать переговаривалась с ними, как с балкона, — с дерева.
Я отчетливо различал совершенно разные интонации:
Поощрительные.
Укоризненные.
Остерегающие.
Шутливые.
Птенцы задавали вопросы, мать терпеливо отвечала им. Порой вмешивался отец, его реплики были построже, но мать унимала его, уговаривала не сердиться.
Птенцы восхищались всем, что впервые увидели на земле, они еще никогда здесь не бывали, их восклицания были наивны. А мать гордилась, что родила их и вот теперь уже поставила на ноги, — соседи, живущие на других деревьях, могли полюбоваться на ее потомство.
Я мог с легкостью подставить под все эти птичьи звуки человеческие слова, но это был бы дрянной и неточный подстрочник. Меня восхищала непонятная речь дроздов, ее чужеземное звучание. В ней не было ни усталого остервенения моей соседки Зины, орущей на своих детей, ни этой обрыдлой акселерации подростков.
Я не сразу догадался, кто это там цокает в густых сосновых ветвях. Я подумал — какая-то птица. Однако ее голос был совсем незнаком мне, хотя уши мои уже привыкли различать всю пестроту звуков птичьего населения окрестных угодий. Правда, я не дошел еще до той вожделенной тонкости, чтобы по звуку определять название птицы, но откликаться душой на знакомое разноцветье их голосов уже умею.
Три сосны и две ели стоят в самом мусорном углу моего садового участка. Здесь всегда пасмурно, солнечные лучи вязнут в густой хвое. Затесался сюда еще старый телеграфный столб, когда-то проходила по нему линия связи, но ее давно упразднили, провода оборвали, и столб этот служит концертным инструментом для дятлов — весной они выстукивают на нем свои мелодии, открывая музыкальный сезон. Иногда на вершину столба прилетает большая, пожилая, неопрятная ворона; грузно, по-хамски усевшись, она тотчас обильно гадит и, задремывая, во сне время от времени по-старушечьи валится на сторону, но тут же подправляет себя крылом.
В этот угол я редко захожу, здесь место непуганое, свален у забора всякий хлам, а за забором стоит неряшливый, сорный лес. Изредка только я пилю здесь ножовкой на козлах обломанные прошлогодние сучья.
Вот так пилил в то утро и услышал вдруг странный незнакомый звук, идущий сверху, не то с ели, не то с сосны. Кто-то цокал там или чокал — «ц» было похоже на «ч». Звук был забавный, веселый, словно кто-то радовался, что у него так получается, и поэтому наддавал еще и еще.
Поглядев туда с минуту, я увидел шевеление лапника не на самой высоте сосны, а метрах в семи над моей головой; и тотчас из хвойной гущины, пританцовывая на ходу, выбежала на оголенный конец ветки белочка. Она была совсем юная, меньше своего пушистого упругого хвоста, поставленного трубой к ее маленькому телу; словно крохотный детский паровозик бежал в обратную от трубы сторону и подавал на ходу сигналы — цокал, — чтобы ни на кого не наехать.
Вообще-то, белки забегали на мой участок и разбойничали в скворечнях, где бы я их ни прилаживал — даже на тонких окоренных жердях. Но делали они это втихаря, и были они всегда взрослые белки, отцы или матери семейства.
А тут прямо над моей головой, бесстрашно и небрежно поглядывая на меня, будто ничего удивительного во мне нет, спускался все ниже бельчонок. Дела никакого у него не было, и цоканье его звучало вроде бы детской песенкой или стишком, который он зубрил, чтобы не забыть. Он позволял мне сколько угодно любоваться им, и даже, мне казалось, кокетничал со мной — быть может, это была девчонка.
Назавтра я снова пришел сюда в угол, уже без ножовки, не пилить сучья, а на свиданье с этим малышом. Прихватил я с собой кедровые орешки, хотелось мне побаловать его блюдом повкуснее, но он не появился ни в тот день, ни на следующий: оставленные на пнях кедровые орешки так и лежали нетронутыми.
Не признаваясь себе, что все-таки жду его, я провозился здесь еще с полчаса, найдя занятие — принялся рвать с корнем густую крапиву.
В зарослях ее валялся на земле отгрызенный хвост бельчонка.
Соседского кота я давно терпеть не мог, а теперь — возненавидел убийцу.
Прошло недели две, погода все это время пылала сухим зноем, зелень обморочно никла, листья сирени загибались трубочкой, черемуха все сильнее червивела, с кустов смородины опадали мертвые ягоды-недоноски, мелкая, порошковая пыль подолгу зависала в воздухе.
Пытаясь спасти изнывающую от жажды яблоню, я поливал приствольный круг из тонкого резинового шланга, — занятие это было почти бесцельное: водонапорная башня не поспевала в эту жару наполняться, хотя два насоса качали воду из глубоких скважин круглые сутки.
Беспомощная струйка сочилась из моего тонкого шланга на копаную землю под яблоней, я подолгу держал его над одним и тем же местом, дожидаясь, пока не наберется лужица: вода сперва уходила бесследно в оголодавшую сухую почву, затем на ней начинало расплываться мокрое пятно, медленно превращаясь в маленькую лужу, — и я делал следующий шаг по приствольному кругу. Работой это не назовешь, занятие нуднейшее; озверевшие от безнаказанности комары переливали в себя мою кровь — видимо, она им очень подходила по группе; загрузив ею полное брюхо, улетала одна армада, мгновенно сменяемая другой, они пикировали и планировали на меня с душераздирающим жужжанием, а я ничего не мог поделать, мои руки были заняты этим бессмысленным шлангом.
И внезапно знакомое веселое цоканье донеслось до меня откуда-то снизу, из призаборных кустов спиреи, до них было всего метров пять невысокой травы.
В траве я не успел его разглядеть — он вынырнул у самых моих резиновых сапог. Я не пошевельнулся, остерегаясь вспугнуть его, но это совершенно зря: его разбирала жажда общения — он взобрался на ступню моего сапога, хотел всцарапаться по голенищу повыше, но оскользнулся; нисколько не растерявшись, он залихватским жестом мушкетера заложил свой пушистый хвост себе на спину — с изнанки хвост был еще пушистее и во всю его длину проходила темная роскошная полоса, как у чернобурки; подняв ко мне свое остренькое игрушечное лицо с крупными, выпуклыми глазами добряка-гуляки, бельчонок процокал мне, что прежде всего он хотел бы срочно напиться воды. Во всяком случае, я понял его именно так и не ошибся. Сбежав с моего сапога на землю, он осторожно приблизился к лужице и лакнул из нее, но тотчас фыркнул, вроде бы даже кашлянул и замотал головой. Я понял, в чем дело: с весны в приствольных кругах лежал неглубоко закопанный свежий коровий навоз, а сейчас, растревоженные поливом, его мелкие сухие вонючие частицы всплыли на поверхность лужи.
Как выйти из этого мерзкого положения, мы с бельчонком, не договариваясь, придумали за одинаковое время: побегав по приствольному кругу, он приблизился к тому месту, куда я заново перенес шланг, положив его конец на землю. Теперь уж все было просто — бельчонок спокойно лакал воду из тихой струи. А я говорил ему различные бессмысленные слова, твердо веря, что для душевного общения точные слова вообще не нужны — можно лопотать что попало, лишь бы исходила из них эманация дружелюбия и милосердия.
Мы пробыли вместе еще с полчаса, а затем я, видимо, наскучил ему, и он ушел от меня в кусты спиреи. За ними, за забором шла широкая пыльная проезжая дорога, и не было тут ни одного дерева, на котором бельчонок мог бы спастись от внезапной опасности. Впрочем, он был храбрым парнишкой, а может, девчонкой — этого я не удосужился рассмотреть. И храбрость его была самой чистой пробы — от доверия ко всему сущему.
До конца дня ему не удалось уцелеть.
Я услышал урчание остановившейся за забором машины, хлопнула дверца, и чей-то пронзительно-восторженный голос вонзился в тишину:
— Боже, какая прелесть! Ты только посмотри на него!.. Осторожнее, он царапается!..
Машина всхрапнула всеми своими лошадиными силами, и туча пыли застила небо за кустами.
Я не сумел спасти двух маленьких добрых зверьков.
Эка невидаль! Столько живого гибнет на нашей земле.
А все-таки следует ли постоянно откликаться на зов своего времени? Ты связан с ним пуповиной, никогда не отрезаемой, общим кровообращением соединен.
Это чувство живет во мне всегда. И жажда откликнуться, сопережить, отозваться, вознегодовать на несправедливость и ложь, обрадоваться правде и доброте, соучаствовать тем, что пишу… Обо всем этом постоянно думаю и всем этим мучаюсь.
А порой наткнешься на стишок, написанный в гражданскую войну, во времена нэпа, в голодном тридцатом году, в лихолетье тридцать седьмого-восьмого, — наткнешься на великое стихотворение, не имеющее никакого отношения к тому, что билось, клокотало в те дни, и, наткнувшись на это произведение искусства, увидишь: грандиозные события ушли, а произведение как было великим, так и осталось навсегда великим.
Из жизненного моря, в котором ты барахтаешься в планктоне, на что откликнуться и от чего воздержаться?..
О некоторых современных молодых людях, дурно воспитанных, равнодушных, неблагодарных, теперь принято говорить так:
— Это он от застенчивости.
Или:
— Это у него комплексы.
Значит, от застенчивости он нахал. От застенчивости не помнит оказанного ему добра. А от закомплексованности не отдает денег, взятых взаймы.
Что же тогда остается на долю действительных наглецов и невеж? Разве что только убийство — все остальное разобрано стеснительными и комплексующими молодыми людьми.
Появилось немало людей, азартно бегающих на все выставки, театральные премьеры (непременно — премьеры!), бдительно следящих за новыми фильмами, не пропускающих ни одной телепостановки.
Они устают после работы, недосыпают, едят впопыхах, мечутся, лишь бы всюду успеть.
Однако зачастую это не столько от любви к искусству, сколько из желания «быть в курсе».
Увиденное, услышанное не оставляет в их душе особого следа — в лучшем случае они запоминают сюжет и фамилии артистов. И очень любят по многу раз пересказывать все это.
Но эстетически они глухи: искусство не в силах достучаться до них. Именно ими и для них придумано это идиотское слово — информация: от искусства они, видите ли, получают информацию — как раз то, что либо совершенно десятистепенно в искусстве, либо вообще не имеет ничего общего с искусством.
Назвать этих людей мещанами — непросто да и неверно. Все-таки есть у них неутолимая жажда что-то узнать, с чем-то познакомиться.
Непереносима только их адская самоуверенность в суждениях об искусстве и примитивность — не дикарей, не полуграмотного деревенского деда, а гораздо более безнадежная — это примитивность человека, летающего на реактивных самолетах, работающего с компьютером, умеющего спускать за собой воду в «туалете» (так кокетливо приучили нас называть уборную).
Читают они мало. А если читают, то безразборно.
Чтение вообще сложный процесс, требующий большего умственного напряжения. А вот телевидение и кино — попроще. Распялил глаза, посмотрел — и вроде все ясно.
Мой сосед Василий Семенович — рослый, медленный в движениях семидесятилетний мужчина, нисколько не согнутый годами, плечи и спина прямые, как у бывшего строевика.
Строевиком он никогда не был, а фельдъегерем прослужил смолоду немало. В Москве прослужил.
В том, как он держится, как разговаривает, — значительность и чувство собственного незаурядного достоинства. Однако это не то чувство собственного достоинства, которое бывает свойственно хозяйственным крестьянам или умелым, честным мастеровым. Значительность и достоинство Василия Семеновича взросли на том, что он был когда-то прикосновенен. От него зависело. И, пожалуй, главное — он сам был зависим от «больших» людей. Он был облучен ими, и в нем сохранились эти следы радиации.
Василий Семенович начитан больше, нежели многие поселковые жители. Но это тот случай, когда начитанность вредна. И не только своей крайней поверхностностью, ощущением, что он все знает, но еще и тем, что книги, прочитанные им, совершенно не затронули его душу. Любая эмоция Василия Семеновича мгновенно окрашивается им политически, до тоски однообразно политически. В его распоряжении набор колодок, как у сапожника, да еще низкой квалификации, — на эти колодки он насаживает, натягивает все, что видит и слышит, а затем, набрав в зубы сапожные гвозди, приколачивает виденное и слышанное по размерам своего ублюдочного мировоззрения.
Помимо сведений, получаемых Василием Семеновичем из средств массовой информации, он еще руководствуется собственным жизненным опытом. И это бывает страшнее, тупее, злобнее.
Говорит о нашем общем знакомом:
— Да он из белорусов. А это, знаете, какие сволочи! Подлецы белорусы.
— Ну как вы смеете так говорить! — пытаюсь я хотя бы унять его, не для того, чтобы переубедить — переубедить его немыслимо, — а чтобы не впускать к себе в душу эту пакость. — Как же можно говорить это о замечательном народе, да еще чудовищно пострадавшем в войне!
— Знаю я белорусов. Встречал. Все они подлецы.
У меня колотится сердце. Я продолжаю беспомощно вякать что-то, невольно подбирая самые рядовые, заношенные слова, сам слышу их табуреточность, полагая, что лишь этими словами можно приостановить, а может, даже напугать Василия Семеновича. Мне иногда хочется напугать его.
А он сидит передо мной с губами в узкую растяжку, в злобную на белорусов растяжку. Губы его принимают эту полосочную форму, когда Василий Семенович что-либо обобщает. Он очень любит обобщать — это избранный им путь рассуждений.
— А поляки, слыхали, что делают? Мерзавцы! Бастовать надумали… У нас сколько раз было голодно — мы ж не бастовали. Терпели, раз нужно. У них народ такой. Вся ихняя польская нация. Хитрые, подлецы: за чужой счет хотят жить. Мы их кормим…
И на поляков у него такие же губы, как на белорусов. И на наших врачей. На учителей. На молодежь.
Странно: злобность его вовсе не от зависти, а, как ему кажется, от высокой политической сознательности. Это — частично. Частично же свойство это гадючье — ужалить кого попало.
Живет он в бараке, в однокомнатной квартире без всяких удобств: малявочная кухонька, где помещаются лишь плита и крохотный столик в углу, два табурета. Комната — метров десять, матрац на ножках, стол, шкаф — все. Барак старый, ему лет за тридцать. Зимой надо топить ненасытную плиту целый день. По воду — через улицу, к обледенелой вокруг колонке. Зима в наших местах злая — до сорока градусов.
И опять-таки поразительно: Василий Семенович никогда не жалуется на условия своей жизни. Пенсия у него — семьдесят рублей. Приработать каким-либо ремеслом он ничего не умеет. Ни крестьянской, ни рабочей сноровки не нажил — фельдъегерская служба в конце двадцатых, в тридцатых годах привила ему не те навыки. Он женат на болезненной доброй женщине, бывшей домработнице. Она работает уборщицей. Детей у них нет.
Газеты, радио, телевидение снабжают Василия Семеновича горючим для рассуждений на любые темы.
— А все-таки нет у нас Пушкиных и Гоголей, — говорит он мне с раздражением.
Или, вдруг:
— Безобразий у нас много. Молодежь не хочет учиться. А почему? От легкой жизни. Все им предоставлено.
И уже совершенно неожиданно:
— Я вам так скажу: несправедливостей тоже было много — таких ответственных работников зря дискредитировали. Меня и самого привлекали на эти операции. Придешь ночью в квартиру — хорошие у них были квартиры, богатые, и человека этого знаешь, известная личность, другой раз даже по портретам знакомая, — а забираем. Нехорошо получалось, несправедливо. Я думаю, Сталин про это не в курсе был. Это все Берия, мерзавец… Конечно, и культ личности играл значение, с этим я согласен…
И снова я в ответ что-то вякаю, теперь уже совсем невразумительное. Неохота мне разговаривать с ним на эту тему.
Странная штука — право на точку зрения.
Казалось бы, о каком праве на ту или иную позицию можно говорить?
Человек так считает — и всё!
Однако же, когда молодые люди высказывают ту же критическую или скептическую точку зрения, что и у меня, я почему-то кипячусь, раздражаюсь, полагая, что я имею право так думать и говорить, а они еще не завоевали эту точку зрения.
Быть может, это объясняется тем, что, выстрадав определенную точку зрения, придя к ней в результате длинной жизни, я кажусь себе более надежным, более устойчивым в данной позиции.
Молодой же человек прихватил эту позицию с лету, только потому, что она порхает в воздухе уже расфасованная к массовому употреблению. И мое раздражение вызвано легкостью приобретения.
А раз точка зрения с такой легкостью усвоена, мне начинает казаться, что в этих молодых умах она ненадежна, она может быть с такой же легкостью сменена на иную.
Всё так.
Однако же все равно у меня нет оснований требовать у молодого человека какого-то права на его точку зрения. Этим я как бы ставлю целое поколение в безвыходное положение: ну, нет у них длинного жизненного опыта; ну, драмы эпохи миновали их личную судьбу.
Значит, выходит, что они лишены возможности судить так же, как и я?..
К счастью, им плевать на мои ограничения. В лучшем случае, я для них занудливый, старомодный старик.
В соседском саду истошно пищал котенок — его мучил мальчишка. Сестра его, девочка лет шести, плакала и кричала:
— А если тебя бы так!.. А если тебя бы так!
Мальчишка не мог представить себе, что его бы так, — он был лишен воображения в силу своей жестокости.
А добрая девочка страдала: она мучительно представляла, что ее бы так, — вот почему и нашла эту точную формулу доброты:
— А если тебя бы так?
Воображение, естественное умение мысленно поставить себя в положение страдающего — это и есть доброта.
Ту же шестилетнюю Таню я встретил прошлой зимой.
Она стояла на проезжей дороге у сугроба, в котором валялась убитая собака с отрезанными лапами. Мы с Таней знали эту собаку — она уже года два жила на нашей улице.
Таня спросила меня:
— Зачем дядя Костя застрелил Малыша?
Я не мог ей ответить.
В нашем районе обнаружились случаи бруцеллеза у коров. Прошел слух, что бруцеллез разносят собаки. Да, собственно, не слух: местная ветеринарная инспекция объявила, что за каждого застреленного пса будет уплачено по трешке.
В доказательство надлежит принести четыре отрезанные лапы.
И началась в поселке пальба: выстрел — пол-литра, выстрел — пол-литра. (В то время бутылка водки стоила два восемьдесят пять.)
Я проверил потом у грамотных ветеринаров — собаки не разносят бруцеллез.
А Таня не плакала. Она стояла, сдвинув брови, наморщив пухлый лоб, в глазах ее тлело горестное недоумение: она никак не могла понять, зачем дяде Косте, которого она знала, понадобилось застрелить Малыша, которого она тоже знала. А тут еще был и я, которого она тоже знала и который не мог объяснить ей: почему же все это происходит?
Между прочим, в положении этой девочки мне случалось бывать: хорошо знакомые мне люди творили бессмысленные жестокости над хорошо знакомыми мне людьми, и никто из хорошо знакомых мне людей не мог или не решался объяснить, зачем же все это делается!
Женщина пришла в милицию, сообщила, что у нее украли шкатулку с драгоценностями — наследство от покойных родителей. Драгоценностей было немало: кольца, броши, браслеты.
— И остались у меня только вот эти рабочие бриллианты, — она дотронулась до своих серег в ушах. В этих серьгах она ходит на работу, поэтому и называет их рабочими.
В наш заказник приехал на охоту замминистра. Ему дали в сопровождение лучшего егеря, велели, чтобы охота непременно была удачной.
Егерь, одному ему ведомыми тропами, привел замминистра к глухариному току, сумел неслышно подвести к сосне, на которой пел великолепный глухарь. Попасть в него из двенадцатого калибра было просто — расстояние двенадцать метров, мальчишка попадет. Замминистра свалил глухаря.
С трофеем вернулись в заказник. Здесь уже был накрыт стол, директор заказника угощал знатного гостя, красавец глухарь лежал у его ног, распластав огромные шелковые мертвые крылья.
Но гость закусывал и пригубливал коньяк хмуро.
Директор спросил его:
— Ну как, товарищ замминистра, понравилась охота?
— Нет.
— А почему? Глухарь-то ведь замечательный!
— Он пел плохо, — сказал замминистра.
Слово «симпатичный» толкуется в поселке иначе, чем принято: по здешним понятиям, это слово относится к внешности человека, а не к его характеру. Спрашиваю о ком-нибудь:
— А он симпатичный?
— Ничего. Но в очках.
Тяжелобольной, подозревающий, что у него рак, но, разумеется, не уверенный в этом, умоляет своего друга-врача:
— Ты мне скажи правду, не скрывай от меня. Я не боюсь — мне для дела надо. Понимаешь, если я обречен, то могу совершить поступок, очень важный для моей совести. И для людей необходимый… Никто в нашем институте не рискует сказать, что наш директор полуграмотный сукин сын. Бесчестный гад. Мы все молчим и терпим. А если у меня рак, то я выступлю и скажу всю правду… Я докажу…
Врач, рассказывавший мне об этом, не решился сообщить больному другу, что у него действительно рак. Врач подумал, что друг хитрит, чтобы выведать правдивый диагноз.
Сидя на многочисленных собраниях и слушая выступления товарищей, приходишь иногда к грустному выводу.
В прежние времена интересным считалось такое выступление, в котором содержались новые мысли — ты о них сам не догадывался, тебе что-то сейчас открыли. Нынче же особо ценится, когда выступающий произносит то, о чем ты и сам думал, но не решался, боялся произнести публично. То есть, оказывается, высокую ценность имеет не мысль, а риск ее опубликования. Значит, дело не столько в твоей мудрости, сколько в мужестве.
Мудрости, понимания нынче хватает с избытком, а вот мужества — дудки, далеко не всегда.
Прекрасное время — ночь без сна, бессонница!
В какую еще пору суток возникает потребность думать во все стороны, встречаться, с кем себе повелишь. Никто не отвлекает твоего внимания, все органы чувств дремлют в полном бездействии — бессонной ночью ты осознаешь их ничтожество. И слух, и зрение, и осязание — все побоку.
Прекрасная пора — бессонница! Независимость, пребывание в фантастическом мире, тобою созданном. Простодушие, благородство и мудрость бессонницы окрылительны… Вот потому и принимаю снотворное.
Преемственность поколений немыслима при отшибании памяти. Пресловутый жизненный опыт человека — это не только его личный опыт, но и социальная честная память. Прошлое вовсе не призвано лишь для того, чтобы подавать флагманскую команду: «Делай, как я!» История нередко учит нас иной команде: не делай, как я, не поступай, как мы поступали когда-то. И даже не думай, как мы думали когда-то.
Я иногда готов взвыть от воспоминаний о том, чему был молчаливым свидетелем. И только ли свидетелем — участником!
Году в 1950-м нас, человек двести литераторов, собрали в большом зале ленинградского Дома писателя. Секретарь Союза Александр Григорьевич Дементьев, взойдя на трибуну, торжественно сообщил нам, что примерно минут через двадцать в Москве по радио выступит Иосиф Виссарионович Сталин и мы будем иметь счастливую возможность коллективно прослушать эту речь в нашем зале.
Затем на сцену вынесли тяжелый большой радиоприемник — в те давние годы они были громоздкими. Мы сидели молча, а на маленькой нашей сцене долго устанавливали этот сундук. Его взгромоздили на низкий стол по самой середине пустой сцены.
В ярко освещенном зале бывшего дворца, с прекрасной лепниной на просторном потолке, с огромными, во всю стену, окнами, занавешенными светлыми шелковыми воланами, сидели двести писателей, то есть человек сто совершенно интеллигентных людей, и в благоговейно-церковном молчании смотрели на нелепый голый сундук радиоприемника.
А он, сундук, наблюдал нас, завораживающе наблюдал, ибо каждый из нас уже наделял его грозным могуществом.
Так, в молчании, продолжалось минут десять. Затем Дементьев, все время нервно поглядывавший на свои часы, приблизился к приемнику, включил его и стал настраивать, повернувшись к залу полуспиной-полубоком.
Что-то у Дементьева не ладилось, да и приемники того времени были не бог весть какие — по залу разносился лишь треск и грохот.
Писатели тревожно сверялись и по своим часам, уже грянула та минута, когда должен был зазвучать заветный голос вождя, а приемник продолжал простодушно барахлить, не осознавая своего значения.
В помощь Дементьеву выскочил на сцену киномеханик, вдвоем они вертели регуляторы и, наконец, добились того, что сквозь гул вселенной стал обрывками доноситься голос Сталина. Сделать его внятным не получалось.
Дементьев на цыпочках отошел в сторону и застыл лицом к залу.
Киномеханик слинял за кулисы.
Я сидел ряду в десятом. До меня доскакивали лишь отдельные слова, не складывающиеся ни в какой смысл. В подобном же положении находились все двести писателей, заполнявшие зал. Нам было известно, что Сталин выступает перед своими избирателями. Однако речь его была настолько искажена помехами тогдашней техники, что ни одна цельная фраза не добиралась до нас. Из этого сундука на сцене дребезжала какая-то невнятица. И она все усиливалась.
Время от времени я исподволь поглядывал по сторонам, осторожно поглядывал. Лица присутствующих были молитвенно сосредоточенны. Ни один лицевой мускул не рисковал расслабиться, ибо из коры головного мозга был послан категорический приказ — стоять насмерть. И лицо стояло, как часовой у знамени.
Так длилось с полчаса.
Но внезапно беспокойное звучание всей этой невнятицы прекратилось — из приемника хлынул в наш зал шквал аплодисментов. Он сорвал нас из кресел, мы вскочили на ноги и бурно зааплодировали.
Наконец-то наши действия обрели привычный смысл, осложненный, правда, тем, что никто из нас не представлял себе, в какое мгновение можно прекратить аплодисменты: обычно сигналом служит поведение президиума, но здесь сцена была пуста, на ней торчал лишь этот голый сундук, звуки его были окончательно погребены под грохотом наших восторгов. А Дементьев, одиноко стоявший в углу сцены, конечно же, не мог взять на себя огромную ответственность — первым оборвать свой руководящий аплодисмент.
Мы здорово устали в тот вечер. Физически устали.
Я стоял на обочине асфальтированной поселковой улицы, стоял бездельно, оглядывая лениво и брюзгливо надоевший пейзаж:
стекляшка «Кулинарии» напротив, через улицу;
двухэтажный скучный корпус фабрики пластмассовых игрушек с огромными немытыми окнами — из них доносился однообразный молотящий шум штампующих машин;
одноликие коммунальные жилые дома, поставленные в том месте, где недавно нарядно и весело возносились к небу подвенечно светлые березы, их была добрая сотня, роща шумела на этом месте, а теперь стояли безобразные, длинные, в два этажа каменные бараки белого кирпича под ломаной шиферной кровлей, а подле них в тоске погибало штук пять оставшихся берез — их не повалили в свое время, а сейчас это было запрещено, но они застили свет в окнах одного из бараков, и жильцы по-всякому старались извести их, подливая под корни кто керосин, кто отработанное машинное масло, кто разведенную соль. Медленно погибая, березы не догадывались, почему это с ними происходит, и каждое лето дружелюбно развешивали у окон теперь уже поредевшие зеленые культи своих некогда густых ветвей.
Остановился я на обочине передохнуть, хотя менее всего это место располагало к отдыху: мимо проносились грузовики, рейсовые автобусы, легковые машины и всякая транспортная мелочь, — время дня было бойкое, а улица втекала в ходовое шоссе.
Пешеходов было совсем мало, на моей стороне никого.
Но вот один внезапно показался. Он вышел из-за поворота и шел неторопливо, внимательно ставя ноги и строго следя за своей безукоризненно точной походкой, как это умеют делать только подвыпившие люди. Проходя мимо меня, он замедлил шаг, всмотрелся в мое лицо, понял, что мы не знаем друг друга, и, приветливо улыбнувшись, весело произнес:
— Привет человеку!
Со мной впервые так здоровались. Что-то было в этом первобытно-добродушное.
Интересная разновидность порядочного человека — хорошо знаю такого и в дружеских отношениях с ним. Я совершенно уверен в его порядочности, а смущает меня вот что. Он слишком увлечен своей порядочностью, любит многократно рассказывать о ней, и не врет при этом, даже не преувеличивает. Но жаждет, чтобы о его порядочности всем было известно лично от него.
Это не хвастовство, а нечто иное: хвастун непременно прилгнет, а этот рассказывает чистейшую правду.
Иногда с ним случается, что он загодя охотно предупреждает друзей о своем предстоящем крайне порядочном поступке, порой даже бессмысленном по своей крайности. Друзья, конечно, разубеждают его. Он горячо спорит. Но потом, когда приходит время поступка, не совершает его. А слух о том, что он хотел совершить, уже утвердился.
Люди подобного типа — очень хорошие люди, и дай-то бог побольше таких, но мне кажется, что истинная порядочность должна быть в человеке органичной, как пищеварение. А подробностями своего пищеварения неловко, не принято делиться с окружающими.
Живя в поселке, я как бы погружен в два мира. Один — огромный, с полыхающими народными страстями, гениальными научными открытиями, сменами правительств, великими произведениями искусства, и еще, и еще, и еще. А второй мир — мой поселок, точка на глобусе, невидимая даже в микроскоп. Но два этих мира — сообщающиеся сосуды, только поселок — это капилляр, и уровень того, что совершается в огромном мире, тоненько проникает к нам. Мощные средства информации, телевидение, радио, газеты доносят сюда мировые события, но здешняя действительность не зыблется. Заготовить дрова на долгую зиму, распилить, наколоть, уложить; раздобыть по весне навоз под картошку, посадить ее в срок, окучивать вовремя, собрать и уложить в погреб; грибы заготовить, кровлю, ограду, печи подправить — на все это уходит много времени и сил физических и душевных, как ни странно: все не просто — и дрова, хотя вокруг лес, и навоз, и колготное домашнее хозяйство.
Молодая учительница дала в шестом классе свободную тему для домашнего сочинения: «Самый памятный день в моей жизни».
Из сорока ее учеников один написал на полустраничке, что сильнее всего он запомнил тот день, когда его отец, напившись пьяным, избил мать мальчика и повесился в сарае на мотке электрического шнура.
Учительница, недавно окончившая заочно пединститут, внимательно прочитала и это сочинение среди сорока, нашла в нем изрядное количество орфографических ошибок и выставила оценку — двойку.
Это не в нашем поселке — в более дальнем, Отрадненском. И рассказывал мне об этом директор областного института усовершенствования учителей.
Все социальные достоинства и недостатки городской действительности как бы уплотняются в поселке — они становятся более очевидными, наглядными.
В стародавние времена различие между большим городом и захолустьем было резче во сто крат, нежели сегодня.
Сейчас все приблизилось к единой модели, утрачивается своеобразие уклада жизни. Способствуют этому мощные средства массовой коммуникации и во много раз возросшие скорости современного транспорта.
Внешние детали городской жизни — мода одежды, прическа, квартирное оборудование — тиражируются в самых дальних углах с необыкновенной быстротой.
Если к этому добавить язык газет, радио, телевидения, повседневно засоряющий, унифицирующий и вытесняющий живую речь; и если к этому еще довесить постылую одинаковость обряда целого комплекса общественных мероприятий, причем единообразие этих мероприятий блюдется с религиозной строгостью, — то все, взятое вместе, действительно стирает грани между городом и деревней.
Молодой человек, прибывший из захолустья в город, вписывается в новый уклад достаточно быстро; разве лишь бурное уличное движение может несколько обескуражить его, а все остальное он приблизительно проходил у себя дома. Да к тому же он еще и законопослушнее и управляемее, нежели городской юноша.
Вот почему, вероятно, такой молодой человек, если он еще и одаренный, способный, делает нередко великолепную деловую карьеру.
Откуда эта нынешняя любовь читателей, зрителей к документальной литературе, к документальному кино, да и вообще к историческому документу?
Я думаю, от тоски по правде, от жажды знать истину без посредников-сочинителей.
Рассуждение простое: вы мне дайте все факты, все документы, а уж выводы я буду делать сам.
Мне не надо ваших художеств, достаточно вы обманывали меня своим толкованием и произвольным недобросовестным цитированием, — я сам разберусь, только бы знать подлинную правду документа.
Сама по себе эта жажда истины понятна, однако, как и всякая повальная страсть, она таит в себе издержки.
Далеко не всякий читатель, зритель способен осмыслить непременные противоречия исторических документов. И конечно же, художественное произведение крупного, талантливого, честного писателя расскажет о времени, об эпохе кое-что и поточнее исторического документа.
Писатель способен догадаться и о том, чего не записал в свое время историк-летописец.
Под пером писателя оживает подлинная живописная картина времени.
При всем том нынешний читатель прав: уж слишком он наглотался на своем недолгом веку фальсифицированной истории, лживой литературы, слишком уж часто на протяжении коротких временны́х отрезков ему приходилось испытывать крушение иллюзий и стыд за наивность своих заблуждений. Он изверился, ему охота пощупать факт, документ.
При всеобщей грамотности понятие «читатель» безбрежно размывается, оно становится достаточно неопределенным.
В сущности, сегодня любая книга находит своего читателя. Ну, скажем для точности, почти любая.
Статистические данные иногда даже извращают картину: оказывается зачастую, что наиболее ходовым, любимым произведением является далеко не лучшее. Чрезмерное почтение к статистике при изучении читательского мнения нередко мешает определению истинного уровня подлинно высокого художественного вкуса. Здесь количество не переходит в качество. Много — это не всегда значит «хорошо». Большинство — это не всегда значит «верно». Бывали случаи в истории книгопечатания, когда большинство читателей сосредоточивалось вокруг плохой литературы. Приключается это и в наше время.
Известная формулировка «неизмеримо выросший читатель», совершенно справедливая в общем виде, слишком легко и запросто примеривается, как кепка, каждым читателем на себя — он уверенно считает, что она ему как раз впору.
А в результате это развращает и писателя и читателя. Оба они начинают преувеличивать свою значительность.
Читатель все время порывается учить, консультировать, воспитывать литературу, будучи уверен, что процесс этот несложен, примерно как в химчистке: заказ сдан и к сроку должен быть исполнен. За срочность исполнения практикуется надбавка, то есть — премия.
Поразительная попугайская способность: услышать сказанное однажды с высокой трибуны удачное словосочетание — например, «человеческий фактор» — и приняться повторять его бесчисленное количество раз где ни попадя, то есть даже там, где можно сказать об этом же хоть чуточку иначе. И, повторяя, полагают, что выражают этим верность идеям, а на самом деле это не более чем попугайский рефлекс: повторишь лишний раз и, быть может, получишь кусочек сахара.
В семидесятых годах в Мисхоре в санатории Совмина обслуживающему персоналу доплачивалось от десяти до тридцати процентов зарплаты — за вежливость. Уборщицам в корпусе десять — пятнадцать процентов, врачам и медсестрам — тридцать процентов.
А в соседних санаториях, где все это было известно, хамили вовсю — им же ни черта не доплачивалось.
Из милиции следователь звонит в больницу после дорожно-транспортного происшествия:
— Как фамилия трупа?
Профессиональный язык милиции черств и лаконичен. Иногда это перерастает в пугающий цинизм. Как-то, лет тридцать назад, встретив знакомого следователя, торопящегося по вызову к месту происшествия, я спросил его:
— На какое дело едете?
Он ответил:
— На «люстру».
Я уже знал, что́ это обозначает: человек покончил жизнь самоубийством — повесился. Работники угрозыска пытаются объяснить мне, что никакого цинизма в их профессиональном языке нет, а это непроизвольная защита от повседневной перегрузки трагическими эмоциями.
Ну зачем этой все еще красивой женщине, с дивной фигурой, отлично одетой, живущей в хорошо обставленной отдельной квартире, муж-профессор, она — доцент точных наук, — ну зачем ей с такой страстью совать свой дамский носик в литературу, искусство и даже в политику?
И все-то ей известно, и все-то она знает, и все это из десятых приблизительных рук, но она получает почти сексуальное наслаждение, торопливо пересказывая и обсуждая самые пылкие события и проблемы. Мне завидно, когда я слышу, как она решительно и свободно после театральных и кинопремьер с ходу произносит свое мнение о режиссуре, актерах, художнике и операторе. Специальная искусствоведческая терминология отскакивает от ее зубов с летучестью семечек.
Наблюдая ее нарастающую с годами суетность и все более обезжиренную, порошковую интеллигентность, я искренне жалею эту красивую и все еще молодую женщину; мне чудится, что с помощью неумело страстного прикасания к искусству она бессознательно стремится восстановить некие нарушенные природой пропорции своей чувственности.
И хочется шепнуть ей на ухо:
— Милая. Заведите себе хорошего любовника. И увидите — как гора с плеч!
Пожилая женщина, стойко оробевшая от всего, что происходило на ее памяти, пришла сегодня на собрание, где люди вольно, отважно произносили то, что они думают.
Женщина слушала, вжавшись в стул и не подымая глаз. А воротившись домой, поведала мужу:
— Мне было страшно оттого, что они видят, что я это слышу.
Пожалуй, вот это и есть самая крайняя степень запуганности.
В День Победы мой сосед, старшина милиции, гулял по нашей улице нарядный, в мундире, с медалями на могучей груди.
И всем объяснял:
— Я сегодня на возложение ходил.
Заметив в моих глазах непонятливость, пояснил:
— От сельсовета попросили меня подержать венок у Неизвестного солдата, чтоб красиво было — у меня медалей много. Ну, а потом возложение сделали. Ветераны возлагали.
Старшине сорок пять лет. Медали у него, разумеется, не военные, ерундовые. Но мужик он здоровущий, а венки тяжелые, и стоять с ними надо долго на холодном майском ветру.
В устах нашего старшины название торжественной церемонии Победы укоротилось до одного слова:
— Возложение.
Не он, конечно, укоротил: время сделало свое разрушающее канцелярское дело. Если понадобится, то можно доложить по инстанции:
— В нашем районе произвели десять возложений. А в соседнем — восемь. Мы вышли по возложениям на первое место.
Он отсидел четыре года девять месяцев, с 1950-го по 1954-й. Рассказывать об этом не может, нет сил вспоминать. Только, болезненно морщась, сказал:
— Рядом со мной на нарах лежал генерал армии… Умирал от истощения. Я-то в шахте работал. Я — ничего…
И, выпив маленькую рюмку водки, смущенно добавил:
— Я сейчас повсюду слышу: не бойтесь говорить правду до конца. А я иногда даже подумать правду до конца боюсь.
Ему сейчас семьдесят семь лет. Член редколлегии журнала. Коммунист, шестьдесят лет в партии. Воевал всю войну. Три ордена.
Кассирша нашей поселковой станции овдовела: ее мужа, работавшего в Сельхозтехнике, затянуло в транспортер и до смерти изувечило.
Жила кассирша в своем доме, а рядом, за забором жил отставник-генерал с женой. Он тоже овдовел. Ему семьдесят пять, а кассирше недалеко за пятьдесят.
Через год после своего вдовства генерал пришел к этой соседке и предложил ей выйти за него замуж.
Она очень вежливо отказала.
Тогда он подумал и сказал:
— Ну, может, хоть питаться будем вместе?
Она снова отказала. Он обиделся.
Нисколько не удивительно, когда подлый человек поступает мерзко. Никакой внезапности в этом нет: он действует согласно своему характеру. Его поведение предсказуемо и потому не слишком оскорбительно для окружающих.
Поразительно и оскорбительно иное.
Люди, о которых ты думал хорошо, — и они действительно порядочные люди в обычных обстоятельствах жизни — внезапно поступают мерзко.
В определенных предлагаемых обстоятельствах они действуют, как актеры по системе Станиславского, — они перевоплощаются в негодяев.
Наблюдая это, я ловил себя на том, что рассматривал и слушал их, как артистов, исполняющих свою роль: кто-то переигрывал, а кто-то бубнил текст без всякого выражения. Рука бездарного режиссера угадывалась всегда. Он не только бездарен, но ему еще и совершенно наплевать, верят ли зрители в его постановку или не верят.
Мизансцены рвотно одинаковы, да и текст навяз в ушах.
Следователи, оставляя свою профессию, чаще всего уходят в адвокатуру.
Я спросил у одного из них, бывшего очень дельного и честного следователя: не изменилось ли его отношение к преступнику от этой перемены профессии?
Не знаю, насколько искренно, но он ответил так:
— Ничуть не изменилось. Меня учили как юриста, что в работе следователя должны сочетаться три позиции: прокурора, адвоката и судьи. Ведя расследование дела, он обязан соединить в себе эти три точки зрения: быть прокурором, то есть доказывать вину преступника; быть адвокатом, то есть искать ошибки и неточности в доказательствах прокурора, сомневаться в его доказательствах; и, наконец, становиться в позицию судьи, то есть внутренне решать для себя, какой меры наказания достоин преступник.
Я сказал этому бывшему следователю, а ныне адвокату, что, вероятно, лабораторно, в чистом виде он прав, но на практике вряд ли существуют подобные следователи. Если бы они имели возможность и желание соблюдать все эти три условия, то не убегали бы в адвокатуру. Да и недаром же следователи так не любят адвокатов; возможно, потому, что в следовательской работе труднее всего занимать адвокатскую позицию.
И вот тут-то парадокс — не любят, а уходят именно в адвокатуру. Думаю, потому, что точно знают: адвокат, во-первых, независим, во-вторых, хорошо зарабатывает. А следователь, как правило, за десять-двенадцать лет изнашивается — это мне многие из них говорили. Для износа десяток причин, но, пожалуй, главные: слишком много дел, не дают достаточного времени для тщательного расследования, да еще и всяческое давление, не позволяющее соблюдать ни свою точку зрения, ни закон. Устают от этого, рождается равнодушие, безразличие, характерное при отсутствии независимости.
Вот какой у меня получился разговор с женщиной-химиком, кандидатом наук, преуспевающей москвичкой.
Сидели мы у меня дома — она и ее муж, художник.
Он в разговоре не участвовал, продолжал закусывать и бесконтрольно наливать «пшеничную» из восьмисотграммовой бутылки в свою стограммовую стопку. На вид он был здоровущий бугай, однако жена-химик, очевидно, хорошо знала его норму и потому уже несколько раз делала ему различные светофорные глаза, чтобы он остановился.
А разговор вспыхнул вот как.
Не помню уж, с чего началось, по какому поводу она походя произнесла:
— Ну, бедных людей у нас вообще теперь нет. Все живут хорошо.
Я спросил:
— Вы думаете, что на пенсию в шестьдесят рублей можно жить хорошо?
— Живут. Никто не голодает.
Она снова погрозила мужу глазами, а он положил руку на ее колено и посоветовал мне, улыбаясь:
— Вы с ней не спорьте. Она у меня очень умная.
Я сказал, что человек, получающий шестьдесят рублей в месяц, для того чтобы свести концы с концами, должен…
Она перебила меня:
— Но он же не голодает!
— А почему у вас такая странная мера жизненного благополучия — не голодает? Ведь человеку еще нужно обновить хоть изредка свою одежду, обувь. Уплатить за квартиру, за газ, за свет. Скажем, в театр пойти он уже не может. Да и купить какую-либо вкусную еду, фрукты ему уже не по карману…
— А ничего этого ему не нужно, — убежденно сказала она. — Уверяю вас, он совершенно удовлетворен тем, что у него есть. Когда мы с Федором жили еще в коммунальной квартире, рядом жила старуха-пенсионерка, она получала пятьдесят рублей. И ей на все хватало. Уверяю вас, она была совершенно довольна.
Я продолжал возражать, но доводы мои были неубедительны, мелки — глупо было спорить на этом низком и презрительном уровне, и я испытывал раздражение против этой семейной пары моих гостей, раздражение, возникшее внезапно, потому что до этого спора они оба были мне симпатичны, а сейчас вдруг мне стала неприятна туго натянутая, блестящая, румяная молодая кожа на скулах и щеках округлого лица женщины-химика, ее голые до плеч упитанные руки; а супруг ее, такого крупного размера, что под ним поскрипывал стул, закусывал беспечно и с видимым удовольствием вливал в себя стопки «пшеничной».
Вдвоем эта семейная пара получала шестьсот рублей в месяц, детей у них не было, но она позволяла себе по-барски полагать, что тысячи и тысячи стариков и старух живут в полном достатке на маленькие деньги и достаток этот определяется тем, что этим старикам «решительно ничего не нужно — все, что им надо, у них есть».
Оттого, что они были моими гостями, впервые пришли в мой дом, я не мог сказать ей той грубости, которую хотел сказать:
— А кто дал вам право, мадам, делить людей на тех, кому нужно и кому не нужно? Значит, вам и вашему бугаю-мужу шестьсот — это только-только, поскольку у вас высшие запросы, а эти низшие существа, без всяких запросов вполне счастливы, им хватает…
Раздражение мое особо пузырилось еще и потому, вероятно, что я и сам знал людей, которым хватало шестидесяти рублей в месяц. Ни о каком театре они не думали, и самая неприхотливая пища удовлетворяла их, и одежду свою они не собирались сменять, даже если она сильно износилась, — штопали, латали и обходились. Знавал я таких людей, которым так мало надо было под конец их трудовой, честной жизни.
Но бессовестно было делать из этого сытый вывод, что люди эти от природы таковы и лучшего они не заслужили, даже если они сами так считают.
Наша вина, что они так считают.
И наша вина, что они так живут.
Школьному учителю в поселке трудно — сложнее, нежели городскому.
Между городским учителем и его учениками естественная дистанция: дети видят его всегда в собранном, отмобилизованном состоянии — на уроке, в коридоре школы, в учительской, на экскурсии, на классном собрании. Он всегда для них учитель — плохой или хороший, это уже другое дело. Ничего «личного», «частного» они о нем не знают.
В поселке же учитель повседневно просматривается навылет, насквозь, в любом виде: он стоит в очереди в магазине, ходит с ведрами по воду к колонке, сажает картошку на своих сотках рядом с сотками учеников; при езде в автобусе его толкают сами же ученики или их родители. И семейная жизнь учителя у всех как на ладони.
В поселке он фигура затрапезная, будничная, рядовая. Так стало. Раньше, много лет назад было не так: личность учителя уже авансом, наперед пользовалась в деревне всеобщим уважением.
Почему?
Потому ли, что когда-то их было мало, оттого ли, что грамоте не все вокруг были обучены, а может, общий золотой запас народного уважения еще умели тогда расходовать разумно, не тратили его на кого попало, как придется, и запас этот пополнялся, а не тощал.
Но сейчас — не об этом.
В поселке надо быть очень хорошим учителем и повседневно безупречным человеком, чтобы дистанция уважения к нему сохранилась.
Среди многих добрых, умных, любящих свою работу и умеющих ее делать школьных учителей, которых я знал в поселке и знаю нынче, была одна странная фигура — историк Харитонов.
Сейчас он уже несколько лет как на пенсии, а познакомился я с ним еще в те годы, когда наш населенный пункт был районным центром, и Харитонов был тогда завкультотделом рика.
В конце пятидесятых годов райцентр переместился далеко в сторону от нас, и мы превратились в жителей ничем не примечательного, заштатного поселка. Нам-то, рядовым гражданам, все это было, как говорится, без разницы, а вот бывшим работникам районного масштаба надо было как-то устраиваться.
Харитонов стал учителем истории. Нашлись у него какие-то давнишние потертые документы об окончании вечерних педагогических курсов, затем что-то он заочно досдал в пединституте и получил диплом. Произошло это с ним, когда ему было под пятьдесят.
Не знал я человека тоскливее Харитонова.
За те двадцать пять лет, что мы с ним знакомы, мне так и не удалось поймать на его увесистом всегда пасмурном лице даже следа улыбки, хотя я за ней старательно охотился.
Признаться, это меня немножко раздражало, — ведь не я его, а он меня останавливал на поселковой улице и спрашивал:
— Ну, что у вас новенького?
И бывало, что я рассказывал ему забавные истории, — по моим представлениям, они могли бы вызвать какое-то оживление Харитонова, — однако, выслушав их без видимого соучастия, он тотчас выкладывал свое суждение, внезапное по своей скучной ординарности.
Похоже было, что в его мозгу расположен некий детский конструктор со скупым набором деталей, из которых он умел на ощупь, вслепую собрать лайнер, синтезировать животный белок, построить систему связи межпланетных цивилизаций, а уж разобраться в таких элементарных вещах, как философия, история человечества, взаимоотношения современных поколений, — все это проделывалось Харитоновым до того просто, что я едва поспевал глупо хлопать глазами.
Мне хотелось возразить ему, но он цепенил меня, словно я объелся огромной дозой снотворного. Иногда все-таки, проломив это оцепенение, я начинал спорить с ним, но мои возражения поражали меня самого своей тупостью. Изменялась при этом даже моя лексика, мой словарь — он становился убогим, мне попросту недоставало слов, они куда-то девались на то время, что передо мной стоял учитель истории Харитонов.
Проще всего было бы сказать, что мы с ним разговаривали на разных языках. Нет, к сожалению, мы пользовались одним и тем же языком.
Но Харитонов умел каким-то унылым своим колдовством умерщвлять мысли собеседника, сокращать запас его слов, и я даже думаю, что если б он очень расстарался, то мы бы вполне смогли объясняться с ним жестами.
Все это еще не так уж странно. Скучных, ограниченных людей, обладающих магнетическим умением подгонять собеседника на свой размер, мне приходилось встречать.
Но с Харитоновым дело обстояло сложнее.
Он был пожираем страстью, совершенно не характерной для индивидов подобного типа: у Харитонова была большущая личная библиотека, почти все свои заработки он тратил на книги, нередко — на хорошие книги. И он не просто коллекционировал их, а добросовестно читал.
Загадочным же было то, что это не имело решительно никакого значения. Вся мировая литература проливалась сквозь него, как вода сквозь крупное решето. Валун, омываемый морем, хоть как-то обтачивается, становится глаже, принимает некую причудливую форму — Харитонов же противостоял бурным потокам человеческой мысли, словно гранитный утес.
Когда я пытался и пытаюсь понять происхождение этого феномена, — а он не единичен, — то мне приходит на ум лишь одно объяснение.
Харитонов увлекся книгами в том возрасте, позднем, когда мышление его уже плотно слежалось, «схватилось», как говорят бетонщики о слишком долго хранящемся цементе. «Схватились» в мозгу Харитонова те элементарные идеи и сведения, которые проникли туда в ранней юности. И ни время, ни литература уже не в силах раскрошить, раздробить эту бетонную подушку.
Размышлял я еще и о том, есть ли что-нибудь общее между нашим учителем Харитоновым и давними учителями — Беликовым или Передоновым?
Нет. Свойств человека в футляре или мелкого беса я не замечал в поселковом учителе. Он — явление, которое нельзя объяснить «родимыми пятнами» прошлого. Скорее даже — от него могли бы пойти родимые пятна в будущее, если бы время сейчас не изменилось.
В школе его не любили ни учителя, ни, тем более, дети. И он платил им той же неприязнью.
А уволить его нельзя было — это акция немыслимая и в городской школе: дисквалифицировать плохого учителя только потому, что он не умеет преподавать, только потому, что он плохой учитель, — штука немыслимая. Вот если бы он совершил какую-нибудь аморалку, если бы на него какая-нибудь негативка поступила…
И вот дождались, покуда он вышел на пенсию.
А то, что за время своей работы он внушил сотням ребят глубокое отвращение к истории, — это мало кого заботило.
Анна Дмитриевна, маляр по профессии, работящий, хороший человек. В поселке ее семья недавно, всего лет семь. Приехали они из-под Тамбова: Анна Дмитриевна, муж-столяр и пятеро их детей.
По деревне она тоскует, по корове скучает, по гусям. Не по доходу от них, а по общению с ними. Корова у нее была умная и главный гусак очень толковый. С коровой Анна Дмитриевна разговаривала, потому что та ценила, что с ней беседуют.
— Вежливость ценила: если придешь к ней нервная, не так что скажешь, она молоко зажмет. Или даст, а потом ногой опрокинет полное ведро. Обижалась на грубость.
А муж-столяр, руки золотые, пил в деревне, еще лютее пьет в поселке. Скандалит дома, материт жену, орет про нее похабство. Когда на вино денег нет, выпивает дома что попало — одеколон дочерей, хвойный экстракт, клей БФ. Сын приехал на побывку из армии, купил в поселковом универмаге три пузырька зубного эликсира, положил в свой чемодан. Столяр открыл гвоздем чемодан, перерыл вещи, нашел пузырьки и все выпил.
Укладываясь перед отъездом, сын заметил отсутствие эликсира. Подошел к валяющемуся на постели отцу:
— Я тебя просил рыться в моем чемодане?
Столяр натянул на голову одеяло и заскулил:
— Ну, бей, бей своего отца! А я в твою часть напишу, что ты бьешь своего отца.
Сын сказал:
— Неохота руки марать.
Сажали столяра на пятнадцать суток, посадили раз и на год, когда он избил жену.
С этого раза бить опасается, но жизни от него все равно нет: напившись, орет, что все пятеро детей прижиты женой от других мужиков, невесть что орет.
Лечиться не хочет, не признает себя алкоголиком:
— Пил и буду пить. Я не алкоголик: вещи из дома не выношу. Алкоголик — это когда вещи из дома выносит.
Этажом ниже, в том же новом пятиэтажном доме, живет другая несчастная женщина, муж ее так же пьянствует, — оба мужа хитро от милиции бегают.
И вот две эти женщины, скинувшись, взяли в поселковом бытовом ателье магнитофон напрокат. И стали записывать на пленку оскорбления и матерную брань своих поддатых мужей.
Записали, снесли в милицию.
Начальник отделения вызвал обоих работяг, поставил им эту пленку прослушать. Запись получилась хорошая, даже мычание отчетливо звучало.
— Ну, как? — спросил начальник. — Как полагаете, на пятнадцать суток потянет?
Вот и такими затейливыми путями доходит НТР до нашего поселка.
Есть такая бодрящая фраза:
— Правда у нас всегда торжествует. Это закономерность нашего образа жизни.
И звучит это вполне успокоительно: дескать, напрасно вы, гражданин, кипятитесь, напрасно, дорогой товарищ, негодуете и даже злобствуете — правда все равно себя окажет.
И она действительно оказывает себя; если рассуждать исторически, то почти всегда. Так-то оно так, но случается это, когда человека, которому она более всего необходима, жизненно необходима, уже давно нет в живых. Или он до такой степени измучен, что ему уже все ни к чему.
Собрались в дождливую погоду в санатории человек десять: ученые, писатели, композиторы, кинематографисты. От скуки затеяли нехитрую игру-эксперимент: предположили, что каждый из нас внезапно получил колдовскую возможность передвигаться во времени — в грядущее и в былое, в любые годы любого века. На листочке бумаги, не показывая друг другу, мы записали, в каком именно времени нам хотелось бы сейчас очутиться. И оказалось, все мы, десятеро, совершенно различные по возрасту, образованию, нравственному уровню, выразили единое стремление — перенестись в прошлое, в минувшие века, более всего в Россию девятнадцатого века.
Я рассказал об этом Анне Андреевне Ахматовой. Спросил, не может ли она попытаться объяснить это странное единство — почему никто не пожелал перенестись, заглянуть в будущее?
Она ответила легко, тотчас, словно играла в эту игру неоднократно:
— Будущее страшит нас: все мы можем превратиться в пыль.
Завуч вечерней школы обратилась к учителю:
— Я смотрела журнал вашей группы, у вас там трое учеников без оценок.
— Не беспокойтесь, Анна Ивановна: в четверти нарисуем.
Этот учитель, невесело улыбаясь, поделился со мной:
— У нас в школе, в сущности, двухбалльная система оценок. Пятерок и двоек мы никому не ставим. Ученику, который открывает рот на уроке, — тому четверка. А кто совсем молчит — три.
Тихоатлантическая сельдь.
Так написано в рыбном магазине. И не сразу заметишь ошибку: товаровед создал гибрид из двух мировых водоемов — Тихого и Атлантического.
В интеллигентской среде довольно широко распространено оправдывающее суждение о каком-либо малопривлекательном человеке:
— Ну, что вы хотите? Надо принимать его таким, каков он есть.
А мне, например, совершенно неохота принимать его именно таким, каков он есть! Самоуверенное, самолюбующееся хамло́, завистник, ни одного искренне доброго слова о друзьях, да еще рядится в свитер тираноборца — почему я обязан принимать его таким? Даром он мне не нужен!
А еще иногда уговаривают так:
— Нас, нашего поколения, осталось мало, надо держаться друг друга.
Не стоит, по-моему, идеализировать наше поколение. Дряни хватало. Да и какое же возможно единомыслие только на основе одинаковых паспортных данных?
Нынешней весной в поселке два самоубийства — два алкоголика повесились.
Я спросил у одной из вдов: как же это произошло с ее мужем?
Она ответила:
— Вино заставило.
Эту фразу — «Вино заставило» — здесь произносят обыденно, как неизбежный зов потусторонней силы.
Она рассказала, что муж ее пил давно, мучил семью, его уже гнали из дома, он продолжал свое. А тут вдруг сутки провел трезво, лег спать трезвый, в чистом исподнем. Перед сном сказал ей:
— Завтра я от вас уйду.
Под утро она услышала, что он поднялся, пошел к дверям.
Спросила:
— Ты куда?
Он ответил:
— В туалет.
Подремав совсем немножко, она открыла глаза — его все нет.
— Я подумала, чего это он там так долго сидит в туалете. Пошла проверить, а он — висит.
Второй мужик ушел из жизни иначе. С утра долго клянчил у жены два рубля на опохмелку. Ходил следом, ныл, приставал. Она не дала.
— Ах так! Ну, ты у меня попляшешь… — вызверился и убежал в сарай.
Там назло жене и повесился. И она мне тоже сказала:
— Вино заставило.
Врачи-психиатры говорили мне: суицидальные мысли преследуют алкоголиков. А если перевести это с медицинского на русский — пьяницы, алкоголики кончают жизнь самоубийством весьма нередко.
Вчера зашел ко мне мой сосед, бывший фельдъегерь. Я колол дрова. Мы сели на чураки, закурили.
В его беседах со мной иногда мелькает обращение «ты», осторожно мелькает, прощупывая чувство равенства. А я, свободно «тыкающий» множеству соседей, впрочем, так же, как они мне, с Василием Семеновичем не могу переступить эту грань и продолжаю говорить ему «вы».
Сперва мы побеседовали об урожае нынешнего года. Вел беседу, как всегда, Василий Семенович. Он сообщил мне благополучные сведения из программы «Время».
А затем вдруг сказал:
— Все-таки я не согласен, что Маяковскому поставили памятник. Как же это так? Коммунист застрелился, покончил свою жизнь самоубийством, а ему памятник?
В ответ я, как всегда в общении с этим фельдъегерем, мгновенно и непроизвольно погружаюсь на дно человеческого уровня.
Я говорю ему:
— Маяковский был беспартийным.
— Как же беспартийный, когда он состоял. Я сам читал, сейчас не помню где. Но точно. И как же это так, взять и застрелиться, лишить себя жизни, когда человек должен бороться, должен отстаивать свои идеи до победы… Нет, с памятником я не согласен, не надо было ему ставить, раз он не выдержал борьбы…
— Но ведь, случалось, и другие стрелялись. Фадеев, например, а был коммунистом.
— Фадеев — из-за сына. Я тебе сейчас расскажу. У одного артиста, очень знаменитого, фамилию его забыл, очень известный артист, — у него дочь-девушка была. И вот этот сын Фадеева пригласил ее за город в гости. Они поехали на машине, приехали на какую-то дачу, зимой это было. А там музыка на даче. Ну, снял этот сын с девушки ее шубку, повел в комнату, где музыка. А там танцуют пары — и все голые!..
Я грубо, со злостью перебиваю его:
— Плюньте в глаза тому кретину, который рассказывал вам эту брехню! Про знаменитых людей обыватели, мещане всегда плетут черт знает какие грязные сплетни… А сын Фадеева был маленьким мальчишкой, когда отец погиб.
Бывший фельдъегерь, а ныне мой сосед несколько обижен:
— Обывателей я не слушаю. Мои сведения были от больших людей. Когда я служил, мне большие люди рассказывали. Я тогда многих знал. Из охраны. А у них точные сведения были…
Нигде я не чувствую себя таким евреем, как на еврейском кладбище.
Я прихожу сюда раз в год на могилу родителей. Они лежат рядом, похороненные более двадцати лет назад. Мать пережила отца на полгода, могила узка для двоих, в ограде не удалось поставить скамейку.
Мои приходы на кладбище ни к чему не приурочены. Никаких дат я не помню: мои родители никогда не праздновали дней своего рождения, а даты их смерти я забыл.
Разумеется, и у евреев есть дни поминовения мертвых, но я их никогда не знал. Моя память давно обрусела, и только в недрах ее, как лава в земном ядре, колышутся воспоминания моей этнической группы.
Ритуал посещения еврейского кладбища мне смутно известен. Где-то здесь при кладбищенской синагоге существует «Хе́вре кады́шим» — «Погребальное братство». Членов этого братства можно нанять для исполнения необходимого религиозного обряда.
По обряду сын произносит на отцовской могиле поминальную молитву «Ка́дыш». Ни слов, ни смысла ее я не знаю, но ритм и трагическое звучание «Ка́дыша» знакомы мне с детства: ее положено произносить напевно, со все возрастающим колдовским завыванием.
В нынешнее время уже редко встретишь сыновей, знающих эту молитву, — «Погребальное братство» предлагает им свои услуги.
Стоя у могильного холма, нанятый человек исполняет печальную роль осиротевшего сына: от его имени он обращается к Иегове, но никому не ведомо, доходят ли эти платные слова до Иеговы, угодны ли они ему.
Мой отец верил в Бога буднично, по-домашнему, вера его с годами угасала, не получая подтверждения в поступках человечества. К кладбищенской артели «Хевре кадышим» отец относился иронически, он называл ее «Хевре гановим» — «Воровским братством»: алчность подобных артелей повсеместна для всех вероисповеданий.
Хоронили отца, когда еще была жива мать, в живых были старики дядья и тетки — ради них мы соблюли положенный обряд погребения. Да и не только ради них: нам, пожилым детям, невмоготу было немое расставание с отцом, таинство смерти требовало исхода в словах, и чем загадочнее слова, думали мы, тем лучше. Непонятна смерть — непонятен и язык общения с ней.
В тот день с утра лил долгий осенний дождь.
В кладбищенской синагоге было натоптано, полы здесь не мылись давно, пустые стены обшарпаны, голая электрическая лампочка висела над открытым гробом, он стоял на длинном столе с оцинкованной столешницей.
В гробу лежал отец, одетый в белый саван поверх костюма. От савана в нескольких местах свисали из гроба белые завязки, и хмурый молодой еврей с портфелем — ему мы заказывали погребальный обряд — шепотом объяснил нам, что мы должны встать по обе стороны гроба, взявши в правую руку по завязке.
Прежде чем начать отпевание, этот еврей, предвидя нашу безграмотность, вынул из своего портфеля квадратик белого картона, на котором чернилами русскими печатными буквами были записаны древнееврейские слова похоронной молитвы.
— Вы можете повторять это вслед за мной, когда я начну, — сказал он, протягивая нам картонку. И добавил: — Необязательно вслух, можно и про себя.
Он отошел шага на два в сторону, вынул из портфеля полосатый шелковый та́лес — покрывало — и ермолку. Кто-то из его собратьев подал ему черный пиджак. Сняв с себя поношенную голубую нейлоновую куртку, молодой кантор — я вспомнил его синагогальную должность — надел черный пиджак, накинул на свои плечи талес и сменил свою кепку на ермолку.
Встав в изголовье открытого гроба, кантор пропел прощальную молитву.
В этом коротком и торопливом обряде, в неумелом и, как мне показалось, фальшивом пении чужого, не омраченного горем человека не было благолепия. Оно и не могло возникнуть в этом пустом, неопрятном зале кладбищенской синагоги — здесь было как на вокзале: отсюда души умерших отправлялись по неизведанному маршруту — Земля и далее везде.
Я любил отца, стоял сейчас у его гроба, держа в ладони завязку от его савана, но не мог сосредоточиться на моем горе — соучастие посторонних мешало мне. Да и не только это: боль утраты всегда настигала меня в неположенное для нее время, в неотведенном для нее месте. Она возникала внезапно, когда и где попало, но только не там, где ей следовало возникнуть. Внезапность воспоминаний непредсказуема.
Я виноват.
Я не успел сказать отцу и матери того, что испытываю к ним сейчас. Черствость юности поразительна. Затем, в зрелые годы, приходит чувство сыновнего долга. Подлинная, горестная любовь к родителям рождается посмертно, вдогонку.
И сейчас снова, как тогда в день похорон, приходя на кладбище и стоя у их могилы, мне никак не сосредоточиться на том, что их нет. Я уже ничего не могу сделать для них, рассказать им — загробность связи с ними чужда мне. И менее всего здесь оживает моя память о них.
Я брожу по еврейскому кладбищу среди чужих надгробий. Фамилии и даты — вот все, что я знаю об этих людях. Но почему же оказывается, что это так значительно для меня? Общность с ними встает из-под земли. Я сопротивляюсь ей, но мне не одолеть ее. В каких же глубинах моей души погребена эта общность! Я знавал евреев-кретинов, евреев-подлецов — моя совесть корчилась от стыда за них. Я знал гениальных евреев, героев и мучеников — я не унижался до того, чтобы гордиться ими…
Эти мысли не преследуют меня в обычной жизни. Я пишу на русском языке, думаю по-русски, живу судьбой народа моей страны — ни одно горе его и ни одна радость его не обошли меня стороной. Но я — еврей, моя душа двустрадальна, и здесь, на еврейском кладбище, окруженный душами покойников, я, живой, вплетаюсь в один узел с ними.
Желание высказаться впрямую одолевает в старости: пропадает охота передоверять свою точку зрения, свои взгляды выдуманным персонажам, сочинять сюжеты, смотреть на мир чужими глазами; они, естественно, не совсем чужие, поскольку я же и породил этих персонажей, но вот рожать надоело. Или теряешь эту возможность — вроде климакса. Однако инстинкт размножения продолжает терзать. Только он становится торопливым, торопящим, боишься не успеть. И остается лишь одно — жажда высказаться напрямик, от себя, без посредства своих литературных героев.
В нынешнее время эта жажда и вообще-то очень могуча — отсюда знаменитая исповедальность. В России она всегда была особенно сильна. Микроб исповедальности — в заблуждениях. Исповедь зиждется на греховности. Абсолютно порядочному человеку, честно прожившему свою жизнь, не в чем исповедоваться.
Однако тут заложен парадокс, софизм: именно порядочный человек ощущает себя гораздо более виноватым, греховным, ибо его честность была основана лишь на уклонении от греха заблуждений. В смутные времена не бывает невиновных, дело только в степени вины. И разумеется, главное — в совести, в умении осознать, что виноват.
К старости совесть, обостряясь, устает. Не притупляется, но устает.
На затасканный журналистами вопрос: как бы вы прожили свою жизнь, будь у вас возможность повторить ее сначала? — я бы сейчас ответил:
— Прожил бы ее иначе.
Безумно хотелось бы прожить ее иначе по некоторым пунктам, то есть попытаться бы вести себя иначе в определенных обстоятельствах жизни, хотя вряд ли бы из этого что-нибудь получилось. Пожалуй, было бы еще горше: отлично понимал бы, что надо иначе, — и не смог бы переиначить.
Мне кажется, что никогда в России не думали столько о своем прошлом, сколько думают сейчас.
Как-то, крася свой забор, я разговорился с соседом Валерой — шофером цементовоза. Он ладил новую калитку к своей ограде, и мы оказались в пяти шагах друг от друга.
Валера поприветствовал меня:
— Труд на пользу! — эта формула изобретена взамен устаревшей: «Бог в помощь».
Некоторое время мы возились молча, а потом Валера сказал, оглядывая мой недокрашенный штакетник:
— За неделю не управитесь. Самое колготное дело — забор. Еще намнете хребет низ красить.
— Да я и не тороплюсь, для меня это отдых.
— А с чего уставать-то, сидя за столом? — спросил Валера.
— Трудно писать.
— В чем труд-то? — хмыкнул Валера и ткнул в небо пальцем: — Вон летит ласточка — взял, описал.
— Так ведь это никому не интересно, Валера, — сказал я, не умея объяснить ему мои муки за столом. — Интересно писать о том, как люди живут, что они думают…
— А вы врите больше, вот и получится, сразу напечатают.
И, подмигнув мне, он засмеялся.
За всю свою послешкольную жизнь, после пяти классов — а Валере сейчас за пятьдесят, — он прочитал едва ли с десяток случайных книжонок, однако он убежден, что в книгах непременно лгут.
Кстати, это довольно распространенное убеждение среди жителей нашего поселка, и именно среди тех, кто ничего не читает. Не раз мне доводилось слышать от них:
— Правду вы все равно не напишете. А напишете — не напечатают.
Странный характер современного конфликта между нынешними отцами и детьми.
В давние времена этот конфликт возникал на идейной основе, на серьезном различии точек зрения, на различии мировоззрений: отцы верили в одно, дети — в другое. А теперь расхождение во взглядах не носит характера разноверия, — иногда бывает, что и отцы и их дети вообще ни во что серьезное не верят, а острейшие конфликты между ними возникают на какой-то житейско-прагматистской основе: работать или не работать, учиться или не учиться, пить или не пить, жить вместе или отдельно.
И потому, что основа подобных разногласий грубо-житейская, конфликты оборачиваются скандалами, молниями ненависти или пасмурно-унизительными компромиссами.
Чаще побеждают дети, их сердца жестче.
Есть несколько уровней речевой безграмотности, легко улавливаемой по одному-двум словам. Самая дремучая, уже ставшая надоедно анекдотической: «мага́зин», «по́ртфель», «лаболатория».
Затем достаточно распространенная даже в полуинтеллигентской среде: «более-менее», «более ни менее».
А недавно один знакомый юрист, вообще-то человек довольно грамотный, сказал мне:
— Я хотел бы поговорить с вами тэт-на-тэт.
Вздрогнув, я понял: он самоделково как бы перевел русское выражение «один на один» на французское «тэт-на-тэт».
С легкой руки творческой интеллигенции слово «вкусный» пустилось во все тяжкие: куда его только не присобачивают!
«Вкусный закат», «вкусная мысль», «вкусный рассказ», «вкусная музыка»…
И еще, все из той же изысканной среды, пришло слово «волнительный» вместо вполне достаточного и нормального «волнующий».
По тому, как человек надписывает конверты своих писем, тоже можно кое о чем судить. В этом смысле появилась довольно распространенная манера адресовать письма, привитая, очевидно, работниками отделов кадров, милиции и т. п. Они всегда пишут на конверте сперва фамилию, а затем инициалы: Иванову Б. В., а не Б. В. Иванову. Причина понятна: кадровики и работники милиции привыкли располагать фамилии всего человечества по алфавиту, чтобы это лежало в картотеках и, в случае срочной нужды, незамедлительно отыскивалось пальцем или ЭВМ.
Перекочевал этот кадровый способ поименования и в газету: здесь тоже — сперва фамилия, затем инициалы или имя и отчество. И лишь для самых-самых значительных личностей журналисты оставили незыблемым прежний, уважительный тон обращения.
Кстати, и Союз писателей, отправляя свои многочисленные повестки рядовым членам СП, надписывает конверты по-милицейски.
Вот только не знаю, так же ли поступают, когда отправляют корреспонденцию членам Секретариата.
Есть бессмысленные понятия, которыми мы повседневно оперируем, не задумываясь над их бессмыслием. Например: «ответственный работник». Это превратилось в некий титул, в некое звание. А ведь если подумать, то в голом виде, то есть без указания, за что именно этот работник отвечает, его звание лишено смысла. Оно как бы парит над людьми любой профессии: скажем, о машинисте электровоза или о летчике огромного лайнера не принято говорить «ответственный работник», хотя трудно сыскать более ответственную работу, нежели их работа. Но уж так повелось, что этот титул присваивается вне всякой определенной профессии — он вроде дворянства.
Не знаю уж, как назвать эту особенность работы писателя — парадоксом, что ли? В сущности, эта парадоксальность возникает не только перед литератором, ее наблюдает любой здравомыслящий человек.
Вот что я имею в виду.
Многие из нас сталкиваются в жизни и на работе с неким инспектором, инструктором, директором — неважно, как он называется, важно, что ему дано право руководить тобой, твоей работой, а ты видишь (и не только ты), что он глуп, невежествен, некомпетентен. И это абсолютно очевидно для всех. Испытываешь стыд и изумление, когда слышишь его мнение, его указания. Кажется невероятным, фантастическим, что он сидит в этом кресле.
Парадоксальность же заключается вот в чем.
Если описать его совершенно беспристрастно, без малейшего желания изобразить его сатирически, то есть попросту списать его с натуры, то тебе непременно скажут:
— Такого человека, которого вы изобразили, немедленно выгнали бы с работы, его и разоблачать с помощью искусства не требуется, ибо он у вас саморазоблачается. Вы написали злобный гротеск.
Да, разумеется, гротеск. Но давайте я возьму вас за руку, отведу в мое учреждение, познакомлю вас с этим гротеском — он живой, теплокровный. Послушайте, что и как он говорит, — на это у вас уйдет не более получаса, — и вы поймете, что я еще смягчил краски по сравнению с живой моделью. Гротескова сама модель, и она обладает такой силой, что рядом с ней и вы вынуждены вести себя гротесково, ибо естественное, разумное поведение не стыкуется с этой моделью. Делая над собой усилие, уродуя себя, вы включаетесь в игру, вам не свойственную.
И все это ради необходимого, полезного дела, которое вы хотите совершить!
Нынешнее стремление к острой публицистичности литературы совершенно закономерно. Уж слишком много накопилось за предыдущие годы лжи, лицемерия, бессовестности — на всех уровнях жизни поднакопилось, снизу до самых снеговых вершин. А литература угодливо поддакивала, расчищая путь победоносному вранью; и не задарма делала это, а получая щедрое вознаграждение премиями, званиями, миллионными тиражами.
Но вот теперь, когда приближается конец этому уродству, возникла острая жажда и необходимость поведать изверившимся людям истинную правду. В этом святом деле честному литератору хочется срочно принять участие, — чувство вины точит его душу уже давно.
И тут-то приходит на помощь самый оперативный литературный жанр — публицистика. Даже те писатели, которые никогда в данном жанре не утруждали себя, сегодня стремятся высказаться от своего личного измолчавшегося первого лица.
И все же поделюсь одним неуверенным сомнением.
Всеобщая устремленность в публицистику, мне кажется, стала кренить литературу на один борт. Не получилось бы, что, пылко выговорившись публицистически по самым насущным, болевым проблемам, писатели как бы «закроют» их для себя же, а заодно и для читателя, — исчерпается интерес к глубинному художественному воплощению; возникнет ощущение, что все это уже давно известно, обо всем этом уже говорено-переговорено, писано-переписано. И не проклюнется у писателя сладкое чувство открытия: вот сейчас я коснусь самого главного, чего еще никто до меня не касался.
Однако даже если мое опасение справедливо, то сегодня самое главное — всеми доступными средствами обеззаразить нашу жизнь и литературу от лжи.
Жажда расчислять произведения искусства тематически, по проблемам, в них поднятым, весьма стойкая. Со школьной поры стойкая. Мне кажется, что чем проще пересказать, «о чем говорит данное произведение?», тем оно элементарнее. Либо элементарен бойкий и краткий ответ на подобный вопрос.
Андрей Буслай, главный герой пьесы Дударева «Порог», спился с круга, как выражались на Руси в старину, пьет «по-черному», как говорят о таких людях нынче. В этом запредельном состоянии он предстает перед зрителями с самого начала спектакля, более того — с поднятия театрального занавеса. Предстает он и его огромная зловещая тень, возникшая на экране в той пластике, которую придумал для своего героя великолепный исполнитель этой роли артист Ивченко. Да нет, не придумал — наблюдал в жизни, ибо только алкоголики умеют именно так стоять и так двигаться. Стоять, словно их свела судорога, и они не в силах разогнуться, расправиться. Бормотуха, «чернила» — это дешевое, балдящее пойло, которым они травят и свой мозг и мышцы, — уродует их движения. Андрей Буслай даже в трезвом состоянии, вернее — в похмельном, ибо трезвым он уже никогда не бывает, — ходит, садится, встает с той противоестественной причудливостью, которая типична для алкаша. И все это артист изображает нисколько не переигрывая, не демонстрируя свое искусство перевоплощения, а живя перед нами Андреем Буслаем.
Я подробно останавливаюсь на внешнем рисунке роли не только потому, что он поразительно точен, но, главное, еще и оттого, что этот внешний рисунок превосходно соответствует внутренней сути героя: судорожен ход его рассуждений, причудливо скачут его мысли, навязчивая цель которых — самооправдаться и одновременно отвратительно унизиться. Самооправдываясь, он готов обвинить все человечество, вроде бы именно оно повинно в его беспробудном пьянстве. А унижается он для того, чтобы вызвать жалость к себе и этим выклянчить мелочь на опохмелку.
Андрей Буслай переступил порог, за которым распадается человеческая личность. Он — живой труп, даже по сюжету пьесы — живой труп, ибо уже похоронен и отпет родной матерью, хотя продолжает физически существовать. И это единственно, что смогло потрясти Буслая: его уже нет, а ведь он ощупывает себя, теплокровного, — он есть.
Казалось бы, художественное произведение, где главный герой подобное ничтожество, человек, бессмысленно и совершенно бесполезно проживший свою жизнь, обездоливший стариков-родителей, осиротивший сына, изломавший судьбу жены, — казалось бы, пьеса и спектакль о таком человеке должны вызвать у зрителя однозначные эмоции и мысли, презрение, отвращение, ну, возможно, еще и жалость. На твоих глазах погибает человек, по собственной дурости погибает, но ведь — погибает! И своей гибелью обрекает хороших, самых близких ему людей на муки. Сострадание — чувство непроизвольное — явится, и ничего с ним зритель не поделает.
Следовательно — презрение и жалость.
Нет, не только и не столько эти чувства овладевали мной во время спектакля. Думаю, что и переполненный зрительный зал, напряженно следящий за тем, что происходит на сцене, пытался осмыслить и, разумеется, продлевал это осмысление еще и после спектакля, — пытался разобраться в том потоке жизни, участником которого каждый из зрителей является.
Смею полагать, что «Порог» задел всех нас особенно сильно потому, что он сомкнулся с нашим повседневным жизненным опытом. Горестным опытом. И далеко не совсем понятным и объяснимым.
Отступлю несколько в сторону. Да нет, пожалуй, не в сторону от спектакля, а навстречу ему.
Более четверти века я живу в поселке — на электричке от Ленинграда полтора часа езды. Напомню, что и жизнь Буслая протекала неподалеку от большого города. Людей, подобных Андрею, в моем поселке хватает. Они, правда, иного типа. Они пьют, не «философствуя», как Буслай, не ерничая, как он, и даже не пытаясь оправдываться. Самое распространенное среди них убеждение: «Все пьют, даже курица пьет!» Это они так шутят. В психиатрии есть для подобной плоской шутливости специальный термин — алкогольный юмор. А если уж им серьезно потребуется доказать кому-то свою правоту, то в ход идет фраза, произносимая с наступательной гордостью: «А я на свои пью!» Дескать, не ворую, а пропиваю собственную зарплату. И катитесь. И не ваше собачье дело.
Они еще не алкоголики. Это так называемые бытовые пьяницы — гигантская резервная армия алкоголизма. Вот она-то и особенно страшна.
Явление это — бытовое пьянство, разрушительное по своим масштабам и гибельным последствиям, — наблюдаем мы в той или иной мере все. А у меня еще жалкое и горькое преимущество — мне известны судьбы этих людей, жизнь их семьи уродуется рядом. Больно быть свидетелем человеческого горя и не иметь возможности помочь людям. Мать, дети, жена — и это уже не на сцене в спектакле, а рядом, за твоей калиткой, на твоей улице, где ты хорошо знаешь каждого ребенка и каждую женщину, — они приговорены жить с «главой семьи», который в любой час может вползти в дом на четвереньках, облеванный, смердящий сивухой; либо его введут под локти друзья-собутыльники, и он начнет куражиться, грязно сквернословить, а то и полезет с кулаками хоть на жену, хоть на детей, хоть — страшно вымолвить — на родную мать, ему ведь все едино: он в этом виде уже не человек и даже не животное. Какой щенок посмеет броситься на свою мать? Да и кобель не тронет подругу. А этот, проспавшись, пойдет на работу, с трудом дострадает до обеденного перерыва, до малейшей возможности «поправиться», опохмелиться. Работа валится из его дрожащих рук, делает он ее как попало, халтурно, огрызается на замечания добросовестных работников, — ну, обсудят его на очередном производственном совещании, дадут выговор, он даже покается, поскольку каяться для него так же просто, как высморкаться. А если, потеряв терпение и использовав весь нехитрый набор воспитательских мер, его уволят, то через неделю-другую снова наймут в «Водоканале», в кочегарке, в «Сельхозтехнике». Да мало ли где? Люди повсюду нужны. Я знаю в нашем поселке работяг, которые уже пошли по второму кругу: их увольняли из одного места, брали в другом, в третьем, затем они возвращались туда, откуда их выгнали впервые.
Им не совестно, не стыдно. Посоветуйте им лечиться, пока не поздно, они еще и оскорбятся: «Я не алкаш, вещи из дома не выношу, пил и буду пить».
А ведь многих из них я знал еще в ту пору, когда они были нормальными молодыми людьми. Мальчишками знал.
Андрей Буслай предстал передо мной в готовом виде, и никто, кстати, в пьесе, ни один персонаж не сказал о нем доброго слова, никто не вспомнил, каким же он был прежде! Это не упрек драматургу Дудареву — его авторское право беспощадно изобразить своего героя на излете, в самый драматический момент его постыдной биографии. А уж наше право, зрительское, думать, поможет ли Буслаю то душевное потрясение, которое постигло его, поможет ли оно опомниться и начать жизнь заново.
Вряд ли, думаю я. Он переступил свой порог. Его личность растворилась во всех тех спиртных помоях, что он вылакал за свою жизнь.
Но почему же нас беспокоит этот спектакль? Ведь, казалось бы, в гибели заурядного алкоголика нет никакой нашей вины. Не нам как будто адресованы все его судорожные переживания. Да и от горя его родителей кто-то может отмахнуться — дескать, сами, воспитали такого прохиндея. Ясное дело: семья виновата, школа виновата, милиция виновата. Готовые, удобные ответы.
Однако когда искусство обнажает перед нами огромное социальное зло, народную беду, от которой все мы в живой действительности страдаем, то, естественно, в душе нашей возникает если не ощущение собственной вины, то уж во всяком случае жгучее желание разобраться: как же это так? почему же это? откуда это?
Театр простит мне, что я снова и снова отхожу от спектакля. Да и за что, собственно, прощать? Ведь потому, я уверен, театр и поставил эту пьесу, что увидел в ней возможность и необходимость коснуться, как теперь принято говорить, болевой точки нашей действительности и мироощущения. А точка эта уже расплывается на наших глазах в изрядное пятно! Измерить его масштабы и понять причины, его порождающие, должна, мне кажется, социология. Для преодоления зла надо изучить его природу. И не бояться строго научных, нелестных выводов. Достаточно долго мы считали многие печальные явления жизни «родимыми пятнами» прошлого. Наше социальное устройство уже давно обладает способностью порождать и свои собственные родимые пятна.
Осушить разливанное болото бытового пьянства лишь теми мерами, которые время от времени, лениво, от постановления до постановления применяются, — кажется, уже ясно, — не удается. Эффективность всех этих мер невелика, да и применяются они чаще всего формально и неумело: в них перестают верить и пьяницы и те, кто пробуют воздействовать на них.
Отчего спился Андрей Буслай? Он и сам, ерницки дергаясь, пытается объяснить это, оправдаться. Получается, что он не виноват: равнодушие вокруг, а вот, мол, выпьет он, и душа у него взыграет, красивее станет, человечнее.
Это вранье. То есть применительно к Буслаю — это правда, так ему кажется. При его нравственном уровне бормотуха и «чернила» — лекарство. Алкоголики ведь и говорят о себе: «Я заболел, болею» — это значит, что им надо немедленно поднести хоть кружку пива. Светлее им, видите ли, от пива сделается.
Отец Андрея на поминках по своему сыну горестно изумляется: почему же это нынче так стало, что много пьют? Это спрашивает честный и добрый старик. Несчастный старик. Он перебирает возможные причины — от горя не пьют, а плачут, от счастья тоже не запивают… Отчего же?
Живя в своем поселке, я сотни раз пытаю себя тем же изумлением. И, разумеется, точного ответа у меня быть не может. Но одно наблюдение утвердилось. В массе своей бытовое пьянство вызвано полным отсутствием каких бы то ни было духовных интересов, отупелостью душевной, дремучим невежеством. А пустота проще и легче всего заливается сивухой.
Но вот тут-то и возникает самое главное. Нет ли и нашей общей вины в том, что у такого огромного количества людей образовалась эта треклятая пустота бездуховности? Не следствие ли это бездарной, однообразной, тоскливой «работы с массами»? В пресловутом потоке массовой информации, обрушивающейся на человека с раннего детства, столько болтовни и скуки, да еще и такой, которую он вынужден «прорабатывать», столько малограмотных и совершенно некомпетентных личностей причастно к воспитанию молодежи, что у иного из них, не слишком стойкого, может опустеть душа. Не пробудится в ней никакого интереса.
Одна из задач литературы и искусства — подавать нам сигналы социальной тревоги. Спектакль «Порог» обеспокоил нас тревожной правдой.
Быть может, не следовало мне настаивать лишь на одной из проблем, поднятой этим спектаклем: сам ведь сказал вначале, что такой подход элементарен.
Каюсь. Занесло. Но занесло потому, что уж очень сильно болит.
1983
Современные достижения техники все резче видоизменяют формы духовного общения людей. Даже узкое, дружеское общение. И не о зеленой молодежи идет речь, не о танцах под дискотеку.
В приятельском кругу немолодых интеллигентных людей перестали обмениваться мнениями, мыслями, появилось ощущение, что всем все давно известно и ясно и спорить-то не о чем. Возникло какое-то редкое, небывалое единомыслие, но соткано оно из негативных нитей, из равнодушия.
В стариковском кругу на смену общению пришло совместное смотрение телевизора. Об этом уже не раз писалось и говорилось. Старикам так легче доживается — ну и ладно, ну и на здоровье.
Но современная техника вонзилась в нас глубже и расплылась шире. Во множестве появились магнитофонные записи-перезаписи песен, монологов и диалогов.
Популярность этих кассет фантастическая. И абсолютно закономерная. Почему закономерная — скажу потом. Однако вот что получается. Собирается компания тридцатилетних-сорокалетних-пятидесятилетних интеллигентов и по второму, третьему, по десятому разу слушает одни и те же кассеты. И в этом состоит их духовное общение; единодушие сформулировано магнитофоном.
А еще иногда добавляются слайды. Люто их ненавижу. Съездил кто-то в туристскую поездку за рубеж, да, не дай бог, в круиз съездил (не дай бог, потому что из круиза слайдов привозят погуще), наснимал там, нащелкал своим кинофотоаппаратом что ни попади, — решительно все казалось ему там необыкновенным, — а вернувшись домой, собирает у себя гостей и после поспешного, скудного чая вешает на стену раскатанный экран, гасит свет и начинает демонстрировать эти самые слайды, комментируя их своим восторгом, таким же тоскливым и мутно-невнятным, как его снимки на экране. Это продолжается нестерпимо долго, проекционный аппарат заедает, в темноте хочется спать, хочется убить хозяина.
Любой турист почему-то считает себя вправе подробно рассказывать свои плоские впечатления и демонстрировать эти бездарные слайды. Техника вооружила его современной аппаратурой и вдохнула в него самоуверенность дикаря.
Что же касается духовного общения с помощью магнитофонных кассет, то тут дело гораздо сложнее. Тут техника просто помогла заполнить тот вакуум, который возник в поэзии, в литературе. Потребность публики в искренней, сердечной лирике, порой даже трагической, ибо жизнь оборачивается для нас и такой ипостасью, — эта потребность долгие годы не получала удовлетворения в печатной поэзии. Стихотворные сборники слеживаются на полках в лед, в вечную мерзлоту.
И чем дольше этот процесс длится, тем острее и мучительнее ощущается немота читателей. Я не оговорился: немота поэзии — это и есть немота читателя, ибо он лишен возможности выговориться теми стихами, которые наиболее точно выражают его душевное состояние.
И вот эта невозможность самовыражения — речь идет, повторяю, не о самовыражении творца, а любого мыслящего человека, ему без этого трудно жить, — невозможность обойтись гладкими, парадными стихами оказалась той благодатной «биологической» средой, в которой взросла и закустилась песня.
Характерно, что возникла она — та песня, что наиболее демократична и популярна, — во второй половине пятидесятых, в шестидесятые годы, то есть именно тогда, когда немота уже стала исторически, социально немыслимой, невыносимой, противоестественной, ибо желание высказаться правдиво достигло горла.
Я не называю имен самых замечательных авторов песен — их немного, они наперечет, — и в данном случае имею в виду лишь тех, к кому признанная знаменитость явилась намного раньше, чем их стихи-песни обнаружились в печати. Они оказались тем насущным черным хлебом поэзии, который способен удовлетворить первоначальный голод необозримой толпы людей самых различных социальных слоев.
С ощущением «недоедания» мы продолжаем жить и сейчас: надо быть очень хорошо осведомленным в поэзии человеком, чтобы и сейчас отобрать для себя необходимые твоей душе, твоему духовному миру современные стихи.
Несравненно проще и доступнее зарядить магнитофон кассетой с привычными и милыми сердцу песнями.
Опасаясь впасть в немилость у широкого читателя, все-таки скажу: как бы ни был высок уровень даже самых талантливых песен, они не могут заменить собою истинную поэзию. А тяготение к такой замене изрядно распространено. И оно объяснимо: то, о чем молчат или лгут сотни бойких мастеровитых стихотворцев, выпевается домашними магнитофонами.
Еще сложнее с кассетами сатирических монологов.
Этот жанр литературы — сатира — был взят на короткий поводок со строгим ошейником. Юмору было чуточку полегче, но и он от покорности вздрагивал при каждом начальственном шорохе. И это было совсем не смешно. Это было унизительно для читателя: предполагалось, что его можно рассмешить по принципу — покажи дураку палец. Возникла даже теория положительного юмора, то есть предмету смеха надлежало быть положительным. И авторы-юмористы состязались не в том, кто придумает нечто наиболее смешное, а в том, кто опишет наиболее положительное.
И, как это всегда бывает, отсутствие юмора в литературе подтверждалось все большей утратой чувства юмора в жизни. Или — наоборот, это не имеет значения: важна взаимосвязь этих явлений, они порождают и подпитывают друг друга.
Однако вытравить естественное желание человека отнестись хотя бы с иронической улыбкой к тому, что ему обрыдло, к тому, что мешает существовать и работать, — вытравить критическое отношение к очевидной тупости и мерзости невозможно. Возможно лишь загнать его внутрь, где оно нагнаивается.
После целого ряда невзгод, тягостных для художественной литературы — на судьбах нескольких выдающихся писателей-сатириков это сказалось особенно драматически, — после всего этого пробавляться в данном жанре могли лишь ремесленники. И если среди них возникал хоть крохотный проблеск, то он вызывал несоответствующий ему по размеру благодарный отзвук.
И вот на этом тусклом фоне стали появляться кассеты с острыми и по-настоящему смешными монологами. Талантливый, наблюдательный автор исполняет свои произведения в одному ему присущей торопливо захлебывающейся манере. И он позволяет себе произносить то, о чем не принято было говорить.
Характерна, между прочим, реакция многих слушателей:
— Как же это ему разрешают?!
В ответ надо бы все-таки сказать, что автор прежде всего должен был сам себе разрешить это. С авторской безоглядности, с мужества его все и начинается. Отважная гражданская позиция необходима в любом литературном жанре, а уж о сатире и говорить не приходится.
Эти талантливые монологи ведутся от первого лица, и не от выдуманного первого, и даже не от лирического героя, а непосредственно — от автора, пристально разглядывающего окружающую реальную действительность. Монологи злободневны, они, как говорится, с пылу, с жару. И демократическая беспокоящая сила их неоспорима. Потому и популярность баснословная.
Но есть у меня одно горькое соображение — боюсь, многие не разделят его, а возможно, и вознегодуют.
Долголетнее отсутствие сатиры в нашей литературе исказило шкалу оценок: сегодня мы раскрываем восторженные просторные объятия навстречу талантливому сатирическому произведению, и нас распирает от желания провозгласить его вершиной этого жанра.
Но, по-моему, при вполне заслуженном восторге следует не терять чувства соразмерности: как бы ни были великолепны эти кассеты монологов, каким бы прицельным, убойным огнем они ни били по уродствам нашей жизни, автор этих замечательных произведений — выдающийся, несравненный фельетонист.
Уточнение это нисколько не умаляет того, что он делает, но оно необходимо для соразмерности с тем, что было сделано в нашей литературе до него.
Не помню уж, кто сформулировал разницу между талантом и гением. Талант попадает в цель, в которую никто не может попасть. Гений попадает в цель, которую никто не видит.
В никем еще не видимую цель попадал Михаил Михайлович Зощенко.
Случилось так, что современный читатель мало знает его рассказы. А те, кто небрежно перелистывает его редко издаваемые сборники, удивленно пожимают плечами: рассказы представляются им одряхлевшими и нисколько не смешными.
Литературный вкус массового читателя, к сожалению, гораздо более управляем, чем это может показаться. С детского сада, со школы, с экрана телевизора, из радиоприемника, со страниц газет и журналов массовый читатель обеспечивается у нас всегда бесспорным, непререкаемым суждением о том или ином литературном явлении. При этом мощном потоке высочайше утвержденной информации вовсе не трудно с помощью нынешних технических средств либо возвести любое писательское имя в ранг классика, либо предать его забвению. Можно даже сперва возвести, а потом предать. А можно еще и сделать вид, будто вообще ничего чрезвычайного не происходило, все было всегда в порядке.
Приобрести собственную, независимую точку зрения на литературу современному читателю не так-то просто. Постоянное воздействие направленной на него сфокусированной критики сделало его слишком внушаемым.
Если попросить нашего, скажем, тридцатилетнего современника, избрав для этого эксперимента человека читающего и в общем такого, которого принято полагать среднеинтеллигентным, — если попросить его составить небольшой списочек произведений русской художественной литературы довоенной поры, начиная с двадцатых годов, то окажется, что список этот, во-первых, на редкость куценький, во-вторых же, — и это наиболее горестно! — названные им произведения, за редким исключением, не будут соответствовать тем подлинным высотам, что были достигнуты в ту пору.
В истории нашей литературы более всего затуманены двадцатые годы и начало тридцатых. Мы упрямо продолжаем и сейчас величать романы «Цемент», «Железный поток», «Бруски», «Гидроцентраль» золотым фондом литературы того времени, хотя люди старого поколения отлично помнят, что любовью и истинной популярностью пользовались в те годы другие книги, другие авторы — они-то и составили великую славу русской советской литературы.
В последнее время у нас уже не заказано и даже принято упоминать их имена, издавать небольшими тиражами их книги, но современный читатель далеко не всегда подготовлен к их восприятию.
В нормально протекающем литературном процессе, при всех возможных гениальных неожиданностях, есть постепенность переходов от одного явления к другому, и читатель — невольный участник этой постепенности, она помогает ему воспринимать изменяющиеся литературные ценности. Когда же естественный литературный процесс бывает грубо оборван, беспощадно и искусственно оборван на долгие годы, а потом, без всяких даже объяснений, впопыхах восстановлен; то есть когда перед совершенно новым читателем, и слыхом не слыхавшим о каком-то когда-то канувшем в небытие писателе, появляются его произведения, то он, читатель, равнодушно недоумевает. Кое-что он все-таки, возможно, и слышал о данном авторе, но в общем-то ничего хорошего.
Это произошло с Зощенко.
Он предстал перед нынешним читателем внезапно. Один из самых современных и своевременных для минувшей эпохи писателей, он первый разглядел, ужаснулся и изобразил хозяйское мурло мещанина; он первый в советской литературе попытался предупредить нас, поднять тревогу, показав ювелирно-художественными средствами множество ипостасей грядущей пошлости и приспособленчества.
Представить себе русскую прозу без Зощенко немыслимо, кощунственно. Его место в истории нашей литературы вакантно.
Какое же касательство все это имеет к сегодняшним сатирическим магнитофонным кассетам?
Вероятно — никакого. Я и сам изредка с удовольствием слушаю в гостях два-три очень смешных и точных монолога в отличном авторском исполнении.
Но отчего же всегда при этом одолевает меня горестная мысль: был, а значит, и есть у нас великий сатирик Михаил Зощенко, но не его произведения владеют сейчас вкусами современной публики.
2
ОЧЕРКИ. ВОСПОМИНАНИЯ
ИСПОВЕДЬ РАССКАЗЧИКА
Покаюсь в одном моем старомодном литературном пристрастии: я люблю читать рассказы. Пристрастие к этому жанру, повторяю, читательское во мне. То ли потому, что мне здорово не везло — часто напарывался и увязал в тощище непролазных романов, — но скорее всего это объясняется тем, что я принадлежу к тому давнему поколению, которое видело, как русская советская проза зачиналась с рассказа. И нередко случалось тогда, что молодой писатель становился всероссийски известен всего-то с нескольких его страничек. И он не покидал этого жанра, не полагал его трамплином к «большой» прозе. Никому не вскакивало тогда в голову делить прозу на «большую» и «малую» по принципу количества печатных знаков в произведении.
Журналы того времени разноцветно пестрели всё новыми именами. Слава богу, еще не было маститых, неприкасаемых. Не было еще среди них обреченных на гнетуще-стабильный успех. И высшей премией была стойкая признательность и признание многочисленного неорганизованного читателя.
Вот таким неорганизованным читателем я и был тогда.
Без посредников.
Один на один с журналом или книгой, попавшими в мои руки.
До моего уха доносились глухие раскаты боя между литературными направлениями, невнятица их названий катилась мимо: я любил писателей и враждовавших между собой. Гораздо позднее я узнал их тогдашние теоретические декларации, и, как правило, эти декларации только снижали мое преклонение перед кумирами.
Мне кажется, читатель нередко испытывает разочарование при знакомстве с любимым творцом. Великие произведения лучше, чище, оглушительнее самого творца, ибо в них выражены самые высокие свойства его души.
Литературные сражения забываются — остается художество, и притом далеко не всегда оно принадлежит триумфаторам нынешних и былых боев. Для меня и сейчас писательская проповедь своих взглядов впрямую, всяческие «программные» высказывания, за редчайшим исключением, несоизмеримы с тем, что писатель создает художественными средствами. Из этого вовсе не следует, что в жизни он, скажем, дурной человек, а в своих произведениях — прекрасный. Я-то, возможно по наивности, упрямо думаю, что дурной человек вообще не может написать прекрасное произведение.
Начал я издалека. То есть это только так чудится, что издалека. Читатель и литератор неразделимы в писателе, он неотторжим от своего читательского вкуса. Чтение книг — это его незримая работа: он восторгается, остается холоден или испытывает отвращение от прочитанного, в единомыслии, в протесте и споре с прочитанным обостряются его писательские пристрастия. И желание написать так, как никто до него этого не делал.
На всевозможных встречах с литераторами им задают непременный дежурный вопрос:
— Кто ваш любимый писатель?
Чрезвычайно наивно полагать, что у интеллигентного человека может быть один любимый писатель. Однако будь я все-таки вынужден назвать лишь одно-единственное имя, я бы ответил:
— Чехов.
Ничего оригинального в этом нет. Ну разве только, что в нынешних широких читательских кругах прозу Чехова, по моим наблюдениям, знают до слез мало. «Проходят» в школе, то есть проходят мимо. Счастье, что пьесы его со все возрастающей славой шествуют по сценам мирового театра. Гениальный драматург Чехов — это уже прочувствовано планетарно.
А я говорю о его великой прозе. О рассказах.
Мой читательский путь к Чехову был непоследователен. Я не стал бы на этом останавливаться, если б не думал, что нечто похожее, быть может, происходит и с нынешним молодым читателем.
В двадцатые годы, подростком, — отчаянно стыжусь своего тогдашнего воинственного невежества, — я был вообще равнодушен к «старой» литературе. Правда, знал ее совсем недурно, но она была где-то в глубоком тылу моего сознания и любопытства.
Фронтом же, где я сражался с самим собой и с моими сверстниками, являлась новая, на моих глазах нарождавшаяся литература. Одним обстоятельством все-таки горжусь: с годами выяснилось, что у меня был недурной вкус в выборе художественных произведений нового времени, хотя он порой и расходился с тогдашними хвалебными или негативными оценками дежурно-старательной критики. Полюбившиеся мне молодые советские прозаики прошли беспощадную более чем полувековую проверку и нынче продолжают являть чудо нашей литературы.
Разумеется, я переболел в пути и кое-какими модными поветриями, но недомогание мое протекало спокойно, без истерики, и длилось не подолгу.
Увлечение новой прозой, рассказами (и, конечно, стихами!) почему-то не совмещалось, не сожительствовало с классикой, а непременно если и не отрицало ее, то не позволяло ею восхищаться.
К Чехову я плыл причудливо — не от него к новой прозе, а в обратном направлении: по руслам советской прозы я впадал в море Чехова. Еще раз повторю — впадал читательски и обнаруживал, что планктон этого безбрежного моря неоскудеваем, неисчерпаем, сколько бы ни потребляла его вся русская и мировая литература.
Сейчас уже не установить, с какого времени стал усыхать у нас жанр рассказа. Дата, впрочем, не существенна. Существенно само явление. Статистика, количественный подсчет, если бы кто-то и удосужился потратить время на это занятие, могла бы и не подтвердить нынешнее прозябание «малой» прозы. Пользование сравнительной статистикой и вообще-то требует чрезвычайной деликатности, а применительно к исследованию сложных литературных явлений столбцы голых цифр запросто могут привести к неверным умозаключениям. Ну, скажем, черт его знает, стало ли сегодня количественно меньше рассказов, чем было их в пору великолепного расцвета. Возможно, ЦСУ Союза писателей — буде такое имелось бы — выдало бы и вполне отрадный результат. На то оно и ЦСУ.
Существенно ведь не это. А вот почему для нынешнего литературного процесса стал закономерен массовый побег писателей-рассказчиков в «большую» прозу? Вопреки давним и славным традициям русской литературы сочинение рассказов превратилось вроде бы в непрестижное для серьезного писателя занятие. Хобби, что ли, — терпеть не могу этого слова. Можем ли мы перечислить сегодня с десяток первоклассных прозаиков, подвижнически верных «малому» жанру? Говорю «подвижнически» — не случайно. На одном из собраний ленинградской писательской организации Виктор Конецкий примерно так и сказал: «Только фанатики могут сейчас писать рассказы». (По правде, со свойственной ему грубостью, сказал даже резче.) И поведал о своих унизительных мытарствах, которые он претерпел в общении с редакторами, когда совсем уж изредка продирался сквозь них с тоненькой рукописью в десять-пятнадцать страниц.
Запальчивость тона Конецкого и, естественно, еще в большей степени моя вызваны тревогой за судьбу рассказа. Очевидно, имеются все-таки некие стабильные причины этого грустного для литературы явления.
Не берусь нащупать их всеобъемлюще. Попытаюсь лишь поделиться кое-какими своими наблюдениями и предположениями. Хотя бы разгружусь: поделиться с людьми — потребность души человеческой, а у писателя эта потребность особо стойкая.
Исходные, начальные обстоятельства, условия для пополнения отряда прозаиков-рассказчиков вполне благоприятные. Грех жаловаться. Союз писателей регулярно тратит много времени, сил и средств на поиски и взращивание молодых талантливых литераторов. Однако при всем при том легко увидеть одну весьма парадоксальную подробность, в причинах которой я уже давно силюсь разобраться.
На протяжении многих лет мне приходилось участвовать в работе нескольких конференций молодых писателей Северо-Запада — так они именуются в Ленинграде. Мои семинары были малочисленны — не более десятка прозаиков, пишущих рассказы. И не было случая, чтобы среди этих «семинаристов» не обнаружилось хотя бы одного-двух одаренных людей. А случалось, кто-то удивлял меня своеобразием подлинного таланта.
Стало быть, «рождаемость» рассказчиков не должна бы вызывать беспокойства. Возможно даже, следовало ожидать время от времени демографического взрыва в этом жанре. Конференций-то у нас в стране проводится предостаточно.
Но вот что печально удивляло меня впоследствии.
Я старался подолгу следить за литературной судьбой моих бывших «семинаристов», и получалось почему-то так, что наиболее одаренные из них словно куда-то проваливались — их рассказы так и не появлялись на страницах журналов, несмотря на самые пылкие рекомендации руководства конференции. Бывало, правда, что лет через десять-пятнадцать знакомые фамилии всплывали, но публиковали эти немолодые-молодые писатели уже не рассказы, а безразмерные повести или романы. То есть новобранцы «малого» жанра дезертировали из своего рода войск в самом начале службы.
Если уж попутно говорить и вообще о возрасте начинающего прозаика, то и тут много загадочного. Акселерация обошла стороной эту профессию. Могу свидетельствовать, что не встречал среди начинающих человека моложе тридцати — тридцати пяти лет. А то и постарше. С возрастом молодых писателей прошлого века и сравнивать жутковато!
Да даже и ни к чему уходить в далекое прошлое: достаточно вглядеться в истоки русской советской прозы — это была поразительно юная по годам ее творцов литература! И созидалась она, по сравнению с нынешней, в куда более кустарных, самоделковых условиях — литературная жизнь еще не носила столь массово организованного характера. Да, в общем-то, работа писателя «штучная», «модельная» — ее не поставишь на поток с программным устройством и компьютерными командами. А если нечто подобное порой и делалось, то эти попытки заканчивались пустопорожне.
Отчего же все-таки при тогдашней давней кустарщине новых незаурядно талантливых рассказчиков появлялось уж во всяком случае не меньше, чем нынче?
Вот это и парадоксально.
Отступя несколько в сторону, скажу: мне бы вовсе не хотелось рисовать судьбу писателей тех годов такой уж благостной, благополучной. Нет ничего более приблизительного для уточнения прижизненной судьбы писателя, нежели посмертная его слава. То есть именно она точна в определении места художника в истории литературы, но одновременно может и затуманить горестные подробности его жизни. Нынешнему читателю трудно представить себе, — да он, к сожалению, и не знает этого, — как иной раз незаслуженно трагически складывалась и обрывалась биография тех писателей, которыми сегодня восхищается весь мир. Яркая слава окружила у нас их имена после грубого прижизненного поругания и долголетнего посмертного забвения.
Почему же все-таки наши молодые прозаики так немолоды?
Мне известно расхожее мнение: современная действительность настолько усложнилась, что писатель должен обладать недюжинным жизненным опытом, чтобы осмыслить ее. Можно подумать, что первые послереволюционные годы и гражданская война были попроще! Да и бывают ли эпохи, когда их современникам так уж конечно ясен смысл, происхождение социальных явлений? Что же до нынешнего жизненного опыта молодых писателей, то недостаточность его сильно преувеличивается: в наши дни скорость накопления этого опыта значительно возросла. Во всяком случае, разобраться в понятиях добра и зла, правды и лжи при наличии совести и, разумеется, таланта молодому писателю вполне по силам. Не говоря уже о том, что у молодого человека всегда имелось одно неоспоримое преимущество перед пожившими людьми: отсутствие тяжкой инерции долгого жизненного опыта, незамутненность, свежесть взгляда, зрения. Недаром же в тысячной толпе многоопытных горожан именно мальчишка наивно воскликнул:
— А король-то — голый!..
Доля писателя-рассказчика нелегка.
Глупее всего прийти к чудовищному выводу: в давние годы начинающих литераторов не опекали, не цацкались с ними, и они росли как грибы, а вот сегодня возни вокруг них с избытком, да «выход в граммах» аховый. Талант, мол, сам пробьется.
Пробивается-то как раз легче всего бездарность. Как и всякий сорняк, она самоопыляется — услужливый попутный ветер разносит ее семена на все четыре стороны света, и прорастают эти семена сквозь асфальт, сквозь булыгу.
А талант — штука хрупкая, поранить, надломить его не так уж и сложно, если сильно постараться.
Бытующее отношение к рассказу как к «легкой форме» достаточно широко распространено и в читательской и в редакционной среде. Иногда это формулируется иначе — «оперативный жанр». Ну, а поскольку оперативный, стало быть, и требования к нему соответственные: откликайтесь побыстрее, немедленно! И периодическая печать вправе теребить рассказчика — давай, давай отражай, обобщай, тебе-то, брат, проще всего, форма твоя портативная, дюжина страничек — и в дамках: создал образ современника, достойный нашей великой эпохи!
К сожалению, это вовсе не фельетонное преувеличение.
Приведу коротенькую цитату из письма, полученного мной на днях. Ко мне обратились с приглашением принять участие в одном из очередных литературных конкурсов. И в этом письме-приглашении имеется такая императивная фраза:
«Произведения, присланные на конкурс, должны показать лучшие черты характера нашего современника, способные завоевать любовь читателя».
И я тотчас почувствовал себя совершенно неспособным принять участие в этом конкурсе. Никак мне не поручиться, что я смогу показать наверняка лучшие черты — а вдруг сатана попутает и получится у меня некий посредственный по своим душевным и духовным качествам современник! Или — того страшнее — вовсе несимпатичная личность, способная вызвать не любовь читателя, а презрение и активное желание противостоять подобному злу.
Быть может, понятие оперативности и вообще не слишком подходящее применительно к художественной литературе? Что-то в этом слове, и главное, в его толковании в умах навостренных работников печати есть чрезмерно суетное, спекулятивно-кратковременное.
Позвонили мне недавно из одной вполне уважаемой газетной редакции и крайне заинтересованно спросили: нет ли у вас готового рассказа или не смогли бы вы написать такой рассказ, где главный герой одерживает победу? В каком смысле победу? — не понял я. Мне пояснили: ну, в том смысле, что сперва кто-то мешает ему в работе, а потом он побеждает их…
И снова я не сгодился по причине моего старомодно почтительного отношения к «малому» жанру.
Среди всяких прочих обстоятельств, рассказу трудно дышится еще и оттого, что его примеряют на колодку, исключающую его специфику. Стоит проклюнуться в окружающей действительности чему-то новому, — само собой разумеется, непременно положительному, — как тотчас возникает нетерпеливая уверенность, что на редакционные столы обрушатся рукописи, в которых это новое будет нарисовано в цветах и в красках.
А меж тем правдивый рассказ, волнующий, берущий читателя за душу, никогда не фиксировал нечто еще не устоявшееся в жизни — пену или даже жир на ее бурлящей поверхности. В том-то и назначение рассказчика, чтобы сердцем и разумом уловить некое уже сформировавшееся явление, которое иногда никто, кроме него, еще не замечает.
Соотношение между жизнью и литературой примерно такое, как между виноградом и вином, — этот точный образ придуман не мной: он найден замечательным литературоведом М. Бахтиным.
Для рассказа характерна сосредоточенность на явлениях из ряда вон выходящих, но в то же время типических. Они могут выглядеть вполне повседневными, рядовыми, но смысл их исключительный. Не хотелось бы применительно к литературе пользоваться фототерминами, однако рискну: объектив, с помощью которого писатель-рассказчик вглядывается в жизнь, поставлен на резкость. Оптика рассказа резкая.
Если позволено исходить из собственного опыта, то для меня предвестием необходимости сочинить рассказ является изумление: я должен поразиться чем-то наблюденным, узнанным мною. Поразиться — это вовсе не значит восхититься: изумиться можно и будничностью, и мерзостью. Важно другое — состояние открытия. Тебе чудится, что ты открыл главное для тебя сейчас, заметил некую закономерность, настоятельно требующую твоего обобщения. И лишь ты должен это совершить.
Никакого самомнения тут нет. И логики нет. Доказать логически верность своих выводов, идей, содержащихся в рассказе, я не могу. И даже сформулировать их не могу. На вопрос: «Что вы хотели сказать своим произведением?» — ответить не в силах. Либо то, чем мне хотелось поделиться, уже присутствует в рассказе, либо это у меня не получилось.
Долгое время я числился по департаменту «милицейских» писателей.
Признаться, это меня раздражало.
Естественно, не потому, что я отношусь к работникам милиции предвзято, с предубеждением. Долгая жизнь убедила меня, что, скажем, порядочность и бессовестность распространены в некой подвижной, зависимой от социальных катаклизмов пропорции среди людей самых разнообразных профессий. И милиция в этом смысле не является исключением. Другое дело, что она постоянно «на юру» — ее действия тиражируются молвой справедливо и несправедливо шире, нежели повседневные поступки работников какой-либо иной профессии.
Предвзятости не было и нет. А раздражение возникало вот отчего: мой интерес к деятельности уголовного розыска никогда не вызывался желанием нанюхаться детективщины и строчить «сыщицкие» опусы — до них нынче охочи миллионы читателей. И я даже знаю то незамысловатое оправдание, которым оперирует наиболее интеллигентный их слой: «Мы так устаем от работы, что хочется почитать, ни о чем не думая, — над детективом мы отдыхаем от забот».
Поставлять эту литературу у меня не было никакого желания. И читать я ее не умею.
Заинтересовали меня еще в пятидесятых годах не «милицейские» сюжеты. Приученные писателями и журналистами, работники угрозыска нередко стараются поразить вновь пришедшего литератора какими-либо особо сложными, лихо раскрытыми преступлениями. Я деликатно выслушивал розыскников-оперативников, они удивлялись, что я ничего не записываю и листаю законченные уголовные дела лишь из вежливости, — это не укрылось от их наблюдательных глаз. Да я и не пытался скрывать это.
По правде говоря, мне еще не было понятно, зачем, собственно, я хожу в милицию.
А ходил регулярно. И не к высокому начальству, а к дежурному по городу в определенные дни: под выходной и в выходной, накануне праздников и в праздники, в дни заводских и учрежденческих получек. Именно в эти дни ползет кверху кривая всевозможных правонарушений в городе: пьют и «гуляют» погуще.
Приходил я в дежурку без всякой определенной цели, стремясь, кстати, чтобы ко мне привыкли и перестали меня замечать. По давнему опыту я уже отлично знал, как подтягиваются в струнку работники учреждения, когда им становится известно, что тут поблизости бродит какой-то писатель. Случается — и подвирают, и хвастают, и уж во всяком случае естественность их поведения утрачивается. Даже их лексика изменяется, приобретая опостылевшие газетные и радио-телевизионные штампы, от которых и дома у «ящика» сатанеешь.
Мной руководило только одно — прежде всего я должен наглотаться обыденщины. Это стремление во мне постоянно, о чем бы я ни собирался писать. Сперва желание приземлить то, что я вижу, а затем уж — как получится, куда поведет.
Новые жизненные наблюдения обрушиваются беспорядочно, никак не сортируясь, ты уже стоишь по горло в них, и внезапно возникают огоньки еще неоформленных мыслей, рожденных, разумеется, не только в результате новых наблюдений, но и того, кто ты сам такой, с чем пришел, с каким отношением к окружающей действительности, к прошлому, к будущему.
Кажется, это принято называть жизненной позицией.
Моя жизненная позиция стара как мир. Она сказочна: тысячелетиями бродит она по нашему измученному шарику в мифах, легендах, притчах, народных сказках — мечта о Добре, побеждающем зло.
Эта мечта пытана самыми чудовищными пытками, оберегать ее в своей душе изнурительно, изнемогаешь под этой ношей, но, утратив веру в Добро, жить немыслимо.
Я знаю, что, говоря о побеждающем Добре, принято говорить и о своей ненависти ко злу. Всё так. Всё верно. Однако прежде чем возникает эта ненависть и даже сопутствуя ей на равных, живет во мне всегда н е д о у м е н и е перед злом. Сталкиваясь с человеческой мерзостью, я прежде всего недоумеваю. Проанализировать и изобразить психологию негодяя по мере моих сил могу, но понять, как он может жить, спать, есть, любить, работать, будучи бессовестным мерзавцем, — не могу. В этом смысле наивность моя беспредельна до тупости: существование зла представляется мне незакономерным — и это в наш-то жестокий век!..
Вот с подобной жизненной позицией я и стал регулярно ходить в милицию.
Казалось бы, менее всего это учреждение способствует прорастанию мыслей о Добре. Но так кажется лишь на первый взгляд. При более близком знакомстве с искалеченными людскими судьбами, с так называемой оборотной стороной жизни (а она вовсе и не оборотная, а всё та же жизнь) сперва шалеешь. Ошалеваешь от густоты обрушенного на тебя человеческого горя, пороков, непоправимых ошибок, бесстыдно обманутого доверия, закамуфлированного двоедушия, подлой демагогии — и все это как бы растерто перед тобой на предметном стекле под микроскопом.
Вопреки долго курсировавшей точке зрения, ты тотчас уразумеваешь, что бытующие преступления вовсе не являются «родимыми пятнами» капитализма, «пережитками прошлого». Порождение настоящего — вот так, а не иначе. В любом обществе именно так. Наиболее распространенные и типические преступления вызревают в чреве настоящего, вынашиваются в его лоне.
Пожалуй, самое трудное для меня — начать новый рассказ. Перед началом я всегда робею. И именно начало переписываю по многу раз.
Первая фраза рассказа задает ему интонацию и даже, мне кажется, в какой-то степени предопределяет его размеры. Конечно же, это вовсе не закономерно для других писателей, но для меня — так.
Принимаясь за новый рассказ, я никогда не знаю, чем он закончится. Сюжета, фабулы, в строгом смысле этих понятий, у меня загодя не бывает. И это очень мучительно. Порой мне кажется, что я лишен профессионализма: вроде не я сочиняю рассказ, а он сочиняется сам по себе, вне моего сознательного умения и воли. Вероятно, поэтому пишу ужасающе медленно — рассказ размером в лист представляется мне гигантским, ибо времени на эту работу уходит несколько месяцев.
Под конец работы я знаю свой рассказ наизусть, — боже упаси, совсем не потому, что он мне нравится, отнюдь! — знаю, ибо, бесконечно сомневаясь в каждом абзаце, талдычу его десятки раз, пытаясь что-то изменить, исправить. Талдычу вслух. Это осточертевает, но это мне необходимо.
Отсутствие загодя придуманной фабулы принуждает метаться в отборе описываемых событий, все время тревожит мысль: а не скучно ли то, что я пишу? Ведь ничего занимательного не происходит, да вроде бы и ничего значительного. Будничная повседневность очень трудно поддается изображению.
Но если все это так неуправляемо сложно, если мне неведомо с самого начала работы над рассказом, как сложится его событийность, и даже порой весьма туманны его персонажи, то что же толкает меня к письменному столу, с чем в душе я сажусь за стол?
Расскажу о возникновении замысла одной своей небольшой повести.
Проходя мимо чучела пса Султана, стоявшего уже много лет в криминалистическом музее, я был абсолютно равнодушен к его подвигам, красочно изображенным на ближайшем от него стенде. Проходил мимо этого стенда не задерживаясь. Однако случайно узнав старческую трагическую судьбу Султана, поразился. Не подвиги его поразили меня, а людская неблагодарность к его судьбе.
Меня пронзила жалость, сострадание. И ощущение, что в судьбе Султана есть что-то человеческое. Вот, собственно, лишь это и стало поводом к сочинению повести «Мухтар», а затем и сценария кинофильма «Ко мне, Мухтар!».
Или еще.
Пришлось мне как-то просидеть часов пять в качестве понятого во время обыска в квартире арестованного ворюги-завмага. И снова меня совершенно не интересовало, каким путем его изловили и какими хитроумными способами он воровал.
В комнате завмага сидела его мать, ни в чем не повинная деревенская старуха, приехавшая к сыну погостить. И рядом была ее десятилетняя внучка, дочь ворюги. Шел деловитый обыск, выкладывалось на стол награбленное.
А я не мог оторвать глаз от жалкой, нищей старухи и несчастной девочки. Мне было смертельно жаль их. Я не понимал, как они будут жить дальше без кормильца. Несправедливость их судьбы поразила меня.
Вот только с этой мыслью я и начал писать коротенький рассказ «Практикант», передоверив свое сострадание молоденькому студенту-юристу, отбывающему свою практику в качестве понятого.
Однако оставим в покое так называемую «милицейскую» тематику, где все же присутствует некое напряжение жизненных ситуаций, силовое поле самого материала.
Иная жизнь плотно и густо обступила меня.
Население поселка, в котором я уже много лет провожу большую часть года, — шоферы, плотники, каменщики, почтовики-связисты, школьные учителя, продавцы магазинов и мелкие служащие вездесущих учреждений. Поселок наш — ничего не производящий: он не сельский, не рабочий и не пригородный — до Ленинграда отсюда далековато. Возник он лишь после войны, заселен переселенцами из различных областей страны. Когда я обосновался здесь, моя улица еще называлась хутором.
«Изучать» жизнь мне тут не приходится — я вошел в нее на равных правах со всеми поселковыми жителями. Мы — земляки, соседи.
При всем различии, многообразии здешнего населения есть у них одно приблизительное общее свойство: они у ж е не сельские жители, но е щ е и не городские. Это промежуточное социальное состояние формирует особенности человеческой души, психологии, характера. Добрые и дурные свойства, порожденные и деревней и городом, наглядно сосуществуют. И это дает возможность как-то разобраться в них, попытаться изобразить их, ибо они густо перемешаны в поселке.
Быть может, это серьезный писательский недостаток, — даже наверняка недостаток, — но особой фантазией я не обладаю.
Разумеется, сочиняя рассказ, я и «выдумываю», однако без прототипов, упрямо стоящих перед моими глазами, без той лексики, которая застревает в ушах при любом общении с поселковыми жителями (настолько застревает, что мне уже и самому не обойтись без нее), — я писать не умею.
Из года в год приходила ко мне поселковая старуха пить чай. Судьба ее сложилась ужасно: один сын большую часть своей взрослой жизни проводил в тюрьмах и колониях за жестокие драки в пьяном виде, у второго сына бабка жила, угнетаемая гадюкой невесткой и сволочью внуком. Все это, казалось бы, могло сломить старуху, но она держалась с поразительным достоинством, не унижаясь перед соседями и не обращаясь с жалобами в милицию, хотя невестка и внук поколачивали ее.
Ей было стыдно за них, а не за себя.
Со мной-то она делилась своим горем уж не знаю почему, — быть может, потому, что оба мы любили подолгу пить крепкий, хороший чай. Помочь ей я ничем не мог, даже поговорить с ее сыном не имел права — досталось бы ей еще круче, узнай они, что бабка рассказала мне о своей жизни в сыновьем доме.
К сыну, отбывающему очередной срок в дальней колонии на Севере, старуха съездила на трехдневное свидание. Повезла ему харчи, заработанные своим хребтом: тайно от невестки нанималась в поселке помогать людям на огородах. Она рассказывала мне об этом не враз, а постепенно. Вот ее русский язык был чист, не замусорен мещанским городским слогом.
Но главное — я не только сердечно жалел ее, а еще и проникся уважением к ее не согнутому человеческому достоинству.
В моем рассказе «Мать», где изложена вся эта история, нет никакой выдумки — судьба и характер старухи изображены такими, какими я узнал их в действительности. И затем уж, в повести «Свидание», написал это подробнее, прихватив туда жизнь поселка пошире.
Поселковая жизнь представляется мне типической: деревня и город, сшибаясь здесь, обнажают некий анатомический срез — по его тканям и кровеносным сосудам есть возможность наблюсти социальные сдвиги современности.
Из всех видов прозы рассказ — жанр наиболее обнаженный.
Автору не упрятаться в нем, автор стоит тут отважно, в рост. Ему не соблюсти, да он и не желает соблюдать диетические дозировки мужества, изрядно распространенные в длинных повествованиях: мол, в этой главе я, кажется, чересчур напозволял себе, размахался — ну, ничего, в следующей немножко «утеплю», «подрессорю».
Рассказ держит автора в строгости, и композиционной и стилистической. Кособокость построения, нищета языка несравненно очевиднее в короткой форме. То, что читатель способен пропустить мимо глаз, мимо ушей в романе, тотчас шибанет его в рассказе. Эта форма наиболее ухоженная: на грядке лопухи и крапива вопиюще заметнее, чем на многогектарном поле.
Обсуждая даже понравившийся нам роман, мы позволяем себе говорить иной раз так: в этой книге, конечно, есть немало страниц, написанных серовато, посредственно, но в целом — это очень хорошо!
Рассказ всегда в целом.
Он неделим. Его не нарубишь кусками и не подашь к читательскому столу по сортам — вот вырезка, вот мозговая косточка, а вот требуха.
Не следует уличать меня в стремлении столкнуть лбами «большую» прозу с «малой». На мой-то взгляд, они равно большие, если талантливы. А я говорю о специфике.
Писать длинно уютнее, нежели коротко: где-то расслабишься, а затем рванешь.
В рассказе, да простят мне это сравнение, автор — спринтер. Дело, разумеется, не в скорости, а в искусстве «выложиться» на короткой дистанции.
О судьбах современного романа уже не одно десятилетие беспокойно спорят на самых что ни на есть международных уровнях. Твердят, что он умирает, вещают, что возрождается в новых формах, пророчат пестро, по-всякому. Занятно, кстати, отметить, что если в науке теория нередко опережает практику, то есть обладает способностью прогнозировать ее явления, открытия, то литературная практика непредсказуема: угадывать, «вычислять», какова будет форма нового, грядущего литературного явления — занятие весьма сомнительное по своим результатам.
Мне кажется, что развитие литературы, как правило, становится объяснимым лишь задним числом. Впереди же всегда — внезапность, неуправляемость процессом.
Зигзаги истории, крутые социальные повороты, когда не разглядеть, что за углом, магнетически воздействуют на литературу. Искусству свойственно аккумулировать токи истории.
У рассказа свой соловьиный голос — да позволено будет столь изысканно выразиться. Плотность рассказа высока, он густ и настоян, как крепкая заварка, — испив глоток, мы ощущаем учащенное биение сердца.
Талантливый рассказ — это маленькие часики, собранные виртуозом вручную. В глазу автора-ювелира увеличительное стекло, составные части, детали механизма крохотные, но они прилажены друг к другу настолько искусно, что ход времени отмечают точно.
Вот почему тоненький сборник талантливых рассказов способен панорамировать эпоху.
Попросил я как-то редактора толстого журнала прочитать рассказы одаренного молодого прозаика. И услышал в ответ:
— Дорогой мой, мы с вами в каком году живем? В восемьдесят втором. А у меня в портфеле уже полностью сверстан восемьдесят четвертый. И знаете ли, интерес читателя к данному жанру ослабел. Читатель предпочитает романы.
Точности ради замечу, что этот редактор, впрочем, как и многие другие журнальные редакторы, сам пишет романы — мнение его не совсем беспристрастно. Однако доля истины, горькая, в нем есть.
Даже в трамваях и электричках люди читают пухлые трилогии.
И все-таки торопиться с выводами не надо.
Массовый читатель — явление сложное, многослойное во всяком случае. Всеобщая грамотность вовсе не равнозначна всеобщему литературному вкусу. К затертой чрезмерным употреблением формулировке «читатель неизмеримо вырос» совсем не лишней будет изрядная доза здорового скептицизма. Кто вырос, а кто еще сосет соску и подкармливается искусственной смесью. Грамотность и даже законченное среднее и высшее образование вполне мирно уживаются с художественным невежеством.
Однако попытаться понять, почему же все-таки и плохие толстые романы жуются столь охотно, следует. Казалось бы, в наше торопливое нервное время короткая форма произведения должна бы привлекать больше. Ан нет.
Выскажу одно предположение, заранее предвидя его спорность.
Читая длинный роман, человек погружается в изображаемую автором обстановку, привыкает к людям, живущим в этих обстоятельствах, даже если люди эти изображены двухмерно, плосковато. Читатель не слишком опытный, да еще повседневно толкущийся в торопливом темпе, охотно обживается в толстой книге, как в домашних туфлях, — нигде не жмет, ничто не беспокоит, вещь обношена.
Привлекательно для него еще, что он, читатель, оказывается умнее героев произведения и всегда может подсказать им, подправить их. Малоопытному читателю свойственно рассматривать литературных персонажей как людей действительно существующих, он готов привлечь их к ответственности, если они ведут себя не так, как положено.
Для подобного читателя сборник рассказов — книжка беспокойная: не успеешь привыкнуть к одним знакомцам, а уже надо переселяться, перебираться в другой рассказ, в иную обстановку, общаться с новыми соседями по жизни — это суетно, как переезд с квартиры на квартиру.
Даже если я несколько утрирую подобное читательское отношение к литературным жанрам, то уж во всяком случае не выдумываю его, а излагаю то, что мне приходилось слышать на всевозможных библиотечных конференциях.
Что же касается квалифицированного, чуткого читателя, то он постепенно теряет интерес к рассказам — ему все труднее найти то, что удовлетворяло бы его духовные и эстетические запросы.
И прозябание рассказа начинает смахивать на медленное, но неуклонное уменьшение численности определенного вида птиц — в таких случаях этот вид принято заносить в Красную книгу.
Рассказ — жанр наиболее уязвимый. Его рассматривают пристально, в лупу, и редакторы, и критики.
Бдительный рецензент и не стремится особо разнообразить свой набор методов — имеется один, достаточно убойный, испытанный многократно на полигонах литературы. Обвинение в мелкотемье.
А меж тем уже сотни раз, до осточертения талдычилось, но я скучно проталдычу это еще и еще раз: не существует мелких тем, а есть лишь мелкое решение любой темы, будь она самой грандиозной по смыслу и замыслу автора.
Бродит устойчивое мнение, что к произведениям литературы следует предъявлять равно строгие требования, независимо от того, молод автор или достаточно опытен. Подкрепляется это обычно так: читателю безразлично, написано произведение зрелым писателем или начинающим: никаких скидок на возраст и литературный опыт автора читатель делать не обязан.
В принципе, так сказать, теоретически это верно. Хотя, по правде, если молодой писатель истинно талантлив, то некая незрелость его первого произведения вполне закономерна и допустима — с вершин своего творчества редко кто начинал. Что же до читателя, то, отметив в душе имя даровитого автора, он, умный читатель, даже с интересом будет следить за дальнейшим его возмужанием. Так всегда и бывало в истории литературы.
Но молодых рассказчиков печатают туго, да еще и не самых талантливых. А это приводит к грустным последствиям.
Молодой рассказчик долгие годы, седея, лысея, ждет выхода в свет. Писать, не печатаясь десятилетиями, — а случается и так, — есть ли что-либо горше для писательской судьбы? И особенно на пороге этой судьбы, когда силенок еще маловато и стойкость, необходимая в данной профессии, еще не выработана.
Грустные же последствия такой начальной судьбы вот какие: либо писатель оказывается замордован собственными сомнениями — раз меня не печатают, значит, я бездарен; либо совсем наоборот: ах, меня не печатают, следовательно, я гениален!
В том ли, в другом ли случае обедняется важнейший жанр литературы — рассказ.
ЗАМЕТКИ ПРОЗАИКА
Мне хотелось бы понять — и прежде всего для самого себя — причину того чувства неудовлетворенности, которое испытывает литератор-прозаик от соприкосновения с кинематографом. Для точности оговорюсь: я имею в виду прозаика с весьма малым опытом сценарной работы. Возможно, что со временем эта неудовлетворенность исчезает или, во всяком случае, уменьшается. Хотя, по правде говоря, мне никогда не приходилось встречать писателя, который в той или иной мере, по тем или другим причинам не сетовал бы на свою кинематографическую практику.
Я отлично знаю, каким именно путем и даже какими именно словами писателю доказывают несостоятельность его точки зрения.
Прежде всего ему сообщают цифры: вашу книгу рассказов читают несколько сот тысяч человек, а ваш фильм будут смотреть десятки миллионов. Затем ему объясняют, что кинематограф — искусство коллективное. Затем он узнает, что кинематограф — не только вид искусства, но и отрасль производства, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И напоследок его горячо убеждают, что кино имеет свою, только ему одному присущую специфику. Кстати сказать, в это понятие специфики кино иногда вкладывают такое шаманское содержание, что от него можно угореть.
Тем не менее все доводы, приведенные выше, совершенно справедливы. Да, фильм смотрят миллионы людей, даже если этим миллионам фильм не очень нравится. Да, в создании картины принимает участие большой коллектив. Бесспорно так же, что искусство кино есть одновременно и кинопромышленность. И, наконец, не поддается сомнению специфичность кинематографа.
Однако прозаик, окрыленный желанием написать свой первый сценарий, сталкивается с трудностями, еще не переступив порога киностудии.
Трудности эти возникают у него еще за письменным столом.
Придется оговориться снова. Все, что я пишу в этих заметках, носит личный характер. Весьма вероятно, что есть множество прозаиков, которые не испытывали и не испытывают чувства скованности, владевшего мной, когда я писал сценарии. Вероятно также, эта скованность объяснялась тем, что мне не приходилось писать оригинальный сценарий — в работе для кино я отталкивался, или, вернее, ходил вдоль своей же прозы, повести либо рассказа.
И вот что получалось. У меня было ощущение, что возможности мои укорачиваются и сужаются. Нечто вроде кислородного голодания овладевало мной.
Если в прозе перед писателем открывается простор, если в рассказе автор может многообразно характеризовать своего героя, описать его жизнь, поведать его мысли, комментируя их своим авторским, каким угодно тонким отношением, то сценарист, казалось бы, тоже не лишен всех этих возможностей. Положено даже думать, что возможности кино несравненно шире. Однако тут вступает в строй иная поэтика. Именно — поэтика, а не специфика.
Пусть простят меня кинематографисты, но специфика — это дело ремесла: ему, ремеслу, можно обучить. С поэтикой же неизмеримо сложнее.
В прозе личность автора, его взгляды на жизнь, его точка зрения на поступки героев присутствуют совершенно органически. Я не имею в виду постылую дидактическую литературу. Я говорю, скажем, о любимом Чехове. Отношение Чехова к тому, что он изображает, всегда щемяще ясно. Чехов всегда вмешивается в жизнь и в мысли героев. Нет нужды говорить, насколько деликатно он это делает.
Честно говоря, я не знаю, как можно эту поэтику прозы перевести на язык кино. И не зря ведь, а именно из-за неутолимой жажды сблизить прозу с кинематографом возникли, по-моему, и закадровый голос, и внутренний монолог в фильме. Страстное желание расширить и углубить рамки киноискусства, вывести его на необозримые просторы прозы приводит к тому, что в этом направлении идут непрерывные поиски. Беда только в том, что приемы кино быстро ветшают, их приходится все время обновлять; заимствование и подражание в приемах становится нормой, а не исключительным явлением. К сожалению, говорить о плагиате в кино не принято.
Пристальная бдительность кинорежиссеров и редакторов к сюжету сценария, каноническое требование четкости построения и одновременно небрежение к мыслям героя, к тому, что он произносит с экрана, приводят зачастую к такому полному обнищанию его духовного мира, что любой самый затрапезный зритель оказывается умнее и выше этого героя. Иногда мы пытаемся объяснить это тем, что наш зритель неизмеримо вырос. А все дело, по-моему, в том, что наш герой неизмеримо обнищал.
Я не призываю к размытому сюжету или к пресловутому изображению потока жизни. Мне только хотелось бы побыть полтора часа киносеанса в обществе умных людей, которые знают что-то и думают о чем-то, о чем не догадывался бы я. Вернее, может, и догадывался, но не мог или не рисковал сформулировать это.
Вот тут следует сказать еще об одном обстоятельстве, чрезвычайно огорчительном для писателя, угодившего в сценаристы.
Взаимоотношения его с режиссером, покуда пишутся литературный и даже режиссерский сценарии, чаще всего безоблачные. По крайней мере, у меня было именно так. В процессе работы над сценарием я испытывал на себе если не влюбленный, то по меньшей мере восхищенный взгляд режиссера. Меня искренне обласкивали, и в этой искренности я и сейчас нисколько не сомневаюсь. Пожалуй только, у этой искренней влюбленности есть один порок — она профессиональная.
Уважение к тому, что я писал, простиралось настолько далеко, что мне не позволяли менять фразы, взятые из моих рассказов. Мне говорили: «Не трогайте ни одного слова. Это у вас замечательно сказано!»
Затем прошел подготовительный период. Начались съемки. По двум своим мосфильмовским картинам за два года я приезжал из Ленинграда более двадцати пяти раз. Вот тогда-то я и пришел к горестному заключению, что кинематограф — искусство коллективное: разве только осветители не пытались хоть как-нибудь изменить то, что было в сценарии.
В особенности это касалось диалогов. Страстное желание актера кино пересказать все своими словами, стать соучастником того искусства, которое ему не дано, поразительно.
Писатель сидит за столом и сочиняет рассказ. Герои рассказа разговаривают между собой. Каких адовых усилий стоит прозаику найти те единственно точные, достоверные слова, которые присущи именно этому герою, с его психикой, с его биографией, и именно в той жизненной ситуации, в которой он эти слова произносит! На съемочной же площадке, куда актера привозят к восьми утра и откуда увозят в пять пополудни, он, зачастую знающий свою роль в общих чертах, пытается с ходу говорить некие среднеарифметические реплики, не нарушающие сюжет, но начисто смазывающие особенности героя.
В статье писателя В. Солоухина было как-то пронзительно верно замечено, что, для того чтобы убить стихотворение, вовсе не надо его сильно редактировать и портить: достаточно уколоть это стихотворение в какую-то одну важную точку, и оно сразу сникнет.
Так вот искусство укалывать сценарий в жизненно важные нервные центры доведено у нас до виртуозности.
Разумнее всего прибегнуть к собственному опыту. Опыт мой, повторяю, совсем невелик, но думаю, что чем-то он характерен не только для меня. Вероятно, многие начинающие сценаристы испытывали те же чувства, что и я, сидя в просмотровом зале киностудии и глядя свой окончательно смонтированный фильм.
Казалось бы, по обстоятельствам мне повезло. За два года «Мосфильм» выпустил две картины, поставленные по моим сценариям. Пресса отмечала их достоинства. Кинопрокат удовлетворен выручкой. Режиссеры В. Азаров и С. Туманов многому научили меня, и я глубоко признателен им за напряженную, нелегкую совместную работу. Просчеты же, которые не дают мне покоя, наши общие.
Тем важнее разобраться в них.
Обременительно было бы для этих заметок анализировать мое отношение к обоим фильмам, поэтому я возьму последний — «Ко мне, Мухтар!», поставленный С. Тумановым.
Сперва коротенькая справка. В 1960 году я написал повесть «Мухтар», напечатана она была в «Новом мире», а затем в моем сборнике «Обида».
В этой небольшой повести рассказана была жизнь служебно-розыскного пса по кличке Мухтар. Но главное для меня заключалось не в биографии собаки, хотя я старался по мере сил правдиво изобразить ее чисто собачью психологию, ее трудную работу и условия ее существования. Пес Мухтар был для меня еще и тем поводом, который позволял высечь искры из столкновения людей, его окружающих. Без этого столкновения сама история собаки вряд ли заинтересовала бы меня.
Нравственные позиции двух проводников — Глазычева и Дуговца — и все то, что стоит в жизни за их позициями, — вот что занимало меня прежде всего. Несмотря на, казалось бы, неравный «метраж», отпущенный им обоим (Глазычеву — больше, Дуговцу — поменьше), я хотел, чтобы оба они были в равной степени ясны и точны.
Скажу попутно, что я с брезгливой подозрительностью отношусь к тем критическим статьям, в которых писателей «нацеливают» против так называемого мелкотемья. Я не понимаю, что значит «мелкая тема». Слишком уж долгое время у нас в искусстве считалось, что если главный герой произведения, скажем, секретарь обкома, то тема крупная, а если бухгалтер с женой, то тема ничтожна. Эта точка зрения противоестественна и антидемократична. Вряд ли стоит повторять, но я все-таки повторю, что дело в решении темы, а не в выборе ее по принципу погонов на плечах мундира главного героя.
Те мысли, которые волновали меня при написании повести «Мухтар», в сущности, должны были отражать мое отношение к жизни, к действительности. В меру моих возможностей я старался рассказать людям, что я люблю и от чего мне бывает тошно жить на свете. Эти свои мысли я пытался передать всей интонацией повести, всем ее внутренним строем.
Если при этом мне казалось, что сами герои не могут в достаточной степени «выговорить» мою точку зрения, то я не стеснялся дополнять их своими авторскими рассуждениями. Я объяснял моих персонажей впрямую, не скрывая своих симпатий и антипатий.
И вот по этой своей повести я должен был написать сценарий. Обстоятельства благоприятствовали мне: с самого начала работы рядом со мной был режиссер будущего фильма С. Туманов. Отрадно было, что у нас с ним одинаковые позиции. Мы тотчас же легко договорились о главном: хотя, по внешней видимости, центральным героем картины является пес Мухтар, но мы не собираемся делать «собачью» картину — гальванизированный «Джульбарс» нас нисколько не прельщал.
Писать сценарий оказалось для меня делом чрезвычайно сложным. Я спотыкался все время о собственную повесть. Это может показаться странным, ибо в моих руках был готовый сюжет, были уже сочиненные характеры, был, в значительной мере, написанный диалог. И вот на моих глазах улетучивалось и безвозвратно рассеивалось то, ради чего вообще литератор садится за стол — исчезала мысль, оставалась более или менее занятно рассказанная жизнь собаки-ищейки. Интонация, которой я, как автор, дорожил, исчезала.
Следовательно, надо было во что бы то ни стало найти возможность, найти способ перенесения этой интонации прозы сперва в литературный сценарий, затем в режиссерский и наконец — в фильм. Ничего нового я в этом смысле не придумал. Введя в литературный сценарий «голос автора» (не диктора, а именно — автора), я передоверил свое авторское отношение к происходящему собаке. Все, что происходило вокруг Мухтара, оценивалось через него. При этом автор не опускался до собачьего уровня, не подделывался под собачью психологию, а, наоборот, так сказать, подымал пса до себя…
Еще до начала съемок на многочисленных редсоветах и худсоветах возникали споры. О закадровом голосе автора говорили сварливо, и я защищался с той наивной хитростью, к которой, вероятно, прибегают все сценаристы мира в подобных случаях. Я говорил, что о голосе автора сейчас не стоит спорить, ибо он только примерно намечен: вот будет смонтирована картина, тогда и выяснится окончательно, в каких местах и в каком именно виде этот голос останется.
Защищаясь этим незамысловатым способом, я был твердо уверен, что в последний момент, когда уже не останется никакого времени на споры, мне удастся отстоять то, что я написал.
В кино почему-то принято считать, что все написанное сценаристом сделано приблизительно. Это очень трудно пережить прозаику. Легкость, с которой из сценария на ходу, впопыхах выламываются целые куски, вряд ли можно объяснить специфичностью киноискусства. И если при этом методе получаются все-таки хорошие фильмы, то, возможно, это происходит не благодаря такому методу, а вопреки ему?
Едва ли не самым важным в сценарии было для меня столкновение двух героев — Глазычева и Дуговца. Мне представлялось, что их разное отношение к судьбе Мухтара выходит за рамки проблем собаководства. Изображение «будней милиции» тоже не входило в мою задачу.
Я хотел показать, что даже в очень небольшом и крайне специфическом учреждении — в питомнике служебно-розыскных собак — происходят те же процессы, сталкиваются те же разновидности характеров, что и в любом другом месте. Говоря яснее и точнее, я хотел сделать некоторые обобщения. Без обобщений писать неинтересно. Вероятно, именно поэтому многие редакторы так любят предупреждать писателей: только не обобщайте!
Был у меня в сценарии такой эпизод — я позволю себе привести его хотя бы в сокращенном виде. Для виртуозного искусства «укалывания», о котором я говорил выше, чрезвычайно характерно то, что произошло с этим эпизодом.
«Кабинет начальника питомника. Перед майором Билибиным, сидящим на диване, стоит проводник Дуговец — он только что вошел.
— Я насчет нашего ветврача, Сергей Прокофьевич. По совести говоря, беспокоит меня Зырянов. Это же фигура, Сергей Прокофьевич! Молодежи бы надо равняться на таких специалистов…
Билибин хмуро слушает, продолжая листать папку.
— А разговоры мне его не нравятся, — продолжает Дуговец. — Взять хотя бы со мной. Согласно последних данных, порода наших собак нынче называется «восточно-европейская». А Зырянов в присутствии молодежи именует их по старинке — «немецкая овчарка». Я попробовал было тактично поправить его, а он грубо заявляет, что никаких таких восточно-европейских псов в жизни не встречал. И Глазычев поддерживает его… Факт, конечно, маленький, но воспитывать народ надо и на мелочах.
— Всё? — спросил Билибин.
— Не всё, — ответил Дуговец. — Третьего дня была у Зырянова беседа с Ларионовым. Ветврач рекомендует ему читать литературу не отечественную, а исключительно зарубежную. И внушал, между прочим, взгляды, в корне противоречащие теории академика Павлова.
— Например? — спросил Билибин.
— Например, под влиянием ветврача проводник Глазычев очеловечивает своего Мухтара. Отрицает рефлексы… — Дуговец достал из кармана листок бумаги, протянул начальнику. — Я тут все изложил, чтобы не быть голословным».
Этого эпизода в фильме нет, хотя он и был отснят оператором в самом начале съемочного периода. Артист Л. Кмит, снимавшийся в роли Дуговца, сыграл здесь плохо. Ну что же, это бывает. Но ведь впереди были полгода съемок, никаких особенных декораций строить тут не надо было! Как же можно выдирать из фильма те куски, в которых сосредоточена центральная нервная система произведения?
Роль Дуговца была уколота в самую важную точку, и он тотчас же сник, его в фильме не существует. Остался однофамилец Дуговец, который считает, что собак надо воспитывать сурово. Вот и все. Не маловато ли для художественного произведения?
Разве о таком антиподе Глазычева я мечтал? И дело не только в том, что погиб один из главных героев. Дело, к сожалению, в том, что идея всей вещи переведена в другой ранг.
Мне могут возразить: не слишком ли вы преувеличиваете значение одного вымаранного эпизода?
Нет, не слишком. Ибо исчезновение этого эпизода повлекло за собой мелкие «поправочки» в целом ряде других мест. И Дуговец был окончательно стерилизован. Нельзя сперва сварить из рыбы уху, а потом пустить эту рыбу в аквариум и удивляться, что она не плавает.
Хотелось бы привести еще один горестный пример.
В конце сценария Мухтар тяжело ранен бандитом. Несмотря на то, что пса удалось поставить на ноги, он больше не пригоден к служебно-розыскной работе. Его выбраковывают. По существующему положению, после такой выбраковки Мухтара должны усыпить. Однако Глазычев, проработавший с Мухтаром бок о бок много лет, вооружается ходатайством питомника и начинает ходить по инстанциям, пытаясь изо всех своих душевных сил отстоять жизнь пса-инвалида.
В повести моей Глазычев ходил долго. Сперва ему отказывали, ибо оставление собаки на пенсии — случай из ряда вон выходящий. Скажу только, что за все многолетнее существование ленинградского питомника подобный случай произошел всего один раз — со знаменитым на всю страну псом Султаном, биография которого положена в основу повести и фильма «Мухтар». Значит, мытарства Глазычева по инстанциям оправданы суровыми законами нашей жизни, а отсюда — и законами искусства.
От мытарств этих вырастают и фигура Глазычева, и сама идея вещи.
В сценарии я пошел на мелкую сделку со своей совестью: Глазычеву отказывают не несколько раз, как было у меня в повести, а всего лишь единожды: отказывает начфин, и в следующем же эпизоде комиссар милиции удовлетворяет ходатайство.
Эпизод с начфином был отснят. Начфина играл артист Г. Вицин. Мне понравилась острая манера, в которой это было сделано Вициным. Отлично представляю себе, что кому-то игра артиста пришлась не по душе. Однако категорическое возражение против этого эпизода вызвано было, по существу, не игрой Вицина, а самим содержанием эпизода. На обсуждениях утверждалось, что изображение бюрократизма выпадает из стиля фильма. Вот ведь как хитро! Никто не рискнет сказать, что бюрократизм у нас изжит. Он, конечно, имеется, но он, видите ли, не в жанре фильма…
И эпизод с начфином был вырезан из картины. Крохотный кусочек, но когда я смотрю свой фильм и вижу, что Глазычев сразу попадает к комиссару и комиссар сразу накладывает благополучную резолюцию на ходатайстве, то мне совестно перед людьми. У меня ощущение человека, который постыдно налгал миллионам зрителей.
Читатели этих заметок могут спросить меня впрямую: значит, вам не нравится фильм «Ко мне, Мухтар!», о котором вы так брюзгливо пишете?
Я честно отвечу. Мне бесконечно дорог Юрий Никулин в роли Глазычева. Играть рядом с превосходной собакой, больше того — играть и эту собаку, ибо сама она — всего лишь очень симпатичное животное, а трагедию ее играет все тот же Юрий Никулин; работать так, как работал в этой трудной картине Юрий Владимирович, мог только крупнейший киноартист.
Претензии же мои обращены, во-первых, к автору сценария, который оказался недостаточно стойким в боях за свое собственное произведение, и, во-вторых, к режиссеру Туманову: он был, по-моему, слишком снисходителен к очень досадным актерским промахам и слишком чутко прислушивался к многочисленным и разнобойным советам доброхотов.
А если впоследствии все-таки обнаружилось, что наш фильм понравился зрителям и зажил долгой экранной жизнью, то меня все равно продолжала точить досада: он мог быть, по-моему, лучше, глубже, чем это получилось.
Прошло с тех пор немало лет, острота досады притупилась, но желания писать для кино у меня не возникало. А буде невзначай и начинало искриться, я гасил его пеной воспоминаний о своем первоначальном опыте.
Однако продержаться до конца жизни в этой гордо-неприступной позиции мне не удалось. Уж слишком велик соблазн современного кинематографа — возможность обратиться со своими мыслями и чувствами к безбрежно великой аудитории; активность твоего вмешательства в духовную жизнь миллионов людей, если фильм удастся, — не одного меня это завораживало, даже при том, что светло-голубые надежды автора впоследствии чаще всего рушились. Меня же окончательно соблазнило еще одно чрезвычайно важное обстоятельство: режиссером-постановщиком моего нового сценария стала Динара Асанова. Это меня очень обрадовало. Все фильмы Асановой мне нравились — и те, что были сделаны ею до нашей общей работы, и те, что сняты после этого.
Из жизни Асанова ушла до горчайшей обиды рано — на взлете, на широком и высоком развороте своего мужественного таланта.
Для меня ее смерть особенно болезненна: единственный наш общий с ней фильм «Беда» развел нас с Динарой навсегда и надолго ожесточил друг против друга.
Провал сценариста в работе с рядовым, малоодаренным режиссером вполне ожидаем и легко объясним. О подобном провале и рассказывать неинтересно.
Но когда прозаику посчастливилось: его сценарий взял для постановки талантливый, граждански отважный режиссер, ненавидящий показуху и лакировку, а в результате — серьезная неудача, и притом, если можно так выразиться, принципиальная неудача, вызванная глубоким расхождением в главном — в понимании сути сценария, то подобный случай, мне кажется, достоин рассмотрения, ибо он особо поучителен.
Вот почему свое отношение к тому, что произошло при съемках фильма «Беда», я посчитал нужным опубликовать в моей статье «История болезни» в журнале «Советский экран».
Недоумение прозаика, любящего кино, но не понимающего, почему же в нем так неуютно работать, нисколько не уменьшилось с годами — оно живет во мне и поныне. Однако к этому добавились сомнения в моей правоте — вероятно, дает себя знать старомодная традиционность автора, пишущего прозу.
Сейчас сценарии делаются не так, как я себе когда-то представлял. И снимаются по этим сценариям замечательные фильмы. И я верю в то, что они замечательные, хотя некоторые из них я уже не всегда понимаю.
НАУКА РАССТАВАНЬЯ
Сейчас уже не припомнить, с чьей легкой руки повелось комплиментарный отзыв о прозаической книге, написанной стихотворцем, возвышать словами п р о з а п о э т а.
Критик, впервые употребивший это словосочетание, возможно, полагал, что поэт, ступивший на земную стезю прозаика, словно бы приподымает ее над грешным земным уровнем.
А между прочим, никому не приходило в голову, скажем, «Повести Белкина» или «Героя нашего времени» пышно обозначать прозой поэта — произведения эти именуются гораздо скромнее и проще: гениальной прозой.
Пренебрежем, быть может, бестактной иронией. Разумеется, прекрасно, если поэт всегда остается поэтом и стилистика его прозаического произведения рождена иным, поэтическим зрением, вроде бы хрусталик его глаза фиксирует то, что далеко не всегда присуще зрению прозаика.
Но вот книга Маргариты Алигер «Тропинка во ржи», хотя и имеющая подзаголовок «О поэзии и поэтах», написана намеренно самым прозаическим стилем. В том смысле, я думаю, намеренно, что задача, поставленная перед собой автором, под силу именно прозаику.
Воспоминания, мемуары — пожалуй, самый вольный, неуправляемый род литературы, не подчиняющийся определенным законам жанра, если подобные законы вообще существуют. Помимо того, что мемуарист способен что-то забыть или напутать, он еще может припомнить то, что следует забыть; по этой причине немало мемуарных рукописей подолгу дожидалось своего часа. Освещать пламенем воспоминаний тьму минувших лет было до последнего времени занятием — выразимся деликатно — не всегда похвальным.
Алигер не соблюдает в своих мемуарах бесстрастия историка, она и не стремится к этому. Да по правде сказать, читателю было бы если не подозрительно, то уж во всяком случае нежелательно и неприятно это бесстрастие: события, психология, судьбы людей давних лет — а в общем-то и не столь уж давних — настолько прихотливо смещены и чреваты всяческими зигзагами, что перед мужественным мемуаристом неизбежно стоит как бы двойная задача: достоверно поведать, как было, как ощущали себя люди того времени, в том числе и сам мемуарист, однако не менее важно, что́ он думает сейчас, сегодня о том времени и опять-таки о себе самом того времени. Мужество мемуариста и его правдивость заключаются для нас, нынешних, в том, чтобы, вспоминая минувшие годы, он не опрокидывал себя сегодняшнего в те времена, не вооружал себя тогдашнего нынешней прозорливостью задним числом.
Память человека избирательна. Разные люди, наблюдающие одно и то же явление, запоминают вовсе не одинаковые черты этого явления. И тут дело не в крепости, не в стойкости памяти, а в нравственном облике человека, припоминающего то, чему он был свидетелем. Наблюдая жизнь, мы прежде всего видим то, что соответствует нашему душевному и духовному складу. Кстати, опытные юристы знают эти свойства свидетельских показаний и относятся к ним с выборочной осторожностью.
Субъективность показаний Маргариты Алигер, субъективность, которую она не скрывает и даже настаивает на ней, завоевана тревогой прикасания к острым периодам прожитой жизни.
А собственно, почему это так уж зазорно — мыслить субъективно? Все дело, я полагаю, в том, каков субъект. Изрекать объективные соображения способен, между прочим, и совершенно ничтожный человек. Его и не видно будет за этими, или, если хотите, под этими соображениями. Не говоря уж о том, что те мысли, которые представлялись нам в свое время субъективными, случалось, оказывались потом вполне объективными.
Я упоминал, что в подзаголовке «Тропинки во ржи» обозначено: «О поэзии и поэтах». Это верно. Маргарита Алигер выстраивает перед нами блистательную гвардию русских советских поэтов — их имена врублены в историю нашей литературы. Однако книга эта не только о поэзии и поэтах. Она и о времени. Об огромном, по нашим масштабам, отрезке эпохи.
Применительно к прошлому веку мы привыкли оперировать такими понятиями, как «шестидесятники», то есть люди шестидесятых годов, «семидесятники» и т. д., вкладывая в эти понятия совершенно отчетливый, просеянный сквозь железное сито истории смысл. Но ведь применительно и к нашей убыстренной эпохе, мысля подобными же категориями, нарезая время ломтями десятилетий, можно, пожалуй, говорить о людях двадцатых, тридцатых, сороковых военных, пятидесятых, шестидесятых годов. Разумеется, это весьма условное деление, тем паче что, скажем, пятидесятые годы достаточно рельефно делятся на первую половину и вторую. Не говоря уже о нынешних восьмидесятых, где различие это, к счастью, особенно ощутимо.
Живя, если можно так сказать, внутри каждого десятилетия, мы не всегда отчетливо разбираемся в характерных его свойствах, но, отойдя от него на достаточное расстояние, начинаем понимать и это десятилетие и себя, свою судьбу в нем. Ярче становятся высоты и трагичнее горькие заблуждения.
Судьбы людей, о которых вспоминает Алигер, их сложнейшая, а для иных полная драматизма жизнь, и притом титаническая их работа, созидавшая славу нашей литературы, — судьбы их прошли сквозь несколько десятилетий, обожженных не только огнем войн, но и теми битвами мирного времени, от которых остаются инфарктные рубцы на сердце. В истории литературы случается и так, что смерть подлинного поэта, хоть и настигла его дома, в постели, равносильна гибели на поле сражения.
От одного лишь перечня великолепных писателей, которых вспоминает Маргарита Алигер, — Ахматова, Эренбург, Чуковский, Твардовский, Маршак, Заболоцкий, Мартынов, — от возможности узнать их и нам, пускай посмертно, но поближе, крупнее и в то же время «домашнее», — от одной этой возможности у широкого читателя, любящего литературу, захватывает дух.
В своих воспоминаниях Алигер не опускается до того, чтобы сообщить читателям так называемые интимные подробности жизни всех этих замечательных людей, — боже, как охоч до таких подробностей мещанин! Именно об этой отвратительной страсти черни брезгливо и гневно писал Пушкин в своем широко известном письме Вяземскому в связи с утерянными дневниками Байрона.
Быть лишь современником любимого писателя — уже счастье. Ощущать же его присутствие поблизости с тобой, с твоими мыслями о жизни, поверять свои поступки высокой мерой его личного поведения — этим огромным счастьем была многократно одарена Маргарита Алигер. И столь же многократно ей приходилось расставаться…
Чем крупнее и неповторимее человек, тем меньше возможностей у одного мемуариста дать исчерпывающий портрет этого человека. И естественно, для того чтобы составить о нем более или менее широкое представление, следует вслушаться в воспоминания разных людей, знавших его. Пусть при этом неизбежно возникнут некие противоречия — они, кстати, далеко не всегда результат ошибок или пристрастий мемуариста, а дело тут в противоречивости самого объекта воспоминаний, ибо крупность личности вовсе не равнозначна последовательности и прямолинейности его жизненного и творческого пути. Будь даже человек семи пядей во лбу, он изменяется на протяжении своей долгой жизни, в особенности же, если и сама жизнь утрачивает вожделенную прямолинейность.
Это я к тому, что среди мемуаристов попадаются авторы, полагающие, что лишь они одни обладают каким-то монопольным правом на доподлинное знание человека, о котором пишут. И они зло раздражаются на любого автора, якобы посягнувшего на их святое право.
Мне посчастливилось на протяжении более чем двух десятилетий, начиная с сороковых роковых годов, быть достаточно хорошо знакомым с великим поэтом Ахматовой. Я пишу — поэтом, ибо Анна Андреевна терпеть не могла слова «поэтесса». И если мое свидетельство чего-нибудь да стоит, то могу подтвердить, что воспоминания Маргариты Алигер достоверны в передаче интонаций Анны Андреевны, в изображении ее несломленно-гордой натуры и неслыханно горькой судьбы.
Сегодня понятие поколение приобрело иные скорости. Десять — пятнадцать лет — срок, казалось бы, молекулярный в масштабах истории человечества, но эпоха наша столь расточительно щедра на такие резкие перемены в жизни, что всякое новое поколение рискует не узнать, что же было до его сознательного существования, тем более что мы долгие годы бдительно оберегали это его невежество. И не потому ли мы сплошь и рядом наблюдаем огорчительную историческую, беспомощность нынешних молодых людей, их невооруженность правдивым знанием жизни минувших поколений. А ведь жизненный опыт человека складывается не только из его личных наблюдений и впечатлений, но и из опыта его отцов, дедов и прадедов.
«Тропинка во ржи» Маргариты Алигер, рассказывая о поэзии и поэтах, еще и выводит читателя на дорогу, ведущую к познанию не столь уж далекой, но в то же время — такой уже далекой действительности.
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА
Царственность Анны Андреевны помнят все, кто знал ее.
Это становилось очевидным тотчас, даже при самой малой наблюдательности. Однако понятие это — царственность — не имело ничего общего с поведением человека, желающего подчеркнуть свое превосходство. Не так. Иногда мне казалось, что Ахматова схожа с королем Лиром судьбой своей: все потерять — и остаться королевой!
Сходство с Лиром, разумеется, весьма отдаленное — не было у Ахматовой его безумства, его буйства. И покорности не было. А было — заторможенное, неторопливое величие духа. Этим она заслонилась от оскорбительной беды. Величием оборонилась.
Ахматова была отторгнута от читателей на десятилетия. Не то чтобы ее забыли — ее попросту не знали целые поколения.
Неверно было бы думать, что чувство своего избранничества, в высокой мере присущее Ахматовой, порождало в ней гордое безразличие к своей поэтической судьбе, к тому, что ее имя отторгнуто от читателей. Если что и задевало ее, причиняло ей кровоточащую боль, впрочем, тщательно скрываемую, то именно это — невозможность, оборванность связи с читателем.
Однажды, когда зашел при ней разговор о нравственной порядочности одного журнала и старательном лакействе другого, в котором и публиковаться постыдно, Анна Андреевна сказала:
— Не все ли равно, где печататься, — хоть на афишной тумбе.
Это было произнесено с той долей иронии, которую в равной степени можно было назвать и горькой и гордой.
Немота, на которую она была обречена, искусственно созданная, то есть не ее личная немота, а вырубленность звука ее голоса мощным рубильником, довела Анну Андреевну до того, что она могла иногда показаться жалкой в своем стремлении поведать людям, навещавшим ее, что она не забыта читателями.
Я с трепетом написал слово «жалкой», не умея подобрать другого, но и не желая скрывать, до какого состояния можно довести великого поэта, разобщив его напрочь с теми, ради которых он создан божеством искусства.
В долгие годы зловещего отсутствия имени Ахматовой в литературе, бывая у Анны Андреевны, я иногда слышал:
— Дайте мне, пожалуйста, вон тот конверт, что лежит на сундуке.
Она редко подымалась из своего кресла, но сидела в нем не грузно, как старуха, а с выпрямленной спиной и поднятым лицом. Ее голова даже несколько запрокидывалась назад, когда она читала свои стихи, словно произносились они не собеседнику, сидящему неподалеку в ее комнате, а кому-то витающему в необозримой высоте. И голос Ахматовой преображался: он приобретал какую-то грозную глуховатость и еле ощутимую напевность, будто она своими стихами клялась кому-то или требовательно молилась. Казалось бы, это немыслимое сочетание — молитва и требовательность, ибо суть молитвы — мольба, просьба о помощи, но Ахматова интонацией своей ни о чем не просила и не молила, — она требовала, чтобы ее выслушали, и если на земле это невозможно, то пусть услышат над землей, в вышине.
Анна Андреевна была безусловно глубоко и сложно верующим человеком.
Я говорю — верующим, не заменяя его словом — религиозным, ибо мне кажется, что между двумя этими понятиями есть некая разница. Вдаваться в различие не стану, скажу лишь, что вера Ахматовой была тихой, чистой, интимной, никого не касающейся, ни для кого не обременительной.
Еще в то время, когда она подымалась из своего кресла и провожала своих гостей в прихожую, то уже на пороге говорила моей жене:
— Христос с вами.
И быстро крестила ее на прощанье.
Еще помню, что от Анны Андреевны, от нее от первой, я услышал о Кумранской находке — о кусках овечьих шкур, найденных пастухом в пещерах: древние письмена на этих шкурах подтверждали будто бы истинность существования Христа.
Анна Андреевна рассказала мне об этом коротко, но глаза ее были озарены.
Мне кажется, что личность Христа была как-то по-особому близка Ахматовой его человеческой сутью и судьбой.
Необычайность ее воображения, поэтического и реалистического одновременно, позволяла Ахматовой приближать к себе и самой приближаться к самым отдаленным историческим явлениям, если, конечно, они ее волновали.
В пушкинские времена Анне Андреевне не приходилось переселяться — она наезжала туда, когда только вздумается.
Ее общение с Пушкиным было общением поэта с поэтом. Это прежде всего. Затем уж — историко-литературным. И наконец, отношение Анны Андреевны к Александру Сергеевичу было — страшно вымолвить! — женским. Она ощущала себя женщиной его круга и ревновала его, как живого, к тем, кто был, по ее мнению, недостоин его. Многослойность ахматовского проникновения в психологию творчества Пушкина позволяла ей разгадывать такую закодированность некоторых его стихов, какую не мог бы постичь ученый: сама логика творчества Пушкина, вряд ли логичная у гения, обнажалась тем поэтом, который и сам был близок Пушкину по его колдовству.
При мне однажды Анна Андреевна с необычной для нее сухостью прервала своего гостя-собеседника, рассуждавшего об ограниченности Натальи Николаевны Гончаровой.
— Пушкин ее любил, — резко сказала Ахматова. — И мы не имеем права осуждать Гончарову.
Это было сказано тем тоном, каким говорят безукоризненно воспитанные люди о семейных отношениях близких знакомых.
Но сама-то Анна Ахматова имела право на свое мнение о жене поэта. И это мнение было горьким, если не сдержанно-презрительным.
Я помню три квартиры Ахматовой, в которых она жила последнюю четверть века своей жизни.
Сперва знаменитый Фонтанный дом — Шереметевский дворец на Фонтанке, затем улица Красной Конницы, неподалеку от Таврического сада, и последняя — в писательском доме на улице Ленина.
Странное воспоминание: три абсолютно разные квартиры — и совершенно одинаковая комната Ахматовой в каждой из них. Всегда с одним окном без солнечного света, всегда спартански суровая или, точнее, не слишком обжитая.
Возможно, это объяснялось тем, что Анна Андреевна подолгу кочевала в Москве; но, главное, я думаю, поэту Ахматовой было безразлично, в какой комнате жить. Все, что ей было необходимо для работы, существовало внутри нее. Невозможно даже представить себе такое сочетание слов: кабинет поэта Ахматовой. И не потому, что его действительно никогда не было, а потому, что его и не могло быть.
Услышав как-то от Анны Андреевны, что цикл ее стихов «Реквием» написан в тридцатых годах, я спросил:
— Как же вам удалось сохранить сквозь все тяжкие годы запись этих стихов?
— А я их не записывала. Я пронесла их через два инфаркта в памяти.
Мне хорошо известно, что личность поэта выражена в его стихах. И даже его биографию, как бы она ни была причудлива, можно проследить все по ним же, по его поэтическим строчкам.
И все-таки…
Все-таки людям, не знавшим Ахматову, Анна Андреевна чудилась уже памятником, они представляли ее при жизни в посмертном академическом издании.
Более того, многие из тех, кто бывал у Анны Андреевны, и вели себя так, будто пришли в гости к памятнику. И это, мне кажется, вызывало у нее двойственное чувство: лишенная всякого общественного признания, Ахматова была рада знакам почтительности и даже преклонения, но одно лишь это паломническое отношение к ней и утомляло и наскучивало ей.
В один из дней рождения Анны Андреевны, лет за пять до ее смерти, я пришел к ней с Александром Александровичем Кроном. Часто бывая в Ленинграде, Крон неизменно навещал Ахматову в самые темные для нее времена, и заведено им было так, что он непременно являлся с бутылкой шампанского и баночкой консервированных ананасов. Раздобывал их иногда чудом.
Однако на этот раз не оказалось ни шампанского, ни ананасов. Насколько помню, мы даже не знали, что этот день — день рождения Анны Андреевны. И пришли мы, прихватив с собой обыкновенную бутылку водки. В тот год Анна Андреевна еще без труда передвигалась по квартире. Сидели мы в кухне за маленьким столиком. Никого, кроме нас троих, не было, вероятно, все поздравлявшие Анну Андреевну в этот день уже перебывали у нее, да и сомневаюсь, много ли людей знали эту дату.
Если бы кто-либо из так называемых «обожателей» Ахматовой заглянул тогда в кухню, он изумился бы до смерти. Ему показалось бы кощунством, что мы болтали с Анной Андреевной. Болтали о чем попало. Ну, ладно, — мы с Кроном никого бы не удивили, но сама-то Ахматова!.. Она не произносила ничего, что можно было расхватать на цитаты, ни грамма «жреческого», «поэтического», мы даже сплетничали о братьях-писателях, и Ахматова блестяще злословила — она умела это делать с одной ей присущим изяществом и наблюдательностью.
Поражала речь Ахматовой, ее лексика. Изумляла внезапная современность ее языка, его сегодняшность, даже уличность.
Разумеется, я не имею в виду уличную брань, издавна ставшую модной и в интеллигентской среде, — в судьи не гожусь, грешен и сам.
Анна Андреевна с легкостью употребляла обороты речи, еще не вошедшие в узаконенный синтаксис, еще не отобранные даже в словарные просторечия. И они вкрапливались в ее речь с ювелирной точностью.
Какими путями все это проникало к Ахматовой, я не понимал: она не стояла в длинных магазинных очередях, почти не пользовалась городским транспортом, не участвовала в массовых мероприятиях, то есть слуху ее вроде бы неоткуда было улавливать звуки уродливых языковых выкидышей, которые лишь впоследствии из гадких утят, бывает, превращаются в белых лебедей.
Разговорный язык необходим был Ахматовой так же, как он был необходим Пушкину. Вспомним, с какой охотой Пушкин пользовался этим грубым языком в своих письмах. Всякая возвышенность речи претила Анне Андреевне. И в свои стихи Ахматова запросто врубала прозаические разговорные обороты: «Какая есть. Желаю вам другую. Получше…» Здесь, в этом оголенном сочетании слов, поэт «опускается» до того уровня, на котором общаются, попрекают мужчин брошенные, обиженные ими женщины любых социальных сословий. И этим достигается всеобщность чувства ревности и женского одиночества.
«Какая есть. Желаю вам другую. Получше…» — это произносится и в коммунальной квартире, и на танцевальной площадке под радиолу.
И это же вправе произнести поэт, когда ему по-человечески худо, скверно.
Тот вечер на кухне запомнился еще и вот почему. Анна Андреевна сказала мне:
— А вы меня совсем не боитесь.
По наивности или по глупости не сообразив, что она имеет в виду, я ответил:
— И никогда не боялся, в те годы приходил к вам, а сейчас-то уж чего…
— Да я не об этом. Вы вообще не боитесь меня.
Вон, оказывается, в чем была суть: Ахматова не внушала мне той цепенящей робости, того придыхания, которое овладевало многими людьми, посещавшими ее.
Я не посещал. Я приходил.
Совестно признаться — я ужасно жалел ее.
Отчетливо представляю себе, с какой уничтожающей яростью и презрением могут накинуться на меня: да кто вы такой, чтобы посметь жалеть поэта Ахматову?!.
Спорить неохота. Скажу только, что если бы мы научились побольше жалеть друг друга, то множество мерзостей не сотворялось бы человечеством.
И расскажу о пронзившем меня особенно остро чувстве жалости, которое я испытал к Анне Андреевне. Это случилось в самый последний период ее ленинградской жизни.
Я пришел к ней днем, принес несколько листков копирки — Анна Андреевна позвонила накануне и спросила, нет ли у меня копировальной бумаги. Дверь открыл кто-то из домашних, я прошел в конец коридора, в ту дальнюю комнату, что была подле кухни.
Здесь и жила Ахматова.
Она недавно вышла из больницы. Разрушенность сильно коснулась всего ее облика. И день за окном был тоскливо-серый, петербургский. Анна Андреевна уже не подымалась из своего кресла при гостях, и сейчас, ранним днем, быть может, даже еще утром для нее, скудно освещенное лицо ее, обесцвеченное болезнью, больницей, оплывшее, усталый запавший рот, отсутствие на плечах привычной шали и потому открытая бесформенность тела — все было зримо. Однако больнее всего меня ушибло вот что: платье Анны Андреевны, утрешнее, затрапезное, надетое, по-видимому, второпях, оказалось наизнанку — на нем, у шейного выреза, был пришит прачечный номер, и он сейчас был наружу — Ахматова была помечена номером!
Я не знал, куда девать свои глаза.
Поблагодарив за принесенную копирку, Анна Андреевна сказала:
— Я получила грандиозное письмо. Хотите почитать?
И указала на конверт, лежавший неподалеку на сундуке.
Эту фразу: «Я получила грандиозное письмо» — слышали от Ахматовой многие из приходивших навестить ее в последние годы.
Письма присылались кем-либо из читателей, они были немногочисленны — стихи Ахматовой почти не доходили до людей, но если доходили все-таки, то кто-то из восхищенных ее поэзией делился с Анной Андреевной своей радостью узнавания, а порой и простодушно изумлялся, что она еще жива.
Я испытывал щемящую неловкость, смущение оттого, что Ахматова, поэт, уже давно причисленный мной к классикам русской литературы, полагает необходимым для себя ознакомлять своих гостей с несколькими письмами читателей, словно бы в доказательство масштабов своей поэтической работы. И опять, и опять я думал, до какого же противоестественного состояния можно довести человеческую гордость, на какой нищенский кислородный паек можно ее посадить, чтобы она не задохнулась.
Быть может, мне не следовало об этом писать, и я не стал бы этого делать, если б не знал, что были люди, относившиеся к этому иначе.
Вера Федоровна Панова, писатель талантливый, человек умный, но насмешливо-недобрый, сказала мне как-то:
— Вы были у Анны Андреевны? Водила она вас по себе, как по музею?
В 1954 году приехали в Ленинград английские студенты. Будучи на приеме у городских комсомольских секретарей, студенты, среди прочего, поинтересовались судьбой Ахматовой и Зощенко. Свое любопытство они пояснили: за рубежом бродит слух, что два этих писателя репрессированы.
Студентам, естественно, ответили, что слух лживый — Ахматова и Зощенко никогда не были репрессированы.
Молодые англичане спросили: а нельзя ли им встретиться с ними?
И эта встреча состоялась.
В гостиной писательского клуба руководил данным мероприятием Александр Дымшиц. Ему доверили это ответственное дело, выбор пал на него, ибо свою охранительскую репутацию он блюл с той особой старательностью, которая свойственна людям однажды провинившимся и строго за это наказанным.
Однако не по его вине приключилось так, что он не оправдал доверия.
Встреча оказалась неуправляемой.
Само время ее, 1954 год, уже носило в своей утробе, но еще не довело до степени зрелости то устройство, что сработало через два года.
В пятьдесят четвертом году история как бы спружинилась, спрессовалась, зависла ее непредсказуемость, и еще неясно было, какие механизмы придут в движение под воздействием этой заново напряженной пружины.
Жажда перемен, торопливое, лихорадочное ожидание их, усталое неверие в их приход и тупое, злобное сопротивление тому, чтобы они наступили, — все эти предощущения выталкивались на поверхность людского сознания и сшибались между собой.
Пятьдесят четвертый год давал возможность для предположений: вместо одного привычного варианта истории внезапно оказалось несколько, и люди, отученные, отвыкшие от догадок, пытались угадать, что именно их ждет. Забрезжила возможность многообразного поведения.
Английских студентов, для которых была организована эта встреча с двумя великолепными русскими писателями, вряд ли волновала их судьба. Произведений Ахматовой и Зощенко они не читали. Представить себе, в какое положение будут поставлены этой встречей Анна Андреевна и Михаил Михайлович, приезжие юнцы не могли, да и не посчитались бы, если б даже знали. Ими руководило жадное и бесстыдное любопытство — не более того.
Что касается Александра Дымшица, то он, надо полагать, был уверен в незыблемости протокола подобных встреч, поскольку этот порядок уже закодировался в его генах.
Иностранцы задали Ахматовой и Зощенко один и тот же вопрос.
Сперва он был обращен к Анне Андреевне, и, покуда переводчица «Интуриста» переводила, Ахматова, отлично знавшая английский, не поворачивая своей царственной головы, тихо сказала сидевшей рядом Елене Катерли:
— Это не для моего сердца.
И на вопрос, уже прозвучавший по-русски:
— Считали ли вы справедливым и считаете ли вы сейчас справедливым то, что было сказано о вас в критических статьях в сорок шестом году?
Ахматова сухо ответила:
— Да. Только так.
Мудрость ее истерзанной судьбы подсказала ей этот ответ.
И беспощадное любопытство заграничных мальчиков тотчас погасло.
А Зощенко, наивный Михаил Михайлович, великий провидец в своих маленьких рассказах, простодушно убежденный, что они помогут новому строю искоренить свои пороки, правдоискатель Зощенко, глубоко оскорбленный тем, что его неправильно поняли, оскорбленный тем пошлым, торжествующим невежеством, которым он так превосходно умел наделять своих выдуманных персонажей, — не смог вынести его применительно к себе. Литературный герой, открытый им, наблюденный им, изображенный им, — ожил и посмел хлобыстнуть своего создателя-автора. Это было до того нереально для наивного Зощенко, что ему чудилось — так не бывает и, уж во всяком случае, так не смеет быть. В нем еще тлело давнее, старомодное, как шпага, представление, что свою честь должно и возможно отстаивать при любых обстоятельствах.
И когда вопрос, обращенный английскими студентами к Ахматовой, был тут же задан и ему, Зощенко поднялся во весь свой хрупкий, статуэточный рост и несвойственным ему напряженно-горловым голосом ответил.
Вряд ли его интересовали те парни, что сидели сейчас перед ним, — он отвечал не им. Не им он рассказывал сейчас, как глубоко и беспардонно поругано его достоинство. Лишенный возможности высказать все это тем, кто нанес ему оскорбление, Зощенко отвечал пространству.
Пространству истории.
И, как ни парадоксально, два совершенно полярных ответа — бесстрастное «Только так» Анны Андреевны и страстный протест Михаила Михайловича — это один и тот же лик истории тогдашних дней нашей жизни. Мучительная гримаса лика.
Английские студенты зааплодировали Зощенко, защелкали его своими фотокамерами.
Ахматова оставила их в равнодушии.
А дня через три в ленинградской газете Зощенко был разнесен в клочья уже по второму, теперь-то по предсмертному разу. Об Ахматовой в этой статье не было ни слова.
Я встретил его месяца два спустя, когда Анну Андреевну уже восстановили в Союзе писателей, а его — нет.
Он был совершенно спокоен, точнее — безнадежно спокоен. Улыбнулся, как всегда улыбался одним краем рта, и сказал мне тихим и даже добрым голосом:
— Я шел с Анной Андреевной ноздря в ноздрю, а теперь она обошла меня на полкорпуса.
Сейчас они вровень.
Их книги издаются у нас огромными тиражами и расхватываются со скоростью звука.
Их прижизненная судьба волнует всех. О нас не скажешь пушкинскими словами:
— Мы ленивы и не любопытны.
Нет! Мы не ленивы. И мы очень любопытны…
Вот только выводы из своей истории литературы мы еще не научились делать.
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ
Александра Трифоновича Твардовского я робел. Пожалуй, даже точнее — побаивался. Это удивляло и огорчало меня. По обстоятельствам моей долгой жизни я был достаточно коротко знаком со многими известными писателями, но никто из них не вызывал во мне излишней робости при всем моем безмерном уважении и восхищении ими.
А вот с Твардовским было иначе. Тогда, в те счастливые для меня годы, я и не пытался анализировать природу моего почтительного страха — боялся, и все тут. Никого, вроде, не страшился, а перед Твардовским испытывал такую робость, что самому было неловко.
Нынче, по прошествии многих причудливых лет, я понимаю свое тогдашнее душевное состояние.
«Новый мир» был для меня не просто одним из журналов, в котором, быть может, удастся напечататься. Это сейчас мне безразлично, кто из главных редакторов одобрит и примет мой рассказ. Да и процесс публикации настолько удлинился, что, случается, одобряет твою рукопись один главный редактор, а номер журнала подписывает в печать уже другой. И это сейчас мне все равно, кого напечатают рядом со мной. И в общем-то, почти безразлично, какова будет вторая, не беллетристическая половина журнала — публицистика и критика. Ну, огорчусь, что плетут черт знает что, совершенно не соответствующее моим взглядам на жизнь и литературу. Разумеется, огорчусь, но тотчас привычно-спасительно утешу себя: ишь чего захотел — лица журнала захотел, да еще родного лица! Ты отвечай за себя, за то, что сам сочинил. Пускай читатели сами разберутся. Не маленькие.
Повторю — «Новый мир» был для меня не просто одним из многих органов печати. А представить себе во главе этого журнала не Александра Трифоновича Твардовского было так же кощунственно-немыслимо, как, скажем, вообразить молодой МХАТ без Станиславского.
Твардовский кристаллизовал определенное направление литературы, нравственности и общественной мысли. Он был воссоздателем гласности, по которой мы так истосковались. В его журнале литература опомнилась и словно бы стала ощупывать самое себя, обнаруживая свои занемевшие от долгого бездействия мышцы. Она приходила в сознание, очнулась ее память, а с памятью — и совесть.
За короткий, поразительно мимолетный срок — сейчас это особенно зримо — Твардовскому удалось приоткрыть шлюзы, и уровень художественной правды (только ли художественной!) тотчас резко повысился.
Правда хлынула со страниц «Нового мира».
Я разделял убеждения журнала, они дремали во мне, укоренившись еще в мои юношеские двадцатые годы, однако эти ростки жили в моей душе, как в погребе, — они были лишены света.
Нет, «Новый мир» не открыл мне глаза, они были открыты, но он промыл их живой водой. И радость моя была прежде всего читательская. Гражданская и эстетическая позиция читателя первична у всякого литератора, с нее он начинается, а уж в зависимости от его дарования ему удается лучше или хуже воплотить эту позицию в своих произведениях.
Твардовского как поэта я знал в то время весьма посредственно. Хотя за поэзией, более даже чем за прозой, я привык следить с ранних лет. Это было, мне кажется, свойственно всему моему поколению. Мы выли, орали, бормотали стихи поэтов разных направлений, не вникая в суть бешеных споров между ними.
К той поре, когда начал печататься Твардовский, у меня уже были вполне сложившиеся литературные вкусы. И его стихи лежали в стороне от моих поэтических привязанностей. Позднее я, конечно же, восхитился «Василием Теркиным», отлично понимая, насколько проникновенно выражена в этой поэме душа народа, истерзанного войной, доброго и лукавого, разъяренного, но не озверевшего. Покорила меня и мелодика поэмы, мудрая простота ее говора. Всех этих великолепных качеств поэзии Твардовского хватало мне с лихвой. Для того же, чтобы стать любимым поэтом, недоставало мне в его стихах лирики в самом первозданном понимании этого слова. Стихи Твардовского не о войне оставляли меня равнодушным: интерес к жизни деревни еще не был разбужен в городском моем сердце, — изображению и осмыслению этой жизни еще предстояло стать главной и острейшей темой нашей литературы.
Во второй половине пятидесятых годов Александр Трифонович Твардовский был для меня не столько поэтом, сколько совестливым проповедником высокой социальной нравственности, заглазно учившим меня стремлению к правде, справедливости, отвращению ко всякой лжи и лицемерию.
Естественно, моей мечтой было напечататься в «Новом мире».
Я прекрасно понимал, что никому в этой редакции неведомо мое имя и что я для них «самотек», то есть одна из самых утомительных разновидностей авторов. Отправив рукопись моего рассказа, не стал я к своей подписи пришпиливать «член Союза писателей». К слову сказать, это теперь стало престижной модой — визитные карточки и типографские бланки, в которых кто ни попадя обозначает свою личность и даже вполне частную переписку ведет на подобных бумажках.
Отправив рассказ, я приготовился к долгому ожиданию неблагоприятного ответа, начертанного, как это водится, кем-либо из внутренних рецензентов. Однако не более чем дней через десять пришла телеграмма, подписанная Твардовским. Ничего выдающегося в этой телеграмме не было, сообщалось только, что мой рассказ принят и будет напечатан в ближайшем номере журнала.
До этого, да и впоследствии, мне как-то не приходилось иметь дело с главными редакторами, которые телеграфно извещали бы меня о принятии моих рукописей.
С этой первой публикации в «Новом мире» и началось мое сближение с журналом. Все, что писалось мной в те годы, я отправлял в «Новый мир». Мне везло — рассказы печатались.
Бывая в Москве, я заходил в редакцию просто так, без всякого дела, обменяться новостями, мнениями, отвести душу. Обычно это случалось в обеденный перерыв или к концу рабочего дня, и у сотрудников журнала почему-то всегда хватало времени на приветливость. Изумляло меня еще и то, что если редакция полагала необходимым внести какие-то мелкие изменения в мою рукопись, то меня вызывали в Москву: никто не смел вносить поправки без моего ведома — либо меня убеждали в их непреложности, и я вносил их сам, либо отстаивал нетронутость своего текста. Это было заведено Твардовским и свято блюлось новомирцами. Обзывать их редакционным аппаратом никому не приходило в голову: в понятии аппарата есть нечто бездушно-серийное, детали его легко заменимы штамповкой.
Напечатав в «Новом мире» несколько рассказов, я все еще не был знаком с главным редактором. Я знал, что они были читаны им — на первой странице рукописей, где-нибудь в уголке стояли две буквы «А. Т.», это означало одобрение Твардовского.
Первая моя встреча с Александром Трифоновичем произошла при чрезвычайных для меня обстоятельствах, да и для журнала они были не слишком рядовыми.
Весной шестидесятого года, будучи в Москве, я принес в «Новый мир» свою повесть «Мухтар». Не помню уж почему, эту рукопись я сперва отправил в журнал «Юность», но мне ее оттуда вернули, сообщив, что вещь больше подходит для «Пионера», поскольку она слишком детская.
«Новый мир» принял «Мухтара» и тотчас отправил в набор. Я уехал из Москвы в благостном состоянии: три с половиной листа — размер для меня огромный, корпел я над этой повестью очень долго. А тут еще принял ее сам «Новый мир», на что я, по правде сказать, не сильно рассчитывал.
И вот месяца через два после этого, когда уже верстался номер журнала с «Мухтаром», редакция внезапно срочно вызвала меня в Москву.
Твардовского в Москве не было.
В отделе прозы мне показали верстку моей повести, обильно уснащенную восклицаниями на полях, вычерками и даже вписками самоделкового поправочного текста.
Я спросил: кто это сделал? Мне ответили: заместитель главного редактора Александр Григорьевич Дементьев.
Все поправки и изменения возмутили меня, я отказался подписывать верстку в печать.
Возникла достаточно серьезная неловкость: вынуть из сверстанного номера журнала три с половиной печатных листа не так-то просто. То есть чисто технически это штука немудреная, однако обычно подобное вершится по каким-то высоким указаниям, а тут принятая вещь настолько «заредактирована» внутри журнала, что автор требует ее изъятия.
Я уже оплакивал горючими слезами своего пса и наладился домой в Питер, но в день моего отъезда мне позвонили из отдела прозы: вернулся в Москву Твардовский — завтра он собирает всю редакцию для разрешения создавшегося конфликта. Разумеется, приглашен автор.
Я вошел в кабинет главного редактора, когда все были в сборе — уже сидели по обе стороны длинного стола.
Твардовский поздоровался со мной молча, сухо, на его округлом, не по-мужски мешковатом лице не обозначилось никакой любезности. Он сел не с торца длинного стола, а поодаль, в стороне, у стены. Вступительных слов сказано им не было. Просто обрушилась тишина, как только он сел и закурил.
И тотчас поднялся с другого конца стола Дементьев. Держа верстку в руке, сперва стоя, а затем расхаживая по кабинету, он произнес не слишком длинную, но достаточно раздраженную речь, смысл которой сводился к тому, что главный герой моей повести младший лейтенант Глазычев — фигура мелкая и вряд ли автору стоило заострять на нем внимание. Дементьева, вероятно, занесло — из его оценочных суждений невольно получилось, что повесть и вообще-то не следовало печатать.
И тут вдруг раздался глуховатый и негромкий голос Твардовского:
— Что значит — мелкая фигура?.. А как же тогда быть с капитаном Тушиным?
Лицо Александра Трифоновича похмурело, он даже потемнел от недовольства.
— Я полагаю, всем ясно, что автор повести ни в малейшей степени не соизмерим с Толстым. — Твардовский смотрел мимо меня, похоже было, что он недоволен и мной, поскольку из-за меня пришлось побеспокоить великую тень Льва Николаевича. И продолжил: — Но деления литературных героев на мелких и крупных я не понимаю. Вся русская классическая литература протестует против подобного деления.
Хорошо помню, что Александр Трифонович не произнес никаких похвальных слов о моей повести. Его разгневал сам принцип подхода к литературному произведению, из которого исходил Дементьев.
Возражений или дополнений не последовало. Мне показалось, все присутствующие почему-то растерялись или смутились, а Дементьев обиженно смешался от резкости тона главного редактора.
После заседания сотрудники редакции сказали мне, что на их памяти это случилось впервые: мнения Твардовского и Дементьева так сильно разошлись.
Для меня же это расхождение не было столь удивительным — я знал Александра Григорьевича Дементьева по Ленинграду с конца сороковых годов. В тяжкие для литературы времена он был главой нашей писательской организации, и его тогдашняя репутация ничем не отличалась от жестко охранительской: всё, что положено было делать в ту пору, Дементьев делал азартно, с присущим ему о́кающим обаянием. Я знал, что, придя в «Новый мир», Александр Григорьевич круто и искренне изменился, в журнале его полюбили. Но мне-то было никак не вымарать из своей памяти того, каким он был в Ленинграде…
В тот же день меня попросили зайти к Твардовскому. И снова я ощутил некую отдаленность Александра Трифоновича, намеренную дистанцию, на которой он держался, хотя мне казалось, что после того, как он решительно оборонил меня от нападок Дементьева, что-то должно было стронуться в поведении главного редактора. Во всяком случае, мне очень хотелось, чтобы нечто стронулось. Однако все осталось по-прежнему, а может даже, прозрачная стена между Твардовским и мной стала потолще. Настолько она была плотна, что я не посмел поблагодарить его за подмогу в борьбе с его заместителем.
Без единого постороннего слова, минуя какое бы то ни было вступление в разговор, он обратился ко мне, лишь только я сел перед его столом:
— Я прошу вас изменить кличку собаки в вашей повести.
И, очевидно понимая, что мне совершенно неясна причина этой загадочной просьбы, он ускоренно добавил:
— В прошлом номере нашего журнала был напечатан рассказ Мухтара Ауэзова. Я не хотел бы, чтобы у Ауэзова возник хоть мелкий повод обидеться… И затем вот еще что: прошу вас вычеркнуть посвящение.
— Но почему? — изумился я. — Повесть посвящена Златковской — это фамилия моей жены.
— И все-таки прошу вас, вычеркните.
Обе его просьбы не показались мне убедительными, но я их исполнил. Мухтар был переименован мной в Мурата — лишь для журнала переименован. А поскольку Мурат тоже человеческое имя, возможно, и эта кличка кого-либо могла обидеть, но я не винюсь, — в русских селах запросто присваивают домашней скотине людские имена, и это ничуть не оскорбляет их двуногих тезок.
Мои дружелюбные связи с «Новым миром» еще более окрепли. Теперь уж, бывая в Москве все чаще, я нередко посиживал в крохотном редакционном буфете, попивая кофе и уплетая неизменные сосиски; среди сотрудников журнала у меня завелось много друзей. Мы весело, а порой и грустно обсуждали литературные и житейские события.
Отношение Твардовского ко мне изменилось; встречая меня в редакции, он всегда спрашивал:
— Привезли нам что-нибудь новенькое?
И я был счастлив: форма пустой вежливости совершенно не свойственна Александру Трифоновичу, значит, он хоть немножко заинтересован в моем сотрудничестве с «Новым миром». А ведь я и тогда, а тем более теперь вовсе не избалован вниманием журналов. Порой даже, отправляя свою рукопись в редакцию, я испытывал нечто похожее на чувство вины: вот, ради бога, извините, снова посылаю вам не то, что вы желали бы увидеть.
Та пора была самой удачливой в моей литературной жизни. Отправлял я в «Новый мир» не так уж много рассказов, — пишу унизительно медленно, — но все они публиковались там. А бывает ли более сладкое чувство у автора, чем то, что у него есть «свой» журнал. Свой не по принципу застольного приятельства либо услужливо-групповых интересов, а по устремлениям, по неподкупным убеждениям, по эстетическому вкусу. А если еще этот журнал живет в эпицентре читательского внимания, то авторское удовлетворение особенно остро…
Следующая моя встреча с Твардовским была снова вызвана непростыми для меня и для редакции обстоятельствами.
«Новый мир» принял мой рассказ «Свободная тема», однако теперь уже у самого Александра Трифоновича возникли некоторые сомнения и замечания, с которыми он пожелал ознакомить меня, прежде чем подписать рукопись в набор.
Для ясности придется изложить коротко сюжет рассказа. Велся он от лица двух главных персонажей, двух молодых учителей-словесников. Оба они совершенно по-разному, от себя, рассказывали одни и те же события, происшедшие в их поселковой школе. Конфликт в этой школе между начинающим учителем Охотниковым и директором назревал давно и наконец выплеснулся в скандал районного масштаба. Охотников отказался давать старшеклассникам сочинения на рекомендованные свободные темы. Две из них — «Мои достоинства и мои недостатки», «Положительные и отрицательные черты моих родителей» — возмутили Охотникова своей оскорбительной безнравственностью.
Когда я приехал по вызову «Нового мира» в Москву, мне показали листок бумаги, приколотый Александром Трифоновичем к рукописи моего рассказа:
«Это то, что болит. Об этом мне пишут многие школьные учителя… Неужели существуют в действительности подобные свободные темы? Тогда надо караул кричать, а не художество разводить!»
Предполагая, что именно эти сомнения могут возникнуть в редакции или в горлите, я перед отъездом из Ленинграда предусмотрительно захватил с собой брошюру, изданную Академией педагогических наук, где, среди прочих, были рекомендованы и эти свободные темы.
Когда Александр Трифонович заговорил со мной о них, я протянул ему брошюру. Поморщившись, как от ушиба, он сказал:
— Может, в этом месте вашего рассказа следует сделать сноску, указав, откуда это взято?
Тон его был наполовину вопросительный.
Я сказал, что если надо, то можно сделать сноску. Однако, уловив в тоне главного редактора сомнение, я в дальнейшем не выполнил этого — рассказ был опубликован без всякой сноски. Правда, через два года: за эти два года «Новый мир» трижды ставил «Свободную тему» в номер и трижды вещь снималась инстанциями различного уровня. Впоследствии, как это нередко случалось, рассказ входил во все мои сборники и не вызывал никаких нареканий критики…
— Тут у вас, — продолжал Твардовский, — молодой учитель Охотников пренебрежительно рассуждает о романе Чернышевского «Что делать?». Замените, пожалуйста, это каким-нибудь другим произведением.
— Александр Трифонович! — От волнения я, кажется, даже прижал руки к груди. — Коля Охотников ведь говорит о том, что этот роман Чернышевского трудно сейчас преподносить старшеклассникам: он для них в наши дни наивен и скучен… По правде, Александр Трифонович, я недавно перечитал его, мне и самому он показался скучным…
Твардовский выслушал это, не глядя на меня, наклонив голову к столу. Возникла некоторая пауза, немалая, затем он поднял усталое тяжелое лицо и произнес:
— У меня как у редактора «Нового мира» не поднимается рука на редактора «Современника»… Я прошу вас заменить Чернышевского. Подумайте, пожалуйста.
Я обещал подумать.
Я действительно упорно и настойчиво думал, подыскивая подходящую по моей школьной ситуации замену, однако все мои честные усилия ни к чему не привели. И рассказ был подписан Твардовским в набор в том же варианте. Лишь одно замечание Александра Трифоновича мне удалось учесть.
Он сказал:
— И вот еще о чем подумайте: ваш рассказ ведется от лица двух героев. Оба они учителя. Но ведь учат-то они школьников. Хорошо бы показать, как к ним относятся эти школьники, на чьей они стороне. Быть может, следует ввести в рассказ третий голос?
Это предложение Александра Трифоновича тотчас представилось мне заманчивым — я сделал то, о чем он просил.
Встречаясь в разные времена — то есть, по сути, в различные эпохи, ибо даже недавние годы не раз оборачивались для нас противоречивыми эпохами, — встречаясь за долгие годы литературной жизни с редакционными работниками журналов и газет, мне выпадало наблюдать самые замысловатые отношения этих сотрудников к своим шефам — главным редакторам. От трепетной любви до трепетного страха. От равнодушия покорности до защечного презрения. В этой многоцветной палитре особо выделялись две краски. Либо — с нашим Главным работать можно, он мужик не вредный: без особой надобности не схарчит. Либо — ну, пришлют другого, следующий всегда хуже.
А вот тех чувств, которые испытывали новомирцы к Александру Трифоновичу, не встречал я ни в одной редакции.
Беззаветное доверие единомышленников. Глубоко осознанное доверие — не слепая вера, как это у нас бывает среди атеистов даже чаще, чем у религиозных людей. Почтительность, которая лишь кретину могла бы показаться почтительностью подчиненных к своему высшему начальству. А если кто-то из сотрудников испытывал порой изрядную робость, то вовсе не от страха выговора или увольнения, а потому, что опасался, как бы его художественное и идейное чутье не отклонилось от придирчиво точного вкуса главного редактора — вкуса, в который все сотрудники верили и разделяли не потому, что он органичен для Главного, а оттого, что обладает им — Твардовский.
Однако — любопытно. При моих встречах с Александром Трифоновичем обычно присутствовал кто-либо из работников отдела прозы, как правило, молчавший при нашем разговоре. Я уже упоминал, мне не всегда удавалось, да иногда и не хотелось следовать решительно всякому пожеланию главного редактора. Я исправлял или дополнял лишь то, что не нарушало или, как мне казалось, обогащало мою рукопись. И при этом никто из новомирцев, слышавших пожелания Твардовского, никогда не понуждал меня по-солдатски следовать им.
В «Новом мире» пожелания рассматривались как пожелания, а не категорические указания. Во всяком случае, со мной было именно так.
Последняя моя встреча с Александром Трифоновичем была непоправимо трагической — на его похоронах.
Задолго до его смерти писатели знали, что он неизлечимо болен. Где бы мы ни находились в это тревожное время, мы перезванивались с теми, кто навещал Твардовского или общался с его близкими, все еще надеясь, что может произойти чудо — он встанет на ноги. Вести были неутешительные, но ведь чудо и не рассчитано на логику.
В день его похорон попасть в Центральный Дом литераторов было очень трудно — на улице Герцена клубилась несметная толпа, впускали только по писательским членским билетам, здание заполнилось снизу доверху. И несмотря на это многолюдство, тихо было, как в гробу.
Горе, растерянность, ощущение личной вины перед ним, невозможность оправдаться и перед самим собой, ничтожность и унизительность мотивов, которыми ты руководился, оставаясь в стороне от его драматической судьбы, — все это, сгустившись в осколок, застряло в груди; в дурную погоду он дает о себе знать и нынче.
Контуженный его смертью, я стоял на балконе ЦДЛ в толпе писателей — нас соединяла сейчас общность сиротства. Я не мог себе представить, что кто-нибудь из них думает иначе, чем я.
Далеко внизу, на сцене у гроба, шла гражданская панихида, голоса выступающих множились во всем доме по радио.
На панихидах принято произносить гиперболические слова. Малярийная страсть к чинам выстраивает и покойников по рангам, они приобретают у нас посмертно специальные звания: местного, республиканского и всесоюзного значения. С постыдной суетностью мы следим за тем, кто подписал некролог. Низшая ступень — «Группа товарищей», словно дальше уже идет безымянная братская могила.
Память о человеке и памятник над его прахом могут не совпасть. Прах остается лишь после ничтожества, и вот тогда действительно важно, на каком кладбище и на каком камне высечено его имя, мгновенно забытое потомками.
В тот горестный день об Александре Трифоновиче Твардовском произносились слова, которых он был достоин в полной мере. И ранжир подписей некролога соответствовал высшему разряду. Но все это было по щиколотку памяти о нем. Его хоронили, как Василия Теркина, да еще без учета, что он окажется на том свете.
Никто не помянул главного редактора «Нового мира».
Никто не сказал, какое благородство и мужество явил миру Твардовский на этом посту и какую титаническую роль он сыграл в трудной судьбе нашей литературы.
Совесть Твардовского предстанет на Страшном суде грядущего измученной, но чистой.
СВИДЕТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННИКА
Даже если б мне и не посчастливилось и судьба не свела меня с Михаилом Михайловичем Зощенко — я был его современником.
А ведь мне и сейчас кажется, что у читателя, впервые узнающего произведения ж и в о г о нынче автора, есть некое преимущество перед теми людьми, которые знакомятся с творчеством этого писателя после его смерти.
Вероятно, это спорно. Вероятно, легко возразить, что неподкупное, беспощадное время отбирает лучшие писательские имена и преподносит их нам уже безошибочно. Со вступительной статьей, комментариями и справочным аппаратом.
Всё так.
Однако если я сам, среди моря книг, нашел, открыл, отобрал для себя вещь, восхитившую меня, и если я знаю, что автор этой вещи жив, то этим как бы достигается «эффект присутствия». Даже одно ощущение, что я — современник моего любимого писателя, превращает меня словно бы в его собеседника. А это позволяет мне таить надежду, что он будет отвечать на мои немые вопросы — он поможет мне разобраться в не всегда ясном смысле моей жизни.
Михаила Михайловича Зощенко я услышал впервые в 1924 году. Именно не прочитал, а услышал.
В харьковской библиотеке имени Короленко, в Петровском переулке, был объявлен вечер юмористических рассказов М. Зощенко. Так гласила афиша.
Короленковская библиотека в Харькове была отличной, и зал ее представлялся мне тогда огромным. Думаю, что он и в действительности был немал.
Затолканный куда-то в последний ряд, в переполненном сверх предела зале, я был поражен Зощенко тотчас, еще до того, как он сел за стол и начал читать. Худенький, прямой, небольшого роста, — лица его я разглядеть издалека не мог, — он был совершенно непохож на «сатириков-юмористов», которых мы уже в те времена насмотрелись и наслушались до отвала. Непохож он был какой-то своей строгой серьезностью, — она мне даже показалась грустной отрешенностью от нас, от зала. И это не ощущалось как намеренная манера поведения, это не было «приемом», уже и тогда хорошо известным по великолепной игре, скажем, прославленного комика Бестера Китона.
Строгое и грустное благородство Зощенко было настолько внутренне присуще ему, что, даже будучи пятнадцатилетним юношей, я, пусть еще и невнятно, пусть косноязычно, это ощутил. Да и вряд ли только я: весь шумный зал как-то утих, присмирел.
Ровным, четким, порой даже резким, хотя и негромким голосом, совершенно не оттеняя, не «подавая» реплик персонажей, Зощенко читал свои рассказы. Он терпеливо пережидал громовой хохот публики и продолжал все так же, не меняя интонации, не улыбаясь.
Впоследствии я много раз слушал, как прекрасные артисты исполняли со сцены знаменитую «Аристократку» или «Баню». И мне всегда было чуточку неловко, меня всегда при этом легонечко шокировало, что артисты изображают персонажей, передают их натуральную интонацию. Это было слишком «жирно» для Зощенко — даже при полнейшей деликатности артиста, — настолько жирно, что утрачивалась та волшебная естественность, та разящая правда жизни, которая была заключена и в рассказах писателя, и в том, как он сам их читал. Утрачивалось при этом и расстояние, критическое пространство между Зощенко и его героями.
Отчетливо помню еще: несмотря на то что хохотал я безудержно, все-таки этот новый писатель тотчас занял в моей душе совсем не тот угол, в котором прописаны были даже отличные юмористы. И сатириком мне тоже не захотелось его числить. Он был сам по себе, особенный, ни на кого не похожий. Просто замечательный писатель.
И с того памятного вечера полвека назад, когда я впервые познакомился с его рассказами, а затем уже запойно выискивал все новые его произведения, — с того самого вечера возникла у меня стойкая привычка, характерная, думаю, для миллионов тогдашних читателей, никогда и не видавших этого писателя: стоило мне оказаться свидетелем неких ярких проявлений человеческой пошлости, торжествующего хамства, невежества, мещанства, как тотчас пронзала мысль: это как у Зощенко, это для Зощенко!
Я не знаю и не знал другого писателя, герои которого так просторно, так естественно сортировались бы и узнавались в повседневной жизни самыми широкими читательскими кругами.
«Зощенковский тип» — говорили даже те читатели, которые сами были зощенковскими типами. Они-то, правда, говорили это до поры до времени, — до той поры, до того времени, когда им растолковали, что подобных типов и в помине нет, и даже вроде не было вовсе.
Общеизвестно, что неохотнее и труднее всего узнаю́т себя в литературных героях их прототипы: им всегда кажется, что это изображены не они, а их сослуживцы или соседи по квартире.
Если уж говорить о типизированных зощенковских персонажах, то и в наши дни они еще не стали историческими. Изменились лексика, быт, внешние стороны их существования — многие из них получили институтские дипломы и стали полуобразованными людьми, приобрели автомашины, дачи, должности, однако их сущность осталась все той же: пошлой, хамской, невежественной, мещанской, или, как теперь принято говорить, — бездуховной.
К сожалению, современный читатель не всегда улавливает эту связь времен: нынешний читатель с готовностью отмечает сходство некоторых личностей с героями произведений прошлого века, опуская то ценнейшее звено, которое было вковано в цепь времени Зощенко. Герои, открытые и изображенные им с молекулярной психологической точностью, были не менее нарицательными, нежели герои классической русской литературы, и притом они жили рядом, ходили по улицам, ездили в трамваях, работали бок о бок с нами.
В сущности, все это и сегодня неподалеку, — ну какой же это срок для подлинной литературы: каких-нибудь сорок — пятьдесят лет! — однако, повторяю с горечью, множество нынешних читателей почему-то не пытается уловить очевидность: зощенковский персонаж был предсказан всерьез и надолго.
Настоящее мое знакомство с М. Зощенко началось в 1935 году.
Так случилось, что я встречался с писателем в доме наших общих друзей, к литературе и искусству отношения не имеющих. Это были славные люди — муж, бывший летчик, служил на аэродроме, жена воспитывала маленького сына. В их доме бывало немало приятелей, приходили «просто так», пили чай с нехитрыми бутербродами, разговаривали легко, весело, о чем попало. Вино и водка в те времена еще не были изобретены. Разговоры не носили исповедального характера, возможно потому, что жажда исповеди еще не стала тотальной: невдомек было казнить себя, друзей, человечество.
Я-то, вообще, в этом доме в присутствии Зощенко помалкивал. Не могу сказать, что от робости. Этого чувства Зощенко никому не внушал. Он был настолько хорошо, я бы даже сказал — «старомодно», воспитан, что совершенно не излучал превосходства. При некоторой даже чопорности, при том, что дистанция между ним и собеседником ощущалась, это была дистанция все той же отличной воспитанности, деликатности. С хозяевами дома Зощенко был на «ты», но и это было какое-то вежливое, лишенное панибратства «ты». Оно выражало, пожалуй, лишь душевное дружелюбие, не более того.
Разговоров о литературе в этом доме не велось, а если речь изредка и заходила о ней, то Михаил Михайлович корректно уклонялся.
Удивительной была улыбка Зощенко: он улыбался сдержанно, одним краем рта, и то, что у другого человека могло быть названо иронической или даже кривой улыбкой, у Михаила Михайловича выглядело на редкость естественно. С годами эта улыбка стала еще и печальной: вроде бы и ничего в ней не переменилось, но, глядя, как Зощенко улыбается, улыбается несмотря ни на что, мне хотелось провалиться от боли и стыда сквозь землю.
В доме наших друзей я при нем помалкивал: мне нечего было ни сказать, ни рассказать. Работал я тогда преподавателем математики в военном училище, и хотя к тому времени у меня вышла первая книжка, это обстоятельство стесняло меня еще более, — полагать при Зощенко, что я «тоже пишу», было неловко.
Сейчас я отлично понимаю, что ни гости этого дома, ни хозяева, конечно же, не представляли себе того неповторимого значения, того места, которое занимал Зощенко в русской литературе. Все они любили Михаила Михайловича, уважительно относились к нему, смеялись, читая сборники его рассказов, вероятно даже гордились дружбой с ним, но именно близость к нему — как это зачастую бывает при близости к очень крупному таланту — не позволяла им разглядеть его подлинную величину.
А Зощенко вел себя так заурядно, так тихо и обыкновенно, что любой отменный остряк или рассказчик в этой среде успешней выглядел юмористом Зощенко, нежели сам Михаил Михайлович.
Он чуть церемонно, учтиво ухаживал за женщинами, у него было даже какое-то особое, внимательно-ласковое выражение лица, когда он обращался к ним или слушал их. Если не опасаться рискованности сравнений, то подобное выражение лица я иногда видел у хороших врачей-невропатологов, разговаривающих со своими пациентами.
Умение вслушиваться в то, что́ говорят и ка́к говорят, не перебивая, не отвоевывая того сладкого момента, когда можно вступить и начать вещать или развлекать, — до чего обильно расплодились именно подобные собеседники! — умение вслушиваться даже, казалось бы, в пустое щебетанье, в глупость, и притом сохранять искреннюю заинтересованность — все это было присуще Зощенко органически.
Поначалу мне представлялось это странным: я привык читать в воспоминаниях о хороших писателях, что они тяготились так называемыми мелкотемными собеседниками. Да и сам я встречал немало значительных и мудрых деятелей искусства, совершенно неконтактных, если разговор при них оборачивался житейской обыденщиной. Они отключались порой даже оскорбительно для собеседника, и лица их заволакивались при этом пеленой презрительно-жреческой, браминской. Проще говоря, им становилось нестерпимо скучно, и они не давали себе труда скрывать это, хотя бы из вежливости.
Михаил Михайлович нисколько не скучал, когда при нем набалтывали житейские пустяки. Если бы ему при этом становилось скучно, то он не был бы писателем Зощенко.
Не буду лгать — я, конечно же, не тотчас понял это органическое свойство Зощенко. Однако когда, года через три после знакомства с ним, я прочитал два новых прекрасных его рассказа, сюжетом которых и частично лексикой послужила пустейшая трескотня двух женщин, наших общих знакомых, — вот тогда-то мне и стало ясно, почему Михаил Михайлович три года назад так деликатно вслушивался в то, что они наперебой рассказывали за чайным столом.
Все это было лишь одной из множества ипостасей Зощенко. Сложность его натуры была поразительной, в подобных случаях принято говорить — противоречивой. Однако в том-то и штука, что натура его, характер его, при всей даже загадочности, поражали как раз не противоречивостью, а цельностью: в самых драматических условиях своей биографии Зощенко поступал именно так, как должен был поступить, в полном согласии со своей натурой и совестью.
Совершенно внезапно и унизительно для меня я увидел вдруг Михаила Михайловича совсем не таким, каким знал его до этого.
В 1939 году в журнале «Крокодил», в разделе маленьких фельетонов, была напечатана моя небольшая заметка — даже не фельетон, а заметка, — в которой я обругал повесть одной молодой ленинградской писательницы. Собственно, обрушился я не на повесть, а на какие-то два-три абзаца, уличая автора в дурном знании русского языка.
И вот, придя вскоре в Союз писателей, я встретил Зощенко. Он разговаривал с кем-то, я вежливо поздоровался с ним издалека и увидел вдруг, как его лицо, и без того смуглое, потемнело от гнева. Шагнув ко мне — шагнул он тоже иначе, чем обычно: решительно и зло, — Зощенко сказал:
— Какое вы имели право напечатать эту свою заметку в «Крокодиле»? Как вам не стыдно!
Растерявшись, я начал лепетать, что ведь приведенные мной абзацы действительно грешат… Но Зощенко перебил меня:
— Это первая вещь молодой писательницы. А вы обидели ее. Публично обидели!
Быть может, если б все это сказал мне не Зощенко, я нашелся бы, начал спорить, но тут сила его даже не писательского, а человеческого авторитета была настолько покоряюща, что я мгновенно представил себе, как же отчаянно оскорблена моей разухабистой заметкой молодая женщина. (Замечу, кстати, что она стала впоследствии автором многих отличных книг.)
Не знаю, как назвать эту черту характера Зощенко. Вряд ли только добротой. Скорее — страстной его убежденностью, что достоинство человека не следует унижать ни при каких обстоятельствах.
Между прочим, эта его убежденность приносила порой немало хлопот Литфонду — организации, призванной заниматься бытовыми делами литераторов. Зощенко был одно время председателем Совета Литфонда в Ленинграде. И вот случалось, что на Совете подымался вопрос о каком-нибудь литераторе, упорно не возвращавшем денежную ссуду. В редких случаях Литфонд вынужден был направлять этому литератору суровое предупреждение, что, в случае и дальнейшего невозврата денег, они будут взысканы судебным порядком. Зощенко решительно восставал против этой меры:
— Если человек не возвращает деньги, значит, у него их нет. И грозить ему судом оскорбительно!..
Будучи сам необычайно легко ранимым, Михаил Михайлович наделял этим свойством и других, наделял активно, то есть и в произведениях своих и в жизни всем талантом, всем сердцем обороняя людей от посягательства на их честь.
Время от времени и по сей день на собраниях в Союзе писателей с утомительным однообразием принято спорить о мелкотемье. Это похоже на морской прибой: изредка царит полный штиль, иногда поверхность рябит и накатывают мелкие волны, а порой возникает шторм — идут сплошь девятые валы.
На одном из подобных собраний, в середине пятидесятых годов, снова — в который уже раз на моей памяти! — вспух этот занудливый спор. По какому поводу он начал вспухать, в точности не помню, да это и не имеет значения.
Сперва один оратор в качестве яркого примера мелкотемья привел рассказы Зощенко, затем второй, и оба они хоть и вежливо, однако настойчиво упрекали писателя за то, что в его рассказах нет таких-то и таких-то крупнейших тем.
Я сидел рядом с Михаилом Михайловичем и видел его нервные руки — длинные, худые коричневатые пальцы подрагивали на его коленях. Он молчал, лицо его было бесстрастно.
Однако когда и третий оратор с тем же тупым однообразием повторил, что писатель Зощенко в своих рассказах почему-то не подымает больших тем нашего времени, Михаил Михайлович резко встал, прошел к трибуне и, не взойдя на нее, а остановившись рядом, сказал:
— Я не подряжался на ялике перевозить рояль.
Это было неверно, он ошибался: на его ялике умещались и перевозились вещи покрупнее, погабаритнее, потяжелее рояля — размещалась и перевозилась эпоха.
В крайне редких и скупых выступлениях Зощенко была всегда такая обезоруживающая чистота и даже наивность, в них настолько отсутствовали «знакомые сочетания звуков» — так Михаил Михайлович сам определял стандартные, пошлые речи демагогов, — что обычно после его выступлений наступала какая-то виноватая тишина. Найтись тотчас, начать возражать ему никто как-то не решался. На другой день, на третий, уже не видя перед собой хрупкого, щемяще гордого и отважного, словно он первый поднялся в рост на приступ, не видя его перед собой, кое-кто быстро опоминался и в избытке расплачивался с ним всеми необходимыми сочетаниями слов.
Мне казалось тогда, что само физическое присутствие Михаила Михайловича как бы создавало вокруг него бактерицидную среду, — этим свойством обладают благородные металлы. Серебро, золото, платина.
Юрий Герман получал орден в Кремле в тот же день, что и Михаил Михайлович Зощенко.
Вернувшись из Москвы, Герман рассказывал мне, как происходила процедура награждения. Она была проста и не длинна: стоя у стола, М. И. Калинин вручал награжденному коробку с орденом, говорил: «Поздравляю вас, товарищ» — и пожимал ему руку.
Все так и шло, покуда к столу не приблизился Зощенко. Протянув и ему коробку с орденом, Калинин двумя своими руками задержал руку Зощенко, поближе всмотрелся в его лицо и с ласковым каким-то удивлением сказал:
— Вот вы, оказывается, какой, Михаил Михайлович!
Цельность его натуры, несгибаемой при всей ее деликатности, была отчетливо заметна и в первые месяцы блокады Ленинграда.
Мы виделись в то нелегкое время часто: Зощенко приходил в Радиокомитет, а я там бывал ежедневно. Литературно-драматический отдел, с первых дней войны, выпускал семь раз в неделю свою «Радиохронику» — большую передачу, состоявшую из выступлений писателей, деятелей искусств, науки, репортажей с фронта, великолепных стихов Ольги Берггольц и антифашистских фельетонов.
Ежедневное сочинение этих фельетонов доводило меня до исступления. Я писал их тут же, в Радиокомитете, читал своему редактору Г. П. Макогоненко, он выслушивал их скептически-хмуро и говорил:
— Не смешно. Сейчас я запру тебя в этой комнате, ты перепиши все заново и, когда получится смешно, постучи в дверь — я открою.
Таким образом, в общую трагичность ленинградской блокады вплеталась и моя крохотная драма — у меня не получалось смешно.
А Зощенко писал для «Радиохроники» мало — вместе с Евгением Шварцем он срочно сочинял в те дни сатирическую комедию «Под липами Берлина», она писалась для театра Н. П. Акимова.
Изумление перед тем, на что оказался способным фашизм, боль и гнев затрудняли комедийную работу авторов — пьеса тоже получалась не слишком смешной.
И запомнился мне Зощенко того горького времени не тем, что он поденно писал для радио: сценок, сочиненных им, было не так уж много, и вряд ли, читанные нынче, они поразили бы современного читателя.
Запомнился мне Михаил Михайлович опять-таки личностью своей, всем своим неизменным обликом. Ничто в нем не стронулось с места. Даже внешне. В те тяжкие дни многие окружавшие меня люди, да и сам я, хоть как-то переменились. Зловещая печать блокады — голода, холода, пещерной тьмы — не могла остаться бесследной. Отражалось это в людях по-разному: изменялись одежда, обувь, походка, голос, выражение лица, глаз, очертания фигуры, — я уж не говорю о поступках, о поведении. Изменения эти происходили в людях и в лучшую, и в дрянную сторону — происходила кристаллизация человеческих характеров. А некоторые и попросту рассыпались в порошок.
Зощенко оставался таким, каким был всегда.
Он не утеплялся кофтами, галошами, толстыми шарфами. Он оставался все таким же аккуратным, я бы сказал — элегантным, если бы это дурацкое слово не так вопиюще не подходило ни к блокаде, ни к самому Михаилу Михайловичу Он не похудел и не почернел лицом: худеть ему было не из чего — он всегда был худ, а природной смуглости лица доставало ему и без военных лишений. Походка его не стала торопливой — он и до войны никогда никуда не опаздывал. Опаздывают ведь чаще всего люди, едущие в автомашинах, а Зощенко был пешеходом.
И голос его, тональность, что ли, остались нетронутыми: не появилось в них ни тревоги, ни какой-либо особой строгой собранности. Все мы, очевидно невольно, полагали, что надо покончить с кое-какими нашими глубоко штатскими, мирными замашками. Зощенко не потребовалось корректировать в себе ничего. Быть может, сказалось здесь, что еще в молодости, в первую мировую войну, он был отличным, отважным офицером. Во всяком случае, определение храбрости по Льву Толстому складно ложилось на характер Зощенко. Храбрый человек — это тот, кто делает то, что следует, писал Толстой.
Мужество Зощенко было именно таким.
Из огромного социального опыта нам уже вдосталь известно, что в определенных жизненных обстоятельствах мирного времени с человека порой спрашивается мужество под стать тому, что проявляется на кровавых полях сражений.
Было в Михаиле Михайловиче что-то от Гоголя — в характере, в том, что он писал, в судьбе. Страстная жажда нравственного проповедничества; душевное смятение от постоянных, раздирающих сердце поисков смысла жизни, идеалов; чувство непереносимой писательской ответственности перед глазами — «очами», по Гоголю, — народа. А ведь у великих писателей, наделенных сатирическим талантом, это проповедничество, и эти поиски, и эта не прощающая никакой лжи беспощадная ответственность — особенно, адово терзающи.
Мы знаем, в каких муках умер Гоголь, сжегший второй том «Мертвых душ».
За несколько дней до своей смерти Зощенко сказал:
— Умирать надо вовремя. Я опоздал.
В сорок четвертом году в Ленинграде еще действовали ночные пропуска — без них после полуночи появляться на улице запрещалось.
А приключилось однажды так, что человек десять литераторов задержались в писательском клубе допоздна; когда хватились, оказалось уже далеко за полночь. Ночных пропусков ни у кого из нас не было, в том числе и у Зощенко. Однако порешили мы коллективно так: авось проскочим, минуя военные патрули.
С тем и вышли с улицы Воинова на Литейный.
Идти пришлось недолго, метров триста — задержали нас тут же, на Литейном.
Улица была погружена в военную темень, электрический фонарик патрульного офицера нащупал нас, сбил в кучу, два солдата встали рядом. Перспектива была ясна — сидеть нам до утра в комендатуре.
Офицер потребовал ночные пропуска. Михаил Михайлович протянул ему свой паспорт. Прежде чем спрятать его в планшет, офицер осветил фонариком первую страничку.
И внезапно лицо его утратило всю свою суровость и служебную подозрительность.
— Товарищ Зощенко! — сказал он с почтительным восхищением. По-видимому, ему хотелось сказать что-то еще, но он лишь добавил совершенно по-домашнему: — Здравствуйте, товарищ Зощенко… Эти граждане с вами?
— Со мной, — кивнул Михаил Михайлович.
И мы были пропущены всей гурьбой.
Признательность народного читателя к Зощенко была необыкновенно велика. И она особенно ценна тем, что была совершенно произвольной, не побуждаемой и не возбуждаемой званиями автора, парадными статьями и юбилейными книгами о нем. Слава Михаила Михайловича зародилась и выросла в коммунальных квартирах, в трамваях, в жестких бесплацкартных вагонах — без телевидения, без кино, без современных мощных средств коммуникаций.
Впрочем, разве есть на свете что-нибудь мощнее коммуникаций, создаваемых неорганизованными человеческими душами?..
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КРОН
Странно, — оказывается, чем ближе был человек, ушедший от тебя навсегда — из жизни ушедший, — тем сложнее рассказать, каким же он был: богатство общения с ним не знает ни начала, ни конца.
Ближе Александра Александровича Крона за всю мою жизнь у меня не было никого.
И я всегда знал, что его существование — просто существование, даже когда его нет рядом, обязывает меня поступать иначе, лучше, чем мне иногда хотелось.
Если возможно выделить в характере, в сложной сути крупного человека некую главную черту, доминанту, то у Крона это была честность, душевная и духовная чистота. И — прямота, — нередко во вред себе.
Это свойство его натуры излучалось естественно в самых сложных исторических обстоятельствах. Он умел оставаться самим собой, когда казалось, что это почти немыслимо. Он был равен не обстоятельствам, а самому себе.
В последние годы в нашей литературной критике, да и вообще в обиходе замелькало понятие личности писателя. Им пока еще оперируют робко, на ощупь, не всегда понимая, как пользоваться этим понятием, — причина замешательства, пожалуй, ясна: литература наводнена произведениями, в которых личность авторов либо отсутствует напрочь, либо так похожа на марширующую рядом, что их не отличить, как солдат в парадном строю.
В самые тяжкие для литературы и искусства времена — а их у нас хватало — Александр Крон оберегал свою индивидуальность. Я имею в виду не его творческую манеру и даже не то, что принято называть гражданской позицией, — я говорю о его, если можно так выразиться, повседневной личности, обыденной совести.
Люди, знавшие его и не слишком близко, безошибочно и быстро различали в нем полное отсутствие какой бы то ни было двоякости, то есть того недуга, который многие из нас переносят легко, как простуду, на ногах, без повышения температуры; а кое-кто тяжко мучается и глушит эту двоякость транквилизаторами или коньяком.
Крон писал то, что думал. То, во что верил, в чем был убежден.
Он был брезглив к цинизму. Нравственно чистоплотен.
Существует такая распространенная и, кажется, общепризнанная точка зрения на дружбу: друг — это тот человек, который оказывается рядом с тобой в трудную для тебя минуту. Мне это представляется уж слишком элементарным, нищенским, хотя бы потому, что в трудную минуту рядом зачастую оказываются и далекие люди, просто в силу своей доброты и совестливости. Разумеется, к ним испытываешь огромную благодарность, бесконечное уважение, готовность отозваться и на любую их беду. Однако близость лишь от одного этого может и не возникнуть.
Сколько я знавал случаев, когда люди бросались на помощь друг другу, даже рискуя собственным благополучием, но, исполнив свой благородный долг, расходились в разные стороны, не ощущая взаимного интереса к дальнейшему общению.
Александр Александрович Крон приучил меня к иному понятию дружбы.
Подлинный друг — тот, кто насущно необходим тебе всегда, постоянно, в самое что ни на есть обычное время. Необязательно — в грозовое. Даже порой больше — в безоблачное. Необходим для обмена мыслями, убеждениями, для сопереживания, для спора. И, как это ни парадоксально, — даже для ссоры.
Я очень обрадовался, прочтя в одном из писем Альберта Эйнштейна:
«Ссориться можно только с близкими друзьями — все остальные слишком далеки для этого».
Приучил меня Крон к беспощадной дружбе. К поразительному сочетанию мгновенной душевной отзывчивости, щедрости сердечной — и прямой жесткости в лоб.
Никто в моей жизни не помогал мне столько, сколько Крон, и ни от кого в моей жизни я не слышал столько горькой правды о себе.
Я знаю: подобная дружба обременительна для многих. Мы привыкли прощать друг друга, привыкли вымарывать из своей натруженной памяти постыдное прошлое нынешних застольных приятелей; мы научились, чтобы не огорчаться, не читать работ друг друга; не вслушиваться в собственные официальные выступления.
Мы стали судить о друзьях по их домашним высказываниям. Единомыслие не может быть построено лишь на доверительном шепоте. Много лет назад в шуточном театральном обозрении ленинградского клуба писателей был провозглашен лозунг:
«Подымем уровень литературных дискуссий до уровня кулуарных разговоров!»
В письме ко мне Крон как-то написал об одном драматурге, старом нашем общем знакомом, печально известном своей яростной борьбой с пресловутым космополитизмом:
«Я с ним уже давно не задираюсь, тем более что на переделкинском асфальте он высказывается вполне корректно и даже прогрессивно».
Вот этот переделкинский асфальт Крон упоминал и в письмах и в разговорах не раз, обозначая им тот прогулочный маршрут литераторов в писательском поселке, где они откровенно исповедуются тиражом в один устный экземпляр.
В нынешней литературной критике, в рецензиях привычным стал комплимент:
«Это произведение замечательно своей исповедальностью, автор смело касается «болевых точек»…»
Об авторе одной из таких книг Крон написал мне:
«Он человек одаренный, но от этого еще отчетливее видна жизненная позиция. Особенно характерна глава, где трое друзей исповедуются и говорят о своих «болевых точках». Главная болевая точка автора — собирателя старины: упустил старинную купель. Вот ведь беда какая!.. А его приятель-журналист рассказывает про свою жестокую боль — не разыскал вовремя старушку, написавшую песенку «В лесу родилась елочка». Старушка благополучно дожила до девяноста лет. А то, что десятки талантливых писателей не дожили по разным причинам и до сорока лет, для него не «болевая точка»…»
Примерно через две недели после этого Александр Александрович написал мне в следующем письме:
«Езжу на дачу разбирать свой архив. Занятие утомительное и наводящее на невеселые мысли. Из того, что вспоминаешь, многое хочется сразу же забыть. Погружаться в некоторые воспоминания мучительно — прошлое, подобно плотной соленой воде, выталкивает тело на поверхность, нырять и дышать в этой воде можно только с кислородным прибором. А кислорода что-то не хватает даже для простого дыхания».
Это написано было в последний год его жизни — к тому времени он уже успел нырнуть в три инфаркта.
Ослабевший, тяжело больной, он боялся не смерти, а дряхлости, невозможности работать.
Прошлое волновало его постоянно, как оно и должно волновать каждого честного писателя, желающего осмыслить настоящее. Крон всегда был современным писателем в самом остром понимании этого слова. Он никогда не пытался угадать то, что требуется сегодня. В угадывании есть азарт и жажда выигрыша. Угадывание — это игра в штосс, в очко, в рулетку. Крон стремился о т к р ы в а т ь современность, то есть совершать самое сложное, чем и сильна наша лучшая литература. Сильна своим стремлением к справедливости, к правде, к зову совести.
Писатель, пишущий на современную тему, осмысляющий день сегодняшний, задумывается и над горьким вчерашним, над тяжкими заблуждениями прошлого. И тут, случается, его сурово остерегают:
— Не надо сыпать соль на раны!
Крон говорил в ответ:
— Об этом просят не раненые, а здоровые.
Мы встречались с Александром Александровичем по два-три раза в год — в Ленинграде, в Москве, на Юге. В остальное время общались давно позабытым, ветхозаветным способом — регулярно переписывались.
Так длилось сорок лет.
В письмах Крона — их у меня около тысячи — бьется время.
Я имею в виду не перечень исторических событий, не информативность, хотя, конечно, же, и это постоянно мелькало. Я говорю о том драгоценном свойстве Крона, которое известно всем, кто хорошо знал его: о поразительном умении размышлять, анализировать, обобщать. Можно бы все это назвать философичностью, но к этому слову у нас почему-то иронически относятся.
Он был на редкость наблюдателен. И притом — избирательно наблюдателен: пропуская мимо глаз, мимо ушей, мимо ума то, что лежит на поверхности, даже если это поверхностное типично, он устремлялся вглубь. Наши с ним мнения о людях не всегда совпадали. Чаще оказывался прав Крон. Но иногда и я. Причина, пожалуй, заключалась вот в чем: ему нужно было гораздо больше данных для суждения о человеке. Он трудно сближался с людьми и любил говорить о себе:
— Я чопорный.
Это неправда. Чопорности не было в нем ни грамма.
Если что и мешало слишком быстрому сближению с людьми, то это его глубокая внутренняя интеллигентность, не позволявшая ему ни мгновенно распахиваться, ни с ходу задавать бесцеремонные вопросы.
Он был мало приспособлен к пустому приятельству, к пунктирным взаимоотношениям, когда люди, полагающие себя закадычными друзьями, не общаются долгими месяцами, а встретившись, бросаются друг к другу с объятиями и поцелуями.
Эта черта его натуры — неприятие равнодушной всеядности, необязательности — все более усиливалась с годами.
Зная нечто подобное и по себе, не одобряя себя за излишнюю придирчивость к людям, я как-то сказал ему:
— А не становимся ли мы на старости лет болезненно обидчивыми?
— Нисколько. Просто когда я вижу, что мои отношения с человеком почему-либо изменились, то никогда не выясняю их — выяснение испортит их окончательно. Я молча отдаляюсь на иную дистанцию. И вернуться к прежней уже не смогу.
Так бывало. Я это видел. И огорчался. Но никакие мои попытки вернуть Крона на прежнюю дистанцию с бывшими друзьями ни к чему не приводили. Отношения оставались корректными — и только.
Что бы Александр Александрович ни делал — писал ли пьесу, роман или газетную статью, — работал он медленно, угнетающе для себя самого медленно, постоянно сомневаясь, получается ли у него то, что хотелось бы. Неудовлетворенность собой, своей работой грызла его так сильно, что он надолго откладывал давно начатую рукопись.
Торопить его было бессмысленно; ни договорные сроки, уже продленные, ни отсутствие денег в доме не могли принудить его слепить что-либо наспех. Естественно, не все получалось у него равноценно, и Крон сам отлично понимал это, но его неудачи никогда не были вызваны расчетом или легкомыслием.
Когда работа бывала закончена и принята, то в редакциях Крон числился «трудным автором». Он и действительно был трудным, в том смысле, что всей силой своего ума, совести и мировоззрения сопротивлялся служебной бдительности иного редактора. Даже самое дальнобойное и крупнокалиберное предостережение:
— Поймите, Александр Александрович, из-за этих ваших нескольких строк может не пройти вся вещь…
Даже эта угроза крайне редко обезоруживала его. Он отстреливался до последнего патрона.
А уж самоуправство редакций приводило его в бешенство. Я знаю несколько случаев, когда, увидев в последней корректуре правку редакции, не согласованную с ним, Крон запрещал изуродованную публикацию и уже больше никогда не имел дела с этой газетой или журналом.
Они-то ему прощали. Он им не прощал.
Александр Александрович необычайно много читал. Великолепно знал русскую и зарубежную классику. Его умение постигать серьезную научную литературу удивляло ученых. Он был широко образованным писателем — это сейчас редкость.
Советскую прозу, драматургию, театр отлично помнил с самых их истоков. Помнил и как зоркий современник той эпохи, и как историк. А эти две памяти придавали его зрению необходимую стереоскопичность мудрости.
За нынешней современной прозой он следил увлеченно, любил открывать новые для себя имена писателей и, открывая, азартно пропагандировал их. Его письма пестрят возгласами: «Ты не читал такого-то? Непременно прочти!..»
Это тоже не столь уж часто встречается в общении литераторов — нередко мы слышим: «Ты не читал моей новой вещи? По-моему, у меня здорово получилось!»
Отзывы Александра Александровича о литературе и искусстве, даже лаконичные и вскользь сказанные, всегда были глубоки. Вот коротенькая цитата из его письма ко мне в январе 81-го года:
«Крупнейшее явление последних лет — роман Айтматова. Мысли это сочинение вызывает не слишком веселые, но это право художника — клевать читателю печенку. Великие гуманисты, вроде Ф. М. Достоевского, в этом отношении не стеснялись».
(Роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» был тогда только что опубликован в «Новом мире», и критика сперва замерла, словно бы задохнулась в ожидании, как к этому роману отнесутся «наверху»).
Весной того же 81-го года я получил от Крона письмо с отзывом о новом произведении другого автора:
«Читал ли ты «Ягодные места» Евтушенко? Написано бойко, но клеевой краской на воде. В ход пошло все, что было под рукой, — поездка по Сибири, заграничные командировки, недодуманные философемы, сведения о Циолковском, почерпнутые в процессе киносъемок. Все на живую нитку. Никакие потуги на прогрессивность и остропроблемность не спасают от скуки. А жаль. Человек он очень талантливый и порядочный».
В разгар запальчивой дискуссии о кинематографических и театральных инсценировках литературной классики Александр Александрович занял необычно спокойную позицию:
«Я против всяких запретов на классику. Искажать современного талантливого автора, действительно, преступление, а классика незыблема: от экспериментов, и удачных и неудачных, она не умаляется — ее век дольше».
К искажениям произведений на современную тему, к театральным «поправкам», сделанным из трусости, Крон относился яростно. Об одной такой постановке он написал:
«Я смотрел этот спектакль, и меня тошнило от бесстыдства. Впрочем, как известно, стыд — категория не политическая».
В писательской среде возникали порой раздраженные споры о так называемой «полуправде». Особенно активными эти споры были в период выхода книг Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Да и не только в те времена — случаются и нынче. Произносились, произносятся иногда и сейчас брюзгливые мнения:
— Напрасно вы хвалите это произведение: в нем ведь изображена всего лишь полуправда…
Крон писал мне:
«Благодарить надо и за половину правды, когда полная бывает немыслима. И кстати, я заметил, что чаще всего огрызаются на полуправду те, кто либо вовсе отмалчиваются, либо охотно фальшивят напропалую…»
Неожиданно различным оказалось у нас с ним отношение к собственным воспоминаниям. Обоим нам, разумеется, отлично было понятно, что, прожив длинную жизнь, мы были и невольными свидетелями, и пассивными, и активными участниками множества событий, канувших в грандиозную историю нашего времени. Я пишу канувших — не зря: кануть в историю — это ведь и войти в нее, но иногда и исчезнуть в ней, стать событием, неизвестным даже для ближайших потомков. Случалось на нашей памяти, что связь времен обрывалась. Летописцы в точном значении этого слова перевелись уже давно: профессия эта в двадцатом веке, время от времени, оказывалась далеко не безобидной и даже не безопасной.
Жизненный опыт, социальная память нашего, с каждым днем редеющего поколения истаивали на глазах. А я знал — Крон не скрывал этого от друзей, — что на протяжении десятилетий он ведет каждодневный дневник. Отдельные скупые блокадные записи из дневника он даже читал на своем вечере в ленинградском писательском клубе.
И вот, зная, что под руками у Крона сокровеннейший материал, я уговаривал его засесть за воспоминания. Однако моя настойчивость совершенно внезапно для меня наткнулась на раздраженный отпор. Я как-то, среди прочих доводов, сказал ему, что писать воспоминания в наше время велит совесть. Крон ответил мне язвительно:
«Все, что ты пишешь о долге совести, совершенно справедливо и в основных чертах мне знакомо. Непонятно только одно — почему же ты не пишешь воспоминаний, а предпочитаешь писать рассказы… Может быть, я все-таки последую твоим советам, но не из чувства долга, а просто потому, что на новый роман у меня нет сил».
К этому времени он был изнурен не только тяжкой, неизлечимой болезнью, но и многолетним нервным напряжением, связанным с последней его работой — повестью «Капитан дальнего плавания». Двадцать пять лет писатель Крон бился за восстановление доброго имени командира подводной лодки С-13 Маринеско. И этой повестью Крон торпедировал долговременную бетонированную косность иных флотских чиновников. Но сам-то Александр Александрович о выходе в свет своего «Капитана» узнал только в больнице — незадолго до его смерти ему принесли первый экземпляр «Нового мира» с опубликованной повестью.
Восторженного читательского резонанса он уже не услышал. Десятка отличных рецензий не читал. Не дожил он до события, о котором мог лишь мечтать, — на родине капитана дальнего плавания, в городе Одессе, одна из улиц названа сейчас именем Маринеско.
А ведь легендарному воинскому подвигу подводной лодки С-13, ее командиру Александру Маринеско грозило забвение, если бы не поистине гражданский подвиг Александра Крона.
О предстоящей новой работе он думал неотвязно и настойчиво. Невозможность сесть за письменный стол мучила его более всего. Он знал, что Судьбой ему отмерено мало времени, но не предполагал, что настолько мало.
В одном из последних писем, возвращаясь к нашему давнему спору, он уже спокойно сформулировал свое отношение к воспоминаниям:
«Вероятно, ты прав, однако в этой убежденности, что я должен писать нечто, не рассчитанное на прижизненное опубликование, есть подспудная и не очень меня радующая мысль — пора Шурику на покой, на пенсию. Ибо мемуары все же вполне пенсионерское занятие, литературное приложение к завещанию, никого, кроме ЦГАЛИ, не интересующее… Погружение в мир воспоминаний — процесс для меня болезненный, вроде первого пострижения. Слава богу, из него еще есть ход назад».
Однако, смею утверждать, это свое, казалось бы, категорическое и пренебрежительное суждение о мемуарах Александр Александрович высказывал вопреки тому, к чему неуклонно стремилась его душа в последние годы жизни.
Он уже давно, и не только мне, а и еще кое-кому из близких друзей рассказывал, что хочет написать тетраптих — именно это слово он здесь употреблял — тетраптих об Анне Ахматовой, Борисе Пастернаке, Всеволоде Вишневском и Александре Фадееве.
По замыслу Крона и по черновым наброскам, обнаруженным в его архиве, эта его работа должна была жанрово представлять собой некое органическое соединение мемуаров и эссе.
Всеволода Вишневского и Александра Фадеева Крон знал близко и отчетливо на протяжении многих лет в самых многообразных обстоятельствах. С Анной Андреевной Ахматовой были у него долгие, взаимно дружелюбные отношения.
Записи о встречах с ними, порой достаточно подробное изложение их высказываний, исторический фон, на котором все это происходило, фиксированы в черновиках Крона зачастую по живым следам.
Бориса Леонидовича Пастернака он знал мало, если иметь в виду личное знакомство. Но общий замысел Крона сосредоточивался в прослеживании глубинной взаимосвязи судеб двух великих поэтов с судьбами Вишневского и Фадеева — взаимосвязи, независимой от их воли, а продиктованной временем, эпохой.
Я уверен, что смерть Александра Александровича оборвала выполнение именно этой его работы, к которой он исподволь, трепетно готовил себя.
В первый же месяц войны Крон приехал из Москвы в Ленинград и пробыл здесь все 900 дней блокады.
Вероятно, с этого мне следовало начать, но настолько издалека почему-то не получилось. Его недавнее нынешнее присутствие рядом мешает движению вспять.
Военный корабль «Иртыш», на котором жил и работал офицер флота Александр Крон, стоял на Неве подле Летнего сада.
Сперва стоял на воде, потом вмерз в лед.
Первые девять блокадных месяцев, что я прожил в Ленинграде, мы виделись очень часто. Вот тогда-то я и начал постигать масштаб личности Крона. Говорю — начал, ибо продолжал постигать до последних дней его жизни. И вовсе не потому, что он был загадочен. Наоборот — он поражал меня своей человеческой естественностью, закономерностью. Закономерностью всегдашней порядочности, чести, личного достоинства. Его поведение было предсказуемо; оно обеспечивалось золотым запасом надежной нравственности.
Принято думать, что натура человека становится особенно ясна в экстремальных обстоятельствах. И это в общем справедливо. В блокаду встречались люди, которыми я изумленно восхищался, настолько они были не похожи на самих себя в сытое мирное время — настолько они становились лучше в предельно тяжких блокадных условиях. Чего уж говорить о тех, кто позорно хужел.
А Крон вел себя обычно. И это поведение его, естественное, спокойное, никого не поучало, оно не было броским, правофланговым. Он не приседал, но и не громоздился на цыпочки.
Он продолжался. Продолжалась его доброта, бескорыстие, благородство.
В блокадно-заледеневшей, грязной, темной моей квартире Крон светился своей обычной, привычной интеллигентностью. И для меня это было не менее необходимо, жизненно необходимо, чем то, что, приходя, он неизменно вынимал из кармана своей флотской шинели пластмассовую плоскую коробочку — в ней он приносил мне кусочки своей еды, сэкономленной в обед на корабле.
А кормили и там скудно — в блокаду у Крона началась цинга.
Чувство вины перед близкими людьми, ушедшими навсегда, знакомо всем. Оно бывает неосознанным и даже лишенным основания: ты сделал все, что мог, — и не спас.
Спасти Шуру Крона я не мог.
Но облегчить последний год его жизни — мог. И не сделал того, что он непременно сделал бы для меня.
Я всегда был в долгу перед ним.
ПРИСТРАСТНОСТЬ
Когда к Юрию Павловичу Герману приходили жаловаться на что-нибудь, — иногда просто так, чтобы только поделиться своей досадой или бедой, — он уже с половины рассказа, продолжая слушать, начинал набирать длинным указательным пальцем нужный номер телефона. Для него было насущной необходимостью активно вмешиваться в несправедливость, даже если это было несправедливостью Судьбы.
Вероятно, именно поэтому, когда он говорил о ком-нибудь плохо, то самым резким обвинением было:
— Но это же совершенно равнодушный человек!.. Ты обратил внимание, как он слушает? Он же все перепускает.
Часто общаясь с начальством разного калибра — приходилось нередко обращаться в многочисленные инстанции, чтобы вступиться за кого-нибудь, — он понял, что телефонные звонки не всегда действенны: звонок не оставляет никакого материального следа, от телефонного звонка можно потом отпереться. Тогда он придумал посылку длинных телеграмм. Отправлял их сразу в несколько инстанций.
— Понимаешь, телеграмму уже надо подшивать к делу. На нее надо отвечать. На телеграмме можно в уголке начертать резолюцию.
Так было с Анной Андреевной Ахматовой. Ее следовало срочно устроить в хорошую больницу. Это ни у кого долго не получалось. Он отправил три телеграммы. Бешеные, как он любил говорить. Тогда получилось.
Пошел навестить ее в больницу. Все ходили к Ахматовой с цветами. А он принес — суп.
— Там же невкусно кормят. А Танька сварила ей замечательный суп. И старуха с удовольствием схарчила.
Его хлебосольство начиналось задолго до того, как собирались гости. Он сообщал с утра:
— Слушай, ты сегодня приходи. Я сейчас прошвырнусь по лавочкам.
Это случалось даже тогда, когда у него почти не было денег. Он ходил по продуктовым магазинам просто так — это у него называлось «прицениваться».
Он терпеть не мог, если писатель не знал, сколько стоят продукты, еда. И любил рассказывать, как Михаил Михайлович Зощенко рассердился, когда услышал, что один очень знаменитый литератор не знает, почем буханка хлеба.
Писателей, не ведающих, как живут люди на свою зарплату, он иронически называл «божьими избранниками»:
— Подумаешь, божий избранник! Сволочь такая. Жена вкалывает с восьми утра, а он продерет глаза в двенадцать и усаживается писать свои «эссе».
Перед сбором гостей он придирчиво осматривал стол — все ли поставлено, достаточно ли. И спрашивал близких друзей:
— Ну как? Ничего?.. А то я очень волнуюсь.
И при этом сам-то ел немного. Уже тяжело больной, сидящий на тоскливейшей диете, он требовал дома, чтобы гостей хорошо кормили и чтобы они ели при нем.
Иногда виноватым голосом говорил:
— Ты извини: я, понимаешь, сам уже не могу пробежаться по лавочкам…
Много раз совершенно серьезно утверждал:
— Если бы я жил до революции, знаешь, чем бы я занимался? Держал бы столовку для бедных студентов. Они бы ели, а я бегал бы вокруг стола и, вытаращив глаза, как чеховский герой в «Дуэли», кричал бы: «С перцем! С перцем!»
Он никогда не хвастал, ничтожно мало говорил о себе. Разве только в последние месяцы его жизни я услышал от него:
— Если бы ты только знал, как я себе надоел!
Когда я спрашивал изредка о чем-нибудь, что касалось его литературных успехов, он отмахивался:
— Ай, это никому не интересно.
Так же, как он никогда не жаловался на свои неудачи или на свое дурное настроение. Он вообще не терпел этого сочетания слов: «У меня плохое настроение».
— Понимаешь, мужик должен соблюдать гигиену: ведь ты не пойдешь в гости с немытым лицом или с нечищенными зубами? Вот и ныть не надо — это негигиенично для окружающих.
Даже за несколько дней до гибели он не разговаривал о своей болезни. Я спрашивал его:
— Ну как ты себя чувствуешь?
Он отвечал:
— Да брось. Это скучно.
Изредка только шутил:
— Вчера случайно посмотрел на себя в зеркало — я уже похож не на дедушку, а на бабушку.
Книги по медицине — в его библиотеке их было немало — он велел убрать от себя: догадываясь о диагнозе, не желал вникать в мрачную суть его, не желал «уходить в болезнь».
После него осталось мало записей. Он не вел дневников. Но одна из заметок, написанная на клочке бумаги, очень характерна для него:
«Как бы умереть, не кокетничая?»
Работал он до последних своих дней. Когда уже не стало сил сидеть за столом, диктовал стенографистке, лежа в постели. И очень этого стеснялся.
— Это так стыдно, — говорил он, — я почему-то лежу и диктую! Ты не представляешь себе, как мне неловко перед стенографисткой! Самое интимное наше дело — сочинительство — оказывается у кого-то на виду…
Влюбчивость его в людей была безбрежной и зачастую даже неразумной, подслеповатой. Достаточно рядовая его фраза по телефону звучала так:
— Слушай, ты сегодня непременно приходи. У меня будет один потрясающий человек, я от него абсолютно зашелся!
Или:
— Я тут познакомился с одним парнем — это совершенно грандиозная личность!
Нередко оказывалось, что люди, которыми он восторгался, вовсе не стоили того — он их частично сочинял, видя в них не то, что они собой представляли, а то, что ему хотелось бы в них различить. Наступало порой и прозрение — запоздалое прозрение, — однако Юрий Павлович не любил в нем признаваться, а может, и совершенно искренно забывал о своем былом восхищении. Во всяком случае, напоминать ему об этом было рискованно — он злился:
— Терпеть не могу людей, обожающих сообщать мне: «Я же тебя предупреждал, я же тебе и раньше говорил!..»
Склонность его натуры и писательского таланта требовала веры в прекрасное. Без этой веры он не мог бы заниматься литературным трудом.
Но эта же вера, доведенная преклонением до слепоты, случалось, подводила его талант, и тогда из-под пера Юрия Павловича появлялись преувеличенно умилительные страницы: возбужденная восторгом фантазия наделяла его героев чрезмерно победительными характерами, хотя на их жизненном пути автор и возводил барьеры сюжетных препятствий, изрядно сдобренные сентиментальными подробностями. Тут, случалось, его художественный вкус кренился набок, терял равновесие, изображенная действительность утрачивала свою достоверность.
Его будущие герои ходили к нему на дом. По тому, кто сидел у него за обеденным столом, в гостях, на кого он смотрел увлеченными, увлажненными глазами, можно было загодя определить, о чем он собирается писать. Иногда он даже впрямую говорил:
— Я тут вчера раздаивал интересного человека — мне это нужно для одного моего сочинения.
Его сочинения — он любил это слово — были весьма многообразны по жанрам: романы, повести, рассказы, киносценарии, пьесы, воспоминания, статьи. Он не уставал повторять фразу любимого им Чехова:
— За всю жизнь я писал все, кроме стихов и доносов.
И настойчиво проповедовал среди друзей-литераторов:
— У писателя должно быть многопольное хозяйство.
К тому, что было написано им насвежо, недавно, только что закончено, Юрий Павлович относился очень горячо, а затем постепенно охладевал. Иногда несправедливо охладевал. Мне, например, нравился его роман «Россия молодая» (название это было подсказано Герману Борисом Михайловичем Эйхенбаумом). Отлично помню, как поразила меня живопись «России молодой»: яркость характеров корабельного плотника Рябова и царя Петра; цвета, запахи, вкус изображенной эпохи; сплетение патриотизма с жестокостью и предательством. Книга имела бурный успех.
А Юрий Павлович, отдавший этому роману несколько лет напряженной жизни, и притом скудной жизни, ибо именно в то время он перебивался весь в долгах, «стреляя» у друзей деньги без точной уверенности, что ему удастся вернуть их вовремя, — Юрий Павлович, уже года через два-три после выхода в свет «России молодой», сказал мне как-то, когда я снова похвалил ее:
— Да брось, это опера.
А нежнее всего написанного им Герман любил свой роман «Подполковник медицинской службы». Так мать любит ребенка, который прошел через клиническую смерть и чудом выжил.
Искушение возможностью переиздания своих произведений одолевает, вероятно, всех авторов. Криминала в этом, разумеется, нет, если произведения заслуживают того. И в этом смысле, мне кажется, писатель должен соблюдать щепетильную придирчивость к себе, к тому, что написано им много лет назад. Не следует рассматривать себя «посмертно», излишне академически. Покуда ты дышишь, изволь отобрать в своем пестром наследии то, за что готов отвечать прижизненно. А главное — не следует «подновлять» свои старые произведения: вполне допустимо и даже необходимо пройтись по ним стилистически, однако приближать давно написанную вещь к сегодняшнему дню, опрокидывая нынешний свой жизненный и социальный опыт в минувшее время, и наделять своих старых героев прозорливостью задним числом — вот всего этого делать не следует.
А примерно это Юрий Павлович однажды совершил. Две свои отличные повести «Лапшин» и «Жмакин», изданные в 1936 году, он искусственно пересочинил в роман, опубликовав его в 1960 году. Роман был назван «Один год». Время действия вроде бы осталось нетронутым, но автор настолько «освежил» своих героев Лапшина и Жмакина и даже ввел новых персонажей, что все это вместе взятое лишь совершенно испортило две, повторяю, отличные повести.
Проделал это Юрий Павлович абсолютно искренно, откровенно, — он умел иногда горячо убеждать себя в самых противоположных позициях, — и, пересочиняя две старые свои работы, был уверен, что читателям шестидесятых годов не слишком интересно знакомиться с героями двадцатипятилетней давности. Ему казалось: надо немедля отобразить то, что волнует нынешнего читателя, вооруженного горестным знанием крутых поворотов истории.
Между прочим, «Лапшин» и «Жмакин» были едва ли не первыми повестями в нашей литературе, написанными, как теперь принято говорить, в детективном жанре. Однако в те далекие времена никому и в голову не вскочило бы обозвать Германа «детективщиком»! Настолько высок был уровень этих двух повестей и — благодарение богу! — настолько мал и презрителен был читательский интерес к «сыщицкой» литературе.
Кто только не брался впоследствии и не берется нынче за сочинения подобного типа! Разливанное море бездарностей омывает пороги учреждений уголовного розыска в поисках «сюжетов». Стряпают их молниеносно. Герман говорил об этих авторах:
— Знаешь, как они работают? Сколько посидится, столько и напишется.
Самые сложные и болезненные отношения складывались у Германа с кинематографом. Он написал множество сценариев — далеко не все они были поставлены. Разумеется, это огорчало Юрия Павловича, но не слишком: чего греха таить — к работе над киносценариями он относился менее серьезно, нежели к своей работе в прозе. И вряд ли тут повинен он: количество «советов», указаний и инстанций, сквозь которые приходится продираться, проползать сценаристу, столь угнетающе велико и малокомпетентно, что на каком-то этапе работы вконец занузданный сценарист либо отказывается вносить в свое полузадушенное произведение очередные поправки, либо равнодушно делает их ко всему приученной «левой ногой». И сценарий ложится на полку. Это случалось и с Германом.
Однако к огорчениям подобного рода он относился вполне стоически. А вот когда фильм по его сценарию бывал поставлен, но робость или самоуправство режиссера и бесчисленные указания кинематографических чиновников приводили к полному искажению того, что было написано Германом, — в этих горьких случаях он мучительно страдал, стыдился и негодовал. Два его фильма — не стану называть их: они написаны в соавторстве с достаточно известными режиссерами, — я так и не посмотрел; Юрий Павлович умоляюще-требовательно просил меня, когда эти фильмы появились на экране:
— Можешь ты сделать мне огромное одолжение? Не ходи смотреть эту дрянь!
Он сказал не «дрянь» — резче, грубее.
Раннее читательское признание, очень раннее, — такого сейчас у прозаиков не случается: в двадцать пять лет Герман уже был автором одного из самых популярных романов «Наши знакомые», а еще раньше он был обласкан Горьким и Мейерхольдом, — это ощущение своей знаменитости не отуманило Юрия Павловича. Он смолоду понимал, что «быть знаменитым некрасиво» или, во всяком случае, не очень красиво. Более того, мне всегда казалось, что свое место в литературе он отлично знал, ибо неистощимо любил ее, не уставал восхищаться ею и постоянно почтительно оглядывался на великую русскую литературу девятнадцатого века. Да и в двадцатом веке и среди своих современников он отбирал не так уж мало имен, к которым относился с глубочайшим почтением, не рискуя сравнивать себя с ними.
Я знавал писателей, сумевших за свою жизнь исчерпать личное дарование до дна и даже выскрести это донышко, не оставив на нем ни крупинки. А Юрий Герман не успел сделать всего того, на что был уготован его незаурядный талант. В последние годы он разворачивался все просторней и раскованней. Перед смертью он часто говаривал, что писатель призван не иллюстрировать беллетристически свое время, свою эпоху, а, сколько возможно, стремиться отважно осмыслять ее, тем самым как бы провидя грядущее.
Сказал однажды:
— Это вздор, что мы отстаем от своего времени. К сожалению, мы трусцой одышливо бежим рядом, искательно заглядывая ему в глаза. А надо бы остановиться и подумать, понять, что к чему… Надо, чтобы не нам объясняли, а чтобы мы объясняли…
Он был одним из тех редких литераторов, которому можно было сказать и горькую правду о том, что он пишет. К этой правде, высказанной нелицеприятным другом, Юрий Павлович относился вовсе не благостно — огорчался, хмурился, даже гневался, но терпел. Я бывал не раз свидетелем, как его друзья, да и сам я корили его иногда за излишнюю сладость написанного им, за бьющую через край влюбленность в своих безупречных героев. Он слушал, вдавливая недокуренные сигареты в пепельницу и снова закуривая, затем мог и взорваться:
— Да подите вы все к черту! Читателя надо учить добру и умению бороться за него!..
А потом, поостыв и выпив рюмку водки, иногда и винился:
— Может, я немножко и перебрал. Я всегда перебираю. Потом почищу…
Он очень любил делать своим друзьям подарки. Не ко дню рождения, не по торжественным датам, а буднично. Придет, усядется, хитренько посмотрит на тебя и скажет:
— Принес тебе одну вещицу, по-моему, ее у вас в доме нет.
И вынет из кармана или из портфеля и развернет нечто удивительно нужное тебе, о чем ты давно мечтал. Иногда даже скажешь ему:
— Юрочка, но это же жалко дарить!
— А дарить надо всегда то, что жалко отдавать.
Он презирал скупых людей. Об одном нашем общем знакомом говорил:
— Ну, ты же знаешь этот железный характер: в ресторане он даже не почешется заплатить за себя. Мне не жалко денег, я ведь все равно уплатил бы за всех, но сделай хоть для приличия какое-то телодвижение, вроде бы ты полез в карман за деньгами!..
Людей такого типа он называл «наездниками» — в том смысле, что они любят ездить на своих ближних.
Человек необыкновенно пристрастный, пристрастный до жестокой несправедливости, он обладал одним поразительным свойством: если писатель, предельно несимпатичный Герману, издавал хорошую книгу, то Юрий Павлович звонил ему и говорил:
— Вчера прочитал ваш роман. Это отличный роман.
Сообщать человеку что-нибудь приятное о его работе было одним из любимых занятий Юрия Павловича. Работа так много значила для него самого, что он и ссорился с людьми, и первый шел мириться к ним, если его разъединяла или, наоборот, сближала их работа.
Я не знаю другого писателя нашего поколения, который читал бы столько современных книг, сколько читал их он. Он прочитывал и отвратительно сочиненные книги, коря меня мимоходом:
— Ну, ты же вообще мало читаешь. Тебя не интересует то, что пишут подонки. А я читаю все. Надо знать то, что делают подонки. Тогда легче с ними справиться.
Иногда он давал мне какую-нибудь книгу и серьезно, грустно предупреждал:
— Это великолепная вещь. Только не читай ее на ночь. Иначе не заснешь — будешь произносить обличительные речи. Я вчера произносил их до шести утра. Нынче это называется внутренними монологами…
За тридцать лет нашего товарищества я привык делиться с ним своими мыслями, новостями, событиями причудливой жизни.
Нынче много чего поднакопилось. Я пришел бы к нему во времянку в Соснове, он заварил бы крепкий черный чай и, пока заваривал, сказал бы как обычно:
— Ты погоди, пусть он нарвет. А тогда спокойно сядем, поговорим.
Разлил бы по крупным кружкам и непременно спросил:
— Ничего нарвало, как ты считаешь?
И только потом, усевшись поудобнее и поковыряв кочергой в печке, сказал бы:
— Ну, рассказывай — какие новости?
И я бы рассказал.
Только некому мне сейчас рассказывать.