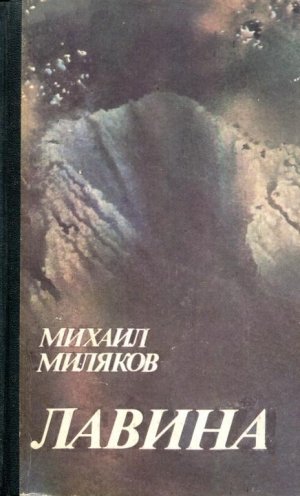
ПРОЛОГ
…вросши плечом, ногами в скалу, Сергей Невраев зачарованно смотрел на лавинный вал, налетавший сверху, на венчающий его радужный, с каждым мгновением вздымающийся выше, шире, пышнее ореол, смотрел на кинувшуюся было назад по снежнику фигурку Жоры Бардошина и, как неукротимо несущийся вал, взбрасывая, словно играя, буруны снега, настиг Жору. Мстительное удовлетворение на мгновение захватило Сергея. «Есть, есть на свете справедливость! Вот она! Совершается…»
Сильный рывок веревки, соединявшей с Жорой, едва не сдернул его со скалы. Откинувшись назад, упираясь ногами в спасительную каменную твердь, Сергей стравливал веревку. Непомерной тяжести потяг — стравливал, подтормаживая и сжигая веревкой спину; сдерживал, весь отдавшись этому противоборству, в котором, не отдавая себе отчета почему, не мог уступить; и услышал сквозь рев ослепляющего, останавливающего дыхание снега откуда-то, очень, казалось, издалека: «Веревку… Отстегни. Карабин! Открой карабин… Сорвет!..» Не сразу признал в визгливых, истошных криках, словно с запущенного на высокой скорости магнитофона, голос Воронова:
— Веревку!.. Отстегни вере-о-овку-у!.. Ка-ра-би-ин… откро-о-ой!
Сознание не приняло спасительных команд. С еще большим, отметающим любые здравые доводы страстным упорством удерживал Сергей Невраев захваченного лавиной Жору. Белый непроглядный вихрь, буря, ураган со всех сторон… И неодолимой силы потяг веревки. Напрягся каждым мускулом, всякой жилкой, нервом; ничего нет — ни удушающего снега вокруг, ни ужаса перед уносящимися последними метрами веревки, ничего, кроме остервенелого сопротивления, в котором слились его гордость, его тоска по любви, ревность и теперь еще — невозможность, немыслимость бросить этого человека на произвол лавины…
Давно пытался я найти отгадку или, скажем иначе, понять, разобраться в природе того, что мы в простоте душевной именуем легко и привычно «самопожертвование», «мужество». И вот эта история. Знал и прежде некоторых ее участников, встречался в горах на Кавказе, в Москве. Потом сдружился с одним из них, самым юным, — критерии возраста, тем более юности, весьма условны, пусть останется это слово — юный. Замечу кстати, не сразу возникло между нами то, что с удовлетворением и надеждой называю: дружба. Поначалу как раз с ним, с Пашей Кокарекиным, никак не ладились отношения, может быть, еще и оттого, что недоверие и упорное молчание были ответом на не всегда ловкие мои вопросы. И немудрено…
Был отработан первый вариант рукописи, достаточно близкий по внешнему рисунку к тому, что известно о случившемся. Но внутренний нравственный кризис и его одоление — не это ли все-таки главное? У литературы есть определенные преимущества перед любым, пусть самым доскональным расследованием: возможность проникнуть в характеры, обрисовать, понять и изобразить внутренние, причинные связи. Факты — штука упрямая, давно известно, так не лучше ли, не поучительнее ли увидеть их не старательно выстроенными по ранжиру, но в сложной и противоречивой действительности, истоки которой многое в состоянии прояснить, более того — подсказать.
И снова «вечные» вопросы: что значит совесть, где начинается предательство и откуда все-таки доброта? Или тут другое, куда более сложное, так что незачем, упрощая, рядить в белые одежды милосердия? И это-то другое и заставляет перешагнуть через собственную беду, и ненависть, и боль?
Да, в который раз с согревающим душу удовлетворением приходится признать, да, честь, благородство, самопожертвование живы; с новой властной силой раскрываются они в хитроумных и не всегда явных столкновениях, которыми изобилует жизнь, хотя и не обязательно побеждают. Но след их, куда бы потом ни повлекли события, глубок и благотворен.
Впрочем, не довольно ли предвосхищать дальнейшее?
ГЛАВА 1
Ущелье темно и молчаливо. Поток, укрытый туманом, успокоенный ночью, глухо ворчит, пробираясь между камней. На высоком обрывистом берегу сереют палатки да два-три домика угадываются среди деревьев. Дальше все тонет в лесной кромешной тьме. Людей не видно, люди спят.
Неширокий просвет неба сплошь усыпан звездами. Тихо сияют они над землей, далекие, безразлично покойные. Горы подняли в фиолетовую бездну свои остроконечные вершины. Туманно светящийся шар луны с четко вырезанным слева золотым серпиком коснулся одной из вершин и медленно скрывается за нею. Звезды, кажется, наклоняются ниже, шепчут о чем-то… Окованные холодом вершины мерцают в ответ зеленоватым призрачным светом.
Дежурный распахнул палатку. Луч карманного фонарика скользнул по раздутым от поклажи рюкзакам, спинкам кроватей, мотку оранжевой альпинистской веревки на табурете, заиграл на лезвиях ледорубов. Дежурный включил лампочку на коньке палатки.
— Как погода? — Сергей Невраев разлепил склеенные сном веки, подержал открытыми, не давая себе уснуть снова. Начал одеваться.
— Вставай, вставай, нечего разлеживаться! — Дежурный воевал с Пашей Кокарекиным.
— Погоди, сейчас… — И с головой юркнул под одеяло. Предутренний сон сладок, так не хочется расставаться с теплом постели.
Дежурный свои обязанности исполнял всерьез. Не новичок в горах и не так чтобы совершенный керосинщик, как по старинке называют тех, кому одна забота — приятно время провести. Вынашивает в сладких грезах некие чрезвычайные штурмы и небывалые траверсы. Только где физию успел сжечь, третьего дня приехал, а разволдырявился, будто в горных высях на каком-нибудь распрекрасном снежном плато пол-отпуска на лыжах провертухался. «Может, на Черном море?» — переводил ближе к делу смекалистый Паша — и прямо в точку. Одесское солнышко на одесском пляже пусть не чета горному, а все равно рыжие тотчас подгорают. Только дальше, увы, ничего занимательного. По крайней мере, для постороннего человека. Всего-навсего на симпозиуме был; о разных биологических знаменитостях взахлеб, о докладе, сделанном таким-то, и содокладе такого-то. Паше, которого, несмотря на молодые годы, чаще зовут по имени-отчеству, Павлу Ревмировичу, может, и к чему — журналист, хотя и по спортивной тематике больше, да ведь кто знает, куда еще фортуна повернет. «Забурели в своих «ящиках»! — помнится, ораторствовал Рыжий. — А наука наша, молекулярная биология, еще шажок всего — и никакие эволюции, никакие искусственные, а тем более естественные отборы не понадобятся!..» В пояснение швырял столь заковыристыми словами и предложениями, что на трезвую голову нипочем не понять.
«Чудак Жорка! — заметив притупившееся внимание слушателей, вернулся Рыжий на землю. — Встретил его, когда торжественное открытие было, и всё. Исчез! Стоило ли приезжать из-за одного дня? Самые интересные выступления дальше были. Теперь-то ясно: испугался небось, что Воронов из своей группы вытурит. Восхождение — уснуть, умереть и проснуться в слезах! Да ради такой горочки можно, я не знаю, и любую герлу побоку, не то что симпозиум. Скэл-Тау!..»
Паша, он же Павел Ревмирович, подсчитывал дни и убеждался, что Жорик, похоже, туману напустил с Одессой-мамой, наверняка где-то еще пофилонил. Спорить кинулся с Рыжим. Тот уперся, ни в какую: «День всего был Жорка на симпозиуме. Искал его на следующее утро, расспрашивал всех и каждого, позарез сотняга требовалась, не хватало, приглядел кое-что, а Жорка денежный, у него всегда перехватить можно. Потом уже сказали, что видели Жорку в первый день, вернее, ночь, на аэродроме, ночным рейсом умотал. А что? Что ты так прицепился?»
Вот и теперь тоже воевал Павел Ревмирович с Рыжим:
— Пусти! Пусти, тебе говорят! — силился он перетянуть одеяло. — Встаю, не видишь, что ли, кошки-мышки! Иди вон Жорку, дружка своего, буди. Он тебе выдаст. Будешь знать, как с горными асами обращаться. — И, смирившись, понимая, что поспать больше не удастся, Паша, длинно зевая и ежась от утренней свежести, потянулся за штормовым комбинезоном.
Жора Бардошин спал сном праведника. Шум, разговоры, а он себе посапывает безмятежно, причмокивая пухлыми розовыми губами, казавшимися особенно розовыми из-под угольно-черных усов. Верхняя, правда, несколько не в порядке: свежий рубец бросается в глаза; но где заполучил, в какой битве — предпочитает не распространяться. Во всяком случае, первые его объяснения были темны, непонятны, противоречивы. Ну да рубцы мужчину украшают, как отметил тот же Павел Ревмирович, перефразируя славного не только стихами, но и лихими подвигами на разнообразных поприщах поэта.
Дежурный постоял еще с минуту, приглядываясь. Группка подобралась что надо. Сиятельнейший Воронов и Сергей, Пашуня Кокарекин и ухарь-пекарь Жорка Бардошин… Только уж больно спать здоров. Дежурный принялся еще расталкивать его и за уши теребить. Куда там, в одеяло закатался, не сообразишь, что с ним и делать. Здоров поспать. В Казани в общежитии через комнату жили, знает. А еще знает, что уже в те поры Жорка зарекомендовал себя неисправимым донжуаном. И тут его осеняет: что-то в их конюшне неладно. Что-то такое этакое-растакое. Впрочем, лучше сего предмета не касаться, кто их разберет, что у них можно, чего нельзя.
Эх, задним умом крепок человек, сожалеет теперь Рыжий, приметил Жорку в Одессе, надо было мигом сюда. Глядишь, и уговорил бы, и взяли б вместо него. И теперь ухарь-купец слюни бы пускал да завтрак для нас готовил. Конечно, скалолаз Жорка милостью божией, в прошлом году на показательных всех обскакал. Да ведь и он тоже хоть и за первыми местами не гоняется, а ходит по скалам вполне на уровне. Только невезучий, нету, как бы сказать, нюха настоящего.
Воронов делал зарядку. Согнул свое длинное туловище, на обнаженной спине выпукло заиграли мускулы; выпрямился; плавно перегнулся назад; снова вперед, укладывая ладони на пол. Р-раз, два-а, три! Р-раз! два-а, три! Присел на одной ноге, вытянув почти горизонтально другую. Еще. Еще, еще…
Павел Ревмирович едва оделся, в голове шалости.
— Устроим ему фитиль? — подмигнул на сладко посапывавшего Жору Бардошина. — Газета есть, зажжем…
— Будет пустяками заниматься! — сдерживая улыбку, сказал Сергей. Он перекладывал свой рюкзак, стараясь втиснуть аптечку, хотя места не оставалось и для коробка спичек. Возбуждающе-радостное чувство одолевало его: наконец-то выходят на траверс давно облюбованной вершины, к которому готовились чуть не год целый, спорили и тщательнейшим образом изучали материалы других восходителей, фотографии — где лучше, надежнее проложить маршрут и чтобы никем не сделанное, неординарное было. А сколько возникало препятствий, сторожило незадач, на волоске оказывалась сама идея траверса, когда стену захотели присовокупить. Спасибо Воронову: его спокойная уверенность, умение передать другим, заразить этой своей уверенностью, внушить и добиться решили дело.
С Жорой история: десять дней до выхода, а он сорвался в Одессу. Какие-то доклады необходимо ему прослушать. Покупаться в море ему необходимо, а не доклады, смеялся Паша Кокарекин, он же Павел Ревмирович. И вправду, перед другими неловко, все честно водят группы на занятия, на зачетные восхождения, все тренируются, а этот прохиндей… И ведь сумел: на что Михал Михалыч формалист, каких поискать, поди же, убедил и его. Но недаром начлагеря славен и своим талантом устраивать разнообразные дела — не прошло и пары дней, сунулся какого-то вместо Жоры предлагать. И Воронов едва не согласился. Хотя кандидатура!.. Конечно, Регина потом сочла бы, что это он, Сергей, пользуясь случаем, изгнал бедного Жорика. На ее взгляд, он только и знает, что придираться ко всякому, кому она благоволит. Ревную, подозреваю в самых непотребных намерениях… Но Воронов, он-то с чего? Регина ни в какие сложности наши, надо полагать, кузена своего не посвящает. А Жора Бардошин скалолаз прирожденный. И все же, если бы не Регина, отделался бы раз и навсегда от этого ловеласа.
Жора чихнул, снова чихнул. Сел. Протирая заспанные глаза и чихая, взглядывал на посмеивающегося Пашу Кокарекина. Ухитрился-таки сунуть ему под нос щепоть табаку.
— Крючья ледовые уложил? — спросил Воронов, обрывая веселье.
— Да на что они нам, кошки-мышки? Говорили, льда там в помине нет. Без них железа хватает.
— Уложил крючья? — По тону слышно, Воронов шутить не склонен.
— Да, да, видишь, к самой спине кладу. Чтобы тепленькие были, — съязвил Павел Ревмирович. Потом уже добавил: — Тебя не переспоришь.
В длинной, с окнами на обе стороны столовой тихо и пусто. Вечером танцевали, столы с опрокинутыми на них стульями составлены в дальний угол. Один накрыт у прохода на кухню. Голая лампочка, о которую бьется мошкара, освещает его.
Есть не хочется. Сергей Невраев и Жора пьют чай. Воронов, конечно, памятуя, что предстоит большая трата сил, положил себе котлету и вилкой отделяет от нее по кусочку. Павел Ревмирович уписывает за обе щеки что ни подаст на стол смешливая обычно, лихо вступающая в перебранки, тут притихшая, смущенно краснеющая Фрося.
— А что, братцы, — дожевав пирожок и протягивая руку за следующим, говорит Павел Ревмирович, — жаль, нынче духи в горах перевелись. Жора на восхождении свел бы знакомство с какой-нибудь высокогорной феей, вот как наша Фрося, ему хорошо, и нам, глядишь, на холодной ночевке кошель пирожков перепал бы.
Жора молчит. Придумывать ответы на выпады Павла Ревмировича лень. Жевать лень. Выпил кружку крепчайшего чая и все одно через силу таращит осоловелые глаза, не уснуть бы.
— Ты эту тему оставь, — заставляет себя вступить в разговор Сергей Невраев. — Не то явится, не дай бог, Алибекская дева да и вытворит… очередную штучку. Репертуар у нее обширный.
— Жора к любому женскому сердцу ключи подберет. Что ему Алибекская дева! — не унимается Павел Ревмирович. — Забрось его хоть на Эверест, сей же час наладит отношения с симпатяжечкой из племени йети. Отмоет ее, побреет — они, говорят, сильно заросшие — и пойдет приобщать к цивилизации. Ему бы в космонавты, полетел бы на Марс отношения налаживать.
Насмешник Павел Ревмирович, озорник первостатейный, а только что-то уж слишком на Жорика последние дни нападает. Не иначе Жорин талант по части женских сердец тому причиной. Фрося не знает, как угодить, взглядом провожает каждое движение своего кумира. И когда только успел? Вроде бы и внимания особенно не обращал, и такой пассаж. Чудеса! Вечно сонный, с бараньими невыразительными глазами, разве только ресницы — мечта красоток записных. Правда, на скалах откуда что берется: четкость необычайная, плавность, какое-то скрытое, неведомое иным-прочим чувство скал. И во всей его повадке появляются тогда мягкость кошачья, пружинистость и… хищность. Если сравнивать, так уж с барсом, с ловким, бесстрашным, безжалостным снежным барсом, обитающим на самых недоступных кручах.
— Слушай, смени пластинку, — вяло отбрыкивается Жора. И Фросе, облокотившейся сзади на спинку стула и растерянно перебирающей его шевелюру: — Болтает разные глупости. Так устроен.
— Я так устроен? Угу. Допустим. Ты мне вот что скажи, как ты с марсианскими дамами будешь обращаться, если они, понимаешь, устроены не как наши, а?
…Золотисто-смуглый от горного загара, черногривый, черноусый красавец Жора Бардошин (свежие шрамы, повторяем, лишь сообщают некую новую черту мужественности его облику, без которой, пожалуй, сладковатым выглядел, чуть-чуть как бы на парикмахерский манер), в роскошной оранжевой штормовке из немыслимой ткани, разумеется, ветронепроницаемой, устойчивой супротив любых разрушительных воздействий, да еще с резким металлическим отливом, карманов с десяток, сплошь на «молниях», нашивки цветные и чертовски элегантная черная строчка! Фрося, разодевшаяся в пух и прах, глаза размалеваны, несмотря на раннюю рань, щедро залепленные тушью ресницы, пожалуй, по длине не уступят Жориковым, белокурые, густые и волнистые волосы распущены по плечам, и вся она покорная, тихая, а уж хороша, слов нет, что та, на финском сыре «Виола», которую Жорик, было время, клеил на ветровое стекло своего «Жигуля»! Контрастом ко всей этой неге демонстративная собранность Воронова, еще подчеркнутая холодным блеском выпуклых очков, — он руководитель группы, на нем ответственность за успех восхождения и за многое другое; да ему не привыкать, успел сжиться и с этой ролью, и с куда более престижными. Еще Паша, Павел Ревмирович, — живчик и слегка обормот, но верный товарищ, а уж весельчак каких поискать, что при его новой литературной профессии ему же и на руку. И Сергей… Взволнованный, возбужденный, полный неясных, невразумительных надежд, ожидания, бог знает чего еще… Если бы дано было заглянуть в душу его, в самое-самое, где вечная война между, казалось бы, совершенно и начисто взаимоисключающими свойствами его характера, вполне можно было бы сделать такой примерно вывод: одолеть вершину, совершить трудный этот стеновой маршрут — значит одолеть и что-то непростое, несчастливое в себе, свое неумение быть последовательным до конца, твердо исполнять однажды решенное — так, по крайней мере, надеется он сам и уверяет себя (не оттого ли и вечные осложнения в служебных делах и нелады с женой, боль, которую она, наверняка не желая того, причиняет, ведь он всей душой любит ее?)…
Рыжий дежурный подсел к столу, налил в свободный стакан чаю.
— Откуда пойдете? С восточного гребня?
Обо всем можно говорить в эти минуты перед выходом из лагеря, но не о восхождении. Не хочется выбалтывать сторожкое ожидание, что владеет каждым. Легко, пока строишь планы, даже когда готовишься, многое можно переиначить, а не то и вовсе (мало ли, какие причины) отменить. И совсем по-иному, когда наступает время действовать.
— С западного, — обрывая молчание, повисшее вслед за вопросом, ответил Воронов.
— Нет, правда? Куда ж по западному? Там стена…
— Закудыкал! Тебе говорят, чего переспрашиваешь? — озлился Павел Ревмирович. И нарочито будничным тоном, как если бы речь шла об обычном восхождении, каких за сезон совершается десятки: — Полный траверс Скэл-Тау будем делать. С запада.
Щебень хрустит под оковками ботинок. Из сереющей предрассветной мглы наплывает волнистая полоса кустарника. Нет-нет взблеснет влажная от росы грань камня. Четверо альпинистов, пригнувшись под рюкзаками, движутся вверх по ущелью. Идут молча, погруженные каждый в свои думы. Думы эти, как обычно бывает в начале пути, обращены к тому, что оставляют позади. Вьются вокруг лагерной жизни, цепляются за мелкие подробности ее, катятся от буден к будням, которые теперь, когда уходят от них, становятся как-то по-особому теплыми и милыми.
Сергей Невраев идет первым. В руках ледоруб, рюкзак прирос к спине, из-под клапана свешивается кольцами веревка. Мерно идет Сергей, укорачивая шаги, где круче, удлиняя на пологих участках. Нелепая мысль закрадывается в сознание: вернуться… «Сказать, что разболелись зубы, заколол аппендикс, что ни что. Вздор! Чушь! — гонит он минутную слабость. — Подвести товарищей? Сорвать восхождение, к которому столько готовились? Да что со мной?»
«Если бы хоть одно письмо, — словно оправдывается он и прибавляет шаг. — Почти месяц в Кисловодске, и только телеграмма. Перебралась в Гагру, во всяком случае, путевка у нее туда, тоже молчание, молчание…» Третьего дня была почта. Пошел встречать машину на развилку. Этот Рыжий ехал, увешан кино- и фотоаппаратурой. Накинулся с расспросами о восхождении, о Бардошине — вот уж не хотелось о нем говорить. А письма — всю почту перерыли — нет.
Ссора очередная перед ее отъездом. Так не хотелось расставаться. Фальшивил изо всех сил, демонстрируя беззаботность, едва не безразличие. «О чем писать?» — сказала она. А и в самом деле, какие события во время отдыха? Нарзанные ванны, процедуры, прогулка на какое-нибудь Малое Седло, обед, вечером фильм десятилетней давности. К тому же она действительно не любит писать писем. Взять карандаш и нацарапать несколько слов — да ей легче в трех балетах оттанцевать. Когда объявили: «Провожающим покинуть вагоны!», она слегка коснулась губами его щеки, он вышел на перрон, остановился у окна. Две женщины высунулись поверх опущенной рамы: одна, торопясь, объясняла про пеленки и тальк сердито супившемуся парню, другая подзывала мороженщицу. Регина сидела в глубине купе и поправляла прическу, глядя в маленькое зеркальце. Она так и не подошла к окну.
Понемногу, исподволь пересиливает Сергей тоскливое чувство, заставляет себя думать о восхождении, о скальном контрфорсе, который следует одолеть сегодня, о стене, не поддавшейся хитростям и отваге прежних восходителей, о том, что ожидает их завтра, через день, что начинается, что началось. Пять насыщенных до отказа дней, когда, штурмуя Скэл-Тау, они будут подниматься и спускаться, одолевать скалы и лед, высоту и непогоду; пять дней, к которым готовились, которых добивались, начали свой медленный бег.
На повороте в боковое ущелье остановились. Позади прощально светили огоньки лагеря.
ГЛАВА 2
Весело идти ранним солнечным утром по пояс в густой траве альпийского луга, перешагивать по черным камням тонко вызванивающие ручьи, чуя в набегающих сверху дуновениях запах снега, запах промороженных за ночь скал, запах высоты.
Ноги идут и идут, рюкзак не тянет плеч, руки приятно ощущают холодную сталь ледоруба. Он сейчас вместо палки, изредка, где покруче, обопрешься на него; но в ледорубе таится нечто от тех мест, для которых он предназначен, которым принадлежит. Это, наэлектризовывая плотно охватывающую ладонь, входит в тебя, и ноги все прибавляют и прибавляют шаг, не терпится скорее туда, где снег, где лед и ярчайшее солнце, где жизнь перемогает холод и только сильным дышится легко и счастливо.
Самое нудное, самое однообразное, скучное и утомительное на свете, конечно же, морена. Лезешь, лезешь, карабкаешься с камня на камень и что только не выделываешь, как не изворачиваешься, чтоб полегче да сноровистей было! И хребет свой в три погибели изгибаешь, цепляешься за что ни придется; а то по-обезьяньи пробежишь на всех четырех сразу; случается, чтоб равновесие не потерять, колесом завертишь руками-то. Камням же конца-краю нет: большие, маленькие и снова здоровущие громоздятся под самое небо. Некоторые, ступишь, шевелятся — пролежали вечность, и нет чтобы устроиться как следует. Два шага по гладкому как стол каменюге, следом задираешь ногу, оттолкнувшись нижней, перекатываешься на другой, что повыше. А он косой, скользкий, того гляди съедешь. Дальше десяток помельче, но все как-то врозь лежат, то ли дело рядком бы, вместе, нет — прыгай, и больше никаких! Рюкзак за спиной норовит, подлый, опрокинуть тебя, чуть зазеваешься и сделаешь какое непроизвольное движение.
Так оно и идет. Лезешь, лезешь, карабкаешься, цепляешься, а впереди камни все прибавляются и морена по-прежнему уходит в самое небо.
Вон до чего велик! А тот? Поди ж ты, четверти часа вроде не минуло, как по тому самому, гладкому как стол каменюге проходили. По кругу они возвращаются, что ли? Ну, прямо как две капли воды!
Поднялись к леднику.
Горы вокруг. Островерхие. С разорванными в частые зубцы гребнями. Тупые и будто горб верблюда. Перламутрово-розовые на утреннем солнце, в тени прозрачно-сиреневые. Белизна снегов и темнота скал, резкость контуров смягчается в тени. Скалы создают причудливый орнамент. Чем дальше и выше, тем неназойливее он. Совсем далеко едва различимым крапом проступает сквозь торжествующее сияние снегов. Горы одна к одной, одна подле другой, соединенные гребнями, расколотые пропастями, горы амфитеатром окружили широкую ледяную реку, сжимают ее в своих объятиях, дают ей жизнь своими снегами.
А в глубине, и выше всех и значительней, прекрасная, величественная Скэл-Тау вздымает в небо остроконечный купол. Ни морщины, ни тени на нем. Западный склон, очерченный тенью, кое-где испятнан скалами. Южный — крутой, гладкий и ослепительно белый — геометрическая плоскость, поставленная едва не вертикально, на чем только снег держится! Впрочем, зимними месяцами, да и летом, бывает, лавины грохочут там — вожделенный объект фотографов, гроза восходителей. Но теперь лавин нет, снега разнеженно молчат под утренним солнцем. Ниоткуда ни звука. Не цокнет камень о скалу, не зазвенит льдинка. Тишина. Ветерок. Снежное сияние.
Скэл-Тау. Глаза восторженно ловят ее очертания, любуются ею, как женщиной, о которой мечтал и вот наконец увидел, нашел. И она, как женщина, все чувствуя и ничего не замечая, спокойно и гордо принимает дань твоего восхищения, и манит, и зовет молчаливо, и притягивает тем сильнее, чем дольше глядишь на нее. Входит в сердце. Овладевает им. Царит… Отведешь взгляд и возвращаешься снова, смотришь, зачарованный, и не можешь наглядеться.
Нежная, бесконечно глубокая бирюза над головой пронизана светом, излучает свет, льет на горы. Воздух… его нет: что-то прозрачное, невесомое, напоенное солнцем и высотой вливается, в легкие, и бодрит, и пьянит, и придает всему, что ни есть, особый привкус свежести, неизведанной полноты… и счастья.
Восхитительное чувство свободы испытывает Сергей Невраев. Свободы от обид, непонимания, от ошибок, восстанавливающих против него самых близких, дорогих ему людей. Более того, ему кажется — от давней неразберихи и тягостных, напряженных сожалений о размолвках с женой. Конечно, едва ли не во всех осложнениях сам и причиной. Иной раз как специально выискивает беды на свою голову. Диссертация… Упрямое нежелание слушать чьи-нибудь советы…
А, да что о том, ушло. Ушло! Свободен… Другая теперь жизнь, у него. Иные заботы и — уверен — куда более важные, насущные в конечном итоге. Наверное, и в этой ипостаси для кого-то он жалок, смешон, но внутренне никогда не чувствовал так полно, что он при деле настоящем, необходимейшем, если на то пошло; пусть и неэффектном, карьеры, как тот же Воронов констатировал, не сделаешь, да только на Руси вечно выпестовывались, непонятно разве чьим усердием, люди, скажем так, странные, которые часто, сами того не ведая, выступали против своих же интересов, защищая бог весть какие такие идеалы. И как ни честили, ни истязали прежде всего свои, домашние, какие уничижительные наименования им ни выискивали, что ж, не в словах главное. Э-э, будет, не о том теперь думать надо. А о том, что — удивительное утро вокруг! Удивительной белизны горы и удивительно празднично это его чувство свободы. Недостижим!.. Хоть на какое-то время «жизни мышья беготня» осталась далеко внизу.
«Никто не может отнять у меня эти дни, — твердил, словно уговаривая себя, Сергей Невраев. — Дни честных, прямых усилий, дни, в которых нет, не должно быть места для интриг, подлости, гаденького мелкого недоброжелательства. Мы здесь надежнее, чем веревкой, связаны единым устремлением, целью, мечтой, если угодно. Чудесно — единение, хотя бы в горах…»
Жажда жизни кружит голову. Жажда огромных напряжений, жажда красоты. Да и как иначе? Взлеты скальных круч и обманчивая гладь сахарно сияющих на солнце фирновых полей, бездонные трещины ледника, гривы снега, настороженно повисшие над пропастями, — все суровое величие и мужественная серьезность гор, опасности, таящиеся в них, возвышают душу, будят то живое, горячее, что в состоянии противостоять им. Разве можно было бы находиться здесь, где подстерегает столько испытаний, можно ли, не чувствуя себя равным, нет — более сильным, чем пробудивший волю, и энергию, и сообразительность, и крутую силу противник — горы?
— Подтяни еще, — с заметной неохотой просит Жора Бардошин.
— Левее, левее, — подсказывает Сергей. — Теперь выше. Ногу выше. — И спустя немного: — Закрепился?
— Да…
— Можно идти?
— Погоди.
Сергей всматривается, подняв голову.
— Накинь веревку на уступ… Да нет, справа. — «Не видно ему, что ли? — недоумевает он. — Что-то с Жорой неладное творится. Невнимателен, заторможен, как подменили его».
— В порядке, Сергей. Иди.
— Давно бы! — дает волю своему недоумению Сергей. — А то спрашиваю: закрепился? «Да». А что «да»?
— Да, слушай, — словно бы вспомнил Жора, едва Сергей Невраев двинулся вверх. — Камень, который слева, «живой». Ясно? Я потому и чухался. Не хотел на твою голову спустить. Так что… давай правее.
— Давно я твой «живой» камень приметил. — На минуту поддавшись размагничивающей приязни, Сергей хочет добавить что-то еще, а что и сам не знает, и говорит обычное: — Я пойду сразу выше, останавливаться на твоей площадке не буду, ты… охранение сообрази. Воронов сегодня бдит, как никогда.
— Не беспокойся, все будет в лучшем виде.
Связавшись по двое, альпинисты поднимаются по скалам. Выискивают расщелины, уступы, полки и, где опираясь, где подтягиваясь или только придерживаясь, идут, подстраховывая друг друга. Не часто, и все же передний забивает крюк в трещину, если уж иначе нельзя, если обычное охранение ненадежно.
Однообразно звучат команды. Впереди Сергей: «Дай веревку», «Еще», «Охраняю, можешь идти». И опять, после того как Жора вышел к нему и закрепился: «Дай веревку». Иногда: «Следи внимательно, здесь неладно».
Воронов с Пашей поотстали. Не любитель Воронов неоправданного риска, а случайно спущенный верхней двойкой камень может понаделать дел. Да и напарник, Павел Ревмирович, сноровкой не блещет. Из них четверых он слабейший, хотя в горах уже порядочно и все с Сергеем. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Похоже, и альпинизмом занимается лишь потому, что Сергей любит горы. И все же когда еще в Москве обсуждали, кому с кем, Воронов без особой охоты, а настоял: ударная двойка — Сергей с Жорой, им прокладывать путь.
Перед выходом означенный вопрос явился снова. Некоторые особенности обнаружились, требовали корректив. Не то чтобы факты бесспорные, отнюдь нет, мелкие, противоречивые наблюдения, если на то пошло. Углубляться и выяснять Воронов положительно отказывался. Перетасовать же двойки в последний момент как раз и означало бы согласиться со смущающими этими наблюдениями, хуже — сделать выводы, на что Воронов пойти не мог.
(«Чего ей не хватает, — втайне удивлялся он, раздумывая о своей кузине. — Такая ласковая дурнушка была, голенастая, с большим ртом, задачки пустяковые да в ее-то училище, сто раз объяснял ей, доказывал, а она вместо того, чтобы сосредоточиться: «Все равно не пойму и не хочу понимать, гадость, гадость!» Или начинала свои фуэте и прочие па де грас. А там как-то вдруг, в год, расцвела. И как же был он доволен, что этот тюлень Сережа Невраев влюбился в нее; рановато строить семью, зато, полагал, убережет ее от ненужных сердечных трат. Разумеется, Сережа упрямый максималист, создает проблемы из ничего, но нельзя и как она: поклонники, капризы, мелкое лукавство, чуть что — изображать равнодушие и пренебрежение, а не то и стараться насолить. Нельзя это, ибо опасно».)
Итак, Воронов с его сильным логическим мышлением при всем желании не в состоянии был понять свою двоюродную сестрицу и еще, увы, что чужой опыт, в данном случае — его, горький, который до сих пор держит его в своем плену, ни о чем ей не говорит.
Перегнувшись назад, отведя тело от скалы, Сергей осматривается: «Метров десять до угла. Кстати, вон трещина подходящая».
Жора охраняет. Хорошо, когда товарищ виден; куда сложнее, если скрылся за скалой.
— В порядке. Иди.
Жора поднимается. Путь проложен, к тому же верхнее охранение, и все-таки Жора… что-то с ним неладно. Мешкает, а то, наоборот, будто под ним не крутизна и обрывы, не желает рукой придержаться. Сергей понемногу вытягивает веревку, молчит. В строгом спорте выбиться из режима, из тренировок равносильно тому, что оказываешься обузой. Еще хорошо, если только обузой. Неприязненное чувство подкрадывается. Долой это чувство. Но оно возникает снова. Из ничего. Как ощущение дурного сна, который не сохранился в памяти и все же смущает и тревожит.
«Ревнуешь? — звучит в ушах ее смех. — Ты к каждому готов приревновать, кто аплодирует, когда я на сцене. У тебя комплекс».
— Как там?
— В порядке, — после паузы отвечает Жора.
Подруги: одна замужем за популярным киношным актером (фестиваль в Каннах! громкий успех в Ташкенте); муж другой — беспардонный, самоуверенный грубиян, но профессор; Воронов опять же… А он, Сергей?.. Из института академического ушел, занялся чем-то, с ее точки зрения, нестоящим, несерьезным и уж тем более непрестижным. Что ж, согласен, согласен. Говорено-переговорено. И что поддался эгоизму, согласен. Положа руку на сердце, все правда. И тем не менее он убежден, что делает нужное дело. Должен же кто-то наплевать на так называемую научную карьеру и сделаться сторожем. Сторожить природу, охранять ее, вразумлять и словом, и доказательствами тех, кто не хочет видеть дальше своего носа. А нет, так бить по рукам. Он и выискался. И испытывает подлинное удовлетворение, если, пусть не сразу, в прожекте хотя бы, но какое-то махонькое чудо природы удается отстоять.
Скалы сменяет жесткий, крупнозернистый, переходящий в фирн снег. Склон в ямах, буграх. Будто кто-то гигантским плугом спьяну разворочал его, а солнце и мороз заледенили. Склон исполосован, исхлестан тенями, искры вспыхивают тут и там.
Ледоруб на изготовке. Где надо, опираешься на него. А то втыкаешь перед собой и, держась обеими руками, переставляешь ноги. Ярчайший блеск, сине светятся тени, пот заливает глаза, сохнут губы.
Снова скалы. Двойка Воронова впереди. Дело сразу идет на лад.
— Как?
— Давай, давай.
Ближние горы мало-помалу опускаются, открывая взору новые вершины. Они растут, их становится больше с каждой сотней метров подъема. И словно ты сам вырастаешь — ширится панорама. Когда же раскроется она во все стороны, не загораживаемая ничем? Ни склоном, по которому поднимаются двойки, ни скоплением скал справа, что закрыли и самую вершину Скэл-Тау…
Фирн смеется, звенит под ногами.
И опять скалы чередуются с крутым фирном. Такой он, контрфорс, не соскучишься.
Подъем то круче, то положе. Кое-где удается сколько-то пройти без подстраховки, одновременно, если фирн хорош, проседает, но держит. А то поднялся на свои десять-двенадцать метров и налаживай охранение.
Час, и два… И три. Фирн, скалы; снег в тени, и снова фирн; скалы… Взглянешь вверх, где небо плавно огибает искромсанную тенями белизну, и невольно задаешь себе вопрос: может, уже гребень и скоро пойдем по нему? Но гребень как пила с зубьями в десятки метров — увидим, гадать не придется.
Мысли Сергея — о Регине. Перед выходом столько забот навалилось, уж Воронов постарался, чтобы без дела не сидеть, только ночь оставалась для памяти, упреков ей, себе…
«Всегда испытывал нетерпеливое желание быть вместе. А получалось… Ее подруги, их разводы, свадьбы, дни рождения, просмотр и прогоны, заезжие знаменитости и ночные репетиции, потому что зал расписан по часам, и если что-то не ладится и необходимо пройти на сцене… Ее поездки на гастроли и мои командировки, в которые удирал от неладов, непонимания, от обид по пустякам, ссор… И все равно постоянная неутолимая жажда быть вместе. И действительность: идет на восхождение, а она — сперва Кисловодск, теперь Гагра».
Фирн местами основательно подтаял. Ноги вязнут, как в трясине. Где тень, хоть небольшая, — ледяная броня едва пробивается штычком ледоруба.
Скалы в тени обросли инеем. На солнце коричневато-оранжевые, теплые. В потеках льда. Лужицы снеговой воды отражают небо. Сдвинешь защитные очки, оно густо-синее, пронзительно синее, почти фиолетовое на границе со снегом и очень глубокое, той особенной яркой глубины, что бывает лишь над высокими снежными горами в прозрачно-ясный полдень.
Жора заметно «получшал», как не преминул высказаться Павел Ревмирович, обгоняя их, чтобы топтать снег. Замечать все и вся — его основное занятие. Высказываться — тоже, хотя и не всегда следовало бы это делать. Да, на скалах Жора почти прежний, ловкий, сильный, бесстрашный. Его стихия. Но едва начинается снег или фирн, Жора раскисает и уже не рвется вперед.
Рюкзаки тяжеловаты (Сергей — не парадокс ли? — отчасти даже рад тяжелому рюкзаку. Хотя вообще-то, что и говорить, можно бы и полегче). Обсуждали, кажется, самую распоследнюю мелочь, когда составляли списки. «Проживем, братцы, без второй фляги?» И если, пусть не сразу, после колебаний, решали, что одной большой флягой обойдутся, другая безжалостно вычеркивалась. Когда таким образом списки поджали, урезали, утрамбовали и прожиточный минимум был сведен к самому что ни на есть необходимому, снаряжение, продукты и прочее хозяйство собрали в кучу. И непосвященному ясно: этакое изобилие в четыре рюкзака нипочем не уложить. «Братцы» было сникли от извечной жизненной дилеммы — несовместимости желаний и возможностей, начали переругиваться; Павел Ревмирович выхватил чьи-то кеды из кучи, потряс ими над головой и швырнул в сторону с соответствующими примечаниями. Его поступок влил бодрость и заразил других духом реализма. Оживленно ругаясь, в восемь рук принялись раздергивать кучу. Поблескивая, летели миски и запасные бачки с бензином, консервы и удивительно удобные, но чертовски тяжелые металлические чехлы для кошек. Складной ножик Сергея, в котором штопор, ножницы, открывалочка для консервов и даже вилка имеется совсем настоящая… Нет, ножик Сергей все-таки прихватил. Так приятно вертеть его в руках, так приятно было покупать и думать о походах, о восхождениях… Ребята разошлись, стоит только начать, едва всю кучу напрочь не раскидали. Воронов, как самый благоразумный, вовремя остановил.
Место встретилось: не то что вчетвером, а и десяти хватит расположиться с удобством, как не воспользоваться! Сняли рюкзаки. Жора обрезок резиновой трубки вынул, присосался к лужице, пьет.
— Ты бы лимонкой подкислил, — заметил Воронов. — Дать тебе?
Жора без внимания. Павел Ревмирович хмыкнул, ни к кому в отдельности не обращаясь:
— В пьянстве не замечен, но по утрам пьет воду, много и жадно.
— Место в самом деле славное, — оглядевшись, констатирует Воронов.
— Как специально распланировано для дружеских завтраков!
Воронов справился с часами. И молча принялся развязывать рюкзак. Вынул сервелат финский, баночку немецкого паштета.
— Есть еще любители с речами выступать, — вспомнил Сергей как-то вдруг, казалось, без всякой ассоциации вчерашние потуги начлагеря.
— Что ж ты хочешь, приучены! — подхватил Паша, словно о том же самом подумал, и тоже рюкзак свой начал потрошить. — Речугу выдать по поводу, а тем более без повода, по высокому вдохновению — дело немаловажное. — Вытащил мешочек полиэтиленовый с черносливом. От буханки хлеба освободился. — Я бы даже сказал, важнейшее. Вкалывает иной дуралей по старинке в поте лица, толку-то, во всяком случае, для самого? Ты сумей показать! Призвать и нацелить. Особливо ежели еще фразочку какую эффектную, чтобы в газетах подхватили, — и на коне, то бишь на черной «Волге».
Разложили снедь, натюрморт получился — загляденье. Ножик Сергея весьма кстати: секунда — и консервы открыты.
— Небось югославский? — заметил Жора, выбирая помягче черносливину. — Колбаса финская…
— Зато сыр здешний. Называется «Российский», — сказал, закрывая тему, Воронов.
— Чай китайский, ром ямайский, вечер майский! — продолжал насмешничать Павел Ревмирович, укладывая на бутерброд с паштетом еще сыр. — Небось по личному распоряжению Нахал Нахалыча? Как он нас жалует. А все Воронов, его стараниями. Эх, есть — потеть, работать — мерзнуть!
— При чем тут Воронов? — вмешался Сергей. Удивляла и настораживала в последнее время растущая Пашина нервозность. — Восхождение такое!
— При чем тут восхождение? — быстро прожевав, отмахнулся Паша. — На балеты Воронов его водил, когда твоя Регина танцевала. — Он было остановился. — Ты что, не в курсе? Или уезжал? Жорик видел, сидят Воронов с Михал Михалычем в партере, а кругом толстосумы иностранные за валюту… — И опять запнулся при виде вытянувшегося лица Сергея и постарался замазать: — А то — восхождение! Восхождение: значит, что-то может случиться.
Воронов, словно оправдываясь:
— Продукты Бардошин добыл через даму своего сердца. Я никакого отношения к этому не имею, узнал лишь сегодня перед выходом.
— Это через Фросю, что ли? — сообразил Павел Ревмирович. Положительно, затмение на него нашло.
— А то! — хитро сощурился Бардошин. — Решил, Нахал Нахалыч? Держи карман. — У Бардошина зудит шов на губе, он нет-нет почесывает его, делая вид, что приглаживает усы. — А моя, значит, нахвасталась? Ну, я ей выдам!
Тщеславие Бардошина не может смириться ни с каким самым малым умалением начавшегося траверса.
— А балл! — кричит он на Павла Ревмировича. — Про баллы забыл? Нахалычу наши баллы во-о как требуются. — Он черканул ребром ладони по горлу. — Места в соревновании альплагерей чем определяют?
Воронов, как если бы обычный шум и следует унять расходившуюся молодежь:
— Что за крик, а драки нету! Споры во время еды неблагоприятно влияют на процесс усвоения пищи.
Сергей обескуражен: он и не знал про театр. Ни Воронов, ни Регина ни полслова. Считают пустым мечтателем, оторвавшимся от жизни. Но Бардошин?.. Ходит на балеты…
Паша — торжественным голосом начлагеря:
— Конфликты решаются путем прямого открытого голосования. Без помощи рук. — Имелась такая занятная особенность у Павла Ревмировича Кокарекина: огорошить на редкость точной имитацией.
— Кого в председатели? — подхватил Жора.
— Предлагаю избрать заочно нашего беззаветно любимого Нахал Нахалыча, — нашелся Паша. — Кто за, вздохните с прискорбием. — Четыре дружных вздоха слились в один.
Началась игра, в центре которой оказался начальник их альпинистского лагеря Михаил Михайлович. Его изображали выступающим на собрании. Павел Ревмирович превзошел самого себя — уж на что Воронов, не симпатизировавший такого рода забавам, и тот не смог удержаться от некоего кхеканья, изображавшего смех. О том же, из-за чего сыр-бор, похоже, вовсе забыли, как сплошь и рядом случается в нашей разноликой, наполненной до краев жизни.
Ну а если разобраться, думает Сергей, ничего из ряда вон выходящего. Реалист Воронов шагает в ногу со временем. Удружил билетиками, похвастал сестрицей. О продуктах, конечно же, не хлопотал, другой уровень задач. А Жора… Жора ревностный почитатель балета?
Михаил Михайлович в недавнем прошлом заведовал некой базой, да то ли не потрафил в должной мере кому следовало, то ли какая иная накладочка произошла, а только, несмотря на весь его опыт и природную осторожность, пунктуальность, а также безусловное умение вертеться, пришлось оставить родную его душе ниву снабженческой деятельности. Но Михаил Михайлович недаром слыл человеком предприимчивым, опять же скольким в свое время помог с планом справиться, предоставив просимое, скольких, можно сказать, облагодетельствовал из одной сердечной потребности творить добро (какой-нибудь ящик коньяку нельзя же ставить ему в интерес), — постучал туда-сюда, и что же, устроили до лучших времен на подвернувшуюся должность начальника альпинистского лагеря.
Деятельность негромкая, с крупными соблазнами не связанная, опять же от не в меру любопытных глаз подальше. Пусть себе отдохнет, подышит горным воздухом, решили его покровители, с интеллигенцией поработает: давно требуется порядок навести.
Михаил Михайлович требовал прежде всего, чтобы приход-расход и прочее тютелька в тютельку. Отчетность вовремя, и значит, комар бы носа не подточил. «Это, значить, основное, — говаривал он. — А «антеллигэнция»? Тоже мне задачка про бассейн с трубами! В крепких руках и интеллигенция правильные песни запоет. По горам желают? Давай, можем разрешить, но, во-первых, значить, проценты, баллы эти, за ради чего лазают-то и страх принимают, чтобы сполна приносили; во-вторых, ставлю задачу перед личным составом вверенного мне альплагеря: долой разгильдяйство! В двадцать три ноль-ноль всем, значить, по койкам разобраться и никаких чтобы потерь производственного оборудования. За кирки, как их, ледорубы эти, крючки разные и прочее в утроенном размере будем вычитать. Подчеркиваю: в утроенном!»
— Да-а, школа, — качал головой Воронов. — А до чего осторожен, едва дело самого коснется. Спроси его, который час, — полчаса будет соображать, нет ли подвоха и можно ли так прямо ответить.
— Сюда бы его затащить! — заметил Сергей, вспомнив быстрые маленькие глазки, прячущиеся в склеротически набрякших веках, глазки, в которых навеки, кажется, отпечатались подозрительность, и недоверие, и какая-то особенная, не ради чего-либо из ряда вон, но органически присущая ему плутоватость. И еще, как же так: ну да, Воронов водит этого прохиндея в Большой, да, но Жора, Жора Бардошин, что же, оказывается, стал настоящим балетоманом?
— Вертолетом, — подхватил Павел Ревмирович. Очень ему по вкусу картина: Нахал Нахалыч на скальном гребне. — А вниз пускай сам катится. Небось проняло бы, кошки-мышки! Трепаться о какой-нибудь дерьмовой веревке, оставленной после дюльфера, он мастак: «Безответственное отношение! Была бы собственная, уж постарались бы!» Иззудит, уши вянут. А что за нее жизнью можно поплатиться, ему начхать, бумажная душонка!
— Ты чересчур, — вступился Воронов. — Поставь себя на его место. Материальная ответственность. Нашему брату дай волю — все снаряжение растащат и побросают где придется. Страна наша богата, спору нет, однако порядок соблюдать необходимо. Он и жмет и распекает… для порядка. К тому же в горах Михаил Михайлович человек новый, обтерпится со временем.
— Сколько он нас вчера мутузил! — не уступал Павел Ревмирович. — Одно и то же! Одно и то же! А язык, фразочки!
— Ты чего записывал-то за ним? — стряхнул Жора дремотное оцепенение.
— Как же, сплошнячком находочки для нашего брата журналиста. Тот еще типажик. «Наш советский человек стремится к вершинам знаний, вершинам экономических достижений…» Так, что ли, Воронов? У тебя память на все сто. «А вы стремитесь к вершинам советской земли!»
— Я смотрю, чего ты строчишь? — задним числом недоумевал Жора. — Поглядел на Нахалыча, тот пуще прежнего соловьем разливается, небось решил, корреспонденцию о нем сочиняешь.
«Хозяин должен быть хозяином, — не соглашался внутренне Воронов. — И каков он ни есть, все лучше, чем разноголосица толпы. Разумеется, наш Михаил Михайлович умом не блещет, да и человек он случайный, пересиживает свое трудное время. Так что в данном случае лишь повод для размышлений. Однако характер у него имеется. Изворотливость. Мыслей нет. Частое явление».
— Хотел ему высказать при всем честном народе, как о нем понимаю, — продолжал Павел Ревмирович, — да ладно. Еще с восхождения снимет. Конечно, наш маршрутик ему очень и очень на руку, только ведь и баллами может пожертвовать, если сильно озлится. Его «я» превыше всего. Поди тронь. Сколько мы с Сергеем тренировались, на лыжах бегали, в каменоломнях по весне вверх-вниз меня гонял, и собаке под хвост? Нет уж, я не Жора, которому что стену штурмовать, что… Ладно, замнем для ясности. Вон, уже закемарил наш барсик.
Жора Бардошин и вправду склонил буйную головушку на право на плечо, прикрыл ясные очи и посапывал, раздувая усы.
Воронов взглянул на часы. Время-то!
Разомлевшие от еды, от немилосердно палящего солнца альпинисты взвалили на плечи рюкзаки, разобрали ледорубы, связались.
— Жора, а Жор! — Пашин голос.
— Чего тебе?
— Лежать бы теперь на пляжике в прелестном окружении да байки про горы сочинять, а?
— Ты! — словно бы пнули в лицо, дернулся Бардошин. — Ты… Ты думай, когда шуточки свои шутишь…
ГЛАВА 3
Час. И еще час. Короткие, роздыхи и работа, работа. В основном скалы. Кое-где передутый всеми ветрами порошкообразный снег, вытаскиваешь ногу, и крохотная лавинка образуется, через десяток метров замирает. А то досками крепчайшими надуло, держат прекрасно. Только уж если поедет такая доска… Но больше скалы. Привычнее, надежнее скалы и меньше неожиданностей. Не говоря уже, что для Жоры скалы — стадион, на котором привык срывать успех. Тем не менее Воронов как-то уж слишком пристально наблюдает за ним.
Неурядицы кончились как будто. А то утром, только вышли, еще темно было — здравствуйте! — у Павла Ревмировича шнуровка на ботинке лопнула. Немного погодя снова неполадки: Жоре намял спину неправильно уложенный рюкзак.
— Соображать надо, когда укладываешь! — распекал его Воронов. — Напихал абы как, теперь — извольте радоваться — ждать приходится тебя, время попусту тратить. Вчера нет чтобы пораньше лечь, выспаться как следует! Когда ты вчера явился?..
Еще час. Еще…
Поднялись на гребень.
И вместе с широкой панорамой гор и далью, голубой и розовой под палящим солнцем, и массой воздуха иное совсем настроение: пусть это лишь часть большого, ступень к твоей цели, а все же — сделано.
«Конечно, одолеть подъем на гребень не бог весть какое достижение, — умерял Сергей свой пыл. — До вершины идти да идти, до вершины еще далеко. Стена… Как-то удастся одолеть ее?» Но разыгравшееся воображение, сообщая чувствам первозданную остроту, отодвинуло опасения.
Ледник по ту сторону гребня до чего широк, огромен! С утренним, на морене которого поотшибали ноги, сравнения нет. Падающая тень, повторяя очертания гребня, отсекает от ледника вовсе небольшую часть. Чем дольше смотришь, тем полнее ощущаешь его величавую ширь и многообразие подробностей. Тонюсенькие канавки-рвы, кипящие потоками талых вод. Навалы морен по бокам. Трещины паутиной расползлись на повороте у внешнего края. Потом различаешь отдельные камни на его поверхности — интересно, каковы они, с человека или с дом ростом? От некоторых протянулись заметные тени, должно быть, ледяные подножия увеличивают высоту. И все это так глубоко, что упади — никогда не долетишь до низа. И горы со всех сторон, горы. Вершины Скэл-Тау не видно. Гребень, громоздясь кверху, запертый мрачной, грозной стеной, закрывает вершину.
— Стой так! Слушай, я тебя сниму. Будто меня охраняешь, — загорелся Жора, налаживая фотоаппарат.
— Да ну, ни к чему, — воспротивился Сергей.
— Тогда ты меня. — Он протянул свою японскую зеркалку.
— Эт-то сколько угодно!
Воронов вышел. На нижней страховке. Скользнул стеклами защитных очков вокруг. Тщательно опробовал ногой камень. Крикнул Павлу Ревмировичу, встал на охранение.
Сергей сидел, опираясь спиной о камень. Приятно было отдыхать и смотреть на горы, на Воронова, как он выбирает веревку по мере приближения своего напарника, мягко, уверенно, методично. Приятно было ни о чем не думать, смотреть и смотреть…
— Подумать только, — услышал Сергей простецкий, беззаботный голос Паши Кокарекина, — стеночку нам подарили. Невинная стеночка, трогали ее, пытались, а не далась. Самыми первыми будем. Не что-нибудь, а первопрохождение!
Воронов защитные фильтры на лоб сдвинул, нацепил вместо обычных очков другие, для дали, и рассматривал стену. Ни тени восхищения или хотя бы почтения при виде отвеса в добрую сотню метров. Ему бы англичанином уродиться, характер по расхожим представлениям в самый раз. Паша и прозвища придумывал, а не привилось ни одно. Воронов да Воронов, Александр Борисович и то редко.
— Я вот думаю, кошки-мышки, в распрекрасное времечко мы живем, — продолжал Паша, не желая расстаться с темой, которой и сам прежде сторонился отчасти из внутренней скромности и присущего ему целомудрия, а если затрагивал, так с осторожностью и необходимым пиететом, никогда не позволяя и намека на тот фарс, которым, похоже, упивался теперь. — Можем наслаждаться незагаженными уголками нашей необъятной Родины. Стеночку симпатичненькую невинности лишить. Жора у нас мастак по этой части. — И на Жору внимательнейшим образом, почище, чем Воронов на стену, уставился.
— Захожу как-то в Жоркину лабораторию, а его нету, умахал в Питер якобы в командировку. Лаборантка, хорошенькая такая, пухленькая, глазки, носик, Галкой зовут, сидит перед клеткой с морскими свинками и грустно рассуждает: «Уж каких производителей подсаживала, не беременеют, и только, а нам срочно эмбрионы нужны. Придется Георгия Рахметовича ждать, без него не обойтись».
Воронов не улыбнулся даже; Жора, казалось, и вправду уснул. Один Сергей вежливо раздвинул губы.
— Да-а, — разочаровано протянул Паша и все внимание на Сергея. — Представить только, что здесь будет лет этак через полста. Подъемники на вершины, как в Швейцарии, кочующая из отеля в отель привередливая публичка, которой за ее трудовые подавай максимум удовольствий. Что, Сереж, будущее представить нельзя? Даже и завтрашний день не угадаешь? Но ты-то весь в завтрашнем дне. Ради него и хлеб жуешь. Что отмахиваешься, не так, что ли?
— Наш Невраев — аристократ духа! — усмехнулся Бардошин. — Он духовной пищей жив, а ты ему про хлеб!
Паша, Павел Ревмирович, с какой бы радостью сцепился сейчас с Бардошиным, выговорился бы… высказал, что о нем думает… Мысли неслись, беспокойные, будоражащие, вокруг Сергея; оттолкнувшись, кружились на месте, приводя Пашу в странное, нелепое замешательство, когда противишься признать до конца, да и не имеешь к тому достаточных оснований, отрицаешь и не можешь избавиться от стыдливого какого-то, подленького ощущения… «Смехотерапия — вот что нужно. Расшевелить, рассмешить, чтобы не переживал так уж, не куксился. Подумаешь, принцесса! Ну, ножками дрыгает завлекательно, ну, очаровашка… А Сергей, бедолага, глядеть тоска. Да в тысячу раз лучше найдем, была б охота. Знаю, знаю, и понимаю, и скорблю, и восхищаюсь, и все такое прочее. И очень бы хотел что-нибудь сделать, помочь, но что сделать? Как помочь? Воронов… на стенку пялится. Жорку-поганца мог запросто отмести, предлог хлеще некуда: умотал чуть не перед самым восхождением. Ан нет, в математике док, и в альпинизме в первые ряды пробиться ему надо. (Без Жорки на стеночку облизнуться бы пришлось.) И все-таки, неужели ничего не замечает? Не хочет замечать? Или верит лишь тому, что можно взвесить и просчитать? Сам сгорел однажды, теперь боится и думать, не то что действия какие предпринимать. Уперся в эту самую терра инкогнита… Почище стеночки будет. Сказать, кто есть кто, нельзя, мы на восхождении, но как, как быть?.. Ждать, чтобы само разрешилось?..»
Распирало Павла Ревмировича желание вывести на чистую воду «поганца», язык чесался. Все сильнее ненавидел он Жорку и все с большим трудом подавлял жегшее его, требовавшее выхода чувство. Нервничал, перехлестывал явно со своими шутками-прибаутками и все равно чуть ли не непрерывно тараторил — всякую паузу заполнял его насмешливый звонкий голос.
— Слушайте, слушайте! Меншиков отписывал из Англии царю Петру: «Аглицкие девки, ледями прозываемые…» Дальше и вовсе непристойности.
Разъярясь, что Жорка ноль внимания, напрямую к нему:
— Смотрю я, основательно тебе физиономию разукрасили. Пара швов, зубы на проволочной скрепке… А ты-то хоть сумел постоять за себя? Сквитался с нахалами? Небось из-за женщины, признайся, а? — В данном случае любопытство его отнюдь не от праздного ума. Замысловатые сюжеты сплетаются в буйном его воображении из пустяковых на первый взгляд, как бы ничего не значащих фактов и фактиков. Другой вопрос, насколько близки к действительности его домыслы. И совсем уже далекий и маловразумительный: нужно ли вообще лихое это знание?
— Не тревожься! — усмехнулся Бардошин сатирически, полный неясных угроз. — За мной не заржавеет. Придет время, сквитаюсь. И проценты не пожалею, — бахвалится он.
— Как же ты говорил, что с лестницы свалился? — ловит его Павел Ревмирович.
— Говорил? Зачем тогда спрашиваешь? — перестает улыбаться Бардошин. — Выходит, с лестницы свалился.
Павел Ревмирович, сам не зная почему, прекращает этот разговор, перекидывается на общие темы. А там на Сергея:
— Надоело Сергею Васильевичу разную не заслуживающую внимания мелочь под микроскопом разглядывать, за глобальные проблемы взялся. Экология! Макромир! Сохранение окружающей среды! — трещит Павел Ревмирович. — Земля, воздух и вода!.. Мне и пришла идейка: может, горы тоже в Красную книжицу включить? Чтобы уж никто и ничего. Как, Сереж, насчет гор? В частности, с этой стеночкой? Сдается мне, наш главный скалолаз умучен своими подвигами, ему бы поспать парочку суток… в изоляторе. Может, обойдем по низу? Как рекомендовали. Оставим для потомков?
— То есть почему оставим? — Небрежную Жорину вальяжность как ветром сдуло. — Да я ее зубами, если хочешь знать! На зубах влезу. Я только из-за стенки вернулся. Был бы у меня этот траверс с первопрохождением… Ты нюни свои брось.
Сергей смотрел на укрытый тенью мрачный силуэт. Трудный орешек. Орешище! Хорошо, Жорино стремление не угасло. Будем надеяться, утренняя расхлябанность пустое. Мысли не допускает, что стена не удастся. Чего-чего, а самолюбия хоть отбавляй. Зимой, помнится, перестал звонить, вообще как в воду канул, даже на тренировки не являлся. Уж потом Регина объявила, что обидели его. Да, на день рождения они с Региной были приглашены. В ресторане Дома кино торжество имело место быть. И почему-то не пошел. Не лежит душа… Тем более должен быть внимателен. Предельно внимателен и терпелив.
И — о Регине. Опять о Регине. И опять не оправдаться пытаясь, не объяснить даже, но непременно доказать выстраданную свою правоту.
Вернулся из командировки. В поезде мечтал, как будет дома. Звонил из Архангельска, выступлений у нее нет, весь вечер проведут вместе. Намыкался за полтора с лишним месяца по домам колхозника, по общежитиям в леспромхозовских поселках. Наденет серые вельветовые брюки, свежую, слегка отдающую лавандой рубашку; мама, конечно, приготовила жаренную в тесте индейку, пироги — всякий раз, когда возвращается, мама должна устроить маленький лукуллов пир. Он расскажет… Ведь победа, пусть не окончательная, не с разгромным счетом, выражаясь спортивным языком, и все же. А то произносят высокие слова, будто ни к чему не обязывающий ритуал совершают. А он возьми и продемонстрируй свои таблицы. Цифрам верите? Вот вам цифры, страшные!..
Но у Регины и цифры, и то, что они выражают, ничего, кроме скуки и протеста, не вызовут — было, пытался, — а потому незачем с места в карьер портить отношения. Возмутится, что идет наперекор общему порядку вещей, «донкихотствует», по ее выражению, так что легче надо, веселее. О разных смешных злоключениях, глядишь, и удастся навести мосты, она же добрая и по-своему тревожится о нем, а ее нападки…
Непременно легко, беззаботно рассказать, да хотя бы про моториста-пьяницу: как перед порогами — а вода большая была, несло — обязательно стакан должен принять, не то, говорит, не попасть на слив, руки не слушаются. О старике Питириме: едва начинаются весенние ростепели, уходит в лес, выискивает токовища, гоняет глухарей, чтобы уберечь от охотников. Самого пристрелить грозились, да он ловчее, и тока всякий раз пусты. О чинушах, которые во все тяжкие кидаются, лишь бы проценты в сводке сияли. «Имеются еще у нас отдельные товарищи…» — есть такая, кочующая повсюду фразочка. Паша обыграл чуть иначе: «В отдельном магазине нет «Отдельной» колбасы». Ладно, не стоит муссировать. А вот о Питириме… Может, хоть такими примерами Регина проникнется, поймет и перестанет считать меня за дурачка. «Всем мешаю. Науку бросил!»
Почему науку? НИИ свое — да, оставил. Сам, по собственному разумению. Наука же… ослепляющий ореол у этого слова. А если без предвзятости… По крайней мере, в его родном заведении… Дамский коллектив, интриги, мелкое недоброжелательство и сплетни, в которых тонут благие намерения, достоинство, стремление выгородить правое дело, жить хотя бы с сознанием честно исполняемого долга; служебные происки престарелого шефа, его страх перед какими бы то ни было переменами, страх не угодить в министерстве и одна нет-нет проглядывающая забота — удержаться наперекор годам и своей неодаренности, — о какой науке может идти речь?.. А та история с диссертацией, обернувшаяся нежданно-негаданно бог знает какой грязью?.. И это в ответ на искреннее его желание помочь, пусть в ущерб себе, но сделать доброе для человека, которому предстоит нечто весьма и весьма неординарное, как тогда предполагалось.
Наука!.. Демонстрировать, как ты занят, созидаешь, творишь, «с ученым видом знатока хранить молчанье в важном споре»… Еще отчет вовремя пропихнуть. И чтобы полный ажур в отчете, как у Михал Михалыча, тертый калач, знает, что почем. Из пальца высоси, из прежних работ, чужих или другого института (все равно никто вникать не будет), но странички должны быть заполнены. Да сумей списать под благовидным предлогом неиспользованное оборудование, изничтожь разные ненужные химикаты. А там снова целый год можешь слоняться по коридорам, обсуждать с дамами, где что давали и какие сапоги элегантнее — австрийские или югославские, сплетничать по поводу и без повода и, не торопя событий, пробиваться к постам. Так было с наукой в его лаборатории. Преувеличение, карикатура, скажут иные? Что ж, «в отдельном магазине нет «Отдельной» колбасы».
С отвращением и болью думалось в иные скверные предутренние часы: наука слепа, наука — великая обманщица. Она создает вторую, внешне покорную, в конечном же итоге вырывающуюся из-под контроля, неуправляемую природу, противопоставить которой можно лишь нравственность, совесть, порядочность, то бишь весьма уязвимые, с невероятным трудом создаваемые критерии. Что еще? Страх? Силу?..
Правильно, что ушел. Правильно, правильно! Нужны не кандидатские, которые ничего ровным счетом не двигают, ни на что не влияют, кроме зарплаты, и которые и не читает-то никто, разве только очередной соискатель. Нужно дело. Работа нужна.
…И не потому, что он лучше других, вовсе он так не считает, но потому, что, зная, что происходит, да хотя бы бассейн Онеги взять, не в состоянии жить сторонним наблюдателем, словно бы отражал Сергей в который раз нападки своей жены.
Заодно рассказать Регине, как по редакциям мыкался. Был как-то разговор, давно, не разговор даже, так, к слову пришлось: отчего Паша не напечатает что-нибудь о балете и о ней, в частности. Она права: заручиться поддержкой газеты — насколько все дальнейшее оказывается проще. А секретарь горкома!.. Ведь не хотел идти, загодя уверенный, что бесполезно, бессмысленно. Но уязвленное чувство справедливости, возмущение — отмахиваемся от азбучных истин, сами себя сечем, рубим сук — заставляло, понукало и сподвигло: добился приема. Горячо, пожалуй, даже излишне, с излишними резкостями выложил про молевой сплав, про задубленную воду и много чего еще. Секретарь слушал, хмурился, молчал. Не его забота сплав, разве что кубометры, и не удержался, сам пошел костерить: свыклись, правилом стало — поменьше затрат и хлопот сегодня, план главное, план, а завтра… Наука придумает, наука подскажет. Всякий раз Америку наново открывать приходится. Бассейн Онеги обезрыбел. Собрания, партактивы, выпуск мальков и галочки в ведомостях… А ларчик-то прост. Сидел в царские времена в низовьях контролер или там инспектор, не в названии суть, да следил, чтобы ни одного неошкуренного бревна в сплаве не было. Штрафовал почем зря лесопромышленника. Денежки тот платил свои, не из государственного кармана. И река сохранялась.
У нас что ж, у нас все для народа, для государства. Никакой сплавной начальник нажиться за счет невыполненных операций не может. В принципе, скажем так. Ошкуривать же — работа трудоемкая, кубометры сразу полетят. Результат: плесы Онеги выстланы многометровым слоем затонувших неошкуренных бревен и корья, которое таки обдирается само на многочисленных шиверах, порогах, стремнинах. Вода задублена, ценные породы рыбы в Онегу на нерест уже не заходят. И если бы в одну Онегу…
Сергей стоял у вагонного окна, по стеклу неслись дождевые капли, смотрел на мерцавшие и исчезавшие во тьме огоньки, на затянутое тяжелыми тучами небо, осевшее к земле, на провода, чуть подсвеченные из окон, плавно и быстро поднимавшиеся вместе со столбами, а то опускавшиеся, если поезд мчал по насыпи, и мечтал уже не только о доме и радости встречи, но как непременно убедит Регину, докажет ей, вызовет ее сочувствие, интерес! Кажется, начнет говорить и не остановится, настолько переполнен. Должна, не может не проникнуться его болью, его горением и радостью, еще бы: кое-что удалось несомненно.
Сколько ходил по инстанциям, доказывал, убеждал и отчаивался, покуда не встретил истинно понимающего и, главное, любящего свой край человека. Местный, из-под Архангельска, для него вопросы эти свои. Сам принялся вспоминать: Лоховое, деревня была на притоке Онеги, материнская родня из тех мест, — ни лохов уже, ни деревни… Пойди-ка восстанови. Научи жить в глухоманных уголках по разным Ундошам, Няндомам, Нименьгам. Пожар в лесу — от мала до велика кидались тушить. Без вертолетов обходились. Знали, как куда пройти, где болото сухое, где что. А всякие грибы, брусника, клюква! Ведь бочками в «Овощных» стояли.
Строил планы, делился предположениями, как заново осваивать края, когда-то порядочно населенные, — целиной оказались. Кампания в конце пятидесятых по укрупнению была. Снимали людишек с насиженных мест, везли в низовья рек, в устья, укрупняли. А то ни почту вовремя доставить, ни на выборы голосовать. Попрятались по медвежьим углам, единоличники! Зимой мероприятие осуществлялось. Кто упирался — трубы печные долой, и вся недолга.
…В радужном настроении возвращался Сергей из затянувшейся чуть не на всю осень командировки. Тут еще повезло под конец: ушанку пыжиковую на рынке купил, мода у женщин на мужские шапки пошла, маме тоже — брусники страшное количество, грибов сушеных и меховой коврик к кровати. А вышло…
Когда уже совсем за полночь разошлись ее гости, начался спор.
— Да разве я против друзей! — риторически восклицал он. — Но эти? Где, в какой комиссионке ты их заполучила? — И, становясь в позу этакого надо всем и вся судии, совершенно несвойственную ему и, как сам догадывался, проигрышную, изливал праведный гнев: — Хвастливая трепотня, кто в какой загранице был и что привез, а гонор!.. Друг с другом и то цедят сквозь зубы. Презрительные переглядывания: еще бы, не знаю названий фирм, которыми они бредят. Раз на ногах у меня мосторговские ботинки и вернулся я не из командировки в ФРГ… Такая прелестная женщина и вдруг жена…
Вся гордость поднялась в нем, неукротимая, горькая, обрекавшая его на одиночество, на молчание, которому он еще пытался не поддаться. (Хорошо, мама пяти минут не просидела за столом, ушла. Старательно прятал от нее любые нелады. Но удавалось ли? Во всяком случае, делала вид, что ничего не замечает. Когда же при ней разгоралась ссора — тотчас вставала на защиту Регины, и как же благодарен был ей за это.)
— Я делаю святое дело! — не оправдывался, не объяснял он, но клеймил жестким и в то же время несчастным голосом. — Сотни проб, замеры, экспресс-анализы, практически все сам, лаборант никудышный, никогда столько не работал, зато собрал материал, доказательства. Самое главное — встретил человека умного, отдающего отчет в том, к чему мы можем прийти…
Она пыталась что-то сказать, но его несло:
— Конечно, в понимании подобных любителей шика моя работа ничто. Денег шальных не дает, престижем не пахнет. Конечно, дурак, кто верит во что-то, кроме фирменных джинсов… И какой апломб! — билось и прорывалось ревнивое его возмущение. — «Виталий отдыхал на Золотых песках», «Виталий привез диски с записями…», — уже стыдясь своих обвинений, понимая, что легко может быть обвинен в закостенелом ретроградстве, тем не менее выплескивал он. — Бескостные немужские руки, шкиперская бородка…
— О да, разумеется, — тотчас воспользовалась она его неуверенностью. — Кто носит бороду — дурной человек. Абсолютно бесспорный признак. — И как бы между прочим, тем снисходительным тоном, который приводил его в неистовство: — Если хочешь знать, Виталий умница, у него блестящее будущее. Диплом МАИ, два языка, теперь заканчивает экономический.
«Виталий умница! Виталий заканчивает экономический!» — раскачивалось в сознании, и било, било, и тупо, надсадно отдавалось в висках. Что теперь? Уйти? Уехать куда глаза глядят? Наверное, это был бы выход для нее, может быть, и для него тоже. Но он так торопился в Москву, домой; мечтал покрасоваться проделанной работой, целую речь едва ли не впервые в жизни готовился произнести; наконец, так ждал встречи с нею, с таким изнуряющим нетерпением жаждал ощутить прелесть ее тела…
— На что же существует этот Виталий? По виду никак не скажешь, что студент! — с резкой, издевательской интонацией кидал он. Обидой было наполнено его существо. Обидой и недоумением еще и потому, что позволяет себе недостойные эти вопросы.
— Не беспокойся, у тебя денег не попросит, — роняла она. — А вот ты мог бы, если бы оказался посообразительнее, обратиться к нему и не с такой просьбой.
— Нет уж, уволь. Как-нибудь просуществуем. — Он заметно сник. Обвинения в адрес Виталия жгли его.
— Вот оно, твое безразличие и беззаботность! — не утерпела она.
Он решил промолчать.
— У Виталия немалые возможности, — она хотела заставить раскаяться в каждом его слове и в то же время… Да мало ли что она хотела еще, но прежде всего: пусть спустится на землю и поймет, кто есть кто. — Было бы желание, помог бы тебе найти получше поприще…
— О чем ты? Что ты говоришь? Я оставил микробиологию, потому что считаю наиважнейшим…
— «Я считаю!» — передразнила она. — Что ты теперь? Мне совестно признаваться, когда спрашивают, кто мой муж. Лесник не лесник, объездчик лесной? Свое дело бросил, в чужие лезешь.
Из какого-то упрямого, гордого сопротивления, под которым задыхалась, и билась, и рвалась наружу неумирающая надежда, вернулся к своим нападкам:
— Итальянский вермут, шоколад… Он принес? Как же удается ему так роскошествовать?
До чего соскучился и истосковался! Последние дни только и думал, и воображал, как встретятся, как все будет. Улыбнется той своей, дарующей радость и счастье улыбкой, и жизнь снова полна, и он ручной и послушный, вспоминал он, уже уверенный в ее смирении, в желании прекратить глупейшую перебранку. И останавливал себя. Нельзя, чтобы ее логика торжествовала. Не логика… Какая к шутам логика! Чужие, чужие мысли, чужие взгляды!..
— Боже, до чего ты наивен! Сколько тебе лет, а ведешь себя… — снисходительно говорила Регина и останавливалась, словно раздумывая, продолжать ли. — Отец Виталия занимает крупный пост. Во Внешторге. Кадры! Ты понимаешь, что это значит? Если я попрошу Виталия… Я уже кое-что узнала. Биологи им нужны. Не совсем то, что ты, но слегка переквалифицироваться нетрудно. Виталий все сделает. Он очень, очень добрый. Помогает своей бывшей жене.
— Алименты? — наугад сказал Сергей.
— Хотя б и алименты. Мог бы уклониться, что со студента возьмешь. Он же сейчас студент. Вообще, вопрос совсем в другом. Виталий стремится к высокому положению. В отличие от тебя. Накапливает багаж. Диплом экономиста к тому, который у него есть, — и широкая дорога открыта. Уж он бы не бросил кандидатскую неизвестно почему…
— Эгоист и сноб твой Виталий! Надутый сноб с наманикюренными ногтями! — взорвался Сергей. Как она умеет вставить о самом болезненном, самом непереносимом. — Жалею, что не спустил с лестницы, стоило бы!.. — И дальше чего-чего только не наговорил. Ставит в пример людей, не вызывающих не то что симпатии, но в высокой степени олицетворяющих то самое, от чего бежал. И при чем тут жертва? Никакой жертвы, во всяком случае преднамеренной, он не приносит. И не требует ни от кого. Он хочет засыпать с чувством, если угодно, исполненного долга. Никакая это не декларация, казенные фразы он сам ненавидит, что же делать, раз четкие, емкие определения выхолощены и затасканы донельзя. И опять в том же ключе, понимая, что лишь сильнее отвратит ее от себя, и не в состоянии сдержаться. Всем нутром предчувствуя, что будет жалеть, будет искать примирения, и расходясь больше, жарче, словно подстегиваемый возмущением и ревностью, в которой нипочем не признался бы и себе, и, пожалуй, уже с отчаянием выкрикивал ужасные свои прописи.
— Ты не смеешь! — наконец не вытерпела она. — Кто ты сам-то? Кто о тебе слышал? Реку замусорили, скажите пожалуйста, событие! Без тебя разберутся. Лучше бы о доме подумал, сколько нам ютиться в одной комнатушке? От матери твоей житья нет, так и вынюхивает, с кем я да куда пошла. Небось закидала письмами…
После он лежал на диване. Она спала. Наверное, он и впрямь безнадежно заблудился, отстал, смотрит со своей колокольни. Вспомнил, как спешил в Москву, часы считал, и вот поссорились. Он виноват, его дурацкая несдержанность.
Полегче, попроще, с юморком, как теперь принято. Вон Паша, плохо ему, хорошо, а все хвост морковкой. Тебе делают пакость — ты улыбаешься; высмеивают — смеешься заодно со всеми. Не должно быть себя особенного, ни на кого не похожего. Конфликтующего. Что-то наперекор всем и вся отстаивающего, отрицающего… И будет отменно хорошо, рассуждал он с горькой укоризной. Она танцовщица, она модница, легкомысленна, окружает себя людьми, глубоко несимпатичными ему… Все равно она над ним хозяйка. Вот он лежит сейчас и тоскует по ней. А дождь льет и льет теперь уже за окнами его московской комнаты. Он лежит и, слушая ее дыхание, ждет бесконечно далекого утра, и его упрямое, бессонное сердце не может смириться.
Зима минула, считанные недели только и виделись. Он осторожничал, старался уходить от рискованных тем. Характер не переделаешь, опять же профессия, профессиональные особенности. «Балет — это образ жизни», — втолковывал ему Воронов. Конкуренция жесточайшая, с очаровательной улыбкой иголку в сердце всаживают. Уже не говоря, что, если не целиком, полностью не отдаваться своему искусству, быстрехонько окажется лишней. Она и старается. К тому же способности, честолюбие. И Воронов рассказал, сколько было слез, чуть ли не умирать собралась, когда не прошла в Большой. Поначалу все как нельзя лучше — и конкурс и отношение. Но вакансий мало, кто-то, что-то — и приняли другую. Каково юной душе смириться! Тут Воронов как раз кому-то пособил при поступлении в институт. А из неудачи кузины тайны не делал. И презент: «Зачислили. Условно». Следует отдать справедливость, дальше все сама. Талантом, настойчивостью бог не обидел.
Новый виток: в толпешнике не танцует, сделали солисткой. Куда больше приходится заниматься. Раньше нет-нет и пропустит утренний класс; последнее время, даже если не выспалась, зевает, в половине десятого сумку через плечо и из дому. Еще поездки за границу, будь они неладны…
…Счистили просоленный зимний лед на московских улицах, подошло время всерьез к альпинистскому сезону готовиться, к задуманному восхождению. Воронов «со товарищи» частенько собирались у них, фильмы прокручивали любительские, обсуждали разные разности. Ей развлечение. Терпеть не может оставаться одна. Тут Жора Бардошин зачастил…
Оглянешься, вся наша жизнь в расставаньях, обидах и нечастой пронзительной радости, раздумывал Сергей, словно новая, еще более долгая разлука угрожала ему. Слишком многое происходит, когда далеко друг от друга. Да, верно, исчезают, как не было их, мелкие нелады, пустяшные ссоры, прощается и то, чего не сумели одолеть в свое время; но не уходят, не забываются, занозами саднят холодность, стремление продемонстрировать характер в те считанные минуты перед посадкой ли в самолет, на вокзале перед отходом поезда, когда, фальшиво и растерянно бодрясь, ждешь взмаха руки, улыбки, и нет их, ни улыбки, ни взгляда.
Прощайтесь на пороге вашего дома и не оглядывайтесь, не смотрите вслед, не подгоняйте потом время, не стройте иллюзорных планов и не ждите, не надейтесь ни в коем случае, что после изнурительной разлуки судьба ниспошлет вознаграждение.
Любите весело, шутя. Как, наверное, чудесно и необременительно, какую тьму радостей должно приносить, если следовать великолепному этому правилу, и, конечно же, никаких огорчений. Да только, увы, от себя не убежишь, свою натуру не так-то просто перекрутить. Что же касается нашего героя и его переживаний, а точнее невзгод, которые он прямо-таки с изощренным мастерством, словно бы специально выискивает на свою голову, — ничего не остается, как следовать вплотную за ним, браня его и осуждая, и, может быть, иной раз и сочувствуя.
Воронов с Жорой и Павлом Ревмировичем обсуждали стену. Мирно, без подтруниваний и издевок и без излишних преувеличений. Покуда еще неблизко до нее, в косом скользящем свете солнца каждая выбоинка как на ладони, а глазу не за что уцепиться. Ни расщелин, ни уступов, ни полочек, ни сколько-нибудь заметных трещин — монолит.
Фотографии, которыми располагали, были нехороши. То есть все мило и красиво: фигуры их предшественников на первом плане, позы, атрибуты снаряжения — все выразительно и картинно. Но стена лишь фон, на других снимках и вовсе не в фокусе, либо залита прямым солнечным светом и непонятна; а то, как полчаса назад, в глухой, непроглядной тени.
Жора нащелкал и телевиком, и широкоугольником, с фигурами и без. «Будет что показать, чем похвастать», — радовался он.
«Будет, будет, — соглашался Воронов. — Небольшое предварительное условие следует соблюсти: одолеть ее. Благополучно. Задачка-то по плечу?»
Сомнения вызывала у Воронова еще и прежде сама идея штурма стены по директиссиме, в лоб, теперь и подавно. «Железа» прихватили немало, а все равно, хватит ли? Забивать через всю стену шлямбурные крючья, подниматься на стременах?.. Жора, на которого вся надежда, в свою очередь, отлично видел и осознавал, что задача сложна, но тем большую жажду разжигала стена в нашем асе, обещая шанс выдвинуться сразу в мастера экстра-класса.
Воронов искал и надеялся, что отыщется не замеченная прежде расщелина, на худой конец трещина вертикальная, и послужит той основой, которую использует расчетливый восходитель для успешного штурма. А копнуть глубже, так и еще: хотя Жора Бардошин более или менее выправился и перед ними был снова лихой и удачливый скалолаз, бахвалился почем зря, как проходил нависающий карниз там-то и стенку с отрицательным уклоном там-то, Воронов не то чтобы совершенно не верил ему, но… — и это будет точнее — перестал доверять; и еще и потому с особенно пристальным вниманием вглядывался в грозный монолит, стараясь решить какие-то свои вопросы.
Поели. Небольшой пережорчик, как выразился Павел Ревмирович, запихивая в карман рюкзака пластиковый пакет с грудинкой. Внизу в обычной обстановке не тянуло вовсе к копченостям, во время восхождения лакомством оказывалась завяленная до каменной твердости копченая колбаса или грудинка. По кружке талой воды, подслащенной шиповниковым сиропом, и:
— Пошли? — Жоре не терпится к стене поближе подобраться.
Павел Ревмирович с неохотой:
— Успеем, день велик. Все равно нынче стену не начнем.
— Почему не начнем? Можем сколько-то подняться, веревку навесим, завтра по готовенькому.
Торопливость не в характере Воронова:
— Идем с опережением. Видно отсюда хорошо. Так что давайте… форсировать темп не будем. Следует постепенно втягиваться в нагрузку.
Погода отличная, по идее надо пользоваться и нажимать, но тактика есть тактика, тут с Вороновым не поспоришь.
Жора рассказывал шумное, победное, адресуясь к Воронову. Да, конечно, вслушавшись, понял Сергей, о своих успехах в соревнованиях скалолазов в Крыму. Воронов с закрытым ртом бубнил какую-то мелодию. Сергею казалось, вот-вот узнает… И отлетало… Внезапно в памяти явилось. Рихтер играл до-минорный концерт Рахманинова.
После бури страданий, сомнений и тревог, после мучительных поисков и обманчивых находок, и новых освобождающих страданий — взлет аккордов, подхваченный всем оркестром, слияние в торжествующем финале. И долгая пауза — зал еще охвачен музыкой, еще живет во власти образов, созданных ею, но кончилось колдовство, творец его опускает усталые руки — вот-вот вспыхнет овация… Регина зашептала, наклонясь: «Посмотри, в ложе дирекции Виталий. С ним… Это жена… — Она назвала ничего не говорившую Сергею фамилию. — Не понимаю, что Виталий в ней нашел? Вычурное платье, безвкусная прическа…»
Сергей, обрадовавшись неизвестно чему, во все глаза силился разглядеть Виталия и его даму. Но повскакали с мест, ринулись по проходу к сцене, где кланялся, и улыбался, и благодарил, и снова кланялся артист, и ничего, кроме неистовствующей в стремлении выразить свой восторг, свое властное поклонение толпы, не стало.
«Как в ней уживается? — думал он теперь. — Она же глубоко чувствует и переживает музыку, ее танец певуч и нежен. Как хороша она была бы в «Умирающем лебеде». А ведь станцует. Непременно. Пройдет какое-то время… Тяжелы и высоки первые ступени, но их она одолела. Может быть, ей вообще не следовало выходить замуж? Может быть, мужчинам и женщинам, чье призвание искусство, лучше выбирать в спутники жизни тихих и покорных? Что ж, — сказал он себе, — иной раз надо отбросить любые свои возмущения и прочее роскошество и честно взглянуть в лицо фактам. Хотя это-то и есть самое трудное».
— Сергей? Посмотрите на него! «И в грезах неведомых сплю!..» — пропел Жора ерническим голосом и кинул конфету.
Сергей дернулся поймать, при этом едва не свалился с уступа, на котором так удобно устроился.
— Дырявые руки! Лови еще.
— И мне. — Павел Ревмирович присоединился.
— «Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне…» — напевал Жора, раздав конфеты и разворачивая свою. — А угрохать вниз мог бы запросто, — сказал с непонятным одушевлением. — Ножки свесил! Конфетка-то, видал, турманом полетела. И ты бы вслед. Не боишься в ящик оцинкованный сыграть?
Павел Ревмирович конфету недоеденную выплюнул.
— Ты что, кошки-мышки, белены объелся? Чего ты тут каркаешь? — Он уперся покрепче ногами в камень.
— Ничего не каркаю. Объясняю, что не у себя дома в кресле… — Жора перегнулся вниз. — На ящик-то еще насобирать надо. Эвон клыки. Одни лохмотушки останутся. Ну, да мы народ неленивый, — криво улыбаясь, шутит он. — Для молодой вдовы постараемся.
Сергей задержался взглядом на Жоре. Солнечные фильтры с неприятными зеркальными отсветами скрывали его глаза; усы разделены двумя полосками рубцов, белых от глетчерной мази; прямые черные волосы (каску он снял) сбоку скреплены заколкой, под нее еще подсунута веточка барбариса; Фросин подарок, подумал Сергей и, чуть-чуть усмехнувшись, отвернулся, словно не придав значения Жориным выпадам.
Воронов тоже нацелил свои диоптрии на стену и ни звука. Свет невыносим, Воронов сморщился, и крупные, очень белые, как снег в складках камня, зубы выглядывают наружу — правильный, прочный, не поддающийся никакой напасти, не разъедаемый никакими переживаниями Воронов. И Павел Ревмирович (оба в стандартных серо-зеленых штормовках), Паша Кошки-Мышки зовут его в альплагере за частую эту присказку, однако последнее время все больше по имени-отчеству величают, хоть и самый молодой и озорной, и, пожалуй, несдержанный. Начлагеря ввел в обиход столь неординарное обращение. Разведал, что Кокарекин к журналистике имеет отношение, и сразу с подчеркнутым уважением и приветом: «Как вам здесь у нас нравится, дорогой Павел Ревмирович? Не будет ли каких пожеланий с вашей стороны, Павел Ревмирович?» И другие вслед, но, конечно, совсем с другой интонацией. А Паше и горя мало, хотите так, хотите этак, сделайте одолжение.
Что-то на нервах нынче Павел Ревмирович. Впрочем, все нынче на нервах. Первый день, не впряглись покуда как следует. А так, что же, совершенный порядок. Погода — не сглазить бы. А уж красотища кругом!..
Золотистые скалы. Ни пятнышка зелени или лишайника не оживляет их. Но нет жестокой бесчувственности камня в этих скалах под жарким солнцем. Голубые пятна снега в тени. Горячий блеск фирна. Воздух — океан воздуха. И синее-пресинее безмерной глубины небо. Все весело, мажорно…
Но так на солнце. Стена же…
Воронов размышлял. Злая выходка с Сергеем… Конечно, любые нелады обостряются во время восхождения. Хотя по идее нечему особенно обостряться. Было, расспрашивал Регину. Или с тех пор нечто произошло? Непонятно.
— Пошли, — сказал Воронов. И, словно советуя, предложил к совершенному удовольствию Жоры Бардошина: — Пожалуй, неплохо бы Жоре первому идти. Так сказать, возглавить нашу четверку. Ты как, Сережа?
ГЛАВА 4
Солнце печет, в штормовке как в шубе: расстегнуть, сбросить ее совсем хочется. Натруженные мышцы ноют. Плечи, грудь будто чужие. Но мало-помалу все приходит в норму. Плечи перестают поддаваться грузу. Ноги разошлись, шагают как надо. И мысли только о восхождении.
Где потруднее, движутся попеременно, охраняя один другого. Перебрасываясь словом, двумя. Нужными. Не до болтовни. На легких участках идут одновременно. Лишняя веревка смотана и перекинута через плечо. Передний ощупывает ледорубом подозрительные места. Не быстро идут, зато почти без остановок.
Мощный снежный карниз висит над северной стеной. Метров на пятнадцать выдается, а то и больше. Как только и на чем держится? Крикни, кажется, и вся неверная громада рухнет. Так вот не сообразишь, где что, ступишь на карниз… А идти надо. Миновать его нельзя.
Двойки связались. Первым двинулся Воронов. Он спустился немного, чтобы быть наверняка на гребне, и, поочередно вбивая носки ботинок в плотный, почти не отмякший на жарком солнце снег, опираясь на ледоруб, начал траверсировать крутизну. Веревка с мягким шуршанием змеилась за ним. Воронов прошел с десяток метров, что позволяло рассчитывать на надежность страховки, сильным ударом вогнал глубоко в снег ледоруб, обернул вокруг древка веревку, приготовился охранять. Не спеша все, основательно, как надо.
След в след прошли за ним остальные нехитрое, но рискованное место.
Дальше предполагали встретить скалы, и кошки не надели поэтому — чего там надевать да снимать. Но скалы будто отодвинулись. Невиданно узкий и длинный, обледенелый гребень впереди. Хочешь не хочешь, пришлось подвязывать кошки.
Странное это было хождение. Осторожно ступаешь левой ногой по одной стороне ледяного ножа, правой по другой, деликатно орудуешь ледорубом и привороженно следишь за товарищем впереди — весь собранная в комок решимость: сорвется если, кинуться самому по другую сторону гребня, спасая его, спасти себя. Нервы, слух, зрение — все, что связывает с окружающим миром, напряжено до предела, и до предела натянута незримая нить, крепче веревки соединяющая двух людей, — чувство, ощущение друг друга. Идешь как по буму, только там в метре, в двух земля, здесь же за отсвечивающим зеленью, отполированным ветром и солнцем лезвием ледяного ножа — глубина. Она не гипнотизирует боязнью, не тянет в себя. Она несоизмерима с привычным глазу. К тому же так сжато-стремительно летит время, столь многое требует внимания, что Сергей уже не думает о своих переживаниях.
Вышли под скалы. Сняли кошки, уложили. Ногам сразу легче. Воронов сверился с кроками. Все правильно, здесь следует ночевать. А светлого времени еще порядочно, часа три с гаком.
Жора лужицу нашел, присосался, пьет.
— Смотри, лопнешь! — шлепнул его сзади Павел Ревмирович.
— Лишнюю нагрузку сердцу даешь, — на свой лад прокомментировал Воронов.
— Ничего-о! — отирая подбородок и разглаживая усы, возразил Жора. — Рванем по скалам, выпарится.
Паша Кокарекин, Сергей и, конечно, Воронов пить не стали. А пить хотелось, влаги потеряли достаточно.
Жора, словно поддразнивая их, развязал грудную обвязку, стянул через голову свою роскошную штормовку, ковбойку и плескал на себя водой, весело отфыркиваясь.
— Что ты делаешь? — раздался истошный вскрик Павла Ревмировича.
Бардошин замер как был, с растопыренными руками. Голова медленно поворачивалась, как если бы позади нависла смертная опасность и, сделай он неосторожное движение…
— Кожица обветрит, котик Барсик, не знаешь разве? — с укоризной стал объяснять Павел Ревмирович. — Смотри, какой ты у нас красавчик писаный, хоть и порвали губу! — И назидательно, даже еще пальцем помахивая для пущей важности: — Береги себя и свою кожицу и не мойся на ветру.
Сергей Невраев тоже воду обнаружил во впадине: что значит целый день солнце. Фляга армейская с собой, наполнил без труда. Напрасно вторую не взяли, конечно, груз, зато не пришлось бы вечером растапливать лед для чая, бензин жечь.
Воронов возразил:
— Ничего не напрасно. Здесь ночуем.
Жора, как если бы и впрямь кипятком его обдали, подскочил на месте: да как же так? Чуть ли не полдня впереди! Погодка лучше не бывает, и сачковать? Да знай он раньше, он бы…
На Сергея оглянулся. Сергей сзади стоял, почти за ним. Оглянулся и каким-то сбитым взглядом окинул.
Воронов завел волынку, все разумные, содержательные доводы, но главного — пустой траты времени — оспорить не мог. И тут произошло непонятное. Непонятное и непостижимое для Воронова: Сергей встал на сторону Бардошина. Мягонько, в присущей ему манере, без всякой настырности, твердо высказался, что под стеной, как известно, имеется площадка, здесь же, покуда выгородят — палатку разместить, да те же часы и прокрутятся, не говоря уже, что прямой смысл начать штурм стены со свежими силами утром, и так далее. И Воронов лапки кверху. Надо же, удивлялся про себя Павел Ревмирович, Воронов согласился. А Сергей-то?.. Ну и ну! И все же, когда Воронов столь легко пошел на попятный… Одним словом, кошки-мышки, лес густой.
Тощий, нескладный с виду, с не в меру длинными ногами и болтающимися, не находя себе места, руками, с вытянутым лошадиным лицом, типичный акселерат Паша, то бишь Павел Ревмирович Кокарекин — хлебом не корми, дай побалагурить, вытворить что-нибудь этакое, чтобы животики надорвали. Даже Воронов, невозмутимый и пунктуальный, воплощение ревнивой приверженности к порядку и дисциплине, к тому же доктор наук, а посему приличествует соблюдать хотя бы видимость дистанции, ну и руководитель их разудалой четверки, Воронов и тот не мог избежать подтруниваний и не всегда безобидных Пашиных выходок. Исключение составлял разве один Сергей. С Сергеем Невраевым ни тени панибратства. Не то чтобы не получалось, а и не тянуло шутки устраивать. Особое, не поддающееся однозначной расшифровке чувство, и уважительное очень, и теплое, более того — полное трепетного, восторженного почитания, и сдержанное, как всякое истинное чувство, испытывал Паша Кокарекин к Сергею. Понадобись — костьми бы лег за него. Не раздумывая.
В юности ищут идеал для подражания, часто по смутной жажде недостающего в себе… После второго курса Паша Кокарекин волею судеб оказался в альплагере на Кавказе. До той поры и в мыслях не держал никакой альпинизм, все как у других — «Бони М», дайкири… Разве что в отношении «герл» выбивался Паша из принятого стандарта. Почему — может быть, сумеем дальше объяснить, теперь же не время. Итак, попал наш весельчак в горы. Поначалу решил: та же шатия, а присмотрелся, принюхался — нет. На восхождении новичок вроде него под камнепад по дурости угодил, ну, не так, чтобы очень, а все же — тут и раскрылось, и ощутил с удивлением и жаждой: вот оно, товарищество, о котором старые фронтовики, снисходительно поглядывающие на молодую смену, за шкаликом поминают, то самое, измордованное на всех танцульках, выхолощенное парадными словесами, к чему тем не менее тайно тянулся и напропалую осмеивал. «А что я с этого буду иметь?» Или: «А зачем мне это надо?» — расхожие формулировки, которыми при случае не прочь был щегольнуть, остались там, откуда пришел. Сергей Васильевич Невраев, инструктор, без долгих слов взвалил дурака того себе на плечи и дотащил, считай в одиночку, до самой хижины. Паша и еще один пытались пособить, да, пожалуй, больше мешали.
Сергей Васильевич вообще душеспасительными беседами не занимался. Взглянул пристально и без тени улыбки, когда Паша еще до того привычным манером попробовал открутиться от какого-то поручения, и Пашин задор иссяк. Потому иссяк, что уж очень Сергей Васильевич, как бы сказать, такого склада… Никакого бахвальства, ни там стремления оттеснить, оттереть плечом или столь обычного, что и отчет себе не отдаем, желания переплюнуть ближнего своего в чем ни в чем. Мало этого? Мало, хотя б на первых порах?
Уж Паша институт окончил, протрубил сколько-то на заводе, пытал свои силы в спортивной журналистике, кстати, довольно успешно, с Сергеем виделся часто, летом альплагерь, зимой горные лыжи, покуда в командировки не стало его носить, а чувство почитания, восхищения, влюбленности не проходило. Понимал: нелегко складывалась семейная жизнь Сергея, знал о разочаровании в научной работе и, хоть душой целиком на его стороне, допускал, однако, что необязательно было Сергею бросать насиженное место, может, как раз следовало перетерпеть, перемочь, чтобы остаться в своем деле. Легковерен больно, раздумывал Паша, не умеет быстро распознать, что под внешней формой таится. Или от врожденной порядочности это? Заподозрить в подлости и негодяйстве считает недостойным. Грудью на защиту Бардошина — да куда это годится!
Время внесло свои коррективы, но не разочарование, не охлаждение. И время же привело ученика и учителя к дружбе, несмотря на разницу лет и темпераментов, вопреки затаенной неудовлетворенности одного и несколько аффектированному жизнелюбию другого. Время привело, но дружба подразумевает равенство. Оно возникло тоже в горах, в вое ветра и томительной тревоге, когда сутки, и двое, и трое — шесть нескончаемых суток сидели они в крохотной палатке, точнее, в прорезиненном мешке, едва поместившись на выступе терявшейся в облаках, обледенелой после внезапного ливня скалы, отрезанные гладким, прозрачным, твердым как стекло льдом и бурей от всего мира, без продуктов, без надежды на помощь — ни рации с собой, ни сигнала никакого не дашь, — сто пятьдесят без малого часов все только снег да снег, мчащийся вокруг, стекающий струйками по отполированной глади, в короткие минуты затишья заваливающий палатку, а там снова ветер рвет прорезинку из рук, ледяная крупа сечет ознобленную кожу, грохот близких лавин и стоны, и всхлипы то ли ветра, то ли уже свои или товарища, но нет — прижавшись друг к другу, отогревая друг друга, поддерживая веру и терпение, не позволяя один другому отчаяться, сдаться, плюнуть на свою жизнь, пересилили бурю, и холод, и собственную судьбу…
— Хватит солнечные ванны принимать, — с неподвижным лицом распорядился Воронов. — Я пойду с Бардошиным. Идем одновременно. Будь внимателен, Жора. На гребне зевать некогда, в случае чего, не забудь: прыгать надо. Не перепутай, на какую сторону гребня. С тебя станет.
Связавшись — Воронов с Жорой, Сергей Невраев и Паша, — двигались по гребню. По длинному, трудному гребню, перегороженному скальными башнями-жандармами, не каждую обойдешь, штурмовать приходится, непростая, долгая работа; а то и вовсе разорванному, рассеченному провалами, вверх, и вниз, и снова вверх, ближе и ближе к стене — громоздясь в небо, подобно неприступной крепости, сторожила она не только вершину и подходы к ней, но, казалось, и всю округу, и само небо.
Горы пылают, и багрянцем озарены дымные облака над ними. Другие, что дальше, будто и не горы вовсе, так прозрачны, легки и нежны они, что кажутся сотканными из цветного воздуха.
Краски меняются быстро и незаметно. Всякое мгновение они ярки, но не режут глаз. Что в живописи было бы приторно-сладким или грубым, здесь мужественно и нежно в одно и то же время, и самые рискованные сочетания убедительны и лишь острее подчеркивают особенности и тембр каждого цвета. Закат в горах… Разве о нем скажешь?
Из ущелья поднимается облако. Очень белое, розовое, голубовато-серое, оно отражает меркнущие в тени северные склоны, белесый затихший восток. Клубясь и разрастаясь, таинственной, всепоглощающей массой облако выливается из ущелья, ползет по морене. Укрыло ледниковое озерцо. Тронуло ледник… Нет ледника, не осталось живой застывшей реки. Ничего нет: однообразное, ровное, чуть колышется белое море. Островами выступают сразу ставшие невысокими горы — вершины их.
Сергей смотрел, впитывал эту умиротворяющую красоту. На душе становилось тихо, грустно, светло. Смотрел на медленно подвигавшуюся впереди двойку, оборачивался и видел Пашу — пользуясь остановкой, тот что-то строчил в своем блокноте; переводил взгляд на Жору Бардошина, лупившего что было мочи по крюку. Крюк ровно и тонко запел, а Жора все бил, бил, словно желая загнать его полностью, чтобы и карабин нельзя было продеть. «Ох уж этот Воронов, нипочем не допустит никаких вольностей в страховке, иззудил бедного Жорика, — мысленно ополчился Сергей на своего родственника. — Только увы, почти во всем Воронов оказывается прав: не послушайся мы с Пашей, пройди еще одну веревку — и точнехонько оказались бы под их маршрутом. А камушки сыплются, минуту назад какой «чемодан» Жорик спустил».
И снова смотрел вокруг, стремясь вернуть состояние успокоенности и мира. Но то ли вид Жоры, подстегнувшего карабин к крюку и лихо, с показным озорством перемахивающего с одного еле понятного уступчика на другой, тому причиной, то ли еще почему, а только вместо освобождающего сердце согласия нахлынули тревога и озабоченность.
До стены еще порядочно, хоть и придвинулась, полнеба загородила мрачная ее громада, и все же нынче дойти вряд ли удастся. Пора разбивать лагерь, но не видно места даже присесть. Скальный гребень круто идет вверх, круто обрывается в обе стороны. Справа еще куда ни шло; слева же, на север, ледяные стены переходят одна в другую. Плотные небольшие облачка плывут. Они — холодный пар, но мнится, то сугробы снега, пушистого, мягкого… Нелепое чувство подкрадывается… Гонишь и не можешь полностью освободиться. Оно преследует, навязчивое, как ночной кошмар: «Спрыгнуть туда и потонуть в снежной мягкости, ничего не видеть, ни о чем не думать, не помнить, не жалеть…» И вот ведь приходится повторять себе, что абсурдно, дико это непонятно откуда взявшееся желание…
Ушла связка Воронова. Двинулись Сергей с Пашей. Перестегиваясь с крюка на крюк (где там выбивать, ломом не вытащишь), одолели крутизну. Дальше не лучше. Каменные зубцы в рост человека насекли гребень, расщелины раскололи его. А светлого времени осталось всего ничего. Оказаться застигнутым темнотой на маршруте? Вынужденная ночевка в нерасставленной палатке, притулившись на какой-нибудь полке?..
Воронов понимал: маху дали с гребнем. Ситуация диктовала. Так он себе объяснил и не желал более к этому возвращаться. Сердило другое. Существующее описание сделано группой, шедшей в обратном направлении, минуя стену. Бодро-весело, надо полагать, у них получалось; где круто, дюльферяли — то-то и в отчете понаписано что бог на душу положит. Это распространившееся как болезнь очковтирательство, стремление выхвалиться за счет других раздражало. Но еще более Бардошин. Страховку не соблюдает, приходится следить и заставлять, идет абы как, сплошное легкомыслие и зазнайство. Уши прожужжали: талант! Второй Хергиани! Гордиться будем, что вместе хаживали. Двойки перекрутил, рассчитывая, пойдут с Жорой в высоком темпе, наладят, где необходимо, основательную страховку, чтобы Сергею (рюкзачище у него!) с Павлом Ревмировичем было проще; засветло выйдут под стену, разобьют лагерь.
Воронов ничего не собирается захватить, покорить в суровой борьбе, не принимает всерьез никаких озарений, сверхчеловеческих усилий и подвигов. Он тщательно все рассчитывает, старается максимально исключить риск. Романтический хаос не его стихия. Но талант есть талант, и, хочет он того или не хочет, временами, помимо воли, восхищается Жорой Бардошиным. И тем настойчивее его намерение ввести этот талант в определенные рамки, оградить себя и других от опасных случайностей.
Сергей Невраев согласен: урок преподать необходимо, только не теперь — боком может выйти теперь любая учеба. Время, время сейчас дорого. Время и все-таки — солидарность. Сергей шикал на Павла Ревмировича, а тот кипел, пускался в резкости: нагнав первую двойку, принуждены ждать, покуда они там выяснят, кто прав, кто виноват. А время летело.
Когда же наконец открывалась возможность двигаться второй двойке, застоявшийся Павел Ревмирович — скорее, скорее! — мчал, перестегиваясь с крюка на крюк, скрывался за каким-нибудь углом или выступом, и тут что-то снова задерживало. Сергей никогда, кажется, столь не нуждался не в общении даже — в молчаливом присутствии рядом другого человека, как в эти минуты. Только бы выйти из-под атак колючих своих вопросов, терзающих догадок. Жгли и делали все вокруг безразличным, необязательным, лишенным смысла и значения. Нельзя позволить себе подобное состояние. Но одно дело понимать и знать, и совсем иное — следовать своему знанию.
…И опять Пашу не видно, обходит скалу. Подрагивает веревка, понемногу вытягивается слабина. Но ты один. С особой очевидностью сознаешь, что здесь, в поднебесье, ты лишь гость, вторгшийся незваным. Веревка просится из рук. Выдаешь ее. Это вдруг явившееся занятие бодрит. Веревка замирает. Она неподвижна. Смотришь по сторонам. Неестественно ярким румянцем рдеют знакомые вершины. Темнота, хоронившаяся в глубоких теснинах, в нагромождениях скал, выползает, щупальцами протягивается по кулуарам, с каждой минутой решительнее заволакивает долины, поднимается к вершинам. Ночь близится. Тревожный, грустный, озаренный зловещим багрянцем одинокий час.
«Быть вместе, — нечаянно дает себе волю Сергей. — Дома, и чтобы мама смотрела передачу «Здоровье», а мы пусть молчали бы по разным углам, пусть что угодно…» И переводил на то, что сейчас. Всматривался. Вслушивался. Приглушенный, откуда-то из пространства вокруг возник голос Воронова, но сам он не виден. Паша тоже. Впереди скалы и скалы без конца. Колючим силуэтом взрезают они красное небо.
«Зря не остановились на ночлег за вторым «жандармом», — возвращается Сергей к общим заботам. — Язык не повернулся предложить, да и Жора: Жора рвал и метал. Оставшаяся позади площадка казалась не просто хорошей — превосходной. — Вот так, — с невеселой иронией констатировал Сергей, — отказываешься от того, что само идет в руки, а после жалеешь. — И перескакивая на свое: — Хотела же Регина, чтобы я ехал с нею, звала, настаивала…»
«В описании гребня, — вспоминал Сергей, понемногу выдавая связывающую его с Пашей веревку и поглядывая на Воронова — показался наконец-то порядочно впереди, — в описании гребня определенно говорилось, что места для ночевок имеются. Значит, не одно, не только площадка, которая осталась внизу». И легче вроде бы даже не столько от успокоительных этих соображений, сколько еще потому, что товарищи здесь, с ним, на виду, можно перекинуться словом, другим, пробрать Пашу: то скорей, скорей, едва веревку успевал выдавать, то мешкает.
— Как там, в порядке?
— Иди, Сереж, полный ажур.
Подтянулся к Павлу Ревмировичу, еще целую веревку с ходу прошел.
Паша явно в ударе, пять минут, и уже тут как тут, еще и крюк на пути вытащил (неужели забит на авось?). Опер рюкзак о скалу, поглядел на Сергея, на стоявшего неподалеку Воронова, на веревку, уходившую вверх к Жоре Бардошину, который опять открывал шествие, и:
— Что, как дальше?
Жора, появившийся высоко над ними, вместо того чтобы наладить охранение и дать возможность идти Воронову, привалился к скале, словно отдыхать надумал.
— Здрасте пожалуйста! — не утерпел Паша. — Чем залюбовался?
— Как с ночлегом? — спрашивает Жора, ни к кому определенно не обращаясь. — Не видно подходящего ничего.
— Вопрос по существу, — неожиданно поддержал его Сергей. — Каково будет высочайшее мнение?
Но Воронов — не в его правилах заниматься разговорами, пока не налажена страховка, — Воронов ни звука.
Так они стояли некоторое время: Бардошин наверху, на неширокой, но достаточно удобной полочке, соображая, как ловчее себя вести, чтобы в любом случае не оказаться в проигрыше; Воронов требовательно ждал, когда Бардошин забьет крюк, Сергей и Паша почти рядом друг с другом, раздумывая, что теперь.
Сергей еще метнул взгляд на Жору, всмотрелся. Показалось, будто Бардошин каким-то тайным знанием, неведомым наитием проник в сумбурные его переживания, а не то — нечто схожее творится и с ним… Встретить маету, хотя бы отдаленно напоминающую ту, что несешь в себе, даже если причины ее тобой не разгаданы, увидеть в другом пусть лишь призрак своего неблагополучия — мало того, что унизительно объединяет, еще и рождает брезгливое возмущение.
— Что, может, спустимся в лагерь, поспим на мягких кроватках? — круто меняясь, разразился Сергей. (Страшная, лютая неприязнь сторожила рядом. Не поддаться, не дать ей овладеть собою полностью, иначе — лавина. Лавиной сорвется, что долгое время копилось в нем, и пойдет, круша и сметая все на своем пути. Так, по крайней мере, со смутным опасением он ощущал и ломал себя, сдерживал, старался вовсе наоборот — приветливостью и вниманием глушить близко подкатывавшую к горлу ненависть и презрение, и вот едва не дал им волю.)
Жора, словно бы ударом ветра толкнуло его, не забив крюка, не наладив никакой страховки, быстро двинулся по неширокой полочке, траверсируя вправо. И оскользнулся — нога сорвалась, когда переносил другую…
— Ух! — только успел выдохнуть Сергей, взглядом своим словно пытаясь удержать, не дать ему свалиться. Жора и не свалился. Сделав ни с чем не сообразное движение, прыжок ли, переворот, неуловимый для глаза, что-то по-кошачьи ловкое, мгновенное, ухватился за неразличимый снизу выступ, повис. Заелозил ногами, нащупал опору и как следует встал.
Сорвись Жора, Воронов, превратившийся в пружинный механизм, готовый принять и погасить рывок, тем не менее вряд ли сумел бы избавить его ото всех бед — слишком велико могло оказаться свободное падение.
— Молодец, Жорка! — вырвалось у Павла Ревмировича. — Молоток! Виноват, барс! Настоящий горный барс и снежный орел. То есть наоборот.
Воронов дал время Жоре отдышаться, настоял-таки, чтобы забил крюк, наладил как следует самоохранение. Однако дальше предпочел идти первым.
— Поднимемся во-он к башне перед стеной, — объяснял он Сергею, ожидая, покуда Жора выберет лишнюю веревку. — Там посмотрим. В крайнем случае пересидим как-нибудь ночь. Не роскошествовать же мы сюда явились.
Сергей поглядывает на своего старинного, еще со школьных времен товарища, теперь и родственника. Загорелое лицо Воронова в сумерках кажется вовсе черным. Тяжелый подбородок, крупные складки. Выпуклые очки, под которыми не разглядеть его глаз. Оно словно высечено из камня, лицо человека, не желающего тратить себя на переживания, решающего только раз. Сергей смотрит, молчит и, подпадая под излучаемые этим бесстрастным, неподвижным лицом спокойствие и уверенность, соглашается:
— Будь по-твоему. — «Нельзя отдавать пройденный путь за здорово живешь, — соглашается он и внутренне тоже. — Мало ли, настроение, нет писем — а когда она писала? Один любит, другой позволяет себя любить. Ее любовь — театр, и вся ее жизнь там. И нечего устраивать нервотрепку. Нечего, нечего, — бьется в нем, перекрывая беспокойство, неприязнь, нетерпение. Всякий раз, как должна быть почта, места себе не находил. Тут тоже… Глупо, позорно, абсолютно бессмысленно даже думать о том, чтобы повернуть назад. Идти… вопреки надеждам этим изнуряющим, вопреки темноте, которая надвигается… Идти, идти…»
Горы, вершины их погасли. Две-три самые высокие, самые мощные удерживали еще вишнево-красные отсветы зари. Но темень поднималась и к ним, захватывая пространство сначала вширь, теперь ввысь. Ее пора — время ночи, холода, когда во мраке, пронизанном мерцанием звезд, лед трескается от стужи и камни пристывают друг к другу, в тщетном стремлении сохранить остатки тепла. Близко стена черной громадой вздымается в небо. На самом верху, или это только кажется Сергею, тускло проступают потеки цвета запекшейся крови.
Прошли одну веревку. Вторую. Третью.
— Все в порядке! — Воронов добрался до подножия стены и сообщал оттуда: — Отличную площадку вижу.
ГЛАВА 5
Действительность превзошла самые пылкие ожидания. Великолепный, почти ровный уступ и достаточно широкий, не одна — две палатки поместятся. Почти под самой стеной. Не дай бог, грохнет оттуда. Только есть ли чему грохать? У подножия ни осыпи, ни хоть какого навальчика, так, отдельные камушки, площадку выровнять, ямы заложить не хватит.
Стена хороша. Стена — лучше не бывает. Дело за малым — штурмовать как? Ладно, завтра стена. Тем более толком уже не разглядеть. Жора, еще когда на гребень вышли, уж на что рвался, дай ему волю — бегом побежит, лишь бы приступить скорее, теперь усами шевелит, с губы поуродованной струпчик сдирает, и молчок.
Надели все теплое, что было, принялись место под палатку готовить. Павел Ревмирович наладил связь с лагерем. Свист, треск, чья-то морзянка. «Приветствую славных альпинистов!» — прорвался торжественный голос начлагеря. Павел Ревмирович передал наушники Воронову.
— Сейчас он скажет: «Обязаны с честью выполнить взятые на себя обязательства, быть достойными возложенной на вас почетной задачи», — произнес Паша голосом начлагеря.
Воронов подкрутил настройку. Взглянул на Пашу и слегка раздвинул в улыбке губы.
Воодушевленный попаданием, Павел Ревмирович по-ораторски рассекал рукою воздух:
— Желаю провести восхождение на высоком моральном уровне и ранее запланированного срока!
Воронов живее улыбнулся. Сказал несколько стандартных фраз в микрофон.
Павел Ревмирович, перебегая взглядом с Сергея на Жору, стараясь в то же время не пропустить того, о чем говорил Воронов, комедиантствовал:
— Пусть не тревожится, не подведем отца родного! Обеспечим стопроцентную гарантию безопасности!
А Жора и про расчалки палаточные, которые крепил вместе с Сергеем, позабыл, наслаждаясь Пашиным театром.
— Тише вы, слышно плохо! — цыкнул Воронов и забубнил свое. О трудностях, связанных с прохождением гребня. О стене. Что времени маловато, трудно уложиться в срок. Павел Ревмирович отодвинулся в угол площадки и, недосягаемый оттуда для Воронова, точно в манере Михаила Михайловича, горячего приверженца громких, хорошо обкатанных фраз, сотрясал воздух:
— Добьемся снижения потребления продуктов питания на человеко-единицу! Восхождение посвящаем!.. Братцы, чему бы посвятить? Может… а что! День рыбака, кто помнит, был уже, нет? Дню рыбака давайте! Воронов, сделай человеку подарок, сообщи ему наше здоровое решение. Чего ты с ним споришь? Грохай его же картой.
Будь Павел Ревмирович у микрофона, нет сомнения, что-нибудь этакое и отчубучил, и еще неизвестно, как воспринял бы Михаил Михайлович такой пассаж. Вполне можно предположить, что с благосклонным вниманием и удовлетворением. Привычные, ласкающие слух формулировки! То самое русло, в котором спокойно и вольготно жилось ему в недавние его времена.
— Чего ты его так не любишь? — отдышавшись после смеха, спрашивал Жора. — Он же перед тобой чуть не по стойке «смирно» вытягивается.
— Это он не передо мной, а перед моим журналистским билетом, — отвечал Павел Ревмирович. — Чтобы фамилию его пропечатал.
— Ну и пропечатай. — И с неожиданной злостью: — Чтобы год чесалось.
— Наивный ты, Жоринька, человек… Впрочем, тут я скорее всего маху даю насчет твоей наивности, но не о тебе в данном случае речь. За какой хвост я его ухвачу? Что он дрянь и совести ни на грош, чуть что — моментально от любых своих слов отопрется?.. Пойди у него бумажку какую подпиши! Сколько Воронов бился с нашим траверсом, и так и эдак подъезжал, уж казалось бы — Воронов! Да и сейчас тоже — соображаешь, что он там трескочит? Но это же качества, не проступки. Формально у Нахал Нахалыча кругом порядочек. Факты нужны, матерьялец. Раз их нету, любой подлец не подлец. Намотай это себе… на ус, хотел я сказать, да только усы у тебя несколько… Или чересчур усердно наматывал? Да ты не злись так-то очень, друг Барсик, я же шутя. Покуда шутя.
И Павел Ревмирович вернулся к обсуждению личности и послужного списка их начальника лагеря, зорко поглядывая на Жору Бардошина, словно пытаясь найти ответ на какие-то свои вопросы.
— Нравственное лицо! — как бы всего лишь продолжая начатую тему, восклицал он. — Даже на суде, когда разводят мужа с женой, остерегаются говорить о подобных вещах. Или ты настолько далек ото всего этого, что желаешь возразить? — Но Жора Бардошин возразить не пожелал, и Павел Ревмирович решил подверстать свое выступление: — К тому же внешне хоть тактика его и поганейшая, но направлена к сохранению социалистической собственности, к соблюдению всех и всяческих норм. Не так ли? Так. Тут она самая, закавыка, и есть.
Воронов между тем о контрольном сроке нудил: отодвинуть бы на сутки; что стена потребует серьезной предварительной обработки. И техническими терминами принялся пулять. Михаил Михайлович по натуре заяц, но по внешним, усвоенным нормативам поведения — орел, да и только. Стратегия лишь наступательная, недаром китель военный, побуждения самые героические плюс жаркая тяга вывести альплагерь в передовые, в ведущие. В образцово-показательные! Дабы поняли те, которые, какого начальника в его лице потеряли, какой энергией, деловой хваткой, организационными талантами обладает. Отодвинуть же контрольный срок означало бы с его стороны прямое поощрение штурма стены. Мало того, как бы под личную ответственность! А что случится? Угробятся они на стене? Бывало такое? Да сколько угодно. Их кумир Хергиани. Хорошо, в Швейцарии или где там камень на него свалился, а если б у нас — да затаскали по следователям и кому-нибудь срок обязательно. Хватит своих неприятностей, еле выкрутился. Михаил Михайлович отнюдь не против, пусть сделают парни стеночку, о которую не раз спотыкались другие, но как-нибудь так сделают, чтобы в случае каких осложнений его дело сторона. Нашли дурака за чужие удовольствия расплачиваться!
Михаил Михайлович паузу выдержал, слышно было — воздуху набрал в свои поместительные легкие и начал: «Ударное восхождение! Доверили вашей группе, а сколько желающих? Да предложи я…» Воронов наушники сдвинул. Павел Ревмирович тотчас:
— Брезгуешь лишний раз послушать правильные речи или децибелы не по нраву?
«…Чем мы ответим на почин бригады хлеборобов Ивана Тысячного?.. — гремел Михал Михалыч. Воронов опять наушники в сторону. Подождал, подождал, послушал. — …Обязались не оставить ни единой стенки или там скалы, чтобы, значить, никаких «белых пятен» и прочих пятнышек на карте вверенного нам микрорайона. А ты лично, товарищ руководитель группы Воронов, твои какие будут обязательства? Ты знаешь, что приближается славная годовщина основания нашего альпинистского лагеря? С какими достижениями ты подходишь к знаменательному для нас дню?»
Будь кто иной на месте Воронова да не имей он привычки к столь энергичным напутствиям, глядишь, и кинулся б прямо сейчас, на ночь глядя, на треклятую стену, будь она хоть из чугуна. Какие же нервы надо иметь, какое самообладание, чтобы, поблагодарив за деловой разговор, как ни в чем не бывало перевести своим подопечным:
— Желает нам боевого духа и высокого спортивного мастерства.
Ели горячую гречневую кашу, заправленную тушенкой, вволю пили сладкий чай с шиповниковым сиропом и медовыми коржиками; наслаждались отдыхом после долгой, утомительной и желанной работы, чувствуя, как усталость и сытость теплыми волнами разливаются по телу. Нелады, рвущиеся наружу подозрения и запрет — не выдать ни словом, ни взглядом, и оттого клокотанье по пустякам — как не было ничего этого. Одна цель привела сюда этих таких несхожих между собою людей и не то чтобы объединила, но исподволь правила ими.
В палатке тепло, уютно, горит свеча, незлобивые подтрунивания и словесные потасовки просто так, от переполненности. «Может, и впрямь виной недавнего напряжения лишь неизвестность да голодный желудок», — пытался Сергей утвердить в себе некий статус благополучия и порядка. Откинувшись спиной на рюкзак, слушал вполслуха залихватские истории, перебирал события нынешнего вечера.
Как Воронов влет учинил чересчур разошедшемуся в критических выпадах Павлу Ревмировичу; следом Жору Бардошина в пух и прах расчихвостил. Еще бы, отправился с рюкзаком за снегом на ту сторону гребня, ни слова никому не сказав, и пропал. Не слышно его и не видно. Воронов выдержал характер, дождался, когда вернется путешественник, и задал жару. Обычно сдержанный, следящий за каждым своим словом, как же, наставник студенчества, тут рассвирепел… Или аукнулся радиоразговор с начлагерем и не в своей тарелке?
Еще чего, Воронов — и не в своей тарелке! Воронов образец выдержки, эталон всего самого-самого… Верный товарищ, далеко заглядывающий вперед руководитель. Вообще разумник высшего класса.
И всегда был разумником, вспоминает Сергей. В школе, в студенческие годы; на разных факультетах учились, а сколько времени вместе: еще года три назад всякое зимнее воскресенье в Крылатском, в Шуклове — уж если не пуд соли, так ненамного меньше вдвоем-то уплели. Кто, так сказать, в авангарде, в основном составе, в правлении, в ученом совете?.. Не первый, не тот, что ради высокой страсти жизни своей не пожалеет и которого чуть что — к ответу, а то и в лоб обухом, нет, зачем же, на шажок позади: шажок всего, и вполне достаточно, дабы в случае непредусмотренного поворота событий успеть сделать необходимый маневр. Не тут ли объяснение его терпимости, даже некоторой симпатии к Михаилу Михайловичу, не в этой ли роднящей особенности?
Только вот женщины — ноль внимания женщины на Воронова. Было, правда… Нечто малопонятное, маловразумительное. Поначалу как-то делился. Сетовал: а если не любовь с ее стороны?.. Не романировал прежде, по изящному выражению Регины, и втемяшило, чтобы непременно любовь и, конечно, с большой буквы. «Любовь, любить велящая любимым»! А какая она, что за зверь такой, разве что одно искусство, которое тихо игнорирует, подсказать может. Потом и вовсе ни слова. Вдруг Регина, растерянно улыбаясь: а Саша-то наш жениться собрался! Его же аспирантка, потрясающе талантливая, с его слов, но со странностями. Про странности Регина сама заключила. «Ты только представь, — рассказывала она, — полчаса просидели в кафе-мороженом: мне нельзя, и я все же съела два шарика, она — один. Худа как смертный грех и все время улыбалась. Здрасте и до свидания — только от нее и слышала. Но улыбка!.. Мы улыбаемся на сцене, но ей-то чего ради роль играть? И какую? Или не по душе, что сестра ее жениха артистка? Синий чулок, вот кто она. Да ты ее должен был видеть, в горы эти ваши ездила…»
Кончилось, впрочем, ничем. А там через некоторое время ее не стало, и Воронов замкнулся окончательно. Павел Ревмирович — уж эта его журналистская прыть! — вызнал массу животрепещущих подробностей, пытался просветить Сергея. Самое занятное — в школе одной, не совсем обычной, учились, только она помладше. Но то, о чем Воронов молчал, узнавать из вторых рук претило. Каждый имеет право на тайну, ответил он не в меру шустрому Кокарекину, зачем лезть в чужую душу.
А крылась подо всем этим тяжелая сшибка характеров, принципов и отсутствие доброты… Ну да что теперь, тяжело и не ко времени.
— Сереж, отними у него котелок! — кричал Паша. — Продерет дно, в чем готовить будем?
Воронов, склонив голову набок, старательно выскребал остатки. В малом ли, в большом нацелился на что, из пушки по нему пали — ноль внимания.
— Знаете, братцы, собственными глазами видел, Воронов три обеда умял. Честное комсомольское! — дурачился Пашуня.
— Что же такого, после восхождения… — смутился было Воронов, но тут же ринулся сам: — Во-первых, что за манера бросаться комсомольским словом? По пустячному поводу клясться! Во-вторых, поскольку вопрос касается еды — Паша признанный чемпион. А все одно фараонова корова.
— Конституция у меня такая.
— Глисты у тебя, а не конституция.
— Скажешь тоже! Нет у меня никаких глистов. Я у врача был, велел есть сколько влезет.
— Врачи, они никогда правды не скажут.
— Журналисты тем более, — смеется Жора.
Сергей неожиданно:
— А правда нужна?
Воронов ударился в риторику:
— Правда крушит, что должно быть сокрушено. Тот лишь может считаться настоящим человеком, кто способен вынести правду, какова бы она ни была. Остальные…
— Остальные и есть основная масса, — перебил Паша. — И уж коли ты заговорил о врачах… Врачи ориентируются на эту массу и предпочитают скрывать истинное положение вещей. Врачи, они практики, они исходят из природы.
Воронов опять занялся котелком. Поднес к свече, осмотрел. Скользнул глазами из-под очков по лицу Сергея, приподнялся и просунул котелок наружу.
— Чай будет кто еще? — спросил, взявшись за чайный котелок. — Нет? — Слил в рот остатки, прополоскал, отдернув полотнище входа, выплюнул. Выставил наружу котелок, следом примус.
«Таков он всегда, наш достойнейший Александр Борисович! — подумал Сергей. — Чуть не укладывается в его понимании, сейчас в сторону. — И, мысленно продолжая спор с Вороновым, переходит на свое: — Нет, как бы ни складывались обстоятельства, следует прежде всего оставаться добрым. Непонятный, казалось бы, парадокс; но доброта обезоруживает. Не потому ли существовал некогда обычай оказывать гостеприимство нечаянно оказавшемуся в твоей власти врагу? Ну, наверняка еще и потому, что низко, подло, отвратительно пользоваться беззащитностью врага, кто бы он ни был. Воевать надо честно, на равных. Вон как у зверей, бой так бой!»
Он поудобнее улегся в своем спальном мешке и тут ощутил, будто кто-то надавил на палаточную крышу. Ветер, понял он. Ветер начинается.
И все-таки не было у Сергея никого ближе Воронова, с кем мог получиться разговор о самом сложном, о Регине. И не ради совета, потому что что же можно присоветовать? Воронов и не пытался. Разводил руками, взирал сквозь свои толстенные очки, делавшие его до смешного схожим с аквариумной рыбой шубункин, плюс манера выпячивать нижнюю губу и не оставлявшая ни при какой ситуации осанистость, ну точь-в-точь.
…Мало-помалу Сергей переставал воспринимать как трагедию мелкие неточности ее рассказа о проведенном у подруги вечере, затихал до времени. Воронов со своей правдой помалкивал. И как потом казалось Сергею, та синица, та шаткая, возрожденная неведомым образом надежда, которую он получал в руки, оказывалась дороже, важнее, значительнее многословных уверений, а возможно, и самой истины.
Зато о служебных делах и передрягах — дельные советы, критика самая въедливая, подчас неожиданная, и поддержка. Сергей даже не столько о неурядицах и передрягах, бог с ними совсем, но о равнодушии. Начинал и заводился, и на повышенных тонах. Как не могут уразуметь, что срочно требуется вмешательство, не когда-нибудь — сию минуту. И не канцелярские отписки — деловое серьезное постановление. А то Красная книга. Ну что Красная книга? Занесли и успокоились. На местах надо пронять. Судить, если на то пошло. Нельзя же: нет прямой отдачи, нет и денег. Сколько еще твердить, не будет помощи сейчас, не будут затрачены определенные усилия, средства, — исчезнет с лица земли еще один вид жизни. Да тот же стерх, недалеко ходить за примером, сколько гнездовий осталось? Наука обязана самоотверженно служить природе, не только воспарять в сферы. То! сё! социальная экология! институт Природы!.. — новые ставки для бюрократов и новая потребность в бумаге, ради которой сводят леса и губят реки.
Воронов не хотел заострять внимание на науке и тех, кто ею правит, и начинал с другой стороны: «Привыкли, что все решается сверху, отсюда инертность мышления: без нас разберутся, а то и вовсе — моя хата с краю». Да! да! да! — подхватывал Сергей и, кое-как облекая в слова затоплявшие его чувства, — про Индию: в Гималаях началось движение «Обняв дерево, спасаешь лес!». Крестьяне, мужчины и женщины, отстояли леса от лесорубов, принудили чиновников пересмотреть планы. Кстати, тебе известно? Гектар лиственного леса удерживает до пяти тысяч кубометров воды. Тебе известно, что катастрофические наводнения в значительной степени результат сведения лесов! «Обняв дерево…» Великолепно, не правда ли? И путаясь, и стремясь максимально полнее выразить обуревавшие его чувства, Сергей распространялся о любви деятельной, что способна противостоять и побеждать…
Воронов возвращал его на землю: «Действуй, сочиняй петиции, но знай край. Сколько сейчас историй, когда браконьеры стреляют в тех, кто им мешает, между прочим, не солью и не горохом. Читал выступления Пескова? Он, конечно, ратует против браконьерства, а я — за тебя. Твоя скрытая тяга к жертвенности…»
«Надо, необходимо добиться поворота в психике людей, — провозглашал Сергей, не то чтобы совершенно донкихотствуя, и все же в некотором приближении к манере незабвенного идальго. — Новое отношение к природе, к месту человека в природе… Ты посмотри, на Западе, у них там много острее со всем этим делом, и сколького сумели добиться. Уже не говорю о заповедниках, но именно гуманное дальновидное отношение к братьям нашим меньшим… Лучшие люди или по крайней мере те, чей голос может быть услышан…»
Вот только историю с диссертацией не желал обсуждать ни с кем, не говоря уже про Воронова. (С самого начала смутно догадывался, что-то там не то. Вспомнить тошно, до чего ласков сделался шеф, как умильно убеждал и обещал, взывая к его, Сергея, доброте, самоотверженности и, наконец, к благородству. Опять же человек-то, о котором ходатайствовал, человек-то какой! Передать ему незавершенную свою работу в данной ситуации — это же честь прежде всего вам! Разве не приятно само сознание столь великодушного поступка? Разве не высшее и достойнейшее проявление — он не ошибется, если скажет напрямую — служения общему делу!) Интересовался Воронов, как дела, скоро ли защита, но когда под любым предлогом уходят от ответа или несут явную околесицу, да еще с таким видом, что, мол, не суйся, что ж, решил: не получается у Сергея, загнул друг Сергей не в ту степь, выбраться же на торную дорожку гордость не позволяет. В биологии похлеще истории случались. Годы и годы прошли, прежде чем расставилось по местам. Вольному воля, не в правилах Воронова поучать, когда не просят.
А хитрец Павел Ревмирович перенес свои атаки на Жору Бардошина. Мастер, ничего не скажешь, поддеть под ребро. Всё смешочки, пустячочки, а там, не заметишь, как и на крюке.
— В Крыму теперь красота-а! — сладким голосом выводил он. — Или, может, где-нибудь в Сочи или в Гагре лучше, а, Жорик? Ты где предпочитаешь отдыхать от прочих развлечений? — И продолжал вроде бы без задних мыслей, весело, беззаботно: — Ночь, луна, идешь себе по брегу морскому с черноглазенькой коханочкой… Про что, Жора, ты обычно разглагольствуешь со своими девицами, не о микробах же, надо полагать? Научил бы меня, дурака. Заодно объясни, что с руками делать, куда их девать? В кармане вроде бы неинтеллигентно, на талии бы как-нибудь, а? А то вот еще сколько раз наблюдал: на плечо ее хрупкое лапищу свою уложит, и шагают, довольные… И-иех, кошечки вы мои, мышечки!
Не нравились Воронову участившиеся Пашины выпады. И без того ситуация напряженная, тут еще всевозрастающий риск ссоры.
— Во-первых, луна в последней четверти и всходит поздно. — Воронов прежде всего за точность. — Во-вторых, мысли у тебя, я бы сказал… Направленность… Мяса много ешь! — неожиданно заключил он. — Надо тебя на вегетарианскую диету перевести.
— То-о-о-очно! — развеселился Жора. — А то болтает, болтает. «Бесполезно играть на мандолине под ее окошком, хватай ее и уводи!» И вся недолга.
Воронов подивился такому знанию, но и уличил в неточности:
— Это сказано о судьбе. Впрочем, судьба женского рода.
— Наш Жорик, что касается судьбы и женщин, все насквозь знает! — вскричал Паша Кокарекин. — Восхищаюсь! Завидую. И признаю полное свое ничтожество, — с придурковатой настырностью трещит он. — Надо же, такое любвеобильное сердце: шустренькие лаборанточки сменяют эмэнэсок, в прошлом году после гор, сам похвалялся, коханочку из Днепродзержинска принайтовил, теперь ударница пищеблока… И на стеночку взираешь совершенно так же: пришел, увидел… как там дальше? Одно смущает. Не больно ли стремительно действуешь, Жоринька? Что-то все доказать стараешься. Убедить в чем-то. Кого? Нас? Или себя? Молчишь? Молчать, оно завсегда лучше, уборщица наша редакционная поучает. Станут ее жучить за нерасторопность — молчит. Рукописи переворошила, не найдешь, где начало, где конец, — молчит. Как видишь, мне ее уроки впрок не пошли. Ну да я что, мое дело телячье. Я всего лишь смотрю. Наблюдаю. А только со стороны мно-огое видно. Видно, например, что плевать тебе на всё, и вся, и всех. Стеночка тебе нужна. В данный конкретный момент очень. Больше любой женщины. Или ошибаюсь? Женщины, они, как явствует из твоих же просвещенных рассуждений, они взаимозаменяемы. Вроде тех перчаток, о которых в старой песенке поется. Или нет? А стена эта наша, гордость и краса здешних гор, сделаешь ее — и мастер спорта. Опять в яблочко? О деталях помалкиваю, но что крупный прокол в твоих делишках случился — это точно. Не скрежещи, не скрежещи там. Все равно ты у нас самый что ни на есть первый на «дерёвне».
И опять этим своим шутовским тоном, то ли вышучивая Бардошина, то ли горько подсмеиваясь над собой:
— «Хватай, говоришь, ее и уводи»? И-иех, кошечки вы мои, мышечки, мне бы так. Мне бы Жорикову лихость! Который год хвостом мету, а не смотрят на меня. Не хотят смотреть как на мужчину. «Паша, перестань изображать оперного героя», «Паша, веди себя прилично». Либо в петлю, либо на стеночку эту нашу… заодно с Жоркой! Что же до луны, — обернулся Паша Кокарекин к Воронову и пошел, полетел по новому кругу: — В Сочи, в смысле в Крыму, всегда луна. Какой же это Крым без луны, хотел бы я знать!
Воронов сопоставлял и соединял воедино разрозненные свои наблюдения, кое-какие приходящие на ум факты, пытаясь и не умея составить из них четкую картину. Занятие, возможно, более увлекательное, чем крутить кубик Рубика, однако не приносившее ему никакого удовлетворения. Тут еще Пашины речи, полные смутных намеков и обвинений.
«Неужели, — подумал Воронов, если и не напрямую о Жоре Бардошине, тем не менее явно спровоцированный Пашиными нападками, — неужели люди, которые отвергли нравственные законы, непобедимы? — И сам же ответил: — Во всяком случае, никогда не признают за собой вины».
Продолжая мысленную свою мозаику, вынул из-под головы ботинки, осмотрел и засунул в спальный мешок.
— Ветер разгуливается. Возможно, похолодает. Советую позаботиться об обуви, чтобы не замерзла.
А Сергей не хотел и, казалось ему, не слушал Пашины речи. Смотрел на колыхавшуюся крышу палатки, на свечу, висевшую под коньком, и как она нет-нет начала раскачиваться, пригасать и разгораться, отчего пятна света двигались то быстрее, то медленнее, наполняя пространство палатки какой-то своей, неспокойной, странно привлекательной жизнью. Смотрел на Воронова, когда он завозился со своими ботинками, на его хмурое лицо и непонятные под выпуклыми стеклами очков глаза и мысленно обращался к тому далекому и близкому, что связывало их и перекидывало мост к Регине.
…Звонил, случалось, Воронову чуть не среди ночи и приезжал. Сидели, чаевничали. Коньяку бы, да разве коньяком у Воронова разживешься, противник ярый. Зато не расспрашивал, не подталкивал. Говорили о всякой всячине, что и касательства вроде ни к кому не имеет. И проговаривался, и начинал…
А то отправлялись бродить. Юго-Запад, скучная, однообразная застройка. Шли к Москве-реке. Воробьевы горы почти как в те, не такие уж давние времена, когда оба были студентами, утюжили на лыжицах склоны, разучивая не дававшиеся «темпобоген» да «темпошвунг», и Сергей в мыслях не держал никаких трагедий, не пытался что-то вызнать, не строил мрачных предположений. Обронит Воронов ненароком про выступление учениц в «Пиковой» — что ж, очень мило: кузина близкого друга делает успехи. Ну а если искренне — как-то нежно становилось, светло и тревожно. Хотя от стеснительности и мало ли от чего еще вторил Воронову, когда тот по присущей ему манере принимался брюзжать: «Без того в чем душа держится, теперь моду взяла — сырые грибы. Натощак. Прыжок будто бы увеличивается. Что за вздорная девчонка! Кто-то ее надоумил, не сама же придумала. Взять бы да выпороть обеих!»
Камень на его шее сестрица эта. У матери ее, его тетки, еще двое маленьких от второго мужа, все заботы о них; у отца давно новая семья. Как можно столь безответственно относиться к своим детям, жениться, разводиться, в его голове не укладывается! Так рассуждал Воронов еще в те насыщенные до краев и все-таки безмятежные студенческие дни. И немало заботился о своей кузине потом, и материально тоже. Но уж бранил, поучал, нудил скорее даже не как старший брат, но вечно всем недовольный дед, только без дедовской ласки, баловства и нежности.
Конечно, глупая, конечно, кривляка с вывороченными по-балетному ступнями, конечно… соглашался Сергей. Какие чувства таились в полупрезрительном, полуиспуганном «конечно», под пыткой не раскрыл бы. Впрочем, и раскрывать-то ни к чему: приехала раз с целым выводком таких же большеротых, большеглазых, не по-девчачьи тонных и элегантных посмотреть, как крутят слалом, и себя показать, благо училище — две остановки на метро, и Сережа схватил травму. Залихватски рванул с самого верха по целику, не сумел точно повернуть, вынесло да в дерево; месяц с лишком прохромал.
А на Воробьевых горах было чудесно. Город, раскинувшийся за излучиной реки, с золотыми главками темного ночного Новодевичьего монастыря, с выраставшими из мутной тьмы высотными зданиями у Смоленской и на площади Восстания, с гигантскими абстракционистскими парусами по Новому Арбату и указующим в небо белокаменным столпом Ивана Великого; ярко подсвеченным на радость любопытствующих иностранцев; древний священный город, проросший типовыми новостройками, тонущий в них, а все равно с неубывающей энергией застраиваемый и перестраиваемый, — там и тут краны, отмеченные светлячками ламп, изломы стен, пробуждающие воображение, — и несмотря ни на какие усилия, не в состоянии вместить всех жаждущих столичного бытия; нелепый, и прекрасный, и родной каждой улочкой, всяким переулком, где случалось проходить, ждать, грустить и радоваться быстротекущей минуте; древний и неузнаваемо-новый, безалаберный, хаотичный в началах своих, вобравший все времена, все стили, бурно их перемалывающий, а заодно любые огрехи, как бы дороги и желанны поначалу ни представлялись, на свой, неповторимый, непредугадываемый и постоянно меняющийся лад; город тяжких лихолетий и великого обновления манил, обещал, призывал и требовал.
Шире мыслилось, легче понималось, когда стояли вверху, где трамплин, а слева невдалеке чудом сохранившаяся ампирная церковь. Согревали эти места и очищали душу, и многое было с ними связано для Сергея. Совсем давнее тоже, детское, не омраченное ничем, святые воспоминания детства…
Малышом, дошкольником, как тогда говорили, ездил с отцом на Воробьи. Трамваем до Новодевичьего, там пешком через Окружной мост. Вдруг поезд! Товарняк бесконечный… Паровозный дым, грохот, мост подрагивает, доски под ногами, кажется, ходуном ходят, и сквозь щели глубоко-глубоко внизу вода. За руку бы отца ухватить, да только отец без внимания, шагает себе, и он тоже, он тоже вслед за отцом — справа сквозная ограда, слева грохочущий поезд, — стараясь ступать точно по доске, разве что сердечко стучит…
«Постой, — перебил себя Сергей, — чего ради Паша пытается вызвать Жору Бардошина на спор? Скрытые намеки… Чушь, и все же…»
И все же внимательнее начал прислушиваться Сергей к болтовне своих товарищей.
— Чебуреки! Братцы, какие там чебуреки! — распелся Павел Ревмирович, словно бы целиком и полностью поглощенный гастрономическими переживаниями. — В самой захудалой крымской закусочной так их готовят… Да нигде, ни в одном ресторане, уверен! Поджаристые, края в зубчиках, арома-ат! Вонзаешь вилку — сок так и брызжет, кошки-мышки, во рту рай и блаженство, слегка подправленные чесноком и перцем. Проглотил — хлоп! — полстакана сухача и за следующий. После топаешь к Черному морю, садишься на скамью или в шезлонг, бочком, чтобы фирменные нашивки на твоих джинсах непременно на виду, и, покачивая небрежно ультрасовременной, наподобие римских, сплетенной из ремней сандалией, оглядываешь пляж. Спокойненько, ни на ком определенно не задерживаясь и будто не замечая бросаемых на тебя украдкой взглядов. Цепляешь солнечные очки, американские, разумеется, как у Жорки, под черепаху, и тогда уж в подробностях изучаешь купальные костюмы. Черноглазенькую отправил в ее родной Днепродзержинск — сколько можно с одной и той же! Свободен как ветер. Ты там или уснул, Егорий? Опять же другие-то что же, пропадать должны?
— Вот и ехал бы в свой Крым… — рассудил Воронов. — Никто не неволит в горы ходить.
Павел Ревмирович ответил неожиданно всерьез:
— Хотел бы, да не могу. Понимаешь…
«Да, на Воробьевых горах… — перестал слушать Сергей. — Отец рассказывал про пароходы, про Кремль. И о деревьях, о цветах тоже, про кротов… (Видели однажды, крот выполз из-под корней. Черненький, с лапами-лопатами, а глаз нету. Девчонка тут с матерью паслась, увидела крота, завопила: «Брунэт!» И вспугнула, юркнул обратно.)»
Отец бесконечно любил природу. Любовь — чувство эгоистическое, требует притяжательного местоимения. Отец ощущал себя частью природы, становясь отзывчивым, добрым, теперь бы сказали — коммуникабельным. Как воздух этот вольный, свет солнечный, так же необходимы были ему деревья, трава, тропинка через поле… Можно, конечно, существовать в подземелье с идеально очищенным воздухом и тысячеваттными лампами дневного света, да только если вырвешься оттуда… Нечто от тех ощущений, должно быть, испытывал он, когда бегали взапуски и прятались в кустарнике, валялись на траве, а то смотрели на облака или читали.
Читали в основном дома. Отец возвращался со службы, обедал — Сережа уже не отходил от него, — ложился отдохнуть (старый ковровый диван был со скрипучими пружинами, до сих пор явственно помнится, запах пыли, нафталина, какой-то травы от моли — там хранились зимние вещи; Регина быстренько от него освободилась, и правильно сделала. Но теперь, когда не стало отца…), и начиналось чтение. Из Аксакова, про ужение рыбы. «Рассказы охотника» по нескольку раз. Жюля Верна. А то Сабанеева. Отец прерывался, вспоминал, как охотились в его юности, какие разливы случались на Оке, что за обилие дичи было, Сережа затаив дыхание слушал и вдруг принимался подпрыгивать, а мама сердилась, потому что диван давно пора чистить.
Когда начали Сетон-Томпсона, Сережа задумал сбежать в северные леса. Самые большие трудности дома: копил спички, соль, крупу, незаметно, остерегаясь вызвать подозрения. Кое-какие причиндалы, необходимые для лесной жизни, вроде костровых крючков. Кастрюлю переделал в котелок, сухарей насушил — бабушка отчасти участвовала в приготовлениях, но с бабушки была взята страшная клятва. А с мамой просчет, подглядела, когда выкраивал, пользуясь точным рисунком, помещенным в книжке, индейские мокасины из голенищ вовсе даже не новых отцовских сапог, и задала взбучку. Отец же, когда разобрался, с таким неподдельным интересом вникал в подробности его приготовлений, словно и сам не прочь…
Ему бы лесником, в смысле лесничим, быть или геологом, в те поры геологи еще бродили по тайге, по горам, на многие месяцы отрывались от города. Увы, у отца была сидячая учрежденческая работа, бумаги, арифмометры, калькуляции и пространные рекомендации, которые не делали погоды, — экономистом он был, модная ныне специальность.
К тому же примерно времени относится знакомство с Юрочкой Стеккером. Или нет, в классе пятом был, ну, четвертом, жили в одном доме, родители поддерживали знакомство между собой, и вот взяли в гости и его, Сережа упрямился, не хотел идти: Юрочка казался скучным, еще и задавалой, пусть постарше года на два. Ни в расшибалку, ни в казаки-разбойники — толстяк, бегать не умеет. «Жиртрестом» его дразнили, старались толкнуть, запустить камнем издали, пробегая по луже, обдать грязью — всячески третировали, чуя в нем чужака. …И, разинув рот, смотрел, не мог отвести глаз от его коллекций жуков и бабочек. А там всякие объяснения, увлекательные подробности о разной живности, которой было полно по банкам, клеткам, и прямо в комнате бегали и летали; и Юрочкины планы, уверенные, без тени сомнений, на будущее. Уходил возбужденный и счастливый. Коллекции и весь антураж — пробирки, колбы, этикетки с латинскими названиями, пинцеты — заполнили мальчишеское воображение. Окончательно довершило вступление Сережи на путь натуралиста иллюстрированное издание Анри Фабра, которое подарили родители ко дню рождения.
Началось горячее увлечение энтомологией, вскоре захватившее и других ребят. Бронзовки, жужелицы, усачи-дровосеки, носороги, жуки-могильщики, навозные жуки — ими менялись, азартно расхваливая своих и мечтая заполучить какого-нибудь скарабея, привезенного из Средней Азии. Чтобы поймать иных, добывал тухлятину (высоко котировались дохлые крысы), пихал в портфель среди учебников, тетрадок и бутербродов, которые бабушка давала с собой на завтрак, удирал с уроков — и в лес, на те же Воробьи. Через день-два можно было собирать урожай.
Выискивались специальные энтомологические булавки, сера — «серный цвет» — морить жуков, мастерились ящички для коллекций, дел по горло, Тут еще чижи, щеглы, снегири — по весне, на пасху (бабушка непременно настаивала на этом), их выпускали на волю, осенью же заводил новых; аквариумные рыбки, белые мыши, морские свинки — как только ухитрялся уроки готовить и переходить в следующий класс.
Консультантом и недосягаемым авторитетом, иногда и участником, так сказать приватным, кипучей этой деятельности был Юрочка Стеккер. Он уже занимался в кружке юннатов при зоопарке, вел наблюдения и дневник, одним словом, участвовал в научной работе. Рассказывать о питонах, слонах, жирафах, о кистеперой доисторической рыбе, вдруг обнаруженной в водах Южной Атлантики, о сумчатом волке, по слухам, обитающем в лесных дебрях Тасмании, мог бесконечно. Да что сумчатый волк — о бабочке-капустнице, которую они в простоте душевной презирали, и час, и два, цитируя различных авторов, превознося непостижимую изобретательность и щедрость природы. Его подрагивающие щечки и угреватая отечная кожа, жирная грудь, обозначавшаяся под рубашкой, — признаки раннего физического нездоровья, усугубленного непомерной для его возраста работой интеллекта, — исчезали; возникал, нет, не тип юного, смешного, хотя и очень симпатичного Паганеля, но маленький подвижник, бесконечно влюбленный в знание, в самый процесс постижения природы, свято исповедующий безграничную преданность науке… И вот Юрочку убили.
Вышли с ребятами из зоопарка вечером, фонари уже горели, весной было, в апреле, — и дворами на Садовую. Хулиганы привязались, ребята что-то им в ответ веселое, озорное и побежали, и Сережа с ними, но не Юрочка. Юрочка бегать не любил и не умел, да и умел бы, не побежал, такое в нем было чувство собственного достоинства…
Тяжелый отпечаток наложила гибель Юрочки, жестокая, бессмысленная. Мучило, давя и истязая укором, рождая снова и снова чувство вины и причастности к несчастью, то легкомысленное, с несуразными озорными выкриками бегство. Останься он, и ничего бы не случилось, Юрочка был бы жив. Юрочка без очков ничего не видел, неповоротливый, неуклюжий… Прохожие, старик и две женщины, показали: деньги у него требовали, шарили по карманам, потом повалили, очки отлетели в сторону, пополз к очкам, а его — ногами, ногами. Очкарик, а денег с собой не носит! Что и кому он сделал плохого? Вечно уходил от любой грубости, ругань какая, в том же зоопарке, — пыхтел и терялся. Останься Сережа с ним… Нет, понесся, подхваченный дурацким порывом, в котором не было страха, скорее желание двигаться, размяться после продолжительного сидения на лекции в кружке. А, да что теперь, что теперь выискивать объяснения?
В мыслях Сергея наступила пустота после резанувшего стыдом и живой болью далекого воспоминания. И разом, словно в распахнутую дверь, ворвались подвывание ветра, шорох палатки, Пашин голос. Сергей послушал, и о своем: «Завтра, если погода позволит, можем начать стену. — И полетело сто раз проговоренное, вымечтанное, как бы уже пережитое наполовину: — А там и вершина. Два дня клади на спуск, полтора даже… Потом? Что делать потом? Передохнуть, и новые восхождения? Приехал заниматься альпинизмом, чего же еще! Или все бросить, ничего не доказывать ни ей, ни себе, никому другому… На самолет и в Гагру? Сказать, что каждый день без нее мученье, что жизни порознь для него нет…»
Жалостные, со всхлипами и причитаниями подвывания ветра, модулирующие то плавно, то рывками выше, выше, до пронзительного разбойного свиста, в котором слились вместе лихость и томящая душу безысходная ночная тоска. Недолгая пауза, ее едва успевает заполнить голос Воронова и весело возражающий ему Паша. И новый шквал вываливается откуда-то из-за гребня. Не сразу отыскивает путь среди нагромождений скал и льда, набирает силу, стремительность, с похмельным весельем, взвизгивая и улюлюкая, обрушивается на палатку, силясь сдернуть ее вместе с людьми… И переходит в плач и стоны. Жалуясь на одиночество, неприкаянность, огромность и холод ночи, будит в душе странно приязненное чувство едва ли не братства и понимания.
— Водится в горах бацилла специальная, — развлекал своих товарищей Павел Ревмирович, устроившись вполсидя, освещенный раскачивающимся как бы независимо от ветра, с единственной целью ответить игрою на его игру, светом свечи, и ненароком взглядывал, на Сергея. — Попадет в кровь, и конченый ты человек для мира и страстей. Жил себе тихо-мирно, по утрам за молочишком бегал, вечерами выстаивал очереди в кино, чай с женой и вареньем пил, и все такое прочее. Внезапно картина меняется — бацилла начала действовать. Жена перестает быть центром вселенной и даже вроде бы помехой становится. Как же, в воскресенье ехать тренироваться, а жена требует, чтобы ты полы лачил, не то к родственникам на обед тащит. Да пропади пропадом этот обед заодно со всеми родственниками! Что получается? Конфликт, кошки-мышки! А запахнет весной, отпуском, и подавно беда: жена, конечное дело, рвет и мечет, чтобы ты под ее надзором культурно жирел в санатории, ты же всеми правдами и неправдами в горы норовишь улизнуть…
— Паша-то со знанием дела рассуждает, — подал голос Жора Бардошин.
— А и верно, когда это ты постиг? — с нарочитой непринужденностью подхватил Сергей.
— Да ну, — замялся Павел Ревмирович. И перевел на Воронова: — Я просто говорю вслух то, о чем наш главнокомандующий со страхом и трепетом твердит про себя. Почему он не женится? По тому самому. Под каблучок боится попасть. Под симпатичненький острый каблучок. Или нынче в моде тупые?
Воронов снял очки и лежал, положив руки под голову, такой непривычный, едва ли не беззащитный без очков.
— Знакомая одна рассказывала, — пытаясь попасть в тон, заговорил Воронов. — Она инженер, и муж ее инженер, оба увлечены альпинизмом. Возвращается домой с работы. Мужа нет. Оставляет записку: бульон на плите, запусти вермишель, на второе — консервы, выложи на сковороду и так далее. Заканчивает: приду в восемь. В восемь приходит — муж записку оставил: суп на окне, консервы в холодильнике, приду в десять. Приписывает: приду в одиннадцать… Рассказывала со смехом, как забавную шутку.
Ветер ударил. Как-то по-новому, подкравшись неслышно. Из-за стены, должно быть. Говорить невозможно, шум, свист, палатка сотрясается. И что любопытно, ни один о ветре не говорит. Но переживает каждый наверняка.
замурлыкал Паша, едва поутихло.
— Ты что? — сказал Воронов, недовольный, что его стремление подключиться встречено без понимания.
— А так просто.
— Репертуарчик у тебя, — подхватил Жора Бардошин, подыгрывая Воронову. — Чье это?
— Да так просто. Стишата. Про один маленький кораблик, который заблудился и остался один-одинешенек в огромном море. И задудел протяжно, жалобно, потому что ему стало очень страшно. А большие корабли услышали и поспешили на помощь.
— Ну, мать, ты даешь! — засмеялся Бардошин. — Ты что, решил снова переквалифицироваться? На детского стихоплета?
Паша не ответил. Помолчал, посопел, через некоторое время снова принялся бубнить:
Нет-нет и поглядывал Паша на Сергея, лежавшего справа, у боковой стенки, и похоже было, что «стишата» и вся болтовня его предназначались именно для Сергея, развлечь его или отвлечь.
Сергей смотрел на Воронова. Обычно непроницаемое, невозмутимое лицо Воронова потеряло свою каменную твердость. Шалые глаза без очков, казалось, искали, на чем остановиться. Или то была опять игра неверного света свечи, или Воронов?..
— Туши свечу, — сказал Воронов, заметив внимание Сергея.
— Обожди! — дернулся Сергей, будто застигнутый на чем-то недостойном. — Ножик я свой тут потерял. — Он выпростал руку из спального мешка, принялся шарить возле стенки.
— Завтра найдешь. Сгорит свеча, другой нет.
— Е-е-есть! — проблеял Паша. — Я еще парочку захватил.
Смущенный глубоко запрятанной тревогой, более того, внутренним разладом, который углядел в Воронове, и что причиной тому не ветер, не опасения за завтрашний штурм, но иное, имеющее отношение к нему и Регине; не желая знать ту правду, что, возможно, несет в себе Воронов, Сергей бессознательно ухватился за недавний случай с Пашей. На вершине — тренировочное восхождение было — после долгого изнурительного подъема Паша Кокарекин достает из рюкзака белоснежную рубашку и галстук бабочкой: снимай его! Физиономия небрита, глаза воспаленные, красные, волосы лохмами, а воротничок сияет белизной!
Еще история с иностранной девой пришла на ум, хотел было уже заговорить. Да тут ножик нашелся. И конечно, все всё знают. Разве что самая концовка? В пересказе флегмы Семенова прозвучала достаточно смешно. А дело было так. Навязали им весьма эффектную и самостоятельную девицу, приехала не откуда-нибудь — из Испании покорять Кавказские горы. С Пашей заблаговременно была проведена соответствующая беседа, строго-настрого указано: не фиглярствовать, никаких двусмысленностей (девица изучала русский язык), вообще вести себя как подобает советскому альпинисту, сдержанно и достойно. Надо отдать должное, Паша старался и был совершенным паинькой, товарищ из Интуриста недаром потратил время. (Бедный Михаил Михайлович места себе не находил, не спал, не ел, покуда вниз не спустились.)
Заграничной деве все понравилось, и вершина, и маршрут, и спутники, Особое расположение снискал, однако, вовсе не Жора, который тай и вился вокруг нее, но Паша Кокарекин. «Отшень интэрэснии молдои тшэловек, — объясняла она потом начспасу Семенову, справляясь по разговорнику и немилосердно коверкая слова. — Отшэнь любиит животнии. Он разводит кошкии? У него маленки бизнес? Он тшасто вспоминайт кошкии». И как утверждал Семенов, интересовалась, женат ли Паша и «кто есть его гёрл».
— Туши, — сказал Сергей. Ножик он уложил в карман, шнурок пристегнул к поясу.
Паша приподнялся повыше, вытянул губы и дунул. Минуту тлел фитиль и чуть различимая струйка дыма вилась. Следом полная, совершенная темнота.
Всхлипывания и подвывания ветра, удары… Приближающийся, нарастающий, подобно гулу мчащегося поезда, на пути которого ты застрял, леденящий душу грохот…
ГЛАВА 6
— Что это? — вскинулся Паша. — Камнепад? Со стены?
— Вряд ли со стены, — чуть выше обычного голос Воронова. — Но где-то рядом. С гребня скорее всего.
Темнота, молчание, вяжущая тело усталость, отдаленные посвистывания ветра, возбуждение, которое, как ни дави, ни загоняй внутрь, одолеть не удается, и удовлетворение — день был хорош, много прошли, вообще здорово, когда исполняется давно задуманное, — все это качалось, не пересиливая и не перевешивая одно другое. Дремота обволакивала, вот-вот погрузишься в сон, но в памяти взлетал какой-нибудь эпизод прожитого дня, и сна как не бывало. Новые и по-новому острые мысли роились. Ответы на возникавшие еще раньше вопросы. Темнота, неподвижность как-то особенно обострили способность думать, переживать не как было, но как могло быть.
Голос Паши Кокарекина:
— Я все думаю, большие трудности приходится преодолевать. Опасности, риск… И, поди же, тянет… Чего ради, спрашивается, зачем мы ходим в горы?
— Зачем! Затем, что они есть, — отрезал Сергей. И с невольной издевкой, появлявшейся, если уж очень избитые фразы пускал в ход: — Горы зовут!
— Никто не лезет на гору лишь потому, что она существует, — менторским тоном возразил Воронов. — Думаю, каждый, помимо весьма разнородных причин, хочет знать свой истинный потолок.
«Трудности преодолевать… — повторил про себя Сергей. Это было как ключ к запертой двери. — Людей соединяют радость, любовь. Общее дело, наконец. Общие интересы. Понимание!.. Нас с Региной — боль, которую наносит каждый, и трудности, бессмысленные, бездарные, сами старательно их выискиваем и создаем. А если шире — Регина завоевывает неизвестный ей мир, принимая его таким, каков он есть, и желая в этом сложившемся определенным образом мире утвердить себя. Он же пытается отстоять и сохранить нечто из того, что может быть утрачено безвозвратно. Это переносится на отношения, взгляды…»
Молчание. И завывания ветра. Сна нет. Напряженное внимание к тому, что и касательства к восхождению не имеет. Потоки мыслей…
— Говоришь, трудности… — с жадным интересом развивает Сергей высказанное Пашей обиняком. — Согласен, соль в них. Дорого то, к чему жарко стремился, мечтал, жаждал всей душой, радовался малейшему знаку расположения и наконец, нет, не завоевал — но в ответ на жажду твою, на поклонение… Я хочу сказать, в горах… — спешит он замазать личное. — Идешь по сложным скалам или скоростной спуск на лыжах — напрягаешься физически и духовно, перемогаешь боязнь. Кто скажет, что не испытывал страха, тривиального, паршивенького, от которого, случается, поджилочки звенят? Так вот, — продолжал уже определеннее, словно унизительная мысль о страхе прояснила сумбурные его соображения, — борешься не только за вершину или время на лыжах, но и чтобы живым остаться. Преодолеваешь…
— Очень даже обыкновенно: камушек сорвется — бенц по уху! — и приветик, — пояснил на свой лад Павел Ревмирович.
Сергей говорил. Вопросы эти и прежде занимали его, извечные вопросы, во имя чего человек обрекает себя на лишения и смертный риск, не получая взамен ничего такого, что явилось бы достойной наградой. И находил ответ не столько в поставленной цели, сколько в том, что сопутствует достижению ее. А если проще, замечательные, великолепные качества хочешь не хочешь приобретаются, ибо без них немыслима победа. (На взгляд Воронова, затеянный монолог имел прежде всего тот положительный эффект, что уводил от бесполезных — каким-то одному ему ведомым путем Воронов добирался до понимания подобных состояний своего товарища, — а в данной ситуации попросту вредных мыслей.)
— Тогда живешь по-настоящему полно, всеми чувствами, на всю, как Паша бы выразился, железку! — восклицал Сергей, стараясь перекрыть новый шквал, колыхавший и дергавший палатку. — На себя начинаешь иначе смотреть, вырастаешь в собственных глазах. Еще бы: оказался способным совершить такое, о чем едва осмеливался мечтать. Ну и радость победы, которой наслаждается каждая клеточка. Иной раз нарочно ищешь тяготы и опасность, только бы вновь испытать борьбу, преодоление и торжествующий трепет победы.
Остановился, но податься некуда, и ринулся как с горы, доводя до парадокса, до абсурда неловкие свои рассуждения.
— Я бы сказал, начинаешь любить самый страх: не только тянет прочь от опасности, но и вызывает незнаемый прилив сил.
— Искусство для искусства! — дождавшись, когда выдохнется Сергей и потише станет ветер, сказал Воронов. Дал время возразить, возмутиться, если угодно, а там и насел: — По Невраеву, ценить следует лишь то, за что дорого плачено. Инфантильная, я бы сказал, позиция. «Я люблю горы, так как мне тяжело в горах». «Мне грустно оттого, что весело тебе». Основное, едва ли ее самый смысл — в побочных, проявляющихся в ответ на трудности качествах. Совершенствование ради совершенствования. Но разве мыслимо оно лишь как набор неких качеств, согласен — весьма похвальных, однако приобретаемых ради самих себя, не средств — понимаешь ли? — необходимых для достижения цели. Главное — цель!
— Я подразумевал, естественно, и то и другое, — быстро ответил Сергей. Не хотелось ему продолжать пререкания с Вороновым. — Кстати, в спорте важна не сама цель, но именно качества, которые приобретаются.
— Если бы! — Переждав очередной навал ветра, Воронов говорил: — Страх отвратителен по самой своей природе. Как может страх быть стимулом, целью? Стимулировать бегство? «Гарун бежал быстрее лани»? Патология. — Он говорил не спеша, как бы примериваясь к словам и выражениям, чтобы не сбиться во множестве пересечений со своего не везде прямого пути.
— Ты собирал когда-нибудь птичьи яйца? — сонный голос Жоры раздался.
— Яйца? — удивился Воронов.
— Ага. Для коллекции. Я раз нашел гнезда чайки. Сунулся… Говорят, пугливая, осторожная. Такой бой выдала! Кричит, налетает. Других переполошила, закружились тоже, завопили. А эта взлетит повыше и пикирует, да еще норовит, зараза, когтями. Я, признаться, струхнул даже. Ноги в руки — и ходу.
Павел Ревмирович, долго его не было слышно, тут надумал:
— Спорт кончается, вот что я вам скажу. Романтика спорта. Рекорды! Ради них крутится карусель. Профессионализм, будь он неладен, жмет.
— А что ты хочешь! — Жора с усмешкой снисходительной. — Кто в состоянии без государственного обеспечения прошвырнуться, скажем, на Эверест? Хотел бы я посмотреть на такого энтузиаста.
— Не скажи. — Сергей старается говорить вполне дружественно. — Не перевелись ревнители старых традиций. Наши девоньки в Арктике какой лыжный переход учинили! Не похоже, чтобы жажда, рекордов гнала их. Разумеется, не дважды два четыре, а только на мой взгляд — от прелестей городского существования они в Арктику укатились.
Воронов — вот кто удивлял своей речистостью:
— Только и слышишь про смертный риск и прочие страсти. Пугаете друг друга, гордитесь случайными удачами. Спорт — это работа и трезвый расчет. Альпинизм тоже, если не еще больше. А всяческие сверхтрудности, сверхпереживания и тому подобный авантюрно-романтический хлам… — И пошел, и пошел, и в хвост, и в гриву, заодно коротенькую поучительную лекцию о наших восходителях на Эверест преподнес, с экскурсами в историю покорения. Дельные мысли, здоровые позиции, разве что интерпретация: сиро как-то становилось, бескрыло как-то. И сердцем не с ним, сердцем, где остается хоть какое местечко для самоотверженности и доброты да игнорируемого любыми правилами и параграфами, тысячу раз высмеянного, но неумирающего благородства.
Ветер заметно усилился. Хоть и под защитой стены, и ничто ниоткуда не угрожает, а все как-то тревожно становилось, неуверенно как-то. Воронов же — или нарочно, или уж если решил, что никакой опасности, так и переживаний никаких, — ораторствовал, перекрывая своим хорошо натренированным голосом шум и вой ветра и хлопанье палатки.
— Нельзя надеяться на везение и другие столь же туманные категории. — И снова «необходимо», «должно» и «нельзя». А там на свои, институтские вопросы съехал, с тщательным разбором и осуждением того-сего, пятого-десятого. Без осуждения, без праведного гнева не вяжется у нас разговор, скучаем.
— В научном мире редко услышишь: тот занят важным исследованием, разрабатывает такую-то тему. Говорят: делает докторскую, кандидатскую.
Сергей согласен, только не хотелось муссировать тему. А по-честному если — даже затрагивать вопросы, связанные с научной работой, с диссертациями. О горах бы. В горах нет места предательству, подлости. Не должно быть.
Воронов, словно вняв тайным его опасениям, к альпинизму вернулся: необходимость ограничений, разумная строгость…
Уже потом, под утро, Сергей сообразил, как ловко увлек их всех Воронов своими не всегда согласными рассуждениями. Ведь все равно не спали бы, маялись, воображая и переживая, — ветер хлестал и выл, а если стихал ненадолго, так затем, чтобы с удвоенной, утроенной яростью наброситься снова. Умница, Саша Воронов! Но так думал Сергей под утро, оглядываясь назад, а тогда… Тогда Сергей декламировал:
— Прекрасные, как увиденный наяву сон, и злобные, ощетинившиеся зубцами и башнями, где бьешься за каждый метр, рассортированы по категориям, точно болты какие-то. Ну, что в самом деле: III Б, IV А… Говорить тошно. На вершину идут, чтобы набрать разряд. «Мне срочно нужна четверка, закрыть второй разряд». — «Мне тоже». — «Сходим?» Бедная, разнесчастная романтика! Чтобы найти нетронутые места, приходится забираться бог знает в какую даль или выдумывать противоестественные маршруты, вроде стеночки нашей. Крючья невыбитые на скалах, обрывки пластиката, ржавые консервные банки… А эти ограничения? Нормы!..
Воронов ударил главным своим калибром:
— Прогресс, массовость и безопасность! Или ты ратуешь за то, чтобы вернулись времена, когда альпинизм был развлечением горных снобов?
Как замкнуло его, со скрытым раздражением думал Сергей, не понимая упорной направленности Воронова. Что за манера глушить трескучими фразами! Ведь может же быть человеком. О диссертациях… Что ж, спасибо и на том. Как возмущался, вспомнить тошно, какие речи обличительные произносил, едва ввел его в курс дела. Регина, мол, из-за меня страдает. Не говоря уже о научной карьере, о положении. И теперь любое мое осложнение норовит подвести как следствие былого чистоплюйства. В чем-то, может, он и прав. Но вот штука: куда сильнее, увереннее стал себя ощущать, когда отказался быть тем рычагом, которым собирались спихивать шефа.
Диссертация же? Что ж, диссертация… Если самую квинтэссенцию брать — настолько кухня наша, именуемая уважительно НИИ, сделалась отвратительна, но еще более сам себе…
Ну а если без предвосхищающих оценок и по порядку, то события развивались таким примерно образом. Некоему товарищу срочно потребовалась кандидатская степень. В прожекте намечалось его участие в весьма ответственном и эффектном предприятии и, конечно, чрезвычайной важности исследованиях. Однако без научной степени неудобно, другие, со степенями, по земле ходят, а он… Как помочь? Науку вовсе профанировать не годится. И тогда шеф, хоть стар, да удал, сыскал выход. У Невраева тема по профилю, результаты бесспорные, осталось всего ничего, написать да оформить. Призвал, объяснил ситуацию. Космос! Срочное задание! Да вежливенько, просительно: «Вы же талант, Сергей Васильевич, вы молоды, полны творческой энергии, шутя сработаете по другой теме. Поддержка будет обеспечена на самом высоком уровне». Ладно бы, приказным порядком или обманно, вовсе нет. Еще намек был сделан многозначительный о родственных отношениях будущего соискателя. И сыр выпал из Сергеева горла.
Даже помогал дотянуть, преисполненный горячим стремлением довести до конца благое дело. Материалы, графики, уйму карточек с результатами опытов, каждый отнюдь не с потолка и не за здорово живешь (не говоря уже, сколько отрабатывал методику, отлаживал аппаратуру) — все хозяйство предоставил в полное имярек распоряжение. Собственноручно и без никаких понуканий.
Месяц, другой ходил именинником, радуясь и гордясь самопожертвованием, альтруизмом, а в глубине, что греха таить, и дружеским, скажем так, расположением человека, о котором в скором будущем заговорят как о герое. Новые области знания, новые уровни достижений всегда вызывают повышенный интерес и естественный и справедливый пиетет.
На защите не присутствовал, закрытая была защита в неведомом номерном институте, пропуск-приглашение почему-то не прислали, напоминать счел неэтичным. На банкет не пошел, как-то вдруг не захотелось. Хотя сообщено было, что в списке фигурирует. Вот и вся история.
Дальше? Что же дальше — ну, дамы институтские, от которых никогда и ничто укрыться не может, поглядывали на него некоторое время с явным интересом, ожидая громких событий, удивительных назначений. И он тоже как-то все не мот выйти из праздничного настроения. Словно бы и впрямь хорошенькую звезду с неба уволок, как однажды без обиняков было ему заявлено. (Ни о какой жертвенности ни он, никто другой и думать не думали.) Недели проходили за неделями, складывались в месяцы. Работа? Делал разную проходную мелкоту. Наконец не вытерпел, завел с шефом разговор о диссертации. Шеф был любезен, расспрашивал про всякую всячину, о выступлениях жены — бывал, бывал на спектаклях с ее участием, как же! — проявил изрядное знание танца, вспомнил кое-какие древние анекдотцы, щегольнул былыми шалостями, одним словом, выказал себя подлинным балетоманом и приятным собеседником. Чаем вкуснейшим с домашним печеньем (Инночка-секретарша — большая искусница) угощал. С темой же просил повременить. Есть, но положа руку на сердце, не слишком диссертабельна, для него он подыщет нечто действительно интересное и перспективное. Сергей было: как же так, он надеялся… Но шеф потерял к разговору всякий интерес. Покуда же, чтобы время зря не пропадало… И подсунул давно валявшееся задание (другие сумели благополучно отбрыкаться), с заведомо отрицательными результатами, которые только и требовалось подтвердить.
А там с удивлением и обидой начал Сергей ощущать, что отношение к нему и вообще начало меняться. Сперва как бы только снисходительные подтрунивания, а там и насмешки. В смысле — задумал-де прыжок на высокую орбиту и весьма ловкий ход конем произвел, ан и не вышло. Но это он потом, задним числом сообразил. Тогда же, не умея разобраться в тайных пружинах, о многом не зная, другое недооценивая, а вкупе не видя причин такой напасти, злился, и страдал, и распалялся от глухого безразличия шефа и уколов тех, кто еще недавно выказывал и внимание и расположение.
Конечно, хорош, слона-то и проглядел. Уже потом, порядочно времени спустя, ожидая приема у высокого начальства в связи с новыми своими экологическими заботами, встретил весьма приятного, разве только чересчур шустрого и любопытного молодого человека — референтом был или чьим-то секретарем, а не то помощником, так никогда и не мог разобраться, но имел отношение к его прежнему НИИ и министерству тоже. Самая же отличительная черта — все про все и всех знал. Он-то и объяснил Сергею с искренним удивлением, хотя и несколько свысока, одновременно задавая свои вопросы и вопросики: «Как, неужели не знали? Да не может того быть! Давно не новость. Как, эта фамилия ничего вам не говорит? Ну знаете!.. И портреты в газетах были, и некролог. Да нет, не его, да вы что, представить себе не могу! А тот ваш дебитор, несостоявшийся герой ваш переведен в небольшой среднеазиатский городок, где его знания используются на местном заводе по производству безалкогольных напитков».
Но это, как уже сказано, Сергей Невраев узнал, когда все ушло на круги своя и остался лишь, так сказать, исторический интерес. В описываемое же время, о, многое еще предстояло Сергею пережить и испытать. Самый разгар страстей, когда началась кампания против шефа и Сергей отказался в ней участвовать. У многих накипело, ждали подходящей ситуации да хорошенького материальца. За Сергея и ухватились. Просили, объясняли, улещивали и требовали. Как не понимает, в его же прежде всего интересах, срочно чтобы отправлялся в министерство изничтожать злодея. Коллектив поможет. Момент наиоптимальнейший. А Сергей ни в какую. Уперся что баран в новые ворота. Ладно, боишься сам, тогда подпиши. И сунули отлично сработанную «телегу». И мотивировано ловко, и острые углы обойдены, заодно кое-какие имена и необязательные фактики опущены, тон сожалеющий и убийственный одновременно — рука многоопытная потрудилась. Но Сергей Васильевич и тут пожелал остаться при пиковом интересе, что, заметим, окончательно и бесповоротно восстановило коллектив против него.
Случаются дни, недели, месяцы, когда сознательно и бессознательно делаешь все непременно во вред себе и своим присным. (Именно во вред — так расценили и Воронов и Регина.) Составил на первый взгляд совершенно без надобности, не говоря уже, что никто его к тому не понуждал, справочку, в которой черным по белому указал, что работа, связанная с исследованием того-то и того-то, которую предполагал использовать в качестве кандидатской диссертации, была им не завершена в связи с неудачами и несовершенством предложенной им методики, а потому он, такой-то, счел своим долгом отказаться как от дальнейшей разработки указанной темы, так и ото всех предварительных наметок. Справочку подписал и снес в профком, где долго не соглашались ее принять, уговаривали, удивлялись и хотели отправить его восвояси. Может человек сжечь сам свои корабли или не может, хотел он крикнуть. Но вместо этого пустил в ход угрозу обратиться в вышестоящую организацию. Угроза подействовала.
Таковы факты, как принято говорить при судебном разбирательстве. Факты, изобличающие полную несостоятельность Сергея Васильевича в качестве борца. Факты, говорящие о нем как о человеке, страдающем определенного рода — да, да, да, не будем бояться слова — «комплексами». Даже по мнению Воронова, относящегося к нему с заведомой приязнью, предугадать или вычислить его поступки представляется маловероятным, а это признак, согласитесь сами, настораживающий.
А проявившееся во всей красе стремление к жертвенности как прикажете понимать, как расценивать? Каждый должен быть ясен. Запрограммирован соответствующим образом. Иначе, что ж, иначе такая вот чепуха, специалист, наделенный, конечно же, кое-какими способностями, в силу некоторых печальных свойств своего характера оказывается за бортом большой науки.
Заходя вперед, скажем, что нечто в духе изложенного здесь резюме, только разбавленное ядовитым туманом, было написано в характеристике, которую получил Невраев, покидая опостылевший НИИ.
А тогда… Что было тогда? И работа, и окружение, и диплом кандидата, который так глупо, так постыдно преподнес другому, — все стало казаться каким-то ненастоящим, понарошечным, что ли. Поехал, помнится, в Приокский заповедник (из задания, которым по милости «злодея» шефа занимался, следовало проверить на тамошних землеройках некоторые штаммы). Самое начало весны, первые числа апреля. Тишина, треньканье синиц, капель на солнцепеке и воздух!.. Вот когда почувствовал и понял, что такое «благорастворение воздухов». И все жарче пригревает солнышко, и длиннее и мягче вечера, тетеревиное чуфыканье, бередящие душу охотника силуэты птиц на фоне догорающей зари, ночной дождь с молниями и дальним рокотаньем грома… И какая-то нежданная, негаданная безмятежность, необремененность, словно после долгой одоленной болезни. Тут еще скрытое и беспрестанно о себе заявляющее возбуждение в природе… Бог ты мой, что же раньше-то, где он раньше-то был? Как мог жить без этих запахов тающего снега, разогретой хвои, синевы теней, наконец, первых робких подснежников на опушке? Еще чувство: вот оно действительно важное, действительно необходимое — тысячи тревожных сообщений со всех концов об уничтожении большею частью бессмысленном, нечаянном, попутном, а то и злоумышленном, варварском убиении природы…
Регине растолковывать не стал, тему якобы закрыли, другой нет, и что не может, не хочет, не в состоянии и так далее… И написал заявление об уходе.
— Представь на минуту, что ограничений не стало, — упорно развивал Воронов свои теории. Спорить с ним не прекратил один Паша Кокарекин. Изучил преотлично в своей негладкой журналистской деятельности позиции, с которых не хотел или не мог в силу каких-то причин сойти Александр Борисович. Признать позиции эти — да сколько угодно, что Паша и делал с веселой душой в куда более затруднительных, кризисных положениях; но тут, о, тут он чуял некую невысказанную подоплеку, в которой очень хотел разобраться. Воронов же, обычно немногословный, скажет как отрежет, теперь, вот уж точно вожжа под хвост попала, никак не желал угомониться. Возвращался к тому, что вроде бы обсудили со всех мыслимых сторон, и на новых примерах, не жалея красок: — Нет ограничений — и сотни юных безумцев вместо того, чтобы мирно готовиться к переэкзаменовкам или чем они там занимаются в летние каникулы, ринутся на Ушбу, дабы поразить своих одноклассниц. Если и теперь нет-нет снимают спортивные группы с маршрута спасать лихачей туристов, что тогда? Далее. Ответь мне, пожалуйста, какое значение имеет, взошел ты десятым или сотым? Взял вершину — значит взял, Коли на то пошло, для каждого новая вершина — первовосхождение.
— Не скажи, — вступился Жора Бардошин. (Казалось бы, уснул давно, ан нет, бодрствует.) — Появляется особое, замечательное ощущение, если идешь действительно первым, самым первым из людей ступаешь по бесконечно девственной земле.
— И ты туда же! Или цитируешь? Готовый абзац для романтического отчета. Запомни, Паша, пригодится. Однако рано песню эту петь. Стена впереди. Так что… вернемся к нашим баранам. В первовосхождении один смысл — уничтожение «белых пятен», — вернулся он к своим поучениям. — И разумеется, обследование, изучение, имея в виду тех, кто пойдет после.
«Будто с кафедры вещает, — внутренне противоборствовал Сергей. — Ты же обязан внимать, разиня рот. — И отвлекаясь: — Ветер не на шутку. Ему же и горя мало».
Ветер и вправду крепчал. Дальний пронзительный свист переходил в подвывания, когда юлил где-то ниже среди скал, полотнища начинали дергаться, хлопать…
— Спасательная служба! Безопасность! — выкрикивал Паша Кокарекин, состязаясь с ветром. — Пойдет так дальше, на вертолетах вершины будут делать. Куда ни сунься, требуют маршрутную книжку. Ходили в одиночку, это я понимаю. Один на один с горами, и рассчитывать не на кого, кроме как на себя. Один на один, чуешь?
— Альпинизм превращается в некий регламентированный вид отдыха, — сам не зная почему, поддержал его Сергей.
— Чтобы так отдыхать, нужно железное здоровье! — хохотнул Жора. Удивительно: ночь прошлую прошлендал, и хоть бы что. Не раз бывало, радио ли, болтовня ли кругом, спит за милую душу.
— Одиночки рано или поздно погибают, — вел свою линию Воронов. — Взять самое начало нашего альпинизма: Зельгейм на Эльбрусе, которого некому было разбудить во время бурана, Настенко, сорвавшийся со стены на Ушбе. Потерявший чувство реальности Кассин; Герман Буль… Список велик.
— Не ко времени завел перечень, — остановил его Сергей. И не удержался сам: — По мне, если хочешь знать, восхождение Кассина — подлинная героика, пример поразительный, чего может достичь человек, одолеваемый любовью, нет, страстью… Ну а гибель… Да он и не почувствовал, так был истощен и умучен. Его записка, оставленная на вершине пика Коммунизма: «Благодарю бога, детей своих и Кирилла Константиновича, давших мне силы закончить этот путь…»
— При чем тут бог и дети? — не понимая, возмутился Воронов и пошел, и пошел…
…Разговоры эти шпорили и подгоняли несчастные мысли Сергея. Не сейчас, раньше возникла призрачная, сотканная из невозможных, казалось бы, предположений, а там с каждым часом обраставшая подробностями, совершенно нереальными, конечно, нашептанными вышедшей из повиновения, высасывающей его сердце ревностью, жаждой, которую ничто не могло напоить, не мечта, не идея — видение, отталкивал со стыдом, с отвращением и призывал снова, — нелепое, дикое, фантастическое видение распростертого на камнях трупа, как видел однажды… С проломленной, изуродованной головой Жоры Бардошина. И теперь на миг единый зримо, яростно предстало оно перед Сергеем и отлетело, оставив его униженным и опустошенным…
— А Назаров! Юлий Федорович… — не унимался Паша. — Пик Ленина в одиночку! Интеллигентнейший человек…
— Одиночки рано или поздно погибают!
— А почему? Ты что, не знаешь? — Чувство справедливости Паши уязвлено, он метал громы и молнии. — Потому что понадеялся на других. А его предали.
Воронов и тут за точность и проясненность до конца:
— Трагедия с парашютистами на пике Ленина случилась, потому и продукты не сбросили, было не до него.
— «Было не до него»! Юлия Федоровича не признавали. Он делал то, что другие едва вытягивали, собрав экспедиции и расходуя немалые средства. А он — в одиночку. На свои отпускные. Единственный раз понадеялся…
— Ни к чему винить других. Тем более в случае с Назаровым. Да, мы за коллективизм. При любых обстоятельствах мы будем выбирать в пользу коллектива, не доморощенных героев.
— Зато полное единение с природой, — сказал Сергей поникшим голосом. — Если больше одного, начинается та самая психология… В которой мы сейчас тонем.
— Ты о чем? — не расслышал Воронов. И отмахнулся: — Прогорклые сливки с индийской философии.
…Не мог Жора Бардошин жить не победителем. Так устроен. Конечно, не всегда доставались первые места, но боролся до последнего. Боролся, покуда сквозь пот и кровь с яростью и злобным удивлением не начинал убеждаться — не для него. Но и тогда не оставлял вожделенной цели, не мог, как иные, взять и отказаться… Еще и потому столь катастрофичны оказывались поражения. Все их помнил Жора Бардошин, с малых лет. Углями тлели в сердце, стоило чуть подшевелить — жгли.
Как его угораздило влюбиться? Поневоле согласишься с древними мифами про бездельника Амура: из насмешливой детской резвости пуляет отравленными стрелами в кого придется.
Страшно подумать, третий год тянется…
Собирались на Кузнецком у Вавы. Отчество и не знал никогда, фамилия?.. И друзья, и едва знавшие звали запросто — Вава. На пенсии уже, они, балетные, в тридцать пять на пенсию выходят, подумать только. Тощенькая, быстрая, с мелкими, приветливыми чертами лица, недавняя вдова. Жора, несколько лет всего, как в Москву перебрался, был еще очень зелен, и Вава показалась ему дамочкой что надо. Артистка! Высший тон. При ней состоял, а точнее, жил на ее хлебах нагловатый молодой мосфильмовец. Днями он где-то рыскал, вечером же являлся на огонек в отличие от прочих с пустыми руками. Впоследствии он чудовищно растолстел и удачно выступил в нескольких комедийных фильмах, отчасти благодаря этой своей толщине, отчасти еще более усилившемуся нахальству. Женился он, разумеется, на другой. Вава же и в то время не скрывала своего намерения выйти замуж. Как-то все по-дружески, без затей было, карты держали открытыми.
У Жоры водились деньжата, опять же «Жигуль», да и парень он разбитной, так что принят был и приглашаем приветливо. А Вава, ее главное достоинство, помимо открытого нрава и великолепной квартиры в старом доме с высоченными потолками, уставленной разнообразным антиквариатом (муж покойный страстным собирателем был), ее основное, в понимании Жоры, достоинство заключалось в весьма широком круге знакомств из театрального мира: Большой и Малый рукой подать, и сама она в недавнем или давнем, не будем так уж пристально выяснять, прошлом танцовщица; постоянно к ней забегали по-свойски, на огонек, а не то что-то кому-то передать, с кем-то увидеться и так посидеть, расслабиться, забегали в том числе весьма привлекательные актрисули балетные. У нее Жора впервые увидел Регину.
Его только будто чуть кольнуло, когда глаза их на секунду встретились. Кольнуло совсем легонечко и приятно, и приятно возбудило, чего некоторое время не случалось.
На Жорином счету числились победы все больше над женщинами зрелыми, в любовных перипетиях искушенными, иногда замужними, одним словом, такими, с которыми довольно скоро устанавливалось взаимопонимание и сложные цирлих-манирлих ни к чему. (Как раз к тому времени относился роман с очаровательной кассиршей из Сандуновских бань, роман бурный, изобиловавший великолепными сценами ревности и нежными примирениями. Заметим, что ни кассирша, ни те, которые проходили до нее, а также после, заметного следа в душе и биографии Жоры Бардошина не оставили.) Итак, хотя укол был как бы даже вскользь и совершенно между прочим, яд начал действовать. Спустя неделю или около того Жора, добыв билеты на «Жизель», приметил ее на сцене в числе прочих. Сбегал в антракте за биноклем (места были не очень) и далее рассматривал очень заинтересованно и заметно волнуясь. И зачастил к Ваве.
И никак не мог решиться расспросить Ваву. Имени (в тот первый раз как уши заложило) и то не знал. Прохаживался возле театра, а то затаивался в сторонке, высматривал — не появится ли, придумывал эффектные случайности и ловкие комплименты и ни разу ее не встретил.
Никаких определенных действий Жорику предпринять так и не удалось, сроки диссертации поджимали, хочешь не хочешь, взялся вплотную за науку, не засиживаться же в аспирантуре. И правильно сделал. Не переломи он себя, не отлепись от радужных мечтаний… Жизнь, она такая, сегодня дорожка сама под ноги стелется, а завтра, что завтра будет — никому не дано знать. Материалец насобирал для диссертации шикарный, на докторскую тянул, да уж ладно, и так слухи, будь они неладны, о его проказах казанских и кое-каких якобы заимствованиях из кубышки покойного шефа… Находятся жаждущие склоки бузотеры среди ученой братии всех рангов, но при необходимости можно сыскать и на них управу в лице их врагов и противников. Зарубите себе на носу. (Тут еще кассирша возымела намерение замуж за него, иначе — в воду. В Сандунах вон какие бассейны! Легко ли, спрашивается, утихомиривать всякий раз, приводить в чувство?) Годик выдался — за три потянет.
А когда до защиты оставалось всего ничего — с оппонентами полный контакт, подтягивал хвостики, — снова в Большом увидел Регину.
Она уже танцевала «Танец маленьких лебедей», и как танцевала! Разные их па, верчение — он еще не очень разбирался, но ножки! Поворот головы… Сидел совсем близко, в партере. С ума сойти — изгиб шеи и опущенные глаза, чуть припухлые губы, убранные назад волосы, открывавшие розовое ухо… Сорвался перед последним действием — и к трем вокзалам; у каких-то молодцов в кепках с длиннющими козырьками набрал на полсотни роз, скорее обратно, к служебному подъезду, но теперь уже без глупостей: пятерку старухе, восседавшей за столиком при входе, в минуту разузнал, что требовалось, черканул несколько восторженных слов (конверт у многоопытной тоже нашелся), и букет с вложенной запиской был отослан в артистическую уборную Регине Невраевой.
Здраво рассудив, что форсировать события не следует, Жора спокойненько отправился к себе на квартиру, точнее в комнату, которую снимал тогда у милейшей Пелагеи Степановны, Поленьки, благодаря всеобъемлющим заботам которой был избавлен и от коварства кассирши, и, в частности, от хождения по столовым.
Этот период, который мы для удобства назовем вторым периодом его наступательных операций, полон многих безуспешных попыток как-то сконтактироваться с Региной. То казалось, вот-вот, еще немного настойчивости и что-нибудь поэффективнее из его проверенного арсенала — ведь как легко, шутя прямо-таки завязывал отношения в кино, в магазине, да где угодно, — а не то подойти прямо, открыто и с веселой миной: «Вы сегодня как никогда дивно танцевали!», можно и получше, и повдохновеннее, не следует только заранее придумывать, но — чтобы импульс сработал, остановить внимание, вызвать улыбку, слово в ответ, ухватиться и преодолеть… пропасть. То впадал в совершенную ипохондрию, зарекался и ходить возле театра, зарекался надеяться, сочинять свои далеко ведущие прогнозы, которые все одно не исполнялись, крыл в сердцах мужа ее заодно с нею, хотя ровным счетом ничегошеньки о нем в ту пору не знал, и что совсем непостижимо — из какой-то неведомой прежде, унижающей душу боязни не отваживался расспросить да ту же Ваву, которой все про всех известно. Наверняка лауреат, профессор (об актерах крупных с такой фамилией вроде бы не слыхать)… Званий страшился Жора, отличий, — самолюбие его страдало. Но характер есть характер, а настойчивость — добродетель, проходила неделя, другая, и Жора снова дежурил у подъезда артистического, высматривал возле ее дома, притаившись в «Жигуле» с букетом и большой коробкой шоколада, которую так и возил под сиденьем, а цветы, что же делать, преподносил несравненной Пелагее Степановне, Поленьке, чем, пожалуй, даже излишне стимулировал ее нежное внимание и заботливость. Ездил как на работу — точнее, чем на работу. Пока наконец в одно из таких, сделавшихся привычными, почти необходимыми бдений во дворе ее дома не увидел ее выходящей из подъезда в сопровождении не слишком казистого мужчины в берете и спортивной куртке, купленной в каком-нибудь «Динамо», и сообразил, что муж. Не тотчас одолев разочарование и обиду, по многим параметрам обиду (видок у мужа, мягко сказать, никуда! Не то что на профессора, а и на захудалого инженеришку не тянет), подумал: а не подвезти ли их? Напустить веселую приветливость и: «Какая встреча!» И не решился. И правильно не решился, как стало ясно впоследствии. Но вот беда, встреча эта послужила разве что к острейшему усилению жажды, стремления изнуряющего… Чего он хотел, он уже и сам не знал. Понял лишь, что радостной, легкой, необременительной связи ему не добиться.
А то накатывало: отомстить за надежды и планы, манившие близкой, совершенно реальной возможностью и разлетавшиеся в пух и прах, едва делал первый робкий шажок. Как бы упился он видом ее страданий! Не случайных, тем более по каким-либо сторонним поводам — он чтобы был причиной. Как бы торжествовал!
«Дура, — шептал с искренним удивлением, — что она из себя строит? Да должна бы руками и ногами ухватиться. Поманежила, поводила за нос и предъяви свои карты. Да он… во всяком случае, ничего бы не пожалел. Сколько привез разного барахла, когда в Алжир ездил. Из Эфиопии тоже. Любимые враз порасхватали. «Жигуль» только и уцелел. Водить не умеют, иначе и «Жигуля» бы след простыл. А уж для нее — из кожи вон, такие вещички бы добыл. Нет, положительно, бабы дуры. Все бабы — дуры!»
Преследования, поджидания, воодушевленные намерением смело и раскованно… Что мусолить: было, повезло, дождался и на первых же лихих фразах сник под отстраненно-холодным, отсекающим взглядом, в котором не было ни кокетства, ни любопытства — ведь знакомы же! Вава, у нее, у Вавы!.. — ни вежливого недоумения, только: вы мешаете мне пройти. Как побитый… Дал себе слово, что теперь — подите вы все туда-то и туда-то! — что он, мальчик, что ли? Да если хотите знать… На этом запал его кончился, иссяк. А втайне, стыдясь самого себя, уже скорбел и… надеялся.
— …Кстати, о диктате, — говорил Сергей, поморщившись внутренне от рифмы и тут же решив, что оно и лучше, о серьезном с усмешкой. — Дражайший Александр Борисович пропагандирует четкое и бескомпромиссное исполнение любых правил, установлений, более того — пустых формальностей. В какой-то степени, я бы оказал, возврат к позиции силы. Но, если вас, маэстро, интересует современный взгляд на отношения человека и природы, то любопытный обнаруживается поворот. Экологический подход признает за природой право собственного развития. Так сказать, на свой лад и страх. Каково! Каков сдвиг в нашем чванливом самовозвеличивании.
Жора подумал, как не надоест в ступе воду толочь. А впрочем, что ему до их споров, рассуждений? Маменькины сыночки. Что они знают о жизни? Прошли бы его школу, помыкались, как он, по интернатам…
— …Курский склад боеприпасов! — вопил Паша, с лихвой перекрывая шум и свист ветра и хлопанье палатки. — В школьные годы в Курске у дальней родственницы летом жил. — И пересказывал, как вывозили проржавевшие немецкие снаряды и авиабомбы. — Что ж, и там не было игры в орла и решку?
— Чихнул — и до свидания! — вставил Жора.
— Определенный риск имелся, не спорю. Но в силу острой необходимости, — парировал Воронов. — В альпинизме же…
— Согласись! — не давал ему удалиться в дебри схоластических построений Павел Ревмирович. — Рассудок и расчет лишь помогают. Высочайших вершин достигает тот, кто умеет отдаться мечте, подчинит ей свою волю.
«Вот! Вот!» — ухватился Сергей. Это было как одобрение и подтверждение его трудных мыслей, которые напирали, кружа голову, и откатывались, оставляя после себя недоумение и тянущую пустоту.
— Наоборот, — отрезал Воронов. — Тот, кто в состоянии обуздать свои порывы, подчинить их холодному расчету, выверить и выстроить свои поступки… Почему Джомолунгму победила великолепно организованная экспедиция, а эти твои вдохновенные одиночки гибли, не доходя до вершины?
— Не передергивай! — едва не выпрыгнул из своего спального мешка Павел Ревмирович. — Великолепно организованная экспедиция создала возможность победы. Подготовила условия. Победили же два человека, одержимых мечтой. А вдуматься, так и вовсе говорить следует об одном. Для Тенсинга это был путь к богатству, к славе, и только. Он здесь у нас и на Эльбрус-то не пошел. Проторчал на Приюте одиннадцати и вниз.
— Чего ради размениваться на пустяки? — хохотнул Жора.
— Однако Гагарин летал. Тренировался, как летчик, и погиб в полете. Не захотел быть музейным экспонатом, — мягко возразил Сергей.
— Ё-ма-ё, Гагарин! Попробовал бы кто запретить Гагарину.
— Вопрос как раз в том, что Гагарин хотел летать и летал, как правильно заметил мой всегдашний оппонент, — смилостивился Воронов. — Во-вторых, что за выражения? Мы же договорились.
— А что? У эфиопов имя есть Ёмаё. Еще Абеце. У меня шофер был Абеце, когда в Эфиопию ездил. — Жора смолк было и изменил своему правилу не вступать в никчемные объяснения. — Вообще это все игра в индейцев, я вам скажу, а споры ваши — мура. На постном масле. Курский склад! Когда это было? Опять же наверняка солдаты вывозили. Пойди заставь гражданских. В наше-то времечко. За большие тысячи, может, какой и сыщется. Престиж! Карьера. На худой конец, монеты. Вот те слоники, на которых мир держится. Еще — сила. Один может. Другой нет. Остальное соус. Подлива. Хиллари на Северном полюсе побывал и на Южном, не говоря про Джомолунгму. Как он всего добился, через что сумел перешагнуть, кому какое дело? И кому какое дело, романтик он или кто, хороший или плохой? Хороший, если на то пошло, дома сидит и не рыпается, да занимается размышлениями, как бы какую поганку не обидеть, и прочим самоедством. — Он было еще подивился на себя: чего ради раскрывается? Играть с ними надо в их игры и поддакивать. — Чистоплюйство — занятие привлекательное, что и говорить, — посмеивается он. — Кому не по душе самолюбие свое тешить! Да только сделать что-нибудь толковое, уж не говорю, пробиться в первые ряды, — через сколько унижений, скрытых и явных попыток изничтожить тебя надо пройти. Какие кулаки и плечи требуются, и то, что из плечей растет, у большинства, кстати, без никакого применения. Было, наивничал: живем мы для народа, для будущего всеобщего счастья, эрго, что ни придумал хорошенькое — сейчас подхватят безо всяких понуждений и в дело. Ха-ха! Как собаку какую начинают травить, как врага своего личного…
— Хе-хе! — передразнил Паша. — А ты что же, решил, сейчас тебе венок на шею, ордерок на квартиру и прочие радости? Какой ушлый! Только ради благодарностей и можешь стараться. За чистоган. Кто делает хорошее да еще не совсем в свой карман, знаешь, как с такими поступают? Хе-хе! Распни его, кричал народ иудейский, когда Пилат спрашивал, какое же зло причинил им Христос. Распни! Ясненько? Ну да сие не для твоего разумения, — оказал Паша с плохо скрытым пренебрежением. — Тебе-то никакие беды не угрожают, если только от зазнайства. Делишки свои обделываешь чисто. Хотя вот по губе схлопотал. Что скажешь? Ничего? И правильно. И замнем. Для большей ясности. А только есть, есть они! — влекомый совсем иным чувством и тем не менее поминутно возвращаясь мыслью к Жоре Бардошину и отмахиваясь с тоской и неприязнью, заспешил Паша. — Есть такие, что ради идеи, ради дела высокого не только трудов, а и живота своего, крови своей не пожалеют. И никакие венки и ордерки ни при чем. Пойдут на плаху за идею и на амбразуру тоже, из которой поливают пулеметным огнем. Были и есть. И будут. Ими держится мир. Вот так, мастер Барсик, на мой непросвещенный взгляд.
— Ох ты! Ах ты! — засмеялся Жора, как-то очень ладно вписываясь смехом в хлопанье палатки. — До чего мы любим возвышенные слова! Хорошо живешь, вот что я тебе скажу. Без хлопот, без забот, А жалобился, сирота!
Паша не ответил. Зато Воронов строго:
— Оставь!
— Чего «оставь»? Что я такого сказал? Он меня казанским сиротой называет, ничего? Вообще, бросьте вы нюни разводить! То нельзя, это не говори. Да такие родители, как у меня… Что я им нужен, что ли? Я как в интернат попал, так все, больше не вернулся домой. Чего мне там делать? Полустанок, два дома с половиной, кругом лес, поезда, и ни один не остановится, чего мне там было делать? Огород копать да веники для козы готовить? А то родители! Я еще совсем от горшка два вершка, меня акробаты наши интернатовские в свою секцию приняли. Кидали, крутили, роняли, я хоть бы хны. С ними на сборы, на соревнования ездил, чем плохо? В городах разных побывал. Потом, думаю, в спорт большой идти, а то, может, в цирк? И там, и там пробиться, рисковать надо, а голова одна, хребтина тоже. Тут еще один на отборочных хряснулся на спину. Нет, хорошенького понемножку. А если учиться дальше? В случае чего диплом можно побоку и рабочим, многие так поступают.
На Жору нашло: нет, не откровенность, не желание объяснить — не защищаться он теперь стремился, но, противопоставив свое, заставить признать его превосходство, подавить их. Сам, своими руками, хитростью, изворотливостью, стойкостью, если угодно, наконец, терпением и настойчивостью достиг. И куда большего достигнет, дайте срок. Между прочим, еще и потому достигнет, что смеется над их жалким копанием в себе и в так называемых нравственных проблемках и вопросиках. Пустая трата времени, распыление нервной энергии. Дело важнее. Но превыше всего — результат. А какой ценой или, скажем иначе, каким путем, не все ли едино?
— У нас ведь как, — посмеиваясь рассуждал он. — То техника в моде, в технический не протолкнешься; то совсем наоборот: занюханный библиотечный — и конкурс. Начались, помню, разговоры, биология — наука будущего. Тайны живой клетки, то, сё. Потрепался с секретаршей, она мне разъяснила, чего надо; полбалла не добрал, все одно втиснулся. — И по ходу Павла Ревмировича куснул: — А то идея! Интересно человеку, хорошо, тут они и все идеи.
Паша, Павел Ревмирович, как и не слышал Жориных признаний. С болью душевною и гордостью развивал свое:
— В старых книгах писали: без праведника не стоит село. А продолжить эту не такую уж хилую мыслишку, так можно сказать, что без жертвы никакое вообще крупное, тем более высокое дело не держится. Ни дело, ни правда, ни любовь без жертвы не живут. Жертва, она, ой-ей-ей как иной раз необходима. Ну, махнул я, пожалуй, несколько с амбразурой — шикарный образ, столько эксплуатировали, а и без амбразуры… Поди-ка решись… Нужен подвиг. Пусть случайный, даже вынужденный. Для крепости душевной. Для тонуса! Иначе превратимся… Когда ролик с порнофильмом или там джинсы рэнглеровские…
Самому неловко. Приподнял «молнию» на палатке, выглянул наружу и сплюнул.
— Облака несутся! Лунишка, что твоя арбузная корка, ныряет… — И, позабыв про погоду, ринулся восхвалять Сергея Невраева: — Я эти свои соображения прежде всего Сергею адресую. В смысле — незачем удивляться, отчего не звонят в колокола и не показывают его физиономию по телеку. Да он, конечно, не ждет и не удивляется. Он, Сергей наш свет Васильевич, не знаю даже как сказать, он, в общем… такие больше иных-некоторых, всяческими наградами увенчанных, в нынешнее наше лихоманное времечко требуются. Техника, наука, знание-раззнание, всякие там успехи и открытия — навалом, по самую завязку, а вот чтобы душа, совесть или то самое самоотречение… Забытые едва не начисто понятия. Вдумаешься, и как ветром очищающим… Не карьеру свою научную гандобит, не пьедестал, на котором красоваться да сибаритствовать… Птиц разных, зверей, леса защищает от нас, обнаглевших и запутавшихся в превеликих наших достижениях. Вон, пожалуйста, национальный парк в районе Кенозера, слыхали про такое? А вот будет. Должен быть! И в том его немалая заслуга. Для самого себя что-нибудь выхлопотать его не хватает. Небось и лень. Для других, для братьев наших меньших, для дела вовсе не выигрышного, ни у кого, за редким исключением, не то что поддержки — внимания элементарного не встречающего… Я и то случайно узнал. Наш брат журналист по свету мотается, всюду нос сует. Рассказали, как оно там вытанцовывалось. Здорово, одно скажу. Замечательно! Какую прыть развил! Какую стену равнодушия, исконного российского «моя хата с краю» надо было пробить. Браво, ей-богу. И низкий поклон. А пофортунит дальше, то есть встретит побольше людей понимающих, которые вперед глядеть могут, не только прорехи нынешние латать, так и… целые реки спасет. А с ними леса, климат… Ладно, стоп. Жаль, мы в палатке, не то в самом деле в ноженьки поклонился. Расшибусь, а напишу о Сергее. И не какой-нибудь репортажик. Большой, хорошо оснащенный фактами очерк сделаю. Слова разные у нас умеют произносить, разумное, доброе сеять — да сколько угодно, и обещать с три короба, а вот чтоб за гуж взяться… Не напечатают? Найду, для которых это свое, кровное, для которых своя земля не чужая.
— Ну-ну, — пытался унять его Сергей. — Разошелся. Сам же только что: благодарность ни к чему.
— Дурында ты моя горячо любимая, про тебя для других напишу. Ясно? Чтобы знали, чтобы ведали, чем гордиться следует и кем. Чтобы не только про фирменных девочек сны видели.
— Фу, фу, фу, — отдувался Сергей. Тем не менее укрепляли и поддерживали его шумные эти хвалы, уводили от темных мыслей, безрадостных воспоминаний. Паша… спасибо ему.
— А экспедиция… — Жора Бардошин — будто и не было панегириков в адрес Сергея (либо наоборот — выбили его из всех мыслимых пределов). — Экспедиция работает всегда на одного, двух, на нескольких удальцов. Наши формалисты взяли бы меня на Эверест! Ходил, просил. Долдонят: высотных восхождений у меня нет, звания мастера нет. Надо человека оценивать по его возможностям. А то устроили корпорацию. Я бы их всех там придавил!
— Это как же так, придавил? — восхитился Паша, оставив без ответа Жориково бахвальство. — Ай-яй-яй! Нехорошо, Мы тут о высоких материях, а ты… — И ввернул показавшийся кстати эпизод: — Жорик наш, между прочим, больше всего на свете любит, как бы вы думали, что? — И словно победителя объявляя: — Давить кошечек любит, перебегающих у него под носом дорогу. Мы с ним однажды чуть в Москву-реку не угодили, потому что бедный котик оказался проворнее его «Жигуля».
Воронов не хочет вступать в их счеты, Воронов — о точности и единообразии в наименовании вершин.
— Анекдот состоит в том, что сам сэр Джордж Эверест, начальник геодезической службы, в глаза не видел горы, названной в его честь. — Следом напомнил, что спать давно пора. — Завтра решающий день! — Он прислушался к затухающему в отдалении порыву ветра. — Если, конечно, позволит погода.
Увы, глас вопиющего в пустыне. Паша на всякое слово — дюжину в ответ. У Сергея сна ни в одном глазу. Странное какое-то ожидание. Чего? Чего ему ждать, опрашивает себя Сергей. Ну, разве что завтрашней погоды и как со стеной? Тревога разлита в воздухе, кажется ему, напряжение…
Воронов думает о предстоящем штурме, думает неотступно, хотя вслух ни полслова. Тем не менее лишь позиция Жоры Бардошина однозначна — штурмовать, и никаких гвоздей. У Воронова, у Сергея, да и у Паши Кокарекина отношение сложнее. Эта усложненность и непроясненность мотивов оказывается еще одной движущей силой непрекращающихся споров.
— Чего ради уповать на «авось» и «кривая вывезет», а после проклинать? — увещевает Воронов. — Ум человеку для чего дан?
— Умный в гору не пойдет! — посмеивается Жора.
— Умный сделает так, что другие будут на него работать, так по-твоему? — озлившись, накинулся Павел Ревмирович. — К этому твоя философия сводится?
— А что, точно, — соглашается Жора. И, ерничая: — А слюнтяй свое, кровное, другому отдаст.
Павел Ревмирович молчит. Потом, будто сорвавшись со всех своих опор:
— Играешь в простачка… Давно вижу, весь твой альпинизм в том и состоит, как бы в мастера спорта пролезть. Спишь и видишь…
— Чья бы корова мычала!.. Сам-то, погляди лучше на себя. За спиной Сергея и разряд получил, и все. И наушничаешь ему за то. Трепло несчастное!
— Вы что? — вмешивается Воронов. — Сейчас же прекратите.
— Я трепло? — Кажется, все уязвленное чувство справедливости, все негодование, постепенно нараставшее и достигшее апогея, слились в глухом Пашином вскрике. — Да как ты смеешь? Ты! Пенкосниматель! Знаю о твоих делишках, сирота казанская. Привык на чужом горбу в рай… И про твои, простите за выражение, научные труды теперь знаю. Как за уродиной профессорской дочкой в Казани ухлестывал, проходу ей не давал, а помер папочка, и все его бумаги неким чудесным образом исчезли. Не расскажешь ли, ты в их доме ел и пил, дневал и ночевал. Не так, что ли?
— Это рыжий тебе наплел? Ну я ему дам. Он у меня пожалеет, что из Одессы уехал. Я ему устрою… метель. А насчет пенок…
— Иначе спускаемся вниз, — пытается остановить Воронов. — Отменяю восхождение, и вниз.
— Насчет пенок… — Жора Бардошин смеется: — Я с варенья пеночки снимаю, а ты…
— А ты, я вижу, в самом деле идешь на отказ от штурма стены, — уже не угрожая, но констатируя складывающееся положение, властно заявляет Воронов. — Очень жаль!
ГЛАВА 7
Жорик Бардошин не в открытую, однако вполне откровенно посмеивался на остережения Воронова. Как же, обойдутся они без него! Да Воронов все восхождение затеял ради стены. Чуть не целый год готовились. А когда он, Жорик, маханул в Одессу-маму и далее, как замыслил, тот ждал без дураков его возвращения. Ждал и какого-то вызвавшегося на его место паршивца побоку. И чтобы отменить сейчас, когда она, стеночка разлюбезная, вымечтанная, вымоленная, рядышком, сидим под нею, — хе-хе!
Жорик уже подремывал, успокоенный железной логикой своих соображений, и совершенно между прочим, развлекая себя, принялся вспоминать кое-какие события минувшего времени.
Горьки и сладки были эти переживания, но теперь, после блицтурнира с Фросей, или Фро, как он, несколько осовременивая, переиначил ее имя, теперь — ты скажи! — снова настраивали вовсе даже не на минорный лад, напротив — бешеное желание пробудили добиться своего.
Не тут ли таился секрет Жориковых успехов: он не признавал поражений; никогда не считал их окончательными; что бы ни случилось, какие бы фокусы ни подстраивала обманщица фортуна, это были лишь подножки, которые не в состоянии сбить его с ног. Его кредо? Бороться до конца всеми возможными методами!
Конечно, если подходить с нормальными мерками и трезвым рассудком, конечно, большой ошибкой для нашего Жорика было влюбляться в Регину Невраеву.
Хорошо, весело, беспечально жилось ему благодаря заботам меняющихся дам, которые, высоко оценивая некоторые его достоинства, терпели непостоянный, легкомысленный нрав. И вдруг — нелепая, жгучая страсть к женщине не то чтобы недоступной (по мнению Жоры такого в природе быть не может), но не проявляющей ответного интереса и, что уже вовсе обременительно, оказавшейся к тому же еще и женой товарища. Ибо случилось так, что с Сергеем Невраевым они стали если не друзьями, то товарищами точно.
В прошлом году в июле наш Жорик отправился в Алибек. Старый, хорошо освоенный альпинистский район, вершины на любой вкус, и, главное, рукой подать. С Региной вроде бы окончательно наперекосяк. Сколько можно, тебя игнорируют, тобой пренебрегают, мало того, что не желает общаться, а и на самые деликатные, подчеркнуто робкие попытки заговорить — пренебрежительное молчание и отворот в сторону; что же дальше-то, куда еще! Да и кандидатская, с которой Жорик вполне благополучно разделался и даже ранее срока, тем не менее масса писанины, хождение по инстанциям, наконец, защита, а там утверждение в новой должности; другие менее приятные хлопоты и приятные тоже, всего не перечесть, однако отвлекают и лечат. Излечивает эта самая крутня от душевных болестей и обид. Тут еще девочка очень замечательная Жорикину дорожку пересекла, папа — замминистра. Впрочем, папа-то и смущал. В самой той области папа, где Жорик подвизался. Весьма неплохо, имея обнадеживающую опору, на серьезные отношения поворачивать, да только… И объяснить, по сути, нечем, но на данном историческом этапе не мог даже и вообразить Жорик столь однозначное завершение своей вольной жизни. Не говоря уже, что предыдущее казанское жениховство хоть и принесло ему в конечном счете кандидатскую, но и обвинений разнообразных навалом. Итак, с гудящей от перенесенных забот и хлопот головой и как бы даже расстроенным сердцем приехал Жорик Бардошин на Кавказ.
На первых порах шумливая, полная всяческих вышучиваний и подначек, раскрепощающая обстановка альпинистского лагеря подхватила его и понесла. Вполне он, как, пожалуй, и везде, оказался к месту, вписался в тамошнюю жизнь. Беспечальный нрав, отличная физическая подготовка (в школьные годы Жора усердно занимался спортивной гимнастикой и настолько преуспел, что вполне реально вырисовывались в недалеком будущем медали, а там и соревнования за границей, почет и уважение, и прочие блага, которыми осыпает иных удачников улыбающаяся фортуна), а еще, что не менее, а может быть, и более важно, — натиск и напор немало способствовали тому, что Жора становился участником восхождений, требовавших, если по совести, куда большего опыта, нежели у него, да и других качеств, не имевшихся вовсе. Отпуск большой, остался стажироваться на инструктора, и пошло: два-три дня — и хорошенькая вершина, а то и не одна, так что послужной его список рос как на дрожжах. По вечерам танцы, и провожанья под звездным небом с неспешно плывущей среди снежных гор луной, и умело выманенный поцелуй.
Каково же было его удивление, его, можно сказать, совершенное изумление, когда за неделю примерно до отъезда встретил того самого, не слишком взрачного человечишка, которого запомнил выходящим с Региной из подъезда ее дома. Еще от злости и разочарования едва не предложил подвезти их. «Судьба! Несомненно, судьба, — оторопело подумал Жорик. — Перст судьбы!»
Сергей Невраев недавно прибыл, спешно входил в форму, но пока лишь окусывался на вершины. Еще судействовал, когда соревнования по скалолазанию устроили. Жора весьма отличился на соревнованиях, шутя второе место ухватил, а тянул на первое. Между прочим, Невраев написал особое мнение по поводу штрафных очков.
Разумеется, Жорик тотчас подъехал к нему с улыбкой на сорок зубов, отчасти копируя некоего киношного актера, жизненная и профессиональная удачливость которого во многом объяснялись замечательным даром простодушного, без заметного интересантства общения с теми, кто нужен, с «нужными людьми» (встретив его у Вавы, Жорик немало почерпнул у нестареющего ловкача), и так, изо всех сил изображая рубаху-парня, завел тары-бары-растабары о горах, о Москве осторожненько, и новая неожиданность: Невраев-то, оказывается, биолог. Жорик кое-что слышал о нем, не слишком лестное, что-то с диссертацией связанное, выкинули будто бы из НИИ, ударился в экологию и там уже с полным правом портит людям кровь. Однако, если изменить акценты, чем не темы для сердечнейшего общения? Времени у Жоры в обрез, уже на недельку отпуск за свой счет продлил, тут еще загвоздочка — не след, чтобы Невраев прознал о наметившихся отношеньицах с одной милашкой из тех, что приезжают никак не в погоне за спортивными достижениями, — в общем усиленно обхаживать начал Жорик в прошлом году Сергея Невраева.
Если бы не Регина, и спорить не стал: симпатяга! Малахольный чуть-чуть, с комплексами, ну а у Жорика никаких таких родимых пятен и в помине, так что даже интересно.
Шутки в сторону, многое оказалось по Жорикову нутру в Сергее Невраеве, особенно поначалу. Хотя б не петушится по поводу и без повода, спокойненько принял скоростное Жориково продвижение по различным иерархическим лестницам. Другие, нож им острый, чего-чего только не валили, лишь бы сдернуть на свой уровень. В то же время, вот, штука-то, Сергей оставался как бы — даже странно сказать — в недосягаемости. В чем-то трудно определимом, не поддающемся анализу, но ощущаемом постоянно над Жорой, и это несмотря на ученую степень, на успехи многообразные в личной и общественной жизни тоже. Причем вовсе не подчеркивая, даже вроде бы и не ведая о престижной своей недосягаемости. Не парадокс ли?
Так что еще и по этому самому захотелось Жорику сдружиться с Сергеем Невраевым.
Хотеть — значит мочь, Жора уверен. Сумел раз и другой услужить Сергею в его экологических исканиях. Данные преподнес — пальчики оближешь. (Правда, если их опубликовать, скандал обеспечен, но это уже, простите, не Жорикова забота.) Штормовочку австрийскую — блеск! — сыскал по бросовой цене, да чего-то отказался Сергей. Находятся простофили!
Зима наступила, еще шире простор. На лыжах вместе (до склонов машиной всегда пожалуйста, очень удобно); на секции альпинистской перезнакомился с Сергеевыми сотоварищами (не шибко понравился только Воронову); а прослышал о предполагающемся траверсе Скэл-Тау, и вовсе прилип. И наконец свершилось: получил приглашение в дом.
Сначала хотел букет из алых роз (ниточка имелась в некую оранжерею через некую садовницу), но, поразмыслив, понял: вычурно несколько, опять же зима, следует ограничиться коробкой шоколада.
Регина, открыв дверь, признала его тотчас, усмехнулась, но ни слова. Шоколад, однако, приняла и равнодушно поблагодарила. Вскорости начала собираться: «Жизель» у нее. Так и подмывало предложить свои услуги, подбросить к театру. Вспотел даже, но сдержался. На долгое терпение, понимал он, надо себя готовить.
Этим ознаменовался новый виток в их отношениях. Собственно, отношений по-прежнему не было. Было настойчивое стремление Жорика, оно крепло, разгоралось сильнее, безудержнее от ее холодной сдержанности. И еще любопытный момент: Сергей по идее должен бы скорехонько засечь его ухищрения, множество как бы непреднамеренных совпадений, приводивших к чересчур уж случайным встречам, а он не реагировал. Не замечал? Или настолько уверен в несостоятельности Жориных поползновений, что не желал придавать излишнего значения?
А Жорику мерещилось: еще немного, и вместо: «Я тороплюсь, у меня репетиция!», или: «Меня ждет муж». — «Он же уехал, он в командировке, ну что вам свободный вечер проводить со свекровью дома? Столик заказан, джаз отличный, я давно мечтал потанцевать с вами!» — «Если я говорю — ждет, вы не смеете мне возражать!» — так вот, вместо загодя известных отказов ну хоть в машину его сядет, и тогда… Что тогда? Что-что! Ясное дело, повезет послушно к ее дому в осточертевший Теплый переулок, как пижоны москвичи на старый лад называют ее улицу. То… Впрочем, гнал суеверно залихватские свои предположения. Не больно же весело всякий раз рушиться с небес на землю.
— Мне и в театр на ваши спектакли не ходить? — спрашивал убитым голосом.
— Почему? Вовсе не обязательно. — Слегка улыбнувшись в сторону, так что он поискал глазами, кому предназначается ее улыбка, непонятным голосом, тоже как бы не ему: — Мне приятно, когда знакомые смотрят. Можете проводить меня до метро. Я говорю, до метро. В машину я не сяду. На моей остановке будет встречать Сергей.
И более ни единой милости.
А там весна, долгие, заполненные разной нестоящей белибердой вечера, ожидание следующей мимолетной встречи, и никаких обнадеживающих примет, ничего, что разогнало бы сильнее и полнее овладевавшее им, неведомое прежде чувство неудачи. Разве что траверс Скэл-Тау наконец-то утвердили, записали и подписали на группу Воронова. Да только траверс этот, являвшийся, казалось бы, крупной ставкой в его альпинистской карьере, уже не прельщал Жорика, не вдохновлял, так что и тренировки усилившиеся — побоку под разными предлогами. Вообще хандра им понемногу овладела…
К Ваве по старой памяти хаживать начал. Милая женщина, легкая, смышленая. Знай себе посмеивается на любые превратности судьбы. Неплохо бы в ее лице союзницу обрести. Вечерок, другой поиграли в лото, кое-какие мелочи в качестве знаков внимания, а там и на «ты». Вава уже совершенно конфиденциально жаловалась на свое одиночество (мосфильмовец на недели исчезал, являлся «пропахший другими женщинами»). Ей хочется обрести настоящую семью. «Проходной двор» в квартире — ее выражение, — а никто из солидных мужчин не бывает, и где они, солидные-то, давно разобраны, познакомил бы Жора с кем-нибудь из людей науки, а уж она, в свою очередь… Актеры хороши время провести весело, чуть что серьезное — начинаются амбиции, надоело. У Жорика ушки на макушке, с лету схватывает. Вы нам, мы вам — отработанный принцип, полное взаимопонимание. А Вава про грусть-тоску забыла. Подвела его к огромному зеркалу в простенке между окон и вертится: чем она плоха? Молоденькая вдова, ведь правда, ей нипочем не дать ее возраста, ведь правда?
Вот бы Воронова и сосватать, мелькнуло тогда у Жорика. А что? Очень даже неплохо. И давно пора. Засох Воронов. Вава живо его расшевелит.
Не очень знал он в ту пору Воронова, да и теперь не лучше. Разве что доктор физмат наук, только-только испеченный. На Госпремию будто бы выдвинули. Только это еще бабушка надвое сказала. По мнению Жорика, Госпремия — когда ни червоточинки, весь как стеклышко на просвет. А Воронов? Какие у него, кроме математики, заслуги? Ну, кандидат в члены партии. А дальше? За альпинизм премии не дают. Небось еще от общественной нагрузки альпинизмом прикрывается. Глубже копнуть, и вовсе… Слышал кое-что, девы горные, ух как они на Воронова сердиты. Опять же Павел Ревмирович — у них тогда вроде дружбы начиналось, тут это событие, — очень Паша переживал. Потом, правда, как отрезал: враки, чушь из пальца высосанная. Журналист, что с него возьмешь, вторая древнейшая профессия, как тот же Воронов говорит.
В общем, не всегда был Воронов столь законченным формалистом и занудой. Некоторое время тому назад, не слишком давнее, зазнобушка имелась из собственных аспиранточек. На Кавказ в горы с собою взял, это ж надо! Да только Воронов есть Воронов — поселил ее в палатке вместе с другими участницами и, как Жору уверяли, используя архивную альпинистскую терминологию, никакого «керосину». Ни тебе, значит, прошвырнуться вечерком куда-нибудь к речечке, полежать на траве-мураве, ни у себя ее оставить, ничего такого-этакого на поверку будто бы не было. Мечты скорее всего. Вообразить невозможно. И чего ради? Понятно, идея бы какая в воздержании была. Конечно, от такого типа любое можно ожидать, и все-таки лишать себя естественных радостей? Голову об заклад, что-то тут не то. Павел Ревмирович как раз приболел (в озерце ледниковом искупался), а с Сергеем и Вороновым в восхождении каком-то хитром должен был участвовать, ну и не пошел, остался в лагере; так аспиранточка та без своего ненаглядного есть перестала, Пашка-обжора ее обеды уминал. И все-таки в стереотрубу глядела, как они на очередном гребешке корячатся.
Если верить Пашиным репликам, Воронов без своей аспиранточки работу не осилил бы нипочем. Сложнейшие вычисления требовались в области, в которой он не петрил, а она села и высидела. Такая вот дуся. Пашка все удивлялся, как Воронов потом сумел восстановить расчетики эти. Дальше вообще сплошные непонятности, туман. Пашка темнит, но он-то, похоже, знает, где собака зарыта. Восклицания же в адрес Воронова это так, от эмоций. О доброте и прочих благоглупостях хлебом не корми, дай пораспространяться, тут, поди же: такой-де педант первостатейный и чтобы не подстраховал себя? Наверняка копии имелись. Еще, пожалуй, у нотариуса засвидетельствовал, дабы не объегорил кто. Вперед, на года глядит.
Жутко будто бы талантлива была. Пашка сызмальства ее знал, только он постарше, так на олимпиаде общемосковской задачки, над которыми студенты мехмата потели, как орешки щелкала. А до того вроде бы у какой-то их общей с Пашкой благодетельницы от заикания, что ли, избавлялась. Не больно Жорик разобрался: очень показалось соблазнительным восторженный Пашин лепет по поводу той самой учительницы сбить, и вставил неосторожное словцо; а Пашка взял да увял и в бутылку: не в состоянии, мол, Жорик оценить его высоких дум, примитив, мол, и прочее. Хотел ему смазать, да плюнул.
Что же касается Воронова и его любовной истории, суммируя слухи, а ими не только земля, но и горы полнятся, в итоге получаем следующее. Долго ли, коротко ли он со своей математичкой означенным манером женихался, а только взвесив, надо полагать, всевозможные «про и контра», рассудив, рассчитав и «подбив бабки», решил отношения оформлять. Отправился к ее родителям просить руки. (Это уже после просочилось, тайны — они как вода, щелочку находят; кое-что в качестве объяснений Воронов представил, когда за шкирку взяли.) Родители, стало быть, чин по чину, на старинный лад вышли с иконой, велели на коленочки встать, благословить, значит, А Воронов — взыграло ретивое, опять же характер: не умеет по обстоятельствам стелиться — на колени перед иконой ни в какую! Мало того, начал про бескультурье, предрассудки, родители и впрямь невысокого полета, в общем развел антирелигиозную агитацию; и делу хана. Ни тебе загса, ни свадьбы, ни утех законных. Воронов: «Это им-то пренебрегли? Да он теперь и не взглянет!»
По многим параметрам Воронов истинно современный товарищ. Конечно, чужая душа потемки, но ведь не запил, не похудел, не растолстел, разве что заформалистился окончательно. От женщин, правда, теперь в кусты. И глядеть боится. Что ж, после таких событий. Весь, с головой, с ушами и прочими частями тела, в науку погрузился. Так что самый объект для Вавиных матримониальных устремлений. Она живо его в чувство приведет. Возрастом разве постарее; да балерина что маленькая собачка — всегда щенок. Нрав самый подходящий, уж она трагедий по пустякам закатывать не станет. И он, Георгий Рахметович Бардошин, не внакладе. Воронов-то как-никак Регинин двоюродный братец. Все на руку.
Пришлось Жорику признаться другу сердца Ваве в плачевном своем неуспехе. Встречена его откровенность была с полным пониманием, тем более Сергей в свое время впечатление на Ваву произвел неважнецкое. И не любезный-то нисколько, хмурый, наверняка домостроевец, ему бы только чтобы жена вечно при нем, в рот ему глядела. А она прелесть и очень несчастлива. Несчастлива из-за такого мужа. Что только она в нем нашла? Какой прыжок, железные пуанты, вон как ее сейчас выдвигают.
Еще момент, который открыл возможность Жорику продемонстрировать, кто чего стоит. Оказывается, планировалась поездка труппы на летние месяцы за границу. Жорик и ведать не ведал, так что Вава буквально его огорошила. Огорошила, а через недельку сама позвонила и между разными пустяками сообщила дорогую весть: гастроли отменяются. Международное положение, отпечатки пальцев, еще что-то. Международное положение было всегда, а вот что Регина куда как раздосадована, не знает, что делать с отпуском, — это Жорик тотчас принял к сведению. «Не безобразие разве? — проявляла солидарность Вава. — Люди готовились, распределили свое время. Путевку на юг теперь не достать, во всяком случае, муж Регины совершенный рохля, на него надежда плохая. Предложил в горы с ним ехать!» Но Жорик уже не слушал. Как-то это надо использовать. Дурак он будет, если ничего не сумеет предпринять.
Прежде всего решил выяснить вопрос с путевками, так ли трудно. Сунулся туда, сюда; да, трудно. То есть даже, если с улицы, прямо-таки невозможно. Однако Жора достаточно пообтерся среди людей, опять же кое-какие профессиональные ходы и возможности (что же он просто так, ради высокой идеи микробиологией своей занимается, рискует какую-нибудь дрянь подхватить?), нашел лазеечку через некое районное, не Московское даже аптекоуправление. (Говорилось не раз: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Ну и маны, в смысле рупии, само собой.) Всего-то и забот, — набрали номер, как здоровье, то-се, коротенько о деле и ему: обратиться по такому-то адресу, к тому-то, две путевки в Гагру, время укажете сами, фамилии тоже. Хехекс!
Ладно. Теперь что же, попробуй он сам предложить — ведь как пить дать не примет, хуже: за ушко да на солнышко. Даже если через Ваву — встретимся в санатории, мигом сообразит… Эти добродетельные сильфиды разве угадаешь, что выкинут!
Говоря определеннее, не решался Жора Бардошин действовать напрямки. Основательно головушку поломал, наконец осенило: предложил путевки Ваве, одну чтобы себе, взяла в качестве презента, другую деликатнейшим и не вызывающим подозрения образом — Регине. Как именно — сама придумает. Волос долог, ум короток, а только женщины в подобного рода делишках кого угодно за пояс заткнут. Сроки подгадал: когда он свое в горах отходит, для Регины с Вавой только первая неделя их санаторного балдения к концу подойдет. Так сказать, адаптируются и по идее слегка скучать начнут. Тут он и объявится, отпуска хватит. У Воронова, кстати, тоже сорок восемь рабочих дней. И. о. профессора. Хорошо бы вместе. После гор в Черном моречке покупаться милое дело. Ваве — обещанная возможность, ему подстраховочка на первых порах.
Воронов все покуда присматривается, изучает, никак окончательно не установит линию поведения с ним. Тугодум, весь в себе. Но кое-что Жорик уже определенно разгадал. Зимой, когда совсем сходить с ума начал по Регине, закинул удочку Воронову насчет Скэл-Тау: жажду, мол, смысл существования, списочек восхождений под нос — никакой реакции и на прощанье два пальца. Ну и тип, решил. Прошло сколько-то, вдруг телеграмма: «Воскресенье восемь ноль ноль кассы Савеловского выезд тренировку». Потом уже Паша Кокарекин, привычно негодуя, поведал, что битый час уламывал Невраев Воронова и, какие только доводы не приводил, не восхвалял, Воронов был непреклонен. А согласился как-то вдруг и непонятно почему.
И вот теперь Жорик почти не сомневался, что Воронов не будет препятствовать его притязаниям на Регину. Сергей в качестве мужа такой женщины и, следовательно, родственника Воронова не больно-то смотрится. Прямо о том ни звука, однако… в воздухе висит. Воронов, если походя, не вдумываясь, судить: наука и наука, ну еще альпинизм, ни о чем более вроде бы и знать не желает. А понаблюдать за ним да поразмыслить — честолюбивец, каких мало. Вот и женить его на Ваве. Хоть и экс, а балерина, в доме антиквариат, красота! Как та аспиранточка не сумела его разгадать? Или до того влюблена, что уже ничегошеньки не замечала?
А Сергей… Ну, что такое Сергей Невраев? Говорить смешно. Никакого стремления выбиться в люди. Кандидатскую и ту с треском завалил. Лезет со всеми на ножи, и только. В Домбае какие-то тюльпаны реликтовые обнаружил — и великолепный склон с подъемниками и налаженными трассами закрыт для горнолыжников. Разве не балда? Подумаешь, тюльпаны! Да их тысячи сортов вывели. Так что познайте истину, и истина сделает вас свободными, приплел Жорик в подкрепление эффектное библейское изречение, слышанное от того же Воронова.
В общем лады. Над остальным голову не желал ломать. Придет время — решится. Так или иначе, или совсем наоборот, будущее подскажет. Покуда же вручил путевочки Ваве в собственные руки и нижайшую свою просьбу изложил. Не ей, разумеется, объяснять, не ему условия ставить — ну, чтобы Регина поехала. Кто добыл, покуда ни полслова. Там, на месте… Впрочем, как Вава сама надумает. Или умолчать?
Про Воронова определенные намеки сделал. Расписал, что профессор, холост. Но имеется некоторая, как бы сказать, склонность… Он замялся.
— К вину? — не утерпела Вава.
— Ну что ты! Александр Борисович и вино — две вещи несовместимые. — И решил не вуалировать: — Склонность к формализму.
— О, как интересно. Проведу с ним беседу о пагубных последствиях формалистических тенденций в искусстве балета. Нас еще в училище основательно пичкали. Конспект вела.
— Очхор. Уверен, тотчас исправится. Есть, правда, еще изъянчик. — И старательно законфузился: — Не знаю право, как и сказать. Ладно уж, мы с тобой отныне союзники, никаких утаек. (Чтобы сама за него взялась, сама проявила бы активность.) Есть мнение, что — девственник. Я сомневаюсь, но «полна чудес природа».
Последним сообщением привел Ваву в совершенный восторг. Даже руками всплеснула. В предвкушении, надо полагать, предстоящих развлечений.
Так обстояли Жорины делишки перед отъездом в горы. И в горах поначалу как нельзя лучше. Быстренько вошел в форму. Сделал несколько занятных восхождений тренировки ради. В каждом какая-нибудь своя чертовщинка. То достаточно сложный скальный участок (хотя можно и обойти); то ледопадик с сюрпризами, от которых, бывали случаи, кое-кому не поздоровилось; а то симпатичненький бергшрунд и снежная стеночка в двадцать метров. В общем было на чем себя показать, натянуть носы честной компании.
И буквально за неделю до выхода на всеми правдами и неправдами отвоеванную и теперь уже окончательно отписанную в их полное владение Скэл-Тау Жора Бардошин изнемог. Тут еще Сергей, растопша несчастный, по два раза на дню за письмами вниз шастал. Жорик, таясь, высматривал и страшился прочесть на его лице… Что он искал и чего страшился, и сам толком не знал. Ну что такое муж? Ревновать к мужу смешно, по мнению Жорика, тем более к такому, как Сергей, и поди же. Регина в Кисловодске покуда, Вава к ней туда обещалась приехать, чтобы потом вместе в Гагру. Если по прямой, Кисловодск рукой подать. На зачетное восхождение участников водили, пустейший пичок, в кроссовках можно было, так за долами, за туманами угадывались разные Ессентуки, Пятигорски и… Кисловодск. И Сергей — о, черт! — Сергей, когда наверху жевали традиционные яблоки, Сергей весь в ту сторону подался и про яблоки забыл…
В общем, не утерпел Жора. На его счастье или несчастье, как раз симпозиум по близкой специальности в Одессе. Упросил, уластил высокое начальство в лице Михаила Михайловича и Воронова и дернул. Честно заехал наперед в эту самую Одессу-маму, потерся между ученым людом, встретил вовсе не кстати рыжего паршивца из Казанского университета, еле отделался от него, альпинизмом, видите ли, заболел; какой-то докладец трухлявый прослушал, хоть убей, ничего в голову не шло; вечером снова в аэропорт, билетов ни на один рейс, да только, когда такой напор, находятся и билеты, и утречком самой ранней ранью очутился в Адлере, Как раз день их приезда, день, которым начинались путевки.
Завывания ветра нарастают. Потом становятся тише, глохнут. Пропадают вовсе. Внезапно рядом всхлипы и свист, оханье, стоны. Щемяще-тоскливые, томительно-властные. Дернулась палатка. Опять. Будто злой шутник — дерг, дерг за расчалки. Подождет, как там внутри, пробирает? И снова дерг, дерг…
Перестал вроде? Да. С затухающим улюлюканьем понесся прочь. И вот уже, слабый за расстоянием, слышится на разные голоса посвист.
Сергей лежал и старался не думать, гнал мысли о предательстве и чутьем чуял, как приближается беда. Знание, которого не искал, лезло, словно холод, изо всех щелей.
«Постой, постой… Ничего же толком не известно, — сопротивлялся он, страшась того одуряющего чувства безразличия к жене и ко всему, чем жил до сих пор, чувства не только опустошающего, хуже — разъедает душу, оставляя после себя пустыню, на которой не в состоянии пробиться живой росток, — оно кружило близко, подступало, парализуя волю, мышление, когда одно правит — а пропади оно все пропадом, не хочу. Так случилось с кандидатской, случалось и раньше. — Паша по свойственной ему горячности навообразил… (Пытался Сергей обмануть себя и не мог.) Но еще в Москве Бардошин вел себя непозволительным образом. Не хотел замечать за ним и замечал. Не хотел подозрениями унизить Регину, и все-таки… Его отъезд в Одессу… Скоропалительный, нервный. Официальное приглашение, о котором трубил всем и каждому, но не показал даже Воронову».
Гадко, унизительно, бестолково было на душе. Но еще гаже — копаться и выискивать несообразности и несоответствия.
— Да, погодка… — Голос Паши Кокарекина.
Сергей сдвинул «молнию» на спальном мешке, душно и тесно ему, свитер еще зачем-то поддел.
— Ветер ночью к перемене погоды, — сказал как мог безмятежнее Сергей.
Снова отдаленные всхлипы и посвист ветра. То глуше, то сильнее, значительнее. Резче… И пропадают.
Дыхание. Не частое и не такое, как у спящих. Сергей вслушивается.
— А что ветер? Подумаешь! — запоздало и еще оттого с особой кичливой небрежностью заявил Жора Бардошин.
Отодвигая ревность, отвращение, глухую; парализующую неприязнь, заставляя себя произносить обычные, ни к чему не обязывающие слова (заставляя себя, заставляя), как будто все в порядке, самом что ни на есть полном и бесспорном, а если и имеется некоторая напряженность, все равно они здесь все свои и, по расхожему выражению того же Бардошина, когда там, внизу, в лагере, столь успешно, апеллировал к высокому начальству в лице Михал Михалыча, — жизнь готовы положить друг за друга! — таким именно чуть неспокойным, чуть-чуть не всерьез (разве только на самую крохотную малость не всерьез) тоном Сергей Невраев говорит:
— Буран нагонит, придется неделю на месте сидеть да лапу сосать. Сентябрь на носу.
— Очень даже просто, — подхватил Паша. — Обледенеют скалы, еще снежком присыплет. Что неделя — две просидим.
— А прогноз? Воронов же узнавал прогноз.
— Когда он бывает правильным? — саркастически заметил Сергей.
— Прогноз в целом благоприятный, — гудит Воронов из спального мешка.
Паша делает попытку развеселить компанию:
— Хьюстонское бюро погоды в Штатах, казалось бы, точнейшие прогнозы должно давать, метеоспутники у них, компьютеры; а фермерская корова точнее. Устроили официальный подсчет оправдавшихся прогнозов, и буренка победила. Со счетом 19 : 8.
— Откуда у тебя подобные сведения? — Воронов из спального мешка.
— Прессу надо читать, нашу и зарубежную, — парирует Паша.
И опять лишь посвистывания ветра тревожат тишину. Слабеют. Тишина обостряется дыханием товарищей, шорохами. Паша что-то снова зашевелился. Жора Бардошин, он между Вороновым и Пашей, задышал, засопел ровно, уснул. Воронова не слышно. Он как и Регина: никогда не знаешь, спит или бодрствует… На чем ни пытается сосредоточить свои мысли Сергей, оборачивается на то же. И вот уже разные подлые истории лезут в голову, и не на что опереться. Хочет думать о Воронове — и как Регина защищала своего кузена, превознося его порядочность, его стремление соблюсти все правила чести. Перескакивает мыслями на Пашу… Слегка покровительственное отношение к Паше, стремление выгородить бьются, борются в нем и не могут одержать верх (и то сказать, не так уж много знает он о сложной, путаной истории Пашиной любви). Все только в черном цвете, все только жалкая, недостойная игра.
А снаружи, за тонкими палаточными стенками, ветер усиливался, бил, и ударял, и кружил, и дергал палатку, и кажется, самые скалы, на которых они примостились, и весь мир вокруг неслись куда-то в странном, хаотичном, безжалостном стремлении, в котором не было ни смысла, ни цели.
…Или это чудится ему, а на самом деле тяжелое забытье? Мчатся, догоняя, страшные и чем-то неуловимым (он остро ощущает это) нерасторжимо связанные с ним мерзкие чудовища — он боится взглянуть на них и, напрягая силы, чувствуя, как его руки, ноги наливаются непомерной тяжестью, старается вырваться; они, на минуту отступив, меняя облик (он не видит, но с мучительной точностью знает об этом, ибо чудовища эти порождены им, отражение его мыслей, которым он не хочет поддаться и которые исподволь преследуют его), вот подбираются снова, теперь уже со всех сторон забирая его в плотное кольцо, и душат с воем, с улюлюканьем.
В ужасе, с остановившимся сердцем он открывает глаза и понимает, что он в палатке и рядом Паша, как всегда чуть постанывая, неровно дышит во сне. И ветер. Ветер — куда там при начале ночи! Ветер рвет ткань палатки, свищет, воет…
Сергей осторожно, стараясь не разбудить Пашу, отстегнул снизу полотнище, высунулся наружу, кстати котелки забрать и примус, чтобы не сдуло. Бледный краешек луны сиротливо летел в черном небе и пропадал среди сталкивающихся, сокрушающих друг друга светлых и черных туч.
Неужели он ни к чему? Его жизнь, его упрямая неудовлетворенность и редкие крохи удач ничего не значат, не в состоянии ничего изменить, ни на что повлиять? Не нужен. И прежде всего Регине! Сергей лежал, тщетно призывая облегчение, может быть, помощь — чью, он даже не задумывался. Более того, если бы помощь явилась, любая, он в своей гордости отверг бы ее с негодованием, но это было бы потом.
И опять: бороться за Регину? Но как? Отстаивать свое? Но чем? Или же, пусть невозможно, но хотя бы предположить, что сумел смирить негодование и ненависть, сумел обуздать себя, и что же тогда? Радоваться просто тому, что она есть на свете?..
Так час за часом в духоте плотно застегнутой палатки, во мраке, потому что луны давно не стало, в грохоте и вое бури, час за часом в мучающих кошмарами, резких, обрывающихся, как падение, сновидениях до медленного тусклого рассвета, когда повалил снег.
ГЛАВА 8
Утро хуже не придумаешь. Снег валит. Порывистый, злой ветер утихнет на минуту и словно в отместку с удвоенной, утроенной силой накидывается. В палатке сыро, душно, а приоткроют — сразу снегу наметает. Вокруг белый хаос, вихри ходят, будто живые разъяренные существа в мятущихся одеждах. Неба нет, и ничего нет внизу: белое перекручивающееся ничто.
Но вдруг минута и — чудо! — прорыв вверх. Глубокая яркая синева, края грязно-черных туч вызолочены. Стена — легчайшим крапом проступает рельеф, а так белым-бела. Облачко, лишь немного светлее стены, ластясь, плывет по ней. Даже внизу, если пристально вглядываться, начинаешь различать что-то. Но уже заволакивает, опять ветер, снег, громыханье грома. Молния фосфорическим блеском прорезает белый сумрак, одновременно страшной силы удар… Кажется, рушатся горы и стена вот-вот падет им на головы…
Воронов сильно не в духе. Непогода, несмотря на удовлетворительный прогноз, и, следовательно, задержка, тут еще рация забарахлила, едва связались с КСП; но главное — смутно угадываемое неблагополучие в группе.
Все вроде бы едины в своем стремлении, однако… Не может покуда четко сформулировать свои «однако» Воронов. Нет достаточных данных. Это и успокаивает и озадачивает. Он делает попытку объединить своих спутников, заставить их выговориться, тем более времени свободного хоть отбавляй. Кто с уверенностью скажет, через сколько часов кончится сумасшедшая круговерть и кончится ли сегодня.
Воронов подозревает о грызущих Сергея сомнениях, но по присущему ему взгляду не придает значения; видит, что Паша Кокарекин что-то уж слишком агрессивен, при всяком удобном случае норовит кольнуть Бардошина, а тот спуску ни в чем. Воронов пускается не то чтобы в душевные излияния, такого быть не может, но до некоторой степени в откровенность, с целью разговорить и выяснить, разобраться, что с ними со всеми происходит.
— Когда-то я любил читать о событиях войны, об освоении Арктики, о сильных, героических характерах, которых в народе, коль скоро в них оказывается нужда, сколько угодно, — начинает он под вой и стоны нового шквала. — С удовлетворением убеждался, поддаваясь воле автора и поворотам сюжета, что вспоенная потом и кровью правда и сила духа в конечном итоге берут верх над самым изощренным вероломством. Прошу меня правильно понять: я отнюдь не имею в виду такие сомнительные категории, как всепрощение, частенько прикрывающее попросту лень и безразличие, но еще менее то, чему втайне поклоняется наш Сергей, — стремление, не слишком задумываясь, приносить себя в жертву. Ради чего или во имя чего — сие, как неоднократно убеждался, для него вопрос десятый. Какие-то давно отошедшие в небытие представления о так называемом благородстве. Иллюзии, благодаря которым кажется, будто сохраняешь лицо.
Он хотел взглянуть на Сергея, но увидел лишь Жору Бардошина, который с явным удовольствием скреб зудевший рубец на губе, и поспешил дальше:
— Время было пронизано особым победным светом, большими делами. Между нашим миропониманием, нашими вкусами и взглядами и чужими существовала четкая демаркационная линия. Верили свято в идеи, которые исповедовали. Все было ясно, не о чем особенно раздумывать, так по крайней мере мне представляется. Многое с тех пор произошло. Многое пришлось узнать.
— Ты даешь! — засмеялся Бардошин. — Профессор-то наш разговорился!..
— Возможно, и вправду характеры рождают идеи… — отвечая на какие-то свои вопросы, разве что не очень к месту, заметил Сергей.
Паша заворочался, забеспокоился. Не зная, что сказать, чувствуя только, что сказать необходимо, брякнул:
— Чувства — предтечи идей. У Ключевского вроде есть такое. — И дальше, пусть нескладно, пусть из другой оперы: — Учительница моя говорила: встретишь хорошего человека — и будет тебе хорошо, встретишь плохого — и будет плохо.
Бардошин презрительно:
— Как просто!
Сергей, все еще ведя свой внутренний спор:
— Пытаемся что-то доказать друг другу, в чем-то разуверить… Не лучше ли прежде всего мир. Пусть худой мир…
— На всепрощении далеко не уедешь. Воронов точно высказался, — насмешливо перебил Бардошин. — Одолеть… Настоять на своем… А после диктовать условия! — Начал опять скрести рубец на губе и лишь усилием воли прекратил это занятие. Рубец страшно зудел. Не хотелось с Сергеем в открытую дальше, на Кокарекина перекинулся: — Пашка женское воспитание получил и мямлит. Сам признавался, в детстве у тетки жил. После учительница шефство взяла. Насквозь женская психология. А я… Меня улица да дружки-приятели детдомовские на жизнь натаскивали. Ясно? Иной раз руки так и чешутся морду набить… Терпи! Помню, подрядился я с бичами в порту работать в Казани на каникулах студенческих. Полезная, между прочим, школа. Бригадир наш и обсчитал меня раз и другой. Терпи… учил меня один, крупным деятелем сделался, по полгода в капстранах, «Волга» двадцать четвертая и прочее. Нынешней весной опять за бугор намылился и меня предлагал устроить на определенных условиях, вполне кстати приемлемых, да я, дурачок, стеночку эту нашу предпочел, отказался. Терпи, говорил. Затаить боль и жажду мести, сжать, спрессовать их, чтобы и заметить никто не мог, — смаковал Жорик каждое слово. — Дождаться момента — а момент подходящий явится всенепременно, — и отомстить. Страшно! Потом прийти домой, затвориться в своей комнате и, не спеша, с чувством выпить бутылку «Киндзмараули».
Он смеется. Паша как-то странно сопит, Воронов — никакой реакции. Шокирован, кажется, один Сергей. Сергей понимает, тирада Бардошина некоторым образом направлена против него, и чувствует себя обязанным ответить. Он и отвечает, не слишком внятно излагая общеизвестные истины. Павел Ревмирович веселым словцом, прибауткой ухитряется придать им больше легкости и остроты тоже.
Жора Бардошин испытывает явное превосходство. Уверенность — великое дело. Непросто было ее восстановить. Но даже вид Сергея как нельзя лучше действует в этом направлении, еще бы: растерян, понур.
Опять же Фро! Черт подери, неплохо поднимает тонус какая-никакая, а победа, размышляет Бардошин, пощипывая усы, заставляя себя не трогать рубец. Как спелое яблочко, в руки далась. То есть пообещал… Так ведь… метод.
— Время наше — только не спи, мужичок, да нюни не распускай. А еще не рассчитывай, что кто-то тебе в рот кусок сунет послаще. Оно и правильнее: самому. А эти ваши высокие слова?.. Еще память… — Жора подобрался, будто и в самом деле барс перед прыжком или как если бы снова ощутил удар в лицо. — Я, конечно, повторяюсь, да вспомнился пустячок один. Если и нужна память, так чтобы не оставить безнаказанными тех, кто нас унизил, кто заставил страдать.
Мало сказать, вспомнился, — не отпускал ни на час, а тут снова и снова, взрывая стыдом, хуже которого не знал, бился «пустячок» этот в мозгу, в висках, в горле комом застревал. С насмешливой улыбкой, но еще более акцентированным насмешливым превосходством — надо, надо им кое-какую «правдочку» выдать, не о том, так о другом, давно приспело (заодно, может, Сереженька-дружок на наживку польстится, заглотнет):
— Адом нас не испугаешь, на рай мы не претендуем. Мы не из торопливых, но к тридцати годам — степень. Дельно жениться в тридцать пять. В сорок купить дачу, если жена без оной. Пусть мне кто-нибудь скажет, что это плохо! — рассмеялся он каким-то непривычным, жирным смешком.
И, распаляясь больше и больше, не гнушался уже самых парадоксальных мыслей.
— Чем мы плохи? Совсем неплохо делаем свое дело, кстати, и потому, что не превращаем его в фетиш. Вообще не фетишизируем ни идеи, ни людей. Не сотвори себе кумира. Любим прихвастнуть? Фальшивим помалу? Ну и что? Надо себя подавать в лучшем виде. «Тьмы жалких истин нам дороже…»
Опять смешок скользкий и жирный, под которым Сергею чудится, нет — уверен: гадкое что-то зреет.
— Зато в своем кругу мы искренни. И в смысле дела, и в том, что касается любви. Я сейчас хотите? Хотите, открою вам одну веселенькую тайну?
Он приостановился, В голове его четко выстраиваются слова убийственные, сейчас он пригвоздит ими Регину и Сергея. А то все мыслию по древу, вокруг да около. Уставился на этого чудака Сергея, который — словно и впрямь барс перед ним снежный готовится к прыжку — вобрал голову в плечи, а глаза — ха-ха! — испуг в глазах! Явный.
— Спрашивайте меня о чем угодно! — выпалил Жорик, уже испытывая облегчение, — На все отвечу. Честно! Хотите? Ну? Ну?..
Даже ветер куда-то исчез, Только шелест падающего снега о палатку. Сергей из всех Жориных речей уловил, кажется, лишь последний, поразивший своей отчаянностью вызов. С забившимся сердцем ждал он, что дальше. Вопросы самые жгучие вертелись на языке, но гордость и невозможность, немыслимость бросить хотя бы тень на Регину, произнести ее имя не позволили рта открыть. Сергей молчал. Другие тоже ни слова.
— Слишком много людишек развелось, — говорит Жора уже совсем о другом и опускается на спину. — Оттого и плевать на все, и толкотня… — Голос его сел, он прокашлялся. — Ну, да это точно по части Сергея. Ему как-то даже к лицу заниматься вопросами мироздания, — опять снисходительно посмеивается он. — Я человек здравомыслящий, предпочитаю толкаться и получать, что мне надо.
Сергей все еще не пришел в себя. Ничего нет и не может быть ничего, только почему так отвратительно на душе? «Сейчас Воронов за него примется, — останавливает себя Сергей. — Сейчас Воронов разгромит эти пассажи».
Однако Воронов — его последовательность, его стремление не отступать от намеченного берут верх над возможной реакцией: пусть выговорятся, худой мир, верно Сергей заметил, лучше доброй ссоры. Павел Ревмирович помалкивает тоже. Чаще и чаще случалось, что личное его отношение уступало место чисто профессиональной любознательности. Исключение для Паши лишь Сергей: дружба, более того, сердечная влюбленность перешибали любые иные интересы. Но Жора Бардошин, хотя и отстраненно, сгущая, если не утрируя, тем не менее — о себе и своих присных. Не может быть, не должно быть тут Сергея. Так что давай, давай, мысленно понукал его Павел Ревмирович, давай, мастер по сниманию пенок, рассказывай, как-никак срединное звено в науке.
Жора, словно учуял пристальное Пашино внимание, и на него:
— Пашка развел баланду: и Крым ему, видите ли, не Крым, и девушки… А чем еще-то жить? К примеру, у меня что впереди?
И Жора Бардошин, может, оправдаться ему требовалось — что ни говори, каждый в ответе хотя бы перед тем сводом концепций, что приспособил для себя, — Жора Бардошин бодро (ну разве только чуть излишне бодро) начал второй круг своих откровений:
— Корочки кандидатские у меня в кармане, а дальше? За докторскую браться? Да что я, убогий, десяток лет в трубу! Если бы само как-нибудь… Или случай пофортунил. — И оборвал себя: — Времена гениев миновали, теперь кто сумел словчить, тот и наверху. Что, неправильно, гражданин начальник? Ваш опыт об ином говорит? — бросал Жора в наполненный ударами ветра и ответными хлопками крыши полусумрак палатки. И, не ожидая, покуда Воронов или кто там раскачается на ответ, шпарил: — Я, конечно, не отрицаю, встречаются кроманьонцы, которым лишь бы носом в пробирку. Но я-то, братцы, я человек современный, я жить хочу, чтобы, как это…
— «Чтоб мыслить и страдать», — подсказал Воронов.
— О нет! — И с хорошо разыгранным простодушием рубахи-парня, у которого что на уме, то и на языке, выпалил весело: — Не-ет, уж, лучше «срывать цветы удовольствий», уважаемый гражданин начальник. Так-то оно! — Дальше мечтательным тоном: — Был бы у меня пенсион, самый замухрышистый! Или папочка в свое время удосужился бы капитальцем обзавестись да мне в наследство сотенку тысяч оставил… Я уж подумывал спекуляцией заняться. За что ни возьмись — дефицит. Денег у трудящихся навалом. Зашел как-то в «Березку» на улице Горького, что такое — милиция суетится, две какие-то ведьмы в платках цветастых друг в дружку когтями вцепились: кольца, оказывается, бриллиантовые по восемь тысяч выбросили в продажу. Недоучили меня в свое время. Так что, похоже, тянуть мне резину до скончания века в нашем «аппендиксе» среди пробирок, бюкс, колб и прочей стеклотары, высевать разную дрянь да подсчитывать, сколько штучечек окрасилось, сколько нет, еще ловчить с шефом, пробавляться командировками в лучшем случае в Эфиопию к Ёмаё да договорами с винзаводами или птицефабрикой, а те, паразиты, норовят канистрой вина отделаться или десятком петухов; и все ради того, чтобы годам к пятидесяти, когда выпрут очередного завлаба, сесть на его место.
Павлу Ревмировичу все мерещился в Жориковых выкидонцах как бы даже срыв какой, постигший в недавнее время. Вывести его на чистую воду хотелось, и страшно. Все-таки не утерпел Павел Ревмирович, напустив максимум наивности, брякнул:
— Чего ради тогда бросил тренировки и умотал в Одессу?
— Надо же быть в курсе, — огрызнулся Бардошин. — Кое-что по моей теме предполагалось.
Воронов из своего спального мешка:
— Скажи спасибо Сергею, если не его заступничество, взяли бы другого вместо тебя.
— То есть почему Сергею? Сергей просил? — удивился Жора и в свою очередь, хоть и знал уже кое-что: — Кого же это, интересно, прочили вместо меня?
— Неважно кого. Не из нашего лагеря. Михал Михалыч сватал. Сергей ни в какую.
— Ты скажи! Я еще с ним цацкался, — возмутился Бардошин.
— Ты о ком? — не понял Воронов.
— У Жорика с Нахалычем контакт был. — Павел Ревмирович принялся комментировать Жорино возмущение. — Когда актировали, представителем общественности числился, подписывал подряд, что ни попадя.
— Что значит «ни попадя»? Ты знай край, да не заговаривайся, — озлился Жора. — Попадя! Что надо, то и подписывал.
— Склад весной сгорел. Одеяла, постельное белье. В Нальчике потом на базаре этими одеялами торговали.
— Я-то тут при чем? Нужны мне твои одеяла! Что я, в каждой дырявой простыне обязан разбираться?
Павел Ревмирович, ох уж этот Павел Ревмирович, слушал и что-то обмозговывал, подгоняя осколочки, заполняя недостающее хитроумными домыслами так, чтобы непременно составилась искомая картинка. Детальки одна к одной, одна подле другой, поддерживая, оттеняя и дополняя, заиграли, завопили… И словно выплюнул свое неуместное, едва ли не роковое сравнение:
— Биология для тебя как чужая жена, никаких забот, сплошные развлечения!.. — Спохватившись, быстрым голосом про жаргон одесский, который разве что в воспоминаниях да анекдотах сохранился, про Дерибасовскую, про лихих босоногих пацанят, а там… Бывает, на скальном гребне сорвется твой напарник по веревке — прыгай, не размышляя, по другую сторону, пусть отвес, пусть карниз снежный, — так и Паша.
— Я вот что вам скажу, — зазвенел с отчаяния его голос. — Хотим мы того или не хотим, но мы участвуем так или иначе во всем, что происходит. Во всяком деле, плохом или хорошем. И когда молчим, отгораживаемся безразличием — это тоже наше участие, кто-то от этого становится слабее, а чье-то зло крепчает. Мы живем на нашей земле, населенной нашими родственниками и детьми, которые еще не родились…
Острота этой искренности заставляла почувствовать… Стоп! Далее напрашиваются вереницы правильных и даже красивых слов и выражений, настолько основательно заклишированных поколениями ловких говорунов, — да тот же, Павел Ревмирович, хоть и сам, случается, грешит в этом плане, вчера, когда сеанс радиосвязи был, разыграл с Бардошиным спектакль на означенную тему, так что оставим спасительное многоточие. Помимо прочего, чем меньше комментариев авторских, тем лучше, считает Павел Ревмирович. Ему и карты в руки, пусть кричит в полное свое удовольствие.
— Если мы замечаем сор в нашем доме, мы должны взять в руки веник и вымести! Нет ни у кого человеческого права отвернуться, меня, мол, не касается, не в моем углу. Вот это я и хотел сказать, кошки-мышки, а там понимайте, как знаете.
— Ай, да Пашка Кошки-Мышки, какую речу закатил, — восхитился Бардошин. — Вот кому на собраниях выступать, народы к светлому будущему подталкивать.
— На собрании он такое не скажет. — Понимая, что Пашу несколько занесло, Сергей обратился к привычному жанру незлобивого дружеского подшучивания. — Заклюют. Я уж не говорю про «неродившихся детей». Ты каких же имел в виду?
— Ладно тебе, придира! — обрадовался Паша. И вовсе весело, ко всем сразу: — С вами ни о чем серьезном нельзя.
Ветер переменился и теперь задувает сбоку, и, кажется, куда яростнее, чем прежде. Полотнища палатки, хоть и подтягивали некоторое время назад, а все выгибаются пузырем, хлопают; капли конденсата, сорвавшись, обдают лицо. Временами под особенно сильными ударами ветра палатка ходуном ходит. Здесь стена все-таки защищает, что же на гребне либо на самой стене, не хочется и думать. Спасибо Воронову, не расслабился вчера, не поддался на уговоры ночевать где придется. Разве только камней покрупнее, закрепить как следует расчалки, не нашлось. Хорошо, пару крючьев забили, нынче никакие трещины не найти, занесло.
Сергей нет-нет приоткроет полотнище: что снаружи? Снаружи молоко, гор как не было. Стена — несколько метров еще разглядеть можно, выше все тонет в сером, наполненном несущимся снегом месиве. После утренней грозы раз-другой вроде бы светлее становилось, редела облачная пелена вверху, да только едва успели обрадоваться, как снова заволокло.
Ждать у моря погоды, говорят, невеселое занятие. А вот так, в крохотной палатке, где ни повернуться толком, ни встать, да еще ветер воет, стонет, наваливается, того гляди унесет… Знать бы — ну, сутки, двое суток еще. Хоть какая-то определенность. Разучились верить приметам, а они есть. Вчера звезды при начале ночи блистали, переливались, как и вправду на прощанье хотели восхитить и порадовать мир земной, а едва зашло солнце, ветер начался… И вот лежат, разговоры все какие-то напряженные, и когда кончится это сидение, вернее, лежащие, и прекратится ли вообще?
Что-то и впрямь с погодой несусветное. Конечно, в один котел валят что ни попади, но и то сказать, причин для всяческого беспокойства хоть отбавляй. Бураны, заморозки, наводнения совершенно не ко времени, засуха, какие-то нелепые, нелогичные выпады природы.
Неисповедимый российский обычай — выискивать разные несообразности, будто только в осуждении обретается подлинное единство. Паша Кокарекин, благодаря своей журналистской прыти понахватавший того-сего, не скупясь, подкидывает случаи. Послушать их обоих, так и вовсе на ладан дышит наш земной шарик, не сегодня завтра окажемся погребенными под горами мусора и ядовитых отходов. Ультрафиолет, химия, эрозия, коррозия…
Воронов объясняет эти разговоры влиянием на психику затянувшегося ожидания в условиях высокогорья и плохой погоды. Вероятно, можно было бы высчитать любопытные зависимости. Известно, что количество тяжелых заболеваний резко возрастает в такие дни.
— Умер великий Пан, покровитель стад и природы! — восклицает, хороня все иллюзии, Паша Кокарекин.
— Обычные межведомственные перепалки, — охлаждает его Воронов. — Между прочим, легенда о гибели Пана неверна. (Следует вывести Сергея из сосредоточенности на негативном.) Плутарх передал ошибочную версию известного происшествия. Суть в том, что Фамуз, кормчий корабля, плывшего мимо острова, неправильно понял плач и крики. «Фамуз хо панмегас тефнеке». «Фамуз всевеликий умер» — вот что это было, а он понял, как обращение к нему. «Фамуз! Пан великий умер». Случайное совпадение имени бога с именем кормчего-египтянина. Так что жив ваш козлоногий Пан и, будем надеяться, здоров. Хотя он действительно не вечен. Тот же Плутарх утверждает, что Пан рожден от Гермеса и смертной женщины Пенелопы.
— Откуда ты все это взял? — не упустил случая несколько подольститься к начальству Жора Бардошин. — Ты что, греческий изучаешь?
— Да. Меня издавна привлекает культура и история Древней Эллады. Никогда уже потом не повторившаяся гармония духа и плоти. — И, словно устыдившись собственной высокопарности, с головой в спальный мешок. Затих, надо полагать, действительно в объятиях Морфея.
Скучно без дела. Спать бы, отсыпаться за прошлое и на будущее. Паша мается, то закроет глаза, то откроет. Записной соня Бардошин, прямо как подменили его. Бывало, чуть минута выдастся, уж где-нибудь прикорнул. Нынче куда там. Таращится, усами шевелит, губу свою почесывает. А то вот еще рюкзаком занялся: перебирает что-то, перекладывает. Из внутреннего кармана извлек пластиковый пакет с документами.
— Ты чего документы-то? — Паша спрашивает. — Здесь гаишников нету, за нарушение правил Воронов и с документами шею намылит.
— Забыл вынуть. Как вернулся из Одессы, сплошной цейтнот.
— Еще бы! Стенгазета! — совершенно невинно восхищается Паша. — Заголовки никого не мог найти написать, если бы не ты, плюнул бы и отстукал на машинке. Высший класс заголовочки изобразил. Я и не знал, что ты заправский каллиграф. А Фрося? Фросю в полон взял… — И словно бы с удивлением подверстывает: — Как тебя хватает?
Бардошин о своих победах предпочитает не распространяться. Раскрыл паспорт, разглядывает фотографию.
— Посмотри, без усов лучше? В позапрошлом году снимался.
Павел Ревмирович берет из Жориных рук паспорт, поднимает повыше, так виднее, рассматривает:
— Вполне пристойный вид, я бы сказал. Однако усы мужчину украшают. — Протянул паспорт, раскрытый на фотографии, Сергею: — Полюбуйся на нашего удальца в безусом варианте. А с губой ты все ж таки темнишь. Никогда не поверю, чтоб такой ловкий мужчина, акробат, скалолаз и прочее, опять же непьющий вроде бы, и поскользнулся на какой-то лестнице, да так, что зубы проволокой стянули, на губе швы. Рассказывай кому еще.
Сергей нехотя подставил руку. Паша опустил паспорт — и мимо. Куда-то между спальных мешков скользнул. Сергей шарил, шарил, что же делать, привстал и нашел. Какой-то листок выпал из паспорта. Сергей посмотрел внимательнее — авиабилет. Машинально пробежал глазами. Адлер — Минводы синими чернилами выведено, и фамилия Жорина. Не веря себе, чувствуя лишь, как внутри словно оборвалось, сказал:
— Ты, оказывается, в Адлере успел побывать. Когда ты успел?
Бардошин молчит. Кажется, целую вечность. Наконец откуда-то издали доносится его голос:
— Был. Заезжал. Или, точнее, залетал. Покупаться в Черном моречке, как Пашка тут распространялся, захотелось.
Воронов с головою в спальном мешке. Паша впился расширенными глазами в Сергея. Сергей читает и перечитывает фамилию, номер рейса, число, цифры какие-то и не может поднять взгляд на Бардошина.
— Будут еще какие вопросы? — с усмешкой говорит Бардошин. — Или я могу получить свой паспорт обратно?
— Да, конечно, — не сразу отвечает Сергей. По-прежнему не поднимая глаз, чтобы не выдать боль, ненависть, брезгливое отвращение, передает паспорт с вложенным в него авиабилетом.
Долгий, нескончаемый день. Вчетвером в маленькой палатке. Отрезанные бурей ото всего света. Злоба, ревность, отвращение клокочут, буйствуют, переплетаясь с ударами бури, вторя им и подхватывая, перенимая их неистовство, беспощадную хватку, их ярость и азарт. Пусть рухнет все кругом. Пусть буря, пусть землетрясение, пусть адский ураган сметут эти скалы, эти горы, обрушат их в бездну, сотрут все живое, всю подлость и предательство… Пусть гром, пусть молния испепелят… превратят в песок, в грязь… Горы! Горы! Прекрасные, великие и чистые горы!..
Но горы оставались недвижны. В краткие минуты затишья туманно вырисовывались их белые, как привидения, стынущие на ветру пики и лишь кое-где не присыпанные, не убеленные снегом гребни. Безразличные, холодные, замкнутые в себе горы. Не желающие очнуться от своего долгого сна, внять отчаянию и жажде мести.
Нескончаемый мучительный день. Медленная лавина времени неслась, погребая под собой весь его мир, но не отдаляя ни на шаг от той утренней минуты. Что-то они делали, о чем-то говорили, обедали без особого размаха, экономя бензин и продукты. Хоть и превосходные рационы с собой, но погода, вернее, непогода…
Убрали обеденное хозяйство. Воронов-аккуратист настоял, чтобы никаких ложек-кружек не валялось; послушно, без видимой охоты разобрали по рюкзакам. До ночи еще порядочно. Ветер рвет, снег, кажется, целыми тоннами бросает в палатку.
Паша, Павел Ревмирович, помаленьку, полегоньку затеял о детстве своем рассказывать, об учительнице. Кто бы мог подумать, многое совсем начистоту, без утаек, без прикрас. А детство выдалось у Паши скверное. Рано узнал нелюбовь и прочие невзгоды. Воронов время от времени подавал реплики. Сергей — когда уже иначе нельзя.
Порядочно Паша Кокарекин в тот вечер наговорил. Даже сердечные его перипетии, которые за семью замками таил, на свет проглянули.
Впрочем, обо всем этом дальше, дальше.
А теперь немного еще о Сергее, о его переживаниях в ту новую, бесконечно тянувшуюся буранную ночь и о его решении.
Сергей раздвинул клапан в спальном мешке, чтобы дышать. Пальцы на руках холодные. Засунул руки под мышки.
«Не думать, ни о чем не думать, спать», — твердил он. Мысли бессвязные, сумбурные, и чем больше прилагал усилий отлепиться, уйти во что-то иное, тем дальше отлетал сон.
Сильно тряхануло палатку. Еще…
«Мало мы крючьев забили, когда устанавливали… с Бардошиным, сорвать может. Встать разве? Всех переворошишь. Только угомонились. Пусть, — отмахнулся он. — Ничего с палаткой не сделается. Здесь, под стеной? А сорвет если… Пусть судьба решает, чему быть и чего не миновать».
Возникало недоуменное чувство, нет, не бессилия своего, но некой предопределенности.. Как если бы все уже было и выйти из этого он не может. Или иначе, все в основном размечено, он, Сергей, как ни пытается привнести что-то свое, на свой страх и риск развить ситуацию — ему сначала позволяют, но независимо от результата все сворачивает на прежнее, а его усилия в трубу. Хуже — сам страдает по их причине. События же развиваются по заранее сделанной разметке, как по крокам.
Ветер стих. Улетел куда-то в ночь, в снежную ночную огромность. Шорох падающего снега. Дыхание… Глухой голос Воронова, О палатке тоже. Сергей не хочет слушать, и голос подчиняется, слабеет. Тонкий посвист ветра и однообразное гудение голосов…
Сергей, его мысли, его переживания как бы в двух одновременно измерениях существуют: одно — это действительность, с ее голосами, снегом, ударами ветра, опасениями и терпением; другое — его внутренняя жизнь, она бурлит и пригасает, снова вспыхивает, разгорается до мучительных взрывов памяти и обрушивает, раз за разом обрушивает в грохоте и вое бури все то же: билет в Адлер, наглые интонации Бардошина и еще раньше угрозы о чем-то рассказать. Спали многочисленные препоны и завесы, которыми Сергей отгораживался, не желая по каким-то своим путаным причинам знать то, что теперь само било в глаза, но еще более видеть этого человека таким, каков он есть. Вот предстал во всем блеске: «Мне так хорошо, плевать на остальное». Ненависть, сдерживаемая и подавляемая и вдруг слепившая ум Сергея, ненависть и помимовольное жадное стремление, он и сам не знает к чему, не отпускают ни на минуту… И только милосердное изнеможение, когда кажется уже, ни воли, ни цели, ни стремлений, дает роздых его сердцу.
Тяжелый короткий сон придавил Сергея. Как под каменной плитой, как под многометровым снежным покровом, отъединившим ото всего мира.
И внезапное пробуждение. Непонятно, сколько спал, утро или все еще ночь, но совершенно ясная голова, никакой усталости. Четкая разящая мысль. С брезгливым остережением и поминутными возвращениями подступала в душевной темноте, и — вот оно, мгновенной вспышкой озарившее эту темноту: «Завтра будем штурмовать стену — вполне вероятно, придется уйти за угол — окажемся одни — Бардошин почти все время без каски. — Воронов не может заставить, и очень хорошо… Очень хорошо, что без каски…»
Лавиной ломая преграды, перескакивая через встреченные скалы, проносясь над пропастями, захватывая все на своем пути и все перекручивая, перемалывая, обрекая на уничтожение, сорвались в Сергее его ненависть, боль и, круша установившиеся представления, воспитанные и привитые понятия, врожденную доброту, стремление к самопожертвованию — все сметая, все сокрушая, полетели, разгораясь, разрастаясь в жгучую жажду мести, жажду уничтожения…
История та («Как бишь его фамилия?»), не слишком давняя, блеснула, озарив призрачным, рвущимся, как при электрическом замыкании, светом что-то, что он еще не мог или не смел назвать словами. И пошла разматываться, раскручиваться туго, с остановками и отступлениями (еще и потому туго и неровно, что какая-то часть его противилась, восставала, цепляясь за несущественные подробности, за все, что уводило в сторону).
…Интонации, вернее, отсутствие их, поражавшее поначалу при разговоре с Семеновым, — от него впервые услышал, он рассказал. Хрипловатый такой, вялый голос, никак эмоционально не окрашен, и потому, что ни говорит, кажется заурядным, лишенным значения; а тогда разошелся… На базаре в Сухуми встретились прошлый год после гор. Вечный начспас, о нем говорили, скольких на своих плечах вниз спустил, сколько трупов вытащил. Долговязый, тощий, насчет поесть вроде нашего Кокарекина. Ходили, помнится, по рядам — фруктов, винограда! Пробовали вино, в Москву думал привезти, Семенов тоже чачей на зиму запасался; у того четверть стакана, у другого, захмелели оба. Семенова и повело, разоткровенничался, расклокотался: никак не удавалось ему, да, труп обнаружить (место указанное вдоль и поперек излазил), зимний еще, зимой человек погиб, а по убеждению Семенова — убит был. Так прямо он тогда и сказал. Двое, их было, вдвоем ходили. Тот, другой, спустившись, плел басни, будто видел, как камень угодил в висок (шли почему-то без веревки, на головах ушанки). А вернулся без ледоруба. Но дело не в его россказнях, дело в том, что не было патологоанатомической экспертизы. Семенов не мог труп отыскать. Еще жена погибшего понаплела разных разностей. И вот тип тот («Как, однако, устроена память! Случившееся до того противно его душе, что и фамилию не запомнил») мало того, что на свободе, сюда в горы приехал, просился в нашу группу, и Михал Михалыч за него ходатайствовал. Каково! Вершина, на которой трагедия произошла, отлично должна просматриваться отсюда, с гребня, после стены. Снег валил все лето, но и солнце…
«Возможность нужна, — заторопился Сергей. — Вчера на скалах: нечто вроде желоба вверху, крупа снежная, ветром сдувало, и сыпалась, Жора как раз под струйкой этой снежной застрял, ни взад, ни вперед, я еще подумал — да нет, зачем, из опасения за него подумал: если камень пойдет — Жоре некуда деться. А он все стоял, на плечи, рюкзак сыпало, головой потряхивал, отдувался…»
И вдруг, как сам под снежным этим душем очутился:
«Что со мной, о чем я? С ума я сошел! Суть даже не в уликах, суть — невозможно выдержать: убийца. Ну, когда нападают… Но хладнокровно выбрав момент?.. Да там и камней никаких нет, — пытался Сергей стряхнуть наваждение. — Какие камни на стене? Абсурд. Морок с начала и до конца».
Но вместо облегчения, вместо хотя бы признака свободы от ужасных своих намерений навалилась безысходность: дальше жить так не может.
«Ввел его в свой дом. Расхвалил. Ввел в круг таких людей, как Воронов, как Лепорский. Совершенно иной уровень мышления. Воронов — ладно, хотя взгляды, как бы помягче выразиться, несколько не от нашего уже времени; но Слава Лепорский… Нынешнюю его заминку взять — разве не показатель, разве не доказательство! Сотворил что-то хитрое, далеко ведущее в генной инженерии, сейчас же его в головной институт, кучу помощников, оборудование, какое и во сне не приснится, а ему раздумалось тему эту двигать, сколько ни уламывали — ни в какую, занялся бройлерными цыплятами. Последствия подобной партизанщины не заставили себя долго ждать. Из головного института, естественно, попросили, с академией сорвалось, а уж было налажено, обратно в родные пенаты — место занято, и пошел Славик в Тимирязевку студиозусов к экзаменам натаскивать.
Впрочем, Жора заявил, что сие лишь доказывает, что с хорошеньким «приветом» Слава Лепорский. Плевал он на Славку и его онёры. Другое Жору интересует.
Видел прекрасно его ухаживания за Региной, а все равно мысли допустить не мог, что он, что она…
Неправда. Мысль эта, подозрение угнездились чуть ли не сразу. Да только кого чувствуешь потенциальным врагом — тем и восхищаешься. Нелепая гордость, боязнь выказать свои сомнения, свой страх… Игра в прятки с судьбой? Или жалкая надежда, что не проявивший своей подлинной сути противник ответит той же монетой?
Что философствовать, — не в состоянии ни с чем примириться и остановиться окончательно ни на чем не в состоянии, сказал он себе. — Не хватает еще колочения в грудь и патетических восклицаний. — И с сильнейшим отчаянием: — Оторваться от связки Воронова надо! Если бы наши рюкзаки остались у них, а мы налегке… Воронов скажет, вытягивать каждой двойке свои рюкзаки. Уговорить, если так. Бардошину лишь бы скорее, скорее. Стена — предмет его вожделений, пища зазнайству».
Лихорадочное, кружащее голову возбуждение, и все выстраивается почти без натяжек, кажется логичным, правильным. Всякая головоломка — ключ рядом.
«Оторваться, непременно как можно дальше оторваться от связки Воронова, — твердит Сергей. — Чем-нибудь их задержать. На худой конец — идем на разведку: набьем крючья, веревку навесим. Там, потом… Главное — оторваться. И чтобы Воронов не перетасовал связки.
Павел Ревмирович, Паша может все испортить, — закрадывается опасение. — Он многое знает. Может быть, больше, чем я думаю. Может быть, он и раньше знал, что Бардошин ни в какой Одессе не был. Распирает его прямо-таки. И он что-то подозревает. Догадывается относительно моих планов. Пытается помешать. Постой, их же не было, планов… Какие планы? — останавливает он себя. И через минуту: — А может, как-нибудь само? Камнепад? Снежный карниз… Такой ветер мощнейшие карнизы наметет. Лавина!.. Лавины, похоже, охотятся за Жорой Бардошиным». На тренировочном восхождении, едва он прошел со своей командой, трещина по снегу побежала, глухой, тяжкий всхлип раздался, словно гора охнула, и склон, который они только что месили, поехал. Клубясь, грохоча, набирая скорость, захватывая целые поля вокруг, превращая их в крутящийся снежный вихрь, заставляя содрогаться, кажется, сами горы, полетела лавина. И еще было, и тоже только-только он прошел. А в прошлом сезоне прихватила его мокрая, самая коварная. Но ребята успели, вырвали Жору. Лавины охотятся за ним. Каким-то десятым чувством Жора догадывается, и неохотно, с опаской идет по снегу.
Очнувшись на минуту от злобных своих грез, мучимый едва ли не отвращением к себе и своим надеждам, но еще более невозможностью найти иной, приемлемый выход, Сергей в изнеможении сникает. Опустошенность, тоска, и податься некуда. Это росло, спело, наливалось ядовитым соком в тайниках, о которых не хотим и думать, и вот загнало его в тупик.
«Так — чтобы не страдали другие, не мучились бессильно и не кляли свою судьбу. Завтра на стене… Завтра».
ГЛАВА 9
Признаюсь, Павел Ревмирович Кокарекин в первое время моих розысканий, связанных с будущим повествованием о Сергее Невраеве, как бы даже и не существовал для меня в виде, так сказать, личности или заметным образом выраженного характера. Балагур, забияка, опять же технику или чем он там призван заниматься, на журналистику променял. И потому услышанное от Воронова в добросовестнейших подробностях изложение нескольких монологов Павла Ревмировича пробудило во мне определенный интерес к неоднозначному этому молодому человеку. Ну а так как встретиться мне с ним поначалу никак не удавалось — то в отъезде, то почему-то не может, при всем желании ни минуты свободной, — кое-что урвал из вторых, из третьих рук. И по горячему следу — в записные книжки. Да простятся мне невнятность изложения, отрывистость, клочковатость, а то и непомерная старательность при описании третьестепенных подробностей — одна из причин как раз в горячем стремлении быть елико возможно ближе к этим записям и, следовательно, к тому, как оно закручивалось в действительности.
Ну а что касается Павла Ревмировича, признаюсь: настолько разожгло желание познакомиться с ним, что, встретившись случайно, накинулся как тать в ночи. Немного, однако, удалось мне из него выжать. Был он подчеркнуто сдержан, лаконичен, чем, если угодно, пробудил еще большую симпатию и твердое намерение узнать его ближе. Думается, что подобный тип мышления, или, иначе, склад ума, может быть отмечен как далеко не установившийся. Встречается, но насколько часто? Мне вот повезло, узнал и радуюсь. В наше время телевидения, плотного общения в любого рода деятельности, когда из-за бесконечных столкновений поневоле сглаживаются, сошлифовываются индивидуальные особенности, характер становится все большей роскошью, которую далеко не всякий в состоянии себе позволить. Может быть, не сумел я как следует оттенить, сделать выпуклыми наиболее привлекательные его черты — в какой-то степени боязнь пересластить, тем более удариться в риторику останавливали меня.
Заканчивая теперь неловкое это присловие и вполне понимая, что иной читатель может и оставить страницы, посвященные Павлу Ревмировичу, тем не менее еще и еще сознаюсь в своей приверженности к таким вот не слишком выдающимся, не бог весть насколько удачливым, зато жарко, истово влюбленным — пожалуй, никак по-другому не сумею назвать — в душевную красоту. Громкие слова, скажут мне? О нет, отнюдь.
Итак, привожу исповедальный рассказ Павла Ревмировича о его детских годах. Они, как известно, во многом определяют, каким станет человек; когда еще, как не в детские годы, закладываются основы поведения, более того — система взглядов. Что получил до двенадцати лет, то и будет развиваться. А кроме того, совсем неспроста пустился Павел Ревмирович в свои откровения. С его-то нравом, задиристым и скрытным, самолюбивым и бестолково-веселым, и так обнажаться? Что-то он определенно предчувствовал, каких-то действий опасался и на свой лад пытался предотвратить. Оттого и обращение неожиданное и пылкое к «святым воспоминаниям детства», которые, по грустному убеждению поэта, не в силах ничего остановить. Но по порядку.
— Думаю, если бы у нас устраивали турниры, кто кого переговорит, — заявил мне Воронов в одну из встреч, когда особенно донимал его своими вопросами, — Павел Ревмирович Кокарекин был бы первым кандидатом в книгу Гинесса.
Подобное высказал он и в палатке днем, когда уже порядком осточертели и буря, не желавшая утихать, и разговоры, споры, подначивания и всевозможное озорство и балагурство Пашино. Да только Паша ноль внимания на разумный призыв Воронова угомониться и дать людям поспать. Тема, конечно, неисчерпаемая, для многих любимейшая. А все же и тут нечасто бываем полностью откровенны, да и для чего бы? Не лучше ли этакий флер, приятная полудымка? Потому, может быть, таким диссонансом к привычному прозвучали первые абзацы Пашиных воспоминаний, и все же духу не хватало усомниться и спросить: неужели так-таки с отцом никогда не встречается, даже не знает, жив ли, и как можно говорить о матери «взяла и утонула»?
Ну да, если и случилась у Паши показная легкость, так непросто далась, потому что следом совсем иным повеяло:
— …Помню ее едва-едва. А пожалуй, и не помню. Скорее то — фотография ее, любительская: она с коляской детской, в которой, должно быть, я; лицо круглое, веселое, шубка на ней черненькая, верно, под котик, шапочка вязаная с помпоном… Год, нет, два года, как институт окончила нефтяной. А вот что помню отчетливо, из самых первых ощущений, так это — всех ненавидел, — перебил он свое отступление о матери, похоже, куда более болезненное, чем черные дебри последующих детских лет, погружаясь в которые тем не менее сознавал, что выбрался из них, одолел. — Дрался. Постоянно хотел есть и поколотить кого-никого. Выместить… Может быть, чувство неполноценности, которое одолевало? И тем утвердить себя? Заколачивал, если слабее меня. А я сильным был для своего возраста, что, вообще говоря, присуще… то есть, если по совести… — Павел Ревмирович замялся, даже отпрянул было перед тем тягостным, что уже в другом обличье нахлынуло из прошлого и о чем даже тетка в черные ее минуты и то лишь раз-другой вспомнила, и все-таки ринулся в слепящую ту темноту. — По совести, так рос я с основательной задержкой развития. Не буду юлить, дебилом был…
И понесся, словно подброшенный этим словцом, еще и акцентируя разные, прямо скажем, недостойные свои выходки.
— Знаете, как мальчишки дерутся: глаза от страха зажмурят и наскакивают, словно молодые петушки, кулачонками тычут во все стороны. Я — нет: помню удовольствие, даже радость, когда врежу по носу и кровь… Лютая и жалкая злоба горела во мне к ним, благополучным, в чистеньких свитерочках, брючках с заглаженными складочками.
Откуда это — задаю я себе вопрос? Может быть, гены? Помните, у Шварца: «Я не виноват, виноваты гены, тетушка была убийцей». Дед со стороны отца был жестокий человек, сильный, прямой, но и время было жестокое, не признававшее других цветов, кроме красного и белого. Дед крушил буржуев, топил врангелевскую нечисть в Черном море. Заседал в Губчека, с контрой боролся. Перевоспитанием заниматься было некогда. Моя мать, я знаю, восхищалась его бескомпромиссностью, его большими делами, впрочем, только понаслышке, увидеться с ним ей не довелось.
О, вот еще, о матери… Совсем смутно… помню дачу… нет, дачу не помню, — душистый табак по краю клумбы, удивительно сильный его аромат. Словно никогда уже больше не впивал этот сладостно-дурманящий дух… Еще озеро, близ которого находилась дача, и как мама заходила в воду, а я плакал, — этот ужас помню, когда она уплывала от меня. Там потом все и произошло, там, на даче, когда отец бросил нас. А ведь она, по рассказам, ох какая была шумная, энергичная, искусство — лишь метод агитации (ее отец был как раз художником, пусть небольшим, и все же), техника, наука — вот что должно служить опорой новому обществу. Долой «буржуазные пережитки» — будем служить переустройству мира. В нефтяной институт поступила, влюбилась в сокурсника, моего будущего отца…
Да, так вот… Меня побьют — подсторожу и камнем, и бежать. — Павел Ревмирович говорил, и — не странно ли, — в интонациях, в лице успокоенность появились. — Все проходные дворы, закоулки, чердаки — как свои пять пальцев. Лучше. Я и названий-то пальцев не знал в те темные мои годы и что пять их на руке. Не хотел знать. Зачем были мне новые трудные слова, с кем объясняться? Не желал я никакого общения.
Но что мне нравилось определенно, так это то, что внушаю страх, что разбегаются. Я подходил и ломал игрушки. Железным прутом, помню, выбил спицы у детского велосипеда. Я жил словно в красном тумане, наполненном бранью и тычками тетки, болью в выкрученных распухших ушах, в руках, спине, исполосованной ремешком, а еще злобой и голодом. Постоянно хотел есть. Голод, страх побоев и алчное стремление причинить боль другим. Ненавидел кошек, собак…
Он посмотрел долгим пристальным взглядом на Сергея. Сергей отвел глаза, уставился в угол палатки, не понимая, чего ради это ожесточенное саморазоблачение? Не понимая и дивясь, и исподволь проникаясь сочувствием.
Павел Ревмирович, словно телепат, угадал невысказанные его вопросы и поспешил пояснить:
— Никогда ни о чем таком ни единой живой душе не рассказывал, таил. Сам знаю, не больно-то украшает. Сегодня… Ну да умный поймет. А кто не поймет… тому не требуется. — И вдруг загремел: — Да что не рассказывал — старался забыть, затерять, вымести из памяти вон; потом только сообразил: нельзя. Помнить надо самые малые извивы, как было. Помнить, потому что… Что бы я сейчас… Трудно и вообразить, кем бы был, да и был ли, если не женщина одна, учительница… Светлана Максимовна.
Жора Бардошин заворочался, устраиваясь удобнее, приготавливаясь слушать, судя по Пашиному замешательству, нечто куда более завлекательное. Воронов кашлянул и как-то весь напрягся, насторожился даже, уставился на Пашу своими телескопическими очками. Такое чувство: или рявкнет изничтожающее, или… или… Павел Ревмирович заспешил:
— Сейчас Воронов скажет: «сладкие слюни», а я, как случалось частенько в той, иной моей жизни, вмажу ему, — как бы даже издевающимся голосом, из которого враз исчезли и волнение и теплота. Привстал, подложил выше под спину свой рюкзак, откинул волосы со лба и с ухмылкой, чуть сбавив темп: — Исключено, многоуважаемый Александр Борисович. И не потому только, что вполне успешно выдрессирован, а, ну… как бы понятнее растолковать, чтобы в твои докторские, фу, чуть не сказал доктринерские, мозги проникло… В общем всей душой в иное верю, что помощнее будет, на мой взгляд, самых здоровенных кулаков. Только вот назвать не умею по сю пору. Хоть и много слов разных с той моей немотной поры выучил, да какие-то они всё рядом, не в яблочко. Ладно, замнем для ясности. Зарекся я, если на то пошло, некоторые вещи своими именами называть. Впрочем, для вас, многоуважаемый, как было терра инкогнита, так, похоже, и остается. А потому пусть с тяжелым сердцем, но вперед и дальше, дальше!.. По морям, по волнам, — продолжил он было свое ерничанье, остановился и вернулся к рассказу: — А дальше вот о чем хотелось мне поведать честной компании. Жил я тогда, в детские мои годы, как вы, должно быть, уяснили уже, у дальней родственницы с отцовской стороны, которую мне полагалось величать «тетей». Она меня люто не любила. Как я у нее очутился, чего ради она меня взяла, во всяком случае, на первых порах, покрыто мраком неизвестности. То есть все имеет, объяснение, как мог бы заявить досточтимейший Александр Борисович и был бы совершенно прав. Все, кроме чувства, поправил бы в скобочках я. Но в данном конкретном случае ни о каких чувствах и речи быть не может. Разве что о негативных. Тетка мечтала выйти замуж, это было ее идефикс. Моя покойная мать в свое время отнеслась к формальностям с презрением, ее брак не был зарегистрирован. Тетке был нужен муж пусть самый завалященький, но законный! Ни на какие легкомысленные связи она не шла. У нее имелся некоторый изъянчик, отметина, шрам через лоб и щеку: стекло, выпавшее в ветреную погоду с …надцатого этажа, изуродовало лицо, и никакие иссечения, прижигания не помогали. Это бы ладно, считала она. Но прибавилась куда большая помеха — я. Я — неслух и паразит, хулиган, воришка, паскудный щенок… Набор впечатляющий. Ох, и лупила же она меня! И хотя силой я сравняться с ней в то время еще не мог и в драках оказывался побежденным, тем не менее всячески старался напакостить ей. Известно, насколько горазды в подобном стремлении злые мальчики. Если говорить о высших достижениях, думаю, что именно в означенной области я действительно был своего рода рекордсменом. Война непрерывная, неустанная, хотя и будничная. Крал что ни попадя, блаженствовал, если удавалось добраться до варенья. Хотя она чуть не все продукты держала под замком. Шкафы, кухонный в том числе, полки настенные, холодильник, даже диван были снабжены замками, а ключи находились постоянно при ней. Кто знает, может, еще и потому так завлекательно и победно было стибрить что ни что.
Тетка моя не отказывалась от меня потому, что мой не слишком известный мне папочка выплачивал ежемесячно довольно приличный куш на мое содержание. В браке с моей матерью не состоял и по закону вроде бы не обязан был заботиться обо мне, но из каких-то своих соображений деньги давал. Работал он в ту пору на Севере, что-то связанное с нефтью, посты занимал крупные, пара сотен в месяц в нынешнем исчислении счета для него не составляла. А для тетки денежки эти оказывались как нельзя кстати. Она служила кассиршей в булочной, благодаря ли своему сварливому нраву или еще почему никаких добавочных доходов не имела. Хлеб и тот приносила в весьма умеренных количествах. Но не хлебом единым жив человек.
Я же, несмотря на свое косноязычие — да, забыл упомянуть, я еще и сильно заикался, во рту и без того, как теперь понимаю, каша, словарный запасец раз, два и обчелся, — тем не менее я отлично умел купить, разумеется, без очереди хороший кус колбасы и выпросить хлеба. Хлеб, по правде говоря, большей частью воровал. Не в теткиной булочной само собой. Ловили, случалось и такое, и отпускали бедного сиротку. Сиротством своим я пользовался в любых затруднительных случаях. Впрочем, я тогда уже знал, что я не просто сирота, я — незаконнорожденный. Много лет спустя, читая Толстого, я узнал и другое наименование — бастард, оно удивительным образом возвысило меня в собственных глазах: хоть чем-то я оказывался похожим на полюбившегося мне Пьера Безухова.
Что еще? Да, научился отыскивать монетки возле касс метро, продуктовых магазинов, в троллейбусе. Один, никаких дружков у меня не было. Не хотел я ни с кем водиться. Тут и косноязычие причиной и заикание, да и не было потребности ни в ком и ни в чем, кроме колбасы, конфет, лимонада.
Однажды сумел выломать телефонный автомат. Обрезал провода, все чин по чину, и попал в руки какого-то старикана, который, надо полагать, вышел на вечернюю прогулку. Я принялся мычать, брыкаться, потом, что же делать, бросил свой телефон-автомат, головой в живот и вырвался. Неподалеку длинный, запутанный проходной двор, в котором я ориентировался с закрытыми глазами. Почувствовал себя в безопасности, стало ужасно обидно: телефон-автомат, тяжелый-претяжелый от множества монет, остался у старикана. Эй, Жора! Или уснул? — Паша слегка толкнул своего соседа коленом. — Дальше напрямую по твоей программе. Ты слушаешь? Очхор, слушай.
Итак, очень мне жалко денежек стало. Я назад. Увидел, что мой враг тащится по другой стороне улицы, из-под пальто явно выпирает телефон. Совсем не в ту сторону, где милиция, тащится. Я крался, прячась за выступы стен, за водосточные трубы… Так запомнилось все… Закрою глаза и будто вижу снова. Мучаюсь и не могу выкинуть из памяти. А говорят, детские впечатления!.. Прохожие попадались, дворники вышли убирать снег… Так я проводил его до подъезда, видел, как он вошел в лифт, в нашем доме лифтов не было, я их боялся. Но я хорошо запомнил старика. Как-то вечером я подсторожил его и напал сзади. Я — семилетний звереныш… прутом железным ударил его по ногам — и деру.
Как, Жора, одобряешь? — Паша подождал, отдуваясь. — Молчишь? Ладно, поехали дальше. — И без паузы: — Весной это было, а осенью, ровно двадцать лет назад, тетка повела меня устраивать в школу. Сколько мне пришлось в жизни моей проходить разнообразных комиссий, как часто я волновался, хотел и пытался что-то подтасовать, чтобы иметь лучшие шансы… Тогда тоже была комиссия.
Я понимал лишь, что меня хотят соединить с другими, заставить делать, что мне не по вкусу, кроме того, я какой-то не такой, и я постарался изо всех своих злых силенок вести себя так, как мне требовалось. Разумеется, меня не приняли. От ворот поворот.
Мы уходили, тетка дергала меня за руку, я все оборачивался, смотрел на женщину в затейливом, с золотыми драконами платье, видел ее гадливую гримасу и пытался вырваться, готов был изодрать ее нарядное платье. По гримасе узнал ее совсем недавно… Но об этом потом, потом.
Мне дали направление во вспомогательную школу, — знаете, существуют такие, для дурачков. Я, вероятно, и не подозревал о подобной возможности, потому что, когда спустя несколько дней тетка принялась долго и нудно что-то мне втолковывать, я дико разбуянился. И там все крушил, ломал игрушки, бил всех подряд и не желал реагировать на окрики и команды. Я их не хотел понимать, ничьи команды. Что-то было во мне закрыто. То любопытство, с которым ребятишки пристают ко взрослым по любому поводу, не проснулось во мне. Плюс, я уже сказал, заикание тоническое, плечом дергал, помогая себе. Так и существовал среди безымянных предметов, существ, явлений, заведомо враждебных, таящих неясную, непрестанно ожидаемую опасность. «Звереныш!» — кричали мне. Я узнавал, чувствовал обидный смысл этого слова, но я не знал, что оно доподлинно обозначает. Ничего не хотел знать. Голод, почти постоянный, иногда жажда, которую я мог утолить из лужи, страх и рядом ненависть. Попади мне тогда в руки атомная бомба и угадай я ее назначение — непременно бы взорвал. Не из детского озорства, но именно уничтожить все, всех. Слышите? Как в сверхпопулярном фильме говорилось: «Информация к размышлению».
— Слышать-то мы слышали, а куда делась та дамочка, как ее? — улыбаясь вставил Бардошин. — С таким пафосом подвел и — нате! — снова-здорово о каких-то детских бяках.
— Да будет стыдно тому, кто об ней плохо подумает! — обрезал Паша. И к Сергею: — Моя беда, — уставился в глаза ему пытливо, пристально, словно стараясь проникнуть в самую душу, углядеть и понять нечто, ради чего весь сыр-бор затеял. — Моя вечная беда: помню всякую боль, каждое унижение, и ненависть свою, и злобу. Понимаю, так и должно, и все-таки… Думаю о детских годах — являются предметы и картины без названий, без слов, — только крики, ругательства, искаженные злобой лица, вытаращенные глаза и жаркое стремление причинить боль, заставить страдать и видеть эту боль и страдание. И это давит. Требует чего-то от меня. Уравновесить ли, перетерпеть… Не знаю. Но совершенно иного, чем вытворял. Что это, новая гордыня или в самом деле естественная жажда каким-то противоположным по знаку поступком перекрыть тогдашнее?
Сильнейший порыв ветра ударил откуда-то сверху, придавил палатку. Не раз уже возникало опасение: вдруг порвет, а не то и вовсе сдует с уступа этот их жалкий, из тонкой прорезинки домик. И вот с еще большей остротой нахлынуло то же опасение, тот же страх. Хочется выбраться скорее наружу… Пересиливаешь это жалкое хотение, заставляешь себя лежать как лежал, только обостренно чувствуешь, как ткань палатки натягивается, трепещет…
— Такая несчастная память, — спешил Паша, словно боясь, что не успеет досказать или не хватит смелости, и признания его оборвутся, и все ни к чему. — Не на хорошее память — на плохое. На всякую дрянь, боль… Будто любая, даже незначительная ранка не зарастает внутри. Сверху пленочка тоненькая, под нею — и гной и боль. Вот, скажем, цифры — не помню; имена, фамилии, названия всякие, телефоны в голове не держатся, хоть убей, — для журналиста крупный изъян. Еще языки иностранные. Стыдно сказать: в школе зубрил, в институте, а статью в «Уоркере» без словаря не могу одолеть. Что же касается переживаний, так называемых отрицательных… Знаешь, какого труда, форменных усилий стоило моей учительнице, чтобы не потонул в них окончательно, не захлебнулся, выплыл. Не сделался законченным отрицателем, ищущим, кого бы обвинить в собственных невзгодах. Месть!.. О, под вывеской, конечно же, борьбы за справедливость и торжество правды! Но об этом после, после.
— Так называемое зло, — передразнил из спального мешка Жора Бардошин, — как правило, помнится куда крепче, чем так называемое добро. — Хотя Жора лежит между Вороновым и Пашей, не с краю, да только иной раз и из-под него палатку словно бы выдергивает, или кажется? Ну да где наша не пропадала. Только вот рассуждения Пашкины… Не мог Жорик отказать себе в удовольствии слегка подкрутить ему хвост. — Добро! Удел слабых, беззащитных, ни на что путное не годных людишек — это ваше «добро». Еще самоотречение, скажешь. Дело, дело важно! Результаты! А из чего вылеплены — плевать.
— Вот уж пальцем в небо! — возмутился Павел Ревмирович и сейчас же остепенил себя. — Не хочу покуда об этом. Потом. После. По-осле… Мой рассказ к тому и ведет.
И с новым задором, который спасительно уводил от сомнений в необходимости такой его откровенности:
— Для чего моя исповедь? В который раз себя спрашиваю. Для чего я все это говорю? Впрочем, может быть, и знаю. Сердцем знаю. Скажу так: может, кому и пригодится, может, кого и остановит в жестокую минуту. Жорик наш вдруг ребятенком нечаянно обзаведется, так чтобы не сбежал, как мой любвеобильный папочка. Что, Жорик, не хочешь ребятенка? Не может этакого быть против твоего хотения? В наш цивилизованный век, а? — И рассмеялся мелким нерешительным смехом, оставлявшим странное впечатление незавершенности и вопроса. — Теперь, собственно, главное… Тогда и расставится по местам, — сказал будто самому себе, но громко, в голос. — Во вспомогательной школе со мной возились, воевали, заставляли, терпели и наконец решили от меня избавиться. Их понять можно, живые люди. Раз никакие апробированные начальством методы результатов не дают, что же остается? Приписать олигофрению, полечить в психушке, а дальше — дальше сидел бы я дома или где там на государственном обеспечении, им-то, во всяком случае, хлопот не доставляя. Тетке моей в общем-то наплевать, она уже давно смотрела на меня как на законченного дебила. Я этого умишком своим неразвитым не понимал. Ничего не делать, есть, спать, драться да воровать — чем плохо!.. — вот тогдашняя моя трагедия.
— Лихо ты рассказываешь, как не про себя, — не удержался Жора Бардошин. На этот раз ни подтрунивания, ни злорадного удовольствия, скорее удивление: дает Пашка! Без оглядки решается на такое саморазоблачение.
— А что, и верно, как не про себя, — удивленно сказал Паша. — Про другого будто человечка, которого хорошо знаю. В чьей шкуре побыл. Точно, точно, как про другого, — подтвердил. — Сам не очень верю, но был, был им, в том и штука. Был!..
— Дорожка прямехонькая намечалась в колонию для малолетних правонарушителей, — высказался долго молчавший Воронов: — А оттуда…
Паша пропустил мимо ушей, а может, согласился молча с этой мрачной вороновской констатацией. И о своем:
— Устроили мне комиссию: ошибаться, так всем хором, чтобы не́кого после винить. Ни тухлые яйца не спишешь без комиссии, ни одеяла горелые, правильно я, Жоринька, говорю? Ни человечка, пусть самого незначительного, в идиоты не произведешь. На комиссии этой меня и подобрала учительница моя будущая Светлана Максимовна.
На этом новом имени мы вынуждены прервать монолог Павла Ревмировича. Таковы обстоятельства, в которых жили и действовали наши герои, что судьба сближала их, а случалось, и сталкивала то на одном, тона другом витке жизни. С печалью, с недоумением, с вдруг резанувшей тоской повторил Воронов про себя это имя, слышанное совсем в иной обстановке от женщины, которую — теперь-то знает твердо — любил; теперь, когда ее не стало, понял окончательно. Светлана Максимовна, выходит, и Пашина учительница тоже? Как, однако, переплетено, слито, связано одно с другим. Сколько слышал застенчивых и восторженных слов об этой Светлане Максимовне, и вот снова и где! До конца дней своих (можно теперь заключить и так) сохранила не просто чувство благодарности или дружбы — ею мерила, к ней, не к нему спешила в трудный свой час.
Так вот откуда ее знакомство с Кокарекиным, особая конфузливая приязнь к нему. «Общие знакомые», — говорила. Ни слова сверх. Интересно, скажет ли Паша о ней? А впрочем…
Впрочем, молчи. Не след ни о чем расспрашивать, полагал Воронов. Захочет — скажет. Не захочет…
Выдержка прежде всего. Имел, кажется, горькую возможность убедиться в справедливости этого положения. Выдержка! На худой конец, терпение. Что бы ни случилось, не давать воли эмоциям, первому побуждению. В любой экстремальной ситуации. Никогда.
День тот, час, вернее минута, о которой принуждает себя думать будто о несчастной, выходящей из разумных норм и объяснений случайности, предстали в новом свете как безусловное подтверждение, даже доказательство, если угодно… недостаточной его выдержанности… И ее тоже. Выдержка во что бы та ни стало! Сколько раз твердил себе, воспитывал и тренировал. Тогда в последнюю их встречу вместо того, чтобы объясниться, твердо и определенно высказать свои претензии и пожелания и перебросить мосты, если говорить не предвзято, конечно же, через второстепенные особенности ее домашнего воспитания…
Да, в последнюю их встречу Воронов дал волю своему нетерпению и гневу. Да, преисполнен был самых утешительных намерений и — да — не выдержал. Сорвался. И теперь не то чтобы винил себя со всею категоричностью (впрочем, да, винил себя), но прежде всего впервые глубоко осознал логику происшедшего.
…Договорились по телефону, что она принесет взятые на окончательную выверку расчеты — едва ли не основная ценность совместной работы, на них, в частности, построена ее кандидатская, — заодно и другие материалы, которые у нее скопились. Получила бюллетень по уходу — родители будто бы расхворались, оба, — и исчезла почти на месяц.
Чувствовал себя не совсем в своей тарелке после неприятного инцидента в ее доме, чем в немалой степени объяснялся и тон его телефонной просьбы. В самом деле, не могли не знать нежно любимые ею папочка и мамочка, что он человек современного мышления, член партии. И извольте радоваться, едва завел разговор о своем намерении подать соответствующие заявления в загс, как счастливый папочка выносит какую-то икону и скороговоркой, будто само собой разумеющееся, требует, чтобы дочка и он, Александр Борисович Воронов, опустились на колени. Когда же он, Александр Борисович, вполне резонно попытался изложить свое отношение к вопросу, мать всхлипывать принялась, охать, причитать; папочка поначалу как-то даже растерялся, положил икону на стол посреди тарелок, чашек и вазочек с вареньем, сделал попытку обнять свою драгоценную, как то приличествует защитнику и главе семьи, но тут же и передумал, схватил иконку и, что-то бормоча и жалко улыбаясь, ретировался в комнатку за кухней, которую занимал с дражайшей своей половиной. Она вслед за ним, разве что не столь проворно, и затихли там, словно мыши.
Воронов — и этого он теперь объяснить не мог, кроме как отсутствием надлежащей выдержки, — надел пальто, шляпу и удалился.
День миновал, второй, третий, в аспирантуру сообщили о бюллетене по уходу. А там неделя за неделей, важнейшие материалы у нее дома, и ни слуху ни духу. Хорошо, копии имелись, не то вовсе беда. Но дальше… Дальше, анализировал потом Воронов и диву давался, — сплошная импульсивность и нервы. Нервы, почти как у бедолаги Сергея.
Воронов крепился, не звонил, хотя следовало бы высказать свои соболезнования по доводу затянувшейся болезни родителей, предложить помощь, мало ли, лекарства дефицитные либо в больницу помочь устроить. Наконец решил, что достаточно поманежили друг друга, пора встретиться, обсудить некоторые вопросы, связанные с ее диссертацией тоже. Если гора не идет к Магомету, Магомет пойдет к горе. Набрал номер, она сняла трубку — и как же затрепетал, затанцевал, запел ее голос, едва поверила, что он!..
Итак, встреча, которая вполне могла и должна была послужить к их полному примирению. Но многое вышло из-под его контроля. Нетерпение и нежелание приноравливаться к женской психике, а также самолюбивое стремление к реваншу, утвердившееся в нем, как только услышал ее радость («Она виновата, и вести себя с нею следует соответствующим образом», — сформулировал он во время телефонного разговора и не преминул тогда же продемонстрировать), и… И все пошло вразнос.
Тяжело вспоминать, что она наговорила. Начать хотя бы с того, что, как правило, являлась минут за пять, за десять до назначенного времени, он тоже пораньше, и оба, смеясь, показывали на часы; в тот раз как специально задержалась, и основательно. Обычно тихая, ровная, покорная, взиравшая на него, так сказать, снизу вверх, как на некий материализованный идеал, — тут с места в карьер — черствый, бездушный! Будь проклят час, когда надумала идти к нему в аспирантуру. Не знает, как освободиться, выжать, выбросить из памяти, из мыслей, из сердца связанное с ним…
Быстро-быстро, словно бы сто раз уже про себя повторяла, выучила наизусть и решилась блеснуть перед своим профессором. А что придумывала походя, так заикаясь к дергаясь. Ему бы и отнестись к ее выплеску, как, ну скажем, к несвойственному в обычное время неприятному этому подергиванию, ан нет, забрало за живое, иного ждал. Да еще типично женская штучка, как тогда подумал, в немалой степени раздражившая его: рукопись большой статьи, расчеты, да и все материалы, какие передал ей, — оказывается, нет их у нее! Как так нет, возмутился было Воронов и решил покуда не дебатировать. Не взяла специально, так он себе объяснил (в руках ее ничего, кроме крохотной сумочки, не было).
Встреча эта произошла у выхода из метро «Смоленская» («Наше место», — говорила она), и сразу столь неожиданное и энергичное ее нападение. (Еще бросилось в глаза, шокировало его и породило поток озадачивших предположений: она словно бы в некотором подпитии. Никогда прежде не замечал, а тут вот такая странность.) Народ кругом, какие-то студенты, поджидавшие своих подружек. У него было запланировано отправиться в ресторан «Арбат», на углу проспекта Калинина и Садовой. Справлялся предварительно о столиках, просил, чтобы оставили. И механически, подчиняясь разработанной программе, увлек ее от метро в сторону Садовой и медленным шагом направился с нею вверх к проспекту Калинина, понимая, что предлагать при сложившихся обстоятельствах идти в ресторан равносильно сдаче на милость победителя. Не в состоянии покуда ни на что переключиться, испытывая вполне понятное недоумение и разлад.
Основательно ее накрутили, негодовал Воронов, вышагивая слева и даже не пытаясь примениться к ее колеблющейся походке, демонстративно не беря под руку, вот тебе и «отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их», как сказано в послании апостола Павла. (Следует отметить, что в последние недели Воронов взялся за изучение читанной прежде по верхам, как справочное пособие, Библии, ибо один из принципов, которых он придерживался, гласил: хочешь одержать верх над противником, узнай его вооружение.) Сильные мотивировки приходили на ум по поводу закабаления отцами и матерями своих ослабленных неусыпной опекой детей. Пагубные результаты налицо. Ведь была рада — не мог он ошибиться, когда говорили по телефону; минуло всего день (позавчера он звонил), и совершенно невменяемый тон. Мещанскую сцену с банальнейшими обвинениями и упреками закатила!
Они медленно шли вверх по улице Чайковского вдоль строгого дома с весьма смело и неожиданно меняющимся мощным карнизом высоко вверху — прихоть большого мастера. Ему бы про карниз либо о прошлом любопытнейшего этого района, о Сенной площади, о крутых и кривых переулочках, застроенных извозчичьими домишками, о церкви с шатровой колокольней на высоком берегу Москвы-реки, возле которой до войны полукругом выстроили многоэтажный жилой дом архитекторы для себя, пытаясь заодно создать некий ансамбль с церковью, да только по чьей-то недоброй воле уже в наше время взяли и сломали церковь, и теперь полукружье дома ничем не обосновано и нелепо… Да мало ли о чем еще мог поведать Воронов с его-то памятью — глядишь, помаленьку да полегоньку и развеялись бы тяжелые мысли, отпустило недоверие, посеянное отчасти — пусть так — несколько излишней его принципиальностью, но уж взращенное и напоенное злым ядом, несомненно, не без родительских стараний. Ведь любил же ее… Пусть по-своему, не на общий лад. Месяц минувший — места не мог себе найти, а под внешней невозмутимостью, кто скажет, что в нем творилось.
…Накаляясь, становясь резче, конкретнее, жестче, желая раз и навсегда отбить охоту к подобного рода эксцессам, нес о безразличии ее, невнимательности (расчеты и статья, черновые записи — уж тут, надо отдать должное, он поиграл, потешил свое самолюбие). О ханжестве… О фальши!.. Родители для нее дороже, чем он! Никакого так называемого чувства у нее не было и нет. Бросать упрек, что пьяна, поостерегся, однако насмешливо поблагодарил: как же, сдержала слово и, дабы не заставлять ждать до ночи, вырвалась ненадолго оттуда, где, судя по всему, недурственно проводила время. И еще… обидное, согласен, унизительное… Связанное с не дававшей покоя сценой в ее доме. Что именно — убей, не помнит. Как отсекло, как аннигилировали те клетки, в которых должна храниться информация.
Вдруг — он даже не сразу понял, увлеченный своими обличениями, — она резко повернулась и быстрыми мелкими шагами заспешила прочь через улицу. Даже не взглянув, не подав ему никакого знака, ничего не сказав, не крикнув, не возразив… Тут, у конца тоннеля, обычно гаишные инспектора караулят недисциплинированных водителей, а тогда не было и инспектора, и не летели автомобили, и она побежала… Воронов замер. Страшно сжалось сердце. Визг тормозов, вылетающая боком из тоннеля машина с зеленым огоньком, следом еще машины, они по нескольку срываются от светофора, и они на мгновение заслонили… Но уже в следующее мгновение Воронов увидел… Словно бы взметнулась в длинном и плавном прыжке. В сторону. От машин. Воронов так было и подумал. Только невыносимо было видеть, как безвольно переворачивается вниз головой и ее расклешенная юбка задирается, обнажая бедра.
Это были последние секунды ее жизни. Подброшенная ударом разогнавшейся «Волги», она пролетела с десяток метров и упала под колеса не сумевших остановиться, изуродовавших ее до неузнаваемости автомобилей.
ГЛАВА 10
— …Многое из памяти вон, — продолжал между тем Паша, Павел Ревмирович Кокарекин, слегка покашливая то ли от накатившего смущения, то ли и действительно слишком долго уже разглагольствовал. Да ничего не поделаешь, надо. Может, Сергей что и примет к сведению. Может, что и повлияет на его настроение. Вон, словно маска вместо лица после, казалось бы, пустейшей истории с авиабилетами… А вдуматься — едва ли не перед крахом семейной жизни стоит. И вообще… И, спохватившись, вслух: — Как ни пытаюсь припомнить, нет, провалы на целые месяцы, перепутано все, винегрет какой-то. Какой-то трудный процесс переиначивания начинается. Другие совершенно мерки.
«Еще буран, будь он неладен, — прислушивался в то же время Паша к завываниям ветра. — Сколько нам терпеть осточертевшую палаточную тесноту, не встанешь, не сядешь… День, два, неделю? И чем все-таки принудить Сергея расстаться с этим его состоянием?» Ничего путного не придумав, Паша Кокарекин решил о самом-самом, за семью печатями хранимом, о чем ни единой живой душе ни словечка — и первое необходимое условие (это-то он понимал), с полной искренностью! Потому что как еще вытащить товарища своего из мрака, в котором, кто знает, какие мысли, какие призраки являются его взлихорадоченному воображению, мало сказать товарища — друга, ближе которого никого, исключая, конечно, Светлану Максимовну, — о ней-то после всех колебаний и сомнений Паша Кокарекин наконец и решился рассказать.
— Штука какая! Нет, вы послушайте! — помчался Паша, опять ныряя в давно ушедшее, где чувствовал себя куда тверже и привольнее. — Светлана Максимовна взяла меня в речевую школу! Представить только, кандидат на судьбу полного и бесповоротного олигофрена, а не то и похуже, как вполне резонно определил пять минут назад наш главнокомандующий Александр Борисович, и в школу с той же программой, что и общеобразовательная. Было от чего заспорить уважаемым членам комиссии, представителям роно, райздрава и прочее. Потешались над ссылками ее на какие-то методы, жалели ее молодость. Все при мне, в нарушение своих же правил, ну да что я, я, по их мнению, ничего не в состоянии понимать, а тут возмутившая привычные порядки упрямая самонадеянность. То был второй всего год ее самостоятельной работы и, как я теперь понимаю, искренняя вера в возможности науки, в высокое предназначение учителя, стремление приносить пользу маленьким страждущим человечкам переполняли ее. Потом уже, спустя много лет, одна из участвовавших в бичевании дам, встретя нас со Светланой Максимовной и ее мужем в театре, с явным удовольствием припомнила некоторые малопривлекательные подробности. Кстати, та самая давняя моя знакомая, которую запомнил по ее гадкой усмешке и китайским драконам на платье, еще когда тетка пыталась впихнуть меня в обычную школу. И вот она же…
Паша запнулся было и решил, уже окончательно, что все-все надо, незачем иначе было и начинать. Вплоть до самого мерзейшего.
— Бывает, судьба подсовывает в решительную минуту такую вот драконам сродни, и ты, раззадорившись, начинаешь свои выходки, жадными глазами схватывая испуг и отвращение. Члены комиссии — пальцем, пальцем: полюбуйтесь, какие еще требуются доказательства! Но это что, вот сейчас выдашь номер так номер! — А тут… взгляд Светланы Максимовны, лучистый, сострадающий взгляд, с какой-то необыкновенно кроткой и настойчивой силой проник в мою жалкую душу, и я растерянно остановился.
Начальственная дама, вспоминая в театре этот случай, расценила мое тогдашнее поведение и, как ни странно, именно то, что я утих, как раннюю «сексуальную озабоченность», направив острие этого жала на бедную, раскрасневшуюся Светлану Максимовну, нимало не смущаясь, что муж ее рядом. Для людей с драконьей сущностью их правда, какова бы она ни была, превыше всего на свете.
Что в ней было такого замечательного, в Светлане Максимовне, что я, жалкий, озлобленный, потянулся к ней? Умение, разные необходимые знания, понимание детской психологии — да, конечно. Но еще любовь. Я бы сказал, сострадание любви. Она любила нас, слабых, несчастных в своей дикости, запутавшихся в приниженности и ненужности, случалось, и своим собственным матерям и отцам, протестовавших с отчаянием и инстинктивным возмущением маленьких несмышленых правдоискателей, любила непонятых, лишенных ласки и заботы, возненавидевших детской слепой и наивной ненавистью окружающий мир и себя в нем, любила чистой, нежной, самоотверженной материнской любовью.
Она готова была за нас на страдание, на всяческий ущерб, на бессонные ночи и с легкостью, без малейших колебаний шла на это.
Павел Ревмирович говорил уже другим, горячим, возбужденным голосом, и движения рук, подчеркивавшие какие-то отдельные моменты (размахивание руками по поводу и без повода вообще свойственно ему), движения эти стали необремененными, легкими, и весь он (что было совершенно заметно) преобразился или, точнее, раскрепостился и внешне и внутренне.
— Я издевался над нею в самые первые наши дни, — говорил он недоуменно. — Едва заслышится какое недовольство — только того и надо: вдвойне, втройне стараешься отплатить. Я, мол, дурачок? Не кумекаю? Ага. И я буду еще хуже.
Светлана Максимовна не обижалась, не сердилась на тупое, наглое и злобное мое нежелание понимать и слушаться, но становилась несчастной…
Она занималась со мной каждый день часа по четыре и сверх того еще вечером. Потом стала брать меня из интерната на субботу и воскресенье к себе домой. С нетерпением, с радостью я ждал этих суббот. После уроков собирал свой чемодан с грязным бельем и своими самыми важными ценностями (коронка зубная из стали была в их числе, перочинный ножик, выменянный у ребят, гайки, винтики, зажигательное стекло), садился на этот мой чемодан около выхода из интерната и смотрел на открывающуюся и закрывающуюся то часто, то совсем изредка дверь, то резко, когда выбегали мальчишки, то плавно и медленно. Кажется, я научился угадывать, когда выходила Светлана Максимовна, во всяком случае, сейчас же отворачивался в сторону. Она останавливалась рядом и улыбалась мне: «Ну вот, теперь мы вольные птицы. Пойдем домой». Брала меня за руку, я хватал чемодан, и, стараясь попадать с нею в ногу, мы шли к ней домой. Помню, как ее тетушка, она тогда была жива, заставляла меня идти в ванну, я стеснялся, а она причитала: «Ноги, ноги-то? Что ж ты, босиком, что ли, бегаешь, смотри, какие грязные?» Потом меня укутывали в махровый халат, поили чаем с вареньем из голубики, из морошки… Помню, как я долго не мог заснуть и засыпал под приглушенные разговоры Светланы Максимовны с ее мужем в соседней комнате. Помню ранние утра, я притворялся спящим, ждал, боясь снова уснуть, когда Светлана Максимовна дотронется до моей руки и скажет: «Соня… Пора вставать».
Моя же так называемая тетка была рада, что я не докучаю ей по субботам и воскресеньям, к тому же не надо тратить на меня деньги. А что меня берет к себе Светлана Максимовна — так той просто нечего делать, вот и ищет занятие.
Тетка получала на мое содержание, я уже говорил, кругленькие суммы, впрочем, ей всегда не хватало, вечно жаловалась на всевозможные недостатки, дороговизну и на такое баловство, как частные уроки, денег, разумеется, у нее не было. Светлана же Максимовна придерживалась своих взглядов. Она считала, например, что лекарства тогда хороши и действие их особенно благотворно, если даны от чистого сердца, с непременным желанием помочь и без денег. Суеверие? Кто знает. Сама лечилась и других, меня в частности, лечила травами, которые привозила из далекой северной деревни. Занятия со мной были в ее понимании прежде всего лечением, тут действовало то же правило. За деньги — не будет успеха, я останусь злым тупицей. Случай же мой оказывался трудным. Уж очень я был запущен, очень устоялся в своем жалком упрямом неприятии.
Самые элементарные понятия: много — мало, узкий — широкий. Какая бывает посуда. Домашние животные. Названия одежды. Вместо окриков и угроз, толкания, подзатыльников — стишки и куклы. «Ой-пой» — помню такого кукольного старичка, лохматого, с бородой из пакли, красным носом, в лапотках мочальных, очень какого-то доброго, не столько даже потешного, но именно доброго. Взял его в руки, повертел, погладил — и весело стало, и хочется приятное кому-нибудь сделать, все равно кому…
Она мастерила их из разных лоскутков, пластилин шел в дело, проволока, обклеивала кусочками бумаги и раскрашивала. И сама сочиняла простые милые истории или приспосабливала сказки — их и разыгрывали куклы. А наше косноязычие, заикание, неумение и нежелание говорить одолевала стихами, которые сочиняла тоже сама. На определенные звуки. Я прочту еще, ладно? На веки вечные остались во мне. Ну, хотя бы…
Я их помню множество, но вижу, не считаете за настоящую поэзию. По мне, так стишата эти прежде всего — ее. Ее, моей учительницы, сердцем написаны. Которой я обязан больше, чем жизнью…
— Ишь ты, это признание! — хохотнул, не упустив момента Жорик. — Это больше, чем признание.
Сергей дернулся и промолчал. Цинизм Бардошина не просто раздражал его — приводил едва ли не в бешенство, но высказаться означало затеять скандал: этого Сергей допустить не мог.
И Паша тоже ни слова в ответ, но только дальше сухо и протокольно, как отчет делал:
— Светлана Максимовна поставила мне звуки и автоматизировала. Затем накопление словаря, активного и пассивного: то, что мы говорим и что у нас в запасе. Слышали небось. Слышали, конечно, да навряд задумывались.
— Ишь ты, ишь ты! — похохатывал Жора Бардошин. — Какое глубокое знание предмета! Откуда бы, любопытно знать. Судя по всему, порядочно лет кануло в эту, как ее… Да и не мог ты в те поры так уж разбираться, сам же говоришь — несмышленыш. А?
Паша Кокарекин, будто не слышал, с внезапной интонацией удивления перед непостижимостью кротости и доброты, но еще более перед тем, чем он был тогда, ведь не кто-то другой, он это был, Паша, — и зачастил:
— Знаете, я плевал в нее и ждал, что она отхлестает меня по щекам, и тогда — о, тогда я вцеплюсь в нее и как терьер не разожму челюстей. Она бледнела, вытирала мои плевки и своим нежным грустным голосом говорила… Не все тогда я улавливал, но слышал от нее неожиданное, противоположное тому, к чему привык и чего ждал, и сатанел от злости, что не выходит по-моему. И терялся. Потому что не мог сообразить, что бы такое выкинуть, чтобы она крикнула, топнула ногой, выгнала вон, а еще лучше, как тетка моя, ударила бы.
Сергей Невраев слушал Пашины речи между завыванием ветра и хлопаньем палаточной крыши, дивился его признаниям и ждал, к чему поведет дальше. О многом Сергей догадывался, нельзя не догадаться, когда близкий тебе человек так переполнен, но и то примечательно, что ни при каком случае не возникало столь пылкой и безоглядной откровенности. Сергей невольно проецировал на себя его признания. Потому, наверное, так остро, так нещадно полоснуло, когда Паша про Светлану Максимовну, что хотела бы иметь мальчишку… Регина слышать ничего не желает на подобную тему. Когда-нибудь после. Когда станцует Одетту-Одиллию и непременно, обязательно: «Ты же знаешь, — говорила она, переходя на шепот и перекрещивая ноги, чтобы не сглазить, — мечта моей жизни — Джульетта. Не раньше, учти. Да и вообще, к чему такое роскошество, как дети? Пусть заводят другие, кто ни о чем не мечтает и не может ничего. А я могу! Нет, нет, пока ни в коем случае».
Но заговорил Сергей совсем о другом:
— Преподавание, учительство — это дар. Не дает оборваться лучшему, что сделано на свете. Продолжает цепочку добра. Дети… — И сейчас же оборвал себя: — Я имею в виду воспитание детей…
Паша чуть не танцевал в своем спальном мешке: ах ты, Серега мой золотой! Ей-богу здорово. Фу-ты ну-ты, кошечки вы мои, мышечки, давай, давай…
А Бардошин принялся раздергивать, пластать и по косточкам разнимать пылкие Пашины рассуждения:
— Куда ей было деться, твоей дусе учительше, подумай-ка. Сама на свою шею навязала хулигана. Молоденькая. После института, говоришь. Или через год? Небось отличницей всю жизнь проучилась. Стипендия именная. А на комиссии матроны в чинах и званиях. Она и занеслась. После сама небось рада бы на попятный, да поздно. Серега и того хлеще, цепочку какую-то придумал…
— Цепочка добрых дел, — пробормотал Воронов, с горечью думая о своем, о всечасных уступках, даже готовности в конце концов следовать морали ее родителей… Если по чести, так расчеты и прочие материалы лишь предлогом были, когда позвонил. Со всем был готов мириться, обуздывал себя, а ведь он живой человек, мужчина. Раз единый не пошел на ее поводу, и к чему привело!.. — Приподнялся, опираясь локтем на рюкзак, наставил на Сергея свои телескопы: — Приходилось тебе задумываться, к чему способна привести подобная цепочка?
— И ты, Брут!.. — вскричал Паша. Желая избавить Сергея от необходимости отвечать: — Молчи, Сережа, ну их. Воронов просто не верит ни в чет, ни в нечет. И пусть. Я это не ему, я тебе рассказываю. Никогда ведь ни о чем таком не говорили. Теперь хочу, чтобы ты знал. А ты (снова Воронову, который как-то вдруг сник), твой скепсис… Пусть и помогает, и спасает… в трудную минуту. Я доброту объяснить не пытаюсь. Просто сейчас же чувствую ее, узнаю… («Еще потому узнаю, — продолжал он мысленно, — что хоть все меньше и меньше ее, но тем сильнее оказывается. К тому же совсем немного ее и требуется, чтобы спасти, к примеру, такую безделицу, как паршивого человека».)
Чтобы Воронов дал себя переспорить кому бы то ни было, тем более Кокарекину? Да быть того не может!
— Сам же не далее чем вчера высмеивал клишированные, по твоему выражению, прописи Михал Михалыча, а сегодня, благословясь, по его пути.
— Да, истины, да, прописные! — вовсе взъерошился Павел Ревмирович. — Но никто не желает всерьез думать о них. Вникнуть и понять. Ни папы, ни мамы, ни разные тети, ни такие профессора, как ваша милость. Привык — А плюс В плюс С равняется Д, — те же приемы на живых людей переносишь. Да хотя бы нас взять, нас четверых. Как-то осмыслить, отчего разобщены, почему так трудно понять друг друга, перекинуть мосты даже через небольшие трещины? Уж, казалось бы, горы, альпинизм! Нет, чуть что — упереться друг в дружку лбами и кто пересилит! И черт с ней, с любой правдой, большой и маленькой. Не так, что ли, не так?
Паша до того разъярился, что не давал слова вставить, где уж там обоснованно и детально возразить.
— Поколесишь по градам и весям, посмотришь, послушаешь, потолкаешься среди работяг всякого рода и приходишь к тому же парадоксальному выводу, что и от любой бабки деревенской, согнутой годами и напастями слышал. Соль одна, и она в том, что ничего нет важнее доверия, выше любви. А что это, простите, если не та же доброта! Ты все же напрягись, Саша Воронов, напрягись и вникни. Авось чего-нибудь и углядишь.
Воронов не то чтобы углядел или вычислил, но хотя бы допустил возможность достаточно веских причин, побуждавших Кокарекина к столь пылким откровениям, иначе вряд ли бы выключился из дальнейшего разговора.
— Раз от разу мне становилось легче и проще с нею, — мчал Паша, будто и не было перепалки и всяких премудростей, только вот имя и отчество отчего-то не упомянул. — Я уже начинал смотреть на нее, а то все отворачивался. Становилось приятно, когда специально для меня показывала, как произносить некоторые звуки. Раскрывала мой рот и поправляла язык. Я старался понять, чтобы не огорчить, сделать приятное ей, чтобы улыбнулась, похвалила. Не для себя я тогда учился — для нее. Чтобы рассиялась, как случилось однажды… Может, потому так остро отпечатался в памяти едва ли не каждый час с нею, — вырвалось у него. — А там, понемногу иначе начал воспринимать других детей, взрослых. Отвыкать от злобной своей готовности к войне. Появилось любопытство, желание узнать что-то. Вопросы и расспросы. И наконец, доверие и, как бы сказать спокойным словом, благожелательность. Но не скоро. Были еще срывы и возмущение, когда кидался с кулаками, выкрикивал несуразную брань.
Никакими особыми рассуждениями о том, как следует вести себя, об уважении к старшим и прочее, сколько помнится, она нас не пичкала. По крайней мере, в те четыре года, что учила меня, день за днем исподволь превращая в человека. Боюсь, следует воздать должное ее недоверию к громким словам. Да, в какой-то степени мысль изреченная есть ложь. Да, не воздействует, как желалось бы. Пример — она сама. Невозможные для меня, тогдашнего, категории: доброта, сердечность, прощение — все это было в ней, пронизывало ее, составляло ее сущность и проявлялось постоянно в любой затруднительной ситуации. Находясь рядом, общаясь с нею, ты оказывался в поле воздействия этих сил. Но она никогда не формулировала их, не облекала ни в какую форму, ну разве только, я уже говорил: стишата и куклы.
Она принимала нашу гнусность и, не отвечая на нее, гасила, поглощала, как, не знаю, активированный уголь поглощает всяческую дрянь. Она выводила из сосредоточенности на раздуваемой самим собою обиде, недоверии, злобе. Туман рассеивался, и ты начинал воспринимать события и людей без предвзятости, такими, каковы они есть, я совершенно теперь уверен, благодаря любви, переполнявшей ее. Понимаете, любовь, которая не угасает от издевательств и неприятия, равнодушия и злобного эгоизма, любовь, ничего не требующая для себя…
«…Запущенный педагогически ребенок, силою обстоятельств оказавшийся вне благотворного влияния семьи и вовремя не пришедший ни к каким контактам, — объяснял мне Воронов в одну из наших спорщических встреч. (Признаюсь, мое несогласие и достаточно обоснованные, смею надеяться, возражения открывали возможность узнать Воронова ближе. Я пользовался этим приемом совершенно чистосердечно, без всякой игры, может быть, потому и удавалось вызвать его на некоторую даже откровенность, которой трудно ожидать от столь замкнутого, более того, умышленно ограничивающего себя в общении человека.) — Не беспокойтесь, его преподавательница отлично разглядела и умишко у малого, и хитрость в умении поиздеваться над взрослыми, отказывавшими ему в интеллекте, и сделала соответствующие выводы. На действительно тупоумного время и силы тратить бесполезно».
«Отчего же к схожим выводам не пришли другие?» — осторожно осведомился я.
«Другие?..» — В голосе Воронова прозвучало удивление. Он сказал, что этот же вопрос задал Сергей Невраев, ибо он, Александр Борисович Воронов, так же, как теперь, резюмировал восторги Паши Кокарекина. Увы, Кокарекин вроде бы даже обрадовался вопросу, восприняв, надо полагать, как некое поощрение, и (буря не унималась, ветер, снег по-прежнему, о том, чтобы идти на штурм, нечего было и думать), никем не подгоняемый, не прерываемый, пуще развел свои фанаберии про доброту, сердечность и прочие столь же выдающиеся достоинства Светланы, как ее там дальше (слукавил Воронов, якобы запамятовав отчество).
— Вот, вот, Сережа! Цепочка добрых дел! — размахивал руками и крутил головой Павел Ревмирович. — Чтобы не оборвалась она! Делать добро! Не ради чего-то. Тем паче выгоды. Да-да-да-да-да! Цепочка добрых поступков! Какие-то подарки душевные…
Воронов несколько свысока, менторским тоном:
— Ты русскую историю изучал? Или только по фильмам да спектаклям? Уж добрее, милосерднее, мягче царя Федора Иоанновича и человека на свете не было, и к чему привело? О Смутном времени представление имеешь?
— На том жизнь держится! — не слушал Павел Ревмирович. — Разум, талант, любое категорическое знание, когда само по себе, без доброй основы — с легкостью может быть вывернуто на беду. Любая сила без доброты, без «лелеющей душу гуманности», как говорил Белинский, грозит несчастьем. Если будет продолжаться, как сейчас — ракеты, ракеты… А так называемые светочи науки, нобелевские и прочие… эти слепцы с душонками маленьких дебилов…
(«Пробовал его унять, — рассказывал Воронов, — какое! Поневоле согласишься, что учительница его действительно должна обладать недюжинным терпением. Всякий довод провоцировал сопротивление еще большее плюс прямое нежелание считаться с элементарной логикой, с фактами, даже с приличиями. Тут еще Сергей Невраев и за ним Бардошин».)
— Утверждение, будто наука самоконтролируется и самоуправляется, — вмешался, разумеется, ради того, чтобы поддержать своего дружка, Сергей, — попросту попытка стряхнуть с себя ответственность. Хорошо, математика. Но в биологии? Страшно подумать, к чему может прийти биология. Управляемые генетические процессы. Гомункулус из пробирки — это же завтрашняя реальность.
Воронов вознамерился в пух и прах разнести столь малодушную позицию и начал соответственно:
— Генная инженерия, как и любое научное знание, дает человеку власть над определенными явлениями окружающего мира. — И подумал, что его языкастые оппоненты осмеют любой демагогический довод, и… нашел иной выход. — Ведь и нож, орудие убийства, в руках хирурга становится скальпелем!
Бардошин то ли отоспался уже, то ли почему-либо не мог уснуть, во всяком случае, сообщение Воронова ему понравилось. Как бы даже до некоторой степени соответствовало его собственной установке.
— К вашему сведению, — подключился он, — небезызвестный Римский клуб в своих докладах сообщает, что всего лишь при сохранении нынешних темпов научно-технического прогресса и развития экономики мир ждет глобальная катастрофа не далее как в половине следующего столетия. Без всяких ваших гомункулусов и атомных бомб.
Воронов снова вынужден вмешаться:
— Старая песня, — как мог мягче заскрипел он. — Уже которое тысячелетие прогнозируют гибель мира, самоуничтожение цивилизации и прочие страсти. И ничего, существуем и развиваемся вполне успешно. А если более серьезно — были работы футурологического характера, но, увы, они весьма и весьма тенденциозны. Не говоря уже о недостаточном внимании к нормативному прогнозированию, которое, безусловно в состоянии выявить пути решения проблем. Должен заметить: при непредубежденном экстраполировании наблюдаемых явлений… (Мне Воронов терпеливо и упорно старался потом разъяснить, где собака зарыта и как подтасованы карты; каюсь, не разобрался. А потому пропускаю огромнейший и, надо полагать, занимательнейший разбор, перехожу к заключительным его словам.) Их поправили, — подытожил он. — Следующие опусы хотя тоже не отличаются глубиной и всеохватностью, однако не столь категоричны.
Не хотелось Сергею говорить, тут еще ветер принялся крышу палаточную трепать, но не хотелось и чтобы Паша опять о даме своего сердца. Кто его за язык тянет? Бардошину скорее всего наплевать, такими примерами его разве что рассмешишь. Но Воронов… Для Воронова это лишнее напоминание о его трагедии. Хорошо, разговор в сторону ушел. И пусть о постороннем. Самое российское времяпрепровождение — рассуждения вообще.
— Наука настолько обогнала нравственные возможности человека, что оказалась страшной угрозой для жизни на Земле, — говорил Сергей. — Писатели, художники, кое-кто из ученой братии делают, что могут. Но серьезные мысли часто не встречают понимания опять-таки по причине какой-то удивительной духовной глухоты. Всеобщая гонка за удовольствиями, за благами под треск всяческих диксилендов, рок-групп, под весьма талантливый и завлекательный треск. И надежда… пожалуй, только на страх. Не на доброту, не на гуманизм или высокий ум — на животный страх быть уничтоженными.
«Незачем отвечать на сей лепет, — решил Воронов для себя. — Да и что он в конце-то концов, нянька, что ли, Регининому мужу?» Бардошин тоже молчал. Снисходительно молчал: «Не в ту степь Невраев вдарился, обычное занятие. Не хватает ему решимости и смелости видеть таким, каково оно есть, реально. Пугается, и выдумывает разные фетишики, и спасается ими. Власть, деньги, еще слава, любая, да хоть выдающегося скалолаза! Вот за чем стоит гнаться. А он… Такие, между прочим, черт знает что способны напридумать и поверить. Надо за ним приглядывать. Всего можно ожидать, если из своих пределов вырвется».
Паша Кокарекин — а ведь и вправду, самая что ни есть благая идея да к ней в придачу столь же самоотверженный, не считающийся ни с логикой, ни с хулой нрав в какие-то моменты делают их носителя всеобщим истязателем, — ведь опять, как подстегнутый, ринулся о своей Дульцинее Московской вещать. Мало сказать, «вещать», еще и некие системы нравственные выстраивать, и порядок ее именем наводить. Превосходные степени пошли в ход, переживания, над которыми, если угодно, школьницы снисходительно посмеиваются. Выписывать в подробностях, увольте, да и не сумею удержать внимание читателя. Пашиным-то слушателям деться было некуда, хочешь не хочешь, вникай или спи, из палатки и носу не высунешь, ветер, крупитчатый снег так и режет, так и сечет.
И еще: чем дальше уносился Паша Кокарекин в восхваление несравненной своей, хотя внешне как бы лишь хроника школьных лет, тем более неловок оказывался и бестолков. А он мне дорог, несмотря на нелепости свои, подчас никому не нужную искренность, несуразность и непрошедший юношеский задор. А может, и потому тоже.
Итак, попытаюсь своими словами изложить, что знаю о том, как развивались отношения ученика и учительницы, но прежде о женщине этой, на мой взгляд, вовсе не ординарной. Тут я в полном недоумении: что она, характер изученный и показанный нашими великими классиками; или все же (развитие, оно, как известно, по спирали происходит) пусть и повторение, но в новом качестве, с новыми особенностями и трудностями? Модуляция, так сказать, в иную тональность. Думаю, пытаюсь разобраться и пасую. Если и ничего нового, говорю я себе, так ли уж должно непременно удручать и оконфуживать? А даже если возвращение к пройденному, к хорошему и хорошо забытому пройденному, неужели сыщется настолько рьяный сторонник нового во имя нового, что не постесняется забросать камнями?
Укрепленный спасительным этим доводом, тороплюсь дальше.
Замужем она, наша Светлана Максимовна, муж много старше ее и болен, многообразно и основательно, — тут самая Пашина беда и есть. Чего-чего только не накопил к старости: болезнь печени и сердце, конечно, гастриты, но еще более мнительность, взлелеянная ее заботами, несогласованными заключениями врачей и темным, глубоко угнездившимся, не оставляющим сожалением: она-то молода, полна сил, будет еще долго жить, выйдет, чего доброго, замуж, вон как липнут к ней в гостях ли, в школе ее, на курорте, когда выезжали в санаторий лечиться, теперь и вовсе напасть: мальчишка, выученик ее неблагодарный, покоя от него нет.
Но следует остановиться и сказать несколько слов о любопытной черте или свойстве нрава Светланы Максимовны. «Одна жизнь — одна любовь», если и не было ее затверженным девизом, тем не менее вела она себя именно, как диктует непререкаемое это правило. Ну разве только с одной маленькой объяснительной оговоркой: до недавнего времени, слава богу, не знала вовсе и не подозревала даже, что за лютое чудовище скрывается под приветливым и милым и, казалось бы, со всех сторон понятным словом «любовь».
Сорок один год, и, поди же, щадила ее судьба, кубок с отравленным вином мимо обносила. Да, собственно, и, никакого желания не возникало у Светланы Максимовны отведать от этого кубка. (Может, по тому самому и сохранилось в ней чудесно почти девическое целомудрие и тоже чарующая эмоциональная лень или некая заторможенность, что ли, — в искушенном человеке, не чета, конечно, Пашу не, пробуждающие бурю, смятение, да похлеще, чем в тот день в горах творились. Что, заметим, и случалось неоднократно, ужасно пугало Светлану Максимовну и вызывало поспешно осуществляемое стремление к бегству.)
Возникает правомерный, хотя и несколько наивный вопрос, как так и чего ради выскочила она замуж, если сразу упреждают о такой ее инфантильности? А вот так и выскочила, нас не спросясь, как и многие в подходящем возрасте делают. Если же рассуждать широко и непредвзято, чего ей слишком-то было артачиться? Ну, молодость, личико, о том же, что нынче очень и очень в расчет берется и тогда до некоторой степени тоже, так и вовсе не об чем было говорить. Значит, углядел, нашел в ней нечто, не открывшееся другим, и влюбился, а там уж и умолил, задарил, на руках готов был носить и носил, было и такое, и, наконец, получил тишайшее ее согласие супруг ее будущий, и скромный служащий скромного учреждения и вообще скромнейший и достойнейший, по многим отзывам, человек (что, кстати, было истинной правдой, в чем сама же Светлана Максимовна убеждалась не раз и не два), пусть, повторяем, старше ее несколько даже более, чем на двадцать лет. И нельзя утверждать, чтобы так уж несчастливо протекал их брак, разве что детей не было.
Да нет, конечно, счастливо. Никаких размолвок, ничего недоговоренного, писем каких-нибудь, случайно обнаруженных, телефонных звонков — когда молчат на обоих концах провода, и ждут, и мучаются, и — продлись мгновенье, прекрасно ты! Нет, нет, совершенно верна была Светлана Максимовна своему Петру Васильевичу, никаких тайных помыслов и желаний, а если и случалось грустить… Давно… Тут как раз Пашуня маленький появился, сложный, трудный, ставший сразу ей дорогим и близким ребенок, и жизнь ее наполнилась. Теперь, правда, в последнее время, но редко, редко, неясное какое-то томление духа находит… Гнала в смущении, в гневе. Не сразу, что же делать, но оставляло ее. Заботы насущные, суета и иные важные и неважные треволнения помогали. Так что не в силу, повторяем, высших принципов или старательно воспитанного страха перед грехом и возмездием, а просто-напросто и понять и принять не могла, как может быть иначе. Встречаются же люди с совершенно ясным умом и непотревоженным сердцем, она одна из них.
Вероятно, и сдружилась-то столь искренне с выросшим учеником своим Пашей Кокарекиным потому опять-таки, что и мысли не возникало об ином, запретном, — лишь покровительство с ее стороны, желание всячески способствовать добрым его успехам и его ответная, сыновняя преданность. Без матери, без отца рос, кто совет даст, кто приголубит в путаную минуту, не позволит подлым соблазнам угнездиться в мыслях его? Учила, терпела, любовью своей вытянула из нетей; в общеобразовательную перешел, на первых порах тоже приходилось помогать, ободрять, упрашивать. Дальше, что же — ее гордость, ее зримое достижение. Рада была ужасно, когда поступил сам в институт. И наконец самый большой праздник: Пашуня получил диплом.
Ах ты, боже мой, все купеческие какие-то замашки, никак от них не отстанет: заявился к ним, шампанского несколько бутылок, торт приволок — и не предполагала, что подобные громадины бывают. Петр Васильевич, естественно, был недоволен, да и чувствовал себя не ахти. А она, она вела себя в тот вечер непозволительно. Опьянела, отправилась зачем-то провожать к метро, и разговоры, разговоры, прогуляли едва не до утра.
Вспоминала день, когда свой диплом домой принесла красненький, с отличием. Тоже спать не могла, пошли всей группой ночью на Красную площадь, танцевали, и на ее новеньких лодочках — что-то очень дорогие по тем временам, в первый раз надела — каблук отскочил. Такая обида. Пришлось шлепать босиком до самого своего дома. Ребят в их выпуске было мало, у каждого своя девушка, и она ужасно боялась, что кто-нибудь к ней пристанет. В проулок свернула к себе ни жива, ни мертва, и — ах, счастье какое! — обе ее тетушки, как почувствовали, вышли встречать. Вот и все, что тогда было.
Начал работать Паша на заводе и заскучал. Приходил, жаловался: неинтересно ему; есть он, нет его — кому от того жарко или холодно; и что не может быть винтиком. Хоть какую бы самостоятельность и доверие!.. Если б не стенгазета цеховая, которую чуть не целиком сам состряпал и статьи написал, только подписывали другие, ну еще художник карикатуры на пьянчуг веселые сделал, если б не это отвлечение, хоть вой. А там заводская многотиражка и репортажи в «Советском спорте»… Как-то споро у него пошло, даже и без особой хлопотни, что значит влечение настоящее. Антураж, настроение спортсменов нестандартно передано. (Каждую страничку с ней обсуждал обязательно. Кое-что выправляла.) Сам контактнее стал, общительнее.
И снова успокоилась Светлана Максимовна: техника, конечно, как занятие ненадежнее, но раз душа к другому лежит и получается — с богом!
В других изданиях стали появляться его репортажи и очерки. И наконец, статья в «Московском комсомольце». О молодой семье. Через номер, как бы в пандан, о разводах — темы все острые, трудные, метастазами прорастающие из самых подоснов современности. Положа руку на сердце, поучений многовато, ершистого праведного задора (в разговорах сам же ополчался ядовито и остроумно на такого рода переборы), а может, так и следует, и тонкая, захватывающая художественность при наших стремительных темпах излишняя роскошь?
Как сын он ей и тем именно дорог, что немало в свое время потребовалось настойчивой нежности и терпения, чтобы проявить добрые черты его, дать им окрепнуть, уберечь и преумножить. Невмоготу бывало: еще немного дикого, злобного сумасбродного упрямства, и кажется, не выдержит. Теперь видит: если б не он и то, что необходимо было ему, кто знает, куда повернулась бы ее жизнь.
(Чаще и чаще Светлана Максимовна обращалась назад, перебирала в памяти разные пустяковые эпизоды и, разволновавшись, с негодованием себя одергивала. На помощь приходили спокойные, уверенные ее правила и привычки. Принималась рассуждать, и утихало, светлело на душе. Да, стихало, и никакой грусти.
…Скольких разговоров, непростых усилий стоило приучить слушать серьезную музыку. В классе шестом-седьмом, как раз самый джазовый ажиотаж, едва не насильно таскала его в консерваторию. Пусть поначалу многое прокатывалось мимо (особенно же, если осмеивали новоявленные дружки, а еще страшнее — девочки-одноклассницы), и все же хоть крупица, а западала в душу. Координировала вкус, разбивающиеся чувства. Лучшее, что создано человеческим гением, — разве не самый необходимый воспитатель, рассуждала Светлана Максимовна, защищаясь от самой себя.
Теперь зато сам, по собственной инициативе добывает билеты где-то в журналистских сферах, и в который раз идут слушать (мужа не оттащить от телевизора, да и трудно ему) Чайковского, Рахманинова. Боже, какая прелесть «Грезы зимней дорогой», тогда как раз сердечнейший рассказ прочла, с симфонией этой связанный… Слушали Хиндемита и другого, современного, им так восхищаются профессионалы, Бенджамин Бриттен, или он уже умер? Но ей далека их музыка, утомляет, душа ее не раскрывается. На концерте познакомил с неким Невраевым и его женой. Буквально бредит им, только и слышишь: Сергей сказал, Сергей сделал. А она совсем иная, чем представлялись со сцены балерины, очень уверенная и сильная. Невраев втянул его в альпинизм. Хорошо это или плохо?
А выставки! Поистине, лишь искусство способно доставить высокое духовное наслаждение! И с радостным удивлением отмечала, насколько близко воспринимают они живопись и как тревожно ей, и… приятно, что ее давние усилия приносят добрые плоды.
А потому не надо, незачем сгущать внимание на… на… ни на чем. Все хорошо. Жизнь ее наполнена, только б здоровья побольше Петру Васильевичу, слушался бы ее и пил травы.
…Великое дело — народная медицина, убеждалась не раз. Не говоря уже о простудах, воспалениях разных, да вот камни в почках у Петра Васильевича обнаружили, лечили-лечили, совсем к операции подошло, и уговорила-таки, начал пить чаи почечные, травку лесную особую, старушка белозерская присоветовала, и помогло. Поправился.
Светлана Максимовна последние годы в Белозерск зачастила. Как каникулы школьные, так и едет. А то среди четверти, два, три дня в счет отпуска, да перерабатывать сколько случается, да еще воскресенье, оно, глядишь, и набралось. Травы, и корешки, и ягоды собирать в особые, меняющиеся от погоды сроки надобно и сушить на сквозняке в повети. Дело это хлопотливое, строгое, по счастию, начальство тоже в лечение травами уверовало, не только не мешало, а и содействовало как могло ее поездкам. Жаль, подольше оставаться не удавалось, Петр Васильевич принимался бомбардировать телеграммами. Как-то успокаивалась она душой в тех родных ей краях. Тишина лесная, неспешность, обычаи, до конца не изжитые, и сами разговоры говорливых тамошних женщин — как-то это не то чтобы уводило, роздых сердцу давало.
Никого уже почти из родни не оставалось, близкой, по крайней мере, молодые разъехались, старые поумирали. Но домишко тетушки Прасковьи Арсеньевны, в котором та проживала еще со своей матерью — бабушкой Светланы Максимовны, цел. Скособочился, балкончик под коньком, где светелка ее была, обвалился, крыша в заплатах толевых, а вот поди же резные петухи на наличниках по-прежнему веселы и задорны. Чужие вовсе люди живут, не деревенские, городские, чего им хлопотать, ремонтировать, тем более снесут наверняка. Вон какие многоэтажные, многоквартирные подпирают.
Тетушка Прасковья Арсеньевна когда-то преподавала русский язык и литературу. В красном углу фотографии висели, грамоты, много грамот, и крохотный старообрядческий медный складень, смятый немецкой пулей, — память о дедушке, спас его от смерти в первую мировую. А какие разговоры возникали, когда приезжала вместе с тетушкой Анной, мамой Аней, как привыкла называть ее Света. Тоже учительствовала и тоже русский язык и литература, но в младших классах. В отличие от тетушки Пани мама Аня не признавала современной литературы, и современная литература, в свою очередь, игнорировала ее: до седьмого класса доведет своих учеников и назад. Но какие обсуждения, какие споры! В жертву готовы были принести себя за литературу, ибо если красота спасет мир, то именно та красота, которую вливает в жизнь литература! Восторженная и несколько сентиментальная душа мамы Ани не умела делить свою любовь на мелкие дольки, отсюда, пожалуй, убеждение ее, что после Чехова все не то, все жестко, во всем борьба. Многое вызвали к жизни в спокойной, безмятежной Светочкиной душе те горячие споры, порой доводившие до ссор, и многое, надо полагать, предопределили.
Обе тетушки остались старыми девами. У мамы Ани, она старшая из сестер, имелся жених, бог знает когда, еще до войны, да что-то с ним стряслось, время было суровое, сгинул. С тех пор ни на кого смотреть не хотела. Она и воспитывала Светочку, ходила за ней.
Да, сироты, сироты… Сироты военных лет и послевоенных. И такие, как Паша: отец есть, а лучше бы и вовсе не было. Основной, кстати сказать, состав ее речевой школы был и остается.
Полтора годика было Светочке, поехали на лето в Эстонию, на хутор какой-то, фронтовой друг отца пригласил. Неделю пожили, и ночью в окошко, как раз в комнату, которую они занимали, кто-то гранатой. Отец под Ленинградом, под Сталинградом, в Польше сражался, две всего красные полоски за ранения на рукаве носил, — и вот так. Мама еще пожила день. А она, крохотульненькая, ни царапинки. Тетушка Анна взяла к себе. Звала ее мамой. Потом, постарше выросла, тетушка запрещала: «Мать твоя как святая жила и смерть приняла мученическую, нельзя, грех таким именем другую называть». Да что делать, привыкла, мама Аня да мама Аня. Ни на шаг от себя мама Аня ее не отпускала. Улицы боялась, хулиганов. В студенческие годы тоже ни к подругам, ни в компании — никуда. Покуда не появился Петр Васильевич, как пришитая к юбке сидела. Вдовцом он был бездетным, к нему перешла. Потом обмены разные, с мамой Аней съехались. Все равно каждый день после уроков к ним спешила. Хозяйство их вела. Бывало, тетрадок принесет проверять! И стирка, и готовка, и на все ее хватало. А пироги, шанежки с черникой, с грибами, рыбники!.. Ешь пирог с грибами да держи язык за зубами. Еще совсем недавно, хоть вовсе старенькая была, в праздники да чтобы без пирогов, как можно…
…Нет, то есть да, да, все хорошо у нее. Дети пусть не свои, но они ей дороги и близки. Только вот расставаться грустно бывает. Выправишь, выучишь, наладишь и — счастливое вроде бы событие — переходят в обычную школу, в новую нормальную жизнь. А она томится: как они без нее, сумеют ли приспособиться, полюбят ли их? Да уже другие, жалкие, стесняющиеся своих бед и злые тоже, успевшие ожесточиться, ждут ее, требуют ее внимания, любви. Так что все правильно. Только бы Петр Васильевич не болел. Что-то он в последнее время огорчает ее своими капризами, недовольством. Не по нраву ему многое, горячится. До того себя доводит, что надо вызывать неотложку. Тут и Афганистан, и газопровод, которым должны гордиться, и погода, и сельское хозяйство. А все телевизор, бесконечное сидение перед телевизором. Но и это в пределах ее терпения. Одно ее тревожит и чем дальше, тем больше, гонит по ночам сон, делает невнимательной на уроках, и это Паша. (Привыкла по старой памяти, Паша да Пашуня. В прошлом году пригласил на день рождения, самый конец августа, как раз вернулись с Петром Васильевичем из Белозерска, и кто-то из его коллег по журналистской работе обратился к нему «Павел Ревмирович», — не сразу и сообразила.) Да, дурно, что слишком часто видятся, уж всякую неделю обязательно. Дурно, что он не женится. Что дарит ей книги, монографии с репродукциями, а то еще встречает после уроков, провожает домой, и совсем дурно, что смотрит на нее как-то не как надо. Какие-то другие стали глаза у него, взгляд ждущий и несчастный, смущающий ее. Дурно, что без конца целует ей руки, что прошлый год, когда наконец-то уехал в свои горы, закидал письмами. И теперь… Письма, письма и письма, восторженные и грустные, и слишком много о ней, вопросов много, совершенно нелепых предположений, нетерпения… И нежности. Ну что это, можно ли! О чем он думает в самом-то деле? Манеру взял, сидит во дворе, в садике, едва не под самыми их окнами, поздно вечером выглянешь — сидит. Запретила наотрез. Сказала, что эгоист, что все, что хотела воспитать в нем, только и держалось на вечных понуканиях. Ни порядочности подлинной, ни мужского самоотверженного достоинства… Раскраснелся, голову опустил, как когда-то, когда за тройки начинала распекать, — но ни слова. А спорщик ужасный.
Так что, если не впустую усилия образумить его и привести в норму, тогда, что ж, не на что особенно и жаловаться, все хорошо. Да нет, конечно, будет держать себя прилично. Месяц в горах среди молодежи, глядишь, встретит кого-нибудь, какую-нибудь милую девушку. Себе под пару. Глядишь, и влюбится, и перестанет мучить ее, издеваться над нею… Да, да. А потому все хорошо. Все хорошо несомненно. Все как нельзя лучше. Все хорошо, хорошо, хорошо… И она расплакалась.
ГЛАВА 11
Пробудившись в то лучезарное утро, уже набравшее силу и свет и свойственное только курортным местам праздничное оживление, Жорик не сразу сообразил, где он и что за странная публика в откровенных неглиже, с пляжными сумками через плечо и в роскошных солнечных очках дефилирует по аллее. Было так, словно его душа отлетела далеко-далеко и не хотела возвращаться к тревоге и нетерпению, неуверенности и сводившему с ума отчаянному намерению добиться наконец своего… К тому же наломался за ночь на деревянной, из узких планок скамейке, так что потребовалось определенное усилие, приподняться хотя бы и сесть.
И тут как ударило: сегодня увидит Регину!.. И кто знает… во всяком случае, долой бессмысленное, бездеятельное ожидание. Ничего не может быть хуже планов, которые постоянно отодвигаются. Действовать — его девиз. Разве человек не кузнец своего счастья? Вот он и должен, обязан ковать и добиваться; даже ошибки, даже серьезный промах — любое лучше, чем голову под крыло и пассивно ждать. Ждать да еще предаваться пустым грезам, надеяться, будто обстоятельства или что там чудодейственным образом подтолкнут ее к тебе: на, мол, целуй в уста сахарные. К тому же, и это серьезно, он многое готов сделать для Регины.
Жорик побежал к морю, в темпе поплавал, понырял, с удовольствием ощущая, как расходятся мышцы на животе и груди и фактически бессонная ночь ничто; прошелся на руках у кромки прибоя, где черный песок и мелкая взблескивающая галька образовали плотную, не сминаемую под его пальцами полосу; крутанул сальто еще разок, перехватил любопытствующие взгляды нескольких женщин и отправился в кабинку одеваться.
Основательно выношенные, с белесым передом техасы, само собой фирменные; классная светло-оранжевая безрукавка (удачно оттеняет черноту волос и смуглый тон кожи), разрисованная седлами, сбруей и прочими ковбойскими атрибутами; ненадеванные фээргешные кроссовки (девица одна, скороспелочка, объясняла: красивые, оттого и «красовки»). Что значит, экипировочка подходящая — другое самочувствие. Закинул за спину тощий свой рюкзачишко, отправился в парикмахерскую. Слегка подправили с боков гриву (десять раз одергивал), компрессик, выбрили дважды, небольшой массаж, хороший одеколон, и, свежий, бодрый, благоухающий, едва сдерживая бьющее через край оживление, скорым шагом — времени осталось без особого лишка — на рынок за цветами.
О, цветы! Что за чудесная выдумка природы эти яркие, нелепо-изысканной формы, с нежными, незащищенными лепестками, превращающимися в липкую дребедень, едва сожмешь покрепче, эти ни на что дельное не годящиеся, ну только завлекать своим запахом и видом и подкармливать, и кого — мух, бабочек и прочих членистоногих, и все во имя жестко запрограммированной идея продолжения вида, идеи, если на то пошло, весьма далекой от их собственных благ и надобностей, эти восхитительные, несмотря на явный рационализм, таящие некое скрытое магическое воздействие, эти выращиваемые с тщанием и заботой капризные и очаровательные дети хорошо перепревшего навоза и оранжерейной духоты! Жорик знал, видел, какое неотразимое впечатление производит на женщину, даже чопорную, высокомерную, не склонную ни к каким сантиментам, умело подобранный букет, с соответствующими, почтительно-подобострастными комментариями преподнесенный. Какая довольная, прямо-таки лучезарная улыбка освещает тогда ее лицо. Знал и в затруднительных случаях не забывал обратиться к неоценимой помощи цветов.
Вооружившись великолепным букетом роз — на строгий взгляд, велик и чересчур шикарен, зато так выигрышны показались ему эти розы, алые, пышные, их сладостно-пьянящий аромат («…их сладкий аромат тревожит мне сознанье…» Именно то самое и требуется. Имелось и еще некоторое обстоятельство: первый его букет, переданный ей за кулисы, был составлен именно из алых роз), ну и сразу чтобы ясно: ничего не пожалеет, лишь бы сделать приятное, — неся их обеими руками (упаковывать, решил, ни к чему, зачем прятать, любуйтесь на здоровье, только велел перевязать слегка), Жорик поспешил в аэропорт к прибытию самолета из Минеральных Вод. Понятия не имел, самолетом или поездом отправятся, и все-таки решил встречать самолет. Даже не потому, что жарко поездом и времени больше, но как-то современнее, что ли, самолетом. На эту-то современность уповал и не ошибся.
Вава прекрасно разыграла удивление при виде Жорика, объявившегося возле самолета, едва подкатили лестницу и разрешили выход. Удивление ее отчасти было подлинным: Жорик и сам до конца не был уверен, что пасьянс сложится. Тут еще самолет остановился «страшно далеко» от аэровокзала, но это даже и не «бином Ньютона», как выразился в свое время небезызвестный профессор черной магии: Жорик, покуда терся возле справочного, услышал, что персиками срочно будут самолет загружать, в остальном вопрос свелся к плитке шоколада и его расторопности. Регина сперва не обратила внимания на Жорика; потом… Во всяком случае, мило улыбалась, глядя, как он не слишком ловко принялся делить роскошный букет, сообразив только тут, что два букета следовало покупать, ведь двое их, двое! И вдруг насторожилась: как там ее драгоценный, все ли благополучно и не послан ли Жора по какой-либо экстренной надобности? Жорик, продолжая внутренне ликовать (не очень он поверил в ее озабоченность, вовсе не заметна тревога в ее чудесном, ласкающем слух контральто), поспешил заверить, что у них в горах — блеск, все как нельзя лучше, а Сергей — чего ему! — здоров, бодр и весел, вечерами на топталке такие фигурки в джайфе выдает, сразу чувствуется — школа! И перескочил, дабы предупредить расспросы, как он здесь очутился, на симпозиум, что скучища адская, наверняка полезнее для него и для науки, если денек-другой покупается в Черном море. А где ж лучше купанье, как не в Гагре! И с простодушным видом признался, что Вава в Москве по секрету сообщила про Гагру.
Объяснение, судя по иронической гримаске на лице Регины, удалось не слишком, но лучшего и не требовалось.
Ну а если глубже, усмешка более относилась к самой Регине. Над собой, своим испугом и болью, которая полоснула по сердцу, иронизировала Регина, идя вслед за Вавой, непринужденно болтавшей с Жориком.
«Встретил. Приехал специально. Конечно, трудно им одним. Чемоданы, носильщики, такси… Сережа и не подумал. А мог бы, если захотел. Мог на последнюю неделю отпуска приехать сюда, а там уже в Москву. Снял бы комнату где-нибудь при санатории. Не хочет себя утруждать, — с внезапной неприязнью думала Регина. — Развлекается. Вечерами на топталке… Бодр, весел, здоров. Еще бы, едва не по полгода проводит в экспедиции, в лесах, никаких волнений. Поступает, как ему хочется, как ему удобно! Даже не пожелал позаботиться о моем отдыхе. Тяжелейший год был у меня, два ввода в уже сложившиеся спектакли, легко ли! Вава чужой человек и всей душой старается помочь. Еще гастроли отменили, может быть, и к лучшему, не знаю, как бы я выдержала. А он?.. Не выносит, видите ли, курорты, курортное «ничегонеделанье», знакомства. Придумал, чтобы я ехала в горы! Холодный, бездушный себялюбец».
Она устала. Устала! Как этого не понять, пыталась она объяснить еще в Москве, когда встал вопрос о Кисловодске. Ей необходим полноценный отдых. Что ей делать в горах? Ее не интересуют никакие горы! Но разве в чем-нибудь убедишь? Восхождение запланировано на конец августа, в пересменок, он не может — видите ли! — при всем желании передвинуть ни раньше, ни позднее. И Воронов не может, хоть он руководитель группы. «Сошлись на экстренные служебные дела!» — просила она, смиряя себя сколько могла, ласково и нежно. — «Какие служебные? Ты же знаешь, как Воронов теперь со мной, после того, как я ушел из НИИ. Да и зачем тебе ехать в Кисловодск? Сердце у тебя, слава богу, здоровое…» Кто, скажите, кто выдержал бы подобные ответы? Конечно, возмутилась, и как не возмутиться: «Ах, тебе хотелось бы, чтобы у меня было больное сердце? О, я тебя насквозь вижу! Тогда бы ты возликовал: не танцуй, сиди дома, вари обеды…» Он — надо отдать ему справедливость — старался сдерживать себя, боясь настоящей ссоры, тем более видел, что кругом не прав. «Ты должна меня понять, — принялся он канючить. — О таком восхождении я мечтал несколько лет. Схожу и успокоюсь. Оно мне необходимо. Как бы тебе растолковать… Для самоуважения, что ли?..» — «Не понимаю и никогда не пойму! — возмущалась она чуть не плача. — Глупое мужское тщеславие. Хорошо, Саша, он целый год сушит себя в своих вычислениях, еще студенты, с ними морока. А ты? Месяца в Москве не просидишь. Архангельск! Архангельск! Вологда, Петрозаводск, только от тебя и слышишь. Теперь еще какое-то Кенозеро. Люди стремятся улучшить свою жизнь, наполнить чем-то интересным, украсить. Едут в Карловы Вары, в ГДР, Когда мы были в последний раз в консерватории? Лучше уж совсем бы переселился в этот свой Архангельск или на Кенозеро!»
О, да, в тот раз она решила все высказать или почти все, во всяком случае, хоть на время освободиться от негодования, которое постоянно копилось в ней. «Пашка твой! Что это за знакомство? — вспомнила она к случаю. — Что у тебя общего с ним? И какой от него толк, желала бы я знать? Хоть бы раз букет цветов принес. Положим, мне от него никакие цветы не нужны, и без того ставить некуда. Я уже не говорю, что-нибудь напечатал. Я в его глазах, выходит, не заслуживаю даже, чтобы мое имя упомянули хоть в «Московском комсомольце?» Между прочим, я ношу твою фамилию. Спортивные какие-то заметочки, очерки жалкие, на большее он просто не способен. Стоило из-за подобной чепухи специальность свою бросать. Или это вас и соединяет, что оба неудачники?»
В чем она не права, спрашивала она себя. Подчиниться его прихотям, его глупому мужскому тщеславию? О, нет! Ее любовь, ее жизнь — в танце. Подчиняться хочу, но не умею! Саша, тот — может, если считает для себя разумным, а она вот так. И это куда женственнее, изящнее, элегичнее как-то. Подчиняться хочу, но не умею. Не умею и никогда, никогда не сумею, чуть не напевала она, идя рядом с Вавой и пряча лицо в цветы, в алые, нежные лепестки, обволакивающие ее своим ароматом.
Конечно, Регина была некоторым образом разочарована. Вовсе не ждала она встретить Сергея, но, когда подскочил этот надоевший в Москве поклонник, этот шустрик, как-то вдруг… защемило. «Все-таки горы, мало ли, хоть и Саша там. Саша не допустит никаких неосторожностей, на него можно положиться. Горький опыт пошел ему на пользу. То есть я не то имею в виду, но все равно, Саша стал куда осмотрительнее, дальновиднее, Докторскую делал, ни о чем знать не хотел. А был бы повнимательнее, не так сосредоточен на одном… Попробовал бы у нас кто так, живо бы съели. Говорят, балерина, балерина! Самая прославленная артистка позволяет себе ровно столько, сколько может себе позволить. И все же, все же… если бы Сережа был сейчас рядом…» И она с подчеркнутой приветливостью включилась в разговор.
Не любительница Регина много говорить, зато превосходно умеет слушать. Не раз делали комплименты, что в ее обществе даже у вовсе неразговорчивых развязывается язык, мало того, настоящий объявляется дар.
То-то и Жорик, страх боявшийся, что от волнения последним дураком выкажет себя, после двух-трех ничего не значащих замечаний Регины совершенно преобразился и уверенно, свободно, с шутками-прибаутками о таком, что никого не задевает, не вносит напряженность, и между прочим к месту. Как в прошлом году, возвращаясь с Кавказа, прилетел во Внуково, прошел в зал, где багаж, а там народу!.. (Жорик не упомянул, что встречала его весьма давняя его подружка, отношения с которой то прерывались, не обязательно по Жориковой вине, то возобновлялись с новым пылом.)
— Стоим в очереди за багажом, уже по рейсам разобрались, время идет, самолеты один за другим подбавляют и подбавляют, и понемногу людьми начинает овладевать ярость. Ни черта не умеют порядок наладить. Лёту каких-то два часа, а получить рюкзак с барахлишком да ящик винограда… Все самолеты сажают во Внуково, других аэродромов нету? — с распирающим весельем вспоминал он.
Они заметно отстали от других пассажиров, спешивших наперегонки к зданию аэровокзала. Регина терпеть не может никакой спешки, хватит с нее в Москве, нарочно семенит мелкими неторопливыми шажками. Крепкие, сильные икры, прямая спина и развернутые плечи (Жорик нет-нет ухитряется облизать ее глазами), маленькие груди чуть приподнимают обтягивающую блузку, широкая расклешенная юбка подчеркивает осиную талию, на локте левой руки букет, в правой держит раскрытый японский зонтик, — хороша! С ума сойти до чего хороша! (Сердце Жорика пухнет, во рту сухость.) «А то горы и горы, — думает Регина. — Сережа в письмах без конца о горах, как будто ничего другого на свете нет. Слышать не хочу ни о каком альпинизме».
— Рекламируют: «Быстро, надежно!» — с распирающим весельем частит Жорик. — Трепачи несчастные! Крик, гвалт. Еще немного и разнесли бы к чертовой бабушке загородки, барьеры, ринулись бы за своими чемоданами. Уже и начальство требовали, и жаловаться грозились.
Жорик вроде бы рассказывает Ваве и поминутно оборачивается к Регине, не может не оборачиваться, не смотреть. Жарко, Регину охватывает безразличие. Не хочется никуда идти, ехать, ничего делать. Разве что на море бы, искупаться. Она опять поднесла букет к лицу, вдыхает тяжелый, дурманящий аромат. «Интересно, далеко санаторий от моря? И как все-таки Жора узнал, когда мы прилетаем? Вава, конечно. А, пускай. Иначе вообще со скуки удавиться можно. Пускай крутится. Приструнить всегда успею».
— На следующий день в газетах репортажик, как у нас принято. Но слухи! Все становится известным, что было и чего не было тоже. Так вот, в Шереметьеве самолет садился откуда-то издалека, из Иркутска, что ли, в общем одно шасси не выдвинулось. Воздух закрыли, рейсы прибывающие — во Внуково, потому и затор и столпотворение. А туда разных аварийных машин нагнали, пожарных, «скорой помощи». Лётари выжгли свой керосин и — хо не хо — пошли на посадку. Представляете, на одно шасси! Почище, чем у нас в альпинизме. И посадили, черти полосатые. А мы во Внукове тогда, ох и кляли, ох и измывались над аэрофлотовской шатией и лётарями, и разлётарями. Нет, чтобы сказать прямо, открыто, так, мол, и так. Разве можно! Аэрофлот бережет наше время и способствует хорошему настроению.
— Какой ужас! Не знаешь ни о чем и погибнешь. Никогда не буду больше летать! — со смехом запричитала Вава.
По счастию, на этот раз ни у каких самолетов шасси не отказывало и багаж они получили скоро, так что Жорик, разлетевшийся еще веселую историю рассказать, принужден заняться делом.
— Ах, не сообразили, надо было очередь на такси занять…
Одно из несомненных Вавиных достоинств — смех. Мелкий, рассыпчатый, едва ли не по любому поводу. Легче жить на свете, обладая столь замечательным свойством. А Регина совсем было приуныла от перспективы маяться час или сколько в ожидании, когда подойдет очередь и какой-нибудь нахальный таксист соблаговолит их взять.
Для Жорика любые житейские неурядицы ничто. Не прошло и нескольких минут, подкатил на ярко-красном новеньком «Жигуле», увешанном дополнительными фарами, зеркальцами, две антенны для пущей важности, вентилятор у заднего стекла, встроенный магнитофон, как выяснилось позднее, и прочее и прочее. А уж водитель! Тотчас выскочил из машины, разулыбался как давний знакомец, дверцы настежь, чемоданы в багажник и, пока Жорик галантно помогал усесться дамам, уже за баранку и с места в карьер, что значит темперамент! Ошеломленному Жорику пришлось некоторым образом вбрасываться на ходу. И всю дорогу гнал за милую душу, под музыку и разговоры, явно превышая нормы скорости, благо встречные предупреждающе помигивали фарами, если впереди оказывался страж порядка. Но это потом, а когда только отъехали и Жорик с легким недоумением устраивался на своем сиденье впереди, а Регина начала было объяснять, куда, в какой санаторий, выяснилось, что черноусый лихач, по многим параметрам весьма смахивающий на Жорика, не говоря про техасы и рубашку, разве только с физиономиями «Бони М», полностью информирован.
Опять Регина почувствовала себя несколько озадаченной, но тотчас и отмахнулась. Она приехала отдыхать и набираться сил к предстоящему сезону, а не ломать голову над чепухой. После, если не забудет, выяснит у Вавы, что та еще наболтала, теперь же… Теперь было совсем неплохо мчаться по гладкому, слегка извивающемуся шоссе, среди магнолий, кипарисов, современных широко застекленных домов и слушать легкомысленную болтовню.
— Ты у нас умничка! — смеялась Вава, поглядывая на Регину и пускаясь расхваливать их провожатого. — Что бы мы без тебя делали? А розы! Обожаю цветы. Мой муж всякий раз, как у меня спектакль, непременно дарил цветы. Как-то зимой в январе, слякоть, мокрый снег, все чихают, наша прима изволила слечь, а у нас шефский концерт на ЗИЛе. Ты выступала там, нет? Вполне приличненькая сцена. Уборных маловато, да нам не привыкать. Короче, танцевать некому: та занята, другие капризничают. Предложили мне… Ой, вспомнила: стою я в канцелярии, не в тот раз, еще раньше, давно, но неважно, а Игорь… ну, не в голосе он, хрипит, сипит, а вечером «Сусанин». Завоперой и говорит, сами звоните отцу — он тогда еще жив был, его отец, — а я не могу, полторы нормы ваш отец отпел, не могу просить. Игорь набрал номер, погундосил, послушал, вешает трубку. Завоперой: что он вам сказал? Ей ведь тоже забота замену найти. А Игорь: «Отец сказал, что ему семьдесят лет, но он петь будет, а я — сволочь».
Посмеялись. Вава:
— Так о чем я? Ах, да. Я чувствовала себя в ударе, чистенько, одно в одно прокрутила фуэте, ну, не все тридцать два, но Юрик дирижировал, такой умничка, поймал и остановил оркестр будто так и надо! С ним танцевать было — наслаждение. Жаль, ты его не застала. А до этого у меня были очень выигрышные позировки в адажио, скольжение, вариации и блестящее антраша. Я их знала… как молитву!.. Муж был в зале. После концерта, что такое, не встречает? Я было начала беспокоиться. Вдруг подкатывает такси, и с шофером выносят корзину белой сирени. Представляете, в январе! Тут наши появляются… Я взяла несколько веток и раздарила. Ох, и завидовали мне. Безумно! И конечно, всяческие пошлости. Такие злыдни. Как он меня любил, как любил! Он меня просто обожал. А уж заботился… Теперь таких мужчин не встретишь, совершенно убеждена. Случаются исключения, вроде нашего Жоры. Но исключения лишь подчеркивают правило, так я считаю. И ведь намного старше меня, а сколько пыла! Я уж не говорю, что никогда, ни единого раза — а я сколько с ним прожила? — почти одиннадцать лет, — чтобы сцену устроил или там недовольство, приревновал? Да боже упаси! Как можно. А бывало, что делать, и возвращалась, поздно, и поклонники, подарки, то есть какие-нибудь симпатичные пустяки, конечно, но их же не спрячешь… И чтобы упреки?.. Таких мужчин больше нет. Таких воспитанных, берегущих достоинство женщины, благоговеющих перед нею. Ни разу ни единого невежливого слова! Ваванька, солнышко, Ваванька, синичка — он меня синичкой называл, — Ваванька устала, дай я помассирую моей девочке ножки. После спектакля иногда ванночку ножную принимала — сейчас принесет таз с горячей водой, я сяду у телевизора, сам снимет туфли, чулки… Забота — самое-самое основное, чтобы женщина чувствовала себя счастливой. Нынешние, да хоть Женьку моего взять… Гоняет где-то… И ничего у него не поймешь. С подругами пытается любовь крутить. Только ведь мне все рассказывают. Смех один.
Жорик порывался вставить словцо, но как? А очень бы хотелось Жорику кое-что о себе. Понимал, что прямо, в лоб не годится, к слову бы, а еще лучше попутно, в связи с восхождением. Начать, да хотя б, что Воронов возлагает большие надежды на запланированный траверс, особенно же на стену. Маршрутик на все сто. Гвоздь сезона? А стеночку — ему, Жоре Бардошину, грызть. Без него Воронов как без рук. Прошу прощения, но что так, то так: выдающийся скалолаз, великолепная акробатическая подготовка и никакого мандража. Дали бы ему на Эвересте себя показать!.. Уж он, будьте уверены, рюкзачок не потерял бы. Не то что Эдик. Опрокинулся, «голова тяжеле ног» не упражнял соответствующую мускулатуру.
Однако высказать эти сведения и соображения Жоре никак не удавалось. Помог заскучавший «шеф», который врубил на полную мощность свой магнитофон, динамики, казалось, понапиханы были повсюду: сзади, с боков, сверху и снизу ударил хриплый, форсированный басок Высоцкого. Регина… недовольная гримаска появилась на ее губах — для Жорика это приказ. Володю приглушили до терпимых децибел, а там вовсе убрали. Жорик и распустил хвост.
…Жорик с жаром доказывал, что без него восхождение не состоится: должен, обязан, мужское альпинистское товарищество призывает его обратно. Перегнувшись назад, он улыбался широкой, простецкой улыбкой: никаких тайных помыслов, тем более подначек, никакой фальши, весь как есть тут, — хотите ешьте его, хотите милуйте (не то что они, балетные, пот ручьями, ноги, руки дрожь бьет, а на личике неземная легкость, неомраченность, чистота). Вырвался на считанные дни — биохимики со всего Союза съехались! И плюнул, решил их встретить, помочь и, если по-честному, с превеликой радостью остался бы на недельку вместе отдохнуть, в море покупаться, а нельзя. Совесть уже точит: обещал тотчас обратно. Раз обещал — умри, но исполни. Только тщетно он ловил признаки внимания на лице Регины. Красавицу явно сморил сон.
Зато Вава была информирована в необходимой степени и, по Жориным представлениям, должна стараться. Она и старалась.
Она старалась еще в Кисловодске, куда отправилась вскоре после Регины попринимать ванны, привести в порядок сердечко — начинало напоминать о прожитых годах, разочарованиях и тщетных попытках наладить новую жизнь, — старалась тонко, со смехом и совершенно между прочим не то что очернить, но показать бесперспективность, дурной нрав и ярко выраженный мужской эгоизм Регининого мужа. Ластилась к ней, восхищалась ею и сочувствовала, и жалела.
Как несправедлива жизнь! Вот они, две милые элегантные женщины, которые так много могут дать счастья понимающему мужчине, одна еще совсем нерасцветшая, талантливая, прекрасная, как утренняя заря, как юная Психея, другая тоже, но несколько постарше, и как же им обеим не повезло в любви, в устройстве личной жизни! Куда смотрят мужчины, настоящие, умные, само собой достигшие степеней известных? Наконец, где они сами? Регине становилось неловко, но — и Вава это отлично понимала — кое-что западало в душу; трещинки, которых всегда хватает, заполнялись веществом, если и не взрывоопасным, то отнюдь не способствующим их скорейшему зарастанию. Так что Вава честно отрабатывала путевку, не говоря уже, что сама получала истинное удовольствие, развенчивая и без того основательно потускневший образ этакого рыцаря без страха и упрека, борющегося за сохранение то ли елок каких-то в местах весьма отдаленных, то ли коры на бревнах, а может быть, и наоборот, она не совсем ясно представляла.
Старалась Вава, надо полагать, и все те долгие для Жорика часы, пока они устраивались, а он слонялся по парку, плавал и загорал, сидел в кафешке, заходил в магазины, потом не утерпел и перелез в укромном местечке через ограду, сплошняком окружавшую санаторий, и, прячась между деревьями и кустарниками, глазел на фланирующую взад и вперед санаторную публику; осмелев, сам пустился этаким прогуливающимся аллюром, запоминая, что, где, мало ли, да просто на всякий случай, и ждал, ждал вечера, шести часов, на которые Вава назначила ему свидание у пропускной будки санатория. Вава — молоток! Вава — парень хоть куда! Он и Вава отныне друзья навеки: с ума сойти — явилась под руку с Региной, и все вместе, не спеша, гуляючи, отправились к морю.
Как дивно хороша была Регина, как шло к ней простенькое полосатое платьице, открывавшее хрупкие плечи и высокую стройную шею, как любовно обвивали ремешки ее котурнов тонкие у щиколоток, сильные ноги.
Жора был счастлив. Счастлив глубоко и радостно. Счастлив настолько, что старался уже не смотреть на нее после того первого мгновения, когда жадно, взахлеб, всей кожей, кажется, не только глазами, увидел, ощутил, вобрал ее в себя, и сердце мощными ударами погнало кровь, сладостно туманя сознание. Никогда прежде не представлял он этого состояния невесомости, что ли, отрешенности от прочей жизни, сосредоточенности на одном-единственном, не знал и что время может столь растягиваться, когда ждешь и секундная стрелка на его швейцарских часиках будто сонная, едва-едва ковыляет, то вдруг уплотнится, летит!
Жора был счастлив тем, нечасто являющимся счастьем, которое испытываешь уже оттого, что идешь рядом с любимым человеком, находишься, так сказать, в зоне его излучения, если использовать современную терминологию. Кто знает, может, штука как раз в этом излучении, особенном, ей или ему присущем, неповторимом и столь желанном, что сплошная эйфория, блаженство, молочные реки и кисельные берега! Жорик, желая несколько сбить свой восторг, обращался к вульгарной биохимии, в которой чувствовал себя большим докой. Что если и впрямь какие-нибудь комплексоны криком кричат, требуя четко определенной и никакой иной добавки до полной их, комплексонной комплектации, и ты в их власти? Нельзя же все сводить лишь к высоким материям.
Жорика прямо-таки распирало от сознания своей исключительности и везения. Да при чем тут везение? Он хотел, он добивался, он почти добился. Точно англичане говорят: кто хочет поймать рыбу, должен думать о рыбе! Его уничтожали взглядом, презрительным пожатием плеч или той гримаской, которой сегодня был введен с пьедестала его кумир, а он — мечтал пламенно и неотступно множество дней и бестолковых ночей. Заискивал перед мужем, сумел почти сдружиться с ним; братца, чопорного и занудливого, заставил считаться с собой! Э-э, на что он только не пускался, как не елозил, лишь бы добиться пусть малого сперва, вовсе незначительного в глазах кого другого, для него же — идти рядом, слышать шорох ее платья, скрип камушков под ее удивительными ногами, дышать воздухом, который коснулся ее тела… Виват его настойчивости и изворотливости и неумению отступать. Теперь он хочет обладать ею, и он добьется. И если для этого потребуется жениться на ней, почему бы и нет? Все когда-нибудь совершают сей тривиальный шаг. Иные только этим и занимаются. По крайней мере, он ее жаждет, как никогда и никого, каждая его клеточка, всякий нерв трепещут при мысли о ней. Конечно, что за жена из балерины? Зато женщина, каких поискать. Да и искать бесполезно, нету. Изящество, грация — эти понятия наполнились колоссальным разящим значением. Черт побери, великолепно он понимает людей, стрелявшихся из-за женщины, шедших на преступление, на предательство и, конечно, тех, что в порошок стирали соперника. Только какой соперник Невраев?
Рохля! Ни за что по-настоящему не борется, даже и не пытается всерьез противопоставить свою волю чужой. Да пошел он, думать еще о нем.
ГЛАВА 12
— Ой, «молния» поехала! — Вава подхватила купальник на груди и пытается нащупать сзади замок «молнии». — Региш, помоги.
Жорик подскочил и, то ли нарочно, то ли и впрямь настолько перекрутилось в голове, дергает замок «молнии» книзу, так что купальник едва совсем не соскакивает с Вавы. Следуют мелодичные взвизги, возгласы наигранного возмущения. Жорик, что же делать, исправляет свою ошибку.
— Ты смотри у меня! — грозит ему Вава своим миниатюрным кулачком. — Ты смотри!
— Я стараюсь, — оправдывается Жорик, нимало не робея.
Легко с Вавой, золотой характер. Разговор вьется вокруг театра, точнее, отношений и всяческих событий. Тема неисчерпаемая. Конечно, надо знать среду и легендарные личности балета. Скажем, Жорик не сумел должным образом насладиться мило рассказанным Вавой анекдотцем, как однажды, уже давно, по внутреннему радио… В некоторых спектаклях полагается актеру выезжать на лошади. Привозят этакого сонного, равнодушного ко всему на свете циркового одра, сажают «действующее лицо» и с великими предосторожностями выводят на сцену. И вот перед началом, когда все в своих уборных мажутся, красятся, напряжены, на нервах, по радио раздается: «Сергей Гаврилович (следует фамилия), спуститесь вниз, попробуйте лошадь!» Театр грохнул! Как потолки не обвалились от хохота. Регина тоже, куда девались ее высокомерие и недоступность, ее тон! Жорик не ожидал, что Регина способна столь безудержно смеяться.
Жорик пытается в том же ключе повеселить дорогих дам. Ан нет, небольшой переборчик вышел, смеется в одиночестве, ну еще Вава из снисхождения.
Ничего, не бывает так уж совсем без промахов, успокаивает себя Жорик. Развитие, как известно, происходит по спирали. И тут не без удовольствия отмечает, что их трио вызвало общий интерес. Но более всего Регина. Бородатые красавцы в японских фиговых листочках прохаживаются вдоль кромки волн, бросая на Регину подчеркнуто безразличные взгляды. Некий ферт атлетического сложения, забыв о своей растекшейся на солнцепеке подружке, становится в позы, раздувает грудную клетку, поигрывает бицепсами. Еще один, как видно, крупный специалист по бросанию камней, «печет блины», ловко пуская по верхушкам волн плоский галечник. И конечно, разговоры, обрывки разговоров: внимательный слух Жорика схватывает интонации и околичности, и опять в центре внимания — Регина. Какая-то тайная магия исходит от нее, лишний раз убеждается он. Ну, хороша, слов нет, да мало ли хорошеньких. Пройтись по пляжу, поглядеть — пальцев не хватит: и не просто хорошеньких, а с «фигурками».
— Какая-то неинтеллигентная мускулатура у вас, — говорит Регина, окидывая его оценивающим взглядом. — Что вы умеете? Только по горам лазить? Поддержек балетных не знаете. Умели бы… — Она заканчивает неожиданно: — Сейчас бы носили меня на руках. — И разливается своим внезапно вспыхивающим безудержным смехом.
Жорик с фальшивой бойкостью протягивает руки:
— К вашим услугам.
— Уметь надо. Носить на руках. Желать не значит мочь.
— Давайте попробуем. Вдруг у меня талант?
— Это вы утверждаете или другие? — насмешничает Регина.
— Один приятель в лифте в университете на Ленинских горах ехал на самый верх, девушка с ним, такая дуся, вздернутый носик, глазки. Смотрел, смотрел на нее и говорит: «Девушка, вы когда-нибудь в лифте целовались? Давайте попробуем?»
— И что же?
— Получилось.
— Вы не про себя ли случаем?
Они пикируются еще некоторое время, а там Регина снисходит, показывает ему некоторые простейшие поддержки. Вава принимает горячее участие в обучении. Жорик на седьмом небе и валяет дурака. Сколько ни объясняют ему, делает не так, демонстрируя свою неловкость, старается покрепче обхватить Регину, прижать ее к себе. Регина сердится. Жорик, винясь, склоняется в шутливом поклоне. Когда же Регина, недовольная его фиглярством, отступает, Жорик, сменив мину на самую серьезную, акцентированно серьезную, что тоже может быть воспринято как игра, а может и нет, и в том и штука, опускается на колени и целует серые, чуть влажные от ее ступней голыши.
И следом («Фу, как с цепи сорвался!» — восклицает в нечаянной женской зависти Вава) — феерический каскад дивно удающихся ему акробатических упражнений. Колесо, причем с места, без разбега, затем сальто переднее, еще одно, только чуть коснувшись руками земли, следом пируэт, высокий и эффектный, и, точно придя на полусогнутые ноги, замер с вытянутыми руками. И ведь на песке, на мелкой, не слишком плотной гальке!
Аплодисменты раздаются ему в награду. Увы, совсем посторонних зрительниц. Реакция мужчин однозначна: циркач какой-нибудь, и выставляется. А Регина — вместо удивленных восторгов или хотя бы одобрения, на которые Жорик сильно рассчитывал, как никак в современном балете акробатике находится место, — Регина явно раздосадована, чуть ли не оскорблена.
— Вы, оказывается, еще и обманщик, — без признаков улыбки выговаривает она ему. — Хитрый лис. Я давно подозревала у вас склонность к интригам и притворству.
Жорик изображает полную растерянность. И понятия не имел, что получится. В детстве, в школьные годы, на турнике подтягивался пять раз кряду, стойку выучили делать. Но сейчас? Сам удивлен. Не иначе — вдохновение. Или, что то же самое, — по внушению свыше. Разве Регине не известно, что мы лишь театр теней, кто-то не из нашего мира смотрит на нас, дергает за ниточки и… потешается.
— И что наша планета объявлена космическим заповедником, вы тоже не знаете? — удивляется он. — Сколько ни пытаемся выйти на связь с внеземными цивилизациями, по нулям. В то же время множество сообщений поступает о сверхъестественных вмешательствах в дела и судьбы мира сего.
Регина отмахивается, но момент для ссоры упущен, а она очень бы не прочь как следует его осадить: плут явный, ловчила, лисовин, ишь разошелся! Делать нечего, садится на расстеленное полотенце рядом с Вавой, которая оторопело взирает на Жору. Похоже, ей все еще невдомек, что Жорик заговаривает зубы. Он скромненько устраивается на гальке по другую сторону Вавы.
— А дальше-то что? — не выдерживает Вава. — Куда, какие сообщения? Я кое о чем слышала.
Жорик прикладывает палец к губам:
— Тихо! Строжайше засекречено.
— Да ну тебя!
Рассказывает сама парочку животрепещущих историй. Жорик тоже. Еще похлеще. Объясняя, что слышал от весьма уважаемого, престарелого уже летчика-испытателя. Буквально по полслова вытягивал, и свидетели тому происшествию есть, и некие деятели, как сказано было, «из Академии наук», приезжали, выспрашивали.
— «Что-то страшно жить на свете!» — смеется Регина, прикрывая от солнца нос какой-то изящной штуковиной, наверняка иностранного происхождения, изобретенной специально. — Отсюда и всяческие были-небылицы, — заканчивает она умиротворенно.
— А я верю, — говорит Вава. — Я верю, верю! И очень надеюсь, если совсем станет плохо, нас спасут. Сделают что-нибудь!
Жорик снисходительно улыбается. Вава горячо, взволнованно, позабыв об опасности солнечных лучей для ее лица, продолжает:
— Мне иногда становится так страшно, так страшно, что война — это возмездие. За все наши проступки, за обманы, лицемерие, за то, что мы злые, злые, чуть что — только бы гадость, в свою очередь, устроить. Мы, как бы поточнее выразиться, неправильно живем. А иногда я совершенно уверена, что никакой войны не будет, и мне становится еще страшнее. Только по-другому… — стихает она.
— Вот те раз! — веселится Жорик. Уж очень озадачивают ее непоследовательность и остановки. Взяла и остановилась. Словно налетала второпях на что-то, в самом деле испугавшее ее. — Хорошо, что не будет, — примирительно говорит он. — Радоваться надо. Чего тут пугаться?
Вава не сразу, но отзывается на его слава:
— Если не будет, — значит — даже страшно вслух произносить, — значит, есть бог. И его святая воля. И это самое-самое верное доказательство, — выпаливает она и впрямь с испугом.
— Ну вот еще… — Жорик не успевает закончить.
— А ты замолчи! — набрасывается на него Вава. — Разве ты способен что-нибудь чувствовать, кроме, кроме… Ладно, замнем для ясности.
Спорить с женщиной опасное занятие, считает Жорик, хуже раздразнишь. И правильно считает, Ваву уже не остановить:
— Легче так, как мы, вот что я скажу, когда никакой ответственности, кроме уголовной, никаких особых обязательств, куда ветер подует, туда и плывешь. Тебя обидели, сама кому-то ножку подставила, долго ли. А как представить, что где-то там есть суд, и все твои проступки известны, даже о которых самой близкой подруге не намекнула, — бр-р-р!
Жорик перевернулся на спину, скосил глаза, но видит только Ваву, слышит ее возбужденный голос:
— Еще бы не страшно! Безумно страшно. И ведь не отвертишься. Никакие наши дамские уловки, самые проверенные, не помогут. А стыдно-то, стыдно-то как!
Жорик полегонечку, плавно отталкиваясь пятками и елозя телом, начинает продвигаться вперед. Очень хочется ему смотреть на Регину.
— Лучше не думать! — Вава целиком поглощена своими переживаниями. — Помню, однажды, так, немножечко лишнего себе позволила, еще шампанское ударило в голову, в конце концов, думаю, кому какой урон, тем более никто не узнает; возвращаюсь домой, а Николай Трофимович смотрит на меня, смотрит… Ведь не мог, не должен ничего знать, а смотрит. Я начала смеяться да заигрывать с ним, он и успокоился, повеселел. Ах, как он меня любил! Как баловал! И никогда не ревновал. Фи, ревнивый муж! Мало ли, женщине захотелось чуть-чуть развлечься, что тут ужасного? Напротив, потом застыдится и всю нежность, всю ласку — на своего законного. Артистическая жизнь требует разрядки. Переживания, неудачи, пусть даже горе у тебя — никого это не касается, ты на сцене, и ты должна увлекать, радовать, восхищать, обязана улыбаться и дарить людям отдохновение.
— Улыбка балерины! — произносит Жорик саркастически.
— А ты умолкни! Как стукну сейчас камнем… — Вава даже приподнялась от возмущения со своего полотенца и ухватила голыш, но тут же улеглась снова.
Для Жорика наслаждение смотреть на Регину. Видеть ее коротко остриженные, слегка рыжеватые волосы, мочку уха с едва различимым проколом для серег, изгиб шеи… Все его душевные силы сосредоточились в этом взгляде и словно материализуют его: касаясь плеча, шеи — едва ли не осязает их, впитывает тепло и нежную струящуюся белизну ее кожи…
А Вава уже иным, капризным, недовольным тоном:
— Ах, я ничего не знаю. Я слабая женщина. Мне только страшно, страшно, тысячу раз страшно, когда начинаю думать о чем-нибудь таком, чрезвычайном. Я как-то услышала в передаче «Очевидное — невероятное» одну заинтриговавшую меня фразу: «О проблемах бытия…» Кстати, вы ничего не знаете о Сергее Петровиче Капице? Ох, я вам сейчас расскажу. Впрочем, нет, лучше потом. Потом, потом, без Жорика. Региш, напомни мне. А лучше не напоминай. Все совершенно невероятно. И проблемы бытия… Как начну о них думать…
Вава наконец вспомнила про опасность солнечных ожогов или не нравится ей слишком загорелая кожа на лице, только раскрыла зонт и даже вздохнула, так приятно стало в тени. Но мысль свою не потеряла, с еще большим одушевлением принялась рассказывать:
— Есть же счастливые люди, которые ни о чем никогда не думают. О-о! я им завидую. Раза два в месяц, даже три я всю ночь напролет думаю, думаю. Если бы только кто мог понять, насколько это ужасно. И, напротив, как замечательно ни о чем не думать, а только жить, жить, вдыхая полной грудью живительный воздух… Как-то там дальше тоже очень красиво, но я сейчас забыла. Есть же талантливые люди на свете. Но с ними трудно. С ними безумно трудно, — снова набирает темп Вава, нимало не заботясь, слушают ее, нет ли. Похоже, сам процесс говорения доставляет ей определенное удовольствие. — Был у меня поклонник. Еще до Николая Трофимовича. Ах, как он за мной ухаживал, как добивался. Звонил по десять раз на дню. Я тогда жила у мамы, и она все с ним любезничала, а я говорила, что меня нет дома. Он был такой талантливый, такой многообещающий. То есть он и сейчас жив-здоров, и слава богу, и я очень рада, но я не о том. Он был такой образованный, несколько институтов окончил или, может быть, факультетов, это неважно, только он все время сочинял стихи. А я должна была слушать. Он непрерывно сочинял стихи, вы представляете? Автобус едет — пожалуйста, про автобус, какое-нибудь событие — сейчас же про событие. И так складно у него получалось, так складно и в рифму, но только уж очень много он сочинял стихов. Про меня тоже, очень милые, про свои чувства. Нет, вы подумайте, конечно, стихи — это прекрасно, красивые, возвышенные слова — это замечательно, но надо же и как-то иначе выражать свои чувства, что же все стихи да стихи. Ну там пригласить в ресторан, на какую-нибудь дружескую встречу, ну как же так? Я артистка, я нуждаюсь в развлечениях, я женщина, в конце концов! А он, он будто ничего не понимал. Стихи, стихи, стихи. Про атомы разные — да, он физик, как Сергей Петрович, — про иксы и игреки… Встречает меня у театра, у всех букеты в руках, смех, улыбки, машины разогревают… Глядит на меня через свои очки, словно это я должна пригласить его уж не знаю, может, к себе домой? Как представлю, что всю дорогу будет читать свои стихи… Еще концовки стал придумывать с моралью!.. Нет, сказала я маме. Нет, нет и еще тысячу раз нет, я не могу быть женой человека, у которого в голове только его физика и стихи, стихи. И вы знаете, я ему отказала. Я сказала… Я не помню сейчас, что именно я ему сказала, но в общем, что люблю другого и выхожу за него замуж. Никого я не любила, с Николаем Трофимовичем меня познакомили много позднее, а тогда меня как раз оставил Антошка Губерман из ямы, скрипач наш, и я переживала, то есть я сама с ним разошлась, с Антошкой, прогнала, чтобы духу его не было! Но я сказала, что люблю и выхожу замуж. Мне было безумно грустно и обидно, и я хотела видеть, как он воспримет удар, ниспосланный ему судьбою. И что же, спустя неделю он прислал мне трагическую поэму о моей неверности. Но он по-прежнему холост, и я знаю, я совершенно уверена, пожелай я только, и он у моих ног. Но я не могу. Я всего лишь слабая женщина, и я не могу. Не могу, не могу. Я люблю развлечения, люблю веселые, пикантные разговоры. Как не понять: если ухаживаешь за женщиной, совершенно ни к чему никакие другие страсти. Пугают ее. Она одна хочет царить в сердце мужчины. А не делить его неизвестно с чем.
Она привстала, надела солнечные очки и осматривает свои ноги, руки, стряхивает прилипшие песчинки и успокаивается. Ложится опять под зонт, прикрывает глава полями своей элегантной, из пальмовых волокон панамы, и тихонько напевает. У нее небольшой верный голосок, а уж репертуар — двадцать лет в Большом театре что-нибудь да значит. Жорику, как говорится, медведь на ухо наступил и во французском ни бэ, ни мэ, но и он прислушивается не без удовольствия к отрывочку из «Пиковой», узнал тотчас и назвал. Только Вава вдруг заявила, что никакой не Чайковский, а Гретри́. Разыгрывает, решил Жорик. Открыл было рот и закрыл: Гретри́ так Гретри́, пожалуйста, да хоть бы этот, как его, Щедрин-Бизе! Сделайте одолжение.
А Вава, обращаясь к Жорику и словно продолжая спор, поет:
— «Нет, не он, нет, ангел мой, то жаворонка голос, предвестник утра, перед зарей поет!..»
В самый раз ей, решил Жорик, потому как уж будьте уверены, тут его не проведешь: Ромео, из дуэта, по радио часто передавали одно время. А то «Кипа́, кипа́…», пыжилась под старуху Графиню, прямо душа вон. Но тут вступает Регина:
— «О, милый мой, ты песни соловьиной так испугался, — с вкрадчивой нежностью укоряет она, причем — Жорику начинает чудиться, — обращаясь к нему. И оттого совсем тихо, едва ли не шепотом: — Он каждый день на дереве гранатном у нас в саду свои заводит песни. Это он, это он».
— «Взгляни, как на востоке озарены рассветом облака и в небе гаснут робкие светила, веселый день уже златит вершины, проснулось все, пора! Одно мгновенье мне будет стоить жизни», — выводит Ромео — Вава. Но Жорик ждет Джульетту.
И она отвечает, полная любви и невинного лукавства:
— «О, не бойся, тот свет — не свет дневной, он отражен каким-то метеором. Постой, постой, молю! Еще не близок час».
У Жорика перехватило дыхание, сердце его трепещет и сжимается.
Что-то твердит Вава. И снова сводящий с ума голос Регины:
— «О, ночь блаженства, скрой ты нас! О, ночь блаженства!»
Жорик не поет, но шепчет вслед за Вавой: «С восторгом встречу смертный час. Нет! То не свет дневной, то ночь… О, миг блаженный, остановись, о, ты, ночь любви, скрой и приюти под сень твою».
Импровизированный дуэт негромко вел дальше свой чарующий спор, в котором любовь и нежность молят, пытаясь уберечь, и не могут смириться с разлукой.
Когда Вава в ответ на растерянный и счастливый взгляд Жорика показывает язык, его это ничуть не смущает. Не смущают и начавшиеся профессиональные разговоры.
Регина, выдавая тайную мечту, со вздохом призналась, что все бы отдала, и здоровье и счастье, только б станцевать Джульетту. Дальше и вовсе: пируэты и па-де-де, глиссады и антраша сменяют друг друга, ничего не говоря не искушенному во всей этой премудрости Жорику. Он не в претензии. Он переживает свое открытие, находит массу причин ее сдержанности… фантазия его летит, без руля и без ветрил.
Так они лежат под нежарким вечерним солнцем, предаваясь, если взглянуть со стороны, вполне невинному времяпрепровождению. Накатывают, лижут берег мелкие волны. Девчоночий смех, обрывки разговоров и хруст гальки под ногами. Теплый, благоухающий морем ветерок. Хорошо.
Вава не прочь вернуться к жанру исповедальных размышлений. Во всяком случае, вводные предложения таковы. Жорика охватывает нетерпение. Хорошенького понемножку. Сколько он может здесь еще прокантоваться, от силы день, два, и то трам-тарарам обеспечен. Надо действовать. Расшевелить каким-то образом Регину. Но как? Разные цеплялочки, прибаутки — никакого внимания. Подобрал несколько камушков полегче и подбрасывает. Один шлепается на полотенце рядом с Вавой. Следующий точнехонько на плечо Регины. Еще один — на спину.
— Ваванька, — говорит она нежным, воркующим голосом, — уйми своего приставучего соседа. Он мне надоел.
Жорик радостно хохочет, Регина поднимается, берет свое полотенце, собираясь уйти, Жорик делает прыжок, добро бы из положения стоя, нет, как был, с земли, с энергией и ловкостью, которой позавидовал бы взаправдашний барс, и вытянутой рукой хватает ее за щиколотку, Регина как подкошенная падает. И новое чудо: непостижимым образом Жорик успевает извернуться так, что Регина на его руках, — мягко, сильно обнимает ее и с осторожною нежностью ставит на ноги.
Что с таким делать? Как на него сердиться, когда на любую резкость отвечает обескураживающим добродушием и, не обращая внимания, что его отвергают, продолжает свои ухаживания?
— Дамы устали, дамы не будут ужинать ни в санатории, ни в ресторане, — объясняет Регина потускневшему Жорику, когда спустя час, или сколько там, еще с пляжа-то никто не ушел, плеск и гам по-прежнему, они чинно, все вместе направляются к санаторию. Жорик, ухватив пляжные сумки, что, конечно, не слишком, как бы это выразиться, ему к лицу и не в его правилах, зато надежнее, нечто вроде залога в руках, Жорик и так и этак пытается уговорить, упросить, умолить провести вместе еще хоть четверть часика, на скамейке в парке посидеть, благо погода, воздух, закат! В Кисловодске дожди лили чуть не две недели кряду, и здесь, оказывается, не лучше, всего несколько деньков, как установилась. В горах тоже дожди и дождички. «Наверху снегу выпало! — восхищается Жорик. — С утра развиднеет — горы фатой белейшей запеленуты. К полудню начнут разоблачаться. Тоже зрелище распрекрасное: лавины, я имею в виду».
— Меня с недельку назад едва не ухватила… — хвастается он. — Участников водил на зачетное восхождение, склон плевый, градусов сорок всего, все ж таки решил сперва сам. Только к осыпи скальной вышел, а за спиной — ух! — склон поехал. Красотища!
Жорику является мысль, что горы для Регины — это и Сергей тоже. Куда лучше о погоде. Благодатная тема — фокусы с погодой. Немалые возможности для разнообразных, в том числе апокалипсического толка, рассуждений. На женщин это действует. И Жорик заспешил про озонный слой, издырявленный ракетами, про рукотворные моря и изменившийся режим рек. А там экскурсы в обозримое будущее. Ядерная опасность… Писано, говорено, никто всерьез не воспринимает. А он по побочным, сопутствующим, так сказать, явлениям ударил. Разошелся, только держись. Лишь по тому, как свободно ориентировалась Регина в устрашающих его сообщениях, догадался, что опять льет воду на чужую мельницу.
Однако, настойчивость или, как угодно было выразиться Регине, упрямство — добродетель. «Ура!» его упрямству! Не сразу, после немалых препирательств, клятвенных, никак не менее, обещаний не задерживать долго и в самом деле рассказать некие, имеющие к ней прямое отношение конфиденциальные новости (которые надо еще изобрести), Жорик остается с Региной в приятном уединении (Вава под благовидным предлогом удалилась) в цветнике, точнее в розарии, не слишком далеко, но и не так чтобы близко от корпуса, где вновь прибывшим отвели комнату.
Что сказать о первых минутах сего долгожданного тет-а-тет? Жорик было потерял свой счастливый дар нравиться, возбуждать любопытство, быть занимательным и галантным, оставаясь внешне почтительно-равнодушным, Жорик кипел, Жорик ликовал, предвкушая… Кто его знает, что он предвкушал, но только Регина окончательно и бесповоротно собралась распроститься и уйти, и… Жорик овладел собою. Язык, мимика и сами мысли подчинились выработанным правилам, он преобразился.
Не будем и пытаться передать нюансы тонко меняющегося стиля и направления их разговора. Так много потребовалось бы авторских усилий, что вряд ли хватило на все последующее. Заметим лишь, что Жорик мастерски, с глубочайшим пониманием женской психологии обрисовал трудности свои в горах, когда ежедневно, хуже — по нескольку раз на дню приходилось сталкиваться с Сергеем Невраевым. Как непросто подавлять бунт негодования, и, что же делать, зависти! Да, он завидует мучительно, не может не завидовать — Регина должна понять его. Искренне и чистосердечно искал он, в то же время страшась и негодуя, пытался найти привлекательные черты в муже Регины. Жаждал их, чтобы понять и смириться… Большего он не может, не хочет, не смеет высказать, восклицал Жорик, тонко схватывая настроение Регины и вполне ощущая границу, дальше которой опасно.
Признания Жорика отнюдь не выглядели беспринципным охаиванием либо возведением ложных наветов, то было лишь мнение человека разборчивого, критичного, имеющего в виду мерки высокие, соответствующие представлениям об избраннике такой женщины, как Регина.
Основная линия — эгоистичное отгораживание Сергея от всего, что может нарушить его покой, помешать заниматься тем, что по душе. С болью рассказал о девушке, с которой Сергей проводил время, — разбитная простушечка из Архангельска, увлеклась им, как видно, не на шутку; но вот случилась беда… Накануне был «вечер отдыха», Сергей вытанцовывал с нею и только с нею. Девица хоть и в теле, но легкая, послушная. Специально для них ставили записи, смотрели, восхищались… А на следующий день приносят бедняжку со скальных занятий — выбито плечо, ключица пополам, пальцы на руке поуродованы. И Сергей… При всем его, Жорином, желании ни в чем мужа Регины не обвинять — подобная черствость претит! Сергей не пожелал даже проводить несчастную девочку в больницу. Бледнела, краснела, в глазах слезы, когда прощались… На завтра было назначено тренировочное восхождение, совершенно ерундовый пупырь, сделали за полдня, но для него это было достаточной причиной: он не вправе, не имеет возможности и так далее. Сердце-то у человека должно быть или как?
Регина с ее болезненно чутким, как у большинства артистических натур, самолюбием, внимала ему, не оскорбляясь, покоренная грустным недоумением и обидой. Обидой на судьбу, что нелепым образом распоряжается человеческим счастьем. Он понимает: ничего поделать нельзя и соглашается с печальным порядком вещей, но он скорбит.
На Жорика снизошло лихое вдохновение. Мгновенно приспосабливается к меняющемуся настроению Регины, грустит вместе с нею и веселится, едва грусть сменяют насмешливость и здоровый юмор, в общем-то свойственные ей. Тогда его искрометные шутки, остроты — мертвого расшевелят. Новый виток — и дельные, претендующие на глубину соображения по поводу и без повода тоже, пожалуйста.
В некоторые моменты голос его становился бархатистым, появлялись приятные горловые обертоны, а вся повадка — на редкость мягкой и послушной, совершенно как у котика, который мурлычет, выгибая спину, и просится на колени. Именно котиком звала его в свое время одна из подружек. Впрочем, нет, зачем же о том, что было и быльем поросло? Точь-в-точь как у барса, бесстрашного и сильного снежного барса, ручного, разумеется, влюбленно ласкающегося к своей хозяйке.
А вечерние тени становились длиннее, гуще, кусты лавра позади скамейки, казалось, непроницаемой стеной отгораживали от остального мира, цикады оставили дневную неуверенность и гремели хорами, и аромат роз, мимолетный, относимый куда-то в сторону, настаивался в неподвижном воздухе, пьянил и лихорадил сознание. На сером предночном небе заиграли первые звезды.
Томление южного вечера, особенные, все менее многословные, приобретающие оттого большую значимость разговоры, как бы даже исподволь настраивали на доверительный меланхолический лад, когда и жаль чего-то, и тянешься, ищешь, как спасения, нежности, и веришь безотчетно, и ждешь. Пусть мир устроен не слишком удачно, полон угрозы и дурных предзнаменований, не мы тому причиной, и мы ничего не можем, разве только быть беспомощными участниками разыгрываемой драмы. Так хоть какую-то радость получить от того, что нас окружает, что еще дано видеть, обонять… И будем благодарны этому вечеру, кто знает, не последнему ли, и тишине, лишь острее подчеркиваемой музыкой цикад и дальним немешающим радио, еще незнаемому прежде мучительно-сладостному чувству, что дрожит в душе, но более всего тому, кто рядом, кто разделяет и наполняет этот благодатный, благоуханный час…
— …не буду, не буду, я только обниму тебя, — шепчет Жорик. — Ты не представляешь, сколько я мечтал быть вот так с тобой. Я сходил с ума, честное слово. Я без конца в Москве, в горах, воображал тебя, твое лицо, голос и как видел на сцене… Ты не думай, я теперь очень даже разбираюсь в балете, не то что раньше. И мне никогда не приходилось искать тебя на сцене — узнавал сразу, мгновенно, хоть все вы в одинаковых пачках, узнавал по посадке головы, свойственной одной тебе, гордой, независимой… и прекрасной. По необыкновенной завершенности движений. Да ты знаешь. Знаешь, конечно. Поворот головы… когда появилась на трапе… самолета, — вернулся Жорик к настоящему времени, ибо лишь оно действительно его интересовало. Не воспоминаниями же он приехал сюда заниматься.
— Эти осторожные и точные шажки по-балетному развернутых студней… Каждый шаг по сердцу моему! — ударился нечаянно в поэзию. И нахохлился, надулся. Потому что, или так показалось ему, ощутил некое движение, взмах ресниц, явно не соответствующие моменту, а как бы даже наоборот — результат подавляемого раздражения, не то насмешки. — Ты постоянно отворачиваешься от меня, не хочешь смотреть. И сейчас, и раньше. Ты спускалась по трапу, я стоял рядом в метре-двух, скользнула взглядом, будто какой-нибудь, не знаю, дед Мазай перед тобой, я даже не понял, узнала ты меня? Прости, я все это говорю…
Дальше и вовсе вопреки своим великолепно разработанным и отлаженным теориям, как если бы был совершенно уверен, что признания его уместны, их ждут и чего ради молчать, когда переполнен и жаждет раскрыться, — на искренность перешел.
— Наболело. Стало как болезнь, как опухоль, которая сдавливает мне сердце, и я ничего не способен более чувствовать, ничем жить, кроме своей невыносимой, сумасшедшей любви. Я потерял счет дням, месяцам, эта пытка, эта радость… Бывало, стою у театра, — заранее приезжал, зная все спектакли, где ты танцуешь, с утра радостно ждал часа, когда можно ехать, — и вот ты выходила… Помню, как-то взял и спрятался: пусть думает, будто нет меня. Ты появилась из подъезда, не видя меня на привычном месте, обвела медленным взглядом роившихся хлыщей всех возрастов и рангов, — я не утерпел, выскочил из-за «газона», в который грузили почему-то здоровущие молочные бидоны… Ты тотчас отвернулась. Но я был счастлив. Был взбудоражен, воодушевлен: не хочешь смотреть, не хочешь ответить на мое смиренное «добрый вечер», а все равно замечаешь, что я есть, существую на белом свете. Замечаешь!
Знал Жорик, проверял в товарищеских обсуждениях, не раз убеждался на практике: быть правдивым — да ничего нет глупее, и, поддавшись моменту, спешке, уверенный, что Регина исключение, никакие уловки с нею неуместны, шпарил ничтоже сумняшеся, что летело на язык. (Легко касаясь в то же время рукой ее плеча, чуть перебирая пальцами, чувствуя прохладную гладь ее кожи и сильнее волнуясь).
— В другой раз ты демонстративно чмокнула в щеку какую-то матрону поперек себя толще и под ее охраной ринулась к метро. Я как потерянный семенил в десяти шагах, не в состоянии повернуться и уйти. И всякий раз ты делала так, что мои надежды рушились. Но то крохотное, едва уловимое, что существовало между нами, не умирало. Оно разрасталось, мучило меня, восхищало, доводило до неистовства! Готов был врезаться во встречную машину, в фонарный столб…
У него пересохло в горле, не говоря уже, что дрожмя дрожит, но — и это главное — крепнет уверенность, что ее отпор, глухое, враждебное нежелание откликнуться на его призыв — всего лишь дамские штучки. Не отступаться ни в коем случае, жать, жать… И все-таки минутами сомнения находят, едва не отчаяние. И пустота без будущего, без настоящего близко подступает вдруг.
— Хочешь, убью кого-нибудь? Кто сделал тебе худое. Хочешь, сейчас махну в Москву, или где он, тот человек? А не то… сам себя. В горах возможности в этом плане на любой вкус. — Он смеется. Коротким вздрагивающим смехом. Над собой ли, что докатился до подобных признаний, над мнимой нелепостью своих угроз, а не то и над нею: не желает или не умеет видеть дальше собственного носа. — Только мигни, скажи слово. Должно быть, приятно знать, что человек покончил с собой из-за тебя! — саркастически продолжает он. И останавливается. — Я гордый, и я забыл о своей гордости, отбросил ее. Но она болит. Ее нет, а болит, как нога, которую ампутировали.
(Черт знает почему, но какое-то отчаяние снова зреет в нем. Откуда? Никаких причин, и поди же!..)
— Или всю кровь, не стакан, не литр, целиком, сколько есть, отдам какому-нибудь идиоту, влетевшему в автомобильную катастрофу. Сердце тоже — инфарктнику, собравшемуся окочуриться. Понимаешь, мне ничто не интересно, не нужно, не важно, я ничем не дорожу, ничего в моей жизни нет, что было бы ценно само по себе, без тебя. Наука — просто дело, которым занимался, надо же как-то проводить время. С тем же успехом складывал бы из кирпичиков стены или писал газетные статейки, вроде нашего одного, да ты знаешь. Альпинизм, я приметил, тебя раздражает, подумаешь, альпинизм! Не хотел отстать от других, уступить хоть в чем-то твоему дражайшему супругу.
Притягивает ее к себе; она, сама не замечая того, поддается.
— И ведь не месяц, не два — третий год маюсь, строю планы, стремлюсь… — едва не кричит Жорик, забыв о всякой осторожности. К счастью, поблизости никого. Отбой был, порядки в санатории строгие, отдыхающие давно разошлись по своим комнатам. — Как же я ему завидовал! — За взлетами следуют падения: вдруг уйдет? Жорик обращается к своей второй натуре, становясь ласковым и послушным, разве что нетерпение мешает. — Помню, сперва даже симпатичен мне был, когда познакомились, прошлый год в горах. Как бы твоя вещь, что-то, что тебе нужно, ну, как… Неважно, что, — оборвал он себя. — И как же теперь… Думать о нем не могу спокойно. Так бы, кажется…
— Ты не смеешь! Скажите, выискался! — вспыхнула Регина и отстранилась от него, словно очнувшись от дремотной какой-то истомы, в которую погружалась то ли под влиянием Жориного темпераментного журчания, то ли благодаря не мучающим больше, но успокаивающим размышлениям о Сереже: все правильно, так и следует себя держать, потому что Сергей, Сергей… бессовестно равнодушен, не желает ни заботиться, ни тревожиться, ни думать о ней… — Мой муж — это мой муж! — резко выговаривает она. — Никакого тебе не должно быть дела, какой он, что и почему. — Она пытается встать со скамейки.
Он, собрав все чувство свое, все умение, волю, ярость, еще — немыслимость того, чтобы она ушла сейчас вот так, оставив его ни с чем, — частит, жадно и осторожно удерживая ее:
— Не могу не видеть тебя. Схожу с ума без тебя. Это выше меня, выше моих возможностей жить дальше, если ты сейчас уйдешь. Не уходи. Подожди хоть сколько-то. Ну, не бойся. (Когда Регина опять отстраняется и сдергивает его руку со своей талии.) Я не опасен. Понимаешь, я как овца — делай со мной, что тебе угодно. На шашлык можешь меня пустить…
— Какой из тебя шашлык? — ухватилась она за мелькнувшую возможность перевести в шутку его исступление, пугающее и льстящее ей. — Вымачивать тебя надо в проточной воде. Слишком много перца и уксуса. Вот если на ветерке подвесить, чтобы завялился? Вяленый Жорик… в качестве закуски. Сережа как-то оленину вяленую привез, вкуснота! — с невинным коварством прибавляет она. И поднимается.
Жорик не дает ей ускользнуть в открывшуюся лазейку:
— Я твой раб, твой слуга, готовый исполнить любое твое приказание, только не уходи. Заклинаю, сядь. Посади со мной. Только бы чувствовать, что ты здесь. Рядом!.. Что я живу. Я ничего не буду, даю слово. Я ручной. Я буду сидеть тихо-тихо. Еще совсем не поздно. Что ж, что не слышно голосов. Мои часы? Они идиотские, на них ничего не понять, они сломались, — мчит он горячечной скороговоркой, в которой и уязвленное самолюбие, и в самом деле глубоко и полно захватившее его чувство — все перемешано, перетасовано без начал и концов.
Раньше, с другими, изображал, когда поудачнее, понатуральнее, когда похуже, разные страсти-мордасти, и порядок. Как нельзя лучше удавалась игра в любовь. Тут схожая ситуация, те же примерно слова с той лишь разницей, что все настоящее, без дураков, и — вот она, ирония судьбы — необходимого контакта нет. Не получается, хоть ты что!
А Регина устала. Болтушка Вава так и не дала днем отдохнуть: о том, о сем, о Жорике разнесчастном, что пропадает и как до сих пор никто не прибрал его к рукам. Очень мило, но при чем тут она, Регина? Не ее забота. Уж кто-кто, а Жорик за себя постоит, уверена. Влюбился, видите ли. А она виновата! В чем можно ее упрекнуть? Гуляли бы втроем, съездили бы на Рицу, еще куда-нибудь. Без него будет скучно. В Кисловодске все какие-то упыри, только о своих болезнях и нудили. Конечно, Жорик занятен (она еще послушала его монолог), но время… Уговорились с Вавой ложиться не позднее одиннадцати.
Тем не менее, а может, тем более Регина остается. Усаживается плотнее на скамейке, закидывает ногу за ногу, на мгновение съеживается от его ищущей руки, охватившей ее, и слушает сумасбродные признания.
Жорик старается. Только голос подводит, впрочем, хрипотца в стиле Высоцкого — не так уж и плохо. Что греха таить, Регине любопытно происходящее. Видеть себя объектом столь пылкого усердия и обременительно, и некоторым образом увлекательно тоже. Прелесть — эти откровения, голос, руки, которые вздрагивают, прикасаясь к ней. Сергей, даже сделав предложение и на правах жениха бывая у них в доме, вместе того, чтобы добиваться и воспламенять, ждал, наверное, что она сама, первая захочет целоваться? Она никогда не чувствовала себя по-настоящему женщиной, которой поклоняются, которую боготворят. Разве только в театре. Вава отчасти права. Да ну, не отчасти, целиком права. Вава много чего повидала на своем веку. Ее восторги в адрес Жорика, конечно, аффектированы, как, впрочем, любые ее восторги. Но в какой-то степени она помогла Регине раскрыть в себе такое, о чем лишь Смутно догадывалась. И это прежде всего внутренняя неудовлетворенность. Да, неудовлетворенность.
Вечные нелады, вечные притязания Сергея, перебирает Регина свои обиды. Живет какой-то непонятной жизнью. Придумал занятие, тоже мне. Кто он такой, чтобы поучать? Где-то, видите ли, лес вырубили. У нас лесов!.. Верно Вава говорит, все равно вырубят, захотят и вырубят. А тому, кто мешает, известно что. Когда его самого объегорили, будто последнего дурачка, тогда и следовало докладные писать. А он?.. Донкихотство и глупейший эгоизм.
Счастье еще, что Вава путевки раздобыла, не то киснуть в каком-нибудь Клязьминском пансионате. И он же, он, видите ли, чем-то недоволен. Последнее письмо — сплошные упреки. Вместо того, чтобы приехать сюда… Заслужить себе прощение… Хоть раз она вела себя действительно дурно? Даже сейчас…
…Приятно, когда тебя так любят, словно в отместку, констатирует Регина, отражая очередную попытку Жорика поцеловать ее. Приятно приносить другому столько волнения и видеть свою власть. Только Жорик чересчур. Можно ли столь неприкрыто домогаться? Она жена другого и не должна себе позволить ни на йоту больше. Интересно, солгал Жорик про архангельскую простушку или не солгал? (Впервые, кажется, то есть нет-нет, категорически нет, не в том вовсе смысле, и все же нечто похожее на намерение насолить Сергею испытывает Регина. И одновременно — что за нелепица! — в непостижимой глубине рождается тоже отнюдь не желание, только мысль, умозрительное предположение: а если бы это был Сережа, если бы именно он шептал ей сейчас о любви?..)
— Слушай, прекрати! Что это такое? Ты и вправду с ума сошел! — Регина высвобождается от липнущих Жориных рук и встает со скамьи. — Ты забылся, милый мой, — выговаривает она ему. — Позволь тебе что-то, ты уже невесть что готов вообразить — Волосы ее растрепаны, вид, наверное, ужасный. Хорошо, хоть темнота, глаз коли.
— Отпусти сейчас же! Я закричу, имей в виду…
Угрозы лишь сильнее раззадоривают Жорика. Схватывает ее на руки и, хотя она честно пробует вырваться, продирается с нею на руках через заросли — жесткие листья и ветки царапают ее ноги, задевают лицо — и валится, не выпуская ее, на землю. С ничем не сдерживаемой алчностью он ищет ее губы. Целует в шею, путающимися, вздрагивающими пальцами пытается расстегнуть платье.
Она близко различает обезумевшие глаза его, слышит горячее, прерывистое дыхание, ею овладевает ужас, от которого едва не лишается чувств. Тычет в потный волосатые плечи своими слабыми кулачками. Он даже не думает защищаться, только прижимается к ней и целует жадно, сильно, не давая дышать.
Чувствует его руки, шарящие по ее телу и охватывающие ее, причиняя ей боль и еще что-то, от чего мутнеет в голове. Чуть отстранившись, он пытается совсем раздеть ее. Используя момент, как ящерица, извиваясь всем своим гибким, легким телом, она ускользает от него среди кустов лавра и олеандра. Еще немного, и она вскочит на ноги… Но он своим гнусным приемом успевает поймать, дергает к себе и падает на ее ноги. Целует колени, пробирается губами по мерцающему млечной белизной бедру и снова на секунду ослабляет свою хватку.
И тогда, напружинившись и подобрав одну ногу, она с силой, удесятеренной страхом и возмущением, бьет каблуком ему в лицо. И, проворно поднявшись, убегает.
Жора не сразу в состоянии сообразить, что произошло. Он ошеломлен этим ударом, нос его разбит, верхняя губа превращена во что-то противно расползающееся под пальцами, передние зубы качаются и вовсю хлещет кровь. Он весь дрожит от непрошедшего вожделения, понемногу, трудно приходит в себя. Ему дьявольски стыдно и обидно. Душит злоба. Зачем он поспешил? А-а, черт! Дьявол! Еще бы полчасика… А не то ночью залез бы к ней в номер. Подумаешь, третий этаж, балконы на каждом, запросто. Вава бы куда-нибудь умотала иди сделала вид, что дрыхнет. А-а, дьявол! Полчасика, и кто знает, да и знать нечего, она сама начинала балдеть — видно же!..
Будь неладна его торопливость и что поддался до такой степени чувству. Осатанел!.. Добиваться надо играючи, с шуточками, давая ей и себе роздых, и ни в коем случае не испугать. Ах ты, ах ты!
Лицо его в крови, разбитая губа пухнет, превращаясь в котлету какую-то. Нос тоже, черт бы его побрал. Жора ложится на спину, чтобы унялась кровь, скребет руками теплую, рыхлую землю и едва не плачет от разочарования и злости. Уверен: завтра же она напишет Сергею. И выставит его в самом смешном виде. Напишет, что избила. Быть избитым женщиной, мало того — балериной!.. Он стонет, с отвращением ощущая, что даже сжать зубы не в состоянии: верхние два болтаются, цокают о соседние.
Долго он лежит среди мрачно чернеющих кустов лавра, смыкаясь поверху, они образуют своего рода беседку. Немногие звезды, заглядывая в этот уютный и элегичный уголок, словно подмигивают ему насмешливо, издевательски и злорадно. Ни о чем он уже не думает, не строит никаких планов, разве только, что через некоторое время надо выбраться отсюда, и к морю. Поплавать, смыть кровь, одежду привести в порядок и, что же, в больницу или медпункт — напали, мол, хулиганы, пусть швы наложат, и зубы, с зубами что-нибудь.
ГЛАВА 13
И вот словно не было того сокрушающего бурана, сверкающий день среди льдов, снега и скал. Над головой плотная синева и близкие кроткие облачка — барашки, пасущиеся в синих лугах. Тени их лениво плетутся через ледник, неожиданно быстро всплывают по кручам, подолгу задерживаются, отдыхая, на вершинах, нехотя скользят вниз и бредут себе дальше.
Горы радуются солнцу, теплу, покою после тревог снежной бури и, как если бы то был лишь дурной сон, который прошел, безмятежно и счастливо купаются в солнечных лучах. Все залито, залеплено, забито светом. Ослепительный, феерически праздничный свет съел полутона и оттенки. Снег и синева неба, синева теней, и ничего более в целом мире. А вскинешь на минуту защитные очки, присмотришься, сжав в щелку глаза, и сквозь слепящую яркость начинаешь различать: снег в тени не просто синий, тончайшие разливы лилового, теплые отсветы розового и золотого объединены в синем тоне. Теневые части скал, припорошенные снегом, насыщены массой оттенков и отблесков, они тонко лепят, мягко выявляют форму. На солнце же, рядом и повсюду — блеск, яркость и свет, свет. Отполированные сумасшедшим ветром до зеркального сияния фирн и лед; близкие и дальние выходы скал, кое-где уже обтаявшие на жарком солнце, курящиеся парком; и наконец, сама стена, величественная и неприступная стена, с резко обозначенными под наметенным снегом, словно на контрастно проявленном негативе, мельчайшими неровностями, щедро демонстрирующая их теперь, когда уже несколько часов четверо альпинистов пробиваются, дальше и дальше отходя от нее (шуршание, шипение вдруг, внезапные, тут же тающие облачка обозначают пути крохотных лавинок) — весь этот снежный и синий мир вибрирует, разгорается и пригасает и снова, вспыхивая, разгорается и пригасает в яростном, полуденном солнце.
Шероховатая поверхность скал ласкает пальцы, лужицы натекли на солнечной стороне, капель. Но едва вступаешь в тень, иная совсем картина. Снег и не думает таять, руки мерзнут, — надевай перчатки. А сколько приходится расчищать снег, покуда выищется подходящее место ногу поставить. Смотришь, вроде бы шик-блеск, а подобрался ближе, распихал снег — увы, не зацепишься, и с охранением непонятно как, где и каким образом налаживать. Через крюк? Трещин не видно, снег запорошил. Шлямбуром дыру бить? Прав Воронов, когда утром начал про трудности занесенной снегом стены, — если штурмовать, так минимум на сутки запастись терпением придется, дабы сошел основной снег, и навряд за сутки сойдет, стена-то на северо-восток смотрит, солнце только самый краешек трогает; а прогнозы, вон как с прогнозами… В общем, Воронов с присущей ему осторожностью и стремлением максимально исключить риск решил отказаться от стены.
Худо-бедно, а дело идет. С иным, конечно, напором, чем если бы стену штурмовали, а все-таки пробиваются, траверсируя в обход крутые, занесенные снегом скалы. Метр за метром остаются позади, метр за метром продвигаются кверху.
Сергей Невраев в какой-то степени рад, что так все повернулось. И как не радоваться, когда такая красотища кругом, такой завораживающий покой!.. Странно, но, казалось бы, совершенно неуместная исповедь Паши Кокарекина нет-нет возникает в памяти. Некоторое как бы утешение находит Сергей, пережевывая вчерашние Пашины сентенции. Одно непременное условие необходимо — чтобы Жора Бардошин не маячил перед глазами.
Тут еще — как подарок ему: обдутый, без снежинки участок льда между грядами скал — из чистейшего хрусталя отлит, а ударил слегка ледорубом — рубится отлично, ноздреватый, мягкий. Самая его, Невраева, стихия такой лед, крутой, опасный, но без коварства. У каждого альпиниста свои пристрастия: иного хлебом не корми, подавай ему отвесные скалы, другой день-деньской будет пробиваться где-нибудь на семи тысячах по пояс в снегу, и ничего, только покряхтывает, Сергею же люб крутяк ледяной. Никакого сосания под ложечкой и прочей чепухи. Напротив, бодрит, увлекает и отвлекает.
Вспыхивают осколки льда из-под ледоруба, несутся, звеня и подскакивая, вниз и где-то там, далеко, исчезают, сорвавшись незнамо куда. Рот часто и жадно хватает разреженный воздух — легкий, прозрачный, он пахнет снегом и солнцем. Мышцы, нервы — все до последней жилки в работе, трудной и желанной (желанной еще и потому, что отжимает и вытесняет всяческую скверну из мыслей, из сердца). В краткие минуты роздыха, пока поднимается по вырубленным тобою ступеням твой верный товарищ, ты, вполглаза следя за его манипуляциями и выбирая веревку, нет-нет посматриваешь вокруг, и снова вопреки недавним настроениям восхитительное чувство полноты жизни овладевает. Не хочешь, но живешь полной мерой, всякой секундой, каждым дыханием. И всякая секунда, раня красотой и неодолимостью бытия, неисчезающим отпечатком остается глубоко внутри. Ты словно бы навсегда, на веки вечные вырвался из глухих мрачных стен, за которыми позабыл, что существует такая ширь и ясность, и свободен, свободен! Слит с холодным и прекрасным миром и свободен…
Так чувствовал я «среди снега и скал», когда далеко позади оказывалась торопливая моя жизнь с опостылевшими суетными заботами и несбывшимися надеждами, а вокруг — первозданность, чистота, холод и незыблемость, которую невольно отождествляешь с верностью. Так же, разве только еще острее, трепетнее, невыразимее воспринимал горный пейзаж и себя в нем Сергей Невраев в те немногие минуты, когда удавалось отвлечься от своих, высасывающих душу сложностей. Впрочем, о том и идет наш рассказ, хоть и со многими пояснительными отступлениями и экивоками, и попытками как-то упростить в целях более ясного восприятия происходившее тогда между Сергеем и его спутниками.
Вдуматься: горы, сложное восхождение, требующее полного напряжения сил, душевных и физических, и его запутавшаяся любовь, сомнения, гордость, химеры, которые рождала сжигавшая его ревность, еще неудача или удача, откуда посмотреть, связанная с отказом Воронова штурмовать стену… Ведь, казалось бы, решился на ужасную свою месть, уже детали, подробности проносились во взлихорадоченном воображении. Гнал прочь любую иную вероятность, гнал, не позволяя себе думать, потому что не сомнения даже, но отвращение сторожило близко, не логика — но внутренний свет слепил. Утром… поднялись, только-только сереть начало небо, а ночью тишина, звезды; завтракали — Сергей, ни на кого не глядя, с гудящей головой, поглотал что-то, — принялись снимать лагерь, укладывать рюкзаки, распределять «слесарню», крючья там, карабины, прочую амуницию, необходимую для штурма стены; Воронов, до того момента вообще ни гугу о стене и восхождении, тысячу раз говорено-переговорено, поглядывал только, да и темно, толком не разглядеть, тут как-то между прочим, словно бы дело касалось, ну там банку сгущенки куда положить, подчеркнуто обычным, в меру скрипучим голосом изрек, к Жоре Бардошину обращаясь: крючья шлямбурные на дно рюкзака, не понадобятся. И в виде краткого пояснения добавил, что стена занесена снегом и отменяется. Так-таки просто отменяется, и они пойдут в обход.
Не хуже разорвавшейся бомбы на Сергея подействовало. Возмущение, негодование, горечь, а в глубине, неосознанная, взметнулась и тотчас же и пропала радость. Или нет: облегчение, радость потом. Но превыше всего бурное возмущение. Все те силы, что вели тайную войну против него или за — кто знает, — обратились в возмущение. Тогда-то и выдал себя. Ведь не он, но Бардошин быт самым ревностным приверженцем штурма стены, Бардошину стеночка более, чем кому-либо, требовалась, Бардошину, и пристало слова разные произносить, но он молчал и с прескверным любопытством взглядывал на разбушевавшегося Сергея.
— Ты что же, — не выдержал обвинений Воронов, — хочешь, чтобы я сказал «сорок веков смотрят на нас с высоты этой стены», — переиначил он, — и послал на верную гибель Бардошина? Пусть и первоклассный скалолаз, но и он не вытянет. И ты, тебя, допустим, в штурмовую двойку… В лучшем случае на угрызения. Горше которых… Врагу не пожелаю испытать их. — И оборвал, быть может, готовое вырваться признание. А жаль, оно-то, возможно, и расставило бы по местам. — Полноценное охранение разве организуешь? — продолжал не в объяснение уже, чего объяснять, и без того ясно и понятно, но вуалируя и уводя в сторону (так, по крайней мере, воспринял Сергей).
— Посмотри, как запорошена! Ни единой трещинки не углядишь. — И повел и повел про недостаточность их слесарного оборудования при сложившихся условиях, про время, потерянное из-за непогоды и так далее, методически и настырно выдавая общеизвестные истины.
Да, ударом неожиданным оказался для Сергея столь однозначно высказанный Вороновым приговор. Разумеется, следовало ожидать нечто в этом роде, но Сергей, повторяю, в плену переживаний и тайных помыслов, нервные силы целиком направлены на них, не просто было ему выйти из тягостной этой сосредоточенности. И вот — крушение и освобождение.
А там еще пунктик обозначился немаловажный — Павел Ревмирович, его реакция. Не за советом, само собой, обращался к нему Сергей Невраев в напряженнейшие эти минуты и не оценок себе искал, но настрой Пашин меняющийся пытался почувствовать. И вот вроде бы разочарован Павел Ревмирович и рад одновременно. Рад, безусловно рад, что стену побоку. А спустя время, когда вник поглубже, как-то весь сжался, скукожился, погрустнел, и обычная веселость, шутки-прибаутки, стремление поддразнить оставили его.
— Дай еще!
Сергей разжал пальцы, веревка заструилась. Паша скрылся за стеной. Веревка раскачивалась. И вытягивалась. Скалы несложные, Паша шел быстро. Потом веревка остановилась. Сергей выбрал излишек. Стоя на охранении, ждал своей очереди идти. Нога упирается в выступ каменный, другая слегка согнута; веревка перекинута через левое плечо, огибает правую руку, поднятую в сторону возможного рывка…
— Иди, охраняю! — донесся голос Кокарекина.
Скалы хорошие, обтаяли основательно, что значит, на юго-восток смотрят, с удобными захватами, частыми трещинами. Полки встречаются, расщелины. Солнце печет. Набегающие снизу, с ледника, волны холодного воздуха приятно освежают разгоряченное лицо, грудь сквозь распахнутый ворот штормовки.
Когда еще до бурана взбирались на гребень, Паша Кокарекин нет-нет, бывало, и зацепит Бардошина: «Мех подстриг бы на грудях, чего париться!» Нынче отворачивается, молчит, будто вовсе не замечает его. Воронов тоже выдержан, внимателен, терпелив. Словно и не было утренней сцены и перед тем нескончаемых суток борьбы с собой и с каждым из них.
— Дай веревку! Веревку еще!..
Не сразу и сообразил, к кому относится и о чем. Вдруг понял: веревка, что связывает с Пашей Кокарекиным, соскочила с плеча, пальцы теребят ее, перебирают… дальше, то есть метрах в двух выше над головой, веревка и вовсе заклинилась в узкой расщелине. Случись в эти мгновения Паше сорваться — не миновать несчастья. Сергей пустил сильную волну по веревке и высвободил из узкости, выдал сколько нужно, забросил себе на плечо, обернул через руку, огляделся. Связка Воронова уже много выше, не видно их. «Ходко идут», — подумал механически.
Опять веревка натянулась, Сергей отпустил, прикинул, сколько осталось. «Надо бы мне первому идти, — всколыхнулись привычные опасения. Сергей не слишком доверял другим, хотел все делать сам. — Крикнуть, чтобы остановился? — Удерживала боязнь обидеть Пашу. — Пускай еще пару веревок пройдет первым. Скалы несложные. Дальше?.. — Он прислушался. Доносились удары и звук забиваемого в трещину крюка. Неровный сперва, дребезжащий; затем тонкий и певучий. — Труднее дальше. Дальше я пойду».
Вокруг свет и воздух, океан воздуха. Простор, какого не сыщешь ни в степи, ни на море: во все стороны и вниз — в глубину. Горы широко и привольно высятся тут и там, волнами уходят в безбрежную даль. С каждым часом открываются новые. То вырастая из-за ближней вершины, то выдвигаясь сбоку. Одних приветствуешь как старых знакомцев. Другие впервые видишь воочию, дивишься неожиданным формам, узнаешь запомнившиеся по фотографиям черты. Небо… Не бывает оно таким, когда находишься внизу. Небо не только как-то по-новому красиво и лучезарно, оно поднимает, оно наполняет сто раз изведанным и всегда новым чувством…
Где-то тенькает капель.
Синие тени…
Незадолго перед ее отпуском, впрочем, тогда еще не было известно про отпуск, к гастролям готовилась, да неважно, важно то, что все у них как будто бы наладилось. Стоило заставить себя быть сдержаннее, не реагировать чересчур на разные ее фокусы, шпильки и постоянные опоздания, безразличие к хозяйственным заботам, о которых мама напоминает — согласен, согласен — в самое неурочное время, их постоянные с матерью столкновения да по любому пустячному поводу (что правда, то правда, все силы и нервные тоже сполна — театру), стоило не переживать так уж слишком и не воображать разные разности, — и воцарился мир, даже, пожалуй, давно не испытанная и оттого еще глубже захватывающая гармония.
В тот вечер с особенно радостным нетерпением ждал он ее. Страсть хотелось похвастаться. Не все же ей ронять ненароком, как нечто само собой разумеющееся про свои успехи, pas de trois в таком-то балете и grand pas de deux в таком-то и что позволили разучивать новую партию. Так вот, и на его улице праздник. Включили в сборник докладов его выступление, связанное с водным режимом Онеги, а если по сути, так резко противостоящее вдруг возникшей идее переброски вод Онеги на юг. Удовлетворение огромное.
Нарочно заехал в «Дары природы», и — о, счастье! — шампиньоны. Нажарил с луком, немного коньяку в соус — вкуснота! Мама — противница поздних ужинов (конечно, рекомендаций журнала «Здоровье»), так что все сам. Сыру натер, банку португальских сардин открыл и очень симпатично разукрасил тонко нарезанными кружочками лука. По дороге, в метро, прихватил букетик фиалок — скромны, конечно, тут его романтизм терпел фиаско, наталкиваясь на гордость.
Встречать к театру не поехал. Давно не ездил, хоть и хотелось, и трудно бывало с собой совладать. К тому же боялся разминуться. Придумывая шутливый нагоняй, ждал у накрытого стола. Хотелось есть. Часы пробили одиннадцать. Опаздывает, обещала к половине. Раскрыл книгу. Прислушиваясь к лифту, не останавливается ли на их площадке, пытался читать. Меньше и меньше понимая прочитанное. Часы пробили один раз — половина двенадцатого. Что за несчастное правило, сколько раз замечал: ждет если с нетерпением, ну там событие какое-нибудь, новость животрепещущая, скорее бы поделиться, да и просто соскучился очень, — непременно, обязательно опоздает. Как испытание устраивает его терпению и выдержке. Да, конечно, уверена: никуда не денется. Отчего не помучить, не заставить поволноваться — поклонники, льстивый, пустой треск, букеты… не чета его фиалкам. Мама что-то высказала. — буря оскорбленного достоинства в ответ. С тех пор мама ни звука, но воду в вазах не меняет, так что роскошные цветы в их доме не живут.
Ждал, невольно припоминая другие подобные вечера, и как, увидев ее, забывал и недовольство, и горечь, и обиду. Ждал, накаляясь негодованием, посылая на ее голову всевозможные кары… Но нет, во что бы то ни стало выдержать характер! Ни признака радости, когда придет. Бранить бесполезно, к тому же тотчас сама кинется обвинять, ну не опоздания, так другое что-нибудь. Нужно… дать, ей понять, что подобное отношение не-мыс-ли-мо! За полночь негромко щелкнул замок входной двери. (Как-то так случилось, что пропустил лифт.) Замер, чувствуя, что вопреки всем благим намерениям рад безмерно, а заготовленные в избытке колкие замечания или, что было бы куда значительнее, исполненное достоинства молчаливое неприятие подобного поведения — все отлетело, и он да просто, не в состоянии сидеть сложа руки, ну то есть с книгой в руках, изображая… бог знает, какую чушь и фальшь изображая. Сорвался с места, поспешил в прихожую.
Она стояла перед зеркалом и старательно подкрашивала губы…
Нагромождение каменных столбов и башен, пирамид и разорванных на куски поверженных стен — вот она, трудность номер один теперь, когда отказались штурмовать стену. Непонятно, что и как, и где удастся пройти, тем более едва ли не все кругом снегом укрыто. А если подтаял, там уже лед. Натечный лед на скалах — что угодно, но поменьше бы подобных сюрпризов. Одно утешение: дальше выход на гребень, честный, надежный… Пусть свои незадачи, и все-таки гребень.
…Не остатки ли бастионов с боевыми машикулями поверху угадываются там? А беспорядочно набросанные огромные глыбы среди башен? Не они ли служили кладкой некогда возвышавшихся здесь стен? Куда баальбекские квадры, приводящие в недоумение изобретательные головы.
Воображение рисует грандиозные батальные сцены, куски скал, летящие в воздухе, с тяжким грохотом скатывающиеся в пропасть. Трубоподобные вопли звериной ненависти, усилия циклопических мускулов… Потом тяжкие вздохи и предостерегающее клокотание уставшей терпеть Земли. И ее гнев, ее восстание на чад своих, нарушивших ее закон, и как, мешая недра с небом, восстанавливает первобытный хаос и гармонию.
Трещин почти не видно. Не везде удается забить крюк. Уступы, расщелины, годные, чтобы использовать для охранения, встречаются отнюдь не на каждом шагу, не говоря уже, что снегом основательно занесены. Скалы трудные. И очень хорошо.
«И отлично, — рассуждал Жора Бардошин. — Участочки встречаются — безо всяких скидок и накидок не уступят стене. Дурак я, утром малость того, подрастерялся. Вылез из палатки — Воронов, зануда, разбудил — темно, холодно, поглядел — ёмаё! — чистейший белый отвес! Наверху облачко прилепилось. То есть какой-нибудь двадцатиэтажный домик на улицах Москвы перед этой штуковиной — семечки. Там, пожалуйста, углы оконных проемов имеются, балконы, швы — зацепиться всегда можно; тут… Ни фига себе, думаю. А начали собираться, Воронов и выдал свое здоровое решение. Напрямую: опасно, ящиком пахнет. Доктор физмат наук, наперед просчитывать приучился. Но малость того, перестраховщик. От занудства. Но Серега!.. Что он все-таки задумал? Или рассчитывал, что я на стене откажусь сам, и тогда можно будет звонить повсюду, что Бардошин скис, Бардошина мандраж одолел. Сообразил про Регину, да с перебором. И очень хорошо. Замечательно, что я не признался, как оно было в натуре. А ведь совсем-совсем, еще бы немного и… на языке вертелось. Пускай попереживает. Ему полезно. Надо при случае еще поразжечь».
Жора Бардошин после своей лихой победы над Фросей, понемногу, казалось ему, освобождался от той истории. Только рассеченная губа кровянила. Из-за высоты скорее всего. На высоте любые царапины дают о себе знать. И зубы шатались. Но злоба на неудачу не оставляла его. Объектом ее оказывался Сергей.
«Ну и тип! До чего взбеленился, когда Воронов принял запасный вариант. Еще бы немного и — ей-ей — по шее родственничку своему съездил. Эх!.. Я бы ему тогда вложил ума…»
«В общем, я бы ее сделал, стену. Ну, не сразу, с места в карьер. Поспали бы еще часок-другой в палатке, подождали б, пока развиднеется как следует… Сейчас бы как славно со стеночкой любовь крутил!» — хвастался Жора Бардошин перед самим собой. И было с чего.
Техника скалолазания, несмотря на сравнительно небольшой опыт, прочно вошла в подсознание Жоры Бардошина, стала неотъемлемой его частью. Добрую роль сыграло юношеское увлечение акробатикой, ну и, конечно, привычка к риску. Никогда не знал травм серьезных, а то, что случалось с другими, не слишком задевало, сам себе казался неуязвимым. И со стороны нервов — полный ажур. Еще, такая уж счастливая особенность организма, быстро, без внутреннего сопротивления приспосабливается к новому виду деятельности, ищет новизны и радуется ей.
Шофер, ведя машину по крученой разбитой дороге где-нибудь в горах, вовсе не думает, какие педали и рычаги в какой последовательности и как нажимать: глаза видят, руки, ноги действуют. Если бы, встречая препятствие, шофер пытался вспомнить и сообразить, что нажимать и насколько — не миновать ему аварии. Так и с Жорой.
Где, обхватив едва заметный выступ, прильнув, присосавшись к нему грудью, животом, бедрами и медленно перетекая червеобразными движениями; где, расперевшись спиной и ногами (рюкзак, разумеется, на веревке после), и, словно играючи, выжимая себя полусогнутыми ногами; где, просунув ладонь в трещину, сжавши пальцы в кулак и заклинив руку, подтягивал себя на этой руке; где, оседлав чуть выраженный конек, выталкиваясь коленями, — полз Жора, карабкался, взбирался по хитрым, трудным, конечно же, ненамного легче, чем стена, скалам. А уж снегом куда больше засыпаны.
Стальные пальцы — недаром товарищи морщились от его рукопожатий — впивались в камень, не оторвать! Ноги, не зная усталости, выталкивали и несли тяжесть тела. Руки и ноги и все мускулы, сообразуясь с беспрестанно меняющимися условиями, тонко отвечая им, а вместе с тем будто сами собой, бездумно, незатруднительно (так легки, быстры и непосредственны его реакции) совершали чеканно точные и сложные движения, и именно те, что остро необходимы.
Стороннему наблюдателю, окажись такой поблизости, представилось бы, верно, что Жора движется вообще без усилий или, похоже, проходил уже здесь, настолько уверенно и быстро, без пустых попыток и робких возвращений идет он — какое! — скользит легко и свободно по едва ли не отвесным, каверзным скалам. Не разглядеть снизу градины пота, что скатываются по лицу. Не услышать, с каким шумом хватает ощеренным ртом воздух. Сторонний наблюдатель, закинув голову, удивленно отметил бы: «Никогда не представлял, что скалолазание такая простая и легкая штука».
В одном месте пришлось вернуться: правильный поначалу лаз завел на отрицательный уклон, не подвешивать же стремена! Беда невелика, нашелся другой путь. И опять споро, и уверенно, и удачливо пробивается Жора. Воронов с его пристрастием к соблюдению всех правил и приемов едва поспевает за ним. И что занятно: нет чтобы нетерпеливое стремление скорее выйти на гребень и покончить с трудным лазанием руководило Бардошиным; нет чтобы понаслаждаться делом, которое идет мало сказать успешно — блистательно, артистично! Огромное, захватывающее, хотя и скрытое удовольствие доставляла Жоре Бардошину мысль, как Сергей, видя великолепное его скалолазание, поджаривается на раздутых своими же стараниями угольях зависти и разочарования. Пусть, пусть его. Пусть! И пусть наперед знает свой порядковый номер. Неудачник — всегда неудачник!
«Жаль, не в одной связке мы, я бы его помотал. На зубах, а залез и по отрицательной, только бы посмотреть, как он будет болтаться на веревке и руками размахивать. Жаль, надо бы в одной, как на стене предполагалось. То-то бы славно: Паша Кокарекин с Вороновым, а Серега со мной. Да еще вперед бы его! Как же, более опытный товарищ. Пусть прокладывает маршрут!»
А внизу, близко и глубоко, в пене снегов острые клыки скал. — Хо-хо! Ловите! — Столкнутый камень повисает в воздухе — так долго летит. Цокнул, ударившись где-то, метнулся в сторону, словно отброшенный невидимой рукой. И опять, и еще… — Цок, цок… Бух! Бух-ух-ух!.. Шшшшшш… — загрохотал глубоко внизу камнепад. Эхо с готовностью подхватило его грохот и, усиливая и перебрасывая от склона к склону, заиграло.
Воронов, за ним Сергей с Пашей Кокарекиным почти не отставали от гнавшего что было духу вверх и вперед Жоры Бардошина. Идти по подготовленному, с надежным, большею частью верхним охранением даже на весьма непростых участках куда легче, нежели самому прокладывать путь, и это отчасти уравнивало во времени с прытью Жоры. Отчасти, потому что связка, Невраев — Кокарекин все-таки отставала. Идя последним, Павел Ревмирович принужден выбивать крючья, мешкотное занятие. Время от времени Сергей выпускал его вперед, но Воронов, не желая задерживать своего ведущего, неохотно соглашался подстраховывать Пашу. Паше приходилось самому лезть от крюка к крюку, что не слишком ловко у него получалось.
…«Держи-и-и!» — зловещее, не человеком выкрикнутое слово взорвалось в ушах. И — тишина, наполненная боем собственного сердца.
Глаза Сергея метнулись на крик, пальцы плотно охватили веревку, все существо его пружинно изготовилось к рывку, мучительно отсчитывая мгновенья. Паша — раскинув руки, весь в воздухе — падал. Сергей как раз собирался крикнуть, чтобы поторапливался. И вот — запрокинувшись назад, хватая руками пустой воздух, падал. Рывок. Хлопающий удар (головой, рюкзаком?), шипение стравливаемой веревки. Еще удары. Цоканье камней…
И это все — с тобой. Это ты сорвался и стремительно падаешь в пасть бездны. Это ты! С тобой случилось. Потому спазм отвратительный сводит горло, не дает слово произнести. Ты смотришь, стискивая обожженными пальцами веревку, и не веришь: жив товарищ. Двигается! Вон елозит по уступу, стараясь подальше убраться от края. Живой! Молодец, Пашуня! Браво, сукин ты сын!
— Как там? Очень разбился? — доносится сверху сильнейший вороновский скрип. — Тебе видно, Сережа? Благополучен? Пусть на крюк перестегнется ближайший. Есть там поблизости? — Спустя минуту, в которую так никто ему и не ответил: — Помощь требуется? Спуститься мне? Я не вижу отсюда.
А Сергей по-прежнему: одна нога полностью выпрямлена, другая согнута, лицом повернут к Паше, и туда же, только вверх, к верхнему крюку тянется оранжевая альпинистская веревка, подрагивая, как тетива.
Штормовка на спине Сергея задралась, открыв голое тело. Веревки осталось всего ничего: порядочно стравил. Но это все ерунда, и ушибы Пашины ерунда — если только ушибы — и обожженная веревкой кожа на руке.
— Хорошо сработано, Сергей! — констатирует Воронов без малейшей аффектации, с обычной степенью скрипа в голосе. — Правильно действовал. За исключением… Что у тебя с рукой? Рукавица где? Снял? Ну-ну, впредь наука.
А было так. Связка Воронов — Бардошин ушла значительно вперед. Сергею с Пашей приходилось поторапливаться, иначе первая связка могла оказаться точно над их головами, Воронов заставил бы пережидать — нельзя же двигаться друг под другом — и уж раззуделся бы на законном основании. Сергей энергично прошел почти на всю длину веревки, ближе не было места для охранения, дождался Пашу, выпустил его вперед (площадка мала, чтобы принять еще одного). Паша Кокарекин оказался без верхнего охранения, почти в положении первопроходца (если бы не крюки, забитые Жорой довольно редко). Несколькими метрами выше обозначился небольшой уступ. Решил добраться до него. Крутая, хотя и короткая стенка, и ни трещинки, ни зацепа. Снег, а не то изморозь делали ее скользкой. Заглянул за перегиб справа, и вроде бы показалось ему, получше там, не столь круто, и расщелина отличная виднелась. Хотел крикнуть Сергею, что рюкзак, может, потом на веревке вытянуть? И постеснялся. Сергей следил за ним молча. Когда Паша начал уходить за угол, тоже ни слова.
Паша как-то очень быстро устал. Одолевая усталость, цеплялся за мелкие неровности, выбоины в камне, полегоньку траверсировал вправо. Прощелкнул веревку через карабин на лепестковом крюке, забитом в еле различимую волосяную трещину, — подивился, что же Воронов, как проглядел такое легкомыслие? Полз, корячился, лишь бы на десяток еще сантиметров приблизиться к расщелине. Она хорошо видна, хотя все еще несколько в стороне, просторная, удобная. Там он передохнет, дождется Сергея.
Подтянувшись на пальцах, Паша вслепую возил ботинками по скользкому камню, не находя, на что опереться. Мышцы сводило, и, что самое противное, начало трясти. Сперва ноги, потом всего. Отведя голову, поглядел вниз. Внизу было очень пусто. Скальные зубцы и в мглистой глубине — ледник. Глубина эта и зубцы словно гипнотизируют его. Он чувствует их алчное нетерпение, и, не выдержав, отводит взгляд. Опять перед глазами камень, припорошенный снегом, кое-где в ледяных потеках. Камень впереди, камень сверху, с боков. До спасительной расщелины немногим более метра. Но он не в состоянии преодолеть и четверти этого расстояния — совершенно гладкая, скользкая стена. Ноги, руки, все тело отвратительно трясет. Крикнуть? Что толку!
Так, распятый на почти отвесной скале, он удерживался, не понимая, что делать дальше, как подтянуться к расщелине или спуститься; ничего не понимая и не зная, удерживался сведенными болью и ужасом трясущимися руками; удерживался и когда почувствовал, что нет больше ни дыхания, ни сил; удерживался, удерживался, пока скала сама не начала отходить от него и он понял, что валится навзничь. Закричал, в уме продолжая цепляться за скалу, за последнюю опору на свете, и в памяти скользнуло: оттолкнуться, отпрыгнуть, чтобы не на голову падать…
Паша пролетел, вырвав первый слабо державший крюк; на втором же, лепестковом — рывок, который притянул и с маху ударил о скалу. Каской, кажется, потому что оглоушило, а может, потерял сознание.
Но уже через несколько коротких секунд — время, в которое его бесчувственное тело проскальзывало по скале, отлетало и, притягиваемое веревкой, наподобие маятника, ударялось снова, а веревка неслась вдоль спины и через руки Сергея, и Сергей гасил бешеный ее потяг, гасил, задерживая, прихватывая веревку кричащими от боли пальцами, гасил, тело Паши падало уже медленнее, цеплялось о разные выступы и все более замедляло падение, пока не свалилось на неширокий уступ, задержалось было на краю и, проскользив еще сколько-то, повисло, раскачиваясь, — после этих долгих и стремительных секунд Паша пришел в себя. Избитый, если не поуродованный, взобрался на уступ, с которого только что соскользнул. И замер, прижимаясь спиной к скале. Словно стараясь уйти, втиснуться в нее. Не чувствуя боли и ничего толком не понимая.
Чудесная ровная тишина, в которой никто не падает и все снова живы!
Радостное удовлетворение затопляет Сергея. Давно не испытывал ничего подобного, разве что когда удалось окоротить леспромхозовских деятелей; совсем, помнится, собирался отбой трубить и подфортунило. Заодно, пока они там в головах чесали, добился включения в план лесовосстановительных мероприятий. Но сейчас — другое. Куда полнее, пронзительнее довольство собой. А еще почти любовное чувство к Паше. К Павлу Ревмировичу. Вот он, живехонек, Паша, возится со своим рюкзаком. (В глазах снова, теперь уже призраком, проносится его беспомощное тело. Это так просто. Хотя в реальность до конца не веришь.)
— Это… — Паша роется в рюкзаке, перекладывает что-то. — Как его…
«Индивидуальный пакет ищет», — решает Сергей. И спускается к Паше.
— Сейчас я тебе помогу. У меня снаружи в кармане. — Сергей высвобождается из рюкзачных лямок.
— Да нет, варенье… — заикаясь старается объяснить Паша. — Варенье, наверное, разбилось. — Вытаскивает из глубины рюкзака действительно разбившуюся банку варенья в полиэтиленовом пакете. Пакет тоже прорвался, и темно-фиолетовое варенье капает из него. — Хотел на вершине угостить. Светлана Максимовна… Из лесной черники, с травами разными. День рождения…
Голос Воронова:
— Что у вас там? Цел Кокарекин и может идти, надо поторапливаться. Нечего время по пустякам терять.
Сергей вдвинулся плечом в вертикальную узкость, смотрит на Пашу, слегка подмигивая ему, хоть и не видно из-за темных стекол, и улыбается. Достал тюбик с ланолином. Смазал ссадины на Пашином лице и свои руки тоже.
— Что? Может, в самом деле двинемся?
— Подожди.
Паша сидел, забившись в углубление, подальше от края. Губы подергивались, кровоточила ободранная скула. Он как-то обмяк весь. Клапан с кармана оторван, на каске основательная вмятина; рюкзак перемазан вареньем, — вот, пожалуй, и все потери, не считая ушибов и ссадин. Ну да тело заплывчато, память забывчива. Тело и вправду зарастает быстро, а вот с памятью…
— Что, пробирает? — посмеивается вверху Жора Бардошин. Ему не терпится лезть дальше, но дальше, если по наклонной полочке, так навальчик камней, заденет какой — вполне возможно, что шандарахнет в тех, что развлекаются внизу на уступе. Жора приглядел другой вариант, влево, но посложнее, и Воронов ни в какую. «Дух коллективизма обуял Воронова», — ухмыляется Жора. Подумаешь, поболтался немножко Кокарекин в воздухе, нет, должны ждать, покуда полностью оклемается, чтобы, значит, всем хором, смело, товарищи, в ногу.
— Я маленечко сорвался, сейчас Пашка, — рассуждает Жора. — Третьему не миновать. Чья очередь? Пусть готовится. Эй, Пашок! Скоро ты?
Сергею вспомнилось, как в первый год занятий альпинизмом, еще студентом, провалился в трещину на леднике. Неглубоко, задержала снежная пробка. Все очень удачно, через считанные минуты его вытащили, и тоже никаких повреждений, ни даже ушибов. Но когда очутился наверху, среди своих, поразило, что все по-прежнему, ничто вокруг не изменилось. Горы и занесенная мокнущим снегом гладь ледника, легкий ветерок — как до падения в трещину, и совсем такими же оставались ребята и девушки, окружившие его, разве только физиономии оживленно-тревожные. Совсем так же светило солнце, накатывался, освежая, ветерок и высились горы все такие же величественные, холодные, ясные, как несколько минут назад, когда он шел, увязая в разбрякшем снегу, и впереди мерно покачивалась спина инструктора, желая сократить (инструктор обошел пятно более светлого снега), шагнул напрямик и внезапно оказался один в темноте. Лишь его испуганное дыхание и синее полымя неба в пробитой им дыре. Он в эти несколько секунд пережил нечто, о чем не расскажешь, живописуя любые подробности падения. Вывод? Пожалуйста. Гулкая тишина трещины пригасила наивную веру в беспредельность собственного бытия, и в обрадовавшуюся пустоту не пришло еще ничего другого.
Старательно маскируя свое состояние, шел Сергей в цепочке людей, от которых чувствовал себя бесконечно отделением своим новым знанием, шел, чужой всему. Ночью воображение с въедливой натуральностью заставляло вновь и вновь переживать падение. И — как если бы спасительной снежной пробки не было и не было веревки, что так мешала при ходьбе и благодаря которой его вытащили в две минуты, — зеленая глубина головокружительно разверзалась, он падал, падал…
В том первом его сезоне ледники нагоняли острое нервное напряжение. Повсюду чудились трещины. Чуть иного оттенка снег, ступаешь, и кажется — сейчас, вот сейчас…
Это вспомнил Сергей, глядя, как Паша подвинулся было к краю, заглянул вниз и прижался к скале опять, вспомнил и мысленно произнес словно некое заклинание обет, едва ли не символ веры, произнес горячо, страстно, как никогда не решился бы вслух: «Великое дело — помочь человеку в страшную его минуту!.. — И все-таки поспешил низвести ближе к действительности, к насущным, так сказать, заботам. — Великое дело — страховочная веревка!»
— Эх, не успел сфотографировать! — веселился Жора Бардошин. — Классная фотография получилась бы. Специально для альбома Нахал Нахалыча. «На данном снимке, дорогие товарищи, наш выдающийся альпинист, Павел Ревмирович Кокарекин совершает разработанный лично им способ спуска «на спине по воздуху».
«Бардошину что, — подумал Сергей, — чужая беда не беда. У африканцев поговорка есть, он же и приводил: чем выше взбирается обезьяна на дерево, тем больше видна ее задница».
Воронов протирал очки замшей. Неровные, торопливые движения. Само занятие, такое мирное, житейское, не от мелькнувшей близко беды, выдавало тем не менее трудное, долго сдерживаемое смятение. Очень близорукие глаза полны не то что мягкости — беззащитности даже. И весь он в эти минуты был ненападающий, непротиворечащий) не стремящийся ни к какому диктату… Но таким его могли видеть только горы.
— Паша, ты как? Не пора ли? — Он надел очки, опустил защитные фильтры и превратился в обычного Воронова. Сильного, цельного, без единого изъяна. — Будем подниматься? — повторил свой вопрос.
— Сейчас. Погоди немножко.
— Ты скажи толком, что у тебя?
Кокарекин отвечал, что все в порядке. Нога чуть-чуть…
— Помощь требуется?
— Нет, нет. Не надо. Я сейчас.
— Скис окончательно, — не унимался Бардошин. — Долго собираешься отдыхать?
— Жора, прекрати! — резко остановил его Воронов. Перевесился вниз, чтобы видеть Кокарекина. — Кости целы? Сгоряча, бывает, не заметишь.
— Пустяки, — благодарно отвечал тот. И снова как бы между прочим: — Чуточку еще отдохнем, хорошо?
— Ха! Ничего себе «сгоряча»! — опять дал себе волю Бардошин. — Полчаса уже болтаемся тут.
Павел Ревмирович явно оттягивал время. Все в нем противилось необходимости лезть по тем же самым скалам…
— …Идем. Пора, — сказал Сергей. Надел рукавицы, перекинул веревку через плечо, приготовился охранять. — Вставай, Паша. Рюкзак не надо, оставь. Потом вытащим. Подвяжи вот репшнур, сейчас я тебе кину. Поднимешься к полочке, с которой я тебя охранял, дальше я.
Трудно было Паше Кокарекину отлепиться от спасительного уступа. Трудно преодолеть сковывающее недоверие к скалам, что только что сбросили его, к себе…
Руки в багровых ссадинах, грудь ломит, больно вздохнуть, может быть, сломаны ребра? Под мышками дерет невыносимо, наверняка веревкой сорвало кожу. Ноет ушибленная нога. Но главное — то, что наполняет его, делает деревянными мышцы, сотрясает, кажется, еще сильнейшей дрожью, всякое препятствие превращая в тот самый заледенелый отвес.
Воронову с Бардошиным поневоле приходилось ждать: связка Невраев — Кокарекин едва подвигалась.
И так и сяк опробуя каждый выступ, прежде чем поставить ногу; неестественно приникая к скале, хотя можно и должно идти открыто; без конца останавливаясь не для отдыха, а так, неизвестно зачем; не веря скалам, не веря себе; не обращая внимания ни на подбадривания Сергея, ни на язвительные замечания Бардошина, не слушая уверенных советов Воронова, Паша Кокарекин не шел — тащился едва-едва. Но — вверх. Но — вперед. И вместе со всеми.
Вот и теперь никак не хватало решимости пересечь короткий крутой участок по достаточно выраженной полке. Травмировала разверзающаяся под ногами глубина. А не смотреть не мог. Глаза завороженно тянулись к пропасти, воображение лихорадочно мерило ее.
— Как черепаха ползет, — смеялся Жора. — Эй, может, тебя в спальный мешок упаковать, и раз-два взяли?
Сергея передернуло: «Насмешки эти!.. Или не знает, что трупы транспортируют в спальном мешке?»
— Снимай рюкзак! — приказал Сергей.
— Почему снимай? Я только надел. И я вполне в силах, — заспорил Паша.
— Снимай сейчас же! — Высвободив руки от страховочной веревки, Сергей принялся разматывать репшнур.
Да не тут-то было. Паша, торопясь (Сергей едва успел ухватить страховочную веревку) и лишь чуть-чуть, самую малость опираясь рукой о стену, взял и пошел, тесно, одну к одной ставя ступни по узкой, сантиметра в четыре всего, полочке.
— А то ворчат, ворчат, не дадут человеку покейфовать в удовольствие, благо оправдание имеется. Ну, чего ты? Что уставился? То понукаешь, теперь сам же задерживаешь. Сейчас вот как обгоню!
ГЛАВА 14
Скалы кончились. Впереди блестит, сияет, взблескивает и пригасает ледяной бок контрфорса, лишь кое-где, будто вуалью легчайшей, припорошенный снегом, крутой до жути и открытый: никаких, кажется, каверз, никакого подвоха. По нему на основной гребень, а там — предвершинное плечо и вершина. Не видна она: заслоняют снежные склоны, гребень. Но эти склоны и гребень — ее; по ним угадываешь центр, вершину, которую они подпирают, которой принадлежат, от которой расходятся.
— Вот уж точно «грань алмаза»! — несколько литературно восхищается Павел Ревмирович, скидывая свой рюкзак и пристраивая к рюкзакам товарищей. Что-то он в себе преодолел, с чем-то разделался, хотя бы на время, — как не возрадоваться. — Только, увы, красота сия переменчива, как… Как… — Он ищет сравнения, имея в виду буран вчерашний, перекрутивший их планы, посеявший раздоры, да что планы — представить на миг, что здесь творилось, Содом и Гоморра! — Ну, в общем… не знаю, — отступается, не придумав ничего подходящего.
Жора Бардошин ввернулся, подсказал, вернее пропел своим бархатистым тенорком, умеренно сфальшивив в словах и мелодии:
— Как «сердце краса-авиц, склонных к изме-ене и пе-ре-ме-ене…» — Следом: — Прошли? Скалы-то! — подмигивает он Павлу Ревмировичу. — А ты боялась!
Изможденный, с втянутыми щеками и остро обозначившимися скулами — правая густо намазана кремом, кровоточит и припухла, — одни глаза на лице, хоть и щурится без защитных очков, а все равно бесшабашной удалью сияют: швырнет сейчас каску оземь и пропади оно все пропадом, завейся горе веревочкой! Весь он словно после боя выигранного, а потери забыты. И улыбается. Губы потрескались, на верхней ссадина, почти как у Жоры, слизывает липкую кровь и улыбается.
— Эх остолопы! Забыли водицы набрать. Сколько лужиц встречалось! — восклицает Бардошин, устанавливая котелок со снегом на разгоревшийся примус.
— Сходить? — вызвался Павел Ревмирович. — Я мигом!
— Мигом, знаешь, кто умеет? Один кошки, и то котята слепыми рождаются.
Воронов морщится, но сдерживает себя.
А голод пробирает. Спали много, смеется Бардошин. Он тоже разговорчив, весьма. Продемонстрировал на скалах великолепную технику и горд. Но что действительно отрадно, так то, что Павел Ревмирович, едва устроились вокруг разложенной еды, вспомнил былое — и только хруст за ушами. Воронов, с несколько презрительным недоумением воспринимающий подобную особенность, теперь откровенно доволен: «Эрго, никаких серьезных рецидивов после срыва нет. И все-таки, — размышляет он, — как ни неприятно будет Сергею, придется освободить его от необходимости приглядывать за своим подопечным. Лед аховый, Сергей пусть первым открывает шествие, надо дать ему поверховодить. Мы с Пашей, замыкающими.
Разбор устроим, когда закончится наша эпопея, но и теперь с огорчением приходится констатировать, что слабоват и весьма Павел Ревмирович Кокарекин. Точнее, слабодушен. Настойчивости, выдержки не хватает, не только умения. Где ж видано: устали, видите ли, руки. Если бы еще камень поехал либо какой технический просчет, куда ни шло. Нет, сам признался: не выдержали руки! Принимая во внимание и этот факт, разумнее будет взять заботу о нем на себя. Сергей пусть в паре с Бардошиным. Мелкий человечишка, но высоты не боится, физически силен, о ловкости говорить нечего».
И Воронов с легким сердцем принялся обсасывать ребрышко копченой грудинки.
…С каким-то болезненным, тягостным и влекущим удовольствием Сергей искал и находил новые и новые свои промахи, случаи, когда явно оказывался не прав, хуже — сам вызывал на ссору, лез на рожон.
Память — удивительная кладовая. Она принимает далеко не все, что происходит перед ее раскрытыми дверями, она выбирает.
Память Сергея с въедливым усердием пристрастного обвинителя — черта, отчасти роднящая с Пашей Кокарекиным, но в несколько ином направлении развитая, — подсовывала в часы душевной невзгоды не только действительные вины, но и такое, в чем ни сном, ни духом, а поди же, казнил себя, убежденный, что не поленись он тогда-то, либо не поддайся мелкому, кружащему голову самолюбию, а не то и вовсе всего лишь смолчи, приняв на себя ерундовую винишку, и не пошла бы вывязываться из больших и малых ссор та самая сеть, в которой чувствовал себя безнадежно запутавшимся.
«Я виноват, я виноват, — твердил Сергей, выискивая и находя тысячу объяснений для Регины. Его эгоизм, его упрямство, желание во что бы то ни стало настоять на своем. — Я толкнул ее на это…»
Солнце печет немилосердно, отраженное снегами и льдом. Да только едва отодвинешься в тень, тут же свитер под штормовку поддеть хочется.
Бардошин вальяжно развалился на нагретом камне, расстегнул свои одежки, так что заросшая шерстью грудь наружу.
— Все бы отдал, не только полцарства, — воркует он, — искупаться бы в море. Понырять, поплавать…
Павел Ревмирович — уж казалось бы, чем не возможность схлестнуться — молчит. Или зарок дал: никаких пикировок с Бардошиным. Закатал штанину, обложил снегом ушибленное место. Взялся за рюкзак, распотрошил, отчищает варенье. Воронов, разумеется, все внимание на ледяной контрфорс, по которому предстоит подниматься. Сергей, переламывая себя, свою ревность, темные, измучившие его мысли, обращается к Воронову:
— Не пора ли?
— Давно пора. — Воронов оглядел товарищей. — Паша, кончай с рюкзаком. Сегодня необходимо выйти на гребень. Там поставим палатку. Завтра, если опять пораньше встать… Конечно, какая будет погода? Снегу местами чересчур много. Весьма возможно пойдут лавины. Удивительно, как до сих пор нет. А нам после вершины спускаться по сплошным снежным склонам. Тут и призадумаешься. — Воронов поднимает на лоб защитные очки, снимает свои обычные и, вынув из нагрудного кармана замшу, протирает аккуратными круговыми движениями. Похоже, ритуал этот помогает собраться с мыслями, прийти к какому-то решению, подобно тому, как заядлый курильщик непременно возьмется за трубку, или сигарету, или чем он создает себе настрой.
— Сам понимаешь, — водрузив очки на переносицу, жалуется Воронов, — график трещит по всем швам. Паша, ты скоро? Если бы мы сумели сегодня же выйти, скажем, на предвершинное плечо! Тогда да, мы на коне. Завтра до жары спокойно прошли бы лавиноопасные склоны — и на юго-западный гребень. Но как успеть, ума не приложу. — И совершенно между прочим заявляет, что Сергею следует идти в паре с Бардошиным. Сергей не в силах взглянуть Воронову в глаза. Да и что увидишь за темными защитными фильтрами. Приказ есть приказ. Но почему?
…С сухим хрустом вонзаются в лед кошки, шуршит веревка, позвякивают крючья и карабины в связке на плече Сергея. Лед хорош: ноздреватый, мягкий, да и уклон вполне позволяет обходиться без рубки ступеней, разве что для страховки. Сергей вкалывает ледоруб впереди себя, поочередно вбивает передними зубьями кошки, — острые, длинные зубья держат отлично. За ним Бардошин. Без каски. Каску подвязал поверх рюкзака, смоляные волосы облепляют лоб, шею. Ему жарко. Несколько в стороне Воронов с Пашей. Нелепая мысль закрадывается: покуда еще не слишком высоко поднялись над скалами, упасть — сдернуть Бардошина… Мысль эта и в самом деле настолько дика и случайна, что недолго преследует Сергея. Но что-то в нем все время ждет, ищет и ждет.
«Постой, откуда я взял, что она… — бьется в нем надеждой, страхом ли опрометчивости или от неожиданно подвалившей удачи, что Бардошин в его руках. — Недоказанное не существует. Не может она делить себя между двумя. И намека не было… Даже в пылу ссор. Ведь так? А Паша? Что Паша! Что еще мог наплести ему тот рыжий?.. — Но все построения разваливаются, подобно карточному домику, при одной мысли, что Жора Бардошин был в Гагре. — Если бы как-то так случилось, что мы с ним оказались бы в тяжелейшем положении. Признался б?.. — вспыхивает и разгорается фантастическое предположение. — Когда смерть рядом, совесть ли, неудержимое стремление к правде, к покаянию… заставляют».
Сто метров. Двести. И еще пятьдесят. И тридцать. Вверх. Все вверх. Иногда немного в сторону и опять вверх и вверх.
С Бардошиным приходится говорить. Ну, не говорить, какие разговоры на ходу: «Пошел; вытяни веревку; страхую; поднимайся». Но и эти слова выжимает с трудом.
Лед. Фирн, в основном тоже обдутый, лишь кое-где занесен снегом, уплотнившимся под ветром до такой степени, что немногим уступает льду. Одно неприятно: набивается между зубьями. Впрочем, вскоре снова лед. На этот раз пожестче, не очень-то поддается кошкам и, что хуже, предательски присыпан мягким, разлетающимся снежком. Сантиметра два-три всего — наверное, когда ветер переменился уже под конец, — и намело. Путает, осложняет, и темпы поневоле снижаются.
«А говорят еще, будто женщина становится такой, какой мы, мы сами, делаем ее», — думает Сергей, вспоминая постоянные разговоры о любовных историях ее подруг, особенно тех, кто на виду, вызывает зависть и жаркую тягу к подражанию; смакование подробностей, от которых подчас становилось не по себе. Кого-то с кем-то она знакомила, кого-то мирила. И все меньше внимания ему. Даже о пустяке бесполезно было ее просить. «Ты после репетиции домой? Купи, если не забудешь, ленту для пишущей машинки. Надо мне статейку мою набело перепечатать». Конечно, она забывала.
«А в театре?» — подумал он и вздрогнул, вспомнив ее в Вальпургиевой ночи, — словно молотком саданул по руке, — не по крюку, который не желал идти в лед. Полуобнаженная, в резком гриме, с наклеенными ресницами, отчего ее длинные глаза становились еще более манящими и загадочными, далекая и страшно близкая ему, в чем-то очень важном она оставалась собой, играла себя и влекла темной, пронизывающей чувственностью, которую источало, казалось, всякое ее движение. И тем мучительнее знать, что такой она бывала в их лучшие часы.
Ледовый склон просекла цепочка следов. Искрошенные зубьями кошек крохотные пятнышки и точечный пунктир от ледоруба. Ничтожные среди всяческих отметин, разрисовавших склоны, и значительные своей упорной направленностью. Нет-нет ступени, вырубленные для охранения, включались ритмично в общую цепь, соединяли отдельные ее звенья. Время шло.
Кончилась благодать — ноздреватый податливый лед, пусть кое-где присыпанный снегом, смерзшийся местами до того, что кошки, если говорить начистоту, то ли держат, то ли нет, и все-таки можно обойтись без ступенек. Конечно, многое зависело от ведущего, от Сергея. Но Сергей шел себе и шел, по временам останавливаясь забить крюк да по настоянию Воронова ступень для охранения, лишь бы ноги поместились, вырубить. И вот до самого неба голубеет отполированный солнцем и ветром натек. Кошки не держат совсем. Надо рубить ступени для каждого шага. Лед дробится мелкими осколками, скалывается параллельными слоями; выемки, где могла бы удержаться нога, не получается. Ступеней придется рубить не десяток, не два — сотни. Обойти? Негде. Слева слабые, полуразрушенные, скалы, засыпанные снегом, то и дело грохочет там. Справа?.. Уж очень круто справа, каска валится, как поглядишь. Надо рубить ступени.
А время шло.
Руки взмахивают ледорубом и бьют, бьют твердый натечный лед, бьют с трудом и превозмогая тупую усталость. Кажется, что все исчерпано в том последнем взмахе. И всякий раз руки находят силу бить снова, бить еще, бить опять, Бить крепкий, прозрачный, глубокого аквамаринового тона и, похоже, такой же каменно-твердый натек, бить ледорубом, бить! Бить… Осколки льда, вспыхивая, разлетаются в стороны и с хрустальным звоном несутся вниз. Легкие со свистом качают воздух.
«Еще пять ступеней, только пять!» — в который раз говоришь себе. (Бардошин сзади что-то там тарахтит — не думать о нем, не помнить. Хотя бы в те минуты, когда не должен подстраховывать его в свою очередь.)
Когда вырублены и пройдены эти пять: «Еще, ну еще три, пять, десять ступеней нужно вырубить и пройти, нужно, и тогда отдых (вперед выйдет двойка Воронова). Отдых! Нужно вырубить, понимаешь? Очень!» Руки сжимают древко ледоруба; поднимают ледоруб — такой тяжелый; руки заносят ледоруб для удара — невозможно громоздкий и тяжелый; выше, за плечо… И обрушивают. Ускоряя, утяжеляя его падение не просто силовым сокращением мышц, но всем устремлением корпуса и ног и головы (сам между тем лепишься на неверной ледяной круче). И горло с коротким хаком выбрасывает пустой воздух в такт удару.
«Если бы увидеться. Хоть на час, хоть на одну минуту, — загорается в Сергее. — Лететь самолетом, ехать поездом, пешком спешить туда, к ней. И понимать, что расстояние сокращается. Меньше и меньше километров…» Но он сам выбрал свой путь, и путь этот ведет на вершину Скэл-Тау. Горы, их зовущая красота, его долг, его обязательства перед Вороновым, перед теми, кто ждет их внизу, оказывались крепостью, в которую он добровольно заточил себя и не мог выйти до срока.
Изнуряющая борьба между необходимостью и не признающим ничего кроме, сумасшедшим желанием быть вместе…
Но руки бьют ледорубом, бьют твердый натечный лед. Сто тысяч раз бьют.
Чтобы сделать еще один шаг к гребню, к вершине.
Чтобы подняться еще на полметра из двух с половиной тысяч, что отделяют ее от ледника, с которого рано утром позавчера завороженно любовались ею.
На одну пятитысячную? Нет. Всякая маленькая ступенька — тоже вершина. Одна из пяти тысяч вершин, которые надо одолеть, и многие нелегким трудом, прежде чем приблизишься к той, единственной сейчас в целом мире.
А ненавистная память являла новые изобличения. Виташа, друг сердечный, пример и едва ли не венец мужских достоинств, с которым Сергею непременно надлежит вести дружбу. Его любезные, покровительственные слова в адрес Сергея и даже похлопывание по плечу; а он потерянно улыбается, несет какие-то банальности в ответ, потому что неловко, и опускает глаза от боязни выдать загнанное внутрь негодование. Нескончаемые разговоры о своих успехах, искреннее, без малейшего наигрыша восхищение своими джинсами, электронными часами, золотым мостом на челюсти, который ставил профессор такой-то, запонками из перуанских зачем-то золотых монет — типичнейший парвеню, не чета и Жоре Бардошину с его скабрезностями и циничным скептицизмом. И Регина… с подобного сорта людишками. «Почему? — пытается он понять. И не умеет понять. Ибо не может мерить успехом человеческие отношения. Ее томность, ее удоволенность… — К черту! К дьяволу! — шепчет Сергей, кусая губы. — Пусть все идет прахом. Чем хуже — тем лучше. Никогда, слышишь ли, не примирюсь с этим», — кричало в нем, билось, комом поднималось к горлу и бросало в лихорадочном стремлении к действию через лед, снег, скорее, скорее, неважно куда, только скорее…
Время шло. Время летело. Крохотные человечьи фигурки, букашки на боках великана, медленно, кое-где и вовсе неразличимо для нечуткого глаза, но неуклонно, как сама необходимость, двигались дальше и дальше, вперед и вперед, вверх и вверх — к гребню, к вершине.
Каким слабым, тщедушным выглядит человек среди сверкающего величия гор. Как уязвим он. Заденет, падая, камень или обдаст своим дыханием лавина, не то сам сорвется на крутизне, а горы стоят спокойные, уверенные, безразличные в бескрайнем небе.
Но люди распознали секреты гор, уплатив сполна запрошенную цену, придумали тысячи уловок, объединились и, сильные своим духом и сплоченностью, идут, одолевают опасность, тяготы почти непомерные, случается, и другие, которые иначе и вовсе не вынести.
И ничего удивительного, если шире взглянуть на причины и следствия, что и здесь, бьешься, скажем, за каждый метр на пути к своей вершине, всю жажду сердца, кажется, подчинив единственному этому стремлению, и замечаешь вдруг, что другие, важнейшие заботы, оставленные до лучших времен, словно в награду за твое усердие и самоотверженность начинают сами собой как бы подрабатываться, разрешаться…
Усталость с каждым часом полнее, глубже. Рюкзак за спиной становится каменной глыбой, два килограмма ледоруба превращаются в пуд. Реакция тупеет. Идешь механически, не думая зачем, для чего… Время, которого мало, погода, которая может испортиться, опасность, таящаяся повсюду, перестают даже и тревожить. Усталость копилась, зрела и теперь наваливается, подчиняя мускулы, нервы. Хочется, раскрепостив мышцы, опуститься, осесть на широкую ледяную ступень, вырубленную для охранения. Ничего не знать. Ни о чем не думать. Сидеть, лежать, отдаваясь душевному и физическому изнеможению.
И надо одолеть привычные возможности своего тела. Нельзя верить усталости, нельзя думать, что силы исчерпаны. Путь сложен и далек, и ты должен пройти его.
Ты должен! Это только кажется, будто не можешь отвести ступню назад и с маху ударить — вбить передние зубья кошки в лед и, распрямляя ногу, выжать себя с рюкзаком за плечами. Следом то же самое другой ногой. И потом снова и снова. А руками — одна ледовым крюком, другая ледорубом — придерживаться о лед. И время от времени рубить широкую ступень — лохань, чтобы, поместившись обеими ногами и забив крюк для самоохранения, страховать товарища, да — именно так и только так! — страховать, пока он, этот «товарищ», поднимается к тебе и уходит вверх или в сторону, куда нужно. И следить за всяким его движением, готовый в любую минуту прийти на помощь ему, да — Жоре Бардошину, поддержать, остановить падение, если волею судеб покатится вдруг к чертовой матери. И видеть, что происходит вокруг, и понимать. И, когда он закрепится, этот твой товарищ, напарник, друг, враг, неважны сейчас нюансы, перебросившись словом, двумя, снова вкалываться в лед и подниматься, подниматься. Рубить и страховать. И подниматься. И нести свой рюкзак, свой груз, тоску и что там еще в твоей душе — можешь! Только кажется, будто нет сил, — можешь. Наверняка! Как ни тягостна усталость, как ни разъедают тебя путаные, из огня в полымя кидающие, впрочем, на иной благоразумный взгляд яйца выеденного не стоящие мысли, ты можешь идти, и ты идешь. Потому что должен.
Потом ты охраняешь. Потом ждешь, чтобы вторая связка подобралась повыше. Весь выигрыш во времени теряется из-за Паши. Покуда он там раскачает крюк, да вытащит его, да отшагает по готовым ступенькам к Воронову, да перестегнет карабин… С ним лаской надо, поразительно, что Воронов никак не уразумеет. Иначе только хуже. Вон опять прижимается к склону, едва де лежит на нем, куда это годится!
Воронов, согнувшись под страшенным своим рюкзаком, поднимался по крутизне. Поднялся. Некоторое время стоял, опираясь на ледоруб и тяжело дыша, как та самая рыба шубункин с выпученными глазами, совершенно так же широко и часто разевая рот, Проверил, как держится крюк во льду. Щелкнул карабином: навесил репшнур, идущий от грудной обвязки. Отстегнулся от охранявшего сверху Жоры, приготовился охранять в свой черед. Крикнул Паше:
— Поше-ол!
Сергей смотрел: «У Воронова самый тяжелый рюкзак. Палатка, бензин, консервы у него. Надо забрать что-нибудь. Если бы вроде приказа… Приказ не обижает. Но он начальник группы, не я. Момент нужен подходящий, а там придумается».
Не только элементарная справедливость руководила Сергеем, спокойнее, когда самый большой груз несешь сам. А еще хотелось стереть отчуждение, возникшее, он чувствовал, после утренней сцены.
Время шло, время летело, и тем стремительнее, чем полнее наваливалась усталость и сложнее работа, которую приходилось совершать.
Кузнечными мехами вбирают легкие и выбрасывают обескислороженный воздух. Сердце бешено гонит кровь. Пот заливает глаза, струится по ложбинам возле носа, каплями срывается с подбородка. По штормовке, где прохватывает солнце, выступила соль. Дыхание туманит стекла очков. Приходится снимать их и протирать. И тогда сквозь смеженные ресницы жжет яростный, льющийся отовсюду свет.
Пересохшее горло свербит, язык липнет к нёбу. А кругов вода, замерзшая вода. Припади к ней, кусай ее, мни языком, пей.. Нельзя. Иначе хуже, сильнее станет жажда. Это понимаешь головой; чувством жадно тянешься к воде, непохожей на воду, смакуешь в воображении вкус ее.
И снова, в который раз, медленными ударами загоняешь ледовый крюк. Навешиваешь репшнур самоохранения. Два слова Жоре Бардошину. Глубоко дышишь расправленной грудью и не можешь вдосталь надышаться. Охраняешь, приглядывая, как и что. Жора неторопливо поднимается по готовым ступеням. Его очередь рубить.
Следишь, как энергично взмахивает он ледорубом. «Неужели не устал?» — спрашиваешь себя, нечаянно восхищенный его силой и ловкостью. Искры летят в твое поднятое лицо, тают на щеках, на лбу. Куски льда проносятся у ног, заражая наперекор разуму и всем инстинктам своим падением.
Но насколько выше уходит Бардошин, настолько ты непроизвольно, как бы даже независимо ни от чего делаешься собраннее, меньше отвлекаешься, сосредоточеннее следишь за всяким его движением. Осколки льда не занимают больше. И горы, и вся красота, которую только-только начал воспринимать раскрепощенным чувством, не трогают. Ты — весь внимание, и все внимание твое на нем, твоем напарнике по связке. Удары ледоруба становятся слабее, реже. И прежде чем ступить на подготовленную ступень, он, опустив голову и опираясь на ледоруб, собирается с силами, и грудь, плечи ходуном ходят от напряженного дыхания.
«Кисловодск, теперь в Гагру. С этой ее приятельницей. Зачем это? — спрашивает себя Сергей. С явным чувством недоумения перед нелепостью тогдашних разногласий и обоюдного упрямства. — Не захотела в горы, что ж, надо было вместе… Куда угодно. Чего ради мальчишеский фарс: не хочешь — не надо! Страдаю-то я. Вон Паша, одно ласковое слово, и как становится покладист, предупредителен, а ты?.. Она принимает мою любовь, я должен быть благодарен и за это. Любящий должен стоять и ждать. Играть в прятки может тот, кто рассчитывает, что его будут разыскивать».
«…Быть вместе. Капризы и ссоры пусть. Пусть что угодно, но вместе. Какая ни есть, она бесконечно дорога мне. Я не могу без нее. Я не могу без нее совсем», — повторяет Сергей, впервые, кажется, осознав самую суть своих переживаний. Удивленный и обескураженный столь полным и категоричным пониманием. Удивленный и восхищенный…
Забит крюк, охранение готово. Бардошин вверху машет рукой.
Быстро, легко, с обновленными силами проходит Сергей готовые ступени. С ходу врубается дальше. И рубит. Рубит. И поднимается. И рубит, рубит, рубит.. И кажется, что никогда не кончится голубой, нет — зеленый, красный, твердый как стекло, как алмазы, которые от него отлетают, натёчный лед.
Не кончается.
Протянулся до самого неба.
Кажется, не кончится никогда. Рубить день за днем, год за годом, вечно рубить, забыв, для чего, потеряв представление о цели, подобно Сизифу, осужденному богами…
Но веревки остается немного, Жора и раз, и другой напоминает о том. Сергей готовит широкую, для обеих ног, ступень. Встает на охранение. И думает, думает, и вспоминает, и… как же много было не омраченных никаким несогласием чудесных, радостных дней…
Потом (так быстро проносятся считанные эти минуты) опять его очередь идти и рубить.
Пять ступеней. Десять. Еще десять. Еще…
Облака завесили небо. Они легки, солнце масляным пятном расплылось на них, но синева нигде не проглядывает. Все поблекло, посерело без теней в ярком рассеянном свете. Снега́ не блестят. Лед тоже померк, пожух и в самом деле становится похожим на камень. А еще совсем недавно какие переливы цвета, и блеск, и сияние!
Вторая связка едва тащится. С такими темпами хорошо, если к завтрашнему дню на плечо взойдут. Воронов в три погибели согнулся, ну и рюкзачище!
Остановились. Благо широкая, заваленная снегом трещина пересекает лед — бергшрунд. Хорошо. Можно не жаться и не касаться друг друга. Справа кулуарчик так себе, ничего особенного, а нет-нет и просвистит там, нет-нет и щелканет сорвавшийся откуда-то сверху камушек или льдинка. Конечно, не ровен час, может и здесь загудеть. Не видно, что там вверху, но вернее всего гребень скалистый. «Что ж, если и загудит, что ж… кто знает, — проскальзывает у Сергея. И тотчас принимает иное обличье: — Говорят, пулю, которая в тебя, не услышишь».
— Мой рюкзак основательно полегчал, — объясняет Сергей подошедшему Воронову. — Вчера сколько съели и позавчера…
Лицо Воронова по белой глетчерной мази в градинах пота. Смотрит на скалы за кулуаром, молчит. Дыхание уже наладилось, тем не менее молчит и, похоже — мимо ушей намек прозрачный Сергея.
«Ведь нипочем не скажет, не поделится, что его тревожит, — нервничает Сергей. — Уставился! Идем, выкладываемся, что еще? Что еще от нас, от меня, в частности, требуется? Хочешь поскорее залезть на эту нашу горочку? Согласен, надо. А спустимся, знаешь, что я сделаю? А вот что: махну… в Гагру. Как там у архисовременного нашего пиита — целая поэма в одной строке: «А не махнуть ли к морю?» (С нечаянной иронией, ибо для него, Сергея, в этом внезапном предположении вся его боль и прозрение, надежда и обещание.) Человек должен совершать неожиданные поступки!»
Воронов глядел, глядел на кулуарчик и скалы за ним и вроде бы нагляделся. Сгрузил с заметным усилием рюкзачище, вытащил из-под клапана смерзшуюся, со старанием увернутую тяжелую палатку и подал двумя руками Сергею:
— Возьми.
— Почему это Сергею? — встопорщился Павел Ревмирович. — Наша двойка палатку несет. Дай мне. Дай! — пытается он отобрать у Сергея. Но Сергей не слушает. Скинул свой рюкзак, не сразу, но запихнул палатку, даже ремни сумел в пряжки вставить и затянуть.
— А ты помалкивай, — утихомиривает он Пашу. — Если по правилам, так после подобного падения, ты не смотри, что счастливо обошлось, еще не известно, что у тебя внутри, после такого срыва следовало бы тебя вниз, а восхождение побоку. Скажи спасибо Воронову, что проявил, так сказать, гуманность и понимание.
Паша продолжал хорохориться.
— Ты бы на себя в зеркальце полюбовался, — окорачивает его Сергей. — Зеркальце случаем не захватил? Ты мастак разную ерунду таскать на восхождение.
— Видок не для девочек! — ухмыляется Бардошин. — Я уж не говорю про эту его… Светлану. Полюбовалась бы сейчас.
Все молчат. Паша, сглотнув слюну, о своем:
— Ты же опять первым рванешь? Пусть хоть Бардошин чего-нибудь возьмет, — старается Паша сколько может миролюбивее. — Крючья ледовые — ты, понятно. А Бардошин? Да хоть свитер: вон, у Воронова из кармана рюкзачного торчит. На общую потребу припасен.
— Почему это я? — с места в карьер защищается Бардошин. — Ты сам только что вызвался тащить. «Наша двойка»!
— Ладно. Наперед известно: не то что лишний килограмм, на пару крючьев тебя не сагитируешь.
— Да почему я-то? — искренне удивляется Бардошин. — Я тоже ступени рублю, ты что! Еще сколько. И рюкзачок у меня дай боже. Так что привет, чья бы корова мычала!
Воронов всматривается в кулуар, ловит изредка раздающийся посвист летящих сверху льдинок и как они, красиво вспыхнув, разбиваются и осколки с затухающим шипеньем уносятся прочь.
Бардошин проследил за его взглядом, вдруг выпалил:
— А чего мы все лед да лед, давайте траверснем за кулуаром, а? Там вернячок лучше. По крайней мере, скалы. За ними вроде снежничек проглядывает. Красота! Не знаю, как кому, а мне этот чертов натек… Честно признаюсь, в печенках сидит.
— «Безумство храбрых — вот мудрость жизни», так, что ли? — насмешливо подытоживает Воронов сказанное Бардошиным, а может, и свои размышления тоже, однако вскидывает рюкзак на плечи и, прощупывая ледорубом снег, осторожно подвигается к кулуару. Понемногу и все за ним.
Остановились на краю, смотрят. По другую сторону изломанные скалы врезаются в серое небо. В прорыве виден склон. Крутой, белый, гладкий. Кулуар иссечен шрамами от ударов камней. Нечасто, но раздается пронизывающий свист и р-р-р-аз! — и чуть ли не дым, где в скалу садануло.
Было бы раннее утро или вечер уже, прихватил бы морозец, сцементировал лед и камни…
— Ишь дает! — Заметили по облачку взбитому, ну и треск тотчас. «Трах-тах-тах-тах-та-та…» — приглушенный донесся из глубины грохот камнепада.
— Такой чемоданчик шарахнет по голове, все мозги отшибет, — взбодренный опасностью, смеется Бардошин. — Никакая каска не поможет. А?
— Это если имеется, что отшибать, — буркнул себе под нос Паша.
Еще зацокало.
Воронов смотрел, слушал, пытаясь уловить, нет ли какого постоянства в падении камней, в интервалах между падениями.
Еще! И этот не видели, хотя неподалеку ударил. Может, конечно, мелкий или ледышка?
— Пойду, — кратко сказал Воронов и начал спускаться. — Веревку держи свободно, не натягивай, — это Кокарекину.
— Стой! Стой, — остановил его Сергей. — Лучше мне сейчас. Дальше скалы, мы с Бардошиным двинем по скалам. Я его выпущу вперед, раз уж он так скалы любит. А то начнется толкотня.
Дождавшись, когда цокнул и дробно застучал, скатываясь, очередной камень, Сергей Невраев бросился со всех ног через кулуар. То есть сильно сказано — бросился. На кошках да с этаким грузом не больно разбежишься, тем не менее как-то очень быстро и мелко переставляя ноги, словно пританцовывая в современном ритме, покатился Сергей вниз и тем же манером вверх, пересекая наискось кулуар. Задрав голову, стараясь увидеть возможно раньше и даже еще раньше, чем возможно, если что полетит. Ледорубом опробуя занесенную снегом массу льда и камней. Не забывая мгновенным взглядом ухватить, что впереди; обостренно, всей кожей ощущая полет времени. (Внутри билось: не зацепить, не промахнуть ногой…) И за скалу. За выступ скальный, который по идее должен, обязан защитить от всякой дряни, летящей по кулуару.
Следующим Жора Бардошин. И конечно, не мог не покрасоваться.
— Ты что, обалдел? — не выдержал Паша Жориной бравады. — Нашел бульвар для прогулок!
Каждый нерв в Сергее — натянутая струна. Но ни словом, ни движением не выказал Сергей, чего он ждал, мучаясь гадливым чувством, стараясь одолеть ночные фантазии и не в состоянии освободиться до конца, забыть хотя бы на минуту. Промолчал Сергей и когда Бардошин вразвалочку, явно рисуясь своим бесстрашием и удачливостью, поднялся в укрытие за скалу.
И новое напряжение. По-иному гнетущее бездеятельностью, томящее ожиданием: Паша Кокарекин, ему предстоит проскочить опасное место. Сам когда — ладно, сам ничего. Когда же близкий человек становится участником разыгрываемой перед тобой, как перед зрителем, драмы, где конец неизвестен и после занавеса не выходят на вызовы… Бессильный что-либо предпринять, прийти на помощь в нужную минуту, стоишь, смотришь и ждешь. Хотя пора браться за дело: вон Бардошин уже двинулся вверх по расщелине. Ждешь. И молчишь. Из опасения словом ли, движением помешать. Пусть человек, которому всей душой сострадаешь, будет один в эти мгновения. Наедине со стуком своего сердца.
— Уф-ф-ф! Молодец, Пашуня, — с облегчением говорит Сергей. Запыхавшийся, улыбающийся Паша Кокарекин быстро-быстро начинает перетягивать к себе веревку, готовится охранять Воронова.
Кстати, Воронов рассказывал мне, жаждавшему подробностей, что в тот день Сергей Невраев словно задался целью удивлять и озадачивать. Обычно приветливый, вовсе не стремившийся к лидерству, в тот солнечный, безветренный, казалось, самой устыженной природой подаренный им день, — ну прямо злой дух гордости и противления обуял его, — мрачен и резок сделался, временами и вовсе невыносим, и только и знал, что вперед и вперед, требовательно беря на себя основную часть работы. Обескураживало такое поведение и заставляло уступать. Пусть основательно вымотается, решил Воронов, делу польза и ему не во вред.
Воронов привел не знаю уж, в качестве объяснений или оправдания, следующую выкладку. Если обозначить суммарные усилия всей группы, потребные для достижения вершины, буквой М… Впрочем, постараюсь лишь самую суть изложить, опустив не слишком доступные мне математические построения Воронова. Так вот, значительное увеличение нагрузки на одного из спортсменов приводит к увеличению общего резерва, таков вывод. А поскольку его формула включала, как он утверждал, любые доступные измерению величины, и отрицательные и всяческие иные, которые он вводил с помощью буквенных обозначений, постольку гарантирован был полный и законный порядок. Опять я подумал: гладко у него получается, умеет создать свой гармоничный мир. И, не удержавшись, воскликнул что-то вроде — да здравствует, мол, законный порядок и спокойствие! Однако Воронов воззрился на меня отнюдь не с удовольствием…
Но закончим с кулуаром. Дважды близко от Воронова просвистели и рассыпались в ударах то ли камни, то ли лед. На краткий миг он застывал, весь как сжатая пружина, и шел дальше. Уверенно, четко, достаточно быстро. Ни тени пережитого волнения, когда очутился в безопасности, либо наигрыша показной удали. Лицо его, как час, как два часа назад, бесстрастно-покойно, каменно-твердо. Разве что веселые сполохи играют в стеклах очков.
Жора прошел одну веревку. Затем Сергей, почти столь же энергично и уверенно, уступая разве лишь в элегантности и непринужденности, что ли. За ними Паша. Сверху его охранял Бардошин, снизу еще Воронов подстраховывал.
И опять тяжело было смотреть на Пашу Кокарекина. Ощупывает едва не каждый выступ, головой вертит, словно принюхивается, тыркается туда и сюда никчемными своими руками…
Перейти скалы и спуститься на снежник, избавить его от дальнейших мытарств? Снег — это просто, снег ерунда, и сравнения никакого с рубкой ступеней в натечном льду, ни тем более со скалами. Но имеется пунктик, заставляющий призадуматься. Склон снежный здесь не сказать чтобы широк: с той, другой стороны ограничен тоже скальной грядой, а вот выше расширяется, переходит в самое настоящее снежное поле. Только безумный решится в такое время суток да после вчерашнего бурана выйти на ровный этот, круто вздымающийся к небу снежник. Так что придется Пашуне поупражняться еще и еще в опостылевшем скалолазании. Тем более Воронов главный. Да разве с Вороновым на подобную тему заговоришь? Воронов есть Воронов, рассчитывать на такого рода снисходительность не приходится.
Тут еще участок встретился… Сергея очередь, впрочем, не в очередности дело, а так получилось, что стоял Сергей именно где начинать надо. Правда, и Жора Бардошин тут же. Ухмылочка скверная на поуродованных губах: наметил уже, где и что, и ждет. Чтобы попросили его. Чтобы Сергей или на худой конец Воронов (он на подходе): «Давай, мол, покажи класс! Крючья скальные, пожалуйста, выбирай любые, для тебя носим. На тебя, дорогой, надежда, выручай!»
Сергей Невраев, повинуясь внезапному внутреннему наитию, ни слова не говоря, скинул рюкзак и безо всяких крючьев (Бардошин не сразу и сообразил: «Чудила! А может, и впрямь жить надоело?») полез по вздыбившейся скале.
Пришлось Жоре на охранение становиться: стоечку соответствующую принять, веревку через плечо и так далее. «Ничего, повыкаблучивается сколько сумеет Серега и пристынет на отвесе, — решил Бардошин. — И будет ждать, когда он, Георгий Рахметович Бардошин, на помощь явится».
Распластав руки, Сергей лепился на скале; вжимался в камень, словно задавшись целью составить с ним единое целое; перетекал мягко и плавно — по едва отходящей от вертикали глади. Отталкивался и клонился вбок, уже начинал падать, чтобы вернее одолеть пространство до недосягаемого иначе уступа. Замирал на минуту, давая напитаться свежей кровью деревенеющим мышцам, — и дальше. А внизу… Впрочем, не смотрел Сергей вниз, не занимало его, что там. Да и некогда.
Тихо звучал голос Сергея:
— Веревку. Еще. Еще немного. Стоп. Чуть потрави. Хорошо. Не тяни, не тяни, сорвешь меня. Еще немного выдай…
Жора тотчас примечал некоторые ошибочки, но помалкивал.
Сергей дошел до перегиба скалы, заглянул, что дальше, ощупью вернулся назад, где был небольшой уступ и можно передохнуть. Постоял, расслабленно опустив голову, пошевеливая пальцами свободной руки. Потом вытянул про запас несколько метров веревки и двинулся к углу. Скрылся за ним.
Веревка спускалась петлей. Петля раскачивалась, становилась положе. Жора выдал еще метра два, волной закинул за уступ.
Веревка — быстрее, медленнее, снова быстрее — вытягивалась. Невидимый, но ощутимый по ее движению Невраев уходил дальше. Жора метр за метром стравливал веревку, и веревка метр за метром исчезала за углом. Веревки оставалось всего ничего. Сорвется Сергей — хватит ли погасить рывок? Из-за угла не доносилось ни звука. Не слышно ни скребыхания окованных сталью ботинок по скале, ни возгласа, ни шороха. Воронов, Паша и Жора Бардошин молчали. В воздухе повисла напряженная тишина, долгие мгновения мерили ее. Жора правой рукой с зажатой веревкой сдвинул на лоб очки. Свет на скалах не резок, без темных фильтров лучше. Со странным выражением следил он за уходящей вверх страховочной веревкой. Снисходительная и лукавая улыбка несдержанно играла на его губах. Веревка не раскачивалась, не ползла по скале, веревка оставалась неподвижной. Воронов рядом молчал. Ниоткуда ни звука. Тишина. Тишина ширилась, разбухала. Давила почти осязаемо на уши, на натянутые до предела нервы… Лопнула от слабого и совсем не из-за стены — из огромного пространства вокруг принесшегося голоса:
— Закрепился. Иди.
Снова скалолазание, теперь с надежным верхним охранением. А там еще. И еще. И опять одна веревка за другой. А время? Погода? Которая грозит испортиться. Хорошо, хоть не тепло. Снег на полочках и по расщелинам не собирается таять. Добрый знак. Но корячиться по скалам труднее и труднее, и медленно очень набирается высота.
Задерживает по-прежнему и даже еще больше Паша. Дело, конечно, не в рюкзаке, который у него надумал отобрать Сергей, чтобы вытягивать на веревке, и не в ушибах — какие ушибы, если кости целы, связки тоже, — дело в том, что несколько часов назад на таких же примерно скалах Паша пережил собственную гибель.
«Тогда, после трещины, — опять вспомнилось Сергею, — чуть иного оттенка снег на леднике — не идут ноги: вот-вот, кажется, сейчас… И ведь долго продолжалось». Еще и теперь некоторое, глубоко затаенное недоверие к снегу. Недоверие и желание перешибить окончательно, навсегда поганенький этот, подворотныи какой-то страшок.
«А что, приковали нас, что ли, к этим скалам? Откуда столь рьяное упорство? — сам того не замечая, накручивает себя Сергей. — Что за беда, если пойдем снежником? Прижимаясь к скальной гряде? Формализм Воронова! Его нежелание применяться к обстоятельствам. Ведь насколько проще, легче и, главное, быстрее. Скорость — сейчас наиважнейшее. Неужели не тревожит его погода и где ночевать? Для палатки в таких нагромождениях места не сыщешь. Подняться на предвершинное плечо, сколько еще лазания. Нет, в самом деле, во имя каких таких высоких идей мы обязаны мытариться на скалах? Кому это нужно? Ответ очевиден: чтобы не отступить от кем-то когда-то сформулированных правил. Все регламентировано. На любой случай имеются соответствующие параграфы, предписания, постановления. А нет, так можно отфутболить старшему по положению товарищу…»
Раздражение Сергея находило обильную пищу в прошлых его злоключениях по части природоохранных мероприятий. Растолковываешь, объясняешь, приводишь строго выверенные данные, ужасающие в своей наглядности цифры, — вроде бы все согласны, да, надо; приходит время выносить решение — нет: план! Черт с ним, с завтра, сегодняшний план важнее.
«Постой, — пришло на ум Сергею, — ведь это он, не Воронов, точнее, он за Воронова столь категорично и безапелляционно отбросил возможность подъема по снежнику и вешает на него всех собак. Воронов покуда слова не вымолвил по элементарному этому, если не считать некоторой инфернальной закваски, вопросцу. Шли и шли по скалам, про снежник и разговору не было. Так сказать, ясно без слов. А вот и не ясно. Совсем не ясно».
Пашина несчастная физиономия. Очки снял, чтобы лучше видеть. Сказать — нипочем не скажет, но в глазах… Тут еще насмешечки и прибаутки Бардошина. И Воронов. Уселся демонстративно на выступе, ждет!
Куда девались обычная благожелательность и терпение Сергея, нарочно спустился на несколько метров к Воронову и, как если бы поставил целью добиться реванша после утреннего поражения, дал волю праведному своему гневу. Чего-чего только не наговорил, чего не припомнил. И о черствости вообще, о нежелании сколько-то приноравливаться к сложностям и неоднозначности любого нестандартного процесса, в котором участвуют живые люди, и, конечно, о бессмысленном увеличении трудностей благодаря этим идиотским скалам, в частности.
— Живые! Ты в состоянии уразуметь? — рубил он, вглядываясь в ничего не выражавшее лицо Воронова и приходя в состояние какого-то страстного ожесточения. — Помочь ближнему своему… То самое, в конце концов… Да хотя бы Паша… об учительнице. Ты, ты!.. Или что же, как всегда — «еллинские мудрости»? Не сечешь!
И еще много чего наговорил, вовсе не имеющего отношения к данному случаю. Одно оправдание: в запале, понесло.
…«Воистину, если бог захочет покарать человека, то лишает его разума», — криво улыбаясь, процитировал Воронов в ответ на мое осторожное недоумение, как могло случиться, что люди оказались на лавиноопасном склоне. Не новички же. Так вот, он, Александр Борисович Воронов, не собирается ни на кого валить, тем более на Сергея. Никто его, Воронова, не принуждал силком, сам после определенных размышлений пришел к своему решению — недостаточно строгому, согласен, не целиком отвечающему правилам безопасности — да; более того, если быть до конца откровенным, так идущему вразрез с однажды и навсегда избранной им системой взглядов. Но, как он уже заявлял и с полной ответственностью повторяет, его решение, выразившееся в согласии перейти со скал на снежник, непосредственно не повлекло известных событий, хотя, и этого он не собирается отрицать, до некоторой степени способствовало созданию определенных условий, ситуации, так сказать. Он подчеркивает: неширокий снежник, расположенный между двумя грядами скал. А то, слышал уже, напридумывали…
«Рядом со скалами! — втолковывал мне Воронов. — Ни в коем случае не отходя в сторону. Не от-хо-дя! Чтобы не подрезать снег, не вызвать лавину». Это было его условием, что подтвердили во всех инстанциях Павел Ревмирович Кокарекин и Георгий Рахметович Бардошин.
А отбросить официальную сторону и попытаться реконструировать предшествующее — что ж, да, минутная слабость, точнее, рассеянность под натиском внешне обоснованных доводов о времени, погоде (погода, по счастью, лишь пугнула, едва Сергей с Бардошиным вышли на снежник, стало проясняться, а там и вовсе распогодилось, солнце выглянуло), еще вопрос с ночевкой тревожил. Ну и кроме того — им, претендовавшим на едва ли не рекордный траверс (если бы осуществился подъем по директиссиме на никем не взятую стену), придется снова выпрашивать у КСП, у Михал Михалыча, чтобы отодвинули контрольный срок на сутки. При одной этой мысли тошно становилось. Да, вот деталь, сыгравшая впоследствии немаловажную роль: их рация барахлила. Накануне во время бурана едва смогли связаться с лагерем.
Наконец, обвинения Сережи!..
Но, думается мне, было и еще другое, оно-то и привело к нежданному согласию Воронова, и это — воспоминание, нечаянно разбуженное упреками Сергея. Многое в поведении, в недомолвках, в старании Воронова увести в сторону склоняет к мысли, что именно воспоминание о том несчастном вечере, когда явился — иначе не назовешь — просить руки, ошеломило его. Болезненное, нелепое, хуже — вредное, как он был убежден. Ибо дальше борьба самолюбий и… чем-то перекликающаяся, столь же невразумительная, горькая и в основе своей не поддающаяся никаким логическим обоснованиям трагедия. А тогда, кто знает, может быть, как раз и поддававшаяся…
Скажут в упрек: попытка автора подвести определенную психологию, заодно связать концы с концами. Не знаю, не знаю. Но резко изменился тон Александра Борисовича, едва дошел до означенного пункта, лицо приняло иное, отстраненное выражение, как если бы такого направления мысль, такое переживание осветили его. Следом застыло в привычной непроницаемой неподвижности — воля и самообладание навели порядок.
Сухим, ровным голосом он еще подтвердил, что, согласен, было проявлено определенное недомыслие с его стороны, утратил временно бдительность, поддался эмоциональному нажиму Сергея Невраева. Сколько неприятностей принесла ему минутная его слабость и сговорчивость. Какая тяжелая наука!
«Снег — это просто, снег — это ерунда. Знай себе вкалывай ледоруб впереди да поэнергичней переставляй ноги. Конечно, подниматься по лестнице к себе домой, когда лифт не работает, несколько легче, — Сергей шуткой старался прикрыть растерянность после нежданной победы над своим супротивником, — а впрочем… Впрочем, бывало и совсем иначе, бывало, что ноги отказывались в лифт идти, так бывало. Э-э, что теперь вспоминать, сказал же себе: как было — не будет. Наизнанку вывернется, а не допустит повторения прежних сцен. Понял уже, что она над ним хозяйка, эрго, как сказал бы Воронов, терпи и жди. И чтобы никакого наигранного безразличия, никакой игры в «не хочешь — не надо». Разве не радость, не великое, дарованное непонятно за какие заслуги счастье, что может видеть ее, быть с нею? Мало этого, мало?»
Сергей глубоко вонзил в снег ледоруб, обернул вокруг древка страховочную веревку, собирался уже крикнуть, чтобы шел этот самый Жора, но опять голос Воронова. Сергей поискал глазами: в широкой ступенчатой расщелине он. Из-за его каски высовывал голову Паша.
— Ну?
Воронов:
— Давай-ка, друг Сергей, поднимись лучше на скалы. Что за страховка на снегу? Запросто стащит. Со скал будем организовывать охранение.
Сергей уже открыл рот, чтобы доказывать и убеждать. «Снег держится хорошо, к тому же морозец, небольшой, а есть, и солнце… солнышко вон вершины на той стороне осветило, сейчас к нам перейдет. Все отлично. Не будет повторения вчерашнего. Что угодно, но только не сидение сутками в палатке, только не лишний день в без того мучительно затянувшейся разлуке — бессмысленной и жестокой… Наконец-то фортунит, — уверен он. — То все не везло, буран, залепленная снегом стена… И теперь тут тратить попусту время, переходить для страховки на скалы? Да что он?.. Ну, поедет кто вместе со снегом, так сам же и остановится. Ледоруб у каждого. Так что все о’кэй, всё, кранты, дорогой профессор… — И не стал спорить. — В главном уломал: идем по снежнику, и на том наше вам с кисточкой. Надо и его поублажать, подарок ему сделать. Раз, другой организуем страховку со скал, как его душа жаждет, а дальше видно будет».
Сергей послушно повернул к скалам, принялся месить снег назад (возле самих скал намело — ужас!) Как раз уступчик подходященький (неужто углядел Воронов?). Что правда, то правда, охранять со скал сплошное удовольствие. Чувствуешь себя… как у Воронова за пазухой, и вообще блеск.
Жора Бардошин резво двинулся по пробитому следу туда, где Сергей поначалу налаживал охранение, и, не останавливаясь, дальше. Снег едва не по пояс, глубокая борозда потянулась за ним.
Не любит Бардошин ишачью работу, ему подавай что потехничнее, пофасонить, нервы пощекотать — помаленьку, полегоньку закосил ближе к середине снежника: снег там не столь глубок, идти легче. А пусть его, на здоровье. Не вступать же в пререкания.
И думать тоже не обязательно о нем. Воронов как-то, пытаясь успокоить ли, примирить, заметил: незачем раздумывать о таком, в чем участие твое невозможно. О Регине буду думать.
«Если я буду думать о Регине постоянно, всякий час, хорошо думать, без упреков… может быть… это сбережет ее. Существует же телепатия. Или нет?
До чего соскучился! По ее голосу, взгляду, повороту головы, движению губ. Вскинет на него глаза, когда уж очень долго смотрит, — чуть испуганно и едва заметно улыбнется… победно.
Что-нибудь сделать ей приятное… Все покупают шерсть у балкарцев, но она не вяжет. А, да что шерсть, что любые подарки!»
Паша где-то выудил: Толстой, живя в Париже, бедствовал, мотался по редакциям бульварных газетенок, не гнушаясь никаким заработком; наступил день рождения дочери, а в кармане ни сантима. Подвел ее к окошку — на верхотуре, в мансарде они жили — и говорит: «Дарю тебе всех воробьев Парижа!» Ведь здорово? А он, Сергей, он скажет: «За неимением лучшего дарю самого себя в полное и безраздельное твое владение».
«Не хочешь, чтобы я ездил в горы? Хорошо, я что-нибудь придумаю. Только совсем без гор не смогу. Для меня это не отдушина, не убежище, где зализывают свои раны, это — Горы. Во всяком случае, отпуск мы будем проводить вместе непременно. Вот увидишь!»
Бардошин остановился, снял каску. Извернулся и приторочил к рюкзаку. Прямые черные волосы слиплись. Жарко ему, распарился. Пошел месить снег дальше. Все дальше и дальше от скал.
«Как трудно любить, — думает Сергей. — Любить и не отказаться от себя. От своего дела. Сохранить личность. Образ мыслей. Сколько требуется такта и деликатной настойчивости. Но Регине труднее, чем мне. Чтобы, быть в искусстве — надо отдавать себя всю…
Я понимаю. Я здесь многое понял, честное слово. За последние дни. За эту ночь. — Сердце его полно. Он едва ли не ощущает ее присутствие здесь, сейчас. И обращается к ней, словно она и впрямь может его слышать: — Знаешь… я верю. Случаются моменты, когда видишь все очень ясно. Без досадных мелочей. Вопреки им. Крупно. Сейчас именно так со мной. А, да что я, прости меня, не хочу о чепухе! Бесконечно хочу тебя видеть…»
…Нарастающее, пронизывающее шипение, переходящее в гул, в грохот… Белое, увенчанное яростно разгорающимся перламутровым, с золотыми всплесками ореолом, огромное и неотвратимое, как вздыбившийся морской вал, но во много крат более могучее и прекрасное, налетало, разрастаясь вширь и ввысь, скрыло снежник, уходивший вверх, к гребню, к вершине, и маленькую фигурку Бардошина, метнувшуюся назад, скальную гряду прямо напротив и скалы вверху — все скрыло, все вобрало в свою клокочущую, стремительно несущуюся в грохоте и реве круговерть.
Весь мир погрузился в снег, клубящийся и ревущий, резкий, колючий — забивает нос, горло — нечем дышать, нечего видеть… И Бардошин — там, в этом адском вихре!
Ненависть и мстительное радостное чувство, вырвавшиеся из неведомых глубин и, подобно лавине, перекрутившие все переживания, смявшие, разбросавшие их, так что одно злое удовлетворение правит бал: «Вот она, справедливость! Совершается!» Но это все пронеслось в мгновенье. Потому что сразу же…
…сильный рывок веревки. Сергей, напружинившись, откинувшись назад, упираясь изо всех сил в каменную твердь, стравливает веревку… Стравливает, подтормаживая спиной, плечами, сжигая рукавицы и спину; стравливает, не различая уже ничего в несущемся белом мраке; стравливает, отдавшись целиком дикому этому противоборству. Откуда-то из страшного далека сквозь рев и грохот донеслись будто с запущенного на высокой скорости магнитофона вопли:
— Веревку!.. Отстегни вере-о-овку-у!.. Ка-ра-би-ин… от-кро-о-ой!
И не отстегнул страховочную веревку, не открыл карабин, соединявший веревку, на которой был Бардошин, с его грудной обвязкой. Наоборот, словно поддержанный и вдохновленный этими командами, обрекавшими Бардошина на гибель, словно хвалу и восхищение услыхав в них, с еще большим, превосходящим все былые возможности упорством — сатанея! приходя в неистовство! — удерживал захваченного лавиной Бардошина.
Не знающий границ своей страшной мощи, плотный, как несущаяся снежная стена, снежный ураган, и неодолимый потяг веревки, и его не знающее предела сопротивление, в котором слились его гордость, его тоска по любви, древнее, без конца нарушаемое, но оттого нисколько не утратившее своей категоричности «не убий» и жажда доказать им всем, доказать, доказать!.. А еще молнией осветившая и наполнившая его существо надежда, более того — уверенность: что, спасая этого человека, он отстоит Регину.
Но тут кончилась свободная веревка. Как катапультой срывает Сергея со скальной площадки. Ревущий снежный вихрь подхватывает его в свои объятия. Сергей выталкивается ногами, гребет что есть мочи. Разогнавшаяся лавина несет его на своем хребте, вскидывает и переворачивает, швыряет вверх, вниз, кружит и ударяет, дергает… Эти рывки за грудную обвязку, внезапные, неподготовленные, едва не вышибают дух из него и затаскивают в самую глубину, из которой он снова выгребает, выталкивается. А лавина, словно играя, ослабляет свою хватку и подбрасывает его как на гребне волны, и вдруг — рывок опять, ломающий ребра, останавливающий дыхание… И опять выгребает руками, ногами, выталкивается. Нечем дышать, снег, снежная пыль забили нос, горло, глаза под очками, и уши не слышат собственный вопль — сопротивляется, выгребает… Но тут воющий этот, гогочущий злорадно вихрь ворвался в самое его тело, в его мозг — и тишина. Не стало снега, кипящей круговерти вокруг, не стало гор, Регины, ничего.
ГЛАВА 15
Наверху, в скалах, Воронов пытается связаться по радио с КСП или альплагерем. И поначалу ему везет. Едва различимый сквозь шорохи и разряды, ему отвечает голос, кажется, Михал Михалыча. Воронов еще вчера с сожалением убедился: с батареями их надули, дали старые. Не проверил как следует, когда получал рацию. То есть пощелкал тумблерами, все работало, и успокоился. И вот теперь, в самый ответственный момент, и такое дело. «Никому нельзя доверять. Что за народ, что за разгильдяйство! — дает он себе волю, словно пытаясь растерянность свою, недоумение, наконец, то, что в переживаниях человека иного склада именовалось бы как леденящий ужас, излить в этом запоздалом возмущении. — Десять раз проверишь и перепроверишь… на одиннадцатый надуют. Все из-под палки. Привыкли уже — дублируется не раз и не два, любой огрех на каком-то более высоком уровне замажут, и, значит, нечего и в ус дуть».
Александр Борисович кричит в микрофон о том, что их накрыла лавина, что Невраев и Бардошин унесены лавиной. Что он, Воронов, с Кокарекиным находятся там-то, ждут указаний. Переходит на прием. Никакого ответа. Повторяет свою информацию и снова: «Прием! Прием!» Ладно, на КСП могли куда-нибудь деться, но в кабинете начлагеря тоже мощная аппаратура и уж Михал Михалыч всегда на месте, кабинет свой любит, холит, почитает… Ответа нет или настолько слаб сигнал, что разобрать невозможно?
Батарейки садятся на глазах, и Александр Борисович выключает рацию. Незачем зря расходовать питание. Придется ждать вечерней радиосвязи с КСП. В таком именно плане он объясняет изнервничавшемуся Павлу Ревмировичу сложившуюся ситуацию.
Бедный Павел Ревмирович, Пашуня, топчется рядом, хватается за голову и, словно разболелись зубы, раскачивается в разные стороны. Порывается говорить и смолкает на полуслове. А то и хуже: вниз, туда, за лавиной, требует. Мысли его мечутся, взрывая одна другую, и возвращаются на круги своя, к моменту, когда все были здесь вместе… Снова виток, и мучительное непонимание: как же так, минута за минутой уходят, а они с Вороновым?.. Как собака, которой перебили ногу, крутится на месте и визжит, так и Павел Ревмирович, с той разницей, что сам, во всяком случае, цел, исключая пустые ушибы и ссадины после утреннего падения. Он и забыл про них, забыл обо всем, едва пришел в себя после гула, грохота и адских вихрей пронесшейся лавины и увидел, что там, где только что, напружинившись в ожидании потяга страховочной веревки, находился Сергей, нет никого. Нигде нет Сергея. И Бардошина тоже не видно. А снежник… Будто не было никакого снежника, приснился — ободранный до камней склон. Только пыль до сих пор искрится в лучах заигравшего солнца.
Радио зачем-то… И совсем непонятное: следует ждать сеанса вечерней радиосвязи! Для чего, когда надо вниз. Скорее вниз! — грохочет в его голове. Найти, помочь…
— Лавина! — говорит Воронов, вкладывая в это слово все уважение, на которое способен. — Ты что, не видел, не понял?..
Если вернуться опять к тем первым минутам после того, как пронесся чудом не захвативший их самих лавинный ураган и перед глазами Воронова предстал голый каменистый склон и пустая площадка, с которой страховал Сергей; если с неумолимой ясностью представить, что он, Воронов, пережил, придется признать: первым импульсивным побуждением его было то же — скорее вниз, за лавиной, искать товарищей. Едва одолел свою реактивность. И ведь не раз уже приходилось наглядно убеждаться в несостоятельности и вредности таких, с бухты-барахты, непродуманных действий. Не первая лавина на его глазах, ну, пожалуй, не было еще, чтобы настолько рядом, и Сергей… Кричал, приказывал. Сразу же было ясно и понятно: нипочем ему было не удержать… Ладно. О тех, кого не стало, — или хорошо, или ничего. Как же он сам еще далек от подлинной собранности, как трудно сохранять выдержку в критические минуты!
Его прямая обязанность как начальника группы прежде всего в том, чтобы сообщить о случившемся. И второе: следует обдумать хладнокровно сложившуюся ситуацию, взвесить любые аргументы, прийти к оптимально отвечающему сложившимся условиям заключению.
Если бы не вопли Павла Ревмировича и его несдержанные попытки подменить деловой, вдумчивый анализ, спокойное обсуждение чистейшей воды эмоциями: «Давай! Скорее!» — и так далее.
Нет, торопиться ни в коем случае нельзя. Прежде необходимо тщательно разобраться, приняв во внимание любые возможные про и контра, — такова преамбула. И конечно, дать знать на КСП.
— Я тебя слушаю! — Воронов вынужден перебить ход своих размышлений. — Не думай, пожалуйста, я не оглох. Слышу и принимаю к сведению. Весьма возможно, мы поступим именно как ты сейчас столь амбициозно требуешь. К тому призывают нас наши чувства, согласен. Но это должно быть обосновано, должно явиться следствием делового, трезвого рассмотрения вопроса, заметь себе. Несколько лишних минут ничего не значат. Если ты имеешь сообщить что-либо дельное, слушаю тебя со вниманием. Но прошу, перестань хотя бы размахивать руками и сядь. Сядь на рюкзак! Сними, сними его. И сядь. Вот так. Очень хорошо. Теперь слушаю тебя.
Сергей открыл глаза. Темно. Тишина. Закрыл снова. С неохотой выходя из глубокого вяжущего оцепенения, в котором ему так отрадно, так необремененно, принуждая себя еще и потому, что неприятное что-то на лице, мешающее целиком отдаться завораживающему покою, — мухи, много мух ползают по лицу, жирные, синие, с отсвечивающими красным и голубым крылышками… Как когда-то в детстве, давно-давно, еще только начинал увлекаться энтомологией и возил на Воробьи разную дохлятину приманивать жуков — вынул бутерброды бабушкины из портфельчика, а мухи эти… Словно повинуясь детскому внезапному чувству, открыл глаза.
Коричневая, пронизанная синими и красноватыми искорками тьма…
Медленным, просыпающимся движением приподнял руку, нашел свое мокрое лицо, сдвинул очки, залепленные снегом.
Ударил ярчайший свет. Мириады алмазных пылинок — крохотных осколков солнца — реяли в воздухе и, постепенно опускаясь, открывали взору кипенно-белые и синие склоны; небо в легких, просвечивающих облачках, тесно зажатое между гор; ленивые громады скал неподалеку, припорошенные снежной пылью, кое-где на солнце они чуть дымились, поблескивали влажными гранями; рядом и вокруг навалы снега, комья, бугры; а ниже, в нескольких десятках метров, неровно выкатившийся громадный снежный конус. Холодные голубые тени. И золотисто освещенные солнцем изломы, гребни, уступы. Свет и тени.
Сергей вглядывался и не узнавал изменившийся и все-таки знакомый профиль гор: высоко вверху углом поднявшуюся стену и часть гребня, который еще позавчера так неистово, так надсадно штурмовали. Многочисленные приметы случившегося существовали сами по себе, вне какой-либо связи с ним.
Напряжение, гнавшее через скалы и лед к вершине, заслоненной теперь ближними скалами и контрфорсами, муки ревности, ненависть, суматошные планы убийства и разгоревшаяся, заполнившая все его существо надежда — как не было ничего этого. Одно настоящее, то, что окружало его сейчас здесь. Словно пелена спала с его глаз, он увидел мир, каков он есть, не заслоненный меняющимися заботами, нетерпением и вечными упованиями, — совершенный в каждой мелочи.
«Как хорошо… — складывалась странная, невозможная хвала — чему? — он и сам не знал. — Камень вон… С переплетающимся узором чуть розоватых и серо-зеленых прожилок, чистых, ярких. Неужели лишь оттого, что влажный? Бугры снега… Будто в театре. Как делается снег в театре? — явился вопрос. — Ведь похож на настоящий. Преувеличенно похож! — путаясь и не решаясь понять то важное, о чем, казалось, криком кричала всякая подробность вокруг, мало того — отодвигая это понимание, не желая расстаться с иллюзиями, цепляясь за них, невнятно раздумывал он. — Хлопьями тихо опускается… в сцене у Зимней канавки. Игра, театр, все ненастоящее, и… хватающая за сердце правда. Регина рассказывала, как на генеральной пьяный техник что-то не туда включил, снег снизу вверх пошел, и никто не обратил внимания, так пела Лиза…»
Он приподнял голову, хотел встать. Невозможная догадка явилась, поначалу даже не потревожив и не испугав его, почти не нарушив расслабленного любования. Тело само конвульсивно напряглось, пытаясь высвободиться из снежного плена, — минута беспорядочных усилий, когда инстинкт жизни бросает в действие прежде, нежели рассудок подскажет как. Обрывки мыслей перескакивают с одного на другое, не сосредоточиваясь ни на чем. Трепещущая память, безжалостно отринув не боязнь, скажем иначе — чисто мужское стремление уйти от действительности, — рывками и в обратном порядке восстанавливает ход событий. Как выгребал в кипящем, несущемся снежном потоке, не понимая, не видя ничего вокруг, повинуясь чему-то, что не было ни разумом, ни даже памятью… Потом… но это раньше — неудержимый рывок веревки, сорвавший его со скал. И первые секунды: снежный вал, увенчанный сияющей короной.
Сами собой, казалось, локти уперлись в снег… Вкладывая все силы и те, скрытые, о которых зачастую и понятия не имеем, покуда жестокая необходимость не призовет их, стронул свое тело. Ничего не зная, кроме пожирающего напряжения, целиком в нем, потащил себя сантиметр за сантиметром… Удерживал рюкзак. Нащупал лямку, выпростал из нее руку; другую лямку сдвинул с плеча. Уперся ладонями. Под правой просел снег. Подложил лямку, где подшит войлок. Еще усилие. Еще!.. Вытащил, вырвал себя из плотной снежной массы. Попытался встать. Острая боль взорвалась, руки его подогнулись, и все вокруг закачалось, поплыло, быстрее и быстрее, теряя очертания…
Едва Сергей ощутил себя вновь, его охватил страх неизвестности и ужасных предположений. Так бывает, когда начинаешь понимать, что ранен, но не знаешь, насколько серьезно, не видишь куда и страшишься, что действительность хуже пугающих предположений, страшишься убедиться в этом и не можешь ни минуты терпеть неизвестность.
Медленно, ожидая ежесекундно нового взрыва боли, опасаясь, что уйдет сознание, очень медленно и осторожно и все время прислушиваясь к своим ощущениям, контролируя себя, приподнялся на руках.
«Ноги?.. — Словно гора с плеч: — Целы. Как будто. Но… что-то неладно, что-то определенно неладное с ногами».
Попробовал было встать и не сумел. Опираясь на левую руку, правой принялся ощупывать себя.
Все цело и крови не видно. Ни на одежде, ни на снегу. Но поясницу рвало, жгло. Перед глазами опять поплыло… Тошнота. Осторожно опустился на спину и лежал, отдаваясь боли, пережидая ее, стараясь только не напрягаться, не делать ничего, что могло ее усилить, усилить тошноту.
Живая, режущая, рвущая боль. Все, что способно чувствовать, страдать, до конца наполнено болью. Ни о чем не думал Сергей в эти долгие минуты. Боль вытеснила все и властвовала надо всем, что было им.
«Что такое?» — Он хотел передвинуть ногу, повернуться на бок. Он хотел, он пытался…
Ноги не двигались. Ни одна. Ноги были как чужие.
Он понял, что не чувствует ног совсем и что именно в ногах нет боли.
Медленно приподнялся, дотянулся рукой, трогал ноги, давил. И не чувствовал касания руки. Не ощущал стиснутой кожи. Только боль в истерзанных, обожженных веревкой пальцах.
«А Бардошин?.. Мы на одной веревке…» Побелевшими глазами Сергей смотрел вниз, где в комковатом, присыпанном будто сахарной пудрой снегу терялась веревка.
— Эге-ге-ге-гей! — закричал он и не узнал свой голос, слабый и хриплый. — Э-гей! Эге-ге-гей! — Шесть раз в минуту — сигнал бедствия.
Он кричал и всматривался, вслушивался, до звона в ушах, до рези в прищуренных, слезящихся от напряжения и яркости глазах. Всматривался в навалы снега и камни, курившиеся парком, и громоздившиеся по сторонам скалы. Вслушивался в шорох оседающего снега. И кричал.
Много раз кричал.
И слушал.
Но даже эха не было ему в ответ. Голос тонул в мертвенном, неподвижном, поглощающем звуки безмолвии.
Он кричал с каждым разом слабее и глуше, пока не обессилел вовсе.
«Навряд веревка оборвалась. Тут Жора где-то. Засыпан», — почти без сожаления решил он. Нащупал возле грудной обвязки веревку, потянул. Выбрал метра три. Больше не поддавалась. Медленно перекатился на живот. Подумал было, что, если с позвоночником что-то или почки, лучше на спине лежать, чтобы холод. И остался на животе. Только подложил под подбородок руку, сожженной ладонью вниз, к снегу. Спину грело солнце. Поташнивало. И так горько, так отчаянно пусто и бессмысленно было на душе.
Сквозь оцепенение, спутанность пробилась боль. Боль росла, крепла по мере того, как Сергей сосредоточивался на ней. К боли присоединилась жажда. В горле свербит, пересохший язык липнет к нёбу. Подскреб немного снега, взял в рот. Снег таял и не утолял, но обострял жажду. Медленно грыз отдающие ржавчиной куски льдистого снега.
Один во всем мире. Кричи не кричи… И все-таки повернулся на бок, затем на спину, снова начал свои бессмысленные слабые призывы. Голос какой-никакой — от жизни, как и боль. Человек, который страдает и кричит, еще не так плох. Эта несчастная мысль что-то крепила в нем, уводила от отчаяния, от покорности отчаянию.
Надвинул на глаза защитные очки. Стекла в каплях. Приподнял голову и стянул очки. Тут только сообразил, что каски нет. Кое-как протер пластмассовые фильтры рукавом. Надел. Чуть покойнее стало от простых этих забот. Обыкновенное оказывалось благом.
«Безвыходных положений не существует», — вспомнил он и поморщился, так издевательски прозвучала здесь эта фраза. Попытался думать о другом. Но другого не было. Были горы, белыми крепостями возвышавшиеся по сторонам, скалы, снег, боль, безысходность. Бардошин где-то тут, под снегом. Остальные?.. Остальные, наверное, тоже. Смерть забрала всех, с кем вместе шел, ссорился, ненавидел, кого любил…
«Не уйди Жора вправо к середине снежника, не подрежь его… И ведь хотел крикнуть… И не крикнул. Воронов тоже молчал. Хотя условием поставил: идти возможно ближе к скалам. Или пожалел нас, грешных, видя, сколько намело снегу возле скал. Но Воронов жалеть не умеет. А распутывать до конца этот узел — я и никто другой потребовал подниматься по снежнику. Я — потому что Паша вымотался вконец; потому что скорее казалось; потому что я хотел одолеть давнее недоверие к снегу, а может, и то, что копилось против Бардошина… да мало ли. Паша выглядывал тогда из-за Воронова, конфузился и радовался, что со скалами покончено. Воронов же, обычно въедливый до мелочей, тут словно улетел за тридевять земель. А, да что теперь!
Нет, надо понять. Именно теперь. Не кривя душой. Незачем валить на «несчастную случайность». Жора шел, где ему было легче, а мы все смотрели, занятые каждый своим. Но я ждал, я надеялся, что что-то произойдет. Чтоб не самому, не своими руками. Чтобы остаться чистеньким и ни сном, ни духом. Не смел, может быть, так прямо, как сейчас, думать, но ждал. А когда случилось… Что ж, если бы Жорка был жив, он с полным основанием мог бы съязвить: «Смалодушничал». Да, так оно, если отбросить привычную манеру городить всяческие ширмы, и раз не вижу, следовательно, этого нет», — с горькой укоризной билось в нем, не давая сосредоточиться на действительности.
«Да, самостоятельно спускаться нечего и думать, — говорил он себе через минуту. — Быстрой помощи ждать неоткуда. Контрольный срок еще только послезавтра. Да. Да…»
— Спокойнее, спокойнее, — желая вернуть скользнувшую, не задержав поначалу внимания, не оставив, кажется, и следа, мысль, подобие мысли или только чувство — предвозвестник мысли и вот пытаясь выразить словами. — Постой. Да… Паша и Воронов… Да!..
Лихорадочно кружась, память полетела к той, отделенной теперь от него жизни, когда он страховал Бардошина и услышал сквозь гул и грохот налетавшей лавины пронзительные крики Воронова… «Они живы! Да. Воронов и Паша остались в расщелине, над снежником. Лавина не могла достать их. Ах, как он был прав, Воронов, как прав!.. Но это же замечательно, они живы!»
«Рация? У них. Воронов наверняка уже связался с КСП…»
…Как неприятно бывало известие о спасательных работах. Ломались намеченные планы. Дождь, ночь, они выходили, не шли — бежали, по скалам лезли — какое там охранение! — лишь бы скорее. И иногда оказывалось: всего-навсего ключица, камнем огрело, а не то ножку потянул, и из-за того весь сыр-бор.
«Ребята выйдут сейчас же, едва узнают. Хорошо, что рация у Воронова. Теперь надо ждать. Дожить».
Он хотел хотя бы приблизительно подсчитать время, которое потребуется спасательному отряду, чтобы пробиться сюда. Сдвинул рукав, но стекло на часах разбилось, стрелок не было. Случившееся выбило его из ритма времени. Попытался как-то определить их маршрут. Пытался сообразить, куда вынесла лавина… Если на КСП уже знают, если сильные альпинисты окажутся в лагере, не на восхождении, если отряд пойдет сразу по верному пути, если путь этот не преподнесет никаких неожиданностей… Если не изменится погода, если у Паши и Воронова все благополучно, если рация заработала — что-то жаловался Воронов…
Множество «если», каждое из которых вольно отодвинуть срок на пять часов, на десять, на сутки и больше. Воронов с Пашей должны бы спуститься раньше. Но опять: если они невредимы и спуск не слишком сложен. У них почти не осталось железа. Я настоял, чтобы «слесарню» тащил Бардошин.
Сергей не хотел напрасно обнадеживать себя. Он знал, как трудны, как отчаянно жестоки часы ожидания сверх срока, который себе назначишь.
«Какое расстояние промчалась лавина? Где она падала?..»
Сжав зубы, чтобы не клацали, закрыв глаза, Сергей медленно погружался в забытье. Тревожное, наполненное мучительными видениями, грохотом лавины. И криками товарищей. И чего было больше в этом забытьи, ужаса перед случившимся или позднего раскаяния, кто знает.
Михаил Михайлович расположился в своем удобном кресле в заново отделанном деревянными панелями под орех кабинете. Это массивное, старого образца мягкое кресло, обтянутое теперь уже под кожу, Михаил Михайлович весьма почитает и перевозит с собой на всякое новое место работы, ибо судьба, как мы уже заметили, не слишком милостиво обходится с его владельцем. Кресло придает Михаилу Михайловичу солидности, уверенности, подчеркивает значительность и первостепенность его крепкой коренастой фигуры, облаченной в защитного цвета военный френч, на фоне десятка современных стульев из гнутых черных трубок, на которых рассаживается во время совещаний разнокалиберная молодежь в штормовках, свитерах, ковбойках, кто в чем, именующая себя альпинистами. Михаил Михайлович очень любит проводить совещания, обсуждения, собрания актива и иные мероприятия в своем кабинете. Хотя народец этот, альпинисты, отличается, по его мнению, весьма непоседливым нравом, крайней упрощенностью в отношениях друг с другом, а также некоторой распущенностью, тем не менее среди них встречаются люди с положением, профессора, однажды даже академик, лауреат приезжал, правда, узнал об этом Михаил Михайлович по упущению бухгалтерии только под конец его пребывания. Но в настоящее время Михаил Михайлович совершенно один и смотрит телевизор.
Изображение на экране дергается, плывет, прием из рук вон плохой. Полно электроников всех мастей, начиная от обычных инженеришек и до докторов различных наук, а подправить телевизор, — ма́стера из телеателье за полторы сотни километров приходится вызывать. Впрочем, вопрос этот лишь попутно возникает в мыслях под влиянием испорченного настроения. Беспокоит Михаила Михайловича другое. Это другое — весьма странное сообщение, которое полчаса тому назад уловил из приемника, настроенного на волну группы Воронова.
Следует отметить, что Михаил Михайлович в целях придания особой значительности описываемому восхождению на Скэл-Тау со штурмом северной стены лично поддерживал радиосвязь с Вороновым, так сказать, осуществлял верховное руководство (и для восходителей хорошо: строже, старательнее относятся к своим обязанностям, видя, какое внимание проявляет к ним начальник лагеря). Но лишь до тех пор (отметил он мысленно), покуда они действовали по договоренному графику. Сегодня же утром — именно так, утром! — он вынужден был снять с себя вышеуказанные полномочия, ибо Воронов, сославшись на буран, сильную заснеженность стены и прочее, отказался от штурма и повел своих в обход. Слышно его было из рук вон плохо, но так понял Михаил Михайлович и товарищи из КСП. Между прочим, Воронов фактически и, значит, самовольно уже находился на новом маршруте. Наконец, только что, совершенно нелепое, ни в какие рамки не укладывающееся сообщение!.. Да и сообщением не назовешь: возгласы, половину из которых практически невозможно было разобрать, и что-то про лавину. Скорее догадался, чем понял, хотя и посейчас не уверен в правильности. Даже послышалось, будто «унесла двоих»… Здраво рассудив, засомневался и согласно выработанному принципу — не сгущать краски, не заниматься негативщиной, — отбросил жалкие страхи. Половину слов вообще разобрать было невозможно, так зачем же непременно предполагать худшее!
Он отлично знаком с описанием маршрута Воронова. С начала и до конца маршрут скальный. В любом варианте — скалы. Что ж, что снегопад. Нигде никаких лавин не было, не та температура. Его на мякине не проведешь. Тем более там у них. Когда это лавины сходили со скал? Нечего ему голову морочить. К тому же, сколько ни вызывал потом Воронова, ответа не было. Шип, треск и прочее безобразие. Как в телевизоре. Что-то тут не то, явно не то, убеждался он при дальнейшем рассмотрении вопроса. Уж не затеял ли кто из завистников игру? Альпинисты — народ исключительно несерьезный, вечные розыгрыши, всевозможные подначки с единственной целью похохотать.
Михаил Михайлович на всякий случай звякнул по телефону на КСП. Семенова на месте не оказалось. Какой-то хрипун (вечно они там меняются), может быть под хмельком даже, заявил, что Семенов на склад отправился, комплектует снаряжение. Конечно, в инструкции не указано, что начальник спасательной службы не должен отлучаться на склад, и все же непорядок. С большим сердечным сожалением вспоминает Михаил Михайлович рассказы о иных временах, когда, бывало, среди ночи наберут номер какого-нибудь ответственного товарища, само собой на работу и само собой не чета Семенову, то есть даже, может быть, замминистра, и — пожалуйста! — такой-то на проводе!
На вопросе о Семенове особо задерживаться не стал, пусть его где-то болтается, примем к сведению. Справился о прогнозе на завтра, обещают дожди, наверху снег. Поинтересовался, как идет у них, на КСП, подготовка к выставке, посвященной юбилею альпинистского лагеря, заодно напомнил: никакие объяснения и причины неподачи материалов к сроку во внимание приняты не будут. Все силы необходимо бросить на своевременную подготовку экспонатов к юбилейной выставке. Задал еще несколько вопросов уже не столь боевого характера; о том же, ради чего звонил, известно ли что-либо новое о группе Воронова, и вовсе ни полслова. Осторожность никогда не повредит. Было бы что сообщить, сейчас же и выложили бы.
Вышеприведенный разговор еще более укрепил уважаемого Михаила Михайловича в намерении излишне не торопиться с весьма сомнительным сообщением о лавине. Чего ради он будет сам подбавлять лишнюю галочку в ведомости этих бездельников с КСП, когда доподлинно ничего не известно? Устраивать себе же втык, как выражаются эти альпинисты? Взяли повышенные обязательства по искоренению несчастных случаев, и что же? На КСП не чешутся, даже, похоже, ничего не знают, а знают — не придают значения, так ему-то и подавно не к лицу устраивать панику. Хуже паники и паникеров быть ничего не может, это он неоднократно подчеркивал в своих выступлениях перед инструкторским составом и рядовыми альпинистами.
И Михаил Михайлович окончательно утвердился в намерении и вида об услышанном не подавать. Вечерком попозже в установленное время будет радиосвязь, тогда и послушаем, и поговорим, и обсудим, и сообща, если понадобится, примем решение.
Немного взбодрившись от снега, которым протер свое горячечное лицо, освеженный таявшими во рту льдистыми комочками, Сергей пытался представить:
«Воронов рассчитывает ли, что мы могли уцелеть? И Паша?.. Паша несмышленыш, испугался, наверное. Надеяться можно лишь на Воронова. Если не решит, что… погибли. Спускаться будут все равно, но… — Сергея охватило недоверие раненого к здоровым, обреченного к тем, кто вне опасности. И ушло: — Как бы ты чувствовал себя на их месте? И они, будь уверен, торопятся».
«Но сегодня им не успеть. Завтра… утром. Если у них все в порядке, если погода продержится… Опять если, если…»
Следом: «Здесь кулуар. «Кулуары — дорога лавин», — вспомнилась намозолившая уши формулировка. Скучная, как любое четко выраженное понятие, но теперь нагнетавшая новую волну напряжения своим непререкаемым смыслом.
— Надо перебраться в защищенное место, поставить палатку, — сказал он себе. — Перебраться. Но куда? Поставить палатку… Но как?
Сергей лежал и невольно прислушивался, не срывается ли новая лавина, и всматривался вверх, хотя какая разница, увидит на минуту раньше или позднее. Блуждали, сталкивались, сбивали одна другую шальные бессвязные мысли. Время шло.
Было жарко. Кулуар обращен на юго-запад, снег и скалы отражали со всех сторон тепловые лучи. Сергей находился слоено в центре огромного сферического зеркала и изнывал от жары и жажды. То и дело он набивал рот снегом, но это приносило лишь минутное облегчение. Вода, лишенная солей, только сильнее изнуряла организм.
«Никуда мне не уйти отсюда, — понял он, обрывая лоскутки кожи с пальцев. — Наступит ночь… Почему я решил, что Воронов спустится непременно утром? Начлагеря — ему бы на бумаге был порядок — запретит им. Да под любым предлогом, опасаясь, что тоже попадут в беду. Он сейчас, наверное, никому не доверяет. …А если уже попали? Лавина могла задеть. Какое задеть — смести могла, потащить за собой, как нас с Жорой. Ведь они стояли просто так, самостраховки не было. Или… Да что или! Сколько угодно «или» и «если».
Спасательный отряд… Но если рация не в порядке?
Стеной обступали вопросы, на которые не находилось ответа. Путаница в мыслях, в понятиях; чему верить и чему не верить. Отчаяние и всплески панического возбуждения, когда, не сообразуясь с реальностью, готов на любое безрассудство.
«Вниз, скорее вниз! Пусть боль, пусть что угодно, только вниз. Вниз! Прочь от мертвых скал, снега. Быть среди деревьев, зарыться руками в сухую землю лесного пригорка… Только не снег, что окружает со всех сторон, не скалы. Вниз, вниз…»
Он попытался одним резким движением, не обращая внимания на боль, встать, чтобы идти, двигаться. Только бы прочь от снега, от скал, от давящего кошмара одиночества… Но глаза застлало туманом, и сам он и все вокруг медленно повалилось куда-то.
Павлу Ревмировичу явно не по себе. Губы его дрожат, он почти как после своего срыва. А вглядеться, пожалуй, что и нет, отмечает про себя Воронов. Тогда было олицетворение страха и неуверенности; теперь — бестолковая, граничащая с отчаянием решимость и, конечно, младое возмущение, которым Паша, как и многие его сверстники, страсть как любит потешить себя. Но дай ему волю, и вгорячах ринется по скалам либо даже по кулуару, где прошла лавина. Разумеется, отпустить Павла Ревмировича и мысли не возникает у Воронова.
— Посмотри, сколько висит! — Воронов резко выбросил руку в направлении оборванного высоко вверху снежного поля: — В любую минуту новая лавина может сойти. Пострашнее первой. Подобных случаев сколько угодно. В правилах безопасности сказано…
— Какие правила? Там люди! Наши товарищи! Там Сергей… — Паша шагнул к обрыву, похоже, и впрямь собираясь начать спуск.
— Изволь держать себя прилично, ты что? — Воронов вынужден призвать его к порядку. — Сколько мы звали? Ла-ви-на! Через скальные стены… — Множество доводов логически выверенных, доказательств, увы, бесспорных прокрутил мысленно Воронов, прежде чем пришел к своему пониманию, и теперь почти уже без каких-либо сомнений уверен в непреложности летального исхода. — Один шанс на тысячу, — восклицает он. — Даже на десять тысяч!
— Слушай, — взмолился Паша, скинув рюкзак, даже присев на него, как требовал Воронов. — Ведь ты умный. Хрен с ним, что профессор, я о другом. Ты же моментально расчел, когда пошла лавина… Я тебе готов все на свете простить за одно то, что крикнул Сергею. Только я знал: не послушает он тебя, нипочем не отстегнется от веревки. Ты точно просчитал, не удержать ему Бардошина, и пусть гибнет один, но не два. Я понимаю, расчет есть расчет. Особенно, когда умная голова его делает. Все так. Но есть, что выше любых счетов-пересчетов. Выше, чуешь? Откинь ты свою математику, и пойми, сердцем пойми, печенками — мы должны идти сейчас, сию минуту на помощь Сергею и Жорке. Что бы там с ними ни было. Мы должны. Должны!..
— Я сделал, что считал себя обязанным сделать, — ровным голосом, чуть разве выше обычного говорит Воронов, тоже устраиваясь на рюкзаке в расщелине. — Я не хотел, чтобы мы переходили на снежник, заметь себе. Когда Жора подрезал пласт и выше сразу сорвалось целое поле, я видел: Сергею не удержать без самостраховки Жору, его сорвет. Да и крючья вряд ли выдержали. Я… я взял на себя тяжелую моральную ответственность. Возможно, и уголовную. Тебе мало этого? Что ты хочешь? — И не дал Паше ответить. — Я надеюсь, ты не хочешь, чтобы мы последовали их примеру? Всего лишь из пустого, никому не нужного, ложно усвоенного понятия героизма. Надеюсь, ты в состоянии понять разницу между подвигом какого-нибудь сержанта милиции, бросившегося спасать тонущего мальчишку и замочившего сапоги, и сложившейся у нас ситуацией?
Павел Ревмирович что-то в ответ, едва не захлебываясь, но Воронов повелительным жестом руки и брезгливо поджатыми губами заставил его умолкнуть.
— Ты и я, мы должны дождаться радиосвязи. Мы должны находиться здесь, на месте, откуда наших товарищей унесла лавина, и координировать работу спасательных групп. Как ни ослабели батарейки, нас услышат, когда наступит время связи. На КСП мощный радиоузел. Вполне вероятно, что лавину видели. Не одни мы сейчас находимся в горах. Теперь о твоем… желании. Одному тебе не спуститься. Ты даже не знаешь, что там дальше. У нас всего одна веревка, мало крючьев. Скоро начнет темнеть. Нам следует готовиться к ночевке. Не забывай, палатка осталась у Сергея. Нам предстоит холодная ночевка.
Снег, прилипший к штормовке, таял. Капли, сливаясь, образовали лужицу в складках рукава. Продолговатая, блестящая как ртуть, с выпуклыми краями лужица тихо колыхалась в такт дыханию. Вылилась тяжелыми крупными каплями, когда, очнувшись, Сергей вытянул занемевшую руку.
Боль вернулась, кажется, еще прежде сознания. Вгрызалась, жгла. Перед раскрытыми глазами возникли снег, скалы… Голова мутная, тяжелая. Во рту пересохло. Снег еще острее отдавал металлом. Безысходность, бессмысленность…
«От беды не уйдешь, когда она охотится за тобой. Тем более если становится возмездием, — сказал он себе. — Двигаться, заставлять себя что-то делать?.. Чего ради?»
Уткнулся лицом в снег. Смежил веки. Красные, оранжевые, голубые круги плыли медленно вправо, поворачивали и поднимались кверху, следуя за движениями его зрачков, и медленно, плавно, неслышно начинали кружиться. Заслоняли друг друга, а пытался вглядеться — возникали неожиданные сочетания, яркие, празднично-звонкие…
Что такое? Ему почудилось… Не понял, но голова сама, как у сторожкого зверя, повернулась в направлении слабого, тотчас угасшего звука.
«Ветер прошелестел в скалах», — решил он, но оцепенение безразличия, неподвижности, подчиненности своему положению отпустило. Слух напряженно ловил тишину. Поймал легкий, не громче шороха ветра, но сразу отличимый от ветра звук. Звук этот продержался недолго и пропал. Сергей приподнялся, закричал. Еще и еще. С равными промежутками. Шесть раз в минуту. Кричал и напряженно прислушивался, сдерживая дыхание, сомневаясь и веря, что не померещилось. И снова поддавался сомнениям, и отбрасывал их.
«Ветра нет и в помине. Если только камень где-то или лед?.. Какой камень! Это… здесь. Или… стоны? Бардошин?.. Живой. Как же я его не увидел?»
Явственно донесся протяжный, похожий на всхлипывание, стон. Нелепость, но даже когда понял — стоны! — все еще надеялся на что-то другое, ждал.
Опять стоны. Сергей приподнялся сколько мог выше на выпрямленных руках и всматривался туда, где терялась в снегу страховочная веревка. Ничего, что напоминало бы очертания человеческого тела, голову, руки. Большие камни и поменьше, уже обтаявшие на солнце, или, может быть, выходы скал и снег. Мятый, жеваный, комьями. Новый стон!
«Там он, справа, где самый навал». Сергей медленно, осторожно передвинулся головой вниз по скату. Подтянул рюкзак. Выжимаясь на локтях, перетащил совсем немного себя, свое туловище, ноги. Снова подобрал руки. Выжался — перетащил еще. Ноги волочились как неживые. Боли в ногах не было. Боль возникала где-то внутри. Но некогда было сосредоточиваться на себе.
Ползти оказывалось не так уж тяжело, как ожидал. Вероятно, потому еще, что вниз, под уклон. И рюкзак перетягивать не составляло особого труда. Тем не менее после пяти-шести таких выжиманий и протаскивания своего тела пришлось остановиться. Трудно сохранять ясность в голове, и все-таки боль одолевала, вспыхивала особенно жарко, когда цеплялся своими беспомощными ногами за неровности.
Потом кончилась свободная веревка. Припал плечом к снегу, поднял другое, отстегнул наконец-то карабин от грудной обвязки, освободил себя от веревки. И пополз дальше. Натужно кряхтя, медленно полз Сергей к краю, за которым только горы и небо и откуда изредка неслись стоны. Полз, выталкиваясь согнутыми руками, помогая себе грудью, головой. Полз, близко ощущая грань, за которой беспамятство. Полз — и это было замечательно, вызывало прилив веры в себя, в свои возможности.
Останавливался, когда уж очень начинало терзать: сомкнутые веки подергиваются, внутри все сжато в комок — терпи, терпи, не поддавайся, не давай себе раскиснуть.
Едва силы и чувство реальности возвращались, тащил себя дальше вниз по жесткому, бугристому снежному скату. Подтягивал рюкзак. Опять и опять выжимаясь на локтях, понемногу, а то и совсем по чуть-чуть передвигался ниже и ниже; задевал ногами, кусал и глотал снег, слизывал солоноватую кровь с левой, особенно пострадавшей при страховке ладони (рукавицу потерял где-то), вслушивался в стоны, не разбирая уже, чьи они, его собственные или того, другого, отыскать которого он стремился; и опять перетаскивал свое беспомощное тело на десять сантиметров, на пятнадцать, дальше и дальше.
Стоны пропали. Сергей не сразу сообразил, прислушался, не напутал ли в направлении, — тишина. Приподнял себя на вытянутых руках — вокруг по-прежнему пусто. И как ни вслушивался — ничего, кроме редкой капели на освещенных низким солнцем скалах да принесшегося издалека цоканья камнепада. Словно нарочно притих Бардошин, затаился, спрятался, испугавшись его приближения. Или нет его, погребен под снежным лавинным навалом, а недавние столь явственные стоны — плод воображения? Галлюцинация. Морок.
Прополз еще сколько-то.
Сразу за большим камнем близко к обрыву разглядел плечо, выступавшее из снега, и обтаявшие черные волосы.
Заспешил, подполз вплотную. Разрыл руками снег. Повернул к себе голову Жоры. Глаза закрыты. Лицо серое, неподвижное…
Сергей смотрел на недавнего врага своего, которому желал смерти, искал возможности расправиться с ним, из себя выходил, когда Воронов отказался от штурма стены, и все равно надеялся и ждал, и не было ни удовлетворения, ни даже самой малой радости, что вот он в его руках, раненный, скорее всего тяжело, даже смертельно. Ничего не испытывал Сергей Невраев из недавнего арсенала ненависти и презрения, тоски и глухой, потаенной жажды мести. Только жалость и щемящее облегчение: жив Жорка, дышит.
Отгреб снег с груди. Расстегнул лямки рюкзака. Жора застонал было и умолк. В сознание не приходил, как ни звал его Сергей.
Просунул руку ему под спину, ухватил за подмышку, напрягся, пытаясь вытащить… «Куда там! — Понял сразу: — Придется отрывать».
Он проковыривал пальцами ямки и выламывал ком. Скреб и откидывал горстью. Долго, бестолково копал, прежде чем удалось освободить руки Жоры. Одна подвернута была под спину. Другая с темляком ледоруба на кисти протянута в сторону. Ледоруб оказался как нельзя кстати. Орудуя им, Сергей уже живее рыхлил, сгребал и откидывал снег. Яма вокруг Жоры росла. Яма казалась глубже от набросанного по краям снега.
— Ничего, потерпи, подожди, немного осталось, — приговаривал Сергей, как если бы Бардошин слышал и с присущим ему нетерпением поторапливал.
Сергей копал и говорил и совсем ушел от того, что с ним самим. Нечаянно-резкое движение заставляло досадливо морщиться, а то и пережидать, закусив губы. Но не боль и отчаяние верховодили в эти минуты Сергеем. Все в нем нацелено на то, чтобы высвободить скорее Жору из снежного плена.
Переполз ближе к камню.
«Неужели раздавлены ноги?.. — скользнуло опасение. — Ноги как раз, где камень…» И опять, превозмогая боль, усталость, закрадывающиеся сомнения, что усилия его напрасны, упорно рыл. Словно главным, более того, единственно важным на свете было даже не спасение Жоры Бардошина, но именно выматывающее, требовательно отнимающее последние силы рытье снега. К чему оно приведет и приведет ли, отодвинулось далеко. Сергей копал, рыхлил, вычерпывал миской, откидывал. Мокрые волосы липли к очкам. Капли пота, щекоча, сбегали по лицу, срывались с кончика носа, с ресниц. Влажная одежда липла к телу, холодила приятно.
«Скорее, скорее, — понукал он себя. — Нельзя мешкать. Небо расчистилось. Зайдет солнце — и мороз. Не больно покопаешь, если замерзнет». И он скорее, скорее и все менее толково и уверенно действовал ледорубом и алюминиевой миской, казавшейся такой удобной поначалу.
Туловище Жоры освободил почти целиком. К ногам трудно подобраться. «Ноги, да, ноги, похоже, да, — утверждалась тоскливая мысль, — под камнем».
И все равно рыл, рыхлил и выбрасывал снег. Рыл, рыхлил и выбрасывал, выбрасывал… Ничего не зная кроме, забыв обо всем, что не было снегом и ногами Жоры, которые он понемногу откапывал.
Наверху, в скалах, спор не утихает. Не спор даже: несдержанно, истерически вопит Павел Ревмирович, размахивает руками, в грудь себя тычет, пытаясь не убедить, не доказать — что ему доказательства! — но вынудить, заставить Воронова мчаться с ним куда-то туда, не зная куда. Воронов, пересиливая себя, старается не слушать. Изредка вставляет охлаждающие реплики. В интерпретации Павла Ревмировича они тут же превращаются в горючий материал. Нет, положительно Павел Ревмирович разбушевался, ему теперь море по колено и дважды два — стеариновая свечка.
Если быть совершенно беспристрастным, а Воронов именно беспристрастен и предельно объективен, кое в чем Павел Ревмирович, возможно, прав. По крайней мере, подоснова громких его заявлений человечна, замешена на милых сердцу, впрочем, и в альпинизме кажущихся несколько старомодными принципах братства и самопожертвования, исполнена отнюдь не формального, но и вправду весьма деятельного и искреннего желания — «Пусть ценой собственной гибели!» (Нет, каков?) — помочь потерпевшим.
— Спаси попавшего в беду! — наивно твердит он. — Спаси его любой ценой, даже ценой твоей жизни!.. Ты знаешь, чьи это слова, знаешь? У тебя память как у ЭВМ. Неделю назад в лагере Сергей еще специально вслух прочел вечером, помнишь, после отбоя. Ведь пронял же тебя Амирэджиби, ведь так? Так почему теперь, сейчас?..
Но сама манера атак Павла Ревмировича, беспрестанные перехлесты, нежелание внять голосу рассудка, теперь еще пафос, взятый напрокат, не говоря уже о неуважительной резкости, неприемлемы. Кроме того, Павел Ревмирович не желает слышать никакие доводы, не стыкующиеся с его весьма романтическим, но не деловым, не реальным представлением о сложившейся ситуации.
— Ты слышишь? Давай! Идем! Они близко… Сергей!.. Застряли где-нибудь. На одной веревке они. Ты что, не знаешь его? Не понимаешь, не мог он, чувствуешь, не мог! не мог Сергей отстегнуть веревку и бросить идиота Бардошина. Я знаю. Я уверен! Какой бы сволочью Бардошин ни был. Значит… они здесь где-то. Близко! Что ж, что не отзываются. Могли не слышать. Или без сознания. А не то мы их не слышим. Здесь они. Сердцем чувствую. Может, сто, двести метров до них всего. Ну, триста. Веревка за что-нибудь зацепилась, задержала их. Наверняка. Я тебя прошу. Как ты не понимаешь? Может, они ранены. Идем… Ну? Ну же!..
Воронов принуждает себя не слишком обращать внимание на сумбурные его выкрики. Тем не менее он осторожно свесился со скалы, смотрит. Запорошенная снегом теснина, особенно угрюмая и зловещая на фоне освещенных солнцем гор и ледника внизу. Что-нибудь около километра до ледника. М-да! Кулуар сворачивает влево. А дальше? Что там дальше, если не скалы и скальные стены?
Павел Ревмирович все еще ни минуты не может находиться в бездействии. Жестикулирует, а то и просто размахивает руками. И говорит, говорит, не переставая. Даже раз и другой порывался начать спуск. Воронову немалого труда стоит охолаживать необдуманное его рвение. Он пропустил страховочную веревку, связывающую с Павлом Ревмировичем, себе за спину и придерживает: мало ли что этот разбушевавшийся чудак выкинет.
В который раз Воронов вынужден доказывать, что спуск слишком опасен, а главное — безрассуден. Там дальше стенки. Надежды на то, что их товарищи уцелели, практически нет. Воронов переживает, и очень, гибель своего друга и родственника Сергея Невраева, а также Бардошина. Но отсюда вовсе не следует, что им тоже необходимо погибнуть. Сколько предстоит неприятных разговоров, объяснений и выяснений, сколько несправедливых упреков обрушится на него. Виноват, разумеется, начальник группы, как же иначе! Следовало бы хладнокровно обдумать, пока есть время, что говорить. Как только установится радиосвязь, придется дать объяснения. Дело делом, а объяснения есть объяснения. И чтобы потом не путать. Но Павел Ревмирович и знать ни о чем не хочет. Одна забота: гневные призывы и праведные обличения. Воронов принужден заниматься им.
Рыть становилось труднее. Снег чем глубже, тем сильнее уплотнился. Ледорубом как следует не ударишь, замаха нет и боязно ошибиться — да по Жоре. А так, одним упором руки не получалось. И выкидывать: яма уже порядочной глубины, рукам неудобно, устали. Устала шея — голову приходилось держать на весу. Ноги, их будто не было. Болело сильно, где поясница. Но черт с нею, с болью.
Разве только голова хуже и хуже справлялась с теми простыми действиями, из которых складывалось рытье и выкидывание снега. Сергей принужден уже думать над каждым отдельным движением.
«Опусти руку в яму. Локоть распрями… Миской надо, вот она, миской набирай снег, — диктовал он своим рукам. — Ну же, побольше. Теперь давай наверх (обидно, если вываливалась миска из пальцев). Отбрось снег в сторону. Подальше (осыпается, если близко). — И снова: — Опусти… Возле бедра ком большой. Протяни руку. Дальше, дальше… Пальцами обхвати. Что ж, что не сгибаются, а ты обхвати. Подымай, подымай…»
Голова в тумане. Сонное тупое безразличие подступает. Как ни гонит его Сергей, наваливается… Отодвинулся от ямы, положил голову на руки и замер.
Ни мыслей, ни переживаний, только боль и усталость. Боль будто караулила, когда все, что способно страдать, выйдет из повиновения и напряженности работы, а сникшая воля ничего не сможет противопоставить, боль рвала и терзала покорно распластанное тело. Сергей только вздрагивал и старался не сопротивляться, распустить мышцы, расслабиться.
Едва восстановились силы, молоточками забила тревога: время! Время… а ты… прохлаждаешься.
Боль и нежелание двигаться, нежелание заставлять себя. Еще бойкая, подлая мыслишка вывертывается откуда-то: идиотское копание, трата последних сил… Бессмысленно.
Бессмысленно!
— Трата сил?
Э-э, никто не знает, сколько у него сил и откуда они берутся. И дело не в силах вовсе. Дело в том, что… нельзя мне иначе. И не́чего обсуждать.
Медленно, трудно выводя мышцы из обморочной неподвижности, вытолкнул себя на край ямы. Как сквозь сон принялся рыхлить штычком ледоруба снег, где ноги Бардошина. Да, будто в представляющемся ему сновидении, неточными заторможенными движениями обкапывал снег. Подбирал миской. Вытаскивал наверх. Выбрасывал. Рыхлил, подбирал, выбрасывал. И снова и снова заставлял себя ни о чем не думать, не ждать, не надеяться. Не опасаться. Не чувствовать.
Рыл. Подбирал. Выбрасывал.
Опускал миску, подбирал снег. Выбрасывал.
Рыл, рыхлил…
Подбирал и выбрасывал.
Медленно поднимал миску, наполненную снегом, иногда с верхом, иногда лишь наполовину. Переворачивал. Брал в руку ледоруб, рыхлил… В состоянии некой медленной одержимости, не поддающейся ни усталости, ни страданию, не оставлявшей возможности думать и по-новому решать.
Наконец он остановился. Долго смотрел, едва веря глазам, как глубоко сумел он прокопать снег вокруг Бардошина.
Передвинулся к голове его. Жора изредка не то стонал, не то вздыхал облегченно. Усы на верхней губе, рассеченной красным рубцом со следами стежков, едва заметно шевелились от дыхания.
Несколько раз Сергей приноравливался, как обхватить Жору удобнее и крепче. Просунул правую руку под спину, ухватил за брюки. Локтем левой уперся в снег. Потянул. Сперва осторожно. Затем рывками.
Ноги Жоры как вмерзли в снег. Сергей напрягся сильнее. Гулко застучала кровь в ушах. Сергей тянул, дергал тяжелое, неподатливое тело. Голова Жоры качалась в такт рывкам, словно подтверждая напрасность усилий: не выйдет у тебя, не выйдет. Ноги не вытягивались. Снег держал. Или камень.
Сергей переполз ниже. Ухватил опять за штанину. Упираясь локтями в снег, тянул…
С новой злой силой замозжила растревоженная поясница. Тупой пилой будто… Сомнения опять, досада и совсем нет сил. Но уверенности в том, что ноги Жоры придавлены камнем, не было.
Сергей смотрел на серое, в капельках растаявшего снега лицо Жоры.
— Очнись! Очнись!.. Слышишь, ты? Мы оба погибнем здесь, если не очнешься, слышишь? Очнись! Я больше не могу. Я кончился, понимаешь! Ты! Ты… И чего я не могу бросить тебя, рассчитаться с тобой до конца хотя бы теперь… Ты… дерьмо. Разве не понимаешь, что я все! Ну что, что я еще должен? Сдохнуть сейчас?
На Сергея напал приступ ярости. То, что так долго, с таким упорством таил в себе, сдерживал и подавлял, рвалось теперь наружу.
— Ты, ты!.. — и поток мучительной, бессильной, высвобожденной отчаянием и яростью брани.
Пашу сотрясает нервная дрожь.
— Мы должны идти…
Воронов молчит. Он уверен, его решение правильно. Так велит разум, так диктуют законы гор. Хотел бы он быть на месте Павла Ревмировича, так же кричать, неистовствовать. Впрочем, до некоторой степени Воронов даже признателен ему. Вынудил, не ведая о том, всесторонне обдумать и рассмотреть в который раз любые возможности и следствия в создавшемся положении. Всегда должен найтись кто-то, резюмирует он, кто взвалит на свои плечи тяжкий груз ответственности, помимо чисто формальной, еще и той, человеческой, на которую особенно упирал и рассчитывал в своем ажиотаже Павел Ревмирович, и поведет дело наперекор эффектным порывам и пустопорожним усилиям, пусть наградой ему — отчуждение, а то и хуже. Куда проще, обезумев от самозабвенной удали, ринуться и… погибнуть. Нет, хватит. Невраев!.. Что же, не понимал Сережа, что не удержать ему нипочем? И ведь он, руководитель, кричал ему, чтобы отстегнул карабин, бросил веревку. А началось еще когда! Если бы не несчастная его, Воронова, уступчивость… И отсутствие должной выдержки… Твердости, твердости не хватает! Да хотя бы в вопросе, дожидаться ли возвращения Бардошина из Одессы? Требовал вычеркнуть Бардошина, прекрасно бы обошлись без него. И уступил. И — с нею… (Воронов не хочет, не смеет подпускать снова те горькие мысли, отмахивается чуть ли не в испуге. И с еще большим упорством, с ожесточением твердит, что более никаких уступок.) Проявляешь мягкость, и оборачивается бедой. Поневоле оказываешься виноватым. И ничего нельзя поправить…
(Что-то он без конца думает о ней и о тех днях. Вспоминает то одно, то другое, а ведь давал себе слово: раз она так поступила — запрет, табу на все, связанное с нею. И все же она… смешно и предположить, она… — то есть совершенная дичь, разумеется, абсурд, нонсенс! — она как-то участвует в том, что происходит.)
В который раз, как если бы перед ним находился непонятливый, погрязший в невежестве двоечник, Воронов повторяет:
— Кулуар чрезвычайно крут. Далее, по-видимому, стены. Радиосвязь будет… — он смотрит на часы, — через час сорок минут. Надо ждать. До тех пор никаких действий. Категорически запрещаю.
— Во-ро-нов!.. — Только что в тоске и нетерпении Паша надеялся, что Воронов согласится. Сколько они здесь, Воронов долдонит и долдонит одно и то же про ночевку, про всякую разность, а сам даже рюкзак не собрался развязать.
— Итак, наша обязанность… — Воронов надел свои телескопы, которые он долго и старательно протирал замшей, собираясь с мыслями, опустил защитные фильтры, оглядел Павла Ревмировича — тот опять сжал руками лицо и раскачивается (если не болят зубы, так что же?) — и снова: — Наша обязанность состоит в том, согласен, чтобы помочь потерпевшим. Но как? Чем?
«Ну, подожди, я тебе сейчас вмажу! — соображает Паша, хватаясь за промелькнувшее такое живое видение и возрадовавшись мгновенной злой радостью. — Ты у меня сейчас на раскаленных угольках попляшешь. Ни единой живой душе не говорил. Даже Сергею ни полслова. Одна Светлана Максимовна знает… А тебе сейчас выдам. Уж так и быть. Каждое словечко в память врезалось…»
…Он как раз у Светланы Максимовны был, тетрадки помогал проверять, она и заявилась, пассия вороновская. Здрасте — здрасте, и молчит. Рот, подбородок перекашивает, совсем как в детстве, когда заикалась, и вот снова, кошки-мышки. Он было начал разные штучки, да нет, Светлана Максимовна нахмурилась: умолкни, мол. Уйти следовало, это он кожей почувствовал, только очень не хотелось. Неделю целую не виделись, с мужем что-то, и уходи. Делать нечего, передал тетрадки; просмотрела одну, другую и ну его щучить: запятые не по правилам расставил. А та зашебуршилась вдруг, задергалась и — есть такой расхожий штампик: на шею кинуться, — так вот, именно что на шею и кинулась Светлане Максимовне и замерла. Хоть бы всхлипнула разок. Ни слезиночки. Видно, что подавляла себя, сдерживала, совсем как Воронов, только рот на сторону, и молча все, ни словечка ни единого. Вот когда он всерьез пожалел, что вовремя не ушел. Хорошо, муж Светланы Максимовны вернулся с прогулки вечерней, включил ящик на полный звук, иначе не слышит, оглох к чертям. Все не такая напряженка. «Последние известия» заканчивались, Бейрут, стреляют; потом «погода» и фильм. Фильм смотреть не стали. У Светланы Максимовны заботы насущные: уколы своему благоверному пора делать, питье на ночь готовить. Так они и не поговорили тогда.
Пошел проводить, и тоже — ведь не спросишь. Ну, деньги потеряла или что, конечно, неприятно и, конечно бы, рассказала. А тут… О горах вспомнил, как она в трубу на Воронова глядела. Она как взовьется: не надо! Что ж, «ни хо, ни на», пожалуйста. Рассказал парочку анекдотцев про чукчу, только в обиход входили. Симпатяга чукча, самостоятельный вполне и не унывает. Она не слушала.
Она, оказывается, тогда прощаться к Светлане Максимовне приходила. Чуяла свой конец и искала его, вот что он понял, ну не в тот вечер, позднее, когда узнал о ее гибели — как оглушило, к Воронову хотел мчаться, да ни к чему уже было.
«А, брось, — вдруг решил он. — Тогда не стал и теперь не буду. Не надо Воронову ни о чем таком рассказывать. Если душа ее захочет, ни к чему и его рассказы. А нет… Никому не дано право так страшно обвинять. Бог с нею совсем, чего его тревожить».
Воронов придумал себе систему и держится зубами. Его крепость. Да, видно, не больно-то надежная крепость, не от всех бед защищает. На лауреатство выдвинули, так ее, пассию свою, вставил. Посмертно. Никто за нее не просил, не ходатайствовал, сам.
А ведь страшно. Бумаги, расчеты, все, что было, взяла и уничтожила. Увезла за город — у родителей садово-огородный с конуркой, — там и сожгла. Свой труд, свой успех, душу свою. И что придумала!.. Теперь вспомнит — оторопь берет, а тогда не очень и поверил. Сумочку раскрыла, показывает, сама смеется. И правда, мешочек прозрачный, аккуратненько ленточкой перевязан, в мешочке вроде бы серое что-то, вроде бы пепел. Он ей в смысле, разве так поступают? Она пуще хохотать. И заикаться перестала. Словно легко ей и весело. Говорит: «Возьми и Саше передай». — «Да ты что, да Саша меня терпеть не может, я его тоже, он со мной и разговаривать не захочет», — несколько переборщил он тогда с этим «терпеть не может», уж очень поручение показалось диким. «Ах вон ты как, — говорит, — выходит, я в тебе ошибалась. Прощай. Тебе прямо, мне налево». К метро мы шли, ей тоже на метро надо было. Ручкой мне сделала и в самом деле налево повернула. Я постоял-постоял и побрел обратно к дому Светланы Максимовны. Заходить было поздно, так я возле побродил, во дворе на скамейке посидел. Думаю, ловко она! Не очень-то я в курсе был, что свадьбе хана, но как рукописями распорядилась, расчетами, вообще всей их кухней, — ой-ей-ей, думаю. Ай-яй-яй!
Наверное, именно тогда-то и следовало прямо ночью ехать к Воронову и рассказать. Сверлила, помнится, такая идейка. Только как же, ведь в препоганой роли окажешься. И посоветоваться не с кем: Сергей в командировке, Светлана Максимовна?.. И еще: милые бранятся, только тешатся. Но главное стыд, как теперь понимает, стыд остановил. И не дал остановить ее.
Такая вот цепочка вывязалась. Не добра. Безразличия, нежелания поступиться своими принципами, гордостью, эгоизмом, каким-то муровым стыдом… Исключение — одна Светлана Максимовна. Но и она: муж для нее превыше всего. И ее долг по отношению к мужу! А я, я, конечно… Вел себя как последний осел. Почему встопорщилась Светлана Максимовна, и то не сразу сообразил. И что отправила провожать ее… Потом уже дошло: уверена была, помогу.
Так что умей слышать тайный голос и послушно следуй ему, какие бы препятствия ни сторожили. Правило-то, может, и неплохое, да только как его, этот самый голос, узнать?
Конец известен. На следующий день, точнее вечером, улицу перебегала и под машину. Слабую степень алкогольного опьянения обнаружили. С пятого класса знакомы, не видал, не слыхал, чтобы выпивала. Многим показалось странным: молодая, умнейшая женщина, всю жизнь в Москве, не какая-нибудь провинциалочка, растерявшаяся в большом городе, и ни с того ни с сего кинулась через улицу перед тоннелем?..
Воронов, шляпа, на родителей ее подумал: они рукописи порешили; и затаился в гордом небрежении. И пусть. Всё легче ему. Не надо, не надо. Светлане Максимовне тогда слово дал. Велела — ни единой живой душе.
Вообще-то жалко его. Разве это жизнь, кругом в шорах. Да у такого сухаря небось и желаний-то никаких, а и были, так атрофировались. Впрочем, кто не в шорах, тому еще хуже, между Сциллой и Харибдой. Что у меня со Светланой Максимовной? Думаю постоянно, злюсь и ропщу, а отлепиться не могу. Она же — чуть слово скажешь, — ее долг, ее святая обязанность не оставить в болезнях, в старости, и пошла и пошла. Долг!.. В школе — каникулы, умолял: на неделю, на месяц, на всю жизнь… Рассердилась, никогда не видел, по лицу красные пятна, и мне: вор! Неблагодарный. Бессовестный. Хуже!.. Вор хоть имущество крадет. Предатель я, если ее послушать. Вор и предатель…
Солнце между тем с изводящей неторопливостью, хоть и ничуть не медленнее обычного, совершало свой путь. Снега отсвечивают красновато-оранжевым и, пожалуй, лиловым. Тени растут и смягчаются. Видно далеко. В одну сторону все гребни, вершины; в другую — гряды поросших лесом предгорий, ущелья прорезают их, затянутые дымкой, укрытые тенью; вдали, в неясном мареве угадывалась всхолмленная равнина. Там селения, люди, гладь шоссе, по которому мчатся автомобили. А совсем далеко на север, тысячи за две с половиной километров, в маленьком тихом Кириллове проводит последние дни отпуска Светлана Максимовна.
«Ее бы слово сейчас, улыбку ободряющую», — думает Паша.
…И в ущельях люди. Домики спортивных лагерей, палатки под вековыми соснами. Инструкторы возвращаются со своими подопечными с учебных склонов. «Завопить бы что есть мочи в тысячу глоток, чтобы услышали: «ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ!»
Черной точкой плывет внизу орел. «Или беркут? У орлов великолепное зрение. Может быть, он видит Сергея? — гадает Паша. — Может быть, лавина вынесла их на ледник? Но ледник укрыло облако. Или все-таки застряли в скалах? Ждут… А мы сидим здесь, словно приклеенные, и ничего не делаем. Сидим, сидим, идиоты!»
— Мы пойдем, наконец, или так и будем прохлаждаться? — взрывается он и сверлит Воронова дикими глазами. — Дай веревку! Десять спусков дюльфером — и я с ними. Дай, тебе говорят. Я требую! Я спасу Сергея. И Бардошина. Я иду!
Все в нем на пределе, перешло за предел. Как же люто ненавидит он в эти минуты Воронова, презирает, ударить, уничтожить его готов.
— Дай веревку и крючья какие есть. Слышишь? Слышишь?..
Схватил свой ледоруб, в исступлении замахивается на Воронова… Воронов не делает даже попытки защититься. И Паша сникает. Его тоска, и возмущение, и невозможность одолеть упорство Воронова разряжаются в рыданиях. Упал на колени, ухватился за выступ скалы и дергает, словно стараясь оторвать, раскачивается сам и с придушенным поскуливанием рыдает.
Сколько проходит, часы или минуты, кажущиеся часами, Воронов усталым голосом произносит:
— Успокоился? И отлично. Примус у тебя. Доставай и разводи. Снег надо растопить для чая. Консервы подогреем.
Подавая пример, занялся своим рюкзаком. Не торопясь, более того — подчеркнуто не торопясь, а в восприятии Паши как бы еще и акцентируя нарочно рассудочную свою медлительность, и потому с бесконечной, выматывающей нудностью принялся Александр Борисович Воронов выкладывать содержимое своего рюкзака. «Вот уж точно, заведенная машина, — мысленно комментирует Паша. И с витиеватой жестокостью продолжает: — Ничего не чувствующая, не переживающая машина, внутри которой между стальными шестеренками и валами задыхается, умирает и не может умереть каким-то чудом попавшая в нее человеческая душа».
— С первым светом двинемся вниз по пути подъема, — опять ничего не выражающий, без каких-либо эмоций, неживой голос Воронова. Ну разве что безмерно усталый. — Сейчас надо готовиться к ночлегу. Холодная ночевка предстоит. Освобождай свой рюкзак. На мой сядем, он длиннее; в твой засунем ноги. Веревку и все, что может служить тепловой изоляцией, — под себя. Будет радиосвязь — доложим о происшедшем; не будет — завтра вниз.
В чем его победа, для чего, во имя чего? Неужели лишь ради торжества принятой им системы правил, по которой он жил и действовал и не мог в силу своей безусловной честности отступиться? И неужели не в состоянии Паша Кокарекин одолеть собственную нервозность, возмущение, импульсивность и что там еще, найти достаточно силы, терпения и отваги и подчинить себе положение?
ГЛАВА 16
Тень от скалы дотянулась до Сергея, мокрая одежда, подмерзая, леденила тело. Сергей пошевелился. Резанула боль. Открыл глаза. Долго смотрел прямо перед собой.
Пылали подожженные низкими лучами солнца верхушки скал. «Сосны в закатный час такие же красно-коричневые, и в сухом нагретом воздухе терпкий смолистый дух…» — представилось на мгновенье. Туго и расслабленно соображая, он все глядел вокруг.
Снег в лиловых разливах. Ниже, где еще недавно среди скал в глубине проглядывал ледник, теперь все было однообразно серое, ровное — облака заполняли ледниковый цирк. На той стороне снежный гребень, увенчанный несколькими второстепенными вершинами, словно приблизился, розово освещенный на бирюзовом небе. Краски разгорались, обретая звонкость и силу, соединялись в почти немыслимые, диссонирующие, в то же время торжественные аккорды и только выше, на границе с небом, растворялись в потоках золотистого света, рвущегося между вершин.
Привлеченный не то клекотом, не то шипением, Сергей оторвался от созерцания, повернул голову сколько сумел и, покачиваясь, словно пьяный, следил глазами за пролетавшим близко, так что, кажется, камнем можно добросить, черным грифом. Распластав длинные, изрезанные на концах крылья, поджав когтистые лапы и чуть клоня раскрытый веером хвост, огромная птица плавно, совсем без усилий, не шевельнув крыльями, сделала широкий круг и снова облетела, подымаясь ввысь, используя неощутимые токи воздуха.
Aegypius monachus — вспомнил Сергей латинское название. Давно не встречал представителей этого ставшего редкостью, как почти все крупные птицы, вида.
«Что его сюда занесло? Какая здесь может случиться добыча? — подумал Сергей. — Архары сюда не забираются. Неужели?..»
Перекатившись на бок, собрал пальцы в кулак и поднял угрожая. Чуть изменив положение крыльев, черный monachus с кожистой, лишенной оперения головой и синеватой шеей, говорящей ярче любых описаний о способе питания, нехотя спланировал за скалы, пропал из виду.
«Свежатинкой хотел поживиться, — сказал себе Сергей. — Да что об этом… Думать надо о том, что я могу еще сделать. — И через минуту: — А все-таки хорошо, что Aegypius monachus сохранились. Заповедник здесь, поэтому. Как бы славно довести дело с Кенозером. Чтобы и там… тоже разное зверье, птицы…»
«Жить! Жить хочу… — всколыхнулось в Сергее. И, опрокинутое жестокой действительностью, уступило место удивлению, почти непониманию: — Как же так, настанет такой же вечер… Так же, а не то еще краше будут золотиться снега… Все останется. Не будет меня, — повторял он, точно впервые открыв для себя немудреную эту истину, не в силах до конца поверить в нее. — Рук… моих, пусть опухших, израненных… Лица… А эти горы, и небо, и все что ни есть… Не будет меня».
«И не для тебя будут утра, — стремительно катились его мысли, — когда переполненный беспричинным весельем, да просто оттого, что рано проснулся, и в распахнутое окно сквозь трепещущую листву пробивается солнце, шум машин, поливающих асфальт, доносится с улицы, вскакиваешь, словно пружина внутри, наскоро делаешь зарядку, радостно ощущая свою силу и ловкость, и легкое, бодрящее утомление: бежишь под душ, смеешься от освежающей прелести воды; и такая приподнятость, окрыленность — нипочем десятку как спринтер промчаться или Регину на руках до ее Большого донести, который, ну, может, и не всерьез, и все же иной раз едва ли не поджечь готов, только бы оторвать ее от ее служения; да, так что же, да, бреешься, мурлычешь себе под нос мотивчик из Мирей Матье, и просто не можешь представить, что на свете существует несчастье, смерть…»
«Жить! Только жить…»
«Жора?.. — вспомнил Сергей, прислушался. — Дышит. — Но смотреть не стал, не хотел видеть лицо этого человека. — Спасатели? Их не дождаться».
«Должен! И можешь, — твердила жизнь, горевшая в нем, и, не считаясь ни с какой правдой, хваталась за любое — мелочь ли, случайность ли какая — в надежде на спасение. — Спустятся Воронов с Пашей. Может, еще сегодня. Спасательный отряд…»
«Только вот начальник лагеря… Легко угадать, как поступит мужественный человек. Но как исхитрится демагог и трус? Трус думает о себе. Трус боится ответственности и боится промаха. Но спасатели от него не очень-то зависят, и если они узнали… Их подгонять не надо. Жди. И не раскисай. Не жалей себя раньше времени».
«Был бы Бардошин… в порядке. Я смертельно устал».
Усталость, кажущаяся бесполезность жалких его усилий, понимание, что помощи ждать в ближайшее время неоткуда, и, значит, впереди ночь и мороз… Сергей лежал на животе, стараясь не глядеть на Жору, не думать, не переживать, — и думал, и переживал.
Рюкзак развязанный рядом. Торчит серебристый сверток — палатка. Уцелела. На клюве ледоруба матово застыли капли. Жорин рюкзак возле камня. В снегу. «Закидал, покуда откапывал, — подумал Сергей отстраненно. — А снег не тает». Свитер желтый из Жориного рюкзака. Почти как тот, что подарила Регина в прошлом году, накануне отъезда в горы. Радовался: ее подарок. И так ни разу и не надел. Тоже физиономии джазменов каких-то, надписи…
Гнетущее беспокойное чувство возникло вопреки логическим умозаключениям о бесполезности его усилий; как и боль, оно таилось где-то в глубине измотанной психики и вот охватило едва ли не с такой же резкой силой, не позволяя отмахнуться, не давая сказать «меня это не касается» или «я сделал, что мог», не принимая никаких объяснений и отговорок. Чувство это понукало:
«Копать надо. Откапывать».
Твердило:
«Жизнь Бардошина в твоих руках. Помоги ему, и скорее. Может быть, ты совсем не сможешь двигаться через какое-то время».
«Его ноги раздавлены», — пытался сопротивляться Сергей. И знал уже, что не сможет бросить этого человека, не сделав, не испробовав любые, пусть безрассудные, возможности, до конца подчинив себя идее его спасения.
Трудно одолеть изнеможение, боль, но еще труднее — сомнения, которые сопровождают всякое усилие. Словно в глубоком забытьи сдвинул руку. Затем другую… Подобрал локти. Подтащил себя к краю ямы… Ледоруб тяжелый, громоздкий…
Сергей вкалывал ледоруб рядом с камнем. Острый штычок не сразу пробивал плотный снег, приходилось нажимать, и Сергей остерегался попасть в Жорины ноги.
Ледоруб уходил в снег. Раскачивая ледоруб, ломал снежную массу. Вытаскивать снег не доставала рука. Рыхлил ледорубом, рыхлил. Возле самых ног, где камень.
Усилия разогрели Сергея. Но и боль тоже разогрели. Жгла и въедалась, туманя сознание.
Три-пять повторяющихся усилий. Снова и снова. Над каждым приходилось думать и заставлять себя. Заставлять. В ушах звон. Поташнивает. Противная сухость во рту… Боль…
Сергей рыхлил ледорубом снег, стараясь освободить Жору из снежного плена, и не было у него ни сострадания, ни страха, ни сомнений. Он работал. Нет, не как машина. Машина давно бы не смогла работать.
Медленно перетащил себя на другую сторону ямы. Обхватил Жору. Медленно сдвинулся на кручу. Снег заледенел, скользко. Теперь бесчувственные ноги Сергея, свисая с крутизны, весом своим должны помочь его усилиям.
Оперся грудью о навал по краю ямы. «Если отпустят руки, не удержаться нипочем», — подумал как не о себе. И просипел непослушным голосом:
— Не выйдет, придумаем что другое, — словно успокаивая Жору на случай неудачи и взбадривая себя.
Повиснув на крутизне, упираясь локтями в снежный навал, Сергей рывками пытался сдвинуть Жору. Спина Жоры отлепилась от снега, тело вытянулось и, совсем прямое, висело, ни на сантиметр не подаваясь. Ноги держал снег. Или камень.
Напрягся еще, и застонал от усилий и боли, и еще сильнее напряг мышцы. Еще! Он вложил все, что имел, самую последнюю крупицу возможностей в сумасшедший потяг. Он чувствовал, что большего он не может и никогда не сможет. Боль охватила. Все вокруг и его ощущения стали меркнуть, быстрее и быстрее; остатками воли он удерживал сознание, удерживал руки, чтобы не отпустили; и в это долгое мгновение, которое он отнял у забытья, ему почудилось, что тело Жоры поползло, поползло из снежной ямы, поползло… Не понимая, что делает и что надо делать, выжал себя на локтях и повалился на Жору, цепляясь за него сведенными болью и холодом пальцами.
Не скоро вернулись ощущения. Первое, что Сергей почувствовал сквозь непонимание, спутанность, была тревога. Тревожное недоверие… Пятна, круги перед глазами, что-то оранжевое, светлое… И одновременно с сознанием, что не свалился по круче, тупое физическое удовлетворение: больше не надо копать, напрягаться. Не напрасно он, значит…
— Ох! — скрипнул он зубами от боли. — Ох, здорово! Здорово, — упрямо повторял он, хотя боль и изнеможение распластали его. — Ведь я не верил, что смогу вытащить Жору. Оказывается, невозможное — возможно. Когда иначе нельзя…
«Нет, я верил. Иначе не мог бы выложиться целиком. Верил — поэтому все силы пустил в ход, ничего не оставив в запасе. Резервов не должно оставаться, если делаешь такое дело, где не победить нельзя. Резервы — это мертвый груз. Хуже: они предполагают какие-то иные пути. А должен быть один-единственный. И ничего более».
В назначенное время Воронов связался по радио с КСП. Памятуя, что батарейки сели и рация может отказать окончательно, в быстром темпе сообщил о случившемся. И повторил. Начальник лагеря оказался поблизости. Первая реакция Михаила Михайловича — возмущение по поводу неопределенности, неосновательности сообщения Воронова.
— Что вам известно о судьбе ваших товарищей, о которых говорите, будто пропали? Как их, одного Бардошин фамилия, другого? — И подчеркнуто негодовал, и не мог согласиться: — Как так неизвестно?! Откуда такое чуждое нашим людям безразличие, а еще интеллигентом именуетесь. Вы же, товарищ Воронов, руководитель группы. Хорош руководитель, которому ничего не известно о его подчиненных! А если они благополучно вылезли из вашей лавины и сейчас находятся на пути к лагерю? Такую возможность вы учли? Что, Михал Михалыч? Я Михал Михалыч! Я сказал «если»! Понятно вам? Сколько раз я должен повторять совершенно элементарные, как сами же выражаетесь, истины? Так что, товарищ Воронов, ответьте мне со всею ответственностью: вы можете поручиться, что они ранены или что еще с ними произошло? Вы слышите меня? Громче? Я и без ваших напоминаний говорю так, что голос могу сорвать. Не можете, значит. Так и запишем. Не имеете никакой информации. Я как раз имел в виду — объективной. Паникуете, дорогой товарищ, вот что я вам скажу. Па-ни-ку-ете и вводите в заблуждение других, мешаете спокойно работать. Спасательный отряд! Не торопите меня, а слушайте. Вам известно, как подобный вызов отразится на наших показателях в соревновании с другими альплагерями? Известно? Я давно подозревал, что вы не патриот своего родного альпинистского лагеря, теперь принужден убедиться окончательно. В текущем сезоне мы имели четыре, я повторяю — четыре! — вызова спасотряда. И лишь в одном случае выход спасателей был обусловлен действительной необходимостью. А нам записали — четыре. Вы меня поняли? Да что у вас там с вашим приемником-передатчиком? Или вы не умеете им пользоваться? Пользоваться, говорю, не умеете?
Паша Кокарекин прижался головой к наушникам Воронова, старается разобрать, о чем толкует Михал Михалыч, и взрывается:
— А-а, собака! Дай! Дай я ему скажу…
Отмахнувшись, Воронов говорит что-то о разрешении на спуск. Начлагеря в альпинистских делах ни бе ни ме, но он начальник, ему дано право, и он должен распоряжаться! Однако Михал Михалыч тертый калач, понимает: конкретные разрешения, запреты отнюдь не в его интересах, мало ли чем может обернуться в недалеком будущем. И предпочитает разглагольствования.
— Вы уверены, товарищ Воронов, что требуется высылать спасательный отряд? — задает он вопрос и тут же топит его: — А, если, я повторяю, это ваши страхи? У страха глаза велики, а? — Обезопасить себя, перевалить ответственность на другого, предварительно запутав, завертев так, что ни начал, ни концов не сыщешь, вот задача.
У Воронова нервы крепкие, не Кокарекин, готов без особого напряжения внимать поучительным речам, если б не опасение, что окончательно откажут батарейки. Слышимость из рук вон, несмотря на отличнейшую погоду и едва ли не полное отсутствие помех, хотя там, на КСП, рация могучая. На его счастье, в разговор вмешивается, кажется, Семенов. Впрочем, он еще не уверен, на счастье ли, в такой ситуации не очень-то вычислишь, кто как себя поведет. Голос невыразительный, вялый, цедит едва-едва — скорее всего Семенов. Воронов начеку. Этот пустыми фразами сотрясать воздух не будет. Воронову весьма желательно получить официальное указание, что надлежит ему делать, как поступать. Официальное, да еще впоследствии чтобы могло быть подтверждено другими лицами. Воронов примерно знает, какая предстоит фантасмагория с расследованием причин, ошибок и вины, чьей-то вины обязательно. И пытается принять свои меры.
Лавину они засекли, говорит Семенов (Воронов узнал его окончательно), но никак не предполагали, что их группа окажется на пути лавины. Воронов не все разобрал дальше, опять же предпочтительнее, на его взгляд, рассказывать самому, нежели отвечать на вопросы, что он и делает по возможности подробно. Но слышимость с минуты на минуту падает, и сравнения нет, как при начале, когда Михаил Михайлович вел свои атаки.
Семенов повторил несколько раз, что спасательный отряд выйдет через час. Затем почему-то про фонари, дальше сплошное шипение, только «фонари» более или менее явственно.
Паша между тем вконец извертелся, и так и сяк прилаживаясь, чтобы узнать побольше. Когда же о «фонарях» речь пошла, возрадовался, словно это он к ночному выходу готовился, не спасатели. И не только возрадовался, но и вовсе осмелел. Взял и стянул наушники с Воронова и веселым голосом принялся орать в микрофон разную чепуху.
Воронов: а пусть его, все равно не слышно. Последнее слово, которое удалось разобрать Воронову, было «телеграмма», но кому и что следует знать о телеграмме, как и все дальнейшее, потонуло в шорохах и шипении и донесшейся невесть откуда морзянке.
Павел Ревмирович не говорил — выкрикивал бодро и кивал головой, вслушиваясь в ответы. Или вправду чрезвычайно острым слухом обладает, или интуиция направленная, но факт удивляющий и обескураживающий: Павел Ревмирович объяснялся с КСП, как если бы связь вполне восстановилась. Ну разве что кричал в голос. Осмысленные вопросы; четкие, даже излишне определенные, по мнению Воронова, ответы. Еще подумал Воронов: оба они — тот, с КСП, и Кокарекин — словно бы обсуждали хорошо известное друг другу, уточняя детали, делясь подробностями.
Явилась мысль прижаться ухом, как Павел Ревмирович, но нет, на подобное унижение Воронов пойти не мог.
— Морозит! — вопил Павел Ревмирович. — Снег схватило будь здоров!
«...............»
— Есть! Есть! — с благодарственной интонацией, ну прямо, подарок желанный ему обещан. — Вас понял, Игорь Алексеевич, спуск начнем сейчас же. Лады. Спасибо за разрешение. Все будет в порядке. Веревка есть, крючьев навалом. Да-да, кошки-мышки, хватит крючьев, мно-ого! Передам. Спасибо.
«...............»
Какой такой, еще Игорь Алексеевич, возник вопрос у Воронова и отлетел: из Москвы кто-нибудь, из руководства. Все же Воронов сделал попытку завладеть наушниками, но Павел Ревмирович тем же голосом, нимало не смущаясь, что там его слышат:
— Уйди, не мешай! — И продолжал куролесину про спуск. Потом: — Есть, спасибо. Будет сделано, Игорь Алексеевич. Прием окончен.
Мало того, что обнаглел Кокарекин, он сверх всего прочего покусился на прерогативы Воронова как руководителя. Уже не просил, но командовал.
— Будем спускаться по пути лавины (тоном, не терпящим возражений). Часика через полтора луна взойдет, хоть на ущербе, светить все равно будет. Перистые облака не нравятся мне. Тем более надо спешить. Так что давай, Александр Борисович, собирай манатки. Не́чего нам здесь мозоли на задницах натирать. Потянули время, и хватит. С КСП полный порядок, ты, надеюсь, усек. Отговорочки, какие придумал, оставь себе на память.
Воронов взялся было за старое, что целесообразнее дождаться утра и с первым светом. Но Павел Ревмирович не снизошел до возражений. Воронов сидел на свернутой страховочной веревке, маялся, сидя же, начал понемногу укладывать разобранный рюкзак.
Неведомую дотоле, уверенную силу ощущал в себе Павел Ревмирович. Минуя многие «но», среди которых, помимо молодости и недостаточного опыта, оказывались нервозность его, излишний максимализм, заодно кое-что и похуже — давняя склонность, несмотря на душевную требовательную чистоту, к ловкачеству и актерству («Пускаться на обман? На авантюру?..» — с неприятным изумлением спрашивал я себя. И отвечал за него, стараясь не слишком вдумываться: «Что же, раз не остается ничего другого…»), — несмотря, повторяем, на букет этих привходящих качеств и особенностей, казалось бы, никак не способствующих обретению подлинной уверенности в себе, — сила и самозабвенное чувство огромных возможностей бурлили в его крови. Взвалить скорее на свои плечи любой груз, и пусть хребет трещит, пусть риск завораживающе огромен… Чего ради заниматься вычислениями, да и не помогут наиточнейшие выкладки, ибо не трудности и даже не напор, не сила и уверенность, поражающие, скажем, между слов, Воронова, решают, но… Но тут развожу руками в смущении. Думаю и ничего не могу придумать, разве только, что тайна сия велика есть.
Павел Ревмирович шагнул к скале. Выбрал из связки плоский крюк. Наживил в трещину и короткими убыстряющимися ударами принялся загонять.
Воронов укладывал рюкзак. Выше и выше пел под ударами молотка стальной крюк. Звук этот странным образом ассоциировался сейчас для Воронова с тонким, раздраженно-повелительным голосом начлагеря.
«Для этого человека не существует чужая боль, иная, чем нужная ему, правда, — размышлял Воронов. — Он знает, что и как должно выглядеть, дабы чувствовать себя привольно. Действительность интересует его постольку, поскольку требует усилий, изобретательности, ловкости для необходимых косметических манипуляций. Причесать, пригладить, укоротить, либо, наоборот, увеличить, дабы соответствовало меркам приемлемым. И слова он знает, хорошо окатанные, благополучные, за которыми при всем желании не разобрать ничего».
«А ты, ты сам, Александр Борисович, ты?.. Если ребята живы? Страшно подумать, сколько времени потеряно…»
«Откуда живы? Лавина! Лавина же… Чудес не бывает».
«Нет, бывают. Чудес полно на свете. Другое дело, что не нашлось для них места в твоих рассуждениях… Тянул время, зная наперед, что формально прав и никто ничего не сможет тебе инкриминировать. А Паша не думал ни о какой правоте. Паша думал о тех, кому он, быть может, нужен. Так оно на поверку».
— Веревку дай!
Воронов молчал, погруженный в свои мысли. Павел Ревмирович метнул на Воронова колючий пронизывающий взгляд. Кровь ударила ему в голову, ладонь, сжимавшая рукоять скального молотка, сделалась потной.
Наконец Воронов сообразил. Встал, поднял моток веревки, пошел к забитому крюку. Ухватил за карабин, подергал, опробуя. Пристегнул веревку. Вывязал хитрые узлы, чтобы потом, спустившись, можно было выдернуть веревку.
— Я пойду первым, — опередил его Павел Ревмирович. — Ты — за мной.
Ссутулившись, вскинул свой рюкзак, расправил лямки на плечах. Надел рукавицы. Подошел к краю, к уходящей вниз веревке. Закрепил самозадерживающую петлю из репшнура. Обвел основную веревку вокруг тела, как полагается при спуске способом Дюльфера, и шагнул на крутизну.
Было еще не окончательно темно. Внизу подробности рельефа не четко, но различались. Чувствуя, как сердце успокаивается после долгого нервного напряжения, в голове ясно, холодно, никакие страхи не тревожат, Паша Кокарекин начал спуск.
Бардошин не приходил в себя. На правой ноге снег закровенел. Ботинок неестественно вывернут. Сергей хотел переложить его ногу удобнее, — ступня в тяжелом окованном ботинке осталась на снегу, голень прогнулась. Под ногой расползалось пятно крови.
«Остановить кровотечение, — подумал Сергей. — Но как? Снять ботинок?..»
Минуту назад был уверен, больше ничего от него не потребуется — и новая забота.
«А зачем снимать ботинок? Забинтовать как есть. Ледоруб вместо шины…»
Индивидуальный пакет был в рюкзачном кармане, но карман оторвало. Надо перетаскиваться выше, где Жорин рюкзак. Легко сказать, но сколько еще потребовалось усилий от Сергея, прежде чем в руках его оказался бинт.
Мышцы на сломанной ноге Жоры сократились, кости нелепо выпирали сквозь штанину. Попробовал оттянуть ступню, соединить кости — не получилось. Долго прилаживал ледоруб, прибинтовывал, подсовывая бинт и оборачивая вокруг ноги, и еще подсовывал, и оборачивал, и натягивал.
Начинало темнеть. Тревожный, красноватый свет шел от снежного гребня по ту сторону ледникового цирка. Сергей поднял голову. По бирюзовой глади неба высоко-высоко протянулись тонкие, волнистые, опалово-розовые облачка, словно перья гигантских крыл, — верные предвестники надвигающейся непогоды.
«Явились-таки, — с горьким удовлетворением подумал Сергей. — Я знал вчера, что не продержится погода. Теперь через сутки повалит снег».
«Мы лежим в кулуаре. Кулуары — дорога лавин… — И снова: — Лавина, снег, кулуар…» Понятия эти пробуксовывали, не вызывая чувства опасности. Ничто не действовало на него сейчас полной мерой заключенного в себе значения. Сергей лежал, безучастный ко всему. В потоке приказаний, которые посылал мозг его телу, наступила пауза.
…Он говорил себе, что все идет хорошо. Лучше, чем следовало ожидать. Ему самому, несомненно, лучше. Научился избегать слишком острой боли. Если боль временами сокрушала его, сознание все равно возвращалось, и это замечательно. Двигаться сколько-то он может. Ноги, конечно…
«Жора без сознания. Почему? — перескочил он. — Шок? — Он пытался вспомнить, что знал из медицины, но ничего не приходило на ум. Потрогал его голову. Похоже, других травм, кроме перелома, нет. — Сотрясение?.. Холод на голову! — вспомнил он. — Чего-чего, а холода хватает».
Он смотрел на Жору, не мог оторваться от него, смотрел, почти как смотрит мастер на сделанную работу, гордясь ею, недоумевая и сокрушаясь. Неподвижное, серое лицо Жоры все еще будто упрекало Сергея. Серая кожа на лбу, серые щеки. Скулы и подбородок обросли щетиной. Губа верхняя под усами рассечена рубцом, несколько волосков шевелилось от дыхания. Смотрел, смотрел… И под его взглядом лицо Жоры Бардошина начало меняться. Оживать…
Сергей не сразу заметил эти изменения — все было заторможено в нем. Лишь когда Жора открыл глаза, повел зрачками, увидел свою ногу с прибинтованным ледорубом, и лицо его дрогнуло, исказилось в попытке что-то сказать, — Сергей… удивился, нет — обрадовался.
Конечно, обрадовался. Как может быть иначе, тяжкий труд его не напрасен — жив человек! Сергей откопал Жору из снежной могилы — и желанное завершение его усилий: Жора пришел в сознание. Не так уж часто случается, чтобы успех венчал столь безрассудное предприятие.
Неверным, заплетающимся языком Жора силился сказать что-то. Сергей никак не мог сосредоточиться и сообразить, но вскоре речи Жоры стали вразумительнее, понятнее.
— Что… что… Ггголова… Болит. Гггде мы? Где Воронов? Почему Воронова нет? — бормотал Жора Бардошин, и глаза его наливались страхом. — Почему мы зздесь одни? Куда они ушли? Это ты… ты меня…
Сергей вдруг решил, что Бардошин сейчас скажет «ударил», и заторопился:
— В лавину мы угодили. Понимаешь? В ла-ви-ну. — Торопливо, словно оправдываясь, стараясь отвести от себя подозрение, принялся объяснять: — Завтра… днем или к вечеру кто-нибудь к нам придет. Обязательно. Воронов и Паша, они, я почти уверен, уцелели. Может, они… уже недалеко. Ты слушай… вдруг сигналы. Найти нас нетрудно, так что… Или спасательный отряд. Надо перетерпеть ночь, — старался он успокоить Бардошина.
— Ннога… Что у меня? Говори! Зачем ты… — Бардошин с неприязнью, с недоверием следил за Сергеем. Каждое слово Сергея, слабое движение заставляли его напрягаться. Единственное, что останавливало готовые сорваться угрозы, — не мог взять в толк, кто забинтовал ногу.
— О-о, о-о-о! — стонал он. — Нога… Кровь почему? Моя нога… Врач, а? Врач нужен. В лагерь… Нога!
— Обычный перелом. Кожа ободрана, поэтому кровь. Обычное дело.
— Обычное дело! У тебя бы так. Как я теперь… если отнимут? — И он пуще стонал и жаловался.
Темнело. Облака высоко вверху погасли, ровно и безразлично было в небе. Звезды еще не зажглись, только робко намечались кое-где. Морозец сначала приятно остужал измученное, разгоряченное тело, сушил влажную штормовку, теперь леденил руки, пробирался под одежду.
— Какой дьявол дернул меня напрашиваться на восхождение? — удивлялся Жора. Происходила стремительная метаморфоза: то он был жалок, напуган, чувствовал себя во власти своего врага, то, поверив, что «враг», этот непонятный ему Сергей, не собирается устраивать ничего худого, почему — другой вопрос, к тому же, кажется, он ранен, негодовал на прежнее легкомыслие: — Ведь сам, сам! Еще ты со своими ходатайствами… Знаю, что у тебя на уме было. Не беспокойся, давно сообразил. И не я один, будь уверен. Так что, если что…
Он попробовал сдвинуться и, не сдержавшись, охнул. Резкая боль и тошнота пригвоздили его к месту. Но тем откровеннее прорывалась злоба. Неудачи одна другой нелепее, будто сговорившись, преследовали его, и он не мог их принять. Не мог смириться со своими бедами.
— Будь оно все проклято!.. — Закашлялся. Грудь судорожно вздымалась в глухом кашле, глаза закатились, он задыхался. Сергей приподнял ему голову, поддерживал, пока Жору трудно, долго рвало. Едва утихли спазмы, резко усиливавшие боль, Жора начал костерить Сергея:
— Уйди, отвяжись! Чего тебе надо? Оставь меня в покое. Не хочу тебя видеть. Слышишь, уйди от меня!
Тошнота. Желудок подворачивало к самому горлу. Хотя рвоты больше не было, от боли туманилось в голове, и только ярость не давала сознанию исчезнуть.
— Почему никто не идет на помощь? Наверняка полдня здесь, и ни одна сволочь… Товарищи, называется!..
Сергей едва слушал, иное заботило его: холод. В холоде заключалось определенное благо, если иметь в виду их травмы, но впереди ночь, температура могла еще понизиться. Палатка есть. Кое-какие теплые вещи тоже.
Поставить палатку — а стойки? Ледоруб он прикрутил вместо шины, свой потерян в лавине. Расстелить и забраться в нее? Но здесь слишком круто, снег смерзся, голыми руками не больно выровняешь. Ледорубом, может, и получилось бы. Но не снимать же с Жориной ноги.
Он вспомнил: еще когда только выбрался из снега и оглядывал скалы, надеясь увидеть товарищей, небольшой уступчик, присыпанный снегом, попался на глаза (всегда останавливает внимание, удивляет ровная площадка в скалах). Тогда, кажется, слева уступчик был и ниже, много ниже. Теперь… Сергей приподнялся и в сгущающихся холодных сумерках разглядел его. Никуда не делся, не померещился. Крохотный, уместится ли палатка? До него… Да, отсюда меньше десяти метров. Невыносимо огромным показалось Сергею это расстояние. Но ничего другого отыскать он не мог, и не было другого.
Глаза боятся, руки делают — Сергей нащупал веревку, которая шла от Жориной обвязки, попробовал вытянуть из снега. Веревка вмерзла, выбрал всего ничего. Но в рюкзаке, он помнил, был моток репшнура, на всякий случай. Вот он, тот самый случай… Нашел сразу, размотал, прощелкнул в карабин Жориной грудной обвязки, другой конец — метров пятнадцать — к рюкзаку. Выложил крючья, кошки, прочие ненужные вещи. Добавил из Жориного хлеб и колбасу. Вид еды был неприятен, мысль о ней вызвала отвращение. Запихал еще Жорин спальный мешок, свитер. Перекинул репшнур через плечо и… двинулся.
Как и прежде, выжимаясь на локтях; падая грудью на снег; подбирая руки; снова выжимаясь…
На его счастье, снег в буграх и впадинах, корявый, не очень рисковал Сергей скатиться, да и ползти приходилось несколько вниз. Но днем было жаркое стремление как можно скорее отыскать Бардошина, были надежды, наверное, потому и меньше страдал днем. Теперь боль неотступно, не давая минуты роздыха, терзала его. Сергей устал терпеть, устал превозмогать, но терпел, и превозмогал, и тащил себя по жесткому смерзшемуся снегу. Заставляя себя не сосредоточиваться на боли. Есть же что-то другое на свете: есть площадка, не так уж далеко до нее, есть…
— Ты ккуда? — голос Жоры. — Не оставляй меня одного. Из-за тебя я в лавину попал. Ты меня бросаешь…
Сергей обернулся, просипел задохнувшись:
— Жди! — И не слушал больше.
Впереди отделенная менее чем десятью метрами, каждый из которых так недоступно велик, маячит скальная площадка. Отверделые мышцы не подчиняются. Кровь стучит в ушах. Сердцу тесно в груди, оно заполнило ее всю. Легкие с неохотой, с натугой, с хрипом качают пустой воздух. Безжизненные ноги задевают за неровности…
В минуты полного изнеможения — обмякший, недвижный, только спина с остро выпирающими лопатками вздымается в частом дыхании — Сергей как проваливался в безгласную, бездонную глубину, куда не доходили ни стоны и жалобы, ни боль, ни мысли, ни тоска, ни надежды…
…И, одолевая засасывающую неподвижность, полз дальше.
Парализованные ноги, измученные нервы, обессиленные, отказывающиеся повиноваться мышцы — ничего этого нет. Есть необходимость, суровая и властная. И есть смертное упорство. Оно диктовало: подбери локти, обопрись… И бицепсы сокращались, локти действовали подобно рычагам и передвигали неуклюжее, не подчиняющееся, не желавшее ни в чем участвовать тело. Внутренне он ждал, что вот-вот не сумеет и головы поднять. Однако проходили минуты и минуты, он полз, забывая, что ползет, упрямо, упорно, с бесконечным терпением подвигался вниз в сторону уступа. Полз, ощущая приток новых сил: они являлись в тот последний, запредельный момент, когда готов был согласиться — все! Больше не сдвинуться ни на сантиметр. Полз по заледенелому, колючему снегу. Полз…
Репшнур, обвивавший плечо, натянулся. Сергей забыл про рюкзак и не сразу сообразил, что необходимо делать. Тут еще… Отдуваясь, как после испуга, чувствуя, как падает и громко стучит сердце, вытащил за репшнур набитый рюкзак.
Самым трудным, вероятно, самым трудным делом в его жизни было подняться на небольшой этот заиндевелый уступ, где намеревался расстелить палатку.
Негнущимися, потерявшими чувствительность пальцами водил Сергей по округлому краю в поисках зацепок. Шалые, невозможные мысли роились. Что, если площадка непригодна? Или ее вовсе нет? Не существует. Почудилось… Как почудилось… Ведь не думал о Регине совсем, и будто за плечо тронула, и дыхание ее над самым ухом. Вот только что, когда рюкзак, когда репшнур, к которому рюкзак привязан, натянулся…
«Есть!.. Должна быть, никуда она не могла исчезнуть, та площадка, — убеждал он себя. Не может случиться, чтобы после всего, что он испытал и вытерпел, постигло еще это».
…Пальцы нащупывали что-то, цеплялись и срывались, и он тяжело оседал вниз; лежал, прижимаясь головой не то к снегу, не то к камню; ничего не помня, не осознавая, в тяжелом, вязком, все более густеющем мраке, зная одно, не оставляющее его — «надо». Снова ободранные, кровоточащие руки тянулись вверх; вновь и вновь ощупывали камень; он подтягивался, едва помороженные, почти не сохранившие способность осязать подушечки пальцев задерживались на чем-то; и срывался. Скрипел зубами от боли и невозможности смириться, бросить упрямые, изводящие его последние попытки. Подтягивался снова с тупой беспредельной настойчивостью. Подтягивался и срывался, покуда, сам не зная как, втянул себя на гладкий, почти целиком обтаявший и уже заиндевелый уступ.
Испятнанный своей и Жориной кровью, в порванной одежде, с помутившимся от страданий и напряжения рассудком, лежал Сергей на своем уступе. Сквозь изнеможение в вялом течении мыслей пробилось почти не ободрившее его понимание, что и на этот раз победил. Слишком тяжело доставались его победы. Слишком многого потребовали.
Мысли путались. Наступали долгие перерывы, когда лишь гул его крови наполнял мозг и мрачные, грубо вырубленные силуэты скал, будто повинуясь неровным толчкам его крови, перемещались то ли в открытых, то ли в закрытых глазах. Он старался вспомнить, что еще надо. Далось это не сразу.
Наконец он втащил рюкзак. Пристально, напряженно вглядывался в холодную мглу. Хотел крикнуть, но склеенное горло издало лишь хриплый, самому непонятный звук. Он скорее угадывал, чем видел на снегу черное неясное пятно — Жору. Потянул за репшнур, уходивший в эту глухую, почти осязаемую на ощупь тьму, не согретую даже отблеском звездного света. Что-то изменилось там, какие-то слова донеслись…
«Ты давай… отталкивайся…» — мысленно сказал Сергей и принялся выбирать репшнур.
Стоны. Бормотанье. Кашель и захлебывающиеся всхлипы, шорох и стоны…
Сергей выбирал репшнур, захват за захватом. Жора стонал, о чем-то просил, требовал, ругался. Сергей выбирал. Захват за захватом.
Как он втащил Бардошина на уступ? Как раскатал палатку? Как уложил Бардошина в спальный мешок, с его ногой и примотанным к ней ледорубом? Как сумел натянуть спальный мешок на себя?..
А только наступил желанный, вымечтанный каждой способной чувствовать клеточкой, долгожданный час. Никуда не должен он больше спешить, не должен копать, вытаскивать и вытягивать, и думать больше ни о чем не обязан. Он сделал все, что мог, и ни он сам, ни его совесть, ни мучившая и гнавшая на любые безрассудства тоска по любви не властны более приказывать его растекшемуся в изнеможении бесконечно усталому телу. Только лежать, отдаваясь несущему отдых и забвение забытью.
Странно было это состояние совершенного покоя, едва ли не отрешенности ото всего сущего, сколько Сергей себя помнит, никогда прежде не испытанное и вот, словно в утешение и отраду, милосердно дарованное ему. Представилось, что именно покоя, гармонии он искал и жаждал всю свою нелепую, никак не желавшую сложиться, как должно, как «у людей», жизнь. Оттого-то с несдержанной ревностью отзывался на любое беспардонное вмешательство в свои, не всегда наполненные отношения дома, но куда, открытее, острее, жестче — едва касалось дела, которому служил.
Чего он достиг? Почти ничего. Но он был с теми, кто трубил тревогу, кто кинулся пробивать равнодушие, непонимание, вечное российское «моя хата с краю» и «что вы мне твердите о каких-то гипотетических временах, когда сегодня с меня требуют то-то и то-то», — неблагодарная, сплошь состоявшая из забот, треволнений, стычек, унизительных разносов, жалоб со всех мыслимых сторон, и «справа» и «слева», и обвинений, и редкого позднего удовлетворения, если в какой-нибудь районной газетенке наконец-то печатали постановление о запрете вырубок в верховьях реки такой-то (откуда — и это было главным его аргументом — и сплав практически невозможен), или, как в случае с Кенозером, где удачными оказались хотя бы первые шаги по организации охранных мероприятий; и что взятое вкупе уже трудно именовать только работой или службой, разве, может быть, деятельностью. Да, именно так, деятельность, к которой пришел сам, по внутреннему велению (ну, правда, в какой-то степени и обстоятельства сыграли роль) и отдавался с пылом и убежденностью, находя в ней еще и утешение, и оправдание себе, не говоря уже, что в простоте душевной гордился (противопоставления всякой иной лишь подогревали особое, не укладывающееся в привычные рамки тщеславие); и еще поэтому новая его деятельность становилась не заполнением жизни, но самой жизнью или, во всяком случае, главнейшей и наиболее дорогой ему ее частью, беспрестанно вступавшей в конфликт с той, что принужден вести в городе. И теперь это все уходило. Почти неощутимо оставляло его.
Не угнетало более сделавшееся едва ли не привычным непонимание, а там и отчуждение близких ему людей; не давило укором, что где-то, понадеявшись на обещания, не дотянул, а там пустился в открытую войну, когда следовало окольными путями давить и допекать. Уходило и другое, саднившее унижением, столько времени не отпускавшее его, — не хотел помнить, думать и вот отстраненно и успокоенно перебирал в памяти.
…Лаборатория в подвальном этаже НИИ, тесно заставленная приборами, в переплетениях проводов, стеклянных и резиновых трубок; кажущийся беспорядок, на самом деле — продуманное и логичное размещение необходимых устройств. Его рабочий стол, тиски и газовая горелка на нем, бюретки, чашечки Петри, колбы всех фасонов на полках, новенький немецкий спектрограф, рулоны графиков, линованные листки бумаги, тесно исписанные его невозможным почерком, которого он стыдился… Незаметно летели ночные часы, когда ставился долгий опыт. Пульканье вакуумного насоса переставало восприниматься слухом, подобно тиканью часов: к нему привыкаешь. Сухо щелкнут реле, звякнет железка какая-нибудь, едва внятный шорох автомобильных шин донесется через окно. Спокойным светом горят контрольные лампы. Растут колонки цифр. Мир, тишина, почти убаюкивающие, почти сонные. Но это внешне. Десятки киловатт энергии за шкалами приборов, и напряженное ожидание конечных результатов.
И они были, результаты. Пусть пошло на чужую потребу, но сладостное удовлетворение работой, но радость предугаданных и подтвержденных в такие вот святые ночные часы данных достались ему.
…Он дорожил своей небольшой, с тщанием и любовью собранной библиотечкой. Сколько счастливых находок сделал в первые свои командировки в Архангельск, в небольшие городки Вологодской области!.. Пожалуй, это было не меньшей его страстью в то время — поиски старинных изданий, посвященных животному миру России, ее флоре, описание путешествий и географических открытий. Тут он готов был на любые траты, что приводило иной раз к не совсем легким объяснениям дома.
Задумал книжный знак. Несколько вариантов нарисовал, но все не то, не то. Не получалось соединить воедино символы, которые олицетворяли, как принято говорить, мир его увлечений и силуэт Венеры Милосской. Богиня красоты без рук. «Красоте не нужны руки», — подумал он, поддавшись на аллегорию, и слабо поморщился, как после Пашиных сентенций.
Еще потому поморщился, что все время старался не думать о Регине. То есть ни минуты, наверное, не проходило, чтобы подспудно в тайниках его необузданного сердца не трепетали, не вызванивали мысли о ней. Даже когда преднамеренно и строптиво отгораживался напоенной обидой враждебностью… призывал ее. Но явись она каким-то чудом сейчас, здесь — и он отвернулся бы с негодованием, с болью! И все же каким ни с чем не сравнимым счастьем стал бы этот миг.
…Вспомнил ее не в день расставания, когда провожал на поезд, но совсем девочкой с ласковыми, чуть испуганными длинными глазами. Заехали с Вороновым в училище за нею — и в Лужники: «Венский балет на льду». Воронов едва досидел до конца, музыка и крикливая балаганность ему не по нраву. А Регине не хотелось домой, да и было совсем рано, светло, и они пошли сначала по аллеям парка, потом через метромост на Ленинские горы.
Существует термин «комфортная температура». В тот вечер не было температуры вообще. Был мягкий, тихий послезакатный час, когда дневные хлопоты окончены, но ничто не желает угомониться. Какие-то прекрасные скрытые силы… Новая жизнь, неизвестная, неугаданная, даже только чудесное предчувствие ее… Это было в клейком аромате распускающихся почек. Об этом стрекотали птицы подле своих строящихся гнезд. Этим дышала земля.
За рекой, за насыпью окружной дороги рассыпались огни города. Скопления окон, провалы дворов, строченные фонарями улицы. Дальше сплошное светящееся море. Оно не уходило за горизонт, оно мешалось с дымным светлым небом.
Погас один огонек: кто-то вышел или лег спать. А там засветились подряд несколько.
Проплыл речной трамвай, украшенный гирляндами лампочек, очень праздничный на маслянисто-черной воде. Треугольником бежали за ним переливающиеся отражениями волны.
Все огни светили и искрились тогда для них. Деревья тончайшим кружевом заткали небо для них. И что-то пугающе-важное вот-вот, казалось, готово было открыться им в мягком сумраке наступающей ночи.
Он рассказывал о своей науке — удивляющие возможности и широчайшие перспективы начинались в его представлении если не завтра или через неделю, то самое позднее через год. Быть среди тех, кто с самоотверженным рвением кинется на штурм неведомого. Все нужды и чаяния человечества должны разрешить они, чистые помыслами служители величайшей из наук — биологии (именно такими категориями оперировал тогда), они, свято исповедующие высокие принципы, завещанные великими естествоиспытателями прошлого.
— Будь прокляты эти бабы! — ворвался голос Бардошина.
Бардошин и сам толком не знал, с чего вдруг заговорил. Пожалуй, все-таки не вытерпел перед лицом впервые так плотно, сплошным потоком сыпавшихся на него и усердно мордовавших неудач. Захотелось ли ему поговорить и поделиться, даже, возможно, объединиться с Сергеем перед лицом непонятных и удивляющих превратностей судьбы, или… На это-то «или», подразумевавшее прежде всего стремление выместить, найти виноватого и отыграться за свою боль и стыд поражения, он, повинуясь общему складу, и переехал.
Обычно Жорику удавалось с большей или меньшей ловкостью ускользать из готовой захлопнуться ловушки. Даже в истории с дочкой завкафедры в Казани. Помер папочка в самый подходящий момент, оставив кстати кучу заметок, записей, неопубликованных статей, что оказалось весьма и весьма выигрышным подспорьем в борьбе нашего сообразительного приятеля за место в жизни. Но то было и прошло и благополучно зарастало травой забвения, а теперь…
Одно за другим, одно за другим, хоть вой! С ногой худо, открытый перелом. Серега забинтовал кое-как, прямо в штанине. Вдруг инфекция? А кровотечение? Да и обморозить недолго. Голова тоже, сотрясение верняк… Однако нога и голове — как-нибудь с этим обойдется. Образуется. Спасатели и тому подобное. Жора вырос в уверенном понимании, что, если ему плохо, кто-то обязательно придет на помощь, обязан позаботиться, во всяком случае, о нем. Так оно и бывало, не исключая нынешнее происшествие. И тем не менее Жора обескуражен.
С Региной полный провал. Серега разнесет, что спас неудачливого соперника. Теперь еще Фрося… Думать не думал, гадать не гадал, мимолетная, совершенно между прочим интрижка — и начинала беспокоить. До поездки в Гагру поигрывал слегка, развлечения ради, а вернулся — хоть башкой о камень, и наговорил, наобещал… Конечно, обещания ничего не значат, но как-то оборачивалось… Самое непостижимое: девушкой оказалась. Уверен был, жженая-пережженая, что ты хочешь, официантка! Еще забеременеет, с нее станет. Уговаривай тогда.
Жизнь — это счастье. Жить — значит стремиться непременно к радостям существования, к тому, что приносит максимум удовольствий, так понимал Жора Бардошин свое назначение на земле. Тут и прорвалось. Так сказать, «крик души».
…Сергей с усилием открыл глаза в неподвижную мглистую темноту, наполненную серым безжизненным светом луны, пробивавшимся сквозь неплотные облака. И закрыл. Не хотел он видеть эти скалы, снег, мутные очертания гор в мутном небе — холодный, угрюмый, предавший его мир. Бардошин? Да, он виноват был перед Бардошиным помыслами, и он заплатил сполна. Что еще от него нужно? Не в состоянии он думать больше о Бардошине. Уйти в то далекое, что разворачивала перед ним память…
— Эй, ты слушаешь меня? Ты живой? — толкнул его локтем Жора. — Проснись!
— Не хочу… говорить, — не сразу и оттого, казалось, с еще большим небрежением процедил Сергей. — Оставь меня.
— Не хочешь. Ишь ты. Он не хочет! — раскочегаривал себя Бардошин. — Скажите, пожалуйста, не желает разговаривать! А я хочу. Ясно? И готов кое-что тебе сообщить, раз уж ты такой гордый. Поведать кое о чем любопытненьком для тебя.
Скажите, какой! Полеживает себе и ни о чем знать не желает! Всегда догадывался, что чистоплюй и презирает всех… Сыграл в великодушие, помог. И торжествует, упивается своим благородством. А вот и не выйдет с торжеством. Не дам. Слишком ловко разыграл свою партию. Допустим, сценарий не сам придумал. Лавина, она лавина и есть. Но использовал момент на все сто. Ох, и хитер, ох, ловкач!.. (Как справиться с вечным укором — что обязан своим спасением человеку, жену которого пытался соблазнить? А очень даже просто: наддать еще, да покрепче. Такого ему уксуса подсунуть…)
— Я… хотел тебе сказать, я специально в Адлер смотался, чтобы Регину встретить…
Дыхание тяжело, беспокойно вырывается из Жориной груди. Он ждет реакции Сергея. Но ее нет. Медленно, с остановками и косноязычно, словно камни во рту, ворочает он слова:
— Я тебе еще раньше хотел об этом сказать, да ты, похоже, избегал разговоров о Регине, — сужая круги, подбирался Жора. — Я решил, что ты знаешь, догадался. Либо Пашка натрепал, давно заметил, шпионит за мной. В общем, извини за позднее признание, она мне весьма приглянулась. Еще мы с тобой знакомы не были… Длинная история. Неохота пережевывать снова здорово, но, скажу прямо, как есть, чего нам сейчас в нежности играть, правильно? На многое готов был… чтобы завладеть ею.
Бардошин остановился, запутавшись в противоречивых стремлениях. Как ни крути, а непросто выпалить подобного рода новости соседу, лежащему рядом на расстеленной посреди снега и скал палатке. И ведь не шелохнулся, не вздрогнул, даже слова не проронил в ответ. Ладненько, посмотрим, как ты себя дальше поведешь. И Бардошин продолжил неожиданные свои признания:
— Я все ждал, что ты фортель какой выкинешь. Уж тогда бы я не спустил. Будь уверен, перешибленными ногами дело б не ограничилось. В этом ручаюсь, — как бы даже развеселившись, с задором сообщал Бардошин. — Можешь мне поверить. Ты не думай, я простачка изображал, а сам при-и-истально за тобой приглядывал.
Он покашлял, застонал было и, забывая о боли, о тошноте, хоть и запинаясь, но все равно едва не со смехом и презрительно в то же время:
— Чудно мне показалось, когда очнулся и понял, что одни мы: что же, думаю… Как же так?.. Одни ведь! Делай что хочешь, а? И сейчас, если по-честному, удивляюсь я на тебя. Ты что, христианин? Может, в церкву ходишь? Не ходишь? А только я бы на твоем месте, я бы резину тянуть не стал. Какой случай подвалил! А ты… Ты хоть соображаешь, о чем я? Ты слушаешь меня? Э-эй, Серега?
Сергей различал и понимал слова, но они скользили мимо внимания, не задевая его. Сергей испытывал необычное состояние отрешенности — близко оказывалось неизмеримо более важное, неведомое дотоле, и оно с властной покоряющей силой притягивало и овладевало им.
— Я сделал… Не мог иначе… — возвращаясь издалека, чуть слышно пробормотал Сергей. — Остальное… неважно.
Он умолк, так и не высказав, что занимало его еще совсем недавно. Мысли те, несмотря на всю их выстраданную значительность, теперь казались Сергею не стоящими даже того, чтобы, напрягаясь, переводить их в слова.
«Неважно, неважно, все теперь неважно, — не то вслух, не то про себя повторял он. — Важно совсем-совсем другое. Важно…»
— Почему же вдруг неважно? — прицепился Бардошин. И забурлил: — Знать, что отомщен, неважно? Знать, что твой враг понес наказание. Что он не существует больше. Сладостный миг отмщения!.. Ты мне мозги не засоряй. Я тебя спрашиваю, зачем ты меня вытаскивал, отчего не прикандыкнул? Я же был в твоих руках. Боишься правду сказать?
Голос Бардошина временами истаивал и стихал до полушепота, ядовитого, полного сарказма, издевки, ненависти и, может быть, ужаса?.. Но, подхлестнутые злобой, взбодренные ненавистью силы возвращались и кружили голову. Вздрагивая от лихорадочного возбуждения, лихорадочно забрасывал Сергея своими обвинениями:
— Бои-ишься. Вернячок! Смотрите, любуйтесь, какой я замечательный, врага своего вытаскиваю! Хочешь, я тебе ее скажу, твою правдочку?.. Если б не твое дутое самомнение и игра в так называемое благородство? Ради этого самого благородства да чтобы потешить гордость свою перед… Потешить да покрасоваться!.. Угробить себя готов. И гробил не раз, по крайней мере, свою карьеру. Думаешь, не знаю? Я о тебе много чего разузнал. И про кандидатскую; думаешь, тебе простили? Да тебя презирают, если хочешь знать. И смеются над тобой. Скажите, какой выискался борец за экологическую гармонию! С Кенозером — всех против себя настроил. А значит, и против твоих предложений. Онега-то — ха-ха! К нам водичка пойдет. Усек? Да ты спасибо должен мне сказать. Бутылку «Наполеона» поставить. Ясно? — Он опять попытался рассмеяться.
Но не до смеха ему было. Лишь только замолчал — боль в ноге навалилась ужасная и страх перед ночью, страх перед непомерно долгим ожиданием помощи, и явится ли помощь?.. В то же время его уязвленное самолюбие, растоптанное самоуважение требовали и взывали утвердить себя, заставить этого человека, в котором он теперь видел причину всех неудач, уничтожиться, если не физически, то морально, до конца разрушить его самоуверенный покой.
«Будь он проклят! Он, Сергей, виноват во всем, его проклятая уверенность… Именно она позволяет ему выдержать, когда всякий другой был бы растоптан. Ну ладно же, ладно… Слушай…»
— Признаюсь, не хотел, да уж ладно, — повел Бардошин другим вовсе голосом, почти ласковым, несмотря на хрипоту. — Ты вроде бы мне помог, я тоже… тебе открою… Чтобы знал, кто есть кто! Слышишь? Не хочешь слушать? Ничего, услышишь!
Свербил шов на губе, Жора почесывал его машинально, тут отдернул руку: перед глазами возникла та подлая сцена… Он сглотнул горькую, густую слюну и зачастил, щурясь и злобно улыбаясь:
— В общем… я своего добился. Мы с Региной отлично поладили, я остался у нее. Подробности? Пожалуйста. Не жалко. Кстати тебе надлежит знать. У нее комната на двоих, с Вавой вместе. Гардероб, тумбочки, как обычно. Между прочим, я им путевки добыл. Ясненько? Я! Должен признаться, Регина — женщина что надо. Высокий класс. Хотя ей недостает некоторого опыта. Извини мою откровенность, но взгляд со стороны вещь полезная. Так что вникай.
Она мне понравилась, — продолжал после легкой паузы. — Способная ученица. Да, извини. Тебя интересуют, конечно, детали. Что ж, отлично. Ваву я переселил на ночь в гостиницу. Так что времени у нас было достаточно. Призналась, что мечтает о партии Джульетты. Так ведь прочувствовать, пережить требуется, а? Я, как видишь, не тщусь особыми претензиями, возможно, именно с этих позиций Регина и решила сойтись со мной. Ты не слишком переживай. Сердце красавицы!.. Кхэ-кхэ-э… «Нет, нет, мой друг, то жаворонка голос, перед зарей поет…» — вспомнил он и с некоторым как бы смущением признался: — Выпроводила меня еще по-темному. Велела с балкона спуститься. Второй этаж, земля мягкая, я прыгнул, да несколько расслабился, к тому же особенно не разглядывал, в общем физиономией об тачку: оставили, черти полосатые, тачку под окнами в цветнике. Немножко пострадал. Да ты слушаешь? Э-эй!..
Сергей лежал, ни о чем уже не думая, ничего не желая, разве только, чтобы скорее конец. Серая стужа просачивалась понемногу, захватывая исстрадавшееся, послушно поддающееся тело. Он захотел было плотнее укрыться в мешок, ухватил за край… Но пальцы не подчинились ему. Через какое-то время снова вспомнил, что холодно… И позабыл. Силы его иссякли. Крепкое, тренированное сердце еще билось, нагнетало освеженную кислородом кровь в мозг, в будто отделенное от него тело. Но и сердце начало сдавать. Ударяло несколько раз и приостанавливалось, ударяло и останавливалось. Потом пауза затянулась и не кончилась.
ЭПИЛОГ
История, которую мне хотелось поведать терпеливому читателю, практически окончена. Остается рассказать о некоторых эпизодах, связанных со спасательными работами, и коротенько о дальнейшей судьбе моих героев. По крайней мере, то, что мне известно. Хотя, право же, повторяю, если бы не читатель, который всегда хочет все знать до конца, скажем, в обозримом отрезке времени, если бы не возможные его претензии (а читатель всегда прав!), не стал бы и продолжать. Грустно продолжать. Не лежит сердце.
Но прочь сантименты, долой «хочу и не хочу» — и за дело.
Не буду описывать трудности ночного спуска двойки Воронов — Кокарекин по крутым скальным кулуарам, которыми пронеслась лавина. Впрочем, вернее было бы оказать, Кокарекин — Воронов, ибо Паша Кокарекин оказался пусть не в роли руководителя, но — ведущего. И конечно, спасибо необыкновенному, прямо-таки сверхъестественному везению и находчивости шедшего первым Паши, Павла Ревмировича, если бы не его энтузиазм и выдержка, надежность, мастерство Воронова, кто знает, чем бы могло обернуться.
Темень, тревожная, подстораживающая тишина. Изредка особенно резкий и неприятный грохот сорвавшегося камня; иногда искры, обозначавшие места ударов, и совершенно непонятно, куда дальше.
Луна взошла поздно. Она на ущербе. От слабого красноватого ее свечения облака, укрывшие ледник, приобрели зловещий, почти кровавый оттенок. Небо вскоре совсем затянуло. Серый гнетущий сумрак пал. Все оказывалось одинаковым: скалы и снег, глубина и пространство вокруг. Спускаться труднее и труднее. Даже не столько из-за крутизны и неизвестности, но еще больше, пожалуй, благодаря серой, тягостной мгле вокруг, в которой тонули скалы, и голоса, и надежды, и самоотверженность.
С крючьями незадача, мало оказалось. Воронов занудил было, что Павел Ревмирович ввел в заблуждение руководство КСП, заверив, будто крючьев достаточно. Павел Ревмирович гаркнул хотя и не имеющее прямого отношения к поднятому вопросу, пожалуй, далекое от истинной правды и справедливости, однако весьма едкое и обидное (еще и оснастив не вполне приличными выражениями). Делать нечего, пришлось Воронову смириться и с обманом по поводу крючьев, и с нехваткой оных (не идти же снова на прямую конфронтацию). Разумеется, досадная эта нехватка немало замедлила темп движения, ибо — тут на Воронова никакая брань не действовала — не желал он увеличивать список пострадавших, и все тут.
Воронов твердил себе в утешение, что промахов он не совершал, упреки в его адрес несостоятельны. Никакой это был не отдых и не проволочка времени. Он поступил согласно правилам. Необходимо было прежде всего сообщить на КСП, и он сделал это. Ночью — мороз, следовательно, не может, не должна сойти новая лавина. На КСП разрешили выход. И он согласился с их решением. Он всегда жаждал жить, не нарушая правил. Правила регламентируют жизнь. Правила позволяют исключить ужасные последствия, которыми чревато любое самовольничанье. Но чем больше он старался утвердиться в успокаивающем этом понимании, тем холоднее и пустыннее становилось у него на душе. Холоднее и отчаяннее.
При первом свете начинающегося дня Кокарекин и Воронов достигли места, где остановилась лавина, и увидели в скалах чуть выше лавинного выноса притулившихся на разостланной палатке своих товарищей. Радость, было взыгравшая, оказалась преждевременной. Сергей был мертв. Жора Бардошин почти безучастно воспринял их приход. Он стонал, на вопросы отвечал неохотно, язык плохо ему повиновался. Не хотел, чтобы трогали Сергея, и с собой поначалу не позволял ничего делать. Воронов подумал, не сильнейшее ли у него повреждение черепной коробки и мозга, и несколько нерешительно начал первые меры по оказанию помощи. Когда же попытался перебинтовать ногу, Жора и вовсе: к черту, к дьяволу, — только от него и слышали.
Сергей лежал в наполовину незастегнутом спальном мешке. Лицо серое, глаза неплотно закрыты. Что-то новое, неведомое и значительное было в его лице… Паша отбил от скалы два небольших осколка, закрыл глаза Сергею и придавил осколками.
Странно было ему ощутить ледяную неподатливую кожу, веки, не дернувшиеся под его пальцами. Он именно и предполагал, что не застанет Сергея в живых. Едва ли не уверен был. И все-таки надеялся. Гнал мысли о гибели Сергея и подстегивал себя надеждами. И вот теперь, когда несчастная уверенность его подтвердилась, должен бы случиться взрыв отчаяния и горя. Но отчаяния не было. Паша исполнял, что, на его взгляд, требовалось, почти не испытывая никаких переживаний. Очень он был измотан, истерзан душевно и физически, слишком досталось ему за прошедшие сутки.
Вскипятили чаю. Есть не хотелось, только пить. Жора понемногу высосал целую кружку крепкого сладкого чая. Через некоторое время еще. Воронов поел. Паша отщипнул хлеба. Хлеб был холодный и черствый. Подогретые рыбные консервы, может быть, от томатного соуса казались сладкими. Есть Паша не мог.
Внизу сквозь таявшие облака разглядели цепочку людей, бредших по леднику. Поняли, что спасатели, начали кричать. Часа через полтора первая двойка налегке поднялась к ним. Лавина не так уж много не доехала до ледника.
Жора несколько приободрился. Разумеется, все стремились выказать ему максимум внимания.
Долговязый в оранжевой, как на Жорике, пуховой куртке и оранжевом шлеме скучным голосом сообщил по своей рации, что пострадавших обнаружили. Одного на себе понесут, перелом голени. Другого в спальном мешке, волоком. Поняли? Невраев. Помнишь такого?
Через часок подоспели остальные. Понатащили веревок, зонды лавинные, лопаты. Продуктов разных. Основательно снарядились. Жорику первым делом вкололи того-сего, боль снять. Ногу уложили в настоящую проволочную шину, выгнув ее как полагается. Забинтовали. Народ опытный, не первый и не последний случай у них.
— Ты парень что надо, как тебя, Жора, что ли? — хвалил долговязый. Он у них начальником, Семенов фамилия, к нему обращались по разным вопросам. — Открытый переломчик и, смотри, раскатал палатку, товарища в спальный мешок уложил, сам засунулся. Мотыгу эту, — он кивнул на ледоруб, выпачканный кровью, — приспособил. Или покойничек тоже принял участие?
Жора Бардошин внутренне напрягся. Что-то ему показалось неестественным в безразличном тоне долговязого, в вопросах, подчеркнуто незначительных.
Маленький, бородатый, что ногу поддерживал, пока шину прибинтовывали, ничтоже сумняшеся подхватил:
— Молото-ок парень. Ни пантопончика, ни морфия ведь не было у тебя? Не было? Как ты только осилил? Молоток! Помнится, в позапрошлом году плечо я себе выбил на Шхаре, маменька родная, не знал, куда деться, ей-бо, ни встать, ни сесть.
Бардошин молчал. Почесывал рубец под усами. Саднила растревоженная нога, несмотря на уколы. Раздражало, хуже — бесило стремление этих двоих выведать что-то, чего не было. После той давней истории, о которой вдруг все заговорили, ну, с этим, в их группу рвался, Сергей его отшиб, — на пустом месте готовы городить черт знает что.
— А подите вы… с вашими расспросами, — взъярился Жора. — Ты, длинный… чего тебе от меня нужно? Ты что, начальство? Начспас? Что ты вокруг да около юлишь? Ну, Сергей меня откопал. Ясно? За камнем я был. И сюда Сергей меня затащил. Ночью. Что еще?
— Как Сергей? — удивился бородатый. — Это Невраев?
— Вы чего сюда приперлись, трепаться? В детективов играть? Или спасать пришли? Спасатели! Вон Пашке Кокарекину валерианки накапайте. А в чужую душу лезть нечего. Ясно? Я вас не вызывал. Языки… В пасти надо держать языки.
— С ним цацкаются, внимание проявляют, а он…
— Ладно, умолкни, — остановил долговязого Семенов. — Не видишь, человек натерпелся, не в себе. — И к Воронову: — Ты вчера вечером по рации вызывал? С тобой я разговаривал? Какого это ты Игоря Алексеевича приплел? Нет у нас такого и не было. Ты же вроде наших ребят знаешь?
Павел Ревмирович подал голос:
— Я это. Немножечко придумал.
— Ты? Ты хоть слышал, что тебе говорили. Не говорили, а орали!
— Не-а. А что?
— Что, что. Наболтал, сочинитель! Мы тебе орали… Видно, и вправду у вас не было слышно. Скажи, с батарейками как не повезло. — Семенов косил глазами то на Воронова, то на Павла Ревмировича, словно проверяя, можно ли теперь верить. — У нас понять не могли, что за чушь порет. Какой-то Игорь Алексеевич? Благодарит его?.. Спуск ночью… Так, что ли? Вы что, в самом деле ночью спускались? Ну и ну. А впрочем, живы, целы…
— Твоя фамилия не Кукарекин случаем? — обратился к Павлу Ревмировичу маленький. Вот уж борода так борода, до самых очков зарос, один нос розовой пипкой проглядывает.
— Не Кукарекин, а Ко-ка-ре-кин, — выговорил Павел Ревмирович по слогам. — А что?
— Телеграмму для тебя захватили. Вадим, передай этому петушку.
Паша развернул сложенный вчетверо бланк с неровно наклеенными белыми полосками, на которых без знаков препинания было отпечатано: «ПОЗДРАВЛЯЮ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЦЕЛУЮ СВЕТЛАНА».
Он и забыл про свой день рождения. Да, вчера, как раз в тот страшный день, двадцать седьмого августа. Он и позабыл. Ведь вот как бывает, начисто вылетело из головы. А она помнит. Помнит! Ура, хотелось ему крикнуть. Ура, ура, Светочка помнит. «Светлана» — подписалась, без отчества. Без фамилии. Целует… Тогда… жизнь продолжается. Тогда есть ради чего терпеть и добиваться. И погибать есть во имя чего. Целует. Света целует!..
Запело чудесной кантиленой и прорвалось из души, из самых ее глубин, где таилось под массой наносного, а все равно заставляло вытягиваться, одолевая невзгоды, не давало смириться с унынием, с циничным безразличием, с соблазном подлого успеха, прирасти к ним, почувствовать своими; прорвалось вопреки трагедии, тяжелее которой не знал, а может быть, и благодаря ей тоже (отголоском скользнула несчастная история с вороновской невестой, обожгла неожиданной схожестью каких-то косвенных, сыгравших свою гибельную роль причин и отлетела до времени); прорвалось и затопило почти молитвенное чувство удивления перед неожиданным, оглушающим счастьем и красотой мира. И понесло, разрастаясь до колотья в груди, до благодатных, освобождающих слез, которые вот-вот готовы были пролиться и которые сдерживал — люди же кругом, несчастье, Сережа, самый близкий ему и дорогой после Светланы человек, которую любил теперь, казалось ему, всеми любовями на свете…
Страшно сознавать, что лишился Сергея, и все-таки не смерть торжествует. Как-то это он сейчас четко очень понимал. А может, и не лишился? Разве то, что воплощал собою Сережа, ушло? Не окрепло, напротив, обретя иные формы, в которых оказывалось еще более убедительным и необходимым, несмотря на кажущуюся уязвимость? Вот оно какой-то своей стороной явилось перед ним…
— Что, мужички, Жору обиходили, давайте другого готовить, — сказал Семенов, привычный, похоже, и к слезам, знавший, чем меньше обращать внимания и обсуждать в некоторые моменты беду и страдание, тем лучше. — Репшнур валяется, им и обвяжем. Хватит, нет? Мало, еще добавим, этого добра у нас навалом. Воронов, не хочешь принять участие? Родственник, говорили, он тебе?
Воронов пододвинулся ближе, низко поклонился Сергею, молча отошел.
Семенов мигнул своим:
— Чего время тянуть, пакуйте его. Да поживее. Кулуар все же.
— Подождите, подождите. — Павел Ревмирович просунулся. — Дай пройти. — Опустился на колени рядом с Сергеем. Поцеловал его в губы.
Осколки камня с глаз Сергея убрали. Глаза оставались закрытыми. Лицо было спокойно. Так удивительно покойно, словно и в самом деле узнал нечто, что далеко отвело его от прежних забот и переживаний. Случайно попавшие на лоб и около носа крупинки снега не таяли.
— Так, так, Сергей, значит. Его очередь подошла, — вяло и как-то безучастно пробурчал Семенов. — Точно я, выходит, почувствовал.
— Что почувствовал? — встрепенулся бородатый. Глазки его и носик-пипка заерзали от любопытства. — Когда?
— А не знаю, как назвать. Только в лице у него появилось, чего раньше не замечал и теперь тоже нету. Хорошо помню: пришли документы подписывать вот вместе с ним, — он качнул каской на Воронова. — Я еще подумал, может, не пускать? Точно помню. Да как не пустишь, формально у них порядок. Не пускать нельзя. Сказать тоже нельзя. Я подписал. И ждал чего-нибудь в этом роде. Вчера фильм внизу крутили «Лыжи по-французски», не пошел. Думаю, мало ли… Хотя что теперь… — И без паузы: — Давайте, мужички, поторапливайтесь. Не хочу пугать, но времечко сейчас дорогое.
Паша подтянул капюшон на лицо Сергея, завязал шнурок. Потом поднял «молнию» на спальном мешке, закрыв Сергея с головой. Спасатели, явно торопясь сделать эту работу, принялись, сильно натягивая, обвязывать репшнуром. Паша вдруг взмолился:
— Погодите, погодите, давайте в палатку еще завернем…
Семенов посмотрел на него с неудовольствием, но возражать не стал. Тело в спальном мешке закатали еще в палатку и аккуратно несколько раз обернули репшнуром. Получился длинный, хорошо увязанный тюк.
— Трещины на леднике меня беспокоят. Как Бардошина перетащим? — делился Семенов своими заботами. — Надо сообщить на КСП, пусть лестницы складные подошлют. Вадим, бери-ка рацию, займись.
И почти без паузы:
— Кто Бардошина сейчас понесет? Ты? Быстренько надевай сбрую. Ребята, помогайте. Живо, живо. И страховочку… Страховочку обеспечить, чтобы была на уровне. Паша, Воронов, я вас в свою связку беру. Погодка… — Он взглянул на небо. — Снегопад обещали. Похоже, надолго. Много снегу выпадет.
Он наблюдал, как устраивают Бардошина в специальной обвязке за плечами одного из спасателей, как начинают спускать на веревке упакованный труп, смотрел, как бородатый Вадим возится с рацией, как Воронов, за ним Паша Кокарекин надевают рюкзаки, и, обращаясь к Воронову, который с тех пор, как пришел спасательный отряд, кажется, не проронил и слова, вызывая его на разговор, рассуждал:
— Лавина — это если много снегу накопилось. Чересчур много, так что уже не удержаться ему на крутизне. Только и всего, Саша Воронов. Ты человек ученый, а я практик. На мой взгляд, всякие там разглагольствования о сублимации снега да конструктивном метаморфизме — чтобы было чем вашей братии степени зарабатывать да нам, бедолагам, очки втирать. На практике оно проще. Холодно, жарко — все одно: если снегу мало, так нечему и сходить. Беды начинаются, когда чего-нибудь слишком много накопилось, невпроворот. Простая моя теория? Зато жизненная. Так что лавины — когда чересчур много.
Воронов молчал, потом все-таки высказался:
— Горы, снег, лавины — это конкретные величины, их можно наблюдать и измерить. Они подчиняются физическим законам, они могут быть поняты. Но человеческую натуру… понять нельзя.
Надо отметить, что под конец этого несчастного происшествия, или, как теперь принято говорить, инцидента, начальник альплагеря Михаил Михайлович снова и в который раз выказал свою жизненную сметку, хватку и прочие незаменимые качества. Вовремя сориентировался, сообразил, что случившееся не замять, делу следует дать ход, и благополучно перевалил все хлопоты и тяготы на КСП — их епархия, пусть и расхлебывают. Более того, сумел извлечь для себя как инициативного руководителя определенный моральный капитал. Через какие-то весьма непростые, ведомые лишь немногим избранным каналы добыл вертолет. Никто его специально о том не просил, не канючил, сам. И совершенно бесплатно. Это ли не успех его! Благодаря вертолету чрезвычайно упростилась и ускорилась доставка Жоры Бардошина в больницу, а также эвакуация других участников группы и тела Невраева.
Что ни говорить и как ни придираться к некоторым особенностям нрава Михаила Михайловича, в сложной ситуации человек он, как сам же неоднократно подчеркивал, поистине незаменимый. Напор, отточенное умение в лучшем виде продемонстрировать свою деловитость, свое личное горение во имя общего блага, свои связи. Связи, говорят, у него обширнейшие, хотя никто толком не может указать, какие именно. И все бодро, весело, никаких промахов в постановке вопроса, ни тем более отрицательных эмоций. Это ли не то самое, как опять же он считает, что должно вознести на уровни, где горами ворочают.
Одна беда: чем ярче успехи, тем сильнее зависть и яростнее ополчаются недруги, никак не давая ему вырваться из областного подчинения. Как иначе объяснить, что, несмотря на явные достижения и заслуги Михаила Михайловича в сфере спорта, его перевели в сферу услуг, в банно-прачечный трест, понятно, начальником?
Веселые проводы, говорят, устроили ему в альплагере. Участников было маловато, инструкторский состав, еще асы некоторые, решившие задержаться в надежде какое внеплановое восхождение урвать по случаю наконец-то установившейся погоды и избавления от Михаила Михайловича, зато шуму предостаточно. Проводы с речами, долгим застольем и торжественным выносом под пение несколько фривольных песенок Михаила Михайловича в его начальническом кресле за пределы альплагеря.
Ну да, альпинисты, он давно убедился, народ пустейший, им бы только хохмить, то есть, «значить», разыгрывать друг друга, а то и приличных людей заодно. Что с них взять, ни благодарности настоящей, ни почтения. Плюнуть да растереть.
Павел Ревмирович, несмотря на дружеские, смею надеяться, отношения наши, остается для меня фигурой нераскрытой, таящей массу неожиданного. Жизнь его по-настоящему только начинается. О планах он предпочитает помалкивать, и то сказать, не всегда они зависят от нас самих, многое, и даже очень, частенько упирается в обстоятельства, ни с какой стороны нам не подвластные. Делом, надо отдать ему должное, увлечен всерьез. Всякую новую статью непременно обсуждает со Светланой Максимовной, доказывает, спорит, отстаивает с рьяной страстью свои обличения, доходя, случается, до прямой ссоры. Потом, внутренне с чем-то согласившись, уступает. Характер его, бесспорно, меняется не в лучшую сторону. Реже и реже выпадают минуты беспечной, беспечальной болтовни, которой так отличался в те, сравнительно недавние, дорогие ему самому времена.
О его отношениях со Светланой Максимовной ничего существенного сказать не могу. Как мне самому кажется, отношения эти сложны и не становятся проще.
К моему, намерению изложить пережитое им и его товарищами в виде небольшой повести, как представлялось поначалу, отнесся довольно прохладно, хотя тотчас заявил, что сам писать на эту тему не намерен. Слишком все живо для него, слишком многое вызвала гибель Сергея. Писать о Сергее — нет. Когда-нибудь в будущем, может, и сумеет увидеть спокойным, незамутненным взглядом…
К счастью, немало любопытных подробностей мне удалось выведать у других лиц, близко знавших участников группы и так или иначе бывших в курсе их дел и забот.
О Фросе известно, что она уехала в Москву. Очень волновалась перед отъездом, напасла и наготовила (она отличная кулинарка) массу всевозможных кавказских лакомств. Как у нее с Жорой разовьется дальше, не берусь судить.
Воронов погрузился в работу, почти ни с кем не видится, мало-помалу становясь тем, что называют убежденный холостяк. С лауреатством ему повезло. Американцы повторили исследование, которое он провел совместно с покойной своей аспиранткой, опубликовали результаты. Далее, как говорят в ученом мире, задача свелась к тривиальной.
Регина… О, она весьма хороша на сцене. Ей предвещают большое будущее. Я ее не видел. Билеты в Большой театр достать очень не просто.
…Когда после зимы начинают истаивать снега, склоны гор покрываются тюльпанами. Теплый ветер колышет их плотные, с синеватым отливом листья, алые, белые, иногда розовые цветы. Ветер, обтекая склоны, устремляется ввысь, к вечно снежным вершинам, ветер несет с собой тепло и волнующие запахи земли. И снега, не знавшие живого прикосновения, и льды, и мрачные нагромождения скал теплеют, перенимают тонкий настойчивый аромат листьев, цветов, травы, и уже не так безразлично, не так высокомерно высятся они в синем солнечном небе.