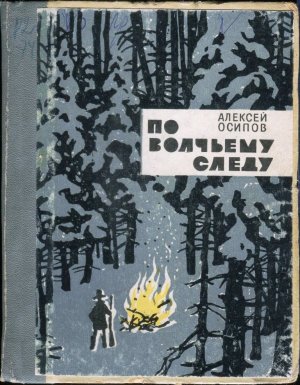
Бродя по лесам, где жил и творил замечательный рязанский художник Ф. А. Малявин, я попал в деревню Аксиньино. Вечером в дом, где я остановился, вбежал запыхавшийся мальчишка лет семи.
— Алексей Иванович! Мама заболела!
Внешне мрачноватый, неторопливый хозяин дома достал из ящика, висевшего на стене рядом с ружьем и патронташем, градусник, таблетки и пузырьки с лекарствами, положил в стакан меду, угостил мальчишку арбузом.
— Пойдем к больной.
…Утром я проснулся от голоса хозяина за стенкой.
— Прокладку пробило? Из-за этого стоит трактор? Что ж, картон и заклепки дам.
— Спасибо, — пробасил незнакомый мне голос.
— Благодарностью не отделаешься, товарищ бригадир! Летом опять тебе восьмиклассников на практику пришлю.
— Давайте, Алексей Иванович, они мне хорошо помогают.
— Кто же он, мой хозяин?
Охотник? Врач? Механик? Или учитель?
Я беру со стола книжки «Как Володя стал охотником», «Веселая поляна», «Жасмин». Читаю рукопись и вижу, что Алексей Иванович Осипов еще и писатель. Пишет он рассказы о сельских мальчишках, в жизни которых немало интересных приключений и переживаний. Я выбрал несколько самых увлекательных из этих рассказов. И вот они напечатаны в этой книжке.
А. ДУГИНЕЦ.
ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ
У Володи большая радость. Дядя Петя берет его на утиную охоту, и не куда-нибудь, а в Мещерские леса, на тайные озера. Там, по рассказам охотников, уток больше, чем воробьев на просе. Тетерева, как домашние куры, стаями бродят в лесных вырубках. А рябчики и глухари сами под ружье лезут.
Много лет дядя Петя собирался из Москвы на открытие охоты, но все некогда было: отпуск на осень не приходился. Вчера поздно вечером на такси прикатил. По плечу похлопал Володю, ружьишко его подержал в руках и сказал:
— Может, вместе на охоту отправимся?
Володя подумал, что дядя Петя смеется, но тот даже не улыбнулся.
Володя выскочил на улицу, чтобы поделиться радостью с ребятами, но в домах уже огней не было, все спали. А утром встретился с ребятами на выгоне, и все заметили в нем перемену. Голубые глаза блестят, белесые, подпаленные летним солнцем волосы взъерошены. Сапоги на нем кожаные, охотничьи, с отворотами. Кепка новая, серая, с большим козырьком.
— Ты куда так вырядился? — спросил Колька, насмешливо улыбаясь. Все веснушки на лице его растянулись и стали ярче, крупнее.
Колька на целую голову ниже Володи, но в плечах такой же широкий и крепкий.
— Уезжаю в Мещерские леса с дядей, на охоту. У нас что! Вот там уток тьма, пешком ходят.
— Сказки! — махнул рукой Колька.
— Какие сказки? — вскипел Володя. — Ничего ты не знаешь. Там леса и болота на Муром идут. На севере с тайгой сливаются.
А Колька будто назло твердит свое:
— Вот на Дальнем Востоке, это да. Отец рассказывал, там птиц и зверей голыми руками ловят.
— Завидуешь? Я бы и тебя взял, но ведь сам в первый раз.
— А чего мне завидовать? — равнодушно заметил Колька, приглаживая рукой волнистый чубчик, хотя по глазам видно: сгорает от зависти.
— Мой отец на тигра в Уссурийской тайге ходил… А тут удивил: утка, рябчик…
К ним подошел Витька. Он, видно, много спал, от этого его скуластое широкое лицо стало еще шире и круглее, серенькие глазки — уже, маслянистей и хитрей, словно совсем недавно прорезались. А тонкий прямой нос будто приставили от другого лица. Вот только губы, мясистые и добродушные, да массивные скулы его, Витькины.
Узнав, о чем разговор, Витька серьезно посоветовал:
— Смотри не промахнись. Целься наперед. По чиркам выноси ружье на метр: у них скорость реактивная.
— Откуда ты знаешь? — спросил Колька.
— В книжке написано, сам читал.
Володя стукнул Витьку по плечу.
— Трех уток убью — поделимся. — Приглашу на суп.
— А щи из утки, говорят, вкуснее… — вздохнул Витька.
— Верно, — согласился Колька. — Отец рассказывал, как они на востоке делали. Лаврушки положат, петрушки, еще чего-то… И от тарелки за уши не оттащишь…
— Ну что ж, — вдруг озабоченно проговорил Володя, — некогда, пойду собираться…
Колька с нескрываемой завистью посмотрел вслед счастливчику.
Дядя в полном охотничьем снаряжении ожидал Володю дома. Бескурковое ижевское ружье было вычищено и спрятано в новый зеленый чехол с ременной ручкой. Но, по мнению Володи, лучше бы ружье дядя нес не в чехле, а открыто, как носят многие, за плечами.
В чехле носить ружье, конечно, удобнее, но никакого эффекта. И хорошо бы патронташ не в сумке нести, а поверх пальто, как надевали пулеметные ленты матросы в гражданскую войну.
— А я тебя жду, — сказал дядя Петя.
— Я готов! — бодро ответил Володя.
Вышли они за деревню, взобрались на пригорок. Оглянулся Володя еще раз: не провожает ли его кто, и на всякий случай помахал рукой.
А в полдень они были уже далеко от родной деревни. До города Спасска больше сотни километров ехали на автобусе. Дорога, выстланная булыжником, петляла по хвойным лесам, мимо озер и старых разрушенных церквей. Местами булыжник был прикрыт асфальтом, и по нему автобус бежал легко и весело. Молодые березки, как резвые девчонки, бежали навстречу автобусу. Издали деревянные домики, аккуратно расставленные на пасечных холмах, были похожи на игрушечные, и казалось, что их легко может засыпать песком или унести ветром.
В автобусе ехало много охотников с ружьями, рюкзаками, собаками. Володя прислушивался к их рассказам и все больше входил в азарт. Поскорее бы на озеро. А то уж очень много стрелков. Уток на всех не хватит.
— Приехали, — сказал дядя, когда автобус развернулся и замер у зеленой ограды на краю города.
«Приехали! Да где же здесь утки?» — подумал Володя, но молча спрыгнул в песок. Ноги, затекшие от непривычно долгого сидения, с трудом держали его.
— Многовато сегодня охотников, — деловито сказал он, когда, выйдя за город, увидел как поднимаются в гору парами и в одиночку мужчины в полном боевом снаряжении.
— На всех места хватит, — ответил дядя, подморгнув черным глазом.
Чем дальше они отходили от города, тем меньше становилась охотничья цепочка. У всех, видимо, были свои привычные, излюбленные места, куда они и спешили.
Уже три часа вышагивают Володя и дядя Петя, а усталости никакой. Вот только ружье немного потяжелело, и его приходится чаще перекладывать с одного плеча на другое. Да сумка с заряженными патронами стала сильнее давить, сползает с живота, будто ремень растянулся, а так хоть бы что.
…Темнело. Лес, окутанный дремотой сумерек, молчалив и задумчив. Пестрые сороки стрекотали над дубами, перелетали с макушки на макушку, давая знать лесным жителям о появлении непрошеных гостей. Под ногами змеями переползали дорогу корни сосен — горбились, словно готовились к броску, и головами ныряли в серую песчаную землю.
— Вот и дом наш, — неожиданно сказал дядя, свернув на полянку.
Но Володя не видел никакого дома, смотрел на дядю и улыбался его шутке.
— Что, не веришь? — засмеялся дядя, усаживаясь под стогом сена.
Забрались в сено. Нежно, едва уловимо запахло цветами. Стало тепло и дремотно. Дядя что-то еще говорил, а Володя языком шевельнуть не мог…
…Перед глазами Володи пастушьим кнутом извивается дорога, по которой, обдавая прохожих ветром, бежит машина. Песчаные улицы, березки. Крик совы. Колька с рыжим чубчиком… А стог сена вдруг покачнулся, оторвался от земли, летит под облаками…
— Володя, вставай! — слышится где-то внизу голос дяди. — Вставай!
Это куда же? Зачем вставать?
Володя очнулся. Будто и ночи не было. Кажется, только прилег, и уже подымайся. Хоть бы еще поспать немножко. А дядя уже зарядку делает, машет руками, приседает.
— Утро-то какое бодрое!
Володя осмотрелся сонными глазами и не увидал никакого утра; только сырость и холод да белая дорожка, проложенная зарей по небу.
По скошенному лугу вышли к болоту. Лениво колыхался разбуженный ветром высокий, густой камыш. Звонко пищали в дымной синеве кулики, деловито, по-хозяйски крякали утки. Глаза беспокойно и напористо прощупывали туманный воздух, скользили по водному плёсу. Дядя шагал смело, и только по вздрагивающему камышу да хлюпающей под ногами воде Володя определял его направление. Он спешил следом, прыгая с кочки на кочку и держа ружье наготове.
Добрались до островка. Приземистый ветловый куст распластался над торфяной зыбью.
— Прячься здесь, а я пойду в другое место, — сказал дядя и, чуть не зачерпывая длинными голенищами, побрел по болоту. Скоро он скрылся. Володе стало неприятно, тоскливо и пусто.
Совсем неожиданно наступил день. Будто он выплыл из облаков.
Над водой вдруг поднялись кувшинки в желтых шапочках, задрожали широкими листьями. Вздрогнули, поеживаясь от холода, кусты ракитника.
Кулики на дальнем плесе затеяли базар: пищат, ссорятся, то свечой ринутся вверх, то спиралью пронесутся мимо.
Где-то далеко раздался выстрел. В тишине он показался совсем ненужным и лишним.
Большая черная утка, чуть не цепляя крыльями за макушки тростника, летела прямо на Володю. Летела без крика, доверчивая и неторопливая. Вот она уже совсем рядом, кружит над головой, выбирая место для посадки. Володя вскинул ружье, прицелился и нажал на спусковой крючок. Толчок в плечо, облако темно-синего дыма встало перед ним. Громом ударил выстрел. Когда облако рассеялось, он увидал торопливо улетающую утку. В тростнике захлопали ружья, но утка, словно бронированная, продолжала лететь в глубь плеса.
На большой скорости со свистом прошли три чирка.
«Выноси на метр, скорость реактивная», — вспомнил Володя совет Витьки. Но и этот расчет оказался неточным. Чирки скрылись в тумане. Они так высоко взмыли над болотом, что даже самые большие любители почистить стволы не решились стрелять. Долго еще сидел Володя на островке, тараща во все стороны глаза, даже шея от резких непрерывных поворотов заболела, но ни одна утка не пролетела близко.
Солнце уже высоко взобралось на небо. Спину и ноги в коленях начинало ломить, а он все всматривался, вслушивался, ждал.
— Сматывай, стрелок, удочки, — сказал охотник с маленькой черной бородкой, проходя мимо. — Утка улетела на жировку.
— Куда? — переспросил Володя, думая, что тот шутит.
— В поля, сынок, кормиться подалась.
А дяди все нет. Дядя где-то спрятался, ждет, а может, по болоту бродит, в надежде выпугнуть дичь.
Стал Володя выбираться на берег, туда, где условились встретиться с дядей. Раздвигает руками камыши, идет осторожно, неторопливо, боясь зачерпнуть воды за голенища, и вдруг… из-под самого носа вспорхнула утка — длинношеяя, длинноногая, с белой окантовкой крыльев. Забыв о правилах стрельбы, не спуская глаз с птицы, нажал на крючок. Утка качнулась в сторону, подпрыгнула, на мгновение замерла на месте, как бы обдумывая, куда дальше лететь, и неожиданно свалилась в тростник.
«Подбил!» — мелькнуло в голове. Проваливаясь по грудь в густое холодное месиво, гребя руками, как веслами, Володя пробирался к утке. «Где-то здесь, рядом должна быть», — думал он, по пояс уходя в воду. Хватался за яркие головки кувшинок, но они глухо лопались, отрываясь от стебля, цеплялся за камыш, но тот с веселым хлопаньем разламывался.
В патронташ давно вода налилась, и ложе ружья по самый казенник в грязи, того и гляди сам с головой провалишься. Но утку упускать жаль. Торчит над водой черненьким поплавком, еле-еле шевелится, под тростник маскируется.
Закоченели руки и ноги, пузырится футбольной камерой на спине пальто, от усталости рябь в глазах появилась, и все вокруг шатается, кружится.
И как кстати над болотом пронеслось:
— Во-ло-дя!
Под ноги подвернулась кочка. Володя взобрался на нее, присел. А черный поплавок то опустится в воду, то вынырнет. Володя осмотрел ружье, вынул патрон, продул ствол, зарядил и выстрелил. Вспенилась вода, и через секунду показалась убитая утка.
И снова, охваченный азартом, Володя погрузился в воду и дулом ружья подогнал к себе добычу. Теперь скорее на берег, к костру. Собрав остаток сил, выбрался из камыша.
Дядя стоит на берегу, смотрит в уставшее, бледное, но счастливое лицо племянника и приветливо, широко улыбается.
— Поздравляю с трофеем! Я тоже взял одну, только моя поменьше. Твоя тяжелая, потому и загнала тебя в болото по самые уши.
Дядя ощипал утку, положил в котелок, помог Володе развесить у костра одежду для просушки.
— Готовь завтрак, а я пойду ножик поищу. Видно, в сене потерял.
Весело трещит сухой хворост. Бледно-розовые языки пламени подползают к рукам, тепло обволакивает коленки и грудь, приятно разливается по всему телу.
К костру подошел высокий мужчина. Поздоровался. С его одежды ручейками стекала вода.
— Вы все ж недаром мокли, — сказал он, с тоской глядя на убитую утку.
— Присаживайтесь, грейтесь, — предложил Володя.
— Некогда, возвращаться надо, а уж так хотелось вечернюю зорю побыть. Думал, хоть парочку прихвачу, а вышло напустую.
— Напустую! — удивился Володя и с гордостью подумал: «Видели бы теперь ребята, как старые охотники на мою дичь заглядываются».
Подбросил в костер дров. В котелке зашумела вода…
От костра поплыл приятный запах утятины и лаврушки.
Мужчина снова украдкой взглянул из-под широких черных бровей на утку, шумно, глубоко вздохнул и резко повернулся к Володе.
— Мальчик, продай утку, — сказал он, тяжело глядя ему в глаза.
— Продать? — удивленно переспросил Володя. Он с гордостью посмотрел на свою птицу. В лучах солнца крылья утки вспыхнули, засверкали радужным светом. — Да это, дяденька, у меня первая утка.
— Первая? Вот и хорошо. На вечерней заре еще убьешь.
— Нет, дяденька, не могу.
Мужчина придвинулся вплотную к костру. Пламя жадно хватало его озябшие руки. От сапог, коленей и пиджака светлым облачком подымался пар. Он достал папиросу и прикурил от дымящейся головешки. Долго, сосредоточенно о чем-то думал, и на лице его появлялись то светлые, то грустные тени. Тяжелые морщины на высоком лбу казались черными, серебром вспыхивали виски.
Володя отодвинул от костра кипящий котелок и стал заостренной палочкой пробовать утку: сварилась или нет.
— Попросите у кого-нибудь еще. Может, продадут. Тут полно охотников, — не переставая думать о просьбе незадачливого охотника, сказал он наконец.
— Охотников много, да все стреляли не лучше меня. А у тебя, видишь, одна в котелке, а другая…
— В котелке дяди Петина. Он сейчас придет. Хотите с нами завтракать, оставайтесь…
Мужчина смотрел поверх костра, хмурился, тер ладонью лоб, словно хотел отогнать грустные мысли.
— А зачем вам утка так уж понадобилась? — нерешительно спросил Володя.
Мужчина тяжело вздохнул.
— Да из-за этой утки я двести верст проехал, пешком сколько шел. А нога-то у меня не своя, казенная.
— «Казенная»… — повторил Володя, не сразу поняв смысл этого слова, и посмотрел на его ноги, обутые в длинные резиновые сапоги.
А мужчина продолжал неторопливо:
— На Курской дуге в сорок третьем немецкий пулемет уполовинил мою ногу. Уж много лет прошло, думал, отрастет, — легкая улыбка осветила его лицо, — но, видно, теперь ждать нечего. — И он снова как-то снисходительно, добродушно улыбнулся. Теперь Володя смотрел на него со страхом и любопытством. — Сам-то я, пожалуй, и не поехал бы в такую даль, да дочь попросила. «Привези, — говорит, — папа, к моему дню рождения лесную дичь. Все папы возят, а ты уж не можешь!» День рождения у нее. Десять лет исполняется.
Володя взглянул на утку. Теперь уж птица выглядела менее красивой: то ли солнце, спрятавшись в тучу, перестало ее золотить, то ли ветер взъерошил ей перья, и она стала похожей на клок овчины, и глаза, как бараньи, — стеклянные, пустые. Противоречивые мысли распирали голову. «Отдать? Явиться домой ни с чем… Ребята, особенно Колька, засмеют. Убил утку и кому-то отдал. Да разве кто поверит? Нет, не отдам!»
Мужчина бросил в костер окурок, и Володя увидел, что у него на правой руке нет двух пальцев — мизинца и безымянного.
— Дочь-то у меня не родная, из детского дома еще маленькой взял, а уж до чего девочка хорошая. Ласковая, чуткая… учится хорошо, на одни пятерки…
— А вы подождите до вечера. Вечером утки с полей на болото пойдут, может, удача будет.
— Уж если очень жалко, то не надо, не продавай. Скажу ей: «Не повезло, плохой я охотник».
И Володе представилась маленькая черноглазая девчонка с длинными косичками, ну такая же, как Валя Аношина, его соседка, только, может, чуть поменьше… Выбегает со двора, смотрит на троллейбусную остановку, ждет… И уже подруги все знают, что ее отец на охоту отправился и утку ей настоящую, с серыми крылышками, привезет…
Мужчина отодвинулся от костра, припал на правую ногу, вскинул ружье на плечо, подтянул ремень.
— Подождите… Сейчас дядя придет, суп есть будем…
— Спасибо. Двигать надо. — И он, прихрамывая и покачиваясь, пошагал вдоль болота к зарослям осинника.
«Десять лет… Отличница. День рождения…» — терзался Володя, шуруя в костре.
— Стойте! — крикнул он. Дядя, стоите.
И, схватив дичь, Володя опрометью бросился за мужчиной.
ЦАРСКАЯ ПТИЦА
Колька не мог понять, что интересного нашел Володя в лесу ранней весной: ни травы зеленой, ни цветов душистых, ни соловьиного пения. Скучища! Он видел, как Володя каждый вечер уходил с ружьем в лес, а когда становилось совсем темно, возвращался обратно. И никогда не было у него никаких трофеев. Зачем только ружье носит?
— Возьми и меня, — попросил его однажды Колька, а сам подумал: «Посмотрю, чем же ты в лесу занимаешься».
— Пойдем, рад буду, — сказал Володя.
Пришли они в лес. Спешит Колька по сырой узкой тропинке, крутит головой, не попадется ли на глаза подходящая для выстрела цель? Володя шагает спокойно, размашисто, полной грудью вдыхает сочный воздух, настоянный на горьковатых запахах осины и грибной сырости. Радуясь весне, трезвонят на весь лес непоседливые сороки.
Остановились ребята на небольшой поляне, от которой в разные стороны змейками дорожки расползлись. Лес еще совсем голый, далеко кругом видно, и даже спрятаться негде. С макушки высокой осины неизвестно почему листья осенью не осыпались, и теперь они серебряными рублями горят в лучах уходящего солнца и тихо, нежно позванивают. А внизу, в овраге, перекликаясь с этим звоном, чуть слышно ручеек журчит. Он питается снегом, что прячется от солнца на северных склонах. Снег серый, крупчатый, осенний, сверху зимние метели его листьями и земляной пылью прикрыли — попробуй, солнышко, доберись до него. Из прошлогодней травы и сучьев сделали ребята шалаш в ореховых кустах, спрятались и стали ждать вальдшнепа.
— Птица нерусская? Большая? Я ее никогда не видел, — сказал Колька.
— Сейчас увидишь, только сиди смирно, не ворочайся. А птица русская, название, правда, немецкое. «Вальд» — что?
— Лес, — с радостью ответил Колька.
— А «шнеп» — это кулик.
— Вальдшнеп, — нараспев повторил Колька. — Выходит, лесная птица. — И что же, она сама сюда прилетит? Может, ее искать надо?
— Искать — пустое дело, не найдешь. А вот солнце сядет, темнеть начнет, тогда и смотри во все глаза.
С каждой минутой в лесу все звонче, все веселее на разные голоса стали распевать иволги, дрозды, овсянки, зяблики, чижи.
Володя по привычке щурит левый глаз и вслушивается в птичий базар, всматривается в поднебесную синь.
— И когда столько птицы успело прилететь? — удивляется Колька. — В лесу ни одного зеленого листочка нет, а пташек уже пропасть.
— Когда? Ночью. Днем отдыхают, кормятся, а в темноте летят. Выйдет утром человек в сад, а на ветке сидит скворчик и посвистывает. Придет в поле, а там жаворонок в небе заливается.
— Ну, а скоро твой вальдшнеп полетит? — не терпелось Кольке.
— Скоро! Вот сейчас перед сном отщебечут птички, и тогда жди вальдшнепа.
— А ты мясо их пробовал? Вкусное?
— Считается — царское кушанье.
Колька ухмыльнулся, не поверил.
— А почему царское?
— Вот чудак, царям их раньше к завтраку подавали. А римским императорам блюда готовили из одних птичьих языков.
— Ого! Меня угостишь?
— Что за вопрос, конечно.
— А может, так же угостишь, как уткой, помнишь?
Володя быстро вскинул ружье.
— Вальдшнеп, да? — спросил Колька.
Где-то над опушкой леса послышался резкий звук: «кья, кья, кья…» Высоко над лесом летела крупная желто-серая птица, а чуть ниже — поменьше, похожая на дрозда. Большая птица свечой взмыла вверх, сложила крылья и камнем упала на меньшую. Дрозд увернулся. В это время раздался выстрел, и облако темно-синего дыма закрыло небо. Колька видел, как что-то мелькнуло в этом дыму, и услышал глухой удар о землю.
— Беги, неси, — сказал Володя, вынимая из ружья дымящуюся гильзу.
Колька, раздвигая руками ветки, перепрыгивая пни, скрылся в кустарнике.
— Ну, что? — крикнул Володя.
— Не найду, убежала, наверное.
Володя вышел из укрытия, стали искать вместе. Долго искали.
— Вот она! — Колька заметил притаившуюся у дуба, похожую на пень серую птицу.
— Ага, отвоевалась! — И разом вцепился ей в крылья, но птица в одно мгновенье упала на спину, долбанула железным клювом в палец, а когти в руку вонзила.
Колька закричал на весь лес. Володя подбежал. Ухватил хищника за шею. Горбатый, как турецкая сабля, клюв разомкнулся. Ослабли когти, и Колька, бледный, вспотевший, отскочил в сторону.
— Ну его к черту, твоего вальдшнепа. Царская птица! Прибей ты ее! — И решительно схватил палку.
— Подожди, он еще нам пригодится.
Окровавленную руку щипало. Сильная птица была скручена веревкой.
— Не забудешь теперь ястреба-тетеревятника.
— Это ястреб?
— Ты видел, он за дроздом гнался? Не мы — смерть ему была бы.
— Лучше бы я не ходил с тобой, — ныл Колька, зажимая кровоточащий палец. — Пойду домой. На медпункте перевязку сделаю.
— Подожди, — сказал Володя и достал спрятанную в листьях еще в прошлую осень стеклянную банку. — Без медиков обойдемся, шагай за мной.
Ребята спустились в овраг, набрали в банку из ручейка воды.
— Обязательно, что ли, из банки поливать, я и так промою, — сказал Колька, наклонясь над ручьем.
— Так нельзя! Заражение будет.
Володя сломил несколько веточек черемухи и положил в воду. Через три минуты сказал:
— Теперь все, давай твои раны.
Когда рука была перевязана платком, Колька спросил:
— Не понимаю, что за фокусы? Черемуху положил для запаха, что ли?
— Для запаха! Чудак-человек! Черемуха выделяет фитонциды, вещества такие, которые убивают вредные бактерии. С черемухой можно пить даже сырую болотную и речную воду.
Колька здоровой рукой поскреб затылок.
— А легче стало руке, уже не горит.
Снова взобрались на пригорок, сели в свой шалаш. Темнело. Длинные тени деревьев легли на поляну и скоро растворились в сумерках, с землей слились. Птицы успокоились.
Вдруг со стороны поля послышались звуки: «Цык-кхо, цык-кхо».
— Опять ястреб! — толкнул Колька Володю.
Тот насторожился.
— Вальдшнеп, — прошептал он.
К просеке, чуть не задевая крыльями макушки деревьев, стремительно летела большая птица. Володя поднял ружье, прицелился. Птица продолжала спокойно парить, изредка издавая протяжные звуки. А с земли ей отвечала вторая: «Цык-кхо!»
Заметив ребят, вальдшнеп вздрогнул, метнулся в сторону и ступеньками пошел вверх.
— Бей, уйдет! — крикнул Колька.
Но Володя медленно опустил ружье. Нажми он на спусковой крючок — и теперь бы горячее тело вальдшнепа трепыхалось в руках мальчишек.
В последнее до выстрела мгновение Володя представил себе долгий, тяжелый и опасный путь перелетных птиц. Снег и голод, болезни, моря и пустыни — все осталось позади, все преодолели, чтобы вернуться на родину, где их ждет весна, радости, песни и сытая пища. И вдруг выстрел из куста?..
— Чего же ты, растяпа! — сказал Колька, когда вальдшнеп скрылся в кустах. — Ястреба как здорово смазал!
— А это не ястреб, это вальдшнеп!
В небе вспыхнула одна звездочка, за ней другая, третья…
— Пойдем, — сказал Володя, вылезая из укрытия.
— Подожди, слышишь еще где-то хоркает. Теперь я их голоса знаю.
Володя уже вышел на дорожку. В руках он держал связанного ястреба.
— Стой, прямо на нас летит, целься! — Колька присел, чтобы дать возможность Володе выстрелить, а Володя и ружья с плеча не снял. — Ну, чего же ты?
— Осенью, осенью на вальдшнепов пойдем, тогда они вкуснее, жирнее будут.
Колька торопливо шагал по тропинке и бубнил:
— Царская птица! Угощу царским кушаньем! Никогда больше с тобой не пойду. Солдатские ранения вместо царской птицы! — И он поднял забинтованную руку к небу, где, омытые весенними дождями, дрожали яркие золотые звездочки.
А вдали раздавалось: «Цык-кхо! Цык-кхо!»
СВОЕЙ ДОРОГОЙ
Еще в школе в большую перемену договорились мальчишки о встрече после уроков на футбольном поле.
Особенно хотелось быть на тренировке Виктору. Он недавно купил себе новые бутсы и никому, даже лучшему другу Володе, не сказал об этом. Интереснее в спортивной форме появиться среди ребят неожиданно. Пусть от удивления у них глаза на лоб лезут. Уже не раз перед тем как лечь спать, он доставал из чемодана обновку, обувался и прохаживался по комнате.
Из всей команды только у него одного еще недавно не было бутсов, и часто с поля сражения он приходил домой с разбитыми ногами. Украдкой от матери и младшего братишки промывал соленой водой царапины. В последней встрече с футболистами соседней деревни ему подбили левую ногу.
Вечером мать долго бранилась, уговаривала сына бросить эту глупую игру, но Виктор стоял на своем.
— Нам учителя разрешают играть, а на соревнованиях сам директор Николай Петрович будет.
У ребят ботинки со шпорами, им хорошо.
Мать не столько жалела денег, сколько хотела отучить сына от ненавистной игры, но, видя его одержимость, сжалилась — дала денег на бутсы.
Виктор торопился из школы домой, а мысли его уже давно были на поле сражения. Завтра, в воскресенье, матч, на велосипедах приедут к ним игроки из другой школы.
Тропинкой быстро пробежал через сад, потрепал за уши собаку, всегда поджидавшую его, и застыл в недоумении.
Что такое? Перед окнами, под ветвистой зеленой грушей, стоит молчаливый, словно подбитый, трактор. Уж не с отцом ли что случилось?
На крыльце встретил мать, встревоженную и грустную.
— А папа где? — спросил Виктор.
— По телеграмме уехал. С бабушкой плохо.
И Виктору сразу представилась бабушка. Маленькая, сутулая, с голубыми вылинявшими глазами. Прошлое лето он гостил у нее. Купался в Оке. На эти каникулы тоже собирался к ней. И вот вдруг…
— А как же трактор? — обратился к матери Виктор. — Папин напарник болеет.
— Постоит трактор, отдохнет.
— Весна, сев начался, — раздумчиво сказал Виктор, — а отец говорил, что земли подготовленной нет.
— Нет… а тебе-то что? Кому надо — подготовят. Что задумался? Или двойку схватил?
Виктор не ответил. Пообедав, подошел к окну… Еще сиротливей и угрюмей показался ему трактор. Солнце ударило по лемехам, и они вспыхнули оранжевыми кострами.
— Я пахать поеду, ладно? — сказал Виктор и, не дожидаясь разрешения, начал надевать отцовский промасленный комбинезон.
— Пахать? — развела руками мать. — Еще чего не хватало! Отец соляркой пропах, и ты хочешь?
— А что ж? — буркнул Виктор.
Такого ответа мать не ожидала. Она поняла, что запретом ничего не сделаешь, и решила отговорить лаской.
— Придет, сынок, время — наработаешься, успеешь еще. Играй, как все, веселись. Теперь у тебя и ботинки с гвоздями есть…
Мать достала ботинки.
— Какие тяжелые. Да в них разве бегать можно? А ну-ка надень, пройдись, я посмотрю.
Но Виктор даже не повернулся. Он сосредоточенно смотрел в окно, и ему казалось, что трактор присел, в землю врос.
— А про учебу ты думаешь? — снова назидательно заговорила мать. — Ты в восьмой класс собираешься? Или на второй год в седьмом хочешь остаться?
— Не останусь. А на воскресенье нам не задали.
— Не задали, так я задам. Никуда не поедешь!
Она подошла, внимательно посмотрела на сына в отцовской одежде и громко рассмеялась.
— Погляди, на кого ты похож!
Виктор посмотрел на себя в зеркало, ухмыльнулся. В отцовском мешковатом костюме и не по размеру больших кирзовых сапогах он походил на огородное пугало.
— Нарядился! Не только грачи, люди и то испугаются. А ну-ка размундиривайся!
— Пусть! Все равно поеду.
— Не послушаешься, хворостиной выпорю.
— Пори! — Виктор улыбнулся. — Только у меня теперь шкура толстая. — Он пощупал грубый, словно дубленый, рукав комбинезона.
— Учителям скажу, ослушник ты этакий… Сломаешь трактор — отец устроит тебе метелицу.
— Не сломаю. Я уж столько земли на нем перепахал. Батя знает…
И Виктор нетерпеливо направился к выходу. На крыльце его встретила ватага ребят. Они удивленно таращили глаза, озорно гоготали.
— Клоун! Смотрите!
— Спрячься, напугаешь!
— Ты куда собрался?
— А футбол?
Виктор молча прошел мимо ребят, зачерпнул в кадке дождевой воды, залил в радиатор, проверил по уровню масло, протер тряпкой мотор и сиденье.
Мальчишки с любопытством наблюдали за каждым его движением, не совсем еще понимая, что происходит.
Дробно затрещал соскучившийся по работе пускач, и ребята, заткнув уши, мигом отскочили от машины. Барабанная дробь пускача сменилась спокойным, уверенным гулом дизеля. Из трубы выскакивали синие колечки дыма, и казалось, будто кто-то на невидимую бечевку нанизывает баранки.
Колька отвел Виктора в сторону.
— Значит, в кусты, да?
— Не могу. Мать силком посылает.
— Эх ты, дезертир. Кто же правым нападающим будет?
— Отстань! — бросил Виктор, нахлобучивая замасленный картуз, внимательно взглянул на плуг, на дорогу, как всегда делал отец, и скрылся в кабинке.
Трактор качнулся, как бы раскланиваясь перед мальчишками, и пошел вперед. Виктор не слышал, о чем гудела разноголосая ребячья компания, но по их недовольным лицам понимал, что они обиделись на него.
Будто по линейке мелом на доске, провел Виктор первую борозду, ориентируясь на высокую березку в лесной полосе. Остановил машину, сбегал в посадку, наломал мягких пушистых березовых веточек, навтыкал их по углам кабины — и сразу в ней запахло молодой весной. Послушный трактор снова с грохотом и лязгом пополз по рыжей стерне. Вывернутые пласты чернозема блестели на солнце, дышали паром. И над ним кричали, кружились, падали в борозду грачи.
Спокойно и уверенно вел машину Виктор, ни одного лишнего движения. Трактор послушен умным рычагам. Недаром еще с четвертого класса ездил Виктор с отцом в поле: вначале наблюдал, как работает отец, расспрашивал, помогал в ремонте, протирал машину тряпкой, заливал горючее, а потом получил разрешение на самостоятельную поездку по дороге.
Вспомнив об этом, Виктор улыбнулся. Машина тогда была непокорной, строптивой. То не хотела сдвинуться с места, то вдруг козлом прыгала вперед, то круто поворачивала в сторону, словно пытаясь сбросить неопытного седока. Отец сидел рядом, молчал, а Виктор обливался потом, нервничал, хватался то за один рычаг, то за другой, выжимая сцепление, увеличивал обороты и со страхом ждал, что отец вот-вот скажет: «Не годен, вылезай!» Но отец молчал, покуривал и едва заметно улыбался.
А когда трактор стал послушным Виктору, отец сказал: «Ничего, теперь можно и на земле поработать». У мальчишки от радости захолонуло сердце…
Виктор так увлекся работой и воспоминаниями, что и день показался коротким. Уже за березовую рощу опустилось уставшее солнце. Стараясь заглушить гул трактора, защелкали соловьи. Беспокойная луна со свитой звезд вышла в синее небо, а Виктор все пахал и пахал. Он еще ниже опустил козырек кепки, чтобы лучше видеть бороздку, освещенную снопом электрического света.
Грачей на поле сменили совы. Их темные, тяжелые тени мелькали над пашней. Завидев мышь, совы камнем падали на землю.
Временами Виктор смотрел на плуг, и ему казалось, что ночью лемеха врезаются напористее, веселее, старательнее, и распаханная земля черными волнами расходится от плуга.
Впереди в голубом отсвете луны показался человек. «Уж не мать ли? — подумал Виктор. — Что же случилось?»
Он переключил скорость, и трактор, будто тоже волнуясь, быстрее побежал навстречу идущему. Поровнявшись с ним, Виктор остановил машину, спрыгнул на землю.
— Сашка! — густым басом окликнул мужчина.
Виктор молчал. Он по голосу узнал председателя колхоза и, боясь, что тот будет ругаться, не знал, что и ответить.
— А мне сказали, что ты к больной матери уехал. Думал, сев остановится. Вот и поверь людям.
— Да это не он, — тихо, словно виноватый, проговорил Виктор.
А председатель раскатисто рассмеялся:
— Теперь-то и сам вижу, что не он. Не разобрал в потемках. Смотри, не хуже отца справляешься! — Председатель подошел к мальчугану, ласково похлопал по плечу. — Молодец, выручил! Что с бабушкой-то?
— И сам не знаю, — ответил Виктор, забираясь в кабину.
Председатель приветливо махнул рукой. Виктор видел, как он долго стоял в борозде, измерял глубину вспашки, наклонялся, шел за плугом, пока не растаял в ночи.
Виктор не чувствовал усталости. В ушах гремел веселый басок. Василия Андреевича и простое, хорошее слово: «Молодец!»
Домой вернулся в полночь. Мать не спала.
— Отвел душу? — сказала она, и Виктор не разобрал, как это было сказано: насмешливо или сочувственно.
Когда умылся и поел, мать спросила:
— Теперь, поди, все болит, больше не захочешь на трактор?
В голове у Виктора шумело, словно он еще сидел на тракторе, ныли от напряжения спина и руки.
— Устал? Да ты что? Нисколько! Утром разбуди пораньше, участок допахать надо.
— Ладно… Ложись, видно будет. — Мать подошла к его постели, заговорщически шепнула: — Колька приходил. Сказал, что завтра соревнование по футболу. А ты намучился, играть не сможешь.
— Ничего, смогу.
Виктор отвернулся к стене и скоро задремал. Он слышал, что мать еще что-то говорила, но ее слова уже не доходили до его сознания. Все еще гудело в ушах, и казалось, что он куда-то плывет по черным волнам.
Поднялся Виктор до восхода солнца.
— Куда в такую рань? — спросила мать. — Небось и не выспался, не отдохнул…
А Виктор уже полоскался под умывальником холодной водой, торопливо натягивал одежду, пахнущую соляркой, и посматривал на стол: нет ли там чего перекусить на скорую руку?
Мать поняла, что отговаривать бесполезно, подала завтрак.
Тяжелым ключом Виктор подтянул гайки у трактора, заправил мотор маслом, залил в бак горючее, полюбовался на свое отражение в стальной сини зеркальных отвалов и вскочил на сиденье.
Ровно и уверенно бежит трактор по дороге вдоль леса. Растворяется утренняя тишь в говоре стальных гусениц, прохладный ветер гладит лицо и руки. Грачи встретили пахаря шумным криком. Вились над кабиной, лезли под плуг, неохотно уступали дорогу. Лучи восходящего солнца золотой россыпью горели на рыжей жниве, зарывались в горячие, жирные пласты чернозема. Словно масло на раскаленной сковороде, таял под плугом прямоугольный участок, начатый вчера. И чем он больше сужался, тем, казалось, шире становился захват плуга, веселее гудел мотор и усерднее хлопотали грачи.
Закончив пахоту, Виктор спрыгнул на землю отдохнуть, размяться. Грачи с криком отпрянули назад. Виктору захотелось спать.
«Эх, упасть бы теперь в пахучую мягкую землю, — подумал он, — прикрыться фуфайкой и подремать. Совсем бы немного, хоть минут десять».
Глаза слипались, голова клонилась на грудь. И мальчишке вдруг показалось, что он никогда не спал вволю.
Виктор поднял холодный ком земли и с размаху бросил в грача. Птица сердито повела длинным носом, что-то крикнула и быстро побежала по борозде, сливаясь с черной пашней. Потом вся стая с шумом взлетела и стала кружить над трактором, как бы желая увидеть, что там происходит. Грачиный крик разогнал сон. Тихо и бодро выстукивал мотор, от него, как от печки, несло теплом.
«Эх, не спросил у председателя, где еще пахать? — подумал Виктор. — Не ставить же трактор под грушу! Да, вспомнил… давно еще директор школы просил отца вспахать участок под картофель. Отец обещал, но все было некогда, а время шло, земля сохла. Вспахать — трудов не стоит, а вот как туда пробраться? По посевам нельзя. А мимо школы и футбольного поля не хочется».
И вот уже снова гремит трактор по дороге. Показалась коричневая крыша и желтые стены школы за зелеными кронами деревьев. Стройными рядами поднимались на пригорок яблони и вишни. Чем ближе подъезжал к школе, тем сильнее напрягались руки. А когда на футбольной площадке, словно грачи на поле, замелькали мальчишки, Виктору захотелось стать невидимкой. Оказаться бы сразу за деревней, на участке, спрятанном в ветловых посадках…
Он откинулся в глубь кабины, прибавил газу. Но трактор как на зло полз медленно и трескуче. И как нарочно завизжало заднее колесико плуга, и на гусенице будто погремушки подвесили: тарахтят во всю мочь.
Когда трактор поравнялся с футбольным полем, замерло ребячье оживление, все повернулись к дороге лицом.
По коренастой фигуре и рыжему всклокоченному чубу Виктор узнал Кольку. Тот зло потрясал над головой кулаком.
Раздался свисток судьи. Футболисты, выстроившись, неторопливой рысью сделали круг по полю. Болельщики повернулись к игрокам.
А трактор все бежал и бежал, заглатывая вытянувшуюся вдоль леса пыльную дорогу. Вот уже серебром заблестел пруд, окруженный старыми ветлами, в открытую кабину ворвался горьковатый запах черемухи. Зеленая поросль бузины и акации, нависшей над канавой вдоль дороги, приветливо покачивала мягкой листвой.
На участке, который предстояло пахать, Виктор остановил машину, вылез из кабины, отпустил на нижнюю глубину лемеха, прислушался: где-то рядом в кустах на все лады заливался соловей.
Скоро вездесущие, неутомимые грачи и здесь, на новом месте, отыскали Виктора, и дружная горластая стая нагрянула на пашню. Хозяевами расхаживали они по полю, и их присутствие веселило. Особенно смешно стало Виктору, когда два молодых грача нашли жирного червяка и стали его тянуть каждый к себе. Тянули, тянули, а разорвать не смогли. Бросили добычу и вцепились клювами в шею друг другу. Посмотреть на сражение мигом собрались другие грачи и, переговариваясь, криком поддерживали то одного, то другого. Они так увлеклись зрелищем, что уже не обращали внимания на трактор, пока не вмешался в их борьбу, и не разогнал их старый лохматый грач.
Школьный участок не более четырех гектаров, и Виктор с ним управился быстро. Часам к двум дня над всем полем дрожало голубое марево, и яркокрылые бабочки садились на свежие комья земли погреться.
Виктор сбегал к роднику, напился холодной воды, умылся и снова бодрый и свежий сел в кабину. Трактор охотно повиновался ему. Но вот беда: делать нечего. В этой бригаде земля вся вспахана, а в другие он ехать не решался. А домой засветло возвращаться не хотелось.
Полежал на зеленой хмельной траве, послушал соловьев и опять сел за рычаги. С грохотом прикатил трактор на старое место, под грушу. Взвыл, затрещал мотор, выстрелил, как из ружья, и замер. «Сев не остановится», — подумал Виктор, снимая отцовскую одежду.
— Наработался? — спросила мать, собирая обедать.
— Наработался.
— Ешь да иди мойся, я воды нагрела. Ишь как намазутился, в другой раз не захочешь… Чего молчишь, иль понравилось?..
— Гектаров двенадцать перевернул, оно и неплохо.
— Двенадцать? — удивилась мать. — Дед по одному пахал и то от устали с ног валился.
— Кони у нас, мама, разные.
В понедельник утром у школы Виктора окружили ребята.
— Эх ты, футболист! Из-за тебя проиграли!
— Струсил, на трактор скорее!
Только Володя протянул Виктору руку, сказал серьезно:
— Поздравляю с благодарностью.
— Ладно, не смейся. — Виктор покраснел, стал выбираться из толпы.
— Не веришь? Иди почитай, в коридоре под стеклом висит.
Виктору совсем жарко стало от этих слов, и он сердито бросил:
— Ну и пусть!
Мальчишки рассмеялись.
— Чего рты разинули, идите почитайте. Сам председатель Василий Андреевич утром в школу приезжал, и директор на велосипеде чуть свет на наш участок ездил.
Колька подошел и не поздоровался. Стоял в стороне, угрюмо смотрел в землю. А когда услышал о благодарности, сердито пробурчал:
— Благодарность… А за что? Что команду подвел? Теперь из-за тебя на районные соревнования не попадем.
Сторожиха вышла на крыльцо и громко позвала:
— Карасев Витя, директор вызывает.
— Иди, может, медаль дадут, — крикнул Колька и носком сапога разбил глиняный ком. — Подводила!..
Но мальчишки, опустив головы, молчали.
А ЕСЛИ БЫ…
К вечеру, когда оранжевое солнце уже опускалось за горизонт, Володя забежал за Колькой. С трудом переведя дыхание, крикнул:
— Идем живее! Волк в поле!
Колька насмешливо скривил губы:
— Он что же, поджидает? А может, привязали его там?
— Испугался? Ладно, один пойду.
— Сам ты испугался!
Накинув фуфайку, Колька сбегал во двор и вернулся с железным костылем, заменявшим ему в походах ружье.
Торопливо шагая по скованной морозом дороге среди белесого щетинистого жнивья, Володя рассказывал:
— Иду с поезда и вижу… в мякине, рядом с соломой, сидит кто-то. Присмотрелся — волк. Серый, голова большая. В мякине мышей ищет. На меня никакого внимания, даже головы не повернул.
Колька бьет костылем по застывшим лужицам, дробит мерзлые комья земли. Говорит Колька размеренно, с ударением на каждом слоге:
— Зима на носу, вот они и рыщут. Снег для волка — голодовка. Опять по овчарням полезут, собак-ротозеек воровать станут.
— Тише, не стучи костылем, — попросил Володя. — Мерзлая земля гудит, как провода, а у волка слух тонкий.
Колька перестал стучать, стал ступать осторожнее, мягче и говорить стал тише.
Быстро сгущались осенние сумерки, и не заметили ребята, как луна появилась, будто где в тучах спрятана была, а потом сразу красной сковородой засветилась. А может, не видали они ее в светлых косах угасавшей зари.
Заметив смутно белевший впереди скирд, ребята остановились, прислушались. Мертвая тишина, ни шелеста. Свежий ветерок веял хмельным запахом прелой соломы.
По жнивью шли еще медленнее, настораживаясь при каждом шорохе.
Володя взвел курок, нацелил ружье на кучу мякины, черневшей крутой горкой невдалеке от скирда.
Колька поднял железный костыль, тихо прошептал:
— Будь начеку…
Подошли вплотную к куче, замерли.
Колька, вздрагивая будто от холода, встал за спиной Володи.
— Смотри, смотри! — прошептал Колька, показывая на темную дыру, отчетливо видневшуюся в сером скирде соломы. — Там он, бей…
Но Володя медлил. Мысль его работала напряженно, лихорадочно. Может, волк уже в другом месте спрятался. Волки боятся выстрела, но раненый зверь бросается на человека, и тогда…
Он до боли в глазах всматривался в каждый выступ скирда. В висках шумела кровь, стучала молоточками.
— Струсил? Дай я… — И Колька потянулся дрожащей рукой к ружью.
— Подождем, ты промахнешься, — тихо ответил Володя. — Гляди кругом, нет ли других зверей. «Если зашуршит солома, — решил он, — сразу пальну».
Колька дернул за рукав.
— Смотри, бегут!
— То деревья, — сразу определил Володя и попросил Кольку опустить в дыру костыль, обещая в случае опасности поддержать огнем.
— Чего раздумываешь, бей! — снова предложил Колька.
Но, видя, что Володя медлит, Колька бесшумно подкрался к скирду и осторожно сунул костыль в черную пасть соломы. Костыль коснулся чего-то мягкого, и Колька с ловкостью кошки отскочил назад.
— Здесь, стреляй!
Володя вскинул ружье, нацелился. «А если промахнешься? Ранишь его? Растерзает!» — колебался Володя.
Колька подбежал и стал тянуть ружье.
— Дай, дай я выстрелю.
Но Володя знал, что Колька плохой стрелок, и ружья не дал. «А если это человек?!»
— Проверь еще раз. Не бойся, я не промахнусь… — сказал Володя.
Колька нерешительно подошел к скирду, начал ворочать костылем.
— Что-то есть. Мягкое, наподобие фуфайки.
У Володи потемнело в глазах, обмякли, задрожали колени и ружье чуть не выпало из рук…
— Вытаскивай! — прошептал он.
— Тяжелое, будто мешок с зерном, — сказал Колька и позвал Володю на помощь. — Человек! Смотри, и руки и ноги, — с удивлением и страхом проговорил Колька.
— Так и есть, человек… Девчонка… — И Володя с ужасом подумал, что ее убили и подбросили.
Ребята наклонились, стараясь рассмотреть лицо в голубом лунном свете.
— Вроде знакомая, а не узнаю, — дрожащим голосом говорил Колька, поднимая мягкие, послушные руки, которые снова тяжело падали на солому. Колька чиркнул спичкой и замер. На полных губах девочки застыла знакомая улыбка, частые белые зубы мягко светились, а на круглых щеках застыли тени от длинных ресниц.
— Валя Аношина! — вскрикнул Колька.
— Валя! — удивился Володя, опускаясь на колени.
Колька схватил девочку за руку, быстро нащупал пульс.
— Жива! Понимаешь, жива! Она спит. Без сознания. — И Колька начал тормошить ее за плечи, за руки, подергал за теплый, вздернутый нос. — Валя, очнись. Валя, что с тобой? Ну, не притворяйся, вставай.
Но девочка лежала неподвижно, ни одним пальчиком не шевельнула.
— Давай ее на ноги поставим, — предложил Колька, — или искусственное дыхание сделаем.
Ребята подхватили Валю под руки, приподняли.
— Что с тобой, держись!
— Не притворяйся.
Девчонка покачнулась и вдруг рассмеялась громко и весело.
— Напугались, да?
Володя тяжело вздохнул.
— Счастье твое, что притворилась здорово, как артистка на сцене, а то бы…
— Ты зачем сюда? — стараясь унять дрожь, спросил Колька.
У Вали озорно сверкнули зубы.
— На свидание. Я знала, что вы придете.
— Нет, мы серьезно спрашиваем?
— За мякиной для подстилки телятам. Мама мешок понесла на ферму, а я ее жду. Увидала вас, испугалась и спряталась в солому. Думала, чужие, а когда узнала, пусть, думаю, подрожат. Здорово, а?
Володя покачал головой.
— Разве так можно! Ведь ты была на волоске от смерти.
А Валя по-прежнему, как будто ничего и не могло случиться, засмеялась.
— Пошутить нельзя!
— Тебе смех, а нам в пору плакать. А если бы ты зашевелилась!
— Ну и что?
— Ничего… пойдем домой.
— Да что с вами? Говорят что-то несуразное. Я же сказала: жду маму.
Долго под ногами «охотников» шуршало жнивье, гремели комья мерзлой земли. И две огромные тени бежали за мальчишками.
Валя смотрела им вслед и негромко хихикала.
— Вот чудаки-рыбаки!
КОЛЬКИНА ОШИБКА
У Володиного отца разболелся зуб. Отец не стал обедать. Стянул полотенцем челюсти, закусил нижнюю губу и ходил из угла в угол по комнате.
— Пойду попрошу у бригадира замену, — неожиданно сказал он и вышел в сени.
Володя за ним.
— Разреши, пап, я за тебя на косилке поработаю.
— Сиди, сверчок, под нож попадешь! — крикнула мать.
— Попаду? Ха! Я еще прошлый год с дядей Яшей косил!
От скуки на все руки: и охотник и косец, лишь в учебе не мудрец.
Не понравилось Володе, что мать упрекнула учебой. Голубые глаза его, обычно большие и круглые, сузились и даже потемнели.
— В седьмой перешел? Перешел! — сам спрашивал Володя и сам отвечал. — Троек нет? Нет.
— Ладно, — перебил отец, — расхвастался! Пойдем.
Отец помог запрячь лошадей и, когда Володя сел на железное подпрыгивающее сиденье, сказал:
— Вперед поглядывай, ножик не сорви.
Мать вынесла сумку с харчами и сама пристроила ее под сиденье.
Едет Володя по деревне и по сторонам посматривает: не попадутся ли ребята? Но как ветром всех унесло — на улице ни души!
Бодро фыркали отдохнувшие лошади, весело постукивали по твердой дороге рисунчатые колеса, и Володе казалось, что летит он на стальных крыльях.
Выехал за село, и на душе стало еще веселее. Кругом, не окинешь глазом, в солнечных лучах купается зеленое поле. Вика тонкими стеблями прижимается к земле, и головки ее в оранжевых шапочках тянутся вверх, цепляются усиками за стебли овса.
На участке, который предстояло косить, уже был дядя Ваня. Он кормил лошадей. За высокий рост его прозвали Стропило, хотя в глаза так никто не решался называть.
— Отец по-настоящему расхворался? — спросил Стропило.
— Не щека, а подушка!
Скоро собрались и другие косцы.
— Право и лево знаешь?
— Смотри, парень, не усни.
— А что у тебя в сумке-то?
И много подобных вопросов, как град, сыпалось на Володю.
В ответ он только улыбнулся. Деловито осмотрел упряжку, подлил в шатун масла, опустил полотно и, взобравшись на сиденье, натянул вожжи.
— Но!
Лошади дружно шагнули, косилка застрекотала весело, как швейная машинка. Навстречу плотной стеной побежала трава. Под острыми ножами она вздрагивала, лениво переваливалась через полотно и покорно падала. С каждым кругом участок таял.
Вдруг на другом конце загона все косилки остановились, и мужики начали бегать по полю, как дети.
Впереди, петляя, падая и снова поднимаясь, бежал Стропило. Дядя Федя спешил ему навстречу. Он даже папиросу бросил. Такое с ним случалось очень редко. Говорят, даже на пожаре он сначала закурил, а потом полез на крышу.
— Лови! Лови! — слышались озорные крики.
Володя ударил кнутом лошадей, косилка вздрогнула, ножик лихорадочно застучал, и в такт ему нетерпеливо забилось сердце.
Дядя Ваня упал, что-то прикрыв фуфайкой.
— Осторожно, задавишь! — кричали ему.
Оставив лошадей, Володя побежал к мужикам, путаясь большими отцовскими сапогами в душистой густой вике.
— А мы крокодила поймали, — сказал дядя Ваня, улыбаясь Володе одними глазами.
У него на руке, сжавшись в комочек, лежал серенький, с желтоватым отливом зверек. Длинные тонкие уши почти касались хвоста.
— Зайчишка! — обрадовался Володя и погладил пушистую спинку.
— Что с ними делать будем? — спросил дядя Федя, держа второго зайчика за уши.
— Отпустить надо. Куда таких малышей? — предложил кто-то.
— Отпустить? Бегали до пота, и отпустить! Вырастим — и в суп! — возразил Стропило.
— Возьми и моего. Двоим веселее будет. На заячью похлебку тогда позовешь, — сказал дядя Федя.
Дядя Ваня взял с сиденья мешок и посадил в него зайчишек. Володя срывающимся голосом попросил:
— Отпустите их! Зайцев теперь и так мало, отпустите!
— Эх, Володька, пропала твоя охота!
— Выпусти, охотник плачет!
— А какие они будут к осени!
Володя отвел лошадей в ночное, зашел к Кольке и рассказал ему о зайчатах.
Но Колька это известие встретил равнодушно.
— Я думал, что-нибудь важное случилось. Ужин бросил… — угрюмо протянул он, хотя в душе завидовал дяде Ване. Немного помолчав, спросил: — Вы косили за рощей?
— Да.
— А еще там зайцы остались?
— Иль поймать хочешь?
— Нет. Посмотреть…
— Интересно, куда их дядя Ваня дел? — спросил Володя.
— По-моему, в клетку. Он раньше кроликов разводил. Знаешь… Пойдем их выпустим, — неожиданно предложил Колька, — в поле отнесем, где были…
— Страшно, а вдруг поймают?! У Стропилы ноги длинные.
— Все надо делать с умом!
Ребята подошли к дому дяди Вани. В окнах светился огонек. Колька с легкостью кошки перескочил через ограду палисадника, заглянул в окно.
— Ну, что? — спросил Володя, когда друг вернулся.
— Ужинают. Бежим к клеткам!
Ребята мигом оказались на огородах. Полезли через плетень. Упали в картофельную ботву и поползли.
Спят сады и огороды, залитые лунным светом. В такой вечер хорошо смотреть с горы на пруд. Налетит ветерок и разбросает по воде серебряные монеты. А для ребят сейчас луна одна неприятность. Смотрит с темного неба в упор: «Вижу, вижу». «Хоть бы ее кто шапкой прикрыл», — подумал Володя.
— Живей, ворона, живей! — шипел он.
— На, держи! — Колька подал Володе зайчишку и тут же достал второго. — Отчаливаем садами.
— Нет огородами!
И ребята побежали в разные стороны. Однако Володя вернулся, открыл дверцу клетки: пусть хозяин думает, что зайцы вырвались сами.
Теперь Володе было совсем не страшно. Нащупал под рубашкой сжатого в комочек зайчишку, погладил его.
— Ты что здесь потерял? — над самым ухом раздался грубый голос.
— Я… я… — Я, дядя Федя, по делу…
Упало вдали несколько яблок: тук… тук… И в ответ совсем рядом, прошуршав листвой, посыпались другие.
— Кто же ходит по чужим садам без дела? — вслушиваясь в шорохи, говорил дядя Федя. — Яблочки стали поспевать. Правда, кисленькие, но ничего, в охотку сойдут… И огурчики чужие вкуснее своих.
— Овца домой не пришла. Мне послышалось, она здесь блеет… Вот я…
— Все возможно, все возможно… Известно, овца — глупое животное.
Шли садом.
— А ну, идем! — вдруг решительно пробасил дядя Федя.
Вошли в дом. Дядя Ваня в нижней рубашке, длинный, тонкий стоял посреди избы. И впрямь как стропило. Его жена убирала со стола посуду.
— В твоем саду, кум, поймал, — заявил дядя Федя.
— В моем? А что делал? Яблоки еще кислые, огурцов ночью не сыщешь.
— Вот в том и дело. Плети топчут, сучья у яблонь ломают. Озорство!
— Что в саду позабыл? — спросил дядя Ваня у Володи.
— Овцы у нас не было. Думал, там…
Заяц забился под рубашкой, острыми лапами больно царапал живот. Порой хотелось выбросить его на пол, но Володя мужественно терпел.
— По-моему, надо позвать отца, — сказал дядя Федя.
Жена дяди Вани вступилась за Володю:
— Что вы к нему привязались? Какое он совершил преступление? Матери помогал овец собрать. Пускай спать идет. Парень работал с вами. Устал, поди…
Дядя Ваня подошел к Володе, посмотрел весело в глаза:
— Ну что ж, голубоглазый, иди. Что-что, а спать надо. Утром разберемся.
Вышел Володя из дома, вынул из-под рубашки зайчонка и, растирая горящие царапины, направился к полю.
В поле тихо позванивала рожь.
— Ну, косой, беги! — Володя топнул.
Заяц поднялся, насторожил длинные уши, высоко подпрыгнул и скрылся во ржи. Володя знал, что зайцы недолго опекают своих детенышей. Раз-другой мать покормит, а потом сам добывай пищу и от зверей прячься… И все же домой Володя шагал медленно, часто останавливался, смотрел в сторону поля. Он и радовался, что в мир полей вернулся свободный житель, и тревожился: не схватит ли зайчишку зверь?
Когда Володя пришел домой, отец, зажав щеку, все еще ходил по комнате, морщась и проклиная зубную боль, а мать собирала на стол ужин.
— Устал, родимый, проголодался? Да ты что такой бледный? Заболел?
— Нет, ничего.
За ужином к Володе быстро вернулось хорошее настроение.
— Помощничек! Отца уже заменяешь, — нежно говорила мать, наливая в стакан холодного молока.
Отец невнятно спросил:
— Ножи в порядке?
— Как бритва!
Засыпая под монотонное пиликанье сверчка, Володя подумал про Кольку: «Куда он пустил зайца?»
— Володя, вставай, — тихо говорит мать, холодной рукой дотрагиваясь до плеча. — Дядя Ваня уже на работу поехал.
«А что, если дома остаться, притвориться больным? — боясь предстоящего объяснения со Стропилой, думает Володя. — Нет, хуже! Больше подозрений будет!»
Приехал Володя в поле, а там работа полным ходом идет.
Стыдно за опоздание, хоть домой поворачивай. А тут еще дядя Федя с глупым вопросом:
— Овечек-то проискал, не выспался?
Часов в девять остановились завтракать.
— Зайцы-то у меня пропали! — сказал дядя Ваня.
— Неужели! Украли?
— Нет, клетку прогрызли и убежали. Доски толщиной в три пальца и то не выдержали напора зайчат.
— Скажи на милость, справились, — сокрушенно покачал головой дядя Федя. — В тюрьме кому охота! Все простор любят. Слыхал, Володя, какие зайцы пошли?
Володю бросало то в жар, то в холод.
— От них всего можно ожидать, — продолжал дядя Ваня. — Прошлой зимой к одному охотнику в сени забрались.
— Не может быть! Сказки!
— Ты слушай. Я же не охотник, врать не буду. Пришли зайцы в сени, увидали ружье и говорят: «Вот враг наш висит. Давай украдем. Тогда человека хоть бояться не будем». А зайчишки-то малосильные попались. С гвоздя ружье сняли, а нести не могут.
— Не охотник, а заливаешь, — заметил кто-то.
— А ты слушать слушай, а врать не мешай!
— Ну, кум, дальше.
— Ложе обглодали, сделали выстрел из двух стволов — и тягу. А клетку прогрызть пустяки.
— Записки не оставили?
— Молчи, писать еще не умеют. Только осенью в первый класс пойдут.
— Вот, Володя, что зайцы-то натворили! — Дядя Ваня подмигнул Володе: «Мол, знаю, да молчу». И громко сказал: — Ну, кони отдохнули, за работу!
Пошли к косилкам.
— Ты их выпустил? — негромко спросил дядя Ваня.
У Володи свинцом налился язык. Он с трудом проглотил слюну.
— Угу.
Дядя Ваня улыбнулся и весело крикнул на лошадей:
— Трогайте, родимые!
Спокойно стало на душе у Володи. Он с легкостью воробья вскочил на сиденье.
На втором участке, куда скоро переехали косцы, у Володи сломалась косилка.
— Снимай рубашку, загорай! — шутили мужики.
Подошел дядя Ваня. Осмотрел косилку, проверил подъемный механизм.
— Не горюй, парень, сейчас исправим. Отвертывай эту гайку, возьми у меня в ящике болт. Держи крепче! Перекос получился, резьбу съело. Шайбочку сюда, шайбочку подложи. Так… А ты ловкий. В кузнецы годишься…
Вскоре косилка снова заработала.
Володя глядел на сутулую спину дяди Вани и думал: «Какой хороший человек!»
И решил больше никогда, даже за глаза не называть его Стропилой.
…В обед пришел Колька. Недовольно посмотрел на Володю и насмешливо спросил:
— Сцапали вчера? Говорил, бежим садами. Ну, как?
Володя поднял рубашку. Колька вначале ахнул, потом рассмеялся.
— Подходяще! По знакомству разукрасил!
— А тебя? — спросил Володя.
— Меня? — свистнул Колька.
— Ты куда его дел?
— В лес отнес. Там ему лучше.
Недели через две вместе с другими ребятами Колька и Володя купались в пруду.
И только выплыли на середину, с берега картавым голосом закричал Сережа, младший брат Коли:
— Колька! Колька! Иди домой!
— Что стряслось? — недовольно отозвался Колька. — Собака зайца съела.
— Что? — Колька чуть не захлебнулся.
— Ты корму дал, а клетку закрыть забыл, — сквозь слезы тянул Сережа.
— Какого зайца? — спросил Володя.
— Настоящего, дикого. Собака ему голову прокусила. Ну, скорее, он, может, живой, — захныкал Сережа.
— Чего расхлюпался? Просили тебя! Иди! — крикнул Колька братишке и, выскочив из воды, начал одеваться.
— Обманщик! — зло бросил Володя.
— Я не у тебя его взял, понятно? — срывающимся голосом ответил Колька.
— Никогда этого не прощу, так и знай!
— А я и не прошу прощения… Неужели мне твой заяц… — Колька скривил губы. — Я хотел его подкормить и выпустить…
— Врешь! — крикнул Володя и с разбегу бросился в воду.
Когда он вынырнул на середине пруда, Колька уже скрылся за горой.
В МЕТЕЛЬ
Вторые сутки бушевала метель. Такой напористой, злобной и вьюжной метели давно никто не помнил. Женщины с трудом добирались до колодца за водой, колхозники, проклиная погоду, с неохотой шли на фермы. Рады были только ребятишки: никто не будет ругать за неявку в школу, — можно еще денек посидеть дома, возле горячей печки. А почтальону пурга не пурга — идти надо: из города поступила телеграмма. Бредет он пустынной улицей, вслушиваясь в свист и вой разгулявшейся непогоды.
В сенях стряхнул с одежды и валенок снег, вошел в дом.
— Вам телеграмма. — И достал из кармана синий листок бумаги.
Володя отбросил книгу, взглянул на мать. Перестали двигаться в ее проворных руках спицы. Лицо стало бледным, окаменело.
У отца дрогнули и замерли густые черные брови. Почтальон улыбнулся.
— Не пугайтесь: дочь Таня на каникулы едет. Просит встретить ее.
Володя запрыгал вокруг стола.
— Вот здорово! Таня едет!
Все обрадовались, повеселели, и каждый перечитал телеграмму вслух.
Только мать сокрушенно покачала головой.
— Куда же она в такую завируху!
Отец отложил в сторону валенки, которые подшивал, и стал собираться в дорогу.
— Папа, возьми меня, — сказал Володя, поднявшись из-за стола.
За окном отчаянно свистела метель.
— Замерзнешь! — сказала мать.
— Замерзну? Да я не в такую пургу ходил. Ну, папа, возьми.
Подумав, отец ответил:
— Если хочешь, собирайся, мне с тобой будет веселее.
Мигом надет красный полушубок, шапка и рукавицы. Взяли фонарь, так как дело шло уже к ночи, я отправились в путь. Ветер бешено налетал, бросал колючие снежинки в лицо, в рукава, за воротник. Брови леденели, обрастали сосульками, и часто приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание и горячей ладонью обогреть щеки и нос. Путь предстоял долгий и трудный. Не менее четырех километров надо было пройти до деревни, куда, по расчетам, должна с поезда зайти Таня. Местами до самой земли ветер срыл снег, и черные комья, как обуглевшиеся головешки, торчали на буграх. А местами так намело, что проваливались по пояс.
Вот ручеек, говорливый, извилистый. В жаркие летние дни здесь делали запруды и руками ловили плотву. Над ручьем торчат голые макушки ольхи, ветер перебирает, как струны, гибкие, упругие прутья ивняка. Ручей глубоко в снег зарылся, ему тепло под белой шубой, ни один мороз не проймет, и он тихо и неустанно поет беззаботную песню…
Не то от быстро надвинувшейся ночи, не то от повалившего хлопьями снега все вокруг стало темным, невидимым. Хорошо, что отец рядом сильный и смелый, шагает и ободряюще говорит:
— Держись, Володя, держись! Такую погоду мы на фронте любили. Бывало, к немцам без единого выстрела подползем, прямо в блиндаж ворвемся и сразу не одного, а двух-трех языков захватим. «Русь любит пурга», — говорили немцы. А Русь ни жары, ни пурги не боится. Русь ничего не боится.
Перешли поле, и на горизонте зачернелась деревня, окутанная снегом.
Тетя Дуся, отцова сестра, не успела еще и слова сказать, а по ее глазам и встревоженному лицу Володя понял, что Таня была и ушла.
— Давно? — спросил отец.
— Нет, совсем недавно, минут пятнадцать Я оставляла ее ночевать, но она упрямая, отказалась «Дойду, — говорит. — По вешкам хорошо: только от одной отойдешь, уж тебя другая встречает… А дома, — говорит, — ждут не дождутся. Володе к Новому году лыжный костюм везу, ведь он охотник».
Володя потянул отца за рукав.
— Пойдем, папа, скорее, мы ее догоним.
Вышли из теплой избы, и показалось, что еще пуще метель разыгралась. То на фонарь бросится, будто ей стыдно при свете буйствовать, то стаскивать полушубки начнет, словно самой погреться хочется, а то вдруг рассердится и по железным крышам веселой дробью пройдется, хлопнет на чердаке оторванной дверью и в сады умчится. Тяжко и нехотя заскрипит старый клен на меже, жалобными гуслями вишневые и терновые ветки застонут. Прислушаешься — страшно станет, до сердца вой пробирает, так и хочется спрятаться куда-нибудь.
В поле отец крикнул:
— Ветер в затылок, будем держаться прямо.
Скрылась во тьме деревня, а впереди мгла и пустынное поле, крутыми волнами катится поземка. Вдруг словно кто по лицу провел шершавой ладонью. Кто бы это? Задрожала, зашуршала листьями дубовая ветка, к земле пригнулась и, как живая, вырваться хочет из Володиных рук.
— Папа! Мы на березовской дороге.
— Откуда знаешь?
— Вот вешки, их ребята поставили.
Отец остановился, задумался: «Не сюда попали, левее надо». Поднес фонарь, осмотрел веточку, потрогал шелестящие листочки и снова воткнул вешку в снег.
Вспомнилась Володе линейка в школе. Сидит перед ребятами директор Николай Петрович, рослый, широкоплечий, и басовитым, внушительным голосом говорит:
— Отрядным вожатым в двухнедельный срок организовать ребят и поставить вешки от своей деревни до школы. Метели скоро начнутся, морозы лютые наступят.
Все выполнили приказ директора, а вот Колька Быстров задурил.
— Не Сибирь! Куда ни пойдешь — на деревню наткнешься!
Витька Карасев поддержал:
— Верно! Кто трусит, пускай себе ставит. Люди в космос летают и то не боятся… А на фронте, тоже по вешкам ходили?
Володя думал так же. Сколько он с ружьем исколесил полей и лесов, и метель его вдали от деревень заставала, а ничего не случилось.
Долго ребята между собой обсуждали вопрос о вешках и единодушно решили: не ставить. А чтобы не ругали в школе, придумали оправдание: бригадир не дал лошадь для подвозки вешек, и лесник не разрешил рубить лес, даже у Витьки топор отнял.
Отец поворачивает в сторону, идет против ветра. Огонь в фонаре дрожит, мигает, то подпрыгивает — и красное пламя на все стекло разольется, то присядет, замрет — и черная копоть фонтаном забьет в отверстие…
Таня в это время спустилась в овраг, по которому под снегом бежал ручей. Летом не раз она пила в нем студеную воду, наклонившись, смотрелась в ручей, как в зеркало. И вот теперь она одна, наедине с метелью. И что-то никто встречать не вышел, наверное, телеграмму не получили.
Таня с трудом поднялась в гору. Вихрь налетел на нее, завертел, закружил. Одиночество, страх вселились в душу, захотелось упасть на снег и заплакать. Ноги уже плохо слушаются, а вот куда идти? Назад вернуться? Да, надо вернуться назад, к тете Дусе. Иди по ветру, и все! Иди и не останавливайся…
Снова овраг, глубокий, крутой. С лавиной снега Таня съехала на дно оврага. Присела. Голова сама опустилась на грудь, все сильнее обрушивается усталость, нет сил стряхнуть с себя снег. Закрываются веки, хочется спать. Над ухом кто-то поет знакомую песню. Поет негромко, протяжно:
А другой голос, тихий, но настойчивый, шепчет: «Вставай, застынешь, вставай!»
«Нет, я спать не буду, — думает Таня. — Я только немножко вздремну».
И снова властный голос: «Вставай, так все замерзают! Уснешь — и не проснешься».
— Что, смерть?! — И Таня вскочила, широко открыла заснеженные веки.
Куда ни куда, а надо шагать! Идти и идти в одну сторону, так и не замерзнешь и куда-нибудь да придешь. Взобралась на гору. Послышался лай собак.
«Ну вот, а я хотела спать. Где-то близко, совсем рядом, живут люди. А может, чудится? Нет, не чудится». Лают собаки. Только в другой стороне, позади. Она поворачивает и идет на лай. Слева грубый, простуженный собачий бас, сзади тонкий, скулящий и жалобный. Но Тане некогда вслушиваться, она спешит скорее домой, ей страшно и холодно в поле, и потому не может понять она, что в разных деревнях скулят собаки, им неприятна такая погода, они боятся, как бы не подкрался чужой, и дают знать хозяевам, что они на страже, не спят.
А ноги все больше и больше выходят из подчинения. К ним словно тяжелые мешки подцепили. Хоть бы на минуту присесть, вытянуть их. Что-то темное выросло на горизонте. Деревня! Таня поправила на плече ранец с покупками и зашагала быстро-быстро, будто и не было большого и тяжелого пути… Подбежала — скирд соломы! А издали домом казался, такой же высокий и длинный. Обошла кругом. «Что ж, отдохну минутку. Вот с этой стороны совсем тихо и тепло».
Не снимая с плеч рюкзака, выкопала гнездо и забралась в него… А в поле крутила, хохотала и грозилась метель, и Таня все глубже и глубже зарывалась в солому.
…Мать всю ночь не гасила огня и не ложилась спать. Накинув на плечи шаль, выходила в сени и подолгу стояла там, вслушиваясь в заунывный, надсадный плач метели. Не заскрипят ли на улице шаги, не крикнет ли кто? Выйдет на крыльцо: злобствует пурга, все мертво, ни огонька, ни звука, только собаки, забившись в конуру, от страха завывают. Окоченев, мать возвращалась в дом, садилась к столу. Мысли приходили самые нерадостные. И силы куда-то ушли сразу, даже для слез их не осталось. А что, если все погибли — и дочь, и сын, и муж? А может, они к Дусе зашли и у нее рассвета дожидаются? Стуж в окно. Робкий, осторожный. Упало сердце. Радостный или печальный стук? Выскочила в сени, машинально окликнула:
— Кто?
— Тетя Маша, это мы, — несмело ответил Колька. — Нас много, почти все мальчишки и девчонки.
— Нет, не приходили, — прошептала мать.
— Вы, тетя Маша, не беспокойтесь, — пробасил Виктор. — Мы сейчас искать пойдем.
— Мороз-то не очень, а пурга — это пустяки, — сказала какая-то девчонка.
И мигом ребячья ватага исчезла в снежной пучине. Вышли за деревню, рассыпались цепочкой. У всех фонари: у кого электрические, у кого «летучая мышь».
Идут против ветра, перекликаются. Только кричать трудно: дух захватывает, и голоса сразу замирают, разбиваются упругим ветром. И свет от фонарей едва заметен, не то что в осеннюю ночь: тогда снопом так и режет тьму, отовсюду лучи увидишь. Даже спичка костром кажется. А сейчас свет тусклый, желтый, со всех сторон обрубленный, только и видишь, как перед самым стеклом снежинки танцуют или сверху стеной, как мухи, валятся.
До рассвета взрослые и подростки бродили по полям, колесили по оврагу, жгли факелы. Колька захватил с собой пастуший рожок и подолгу трубил в него. Трубил сильно, с переливами.
Но вот начал стихать буйный посвист метели. Ленивее катятся по земле снежные валы. Мягче дует ветер, нет у него прежнего озорства и злости, обессилел за многие сутки.
Наконец, с трудом, словно буравчиками просверливая снежную пелену, стали пробиваться солнечные лучи. Поредела мгла.
Колька первым завидел белоснежную макушку скирда и предложил пойти к нему. Ему вспомнилось, как совсем недавно с Володей устроил он там засидку на лису. Близко рыжая на мышиный писк подошла, но скоро раскусила, в чем дело. Мигом отпрянула в сторону, нырнула в лощину, даже выстрелить не успели. К этому скирду со всех сторон группами и в одиночку потянулись люди; он, как маяк в ночи, стал вдруг притягательной силой. Подошли к нему ребята, осмотрели. Тихо, безмолвно.
— Вот что, — сказал Колька, осмотрев собравшихся мальчишек и девчонок, — давайте этот сугроб отгребем от скирда и посмотрим.
В руках и под ногами снег хрустел сахаристыми комьями. Пробились до земли: с одной стороны — солома, с другой — гора снега.
Остановились отдохнуть. У всех вспотели лбы, взмокли рубашки. Больше всех старался Колька, он даже разделся, в одном лыжном костюме остался. Вдруг он увидел в соломе скирда ямку, запорошенную снегом.
— А ну дружно, ребята! — И первый бросился мокрыми рукавицами выгребать снег из углубления. Клок свежей соломы, еще один…
Рука коснулась чего-то твердого, словно каменного. У Кольки забарабанило сердце, зазвенело в ушах, он не мог ни крикнуть, ни рукой пошевельнуть: на него смотрели два аккуратных носка черных валенок.
Лицо у Кольки стало белее снега, и даже веснушки на носу посветлели.
— Ну, чего застыл-то? — спросила Валя.
Колька привстал, отодвинулся, и все опустили головы, примерзли к снегу.
— Тут она, — прошептал Колька и, наклонившись, отбил глыбу снега, прошитую желтой проволокой солому.
Девочки ахнули. Оцепенение длилось несколько минут, но всем оно показалось вечностью.
— Жива! — крикнул Колька. — Дышит!
Все облегченно вздохнули.
Витька с партией мальчишек уже подходил к скирду. С ними шел Володин отец. Он не замечал, что уже светит солнце, и не гасил фонаря. А позади, едва передвигая ноги, тянулся Володя со сломанной вешкой в руке… Он нес ее как упрек себе самому и всем, кто не захотел ставить вешки.
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ
Хитрый заяц весь день водил Володю за нос: не подпускал близко и не убегал далеко. Отбежит, сядет на горке и смотрит во все стороны, а то еще чище: на глазах в снег закопается и лежит. Крадется к нему Володя, ползет на животе, а как подберется метров за сто, заяц вскочит и — на другое поле. Словно играет с охотником. Володе есть до тошноты захотелось, домой возвращаться надо — мать приказывала пораньше прийти, у коровы навоз вычистить, а заяц никак не отпускает. Хорошо, что сумерки наступили и косой скрылся где-то в молодом осиннике, а то до смерти бы заводил по снежным полям и перелескам. Может, это тот самый зайчишка, которого Володя у дяди Вани из клетки выпустил?
Володя еле-еле ногами передвигает, будто свинцом их налили: ружье и лыжи хоть брось. Уж теперь какая от него работа: поесть бы да на горячую печку забраться. Спасибо, уроки на понедельник не задают, а то бы двоек завтра целый мешок нахватал. Ребята на горе катаются: визг, хохот, Кольку слышнее всех. Прямо на мальчишек идти Володя не решился. Посидел, отдохнул и стороной, овражком к своему саду вышел. Ружье в горнице на крючок повесил, уж теперь не до чистки его (хоть бы порог переползти!), лыжи в угол поставил.
Остановился, слова для оправдания подбирает. Всякие звери выручали, а вот о рыси, кажется, еще матери не говорил. Обледенелый пиджак в сенях оставил, чтобы не греметь им.
Открыл дверь, переступил порог, снял шапку. На кухне света нет, а в спальне лампочка светит, там тихо разговаривают. Мать дрожащим голосом спрашивает:
— Ну как, доктор, что с ней?
Доктор покашлял, помолчал, ответил спокойно и тихо:
— Крупозное воспаление легких.
— Что же делать? — плачет мать.
— Хорошо бы новое лекарство достать. У нас в аптеке нет, выписали только.
Володя уходил на охоту — сестра на лыжах каталась, а пришел — в постели. И отца дома нет, на заготовку леса уехал.
— Мама! Я съезжу в городскую аптеку. Я знаю, где она, мы там с папой были, — сказал Володя, когда ушел доктор.
Мать смотрела заплаканными глазами на сына и мяла в руках кончик платка.
— Ты? На чем ты поедешь?
— На чем? На лыжах.
— Нет, сынок, не пущу. Страшно в ночь одному пускаться. Садись, ешь.
Мать налила в тарелку горячих щей, поставила молоко. Володя достал с печи сухие валенки, переобулся, выпил стакан молока, а ломоть черного хлеба и кусок сала положил в карман.
— Ты куда?
— В аптеку. Я слышал, что доктор говорил. Лекарство новое нужно.
— Не знаю, сынок, что и делать. — Мать опустила голову. — Боюсь я за тебя, а вдруг что…
Володя обнял ее.
— Ничего, мама, я же охотник. Я везде пройду, никого не испугаюсь.
— Может, утром? Сам отдохнешь, и день все же!
— Я не устал, я мало ходил сегодня, — успокаивал он мать.
Володя спрятал в карман рецепт и деньги, вытер тряпкой лыжи и — в путь. Деревня стояла на горе, и город, освещенный огнями, казался рядом, хотя до него было не меньше десяти километров.
Лыжи совсем не скользили, затыкались в снег, тащили куда-то в сторону. Светло стало кругом, мороз усилился. Под палками скрипело, и в сухом воздухе далеко раздавалось: «чиу… чиу… чиу». На голубой скатерти поля столько загорелось звездочек, фиолетовых, золотых. Таких красивых звезд Володя еще никогда не видел.
Вспомнился заяц, за которым весь день по снегу лазил. Странный, очень странный заяц попался! И где он теперь? На озими или в лесу осинки гложет? Иногда чернеющие вдали пни Володя принимал за зверей: лисиц или зайцев. И от этого на душе становилось веселее, будто на охоту шел.
Наконец добрался до города. Сверкая электрическими огнями, проносились троллейбусы, стремительные «Волги», автобусы. Лыжи не скользили по шершавому асфальту, и Володя их снял, положил на плечи.
«Эх, не догадался за городом их спрятать. Здесь можно было бы на автобусе проехать», — пожалел Володя.
«Аптека № 3», — прочитал он. Большие круглые часы показывали без четверти десять.
Скорее, а то закроют аптеку.
Подошел к широкой железной лестнице и растерялся. Лыжи оказались совершенно лишними. В аптеку с ними не войдешь: там все зеркальное, чистое, лекарствами пропахшее, а на улице оставить опасно. Украдут, домой по глубокому снегу не доберешься.
Что же делать? И вспомнил Володя, что совсем недалеко, у кинотеатра «Октябрь», живет его друг Петя, с которым познакомились летом на озере. У Пети можно лыжи оставить. Схватил Володя лыжи в охапку и бегом через улицу, а машины летят навстречу, глаза ослепляют, чуть с ног не сбивают. И слева машины, и справа машины, а один грузовик бортом лыжи зацепил, и Володя упал. Прохожие остановились, волнуются, кричат, а шофер затормозил машину, кулаком из кабины погрозил, выругался. Вскочил Володя на тротуар, а к нему молодой розовощекий парень с красной повязкой на руке подбежал, руку к шапке приложил.
— Гражданин, за переход в неуказанном месте платите штраф.
Совсем Володя растерялся, молчит, рукавицей с лыж снег счищает.
— Слышите, гражданин! — еще громче крикнул парень. — Дома лыжи чистить будете, а сейчас штраф платите. Не хочешь по-хорошему, пройдем в отделение.
Володя с трудом перевел дыхание, сказал заикаясь:
— Я… я не гражданин, я ученик.
— А ученикам можно под машины лезть, городской транспорт останавливать?
— Я не останавливал, это машины сами меня остановили, мне некогда…
Парень улыбнулся: уж очень мальчишка хитрый попался, совсем глупым прикинулся. Вокруг народ собрался, советы подают, одни требуют наказать, другие — простить, а дежурный свое: платите штраф, и никаких!
— Я бы заплатил, мне не жалко, только мать рубль на лекарство дала.
Кто-то из толпы крикнул:
— А дедушка на папиросы сколько дал?
Растолкав толпу зевак, подошел милиционер, высокий, в ремнях, с пистолетом. Глянул Володя на сердитое лицо с черными закрученными вверх усами и обмер. «Ну все, теперь пропал».
— В чем дело? — простуженным басом спросил милиционер и повернулся к народу. — А вы, граждане, что кричите, без вас разберемся.
И многие отступили, примолкли.
Дежурный патруль объяснил милиционеру случившееся.
— Понятно, платить штраф не хочет, ведите в отделение, там разберутся.
А у Володи ноги будто к асфальту гвоздями прибили, совсем не подчиняются.
Представилась ему сестренка: лежит на кровати, смотрит грустно и в воздухе пальчиком пишет что-то.
— Мне некогда, я штраф заплачу. — Он достал из кармана сложенный вчетверо помятый рубль, вынул из него рецепт. — Вот доктор и рецепт написал.
— Какой рецепт? — спросил милиционер.
— Да за лекарством я приехал.
Милиционер взял бумажку, посветил карманным фонарем.
— Верно, рецепт! А теперь скажи, где живешь и в какой школе учишься?
Володя назвал деревню и школу. Милиционер положил руку ему на плечо, заглянул в глаза.
— А зачем же ты бежал от аптеки с рецептом? Если бы с лекарством, можно поверить.
Володя чуть не заплакал.
— А как же, в аптеку с лыжами не пустят, вот я их и нес к другу Пете, он отсюда через два дома.
Милиционер улыбнулся.
— Так бы сразу и сказал, что лыжи негде оставить. А ну, пошли скорее.
— Куда? — перепугался Володя.
— Со мной!
Дошли до аптеки. Милиционер поставил лыжи на крыльцо.
— Не бойся, никто не возьмет.
Вошли в аптеку. Покупателей нет, и продавцы уж белые халаты сняли. Уборщица влажной тряпкой кафельный пол протирала.
— Мальчик, аптека закрыта, — сказала она, продолжая работать.
«Ну, все пропало», — мелькнуло в голове. Усатый милиционер свернул в дверь направо, в кабинет заведующего. Скоро из кабинета вышла молодая женщина, сказала:
— Давай, мальчик, рецепт.
Завернула в бумагу пузырек с лекарством и подала Володе. Милиционер попросил извинения, поблагодарил ее и, взглянув в бледное, усталое лицо Володи, спросил:
— Далеко ехать-то?
— Нет, километров десять.
Вместе вышли на улицу, спустились с крыльца.
— Сестренка-то маленькая?
— Большая, уже на лыжах катается.
— И давно болеет?
— Давно, с самого утра, а может, и с обеда, меня дома не было.
— А что с ней?
— Легкие простудила, воспаление.
У дома с широкими, светлыми окнами они остановились. Милиционер попросил Володю подождать минутку, а сам зашел в помещение, на дверях которого крупными буквами было написано: «Гастроном». Почему милиционер приказал ждать? Может, убежать, пока не поздно? И только взял лыжи, чтобы в темный двор шмыгнуть, а милиционер тут как тут.
— На, держи. — И протянул два кулька. — Один тебе, а второй сестренке повезешь.
— Не надо! Зачем? — смутился Володя.
— А теперь садись на шестой троллейбус и шпарь до конца города.
Милиционер проводил его до остановки и попросил кондуктора довезти парня бесплатно.
— Спасибо, товарищ милиционер, спасибо! — сказал Володя, взбираясь на подножку троллейбуса.
Милиционер улыбнулся, козырнул Володе и щелкнул каблуками.
— Счастливого пути!
Кондукторша молчала и чуть-чуть улыбалась. А Володя думал про милиционера: теперь и усы его казались не грозными, а веселыми, и голос ласковым и добрым, и ремни на плече, и даже пистолет сбоку совсем нестрашными. Слез он с троллейбуса и глухой улицей вышел за город. Месяц стоял над самой головой, словно ждал Володю.
К ночи сделался он круглее, ярче и золотистее. И мороз покрепчал, и ветер стал острее — так щеки и дерет. Володя надвинул на глаза шапку, встал на лыжи, отыскал свой одинокий, заиндевевший извилистый след.
«А в карманах кульки. С чем они?» — Опустил руку в карман, развернул плотную, толстую бумагу: конфеты! Положил одну в рот — вкусная, парным молоком пахнет. Уже вторая, третья конфета растаяла во рту, а Володя все шагал и шагал не останавливаясь. Шел и сам удивлялся, почему лыжи скользить лучше стали и в руках и ногах прежней усталости не стало.
Вот уже поля родного колхоза. В лунном серебре, в звездах знакомый лес навстречу вышел. Зайчишки на снегу свежих печатей лапками наставили, да так много, что и не разберешь, куда бежали: не то в лес, не то из лесу. Лиса следы отпечатала, из лесу пошла, в копешках мышей разыскивать.
Володя достал последнюю конфету из своего кулька, подержал в руке, а есть раздумал. «Другой кулек сестренке от товарища милиционера, а эту конфету подарю маме», — решил он и, оттолкнувшись палками, покатил с горки на единственный огонек в деревне.
В ПЛЕНУ
Возвращаясь с охоты, Володя увидел в небе огромного светло-серого ястреба. Хищник плавно кружил над деревней. Потом, высмотрев за огородами кур, отвалил в сторону леса, спустился и, прячась за крышами домов и деревьями, бесшумно подкрался к курам. Закричали, замахали крыльями хохлатки, в картофельную ботву попрятались, а молодая белая курочка не успела увернуться от удара. От нее посыпались перья, и хищник снова стал подниматься с трепещущей жертвой в когтях. В этот момент Володя и выстрелил.
Одной дробинкой перебило крыло хищнику, и он сделал вынужденную посадку недалеко от охотника.
Принес Володя ястреба домой, смазал йодом раненое крыло, забинтовал и пустил его в темный угол за печкой.
Узнав о живом ястребе, к Володе тут же прибежал Колька.
— Давай вылечим и в школьный уголок отнесем, — предложил сосед.
Мальчишкам не раз приходилось наблюдать, как парит под облаками эта гордая, смелая птица, как, сложив крылья, стрелой падает на землю. Если никто не помешает, она мигом разделается с добычей — мышью или полевой птичкой. А если угрожает опасность, свечой взмоет в поднебесье, сделает прощальный круг и снова спокойно полетит, зорко осматривая землю.
Видели ребята, когда чем-то озлобленный ястреб со свистом черной стрелой пронесется над крышами, загонит в подворотни всех кур на деревне, заставит выскочить из домов женщин, и махать платками, и кричать во все горло: «Кши… кши…»
В поле или на опушке леса не раз попадались ребятам перья растерзанных дроздов, жаворонков, скворцов и других птиц.
Но вот чтобы такая грозная птица жила в школе, никому и в голову не могло прийти.
Володя и Колька размечтались. Они будут по очереди, наперебой ухаживать за ястребом: кормить, поить, чистить клетку, выносить птицу на свежий воздух. Потребуется учителю на уроке когти или клюв хищной птицы показать — пожалуйста, ястреб тут как тут! Это не то что какое-нибудь мертвое, облезлое чучело или картинка. Не веришь, что когти птицы острые и клюв, точно железный, — подставь палец. Потом всю жизнь не забудешь.
Поставил Володя ястребу две баночки: одну с водой, другую с молоком. Нарезал сырого мяса, накрошил черного и белого хлеба.
— Пей и ешь, поправляйся! — сказал Володя, легонько коснувшись высокой мускулистой груди ястреба.
Тот недовольно крутнул головой, поднял гнутый, как турецкая сабля, клюв, но руку не долбанул.
Всю ночь неподвижно просидел ястреб в темном углу, изредка, наверное спросонок, издавая то победные, гортанные звуки, то трогательные, о чем-то просящие.
Заглянул утром Володя за печку: все цело, ни к чему ястреб не прикоснулся. Только банку с водой разлил.
— Подумаешь, какой гордый! Голодовку объявил! Ну ничего, заставим! — сказал Володя и, зажав ястреба в коленях, силой раскрыл ему рот и положил кусочек баранины.
Подержал ястреб мясо и выбросил. Поводил по сторонам желтыми, точно осенний лист, глазами, посопел недовольно и, изловчившись, схватил Володю клювом за палец. Больно до слез, а дергать нельзя, терпи, пока сам отпустит. Даже в глазах потемнело, а ястреб все жмет, все крутит, будто клещами захватил и тянет. Не выдержал Володя, стукнул другой рукой обидчика по голове, а ястреб, не будь дурен, встряхнулся да так когтями рванул, что брюки и ногу, как бритвой, разрезал. Вырвался ястреб, под стол упрыгал, из-под стола — под койку, насилу кочергой его оттуда достали.
Хорошо еще Володина мать всего этого не видела, а то приказала бы ястребу голову отрубить.
Перед обедом выпустил Володя ястреба в сени свежим воздухом подышать, попрыгать на просторе. В сенях куры зерно клевали. Увидели ястреба, замахали крыльями — пыль столбом поднялась, — закудахтали и разлетелись кто куда. Остановился ястреб на крылечке, взглянул на солнышко, тряхнул здоровым крылом и по ступенькам: в палисадник сбежал. А там, под кустом бузины, сидел самый храбрый на этой улице соседский красный петух. Птицы столкнулись нос к носу и разошлись, чуть крыльями друг друга не задели. Неизвестно, что было у петуха на сердце, но марку храбреца он выдержал. Спокойно перепрыгнул через жердочку и важно зашагал к себе во двор. А потом вдруг сильно и совсем не ко времени прокричал на всю деревню: «Ку-ка-реку».
Ястреб вошел в сад, а там черная наседка с беленькими цыплятами гуляла, учила мошек и червячков отыскивать. Неразумные цыплята завидели ястреба и к нему гурьбой кинулись. Нахохлилась наседка, распушила крылья, взъерошила на голове перья, бегает из стороны в сторону, зовет к себе цыплят, а они хоть бы что. И под нос, и под крылья, и под лапы ястребу лезут, один даже на спину вспрыгнул. Ястреб только недовольно встряхнулся, зашипел, но ни на одного цыпленка даже не взглянул. Видит наседка, что он их не трогает, сама в атаку пошла. Распушилась, как индюк, голову втянула и стала приближаться мелкими шажками. И показалось Володе, что ястреб надменно улыбнулся, чуть-чуть приподнял красивую, сильную голову, выпятил грудь и спокойно посмотрел на курицу. Попробуй, мол, тронь! Еще пуще рассвирепела наседка, еще отчаяннее раскричалась, а подойти не решилась. Созвала цыплят, увела во двор и там уж до хрипоты отчитывала, а некоторых смельчаков и в загривок клюнула.
Принес Володя ястреба в дом, опять в темный угол посадил, всякой еды в баночках наставил, а сам в школу отправился.
— Ну, как? — спросил Колька дружка в перемену.
— Упрямится, ничего не ест.
— Ничего! Голод проймет — и сухарика попросит, — успокоил Колька.
Кончились уроки, ребята бегом к ястребу. Отдернули занавеску, заглянули в угол, а ястреб стоит, не шелохнется. Глаза белой пленкой задернулись, клюв еще больше загнулся. И ни к пище, ни к воде не прикоснулся.
— А если ему свежей рыбки? — предложил Колька.
— Давай попробуем.
Мигом слетал Колька на пруд и вытряхнул из своей верши десяток маленьких, в палец, карасиков. Запрыгали карасики по полу, застучали хвостами, а ястреб только голову выше дерет, никакого интереса к их пляске не проявляет.
— Может, в живот или в грудь ранен? — Сказал Колька.
Осмотрели птицу и никаких повреждений не нашли. Мышцы тугие, жилистые.
Какой же ему еще пищи надо? Не соловьев же жареных на тарелочке подавать!
— Я знаю, что ему надо, — сказал Володя. — Идем!
Отправились ребята в поле. Полдня копались в старых соломенных кучах, и лишь к вечеру удалось поймать мышь. Несли мышь в кожаной рукавице, дорогой останавливались, смотрели — не задохнулась ли, а дома привязали к хвосту суровую нитку и пустили в темный угол, где по-прежнему спокойно и гордо сидел ястреб.
Задернули шторку и ушли, чтобы не мешать птице ужинать. Ночь Володе показалась долгой и утомительной. Он несколько раз просыпался, хотел с электрическим фонарем пойти посмотреть на жалкие остатки мышонка, но сдержался, решил Кольку подождать.
Чуть свет Колька постучал в окно. Володя открыл ему сам: не хотел лишний раз мать беспокоить. Осветил Володя фонариком ястреба, а тот стоит мумией, а у ног его мышонок вертится, поглядывает черными блестящими глазами-бусинками. Привык, видно, за ночь к такой жизни и даже про страх забыл. А жизнь совсем неплохая: воды и пищи всякой сколько хочешь, да еще охраняет такая мощная птица.
— Ах ты разбойник! — заворчал Колька и цепкими пальцами схватил сзади ястреба. — Упрямишься?!
Силой мальчишки разжали ему клюв-клещи, запрокинули голову и влили в рот молока.
— Неправда, заставим жить! — сказал Володя.
Отпустили птицу — молоко назад полилось, только грудь намочило. Видимо, чтобы молоко не попало в желудок, он горло языком перегородил. Выпустили ребята ястреба на свежий воздух, солнцем и небом полюбоваться, о былой жизни вспомнить, аппетит возбудить. С неохотой покинул ястреб темный угол, почти силой заставили его в сени выйти, где мать кур зерном кормила.
На сей раз куры не закричали, не разлетелись, а посмотрев мельком на ястреба, «переговорили» о чем-то между собой и продолжали спокойно клевать.
Как-то боком протиснулся меж курами ястреб, даже одну молодку грудью по нечаянности толкнул, а та и внимания не обратила, головы не подняла, так торопилась клевать зерно. На этот раз ястреб, наверное, осознал свое положение, но сдаваться ему не хотелось… Он изогнул голову и протяжно и звонко запищал. Куры вмиг встрепенулись, застыли в ожидании беды, но скоро поняли, что враг их стал немощным. Петух, который только вчера взлетел со страху на самую высокую перекладину, сегодня с форсом прошел мимо ястреба и даже крылом зацепил обвисший, распушенный хвост хищника.
Вышел ястреб на крыльцо, мельком, небрежно взглянул на пасмурное небо — и отвернулся, закрыл глаза. Он уж давно понял, что не подняться ему в облака, а смотреть из земного плена в голубые просторы обидно для гордого сердца.
— Иди погуляй, — сказал Колька и тихонько толкнул его в спину ногой, но ястреб не в палисадник попрыгал, а вернулся в свой темный угол за печкой.
Колька сокрушенно покачал головой.
— С голоду умрет… Как же его есть заставить?
— Как? Давай мышь ему к шее привяжем. Будет она его тянуть то в одну, то в другую сторону, выведет из терпения, он рассердится и расправится с нею. Главное, чтоб начал, кусочек проглотил, а потом все пойдет.
Поставили в уголок свежей воды и рыбы, один конец суровой нитки привязали к ноге мыши, а другой — к шее ястреба. Рванулась мышь, потащила за собой птицу в угол. Володя задернул штору, пусть, мол, в потемках, без нашего наблюдения действует.
Через некоторое время осветили ребята электрическим фонарем темный угол и поразились: гневом горят ястребиные глаза, голова гордо поднята, а в когтях задушенная мышь зажата. Не мог такого оскорбления ястреб перенести, чтобы его, властелина неба, какой-то мышонок беспокоил. Наступил на него, вонзил железные когти в спину, но клюв и пачкать не стал.
И ни к рыбе, ни к воде так и не прикоснулся. Прошел еще день, а ястреб по-прежнему вел себя гордо, непреклонно. Стал значительно легче, перья порыжели, загрязнились, растопырились, глаза задернуты желтой пленкой. На прогулку уже сам не выходил, Володя выносил его на улицу. Куры совершенно обнаглели. В присутствии хищника весело клевали зерно, пили из корыта воду, говорили между собой все, что только вздумается. А когда увидали, как ястреб однажды шатался от легкого ветра и упал, налетели на него, окружили и в голову клевать стали. Но он вскочил, курлыкнул, и куры разлетелись.
— Давай для аппетита лекарство дадим, — предложил Колька и достал из кармана пузырек валерьянки. — Успокаивает и крепости придает.
Разжали клюв и силой влили лекарство. Хотя и противился ястреб, но силы уже стали не те — пропустил несколько капель.
После этого он как-то подтянулся, спружинился, бодро прошагал по комнате, вышел в сени, энергично долбанул клювом сырой кусочек баранины. Ребята застыли от радости. Наконец-то сдался ястреб, давно бы так. Ждут, когда он проглотит мясо, но ястреб подержал кусочек во рту и, тряхнув головой, далеко от себя его отбросил.
И больше ни к чему ни разу не прикоснулся.
На восьмые сутки Володя решил выпустить ястреба на волю, все равно не станет жить в неволе. Заглянул в чуланчик. Опустив голову на грудь, ястреб сидел под кроватью, за корзинкой. Володя легонько тронул его, ястреб повалился на бок, откинув назад лохматую, все еще красивую голову.
«Гордая птица! — подумал Володя, поднимая легкое, словно высушенное тело. — Виновато почесался. — Почему я его не выпустил раньше!..»
ДОБРОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
В летние каникулы подружился Володя с дядей Васей. До зари просиживал с ним у лениво горящего костра. Кто бы мог подумать, что у такого невзрачного на вид, простого колхозного конюха столько всего было в жизни, что за одну ночь и не расскажешь.
Как-то осенью, приготовив уроки, зашел Володя к дяде Васе, а тот лежит на печи.
— Собери, сынок, лошадей в конюшню, корму дай. Я что-то приболел малость, головы поднять не могу, — захлебываясь кашлем, сказал дядя Вася.
Обошел Володя все окрестные поля — нет лошадей. Не заметил, как осенние сумерки черным пологом на землю опустились. Над головой журавли прокричали. Далеко в деревне огоньки задрожали.
Слышит Володя: у речки бык ревет, зло, отрывисто. Прислушался — где-то совсем рядом. Повернул голову и видит: прямо на него огромное чудовище катится. Бежать бросился. С каждой секундой топот, рев и храп все ближе и ближе. И вот бык уже жарким паром в лицо дышит. Упал Володя на землю, закрыл руками голову. Бык тычет в спину мордой и не ревет, а тяжело храпит, стонет.
— Мишка! Мишка! — поборов испуг, шепчет Володя. — Кто тебя, Мишка, кто? Ну, ну, хороший мой, хороший! Чего так, глупый, напугался?
Бык тяжело сопит, нервно вздрагивает и прижимается к мальчику. Поднимаясь с земли, Володя притронулся к ноге быка. Нога была горячая, липкая. Кровь!
— Понимаю, понимаю. За тобой гнались волки, загнали тебя в болото и хватили зубами, да?
Бык нюхает воздух шумно, пыхтит.
В стороне мелькнула тень, за ней вторая. Во тьме сверкнули зеленые огоньки.
«Волки!» — с ужасом подумал Володя.
Бык задрожал, положил на плечи мальчику свою тяжелую голову.
— Никуда я от тебя не уйду, не бойся, — срывающимся голосом шепчет Володя. — Пошли!
До самой деревни мальчик громко кричал, стараясь отпугнуть волков.
Волки шли следом до фермы.
В стойле Володя и сторож осмотрели рану, обработали ее и наложили повязку. Страдания бык сносил терпеливо.
На прощанье сторож сказал:
— Небольшой ты, парень, а смелый. Ни ночи темной, ни быка грозного не испугался.
По пути домой Володя забежал на конюшню. Он еще издали услыхал знакомое фырканье и облегченно вздохнул: значит, кто-то лошадей пригнал.
Недели через две послала мать Володю в магазин в соседнее село. Идет он вдоль реки, насвистывает свою любимую песенку «Ой вы, кони, вы, кони стальные…»
Землю морозцем сковало, лужи ледком подернуло. Трудно пройти мимо лужицы и на лед не наступить — не проверить его крепость. У дороги стадо колхозное бродит.
На горке стоит пастух и что-то кричит, указывая на быка.
Бык поднял массивную голову, напружинил шею и стал медленно приближаться к Володе. Если бы летом, можно в речку броситься, а сейчас где спасешься? Свернул Володя в поле и побежал. А рев и топот все ближе и ближе.
Остановился Володя, от страха бежать не может. Бык рядом, изо рта синеватая пена клочьями на землю валится. Глаза огромные, красивые.
Вот бык уже рогами нацелился в грудь. И вдруг на секунду замер, как бы раздумывая. Потом с шумом вдохнул в себя воздух, ткнулся мордой в дрожащие Володины руки и виновато опустил голову.
— Мишка! Узнаешь, да? Узнаешь, разбойник? — с дрожью в голосе спросил Володя.
Прибежавший на помощь пастух остановился в недоумении: мальчик с быком стоят рядом, как два старых друга.
— Парень, да ты уж не слово ли какое знаешь? — спросил перепуганный пастух.
— Знаю, — ответил, улыбаясь, Володя и притронулся к ноге быка, где остался большой шрам от волчьих зубов.
— Вот оно что! Доброе никто не забывает! — сказал пастух, сматывая длинный ременный кнут.
ПО ВОЛЧЬЕМУ СЛЕДУ
Володю разбудил шепот на кухне. Привстал на локти, прислушался.
— А сторож-то где же был? — говорила мать.
— Там, в сторожке… — словно виноватая, тяжело вздыхая, отвечала соседка тетя Поля.
Взволнованные голоса женщин насторожили Володю.
— Сколько же овец заели?
— Тринадцать!
— Легко сказать, тринадцать! Какой убыток! — ахала мать.
— Откуда их, чертей, принесло только? — недоумевала соседка.
Володя выскочил из-под одеяла, надел валенки, накинул на плечи полушубок.
— Ты куда? — спросила мать. — В школу еще рано.
— К Кольке. Задача у меня не вышла.
Густой туман окутал деревню, занесенную снегом. Дома казались маленькими, придавленными, и окошки светились бледно-красными умирающими огоньками. В саду, то тягуче бася, то переходя на фальцет, выла собака Дружок. С конца деревни ей отвечала другая. Эта тянула еще протяжнее, всю душу выворачивала.
На улице ни следочка. Пользуясь темнотой, накрутила метель сугробов, замела, завьюжила дороги и тропинки.
К Колькиному дому Володя насилу добрался, два раза снимал валенки и снег вытряхивал. Несмело постучал в окно.
Долго кто-то копался в сенях, гремел запорами и наконец дверь открыли.
— Володя, ты, что ли? — спросила Колькина мать.
— Николай мне нужен. Задачу хотел спросить.
— Ну, заходи, беспокойная душа. Колька на задачки ловкий.
Колька еще спал. Володя забрался к нему на печь, разбудил.
— На ферме волки тринадцать овец заели, слышишь?
Колька не поднял головы, перевернулся на другой бок, натянул на себя тонкое одеяло, пробубнил сквозь сон:
— Какие волки? Отстань, спать хочу.
Мать, видя, что Колька не подымается, закричала:
— Чего лежишь-то, вставай! Видишь, человек по делу пришел. У тебя-то задачка вышла?
— Проснись да послушай, — шептал Володя. — Пойдем, волки недалеко ушли. Ночью снег был, а сейчас туман.
— Идти? Куда идти?
Когда Володя растолковал другу, в чем дело, тот резко ответил:
— Не пойду, грипп начинается, голова болит. И кости ломит, как у деда.
— Брось притворяться, — и мягче, просяще Володя добавил: — Вставай, разомнешься, и ничего, на морозе лучше.
— Не могу, — перебил Колька и с годовой нырнул под одеяло.
Володя спрыгнул с печки, направился к двери.
— Ты чего же, — крикнула мать на Кольку, — подняться не можешь? Вот кочережкой живо подниму.
— Заболел он. Чихает и кашляет, — сказал Володя уходя.
Мать уже топила печь, и жаркое, ласковое пламя плясало на загнетке, дышало теплом; так и хотелось подойти погреть руки, посмотреть, как огоньки играют, а потом на печь забраться, подремать часика два.
— Мама, я сбегаю на ферму, посмотрю овец.
— Иди, да не задерживайся. Завтрак готов!
В сенях на всякий случай Володя взял ружье, подцепил патронташ.
На ферме уже перебывала почти вся деревня. Шли в одиночку и парами, мужчины и женщины. Смотрели на зарезанных волками овец, качали головами, расспрашивали сторожа, как было дело, и расходились по домам, к своей скотине, к печкам.
Дед Игнат, как в десятый раз заведенная пластинка, терпеливо и в одной последовательности рассказывал о случившемся ночью.
— Волков-то сколько было? — спросил Володя.
— Видал двух, а там леший их знает, — ответил дед и снова начал вспоминать, как он в теплушке поил из рожка слабых ягнят, грел воду, топил печь, а когда вышел во двор, услышал страшный гром и грохот в овчарне. Он вбежал с фонарем и с палкой, крикнул изо всей мочи. А волки в окошко, один за другим…
— А куда они побежали?
Дед сурово насупился, с шумом через нос втянул морозного воздуха.
— А ты уж не за ними ли собрался?
— Нет.
— А зачем же балалайку на спину повесил? — Дед показал на ружье.
— Просто так. Может… да мало ли что может случиться, как же без ружья!
— Это верно, проучить бы их, дармоедов, стоило. Да один-то что с ними сделаешь… сам как клоп и ружьишко-то — чистая балалайка. А патроны-то хоть дробью заряжены?
— Неужели солью?! И картечь есть, и даже пули.
— Ишь ты, все как у стоящего. — Дед потрепал Володю по плечу.
Обошел Володя овчарник. На снегу отпечатались крупные, отчетливые следы волчьих лап. К ферме подходили осторожно, след в след, будто по линейке вышагивали, а от фермы торопливо, огромными прыжками, обгоняя друг друга. Володя прошел немного по следу. Следы волков постепенно сошлись в одну цепочку.
Густой туман струится над полями. В пяти метрах ничего не видно, будто дымовую завесу пустили. На солнце словно мешок черный надели: еле-еле брезжит над ровным снегом, в котором волки ногами колодцы нарыли.
Сам того не замечая, Володя ушел далеко. Овчарник скрылся в тумане. Позади никаких голосов. Возвращаться бы, но уж больно интересно, долго ли волки пойдут одной цепочкой, может, разделятся, залягут?
Некоторое время волчьи следы шли по заячьему следу. Уж не захотелось ли волкам зайчишкой побаловаться? Напившись овечьей крови, можно и зайчишку прихватить. Не каждый же день волк сыт бывает, порой ни одного мышонка за неделю не сыщет, так брюхо подведет, что хоть околевай на морозе, а тут удача за удачей… Зайчишку-то не обязательно есть сразу, спрятать на черный день можно. Где-нибудь в канаве или у деревца приметного закопал в снег — и пусть лежит себе.
Вдруг над соломенной кучей взметнулось, снежное облако, будто вулкан пробился или бомба взорвалась, и в сторону, в снег, большим серым камнем метнуло.
Ружье само припало к плечу, левый глаз сам закрылся, и вот уж тяжелая, лобастая голова волка прыгает на мушке. Раздался глухой, маломощный выстрел, скорее не выстрел — щелчок пастушьего кнута.
Волк рявкнул сердито, взвизгнул и такими пошел прыжками, что вслед за ним огромными белыми гривами завихрилась снежная пыль. Словно из собственной шкуры хотел выскочить.
Долго Володя бежал по следу, спотыкался, падал, а когда на снегу увидел пятно с калиновую ягоду, обрадовался, зачерпнул рукавицей снег и стал рассматривать застывшую каплю звериной крови. Сразу и усталость прошла, и голод перестал сосать. Спустился в овраг. На дне заснеженного оврага — дорожка из кровавых капель. Есть побольше, есть поменьше, но по ним иди смело, не собьешься.
Жаль, что Кольки нет рядом. Вдвоем веселее было бы! И почему он не пошел? Правда заболел? Или струсил? Или по лени с постели подниматься не захотелось? Но как бы там ни было, все же это не по-дружески.
Перед самым носом пробежал зайчишка. Неторопливо, сонно и как бы размышляя, дальше бежать или здесь закапываться в снег.
«Лежал бы ты, лежал. Сам себя выдал, глупенький», — подумал Володя. Но зайцу он обрадовался, как родному. Теплее стало на душе. Не один ведь в этом глухом, мрачном овраге, где спят кусты, облепленные снегом, где над кручами, как скалы, нависли сугробы, и, едва различимые в тумане, стоят серые, скорбные дубы, не сбросившие желтой листвы. Солнце там, в небе, верно, уже высоко, но его почти не видно. Как в бане: электрические лампочки где-то горят, окутанные паром, а люди спотыкаются.
А что, если волк притаился где, поджидает незадачливого охотника, чтобы и с ним, как и с овцами, расправиться? «Уж не вернуться ли домой, пока не поздно, пока недалеко ушел? Ребята теперь в школе, мать беспокоится, завтра классный руководитель ругать будет за прогул», — думает Володя, а внутренний голос шепчет: «Уж скажи правду, струсил. Пальнул в волка с печки, и ладно, а чтобы до конца добить — смелости не хватает. Волк отлежится, залижет рану и снова по деревням пойдет… А весной, глядишь, семейство свое пополнит, и уж не на пару, а целым табуном бродить будут».
Вот только бы из оврага выбраться да определить, где находишься. Вначале по следу шел на восток, а теперь красноватым апельсином солнце слева повисло.
У опушки заметил по вмятинам на снегу: волк не раз прыгал на кручу и сваливался, все больше и больше оставляя крови.
По полю он шел крупным шагом, останавливался, садился, зализывал рану, и там, где сидел, снег оттаивал и леденел, а кровь вмерзала, растекаясь по льдинкам. Впереди высоким забором лес вырос. Темный, молчаливый, мохнатым инеем окутанный. А волчий след как на зло в глубь леса тянется, между деревьев петляет, под самые низкие сучья ныряет — человеку протиснуться невозможно.
Остановился Володя, прислушался. Тишина… Кажется, слышно, как сосны вздыхают, шишки лопаются. Никогда не видел этого леса, может, и был здесь, но не помнит. Куда попал: на север или на восток — определить не может. Да что определять! Назад все равно не дойдешь — сил не хватит, а по следам идти — неизвестно, куда они приведут. Ясное дело, не в деревню, а в дебри непроходимые, где волчьи сородичи живут.
«Ну, еще пятьдесят шагов пройду — и назад. Полем скорее на деревушку нападешь», — думает Володя, отсчитывая шаги: — Десять… двадцать…» Волк здесь все чаще и чаще ложился, и большие кровяные пятна горят на снегу.
Пройдено пятьдесят шагов, а след дальше в глухомань тянется. Володя повернул назад, ружье за плечи повесил, оглянулся еще раз: уж очень жаль труда своего. И увидел: за деревом волчьи уши шевелятся…
Жаром все тело захлестнуло. И страшно, и радостно стало: всю дорогу готовился к этой встрече, а как увидел, руки задрожали, словно не он волка, а волк его преследовал. Вскинул ружье, а хитрый волк, уже давно наблюдавший за ним, метнулся в сторону, за толстые сосны. И выстрел грохнул напрасно.
Володя побежал, все же надеясь увидеть зверя поверженным.
Но дальше, глубже уходит волк в лесную чащобу, заманивая охотника, чтобы тот совсем заблудился и замерз.
«Довольно! — думает Володя, — назад!» Горячим лбом к сосне прислонился, языком с коры снег слизывает, пот с лица рукой смахивает. Ровный гул бежит по стволу огромного дерева и замирает в корнях. И такая усталость навалилась, что не заметил, как на корягу опустился, и глаза в тяжелой дремоте закрылись.
Очнулся от ледяной дрожи в теле, зубы дробно стучат. На макушке деревьев будто кто темно-синее одеяло, усеянное золотыми пуговицами, накинул.
«Ночь…» — испугался Володя. Почему так быстро ночь пришла, ведь он же совсем немного отдыхал?
Полы полушубка замерзли, окостенели, валенки не гнутся, словно деревянные.
«Эх, костер бы теперь! Картошки бы наварить или хоть чаю с хлебом напиться», — думает Володя и в который уж раз обшаривает карманы полушубка и брюк, где, кроме носового платка, ничего. Несколько крошек хлеба да ломтик сушеного яблока он съел еще днем, в овраге.
Спят ели, укрывшись снежными шубами, алмазной россыпью искрятся серебряные лучинки инея. Месяц, опрокинувшись на спину, лежит на макушке мохнатой ели. Лежит, тихо покачиваясь, яркий, будто маслом натертый, и усы седые топорщит. А усы, давно замечено в народе, к морозу лютому. А уж куда сильнее мороз, если и сейчас от холода у Володи руки и ноги иголками колет.
…А мать Володи места в доме не находила. И завтракать мальчишка не пришел, и в школу не явился. Побежала на ферму — там никого нет. К деду Игнату домой, а тот спит. Разбудила, допрашивать стала: не видал ли сына? Не сразу сообразил дед, в чем дело, а когда понял, ответил: «Был, Маша, был. С ружьишком на ферму заходил, а куда дальше подался — не знаю. Может, по волчьим следам, может, за зайцами направился. А ты не волнуйся, он парень шустрый, придет».
Чем ближе к вечеру, тем все острее, все больнее вгрызалась в сознание страшная мысль: уж не волки ли растерзали сына?
К вечеру прибежал Колька. Он весь день вертелся за партой и даже двойку по географии воспринял спокойно, будто она была поставлена не в его дневник.
Гриппа у него не было, голова не болела, по следам он пройти не испугался бы, а вот почему остался дома, сам не поймет. Не хотелось на час раньше из теплой постели вылезать, вот, пожалуй, и все.
Не спросил он тетю Машу о Володе: по лицу понял, что тот не вернулся с охоты, наверное, заблудился в тумане.
Больше всего Колька боялся, что Володя перестанет с ним дружить. А если мальчишки узнают о его трусости, то наверняка дадут меткое прозвище, которое потом ничем не смоешь. Хотелось Кольке по-настоящему заболеть и к возвращению Володи лежать в постели, а рядом чтобы стояли мать и доктор и ребята со всей деревни.
Перед вечером к Кольке пришел Витька.
— Где Володя?
— Не знаю, — ответил Колька. — Говорят, на охоту утром ушел и до сих пор нет.
— Странно! — Витя пожал плечами. — Что ж, может, на поиски пойдем?
— Ночь, где его найдешь сейчас! Уж давай утром пораньше, всех ребят на ноги поднимем.
— А может, он где тут, возле деревни, — настаивал Виктор. — Устал сильно и дойти не может.
Ребята бросились к Володе в сад, освободили с цепи его собаку Дружка и направились в сторону фермы. Собака взвизгнула от радости, повалялась в снежном сугробе, рванулась вперед и скоро скрылась в поле.
— Уж не мог мне сказать. Разве я бы не пошел, — размышлял вслух Витя. — Одному, конечно, страшно и скучно. Гадай, где он сейчас? Не то на севере, не то на юге.
Колька охотно поддержал:
— Вот и я говорю, лучше до утра подождать. Может, сам скоро придет. И раньше случалось — ночью домой закатывался.
У крыльца они увидели Володину мать тетю Машу.
— Ну как? — спросила мать.
— Не беспокойтесь, придет, — ответил Витя.
А Колька стоял, опустив голову, молчал.
— Если что, так мы завтра чем свет всей деревней отправимся, — говорил Витька, и его широкие скулы все больше розовели не то от волнения, не то от мороза.
…Володя продолжал медленно брести от дерева к дереву. Ноги плохо слушались, полушубок совсем окостенел, не сгибался, гремел, как фанерный. Володя все чаще опускался на снег, подолгу сидел, прислонившись к сосне, и слушал, как тревожно и грустно-одиноко шумит наверху ветер, как отчаянно, торопливо и звонко стучит в висках кровь.
А мысль о тепле, о костре не выходила из головы. И вдруг он догадался, что делать: как можно больше сушняку, сухих листьев, коры! Обламывает сухие березовые ветки, отдирает сосновую кору, срывает жухлые листья с дуба. И вот уже дров на целый костер… А теперь — не подведи расчет!
Володя высыпал из патрона дробь, отсыпал в бумажку пороху, разорвал по рубцу шапку, достал ваты и забил ею патрон. Выстрелил в дерево, ватный пыж задымился… Раздул докрасна, положил под дрова и на огонек высыпал порох: загорелась березовая кора, листья, сучья…
Над лесом несмело, пугливо, колеблясь и дрожа, поплыл теплый синий дымок. Он креп, рос, ширился, жадно хватался за еловые ветки, вспыхивал жарким пламенем. Мороз покорно отступал. Оттаяли руки и лицо. Легче стало дышать, отогрелись колени, а от шубы пошел душный пар.
Теперь еще сильнее навалилась усталость и до тошноты захотелось есть.
Сзади что-то хрустнуло, послышался тяжелый храп. Володя повернулся и остолбенел. Прямо на него, взвихривая снег, бежал крупный черный зверь.
«Медведь!» — мелькнуло в голове, и рука схватила ружье, направляя дуло на зверя. Фосфорический блеск глаз был отчетлив, зловещ и близок.
Палец дернул спусковой крючок, но выстрела не получилось: доставая порох, Володя разрядил ружье, а вставить новый патрон забыл.
Один, два прыжка — зверь вцепится в горло. Володя выхватил из костра горящую головешку и бросил в зверя, но тот легко, словно играя, перепрыгнул ее. Володя поднял, как дубину, ружье, чтобы ударить зверя по голове. Свет костра ослепил его, и он промахнулся, а уж второй раз поднять ружье не успел…
Тяжелые мокрые лапы его Дружка уже лежали на груди. Собака взвизгнула, тяжело дыша, обдала горячим паром его лицо, слизывала с бровей и шапки оледеневший снег.
Володя обнимал собаку, трепал за уши, гладил морду и дрожащим от волнения и радости голосом говорил:
— Друг ты мой, как ты сюда попал? Как же ты нашел меня?
Собака в ответ стучала тяжелым хвостом по снегу и лизала Володины руки. Появление собаки, ее радость придали Володе силы и уверенности. Теперь угрюмый, хмурый лес не казался таким нелюдимым и страшным. И есть меньше хотелось, и ночь совсем не пугала.
Он ласкал собаку, сушил у костра ее шерсть, гладил по спине и разговаривал с ней, как с человеком.
— Дружок, что же будем делать? Здесь ночуем или домой? Домой, говоришь? Ну, веди домой, веди, — говорил Володя, — а сам думал: «Нет, не дойду, силенок не хватит. Лучше провести ночь у костра: и тепло, И не страшно».
Неожиданно Дружок встрепенулся, насторожился и с лаем бросился вперед, Володя, схватил ружье, последовал за псом. Пробежав метров тридцать, собака остановилась, глядя на катящуюся на нее темную копнушку. Зафыркала лошадь, заскрипели полозья саней, и, когда повозка приблизилась, Володя крикнул:
— Дяденька, подвезите!
Лошадь остановилась.
— Не дяденька, а тетенька, — сказала женщина, с любопытством разглядывая маленького полуночника.
Володя прыгнул в сани, а Дружок побежал впереди.
— Кто ж это, думаю, костер развел, — говорила женщина. — Туда ехали — не было, а оттуда — вижу: зарево. С какой деревни, мужичок?
— С Аксеновки!
— Откуда? С Аксеновки? Да ты в уме? И один?
— Один!
— Да кто же тебя, глупого, пустил в такую даль? Да еще в такой лес? Да знаешь ты, голова садовая, что этот лес в тайгу переходит? — Она сняла с себя тулуп и накрыла им Володю.
— Трогай, Зорька, героя везешь!
— Да, герой, — проворчал Володя. — Неудачник. Думал раненого волка добить, а вышло чуть не наоборот. Волк меня, здорового, в лесу было заморозил. Спасибо, собака выручила.
Через полчаса сани остановились. Володя сбросил тулуп и увидел перед собой избу, залитую ярким лунным светом.
— Вот здесь, герой, мы и живем, — сказала женщина, легко и быстро выпрыгнув из саней.
— Какой там герой! — с досадой отмахнулся Володя.
— Смелости у тебя хоть отбавляй, а вот умишко маленько подкачал. Собаку пускай в сарайчик. Я ей хлеба дам. — Женщина проводила Володю в теплую просторную кухню.
При свете керосиновой лампы Володя увидел молодое веселое лицо и ласковые черные глаза.
— Раздевайся, отдыхай. Я лошадь пойду отпрягу…
Володя присел на стул. Не было сил повернуться или встать.
Хозяйка вернулась со двора скоро.
— Чего шубу-то не снимаешь? Боишься, украдут?
Она достала из печи горячих щей, топленого молока и нарезала хлеба домашней выпечки.
— Садись к столу, небось с утра не ел?
Хозяйка неторопливо жевала хлеб и оживленно рассказывала:
— Я вот тебя ругала, а у самой такой же глупый парень растет. В шестом классе учится, живет в интернате. Придет на выходной и весь день с ружьем по лесу путается. Даже вот этот карапуз, — она показала на ноги, свесившиеся с печи, — за ним тянется. Утку осенью сам подстрелил. В отца пошли. Целыми днями на озерах да в лесу пропадают. Отец ушел утром на обход леса и до сих пор не вернулся. Как и ты, видно, по следам каким-нибудь увязался.
Володе нравилось, что с ним, как со взрослым, разговаривает эта добрая женщина.
Он как-то сразу свободно почувствовал себя в ее доме и, желая ей угодить и показать, что достоин такого разговора, сказал:
— У каждого человека есть свои страсти. Особая охота к чему-то…
Женщина насмешливо посмотрела на него.
— Понималось бы тебе: страсти! В каком учишься?
— В шестом.
— Ну как есть мой Толька! Глупости в голове.
И, продолжая думать о муже, сказала:
— Ему, чудаку, давали в областном управлении лесного хозяйства работу, так в городе жить не согласился. Одиннадцатый год здесь обитаем, пням богу молимся, а мужикам моим нравится.
— Я бы тоже тут стал жить: красиво и занимательно.
— Ладно, залезай на печь, там тепло и занимательно, а одежонку твою я высушу… Занимательно! — повторила она и рассмеялась. — Учиться надо, а не ворон пугать…
А что она еще говорила, Володя не слышал. Мертвый сон навалился на него и с трудом отпустил только утром, когда проснулся и заговорил малыш. Хозяйка уже истопила печь, и от горячей разваристой картошки на столе шел пар.
— Это кто? — спрашивал мальчик у матери.
— Не видишь, кто? Охотник, вон и пугалка стоит, и медведь в коридоре убитый лежит.
— Не верю, — говорил мальчик. — Папка вот правда убьет. Папка большой и сильный. Он и меня обещал за медведем взять…
После завтрака хозяйка и ее сынишка вывели Володю на дорогу.
— Шагай, мужичок, этим путем до села. Там спросишь. Будешь еще в наших краях, заходи, теперь мы знакомы, — сказала женщина, улыбнувшись большими цыганскими глазами.
Красив, могуч и важен зимний лес утром. То одно, то другое дерево вздрогнет, словно от холода, встряхнется, и с темных ветвей радужной россыпью посыплется мелкий снег. Даже в бурю лес спокоен. Шумят, поют колыбельные песни его вершины, гнутся и свистят тонкие сучьи, а внизу тихо, тепло. Во всем чувствуется скрытая, величавая таинственность, вечная задумчивость, грусть. След вчерашних саней едва угадывается на запорошенной дороге. Над головой стрекочут сороки, в глубине, в темной чащобе, дятел громко и ритмично долбит вору дерева. Где-то в кустах дзенькает и пиликает синичка… Лес просыпается, оживает, спокойно встречает зимний день.
Дружок искупался в рыхлом снегу, встряхнулся и, добежав до поворота, где ночью вышли на дорогу, остановился. Удивительно, как он узнал это место: от ночных следов остались только неглубокие вмятины на снегу.
— Пойдем, Дружок, ближним путем. Ждут нас теперь не дождутся.
И собака поняла. Звонко залаяла и побежала вперед.
Из-за поворота выскочила крупная вороная лошадь, запряженная в розвальни. Легкой неторопливой рысью бежала она по заснеженной дороге, фыркала, храпела.
Когда сани приблизились, Володя увидел, двух мужчин. На шапках — отличительные знаки работников лесного хозяйства. В санях лежал огромный темно-бурый волк.
Казалось, зверь притаился, в злобе стиснул белые зубы. Два синеватых крупных клыка упирались в верхнюю губу.
Володя от неожиданности опешил. Так близко, перед самым носом мелькнул волк, уж не тот ли, вчерашний?
— Стрелок, не ты ль его? — крикнул молодой мужчина и показал на волка. Он кричал что-то еще, но Володя не расслышал.
Дружок поднял морду, насторожил уши и стал громко и зло лаять вслед удалявшимся саням.
Скоро в вихревой пыли скрылись они, погас хруст снега под конскими копытами и скрип полозьев.
Снова в дремоту и величавую тишину погрузился лес…
НЕПРИЯТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Кольке Быстрову исполнилось тринадцать лет. Ко дню рождения мать купила ему лыжи.
— Забавляйся, и про учебу не забывай…
«Не лыжи, а мечта!» — обрадовался Колька, с восхищением осматривая светло-коричневые лыжи и легкие, крепкие бамбуковые палки. Он тотчас же принялся прибивать резинки и самодельным долотом продалбливать отверстия для мягкого крепления: «Делай под валенки. Нечего в ботинках ноги морозить», — приказала мать.
Поздним вечером, когда все было готово, Колька примерил к валенкам ремешки, натер лыжи специальной мазью и со спокойной душой лег в постель.
Тихо, с хрипотцой над головой постукивали ходики… Засыпая, Колька думал: «Почему мать сказала: «Забавляйся!» Что ж, выходит, на лыжах можно только дошкольникам кататься? Или она напомнила недавний случай, когда, заигравшись с ребятами на горке, я забыл наколоть дров?»
Утром проснулся рано. Принес из колодца воды, позавтракал, подцепил на спину ранец с книжками и на лыжах направился в школу. Лицо не чувствовало морозного ветра, снег искрился голубыми россыпями. За деревней он догнал Витьку Карасева. В отцовском черном полушубке, Витька, словно шарик, катился по тропинке, кривой лентой сбегавшей к оврагу. Витька остановился, прищурил маленькие подслеповатые глаза, конопатый нос вздернулся, на румяных щеках застыли темные веснушки.
Он улыбнулся и ногой легонько тронул лыжу.
— Откуда такие?
— Мои. Мама вчера купила.
Витька попробовал палки на вес, пощупал остроту наконечников и коротким ударом разбил ком снега.
— Лыжи-то ничего. Видно, дорогие.
— Смотри, пулей не догонишь!
Колька сделал перебор ногами, оттолкнулся палками, перемахнул снежный бугор, вихрем помчался по склону оврага. От яркого света и большой скорости рябило в глазах, ветер свистел в ушах, упругими волнами бил в грудь. Сзади крутилась снежная пыль, на нетронутом чистом снегу палки чертили кривую линию, как первоклассники карандашом на белом листе бумаги. Колька наклонился, руки для равновесия откинул назад, затаил дыхание, спружинил ноги. На дне оврага лыжи взмыли вверх, перескочили снежный вал, с размаху ударились во что-то твердое, и Колька головой нырнул в сугроб.
Витька не удержался, рассмеялся — в таких случаях трудно удержаться от смеха, хотя товарищ, может, шею сломал или ногу вывихнул.
У Кольки нос и рот забиты снегом, но он не торопится подняться. Тяжелое предчувствие сжимает сердце: «Не сломал ли лыжи? Ведь, кажется, хрупнуло что-то?!»
Выплюнул изо рта снег, вытер лицо и медленно, словно они хрустальные, стал вытаскивать лыжи из сугроба. Одна невредима. Облегченно вздохнул. Вытянул вторую — и чуть не заплакал. Не лыжа — обрубок.
У Витьки на лице застыла улыбка. Он разводит руками, пожимает плечами, что-то говорит, предлагает, а что — Колька понять не может. Душат слезы, он готов разреветься, но нельзя — рядом Витька.
Витька ногой покопался в снегу, достал конец лыжи.
— В печку, больше никуда не годится, — вздохнул Колька.
— У меня есть ножик и маленькие гвоздики, — сказал Витька. — Давай собьем. Доедешь до школы, а там…
— Что там?
— Ну что? Видно будет. Может, сделаем в мастерской.
Прикрепили отломленный конец. Колька взял лыжи под мышки, вместе с Витькой направился к школьному сараю, где ребята обычно ставили свой «транспорт».
Шел первый урок, но друзья даже и не горевали, что опоздали.
В сарае Витька сказал:
— А я придумал, что делать.
— Оковать тонким железом, да?
— Нет, проще. — Витька прикрыл широкие ворота и, убедившись что никого на дворе нет, продолжал вполголоса: — Твои спрятать, а директору сказать — украли.
— Спрятать? Обмануть?
— В школе лыж много, подумаешь!
— Страшно… и нехорошо!
— А домой на сломанных хорошо явиться? Думаешь, мать завтра за новыми отправится в город?
Колька нахлобучил на лоб шапку, почесал затылок.
Витька кошкой вскарабкался по дровам в угол сарая, взмахом руки позвал Кольку.
— Давай, давай!
Колька выглянул во двор. На ветке тополя сидел воробей, громко, тревожно, как показалось Кольке, чирикал: «Вижу… вижу…»
Сердце забилось часто, руки задрожали.
— Чего медлишь, живее!
— Ну, на, на… пристал тоже. Будто сам не знаю, — ворчит Колька, подавая Витьке лыжи.
Через минуту, пыльный, в паутине, с прилипшими к пальто кусочками березовой коры, из угла сарая вылез Витька.
— Отряхни спину! — сказал он. — Чего дрожишь? Не узнают! Только никому…
— Озяб я! В дороге разогрелся, а сейчас озяб!
— Ничего, согреешься…
Ребята вошли в коридор. Из классов доносился легкий шум, похожий на пчелиный гуд. Витька из бачка налил кружку воды. С жадностью, словно боясь, что отберут, выпил, подал кружку Кольке.
— На, хватит!
Колька пил маленькими глотками, и вода, ему казалось, пахла болотом и клопами. У него кривились губы, он тяжело сопел и, не допив, вылил остаток в ведро.
Со звонком в руках подошла уборщица Анна Ивановна.
— Не нравится вода? А вы что ж опоздали?
Колька что-то тихо пробубнил.
Витька внимательно, словно видел впервые, смотрел на висевшую на стене картину, где был нарисован мальчик, стоящий у дверей школы.
Прозвенел на перемену звонок. С шумом распахнулись двери, из классов высыпали ребята. Витька спрятался за печку.
— Опять опоздал? — сказала Маня Бессонова, увидев Витьку. — Придется на сборе обсудить.
— Чего ты?! С повышенной температурой пришел! — сказал Витька и расслабленным шагом направился в класс.
На последней перемене Витька встретился с Колькой.
— Тебя после уроков оставили? — спросил он.
— А как же! На пионерском сборе решали: опоздал — оставайся.
— Без меня не уходи. Вместе к директору пойдем.
— Что-то страшно и стыдно!
— Подумаешь, стыдно! Ты причем? Ты виноват, что такие делают? А в школе лыж много.
— Нет, не пойду!
— Не ходи. На палках катайся. — Витька ехидно улыбнулся, конопатый нос сплюснулся.
Дополнительный урок был утомительным и долгим.
Дежурные вымыли полы, вытерли парты, взбрызнули водой цветы. Опустела, затихла школа. Все ребята уже на улице резвятся, а ты сиди… Когда остаешься в классе после уроков один, чувствуешь себя самым несчастным человеком на свете.
Витька то и дело поглядывал в окно, где за горизонтом скрылись ребята, и говорил себе, что больше он никогда не будет опаздывать.
Наконец дополнительный урок окончился. Витька и Колька вышли во двор. В сарае достали спрятанные в дровах лыжные палки.
Из школы вышел Николай Петрович, в раздумье остановился на ступеньках крыльца.
— У Быстрова лыжи украли, — сказал Витька. — Одни палки остались.
— Лыжи? Странно! — пожал плечами директор. — Давно, давно такого случая не было. Кто бы мог?
Колька сжался, робкий, хрупкий. Лицо стало красным, в серых глазах блеснули слезы.
— Не знаю. Утром поставили… а сейчас нет!
— Его теперь мать домой не пустит. Лыжи новые, только купила, — говорил Витька, носком сапога разминая комок снега.
— Да, неприятная вещь! Ну ладно, пойдем. Что-нибудь придумаем.
Колька пошел вместе с директором в сарай и вскоре вернулся, неся в руках новенькие, такие же, как и у него были, лыжи.
— А ты боялся. Мать даже и не узнает, — сказал Витька.
Дорогой Витька спросил:
— А ты мне кататься будешь давать?
— Бери, не жалко!
Витька достал кусок белого хлеба.
— На, замори червячка, небось проголодался?
— Сам ешь!
Полуденное солнце слепило глаза, по мягкому снегу легко скользили лыжи. Уже близко деревня, а на душе у Кольки никакой радости.
У дома с заплаканными глазами его встретил брат Сережа.
— Я тебя жду-жду, а ты все не едешь и не едешь!
— Зачем я тебе?
Сережка показал на сломанные салазки.
— Шурка сломал. О стену треснул.
— Не плачь, сделаю.
— Он на своих поедет, ты у него отбери.
— Ладно, отберу, — пообещал Колька и, взяв лыжи в руки, с трудом переступил порог сеней.
В сумерках на улице он встретился с Витькой.
— Как же нам теперь из сарая сломанные лыжи взять?
— Не бойся. Я скоро буду кормить кроликов и тогда вынесу.
Все, казалось, просто, рассчитано до мелочей, но никак не может успокоиться Колька, на сердце кошки скребут.
Проснувшись под утро от страшного сна — на него потолок обрушился, — Колька долго думал о случившемся и решил во всем признаться. Приняв такое решение, облегченно вздохнул.
В это утро в школу Колька приехал первым.
— Ты что, Быстров, так рано? — спросила Анна Ивановна.
Не ожидавший такого вопроса, Колька растерянно заморгал глазами.
— Да у нас… у нас часы вперед убежали…
— Может, оставил что?
— Нет, ничего…
Колька сел за парту и принялся читать учебник физики. Этот предмет вел директор школы. Читал, а сам думал: где, когда и как поговорить с Николаем Петровичем?
Вначале хотел до уроков, потому так рано и приехал. Но раздумал. Неизвестно, какое у директора настроение, а это, по мнению Кольки, главное.
Читал вслух, нараспев. Когда смотрел в книжку, казалось, все знает, а закрыл — в голове ничего не оставалось. «Хорошо бы он меня спросил и поставил пятерку. Тогда бы идти к нему было лучше».
В класс собирались ребята.
— Зубришь, да?
— На новых лыжах прокатался, не выучил?
А Валя Аношина громко крикнула:
— У него бессонница!
Рослая, с крутыми плечами, Валя не боялась мальчишек и смело говорила всякие неприятные для них вещи. Полные губы ее постоянно улыбались, ровные белые зубы искрились, как снег на солнце.
Колька поднял злые глаза.
— А ты спишь, да? Спишь?
— Сплю!
Из коридора послышался звон колокольчика. Шум усилился и постепенно смолк.
В класс вошел Николай Петрович.
Ребята встали. Сердце Кольки дрогнуло, щеки загорелись.
Николай Петрович окинул ребят пристальным взглядом.
Колька знал, что не выдержит черных, все понимающих глаз учителя, поэтому заранее опустил голову. Секунда ему показалась вечностью, и, когда Николай Петрович спокойно сказал: «Садитесь», — Колька тяжело опустился на парту и мельком посмотрел на ребят. Не заметили ль его волнения?
Но кто смотрит на соседа, если самого прощупывают строгие глаза учителя.
Николай Петрович объяснил новую тему: «Аккумуляторы и их применение», продемонстрировал опыт. Рассказал случай из фронтовой жизни, когда по халатности шофера произошла разрядка аккумулятора, машину долго не могли завести и чуть не попали в плен к немцам.
Почти на каждом уроке Николай Петрович рассказывал интересные случаи из жизни. Говорил просто, увлекательно и тогда становился совсем нестрогим. Беседовал, как с равными, спрашивал у них совета, смеялся.
«Вот бы сейчас ему рассказать о лыжах», — думал Колька.
В большую перемену Колька идти к директору не решился. Подумал, что в кабинете могут быть учителя, ребята, и при них толком не расскажешь.
Витька отозвал его в сторону.
— После школы на лыжах будешь кататься?
— Нет!
— Тогда я, ладно? У нас завтра уроки простые.
Наконец прозвенел последний звонок. У Кольки в дневнике по русскому языку и зоологии появились четверки. Он неторопливо уложил в сумку книжки, подобрал под партой бумажки.
В класс заглянул Витька.
— Ты скоро?
— Иди, иди! Догоню, — ответил Колька.
А сам стоял, обдумывая, как начать разговор с директором. «Николай Петрович! Извините… я боялся матери, поэтому…» — мысленно произносит Колька, а другой, внутренний голос говорит: «Обманываешь, не эта причина».
И Колька соглашается. Начинает сначала: «Простите. Я поступил нечестно. Обманул вас, обманул всех. Лыжи у меня не украли, я их сам спрятал». Колька видит, как у директора опускаются черные брови и он, чуть-чуть приглушив голос, говорит: «Не украли? Сам спрятал?» — «Да… да… Вы только послушайте. Я сейчас все расскажу».
Колька усиленно трет затылок, словно от этого зависит ход беседы. «А что я расскажу?» — «Как же ты, Быстров, додумался?» — слышит Колька голос директора. «Может, свалить на Витьку? Он, мол, спрятал мои лыжи, он предложил». Нет, тоже вранье! Витька моложе его, и трудно поверить, что это было так.
Из задумчивости Кольку вывела Валя Аношина.
— Ты чего, Быстров, сидишь? От четверок не можешь опомниться?
— Молчи, курносая, лезешь, куда тебе не надо! — сердито бросил Колька и вышел в коридор.
Остановился у окна. Яркое солнце расстелило на полу широкую радугу. Колька, любуясь переливчатым соцветием, осторожно прошел около стенки, словно боясь запачкать цветастый ковер.
Посмотрел в окно, позавидовал ребятам, которые, подобно ручейкам в половодье, растекались в разные стороны.
«Расскажу, как было», — решил Колька и направился в кабинет директора.
Директор сидел за столом, а перед ним на полу лежала сломанная лыжа.
— Твоя? — спросил Николай Петрович.
«Как она сюда попала?» — удивился Колька и, тяжело опустив голову, тихо ответил:
— Моя…
НЕ ОЖИДАЛИ
Тихим июльским днем Володя и Колька, взяв удочки, отправились на озеро. Чтобы сократить путь, шли полем, где еще недавно росла вика, а теперь похожие на дома скирды цепочкой вытянулись вдоль дороги.
Колька вспомнил, что на этом поле в прошлом году косцы поймали зайчат, и боялся, что Володя тоже вспомнит об этом и скажет: «Как же ты умудрился обмануть меня, зайчишку спрятал у себя, а говорил, что пустил его в рожь?» Колька замедлил шаг. Остановился, снял ботинки, засучил штаны.
— А ты молодец! — сказал Володя и тоже снял ботинки. — Босиком и легко и прохладно.
Колька подбросил связанные шнурками ботинки, радостно проговорил:
— По лугам побродим, рыбки половим, а завтра снова за работу.
— Сколько у тебя трудодней? — спросил Володя.
— Не знаю, не проверял.
— А у меня двадцать семь. Только на косьбе вики шесть трудодней заработал.
У Кольки снова дрогнуло сердце — сейчас про зайца вспомнит, к этому и ведет. Он поднял руку в небо, где, распластав крылья, застыл ястреб-тетеревятник, крикнул:
— Смотри, какой огромный, серый! Вот бы из ружья пальнуть! И видишь, видишь, целит куда-то?
— Если бы не мы, — сказал Володя, — то разговелся бы он вот той желтой пташкой.
Недалеко от дорожки, еле заметная в побуревшей траве, беззаботно чирикала, резвилась птичка.
Узкая полевая тропинка привела на луг, посреди которого синело озеро.
Над зеркальной гладью воды серым парашютом висел туман.
Высокая трава спелыми головками била в грудь, щекотала лицо, запах цветов кружил голову.
Из оврага, заросшего ивняком, доносился хрипловатый, торопливый мужской голос:
— Удар! Мяч прошел выше штанги. Девятка ударила неточно.
Мальчишки удивленно переглянулись и бросились бежать в кусты.
— Смотри, «Волга», — крикнул Колька. — Это радио так громко и чисто говорит…
Заглянули в машину. На заднем сидении, склонив черную с аккуратным чубчиком голову, дремал мальчишка.
— Футбол слушаем, да? — спросил Колька.
Мальчик поднял крупные, блестящие, как спелая смородина, глаза, открыл дверцу.
— Залезайте в машину, репортаж будем слушать.
Колька, не раздумывая, влез в машину, сунув мокрые с прилипшими листочками и семенами трав ноги под тяжелый, ворсистый ковер.
— Садись и ты! — обратился мальчишка к Володе.
— Не хочу! У нас радио тоже есть, а в лугах и без него хорошо.
Колька, увидев в продолговатом зеркале свое лицо, улыбнулся для проверки, он ли это, и, отвернувшись, сказал пренебрежительно:
— В футбол мы тоже играем! У нас поле-то какое!
— И я играю!
— Ты кем? Не вратарем, случайно?
— Нет, центральным нападающим.
Колька дружески хлопнул мальчишку по плечу.
— Не жги керосин, пошли. На озере интереснее.
— Хочется дослушать, чем дело кончится.
— Чем? Известно чем! Одна команда победит, другая потерпит поражение…
— А какая?
— Та, которая в ворота пропустит больше мячей.
Мальчишка рассмеялся.
— Так-то и я знал!
Он выключил радио и вслед за Колькой вылез из машины.
Познакомились. Мальчишку звали Петей.
— Ты, Петя, в каком учишься? — спросил Колька.
— В шестом!
— И я! Ровесники! А с кем приехал?
— С отцом. Он на озере рыбу ловит.
— Пойдемте и мы, — сказал Колька и, взяв удочки, торопливо зашагал к озеру.
— Давай, закидывай… Мы придем рыбу тащить, — крикнул вслед Володя.
К рыбной ловле Володя не имел большой страсти. Любимое его занятие — охотиться, бродить по лугу, коллекционировать растения и насекомых. Он угостил Петю щавелем.
— Полезное… В нем лимонной кислоты много. А вот с рыжим гребешком, как у петуха, кочеток. Ты щи из щавеля ел?
Петя отведал щавеля, поморщился.
На южном склоне овражка нашли клубнику. Спелая, ароматная, сочная — и сколько душе угодно, только ешь! Петя ползал в траве, рвал клубнику, посвистывал от удовольствия.
На белой шапочке клевера увидал насекомое: длинное, серое и очень верткое. Увлекся, стал наблюдать. Насекомое опустило головку в цветок, долго возилось в нем, будто что-то искало, затем перелетело на другой цветок. Ножки кривые и, как щетки, лохматые, в желтой цветочной пыльце.
— Смотри, мухи тоже цветы нюхают! — воскликнул Петя.
Володя хитровато улыбнулся:
— Чудо! Редкое насекомое. Его надо обязательно поймать и засушить… Лови, пока не улетело. Ну-ну, смелее!
Петя подкрался к цветку и ловко схватил, сжал в кулаке насекомое вместе с мягкой головкой клевера и тотчас взвизгнул, закричал и разжал пальцы. Ладонь словно огнем обожгло, даже в глазах потемнело от боли.
— Ой-ёй-ёй! — Петя бегал по лугу, махал рукой. Лицо его побледнело, черные глаза расширились.
Володя поймал его руку, тихо, ласково сказал:
— Ничего, пройдет. Видишь черную иголочку — это жало. А в этом мешочке находится яд. — Он вытащил жало. — Это пчела тебя ужалила. Она не любит, когда ее неумело берут в руки. Яд же пчелиный полезный. У нас пчеловод им людей лечит.
— Вот бы тебе на язык, — сквозь слезы проговорил Петя, не сводя глаз с ладони, которая покраснела и вздулась пышкой.
— Бежим к озеру. В холодной воде подержишь, и все пройдет.
Пока Петя делал холодный компресс, Володя срезал темно-зеленое, с толстым стеблем растение. На одном конце оставил перегородку, проделал в ней ножом отверстие. На конец ивового прутика намотал тряпочку и вставил, как поршень, в трубочку. Набрал воды, резко нажал на стержень, и тонкий фонтан взвился, рассыпавшись мелким дождем.
— Интересно! Самодельный насос!
Петя уселся на берегу и водой стал стрелять по стрекозам, пролетавшим над головой.
— Как это растение называется? — спросил он.
— Вех, нам на ботанике объясняли.
— Вех? — Петя задумался, теребя рукой мягкий чубик. — Вот он какой, вех. Читал о нем в книжке. Кажется, настоем из этого растения отравили великого ученого Сократа.
— Вполне возможно! — раздумчиво сказал Володя. — Ни одна скотина, даже самая голодная, его не ест. Уничтожать, сжигать эту траву положено. И там, где ядовитой травы много, луга распахивают и клевер, овсяницу, тимофеевку сеют.
Петя с отвращением глянул на зеленую трубочку веха.
— И запах у него противный, мышиный, не продыхнешь.
Он размахнулся и с силой забросил насос в воду. Вздрогнула зеркальная гладь озера, к берегам разошлись темные круги.
Разыскали спрятавшегося в кустах Кольку. Он вытащил из воды кукан, на который были нанизаны карп и десяток окуней.
— Здóрово, — покачал головой Петя. — Пойду к отцу…
И тут же скрылся в кустах. Бежал вприпрыжку, не сводя глаз с озера. Одна за одной выстреливали из воды маленькие, с мизинчик, рыбки-уклейки. Сердито била у берега щука. Черные, с белой грудью ласточки с радостным писком проносились над озером, еле касаясь крыльями воды.
Прибежал Петя к отцу. На селке, опущенной в воду, плавали два небольших щуренка.
— Эх рыбак! Колька удочкой и то сколько наловил!
— Какой Колька?
— Ну как тебе сказать? Такой, как я. Ну, может, чуть побольше. Хорошие ребята. Я с ними познакомился. Чего их ни спроси — все знают. Траву ел всякую. Хочешь, на попробуй — он достал из кармана несколько мятых кочетков и подал отцу.
— Это вех. Из него насосы делают. Бьют, как пожарные брандспойты.
Отец, улыбаясь, слушал сына, жалел, что раньше не брал его на рыбалку. Боялся, как бы не простыл, не утонул.
— Ну, ты, папа, давай лови, а я к ребятам пойду.
Отец проводил его ласковым взглядом и, стал крутить катушку спиннинга.
Петя забежал к машине, взял колбасы, сыру, сушеной воблы и белого хлеба.
Пока он ходил, Колька поймал еще несколько красно-зеленых окуней.
— И как это ты умудряешься? Отцу на спиннинг попались всего два щуренка.
Колька многозначительно щелкнул языком.
— Секрет, брат, да уж ладно, тебе скажу. На ночь я сюда гороха пареного, творогу да пшеницы сыпал.
— А зачем?
— У рыбы зубов нет, а…
Володя сердито перебил.
— Не мели, чего не надо, не пугай парня. Это, Петя, привадой называется. Где рыбка поест один раз, туда и второй раз плывет.
— Вот как! Наподобие столовой, да?
— По-городскому, пожалуй, так!
Стали ребята полдневать. Разложили всю снедь прямо на траве. К Петиной закуске прибавились малосольные огурцы, ветчина, пахнущая чесноком, яйца, краюшка черного хлеба.
Ели с аппетитом, забыв проверить удочки. А когда хватились, то одной уже не было, ее на середину озера утащила рыба. И самодельная пробка, как бы посмеиваясь, отбивала ребятам низкие поклоны.
Володя бросился в камыши и подогнал маленькую плоскодонную лодку.
— Садитесь! — скомандовал он.
Первым в лодку вскочил Петя, за ним прыгнул Колька. Лодка, шурша и расталкивая камыши, двинулась от берега. Похожие на грядки, в стороны побежали светло-зеленые волны. Володя сидел на носу. От ударов весла на воде пенились, крутились воронки. Из камыша вспорхнула утка и, сделав над озером круг, улетела в луга. Володя проводил ее взглядом и невольно подумал о том, что, может, этой утке и жить-то всего до осени.
Колька, наблюдая за удилищем, ругался, требовал грести быстрее, ложился на живот и работал руками, как веслами. У Пети замирало сердце.
— Еще немного, немного, давай, давай! — шептал Колька.
Рыба, чувствуя, что ее преследуют, резко повернула в сторону. Ореховое удилище, мелькнуло мимо Колькиных рук.
— Лови, футболист! — крикнул он.
Петя рванулся вперед, а когда лодка, наклонившись, отпрянула назад, головой нырнул в воду.
Колька прыгнул за удочкой. Во все стороны, пересекаясь и пенясь, бежали волны. Петя, вынырнув, что-то крикнул и снова скрылся под водой. Володя смотрел и не мог понять, почему он не плывет к лодке, бултыхается на одном месте.
— Нашел место для баловства…
Петя шумно глотнул ртом воздух и снова скрылся под водой.
«А может, может… плавать не умеет?» — мелькнуло в голове Володи.
Лодка, зачерпнув воды, стала неуклюжей, тяжелой.
Показалась Петина голова, раздался отчаянный крик:
— То-ну-у!..
Петя снова погрузился в воду, штопором закрутились волны.
— Колька, сюда! — крикнул Володя и с размаху бросился в воду.
Колька оглянулся — и на поверхности никого не увидел. Только маленькая пузатая лодка сиротливо покачивалась на волнах.
Тревожно кольнуло сердце: «Не футболист ли утонул?»
Володя тем временем схватил Петю за рубаху, тянул его на поверхность. Открыл Петя глаза, мутные, с красными белками, окинул Володю чужим, отдаленным взглядом.
— Держись! — крикнул Володя.
Колька поспешил на помощь. Он саженками подплыл к Володе, схватил Петю за чуб, потащил к лодке. Вдвоем подняли Петю в лодку, положили животом на сидение. Лицо у Пети бледно-синее, из-под распухших век проглядывали серые белки.
Колька отчаянно гнал лодку к берегу, а Володя подсунул Пете под живот коленку и давил рукой на спину, на грудь. Из носа и рта хлынула вода.
Вытащив Петю на берег, качали его на ворсистом ковре, делали искусственное дыхание, растирали грудь и спину ладонями, трясли… И наконец Петя всхрапнул, икнул и часто задышал.
Колька от радости даже перекувырнулся через голову.
Володя нащупал на Петиной руке пульс.
Петя начал дышать глубоко и ровно, губы порозовели.
— Жив, футболист, жив! — Колька потрепал Петю за холодный нос, спросил: — Бежать к отцу, сказать или не надо?
— Подождем, не стоит пугать, все страшное позади, — ответил Володя, укрывая Петю теплым ковром.
— Не ожидал, что он такой пловец, — сказал Колька.
— А ты ловко схватил его за волосы.
— Я тоже не знал, что он плавает, как топор.
Петя вслушивался в их разговор и не понимал, о чем говорят ребята и почему он лежит в траве. Тошнит. Кружится голова. Солнце какое-то синее и холодное.
— А рыбку… рыбку поймали? — прошептал он.
— Поймали, да какая крупная! Уху скоро варить будем.
Колька пригладил мокрые, взъерошенные волосы на голове Пети и, подмигнув Володе серыми хитроватыми глазами, спросил:
— А ты, Петя, счет матча знаешь какой?
— Какой?
— Эх ты, прослушал! Один ноль в нашу пользу…
ЦЫПЛЕНОК ПОД ОБЛАКАМИ
Свежо и печально в лугах и полях поздней осенью. Птицы, непривычные к холоду: скворцы, чибисы, грачи, покинули родные края. Другие: снегири, синицы, дятлы — одеваются на зиму потеплее и весь день неутомимо трудятся в поисках пищи, стремятся с осени набраться сил. Звери сменили летнюю одежду на зимнюю и перебрались ближе к кормовым запасам: зайцы — к озими, лисы — к соломенным кучам: что-что, а мышь там всегда добыть можно.
Наступила охотничья пора. Всякому, у кого есть ружьишко, не сидится дома. В выходной день потянуло на простор и моих юных охотников.
Колька утром зашел за Володей.
— Ну как?
Володя кивнул:
— Все в порядке.
Он подцепил новый кожаный патронташ, надел сапоги. В один карман фуфайки положил увесистую краюху черного хлеба, в другой — кусок ветчины. Одноствольное ружье висело у двери, казалось, оно с нетерпением ожидало, когда его возьмут в руки; на черном маслянистом стволе блестел солнечный луч. Колька ощупал свои карманы и с радостью подумал: два больших яблока штрейфлинг будут приятным сюрпризом для Володи.
Вышли ребята за деревню и стали совет держать: куда идти, в лес или в поле? Кольке хотелось в лес: там тепло, приятно, под ногами листья шуршат, синицы посвистывают, дятлы-красавцы постукивают. В лесу можно кое-чем полакомиться: сладким шиповником, мелкими, но душистыми яблоками-кислицами. А если развести костер да напечь картошки?!
Но Володе в лес идти не хотелось. Он знает, что заяц не любит осеннего леса. Зайцу нужна тишина, чтобы лучше определить, откуда опасность грозит, а тут шорох листьев из-под собственных ног мешает слушать. Мышонок прошуршит листвой, а зайцу этот шорох волчьим покажется. Всего лучше искать зайца на зяблевой пахоте. Ляжет в бороздку, прикроет глаза и дремлет на солнышке.
— Вот что, — сказал Володя. — Давай поле обойдем, а потом в лес заглянем.
Разошлись ребята друг от друга метров на сто: чем больше охват площади, тем вероятнее напасть на зайца. Поднялся Колька на курган, чтобы посмотреть вокруг, и язык прикусил от неожиданности: метрах в десяти лежал заяц. Бока серые, рыжие уши с черными наконечниками протянулись через всю спину. Заяц шумно сопит, из-под носа белым облачком пар вздымается. Никогда Колька не думал, что так крепко зайцы спать могут. Хлопнул Колька в ладоши, крикнул во всю силу — и зайца как ветром сдуло. Прижал уши, втянул курносую морду в туловище и полетел прямо на Володю.
«Ну, — подумал Колька, — удачно! Сейчас он в него пальнет».
От радости подпрыгнул на месте и, заложив пальцы в рот, лихо свистнул.
Но что такое? Володя даже головы не повернул. Он смотрел в небо, где, часто махая крыльями, летела огромная темно-серая птица, похожая на ястреба. В лапах у нее другая, черная птица. Нижняя птица крутит головой, будто съемку местности производит, и по всему видно, что настроение у нее бодрое: наверное нравится такое путешествие, а может, дух от высоты захватило.
Володя вскинул ружье, но услышал Колькин крик. Оглянулся: заяц на него катит. И зайца упустить жалко, и ястреба двухэтажного! Раздумывать некогда! Володя выстрелил в небо. Ястреб и не вздрогнул. Он даже крыльями стал махать реже. Володя снова зарядил ружье, выстрелил второй раз. Ястреб сделал плавный разворот и спокойно начал спускаться по наклонной линии. На земле опустил птицу, со злости и досады клюнул ее в затылок, взмахнул крыльями и взмыл в воздух. Опомнившись, птица-путешественница вскочила на кочку и тоненьким, срывающимся голосом закричала: «Ку-ка-реку! Ку-ка-реку!»
Это был совсем еще молоденький петушок, почти цыпленок. Подбежали ребята, взяли куренка, понесли на птицеферму.
Вокруг птичника — ни одной курочки. Вся живность прижалась к забору, попряталась в помещение. Пустили ребята путешественника на землю.
Постоял он с минуту, как бы раздумывая, с чего жизнь начать, захлопал крыльями и к курам бросился. Навстречу ему вышел большой рыжий петух и, внимательно осмотрев его, что-то торопливо стал объяснять курам. Колька его речь перевел так: «Откуда ты взялся? Мы же видели, как тебя схватил ястреб, а из его когтей живым еще никто не вырывался».
Куры настороженно слушали и, когда храбрый петух кончил говорить, дружно закричали: «Тут что-то не то! Тут что-то не то! Тах-тах-тах-нет, тах-тах-нет!»
К какой стайке ни подбежит куренок — все от него в разные стороны разлетаются. Шатаясь, он подошел к корыту, полил водички, склевал зернышко и сел посреди двора подремать на солнышке.
— Теперь пойдем в лес, — сказал Володя, спокойный за судьбу петушка.
ДОРОГОЙ ПОДАРОК
Колька очень любил соловьев. Забравшись в кусты, он мог часами сидеть неподвижно и слушать их звонкие переливы. Да еще не всякого он станет слушать. Подкрадется к иному, послушает минутку, встанет и сам по-соловьиному засвистит, да так громко, так красиво, что не сразу от настоящего соловья отличишь. Ухмыльнется: «Молод еще, поучись маленько и прилетай на будущий год, а я пойду отца твоего послушаю, он над прудом поселился…»
Но в эту весну Кольке не повезло.
Пошли ребята в лес: подснежников набрать, на говорливые ручейки посмотреть, за прилетевшими птичками понаблюдать. Воздух влажный, хмельной. Под ногами звенит, бисером на солнышке рассыпается синяя ледяная корка. Шагают ребята по лесу, настроение бодрое, приподнятое. Хочется сделать что-то особое, отличительное, а что — они и сами пока не знают. Разные сыплются предложения: набрать под листьями яблок-кислиц, разуться и желтую полянку босиком проскочить, сходить к норам, где лисы и еноты живут. От ребячьего гвалта все сороки разлетелись, все маленькие пичужки попрятались. Проходя мимо дуба-великана, кто-то предложил в честь наступающей весны забраться на его макушку. Забраться на дуб — дело нехитрое, пустячное: все там и не по одному разу бывали. На сей раз договорились спускаться не по стволу, а, как белки, прыгать с одного сука на другой.
Затея, конечно, неумная, это все понимали, но оказаться перед товарищами трусом, попасть на острый язык мальчишек никому не хотелось.
Первым забрался на дуб Колька.
Интересно смотреть на лес с высоты. Осины кажутся маленькими и тонкими, а березы щетинятся вениками, словно тучи разметать приготовились. Колька послал ребятам привет, солнцу помахал шапкой и стал спускаться. Ноги слегка дрожали, сердце и тело будто холодной водой окатывали. Ребята, задрав головы, наперебой, как грачи, кричали:
— Не трусь, Колька, не трусь!
— Что, страшно?
— Боишься ползти по стволу?
«Рядом с землей — и страшно! Как же парашютисты?» — думал Колька, ловко перескакивая с одного сука на другой.
— Так! Так! Смелей! — подбадривали мальчишки.
— Смотри, как кошка, прыгает, — с восхищением сказал маленький Сережа, который всегда сопровождал ребят в походах.
Опьяненный успехом, Колька забыл об опасности. Не посмотрел внимательно и схватился за сухой сук. Сообразил, что надо немедленно искать другой, более надежный, но ветка хрустнула, тело обдало жаром, закололо в ушах и, ломая сучья, шурша желтой неопавшей листвой, Колька полетел вниз…
Больше он ничего не помнил. Очнулся на вторые сутки в больнице. По телу будто трактором проехали: все до единой косточки болят, а на правую ногу гипс наложили, и стала она толстой, как бревно. Недели через две молодой хирург с крупными маслянистыми глазами спросил:
— Как дела, дуболаз?
— Ничего, только домой хочется, от учебы теперь отстану.
— Догонишь! Коль из-под облаков без парашюта прыгнул, теперь тебе все нипочем.
Поправлялся Колька медленно. Из больницы выписали в конце мая, когда с ноги сняли гипс, но наступать на нее не велели, костыли для поддержки дали.
Приехал Колька с отцом в деревню и не узнал ее: какая она стала молодая, нарядная. Улицы подметены, на выгоне зеленой щеткой трава высыпала, окна в домах покрашены, стены побелены, и солнце во всю мощь старается, поливает окрестности теплым и мягким светом. Кур такое множество, что проехать нельзя, и ходят важно, степенно, не обращая никакого внимания на проезжих. Лишь белый как снег петух поднял красивую голову и, глядя на Кольку, громко и весело прокричал, как показалось Кольке, не обычное «ку-ка-ре-ку», а новое, словно: «с при-ез-дом!»
«Рад, разбойник, рад», — подумал Колька.
И ему немного стыдно стало за то, что он раньше к петухам был равнодушен, не замечал их, а то, чего греха таить, иногда и камнем в них еще запустит. А на Володю даже обиделся, когда тот выстрелил в ястреба, несшего в лапах куренка, а не в зайца, бегущего на охотника.
Еще издали, увидев у своего дома черемуху в зеленой шали, Колька в тайне от отца, что сидел с ним рядом, махнул ей рукой и улыбнулся, как старому другу. Ведь он ее из лесу принес и посадил, кажется, совсем недавно, и вот она уж какая, под самую крышу поднялась.
Ребят сбежалось со всей деревни… Все больше молчат, а если что спросят, то тихо и по-деловому. Совсем не подумаешь, что вместе с ним по сучьям прыгать собирались, только не пришлось.
Володя и Витька пришли, когда Колька уже лежал на кровати и рассказывал братишке Сергею о больничной жизни. Окно было открыто, и горьковатый запах черемухи плавал в комнате и слегка кружил голову.
— А дуб твой стоит, — как бы спохватившись, выпалил Сережа. — И чудно… весь лес зеленый, нарядный, а он и не думает наряжаться. А ты больше на него не полезешь? Не лазай, пусть на нем сороки трещат, у них крылья есть…
Ребята долго не решались сесть, стояли у кровати и передавали Кольке последние школьные новости. Они к нему и в больницу ездили, проведывали, гостинцы возили. Совсем недавно виделись, а Кольке показалось, что мальчишки сильно подросли, загорели и даже разговаривать басом стали.
Ребята принесли Кольке книжку «Робинзон Крузо» и поставили на столик в банку с водой несколько веточек черемухи.
— В этом году соловьи-то поют? — спросил Колька, приподнявшись «а койке, и заглянул в окно на улицу, где стало уже совсем темно.
— Раньше в сады прилетали, а сейчас на что-то обиделись. Не слыхать. Уж не кошки ли их тревожат?
— Поют, только мало, — успокаивающе сказал Витька, хотя сам не знал, поют они в садах или не поют.
Когда вышли от Кольки, Володя сказал:
— Давай поймаем соловья и Кольке подарим?
— Идея! — воскликнул Витька. — Да разве его поймаешь? Это тебе не воробей. Фонарь в крышу поставил — он сам в руки летит.
— Подумать надо.
Всю ночь ребята мастерили клетку, и лишь к утру, когда за окном забрезжил рассвет, они погасили лампочку и легли спать. Клетка была готова. Дело оставалось за автоматическим захлопыванием дверки. Теоретически мыслилось так: соловей летит поклевать зерна, сядет на проволочку, щелка выскочит, и пружинка закроет дверку. Хотя в эту ночь спать пришлось мало, но сон Володе приснился: лопались сразу два соловья, да такие голосистые и певучие, что слушать их приходили все жители деревни, а Колька за один час выздоровел и вместе со всеми ходил на пруд ловить удочкой карасей.
На уроке географии под монотонный рассказ учителя Володя задремал. Проснулся и не поймет: перед ним стоит учитель, сердито насупив брови, через очки сердито сверкают глаза, ребята повернулись в его сторону и дружно, громко смеются.
— Повтори, что я сказал? — внятно и твердо спросил учитель.
Володя встал.
— Вы рассказывали про Крым.
— Не спорю, а что?
— Что там тепло.
— Как бы тебе жарко не было! Садись, два! Спать на уроке — невиданная дерзость! Дневник!
И на глазах мальчишек в дневнике и журнале учитель вывел жирную двойку. Маня Бессонова шумно, притворно вздохнула:
— Ого!
Кто-то из девчонок, Володя не разобрал, негромко попросил:
— Спой по-соловьиному.
В классе снова веселый хохот.
К вечеру клетка была в боевой готовности и, завернув ее в старенький военный плащ Витькиного отца, ребята отнесли ее в лес. Шли садами, огородами и полевой нехоженой тропинкой. Володя знал любимые места соловьев: в вишневых заброшенных кустах над прудом. Прошлую весну его не раз туда водил Колька, и там они чуть ли не до утра засиживались, и не просто слушали, а пытались научиться петь по-соловьиному. Колька оказался способным учеником. Если бы за это в школе ставили оценку, пятерка за соловьиное щелканье была бы наверняка. Иногда, отойдя вперед и спрятавшись в куст, Колька откалывал такие колена, раздавалось такое щелканье, что Володя не мог различить, кто поет: Колька или соловей.
Сели ребята под куст и стали наблюдать, вслушиваться в лесные шорохи и птичьи разговоры. Солнце уже одной щекой прижалось к горизонту, розовыми стали на небе облака. А голосов птичьих великое множество. Каждая пичужка трезвонит на свой манер, никого не слушая и не думая об опасности. Несколько раз над макушками деревьев со свистом пронесся копчик — ловкий, коварный, маленький, но сильный хищник, а птичкам хоть бы что, словно опьянели от вешнего воздуха на своей родине. И Володе показалось, что копчик не охотиться, не нападать прилетел, а порезвиться в упругом воздухе, посмотреть за порядком в своих владениях, приветствовать заморских гостей. Но вот в лощине громко и властно щелкнул один соловей, как бы говоря: «Слушайте все, слушайте все». В птичьем гомоне погас его щелк. Дрозды, напротив, еще напористее стали щебетать и кружить у могучего темного дуба, с которого упал Колька, изо всей силы кричать, махать крыльями, кувыркаться в воздухе.
Снова, но еще громче, щелкнул в лощине соловей, ему веселой размашистой дробью отозвался с бугра второй, рассыпался звучным завораживающим посвистом третий, казалось, пошел отплясывать мелкую чечетку четвертый и совсем рядом полилась переливчатая трель.
Качнулась ветка черемухи, и ребята увидели маленькую, с сереньким брюшком и землисто-глиняными крылышками, очень похожую на полевого воробья пташку.
Витька от неожиданности открыл рот, примерз к земле, оцепенел. Володя тоже затаил дыхание, боялся шевельнуть бровями. Птичка энергично и доверчиво осмотрелась кругом, уселась поудобнее на тонкий сучок, наполнила воздухом мешочек, что у нее был спрятан под горлышком, и вначале, как бы для пробы, небрежно щелкнула два раза, потом закрыла глаза — и над лесом потекла вдохновенная, звучная, молодая песня весны.
Казалось, протяни руку — и схватишь увлеченного пением солиста лесов. Но ребята не могли и пальцем шевельнуть. Они забыли, зачем пришли, и главным теперь было для них — не спугнуть певца, как можно дольше послушать его, посмотреть, как лихорадочно дрожит под горлом мешочек и из открытого красивого клюва льются волшебные звуки. На звонких крыльях песни улетали все мальчишеские дела и заботы, в сердце входила весна.
Неожиданно ветка качнулась, вздрогнула, и соловей исчез. Мальчишки даже не заметили, куда он полетел, и не поняли, почему так мало посидел он на одном месте. Им было совсем невдомек, что соловей счастлив и рад весне и это чувство радости он хочет передать другим жителям леса.
Уже давно закатилось солнце, поблекли желтые лепестки лютика, доселе полыхавшие ярким костром на полянке, погасли красные колокольчики, темным плащом опустились над лесом сумерки, а Володя и Витька все сидели, слушали, ничего не замечая.
— Эх, Кольку бы сюда! Сразу бы нога прошла, — тихо сказал Володя.
— Как звенит лес от соловьиного пения! И не разберешь, кто с какого колена начинает и каким кончает, будто каждый листик поет.
Ребята повесили клетку на сук орешника, метрах в полутора от земли, отползли на бугорок, стали наблюдать. Лежали долго, терпеливо, от холода бока заболели, и в темноте не стало видно ни деревьев, ни клетки. Все птицы, кроме соловья, отщебетали, уснули, а может, нарочно присмирели, спящими притворились, а сами во все уши соловьев слушают. Только было действительно так: ни одного шороха, ни одного писка — сплошной соловьиный концерт.
По пути из леса ребята зашли к Кольке. Рассказали об уроках, заданных на дом, объяснили решение задачи. О клетке и соловьях ни слова, будто их не существовало. Перед уходом ребят Колька попросил Володю, чтобы тот сходил в библиотеку и принес книгу про птиц, где бы описано было: куда летают, чем питаются, как живут. И чтобы про соловья там было.
— Ладно, принесу, — сказал Володя.
Пять дней бегали мальчишки в лес и всякий раз возвращались расстроенными: в клетке было пусто.
А Колька все настойчивее заявлял о своем желании послушать соловьев, расспрашивал о них, с увлечением читал «Весну света» Пришвина.
— Весна кончится, а соловья мы не поймаем, — сказал Володя, возвращаясь утром из леса.
— Не нашего ума дело, — согласился Витька и тут же предложил сесть на автобус и отправиться в город на птичий базар.
Через два часа ребята уже были на задворках мясного рынка, в веселой и шумной сутолоке торговцев котятами, щенками, голубями, канарейками, снегирями, клестами и всякой другой птицей. Там же шла бойкая торговля птичьим кормом, подавались дружеские советы, расхваливались достоинства той или иной птицы, с доплатой и без доплаты обменивались почтовыми голубями. Ребятам понравился своей серьезностью и деловитостью рынок, на котором им никогда не приходилось бывать. Они были очень удивлены, встретив на рынке мужчин самых почтенных возрастов, с бородой и усами, в латаных фуфайках и новеньких шерстяных костюмах. На весь рынок только в одной клетке было два соловья.
Хозяин, лет сорока, с румяным круглым лицом, живыми добрыми глазами, кричал на весь рынок:
— Курские соловьи! Отдаю задаром! Спешите купить, последние!
Витька остолбенел. Ничего понять не может. Неужели задаром? Чего же не берут, неужели соловьи не нужны?
— А поют они? — робко спросил Володя, и лицо его покраснело.
— У кого деньги есть — поют, а тебе, хлопчик, для начала лучше пару воробушков поймать. Не видишь разве — курский соловей-то!
Мальчишки-зеваки, толпившиеся у прилавка, громко рассмеялись:
— В Курске поют, а у нас слышно; бери, коль деньги есть.
Витька, набрав смелости, приблизился к клетке, показал пальцем на соловья, стоящего на верхней планке.
— Сколько стоит?
Хозяин назвал цену. Витька переспросил и, покопавшись в кошельке, бочком, бочком нырнул в толпу.
— Гайка слаба, — засмеялись мальчишки.
— Уж слушал бы кошачий писк, — сказал один.
— Да собачий лай, — добавил второй.
Денег у ребят было маловато. Если даже идти пешком или сесть без билета — все равно не хватало.
Пока они стояли, прикидывали, гадали, один соловей был уже продан. Над рынком гудел звонкий веселый бас.
— Последний курский соловей. Спешите купить…
Зажав в кулаке деньги, Володя протиснулся к клетке.
— Держите! — крикнул он, боясь, что продадут другим и этого.
Мужчина неторопливо пересчитал рубли, серебряные и медные монеты, погремел ими в воздухе.
— А у вас, хлопчик, маловато денежек. Соловей-то курский. Не молодой и не старый. Семнадцать коленцев на одном дыхании. Понимаешь что-нибудь?
— Понимаю, — краснея, ответил Володя. — Только нет больше денег…
— Не мое дело.
И тут Володя вспомнил, что можно добежать до Пети и занять у него.
— Пусть деньги будут у вас, я сейчас к другу сбегаю и принесу.
— Давай, жми.
Пети дома не оказалось, он был на стадионе, а у его матери спросить денег у Володи не повернулся язык. Не скажешь же — соловья хочу купить. Мать предлагала ему чаю, угощала обедом — Володя от всего отказался. Во дворе мать спросила, зачем приходил, и, может, что надо передать Пете… И тут, неожиданно для себя самого, Володя спросил взаймы денег, сказав, что у него не хватило на ботинки и что он в следующее воскресенье вернет долг.
— Ладно, отдашь, — сказала мать, глядя на плотную коренастую фигуру Володи, его живые, нетерпеливые глаза.
Витька дожидался его на том же месте. Мальчишек-зевак на рынке уже не было, а жаль, пусть бы видели, в чьи руки соловей попал. Хозяин встретил его открытой улыбкой:
— Забирай вместе с клеткой. Ценю тебя за расторопность, — сказал он, подняв над головой соловья. — Слушайте на здоровье.
— Спасибо, — сказал Володя, и, взяв клетку, быстро пошагал к автобусной остановке.
— Эх, спросить бы у него, как он соловьев ловит, — спохватился Витька.
— Так он тебе скажет!
— Может, это не соловей? Принесем, а он хуже воробья, и чирикать-то не будет, — с трудом поспевая за быстрыми шагами Володи, говорил Витя.
У Володи у самого от раздумий виски ломило, и он ответил:
— Да ну, что ты! Вылитый соловей!
Когда сошли с автобуса, ребята клетку поставили в мешок, чтобы не видели односельчане, что несут ребята, и зашли к Кольке. Тот, увидев птицу, от радости на койке подпрыгнул.
— Соловей? Настоящий? — удивился Колька, все еще не веря своим глазам. Он обнимал клетку и легонько, одним пальчиком пытался погладить птицу по голове.
— Спасибо, друзья, спасибо.
— Как же вы его поймали, а?
— Трудов много стоило, — уклончиво начал Витька.
— Как? — перебил Володя. — Поставили клетку — он и влетел. Не сразу, конечно, походить в лес пришлось.
Ребята налили в баночку воды, насыпали в клетку всяких зерен.
— Не будет, людей боится, — заметил Колька. — Ночью склюет.
— Воробей — тот бы стесняться не стал, — больше для того, чтобы рассеять свои сомнения, сказал Витька.
— Верно, эта птица благородная.
Наступил вечер. Занервничал, закапризничал соловей. Отчаянно машет крыльями, прыгает, бьется серенькой грудочкой о железные прутья, даже перышки сыплются. Упадет в изнеможении на пол и лежит, словно мертвый, а отдохнув, снова в бой бросается, только бой-то неравный, клетка крепко сбита. Соловей терзается, и у Кольки муторно, тяжело на душе. Он лежит с закрытыми глазами, а сам все видит, что соловей в клетке делает, каждое его движение чувствует, и кажется ему, что соловей не о клетку бьется, а о Колькину грудь.
Перед рассветом немного успокоилась птица, а может, и не успокоилась, но Колька настолько устал, что снова все косточки заболели, и он уснул.
На другой день, прямо из школы, Володя забежал к Кольке.
— Ну, как?
— Сам не спал и мне не давал. Всю ночь с клеткой дрался. Может быть, это не соловей? На воробья сильно похож.
— Не спорю, похож! — ответил Володя. Но воробей не такой. У воробья живот круглый, большой, а у соловья, видишь, длинный, прогонистый. На груди у воробья черный фартук, ему приходится копаться в навозе, в отходах с кухни. Нос серпом: легче с кусочком мяса или крупой, вишенкой расправиться. Перья на голове взъерошены — знаешь, почему?
Колька улыбнулся, глаза озорно блестят:
— Расчески нет, да?
— Кто живет на готовых харчах, тот ленивый становится. Ему не хочется ни головы причесать, ни умыться… А соловью работы много. И корм добывать надо, и песни петь, чтобы соловьихе не скучно было.
— Откуда знаешь? — удивился Колька.
— Читал…
— Но почему он не поет?
— Видимо, плохо за ним ухаживаем. Соловей — птица благородная, другого обращения требует. Своему голосу цену знает! — пошутил Володя.
Прошло еще двое суток, а соловей ни разу и не щелкнул. Вид его стал неузнаваем: нахохлился, растопырились, словно после купания, перышки, почернел, загрязнился нос, хотя к пище соловей и не прикасался. Перестал прыгать, махать крыльями. Забился в угол клетки, зевает и лишь изредка в окошко на зеленую черемуху да на синее небо взглянет — и снова глаза закроет, голову опустит.
«Уж не заболел ли чем? — думает Колька. — Или не понравилось ему у меня?» Попросил, чтобы в комнату принесли молодую черемуху. Принес Володя черемуху, поставил в угол. Ожила, принарядилась комната, и во всем доме лесом запахло. Окно затянули марлей, чтобы свежий воздух поступал и не так сильно от черемухи голова кружилась. На сучки баночки с различной пищей и водой повесили, на нитке мешочек всяких личинок прицепили. Поздним вечером выпустили из клетки соловья.
Полетел он по комнате и сел на черемуху, под листик спрятался.
«Курский называется, — подумал Володя, — а петь и не собирается».
Вслух сказал:
— Облетается, привыкнет, — запоет. Сильная птица, но очень гордая. Не хочет в неволе петь.
В эту ночь больная нога ныла, и Колька метался на постели. То ему было жарко, как в парной, то холодно, словно на снег бросали. Он долго лежал неподвижно с закрытыми глазами, и когда глянул, то уже бледная полоска света сквозь марлю пробилась в комнату, а под окном, застенчиво прижавшись к стенке, стояла черемуха, тихо позванивая темными листьями.
«Утро! — подумал Колька. — Все пропало! Не поет!»
Еще сильнее заныла нога. Хотелось уткнуться лицом в подушку и реветь изо всей мочи. И вдруг на окраине деревни, в вишневом саду, запел соловей.
Встрепенулись, зашуршали листья черемухи в комнате — это по веткам запрыгал Колькин соловей. Вот он, пробуя голос, стыдливо щелкнул и, взобравшись на самый верх деревца, вдруг ударил во весь голос, да такой голос, который Кольке в жизни не приходилось слышать.
Колька не верит своим ушам. Неужели в его комнате поет соловей? Сердце замерло в радостном трепете, в грудь будто вдохнули вешних живительных соков, перестала ломить нога. Колька вначале приподнялся на локотки, потом сел на кровати, опустил ноги, и, забыв про костыли, встал и тихо пошагал к окну. Соловьиная песня звонким ручьем перекатилась через его голову, раздвинула стены и широко и раздольно полилась вдоль деревни. Кольке казалось, что песня на крыльях ветра унеслась в заоблачные дали, навстречу спокойно и величаво полыхающей утренней заре. А в ответ из дальних садов, утопающих в белом тумане, летела другая, чистая, как хрусталь, соловьиная песня.
Колька горячим лбом прижался к холодной стене и стал вслушиваться то в грустные, то веселые, то в звонко-нежные, то глухие, отчаянные посвисты и трели соловьев. В жизни он не слышал такого пении, и ему казалось, что вместе с птицами поет его душа.
Колька закрыл глаза, ему стало страшно: в его комнате соловей песней выражал свою тоску по воле, просился в лес, с отчаяния надрывал голос, как с горя музыканты рвут струны.
И совсем рядом, из палисадника, куда никогда не прилетали соловьи, тревожно и призывно-настойчиво запел другой соловей. Колька понял, что этот соловей скорбит по узнику, разделяет его печаль, взывает к мужеству и надеждам.
Одним рывком Колька сдернул марлевую занавеску… Свежий ветер упругой волной вкатился в комнату, распушил рыжий Колькин чуб, прогремел, как бубенцами, увядшими листьями черемухи.
— Лети! — сказал громко Колька. — Лети! — тише повторил он, видя как соловей черной точкой мелькнул в сером розоватом небе. Колька резко повернулся на одной, здоровой ноге, подошел к койке и упал лицом в подушку…
Когда проснулся, на душе было легко и спокойно. На полу красивым цветным шарфом распластались солнечные лучи, на них, пригревшись, дремал пестрый котенок, терпеливо ожидая, когда проснется хозяин. По-прежнему в комнате тихо и нежно-трогательно шумела увядшая листвой черемуха.
СОДЕРЖАНИЕ
Первый трофей ……… 5
Царская птица ……… 18
Своей дорогой ……… 26
А если бы …………. 39
Колькина ошибка …….. 45
В метель ……….. 56
Счастливого пути …….. 66
В плену ……….. 75
Доброе не забывается ……. 84
По волчьему следу …….. 89
Неприятное положение ……. 107
Не ожидали ……….118
Цыпленок под облаками …… 129
Дорогой подарок ……… 134
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.