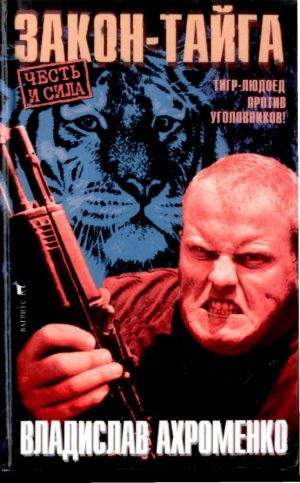
Пролог
Огромная рыже-полосатая кошка, мягко прыгнув в сугроб, замерла: казалось, совсем рядом под чьими-то подошвами скрипел снег. Кошка была голодна, в животе урчало, и она прислушалась…
Тигр появился тут, в диком и малолюдном Хабаровском крае, недавно: холода и бескормица привели хищника, обычно столь осторожного, к человеческому жилью. Амурские тигры, как правило, редко нападают на людей: в тайге живности достаточно и без того.
Но это весной, когда на сопках нежно-розовым цветом распускается багульник, это летом, когда девственная дальневосточная природа позволяет мощному и свирепому хищнику прокормиться вдоволь.
Зимой, потеряв осторожность, амурский тигр, доведенный хроническим голодом до отчаяния, способен на все. А попробовав человечины, столь беззащитной и потому легкодоступной, он ни за что не согласится променять ее на другое…
А этот, огромный, больше двух метров, окончательно отощавший, уже пробовал сладкого человеческого мяса, правда чуть-чуть.
Его не пугала близость поселка: залатанные щитовые домики, снятые с колес железнодорожные ветхие вагоны, тщедушные фигурки людей вдали, рельефно выделявшиеся на иссиня-белом снегу, их слабые голоса и вьющиеся дымки надо всем этим…
Тигр продолжал стоять почти по брюхо в снегу; кончики рыже-белой шерсти обросли сосульками, сквозь облепленную репейником шкуру торчали ребра. Уши были навострены, кончик хвоста нервно подрагивал. Это было бы действительно красиво: огромная рыжая кошка с белой манишкой на ослепительно-синем, девственном снегу. Яркое дальневосточное солнце заставляло снежинки переливаться, искриться, разбивало их на мириады брызг…
Да, это действительно было бы красиво, великолепно, если бы не было так страшно.
Шаги тем временем приближались — они были нетверды и неустойчивы, эти шаги. Неожиданно до обоняния тигра долетел легкий запах горелого табака, водочного перегара и какой-то вони — так может пахнуть только человек, и тигр, слегка пригнувшись, насторожился…
То утро выдалось для известного в поселке Февральск бомжа Дюни тяжелым: Дюня был одним из самых удачливых профессиональных сборщиков бутылок — профессия, очень распространенная в здешних краях. Впрочем, с тех пор как началась зима и выпал снег, жить становилось все трудней, и удача повернулась к Дюне задом: бутылки, брошенные нетрезвыми руками местных алкоголиков (а тут, в Февральске, таковыми было почти все население от шестнадцати и старше), ныряли в метровые сугробы и извлечь их оттуда не было никакой возможности.
А если нет стеклотары — нет денег и, следовательно, гарантированной выпивки, которая, как правило, заменяла бомжу и еду.
Дюня — неопределенного возраста, плешивый, маленький, согбенный, с лицом, напоминавшим печеное яблоко, — нащупал в кармане ватника окурок «Беломора» и тут же поймал себя на мысли, что этот бычок — последний из тех, что ему удалось найти в мусорке местной столовой.
То ли от денатурата, выпитого на днях, то ли от полученного сегодня утром пинка (Дюня иногда выносил помои, за что получал от поварих объедки, но сегодня опоздал на работу) страшно болели почки, и это заставляло то и дело проводить по пояснице окоченевшей рукой.
Он остановился, отдышался, встал против ледяного ветра и, сунув одеревеневший чинарик в коричневые от чифиря, выщербленные зубы, с тяжелым, безотчетным вздохом закурил — порывы ветра сразу же относили дым за спину Дюни, и он еще раз укорил себя за то, что не дотерпел до теплой вонючей котельной, где жил: табачный дух долго держится в закрытом помещении.
День можно было считать потерянным: в авоське лежало всего только три бутылки из-под водки и одна — из-под «Портвейна-72», и вырученных денег вряд ли хватило бы даже на лосьон «Огуречный», не говоря уже о «Тройном» одеколоне, который Дюня просто обожал.
Обитатель котельной, выпустив через нос две струйки вонючего дыма, пробормотал философски:
— Да, бля, житуха совсем хреновая…
Состояние было похмельным, а потому — сумрачным, таким же совсем хреновым, как и житуха. Мутные мысли блуждали, перескакивали с чинарика на одеколон, с одеколона — на лосьон, с лосьона — на недавнее зоновское прошлое (бомж отсидел на общаке пять лет, и на зоне был чертом, запомоенным — категория, ниже которой только педерасты), с зоны — на бренность человеческого бытия, и Дюня не мог остановиться на чем-нибудь одном.
Бутылки сиротливо и жалобно позвякивали друг о друга, ветер продувал рваный бушлат насквозь, мороз щипал за облупленный сизый нос и щеки, замерзли ноги, обмотанные старыми, два месяца нестираными портянками, — в такие минуты бомж был готов повеситься. И он бы наверняка так и поступил, если бы не любовь к лосьону.
Правильно говорят: надежда умирает последней. Умирает последней она даже у бомжа, но без таких физических и нравственных мучений, какие в эту зиму преподносила Дюне злодейка судьба…
Дюня очень рассчитывал на помойку за дощатым туалетом-"скворешником", где, по расчету профессионального сборщика стеклотары, можно и должно было чем-нибудь поживиться.
Бомж, поеживаясь и кутаясь в драный бушлат, хукнул на грязные, с загнутыми обгрызенными ногтями руки — это, впрочем, не помогло: холод донимал. Он, охая и стеная, двинулся в сторону туалета. Еще издали он заметил, как два вусмерть пьяных дембеля из местного гарнизона, пошатываясь, в сорокаградусный мороз в шинелях нараспашку пьют из горла вино.
Глаза Дюни плотоядно загорелись. Несмотря на хреновое похмельное самочувствие, изжогу и ломоту в пояснице, он гусиными шажками засеменил промерзшими ногами быстрей. Кирзачи утопали в желтых, потечных от мочи сугробах, но Дюню это никак не смущало.
Однако дембеля оказались проворными и, что было гораздо хуже, коварными и не понимающими страдания других: допив вино, они по очереди бросили бутылки в промерзшую стену туалета, словно это были боевые гранаты, — те разлетелись с мелодичным звоном, и несчастному бомжу показалось, что солнце померкло навеки.
Дюня, пораженный таким гнусным и беспощадным цинизмом, остановился, смахнул с грязной седой щетины скупую мужскую слезу — да, по всему было видно, что сегодня «Тройного» ему не видать. Можно было бы полакомиться мастикой, но от нее в последнее время у бомжа целый день болела печень и мучила изжога.
— Братцы, — прохрипел он, — зачем же вы так?!
Дембеля — счастливые, с раскрасневшимися от мороза и спиртного лицами — повернулись к нему и, гадливо поморщившись, послали его подальше.
— Братцы… — прошептал пораженный Дюня, но это обращение утонуло в сатанинском хохоте.
Грязно выругавшись, дембеля проследовали в сторону магазина — видимо, за добавкой.
— Чтобы вы в жизни ни одного живого пузыря не нашли, — грязно и цинично выругался Дюня; это пожелание было самым страшным, на какое только способен профессиональный сборщик стеклотары.
Он бы так и стоял, шмыгая носом и думая о бренности бытия, если бы посторонний звук за спиной не заставил его обернуться…
Огромная рыже-полосатая кошка с белой манишкой упруго, грациозно приближалась к человеку, распространявшему вокруг себя тяжелых запах перегара и скверного табака. Человек этот обернулся и замер: прямо на него смотрели безжалостные зелено-желтые глаза убийцы…
Они смотрели друг на друга недолго — всего одно мгновение, но этого страшного, гипнотического желто-зеленого взгляда оказалось достаточно, чтобы Дюня понял: это конец. Волосы под грязным треухом встали дыбом и, казалось, зашевелились; лоб покрылся липкой, ядовитой испариной, а на снег, как раз из-под ватных штанин, полилась желтоватая струйка…
"Бежать, бежать…" — эта мысль была столь же естественной, сколь и бесполезной: тело рыже-полосатой кошки мгновенно сжалось, как огромная стальная пружина, и спустя мгновение Дюня почувствовал страшной силы удар в грудь — тигр не промахнулся.
Бороться, сопротивляться не было ни сил, ни решимости; страх, ядовитый и зловонный, точно моча, парализовал бомжа. Над самым ухом послышался грозный, устрашающий рык, клацнули страшные челюсти, и когти тигра неотвратимо вонзились в грудину несчастной жертвы, без особого труда войдя через ватный бушлат…
Мучения человека, пожираемого проголодавшимся тигром-людоедом, ужасны: Дюня почувствовал холод вонзившихся между ребер когтей, и дикая, нечеловеческая боль заставила его истошно закричать:
— А-а-а-а-а!..
Крик, отразившись от голых сопок, резко оборвался: легким движением мощной головы тигр зацепил желтым клыком за горло. Из разорванной гортани несчастного вырвалось слабое птичье клокотание, однако оно было недолгим: недовольный поведением жертвы, тигр быстро закончил процедуру умерщвления, перейдя к самому главному, откусив голову…
Кровь, стрельнув из сонной артерии уже безголовой жертвы, залила ближайший сугроб. Голова с дико вытаращенными глазами была отброшена нетерпеливым хищником в сторону, и рыже-полосатая кошка, довольно урча, уже разрывала когтями ватный бушлат. Через несколько секунд все было кончено — развороченные внутренности дымились на снегу, бурая кровь из брюшины расплывалась под тигром и его жертвой огромным бесформенным пятном.
Откусив руку, людоед склонил голову набок, чтобы переложить кость на мощные коренные зубы. Раздался оглушительный хруст — через несколько секунд окровавленная кисть скрылась в хищной пасти…
Треск ломаемых мощными лапами ребер — и хищник уже добирался до еще горячего, пульсирующего сердца: наверняка это было самое вкусное в жертве. Сероватые скользкие кишки случайно намотались на передние лапы, и это на какой-то момент лишило его радости наслаждения человечиной: тигр, нагнув морду, одним движением головы отбросил кишечник на метр…
А вот с ногами пришлось повозиться: они были обуты в вонючие кирзачи, которые пришлось долго пережевывать. Вкус был немного непривычным, гадким, и это заставило хищника поморщиться. Людоед недовольно зарычал…
До посещения поселка тигр не ел пять дней, и это решило все: через несколько минут от Дюни остались лишь ошметки окровавленной одежды и голова — отсутствие мяса на щеках и шее не привлекло внимания уже утолившего первый, острый голод тигра. Морда хищника довольно скалилась, на длинных усах уже замерзала темная, похожая на кофейную гущу кровь. Тигры — животные чистоплотные, и потому после непродолжительной трапезы он решил пополоскать клыки. Недалеко от поселка бежал быстрый ручей — он не замерзал даже в суровые местные зимы. Подойдя к берегу, хищник склонил голову и высунул измазанный кровью язык. Чистая родниковая вода быстро обмыла огромные клыки людоеда. Он, довольный собой, принялся вылизывать лапы.
Спустя несколько минут тигр исчез так же быстро, как и появился, и лишь огромные, размером с человеческую голову, следы, ведущие в тайгу, да окровавленное месиво на краю поселка свидетельствовали о развернувшейся тут трагедии…
Глава первая
Наверное, еще никогда начальнику оперативно-следственной части ИТУ строгого режима Андрею Киселеву не было так плохо: скажи ему сейчас — товарищ капитан, вам следует явиться в Кремль за получением Звезды Героя России, он бы только дохнул перегаром и прошептал бы мученически: "А на хрен мне та Звезда? На хрен мне та Россия? И вообще — идите вы отсюда знаете куда?.."
Адресование, вне всякого сомнения, было бы исполнено грамотно и профессионально, исходя из должности, которую Киселев тут занимал.
Должность эта на любой зоне, а тем более тут, на строгаче, пользуется среди всех без исключения зэков самой незавидной репутацией. Кум — а именно так именуют по фене начальника оперативно-следственной части — обязан разлагать блатных и воров, сеять среди них смуты и недоверие, плодить стукачей или, как их называют, сук, использовать внутренние противоречия между зэковским сообществом, исходя из прежней профессии, блатной масти, а также национальности, образования и степени дебильности.
Да, что-что, а посылать во все дыхательно-пихательные отверстия Киселев умел и умение свое использовал; в этом полезном навыке ему даже завидовал сам хозяин — начальник зоны полковник Алексей Максимович Герасимов.
Но теперь у товарища капитана не хватало сил даже для своего любимого дела. Что и говорить, вчера принял на грудь слишком много. Сперва — с женой прапорщика Красноталь, которую потом пришлось трахать, затем — с самим прапорщиком, столь некстати вернувшимся из наряда, затем — с начальником второго отряда, тоже капитаном, Витей Радченко, затем — с откинувшимся «маслокрадом» из Еревана, хитрожопым армянином Рудиком Исканяном, затем…
С кем пил кум потом, он не помнил, даже и не пытался вспомнить.
Паршивое похмельное настроение усугублялось тем, что сегодня с самого утра были получены неутешительные вести: суки второго отряда донесли, что двое самых, пожалуй, ценных и хорошо законспирированных осведомителей, Кеша Астафьев и Сергей Малинин, сгорели — их стукаческую сущность раскрыли блатные.
Что бывает с суками, товарищу капитану можно было и не объяснять: смерть предателям! Блатной суд суров, но справедлив, а что самое главное — быстр: ни тебе презумпции невиновности, ни тебе адвокатов, ни кассационных жалоб вплоть до суда Верховного…
Впрочем, тут, на строгаче, был свой верховный судья: очень уважаемый вор в законе по погонялу Астра, бывший к тому же смотрящим зоны. Астру боялись и уважали: когда в прошлом году синклит татуированных людей за месяц до откидки не смог прислать ему замену, вор в законе сделал показательную попытку к бегству. Таким образом он сознательно получил довесок к сроку, но зато не запятнал своего честного имени перед воровским сходняком.
Этот вор классической, «босяцкой» формации к ссученным был безжалостен и беспощаден. Перед взглядом пахана, тяжелым, придавливающим, как бетонная плита, никто не мог устоять, даже он, капитан Киселев…
Кум вяло пошевелил кончиками пальцев, чтобы определить, пьян он еще или нет, и — не определил.
Однако похмелье — похмельем, а служба — службой, и потому Киселев, икнув, придвинул к себе две папки с личными делами тех самых сук, над которыми в самое ближайшее время должен был состояться праведный суд.
— Иннокентий Мефодьевич Астафьев, кличка Чалый, 1948 года рождения, русский, уроженец Хабаровского края, 5 судимостей, последняя — за грабеж, осужден на 7 лет, — шевеля пересохшими губами, прочитал капитан.
Впрочем, личные дела стукачей кум знал и без прочтения, тем более что читать, даже служебные документы, он не любил.
Однако чисто милицейский педантизм взял верх, и он, превозмогая позывы к рвоте, придвинул к себе вторую папочку.
— Сергей Арнольдович Малинин, кличка Малина, 1962 года рождения, русский, уроженец города Москвы, 2 судимости, последняя — за мошенничество, осужден на 5 лет.
Конечно же, кум прекрасно знал Уголовный Кодекс Российской Федерации и даже в таком тяжелом состоянии перевел номер статьи в то, что она означала.
Само собой, убийство на зоне — очень неприятно, но если разобраться, можно списать на что угодно: несчастный случай на производстве, сердечно-сосудистая недостаточность и даже ОРЗ (на больничке врач — свой человек, да и с хозяином ссориться себе дороже).
Неожиданно невольно вспомнилась вчерашняя сцена: жена прапорщика Красноталь, учительница русской литературы Света, спелая блондинка рубенсовского типа — пышная, сдобная, с огромными ляжками, с коровьими карими глазами и неестественно длинными ресницами, демонстрировала такие чудеса акробатики, в сравнении с которыми меркнули даже звезды цирка на Цветном бульваре, и от этого воспоминания капитану полегчало на душе и в желудке. "Может быть, спасти? — промелькнула нечаянная мысль. — Может быть, пожалеть?.."
А спасти ссучившихся кум действительно мог — не на всю жизнь, конечно же, а на какое-то время: отправить в БУР — барак усиленного режима, или на дальняк, то есть перевести на дальнюю зону…
И тут тугим комом блевотины к горлу подкатило еще одно воспоминание: когда он, Андрей, пытался овладеть учительницей анально, в дверь постучал ее муж, прапорщик. Пришлось быстро натянуть штаны и сделать вид, что пришел выяснить кое-что по службе.
— А ну их в задницу, — обреченно махнул рукой кум, — блатные сами разберутся… Похмелиться бы сейчас.
Капитан нажал кнопку селектора внутренней связи — спустя несколько минут из динамика послышался охрипший голос его вчерашнего собутыльника Вити Радченко:
— Че?
— Че делаешь? — срывающимся голосом спросил кум.
Начальник отряда не ответил — ясное дело, чего — похмелиться надо.
— А ты? — все-таки Радченко сумел отреагировать на вопрос.
— Страдаю, — искренне признался Киселев.
— Похмелить? — сжалился друг.
При этом волшебном слове кум преобразился — язык отлип от нёба и слюна закипела в уголках губ.
— Че?
— Спиртяра!..
— Дык давай… тащи — быстро. Понял г!
— Гы… Сам иди. Мне теперь тяжело — издевательски откликнулась мембрана.
…Через пять минут кум сидел в кабинете Вити, жадно глядя, как тот булькает из фляги в стакан чистую, как слеза ангела, жидкость.
О Чалом и Малине, о предстоящей правилке он, естественно, уже забыл…
С давних времен — если не Соловецких островов, то наверняка Беломор-канала — блатные спят на нижних шконках. Почему именно на нижних — известно: когда из кишечника выделяются газы, зловоние, по всем законам физики, поднимается наверх и зависает под потолком.
Иннокентий Астафьев, он же Чалый, до недавнего времени — авторитетный блатной, спал на нижней шконке, а Малина, бывший тут, на строгаче, шестеркой, — как раз над ним.
Чалый и Малина никогда не дружили: положение не позволяло. В крапленой колоде этого ИТУ Кеша занимал место где-то между козырной девяткой и десяткой, а Малина как был некозырной шестеркой, так и оставался.
Еще бы! У Чалого пять судимостей, притом последняя — за грабеж, о чем свидетельствовала одна из многочисленных татуировок: распятие с аббревиатурой БОГ. К религии это не имеет никакого отношения, потому как БОГ обычно расшифровывается так: "был осужден за грабеж".
Малина, хотя и чалился тут по статье хорошей, крепкой — «фармазонство», то есть мошенничество, на серьезного человека не тянул: ну какой мошенник из начинающего ломщика валюты под одним из центральных магазинов Москвы! К тому же москвичей на зонах (и не только там) справедливо не любят, а Малинин был коренным москвичом…
И надо же было такому случиться, что и Чалый, и Малина прокололись на одном и том же — стукачестве.
Чалого вынудили ссучиться во время предыдущей отсидки: на крытке менты, приковав блатного цацками, то есть наручниками, к решке, то есть к решетке, ласково пообещали опустить, то есть сделать из него пассивного гомосексуалиста, и Чалый не выдержал.
Малина, человек со слабой, неуравновешенной психикой, дитя столичных бульваров, сломался после первой же прессовки в оперчасти — тоже при первой отсидке.
Однако нет ничего тайного, что бы не стало явным: менты тоже стучат блатным…
Так оно и случилось.
С недавних пор люди из окружения пахана Астры стали что-то очень ласковы с Астафьевым и Малининым, и это навело сук на нехорошие подозрения…
На зоне, хоть бы и на строгаче (которая в отличие от общака считается зоной более правильной), ласковость означает одно: скрытая ненависть. Чалый, проведший за колючкой большую часть жизни, прекрасно ориентировался в понятиях и потому осознавал — неспроста это все, неспроста…
Малина, засунув руку под подушку, что-то искал — руки его дрожали, и это не укрылось от взгляда опытного Астафьева.
— Чего кипешуешь? — спросил тот, не глядя на шестерку.
— Да так… — Малинин поджал бескровные тонкие губы, — плохо мне что-то…
Чалый понимал: Малина кипешует неспроста.
А вдруг у него такие же проблемы?
А вдруг и этот гаденький москвичок тоже сука?
А вдруг…
Размышления Астафьева прервал Матерый — «торпеда» из окружения пахана.
— Чалый, — стараясь вложить в свои интонации как можно больше доброжелательности, произнес он, — перетереть надобно…
Зэк невольно вздрогнул и боковым зрением заметил, как вздрогнул и Малина, хотя реплика человека из окружения пахана не имела к нему никакого отношения.
— А чего?
— Да дело есть, — щурясь, ответил Матерый.
— А что?
— Да тут, понимаешь… Пахан хотел с тобой переговорить. Давай перед отбоем соберемся.
— А о чем?
— А мне о том неведомо, — все так же любезно улыбаясь, сообщил Матерый, — мне пахан так сказал — найди друга любезного, дорогого Чалого и передай мою волю. Да, Малина, — теперь в голосе «торпеды» сквозило пренебрежение, — ты тоже подойди.
После этих слов Малинин стал бледнее мела.
— Что… пахан?
— Пахан, пахан, — успокоил его Матерый.
— А… Что?..
— Да то, Малина, все то же… Так, значит, вы вдвоем после отбоя в каптерку зайдите, есть к вам один деликатный базар, — уже уходя, произнес «торпеда». — Ну, так мы ждем вас. За час до отбоя, не опаздывайте, потому как пахан этого не любит. Привет всем.
Слова Матерого подтвердили самые худшие подозрения Иннокентия: во-первых, что он, уважаемый блатной Чалый, раскрыт и что жить ему осталось не больше четырех часов — после правилки получит он острую заточку в печень. Ну а во-вторых, что Малина (а Чалый догадывался об этом давно) тоже ссученный…
Москвич, прислонившись спиной к стене, стоял несколько минут, осмысливая услышанное: даже до него, тупого, теперь дошло, о чем именно хочет беседовать с ним пахан Астра. Дошло, естественно, и то, зачем смотрящий зоны вызывает и Чалого…
Некоторое время они молчали.
Первым, как ни странно, нарушил молчание Малинин:
— Так ты…
Чалый недобро зыркнул на него и ничего не сказал.
— …тоже.
Да, Малина «потек», и это было уже совершенно очевидно…
Странно, но в этот самый момент, столь критический, сознание грабителя работало четко, и работало только на одно: что делать?
Бежать к куму, в оперчасть?
Бесполезно. Ну, замочат его, Кешу, а Киселев спишет нечаянную смерть на издержки производственного травматизма.
К хозяину идти?
Да какое там — полковнику Герасимову осталось до пенсии полгода, это знает вся зона, от Астры и до последних акробатов (педерастов), и он, хозяин, больше всего озабочен, как бы дослужить спокойно.
Остается только один вариант: побег. Но бежать одному по зимней тайге во время холода и бескормицы очень тяжело, и потому Чалый, взвесив все «за» и «против», решился.
— Так ты сука? — глядя исподлобья, спросил он у Малины. — Ну? Признавайся?
Тот мелко задрожал.
— Ну… Я не хотел, я не виноват… — Помолчав, он неожиданно спросил: — А ты, Чалый?.. Как же тебя Астра вызывает?
— Не твоего ума дело, — огрызнулся блатной. — Ну, как жить дальше собираешься?
Малина молчал — долго, напряженно. Чалый выжидал, однако ответа не последовало.
И тогда Астафьев решил перейти к главному:
— Бежать надо.
— Отсюда?
— Люди из Бутырки бежали и — ничего.
— Да тут же… тайга кругом, зима, холодно, с голоду подохну… Если бы весна или лето, "зеленый прокурор"… Да с товарищем. А так — один.
Нехорошая улыбка зазмеилась на лице Иннокентия.
— А кто тебе сказал, что ты один пойдешь?
В лице Малины мелькнула надежда.
— И ты?
— Я помогу тебе, — любезно произнес Астафьев. — Я ведь местный, тайгу хорошо знаю. Все равно ты на зоне не жилец… С сегодняшнего вечера.
Москвич хотел было что-то возразить, но, встретившись со стальным взглядом собеседника, решил промолчать.
"А он ничего… Фраер, конечно, но упитанный. И не очень старый", — подумал Иннокентий, цепким взглядом оценивая фигуру москвича.
До правилки оставалось три часа — за это время неожиданно скорешившимся Чалому и Малине предстояло составить план побега.
Они стояли на ступеньках жилого барака — и блатные, и мужики, и черти, и даже акробаты, казалось, уже знают о том, какая участь им уготована: такие косые и выразительные взгляды ощущали на себе ссученные.
Чалый, с окурком в зубах, отвел Малину в сторону и произнес:
— Так, на хоздворе — грузовик.
— Так ведь вертухаи ошиваются. — Москвич имел в виду охранников.
— И что? Они ведь без автоматов.
Действительно, ментам вход на зону с оружием строго запрещен — это касается всех, кроме хозяина и бдящих на вышке.
— Так…
— Не боись, прорвемся, — покровительственно улыбнулся Иннокентий и принялся излагать свой план: — Так, водила всегда пьян; сейчас вечер, значит, уже в стельку.
— И что?
— Ну и то. Горячо в очке? Водилу я беру на себя. Захватываем грузовик, тараним ворота. А там — непогода, пурга начнется, — мечтательно продолжал блатной, — будем катить, сколько бензину хватит.
— Куда?
— Куда подальше.
— А потом? — Казалось, Малинин не верит в перспективу быстрого избавления.
— Что-нибудь придумаем. Во всяком случае, это лучше, чем стоять тут и ждать, пока в тебе сделают одной дыркой больше…
Все получилось именно так, как и планировал Астафьев: водитель, полуграмотный удмурт, действительно был пьян в стельку. Ключи торчали в замке, поблизости никого не было. Ну а авторитет, которым пользовался тут Чалый, позволил и ему, и его товарищу по ссученности проникнуть туда, куда проникать было запрещено категорически.
А дальше все развивалось по элементарному сценарию: удар угольником по голове алкоголика — удмурт, обливаясь кровью, свалился под колесо.
Чалый, вскочив за руль, приоткрыл вторую дверцу — бледный, как январский снег, Малина, трясясь, сел рядом, и мощный трехосный ЗИЛ, взревев мотором, понесся к металлическим воротам. Под левыми колесами что-то неприятно хрустнуло, но беглецы в спешке не обратили на это никакого внимания. Удар бампером — и ворота разлетелись в разные стороны.
ЗИЛ быстро набирал скорость — наверное, немногочисленные еще трезвые менты, оставшиеся на хоздворе, паниковали, но это было уже позади.
Переключившись на последнюю передачу и вжав педаль газа в пол, Иннокентий взглянул в зеркальце заднего вида и довольно ухмыльнулся: черная полоса блоков, очерченная геометрически правильной линией колючки, вышки с вертухаями — все это стремительно уменьшалось в размерах.
— Козлы, — самодовольно процедил Чалый сквозь зубы, — ладно, все будет хорошо…
Бензина хватило только на шестьдесят километров — но этого, по мнению Чалого, оказалось достаточно, чтобы перевести дух. К тому же начиналась пурга, ночная метель мгновенно заметала следы, и ментам только оставалось гадать, в каком же направлении проследовали беглецы. Чалый свернул с магистральной трассы, путая предстоящую погоню.
Несколько судорожных рывков — и ЗИЛ остановился за сопкой.
Чалый утер со лба крупные капельки пота.
— Ну, так, да… Лучше, чем на пике у Матерого сидеть, а?
Малина, казалось, до сих пор не верил в счастливый случай: он мелко трясся, будто бы сидел не в теплой вони кабины, а в каптерке перед страшным взглядом пахана Астры.
— Бензина нет, — наконец проскулил он.
— Э-э, главное, что мы есть! — воодушевился Чалый.
— И теперь че?
Чалый, прищурившись, быстро набросал перед перепуганным напарником план дальнейших действий: менты сейчас не бросятся их искать: во-первых, пьяны, во-вторых, сами испугаются, в-третьих, метель, в-четвертых, ночь. А если и бросятся, если найдутся теперь на зоне трезвые «мусора», то далеко от зоны уходить не будут: страшно!
— В кабине до утра переночуем, — ухмыльнулся Астафьев.
— Так печка не пашет.
— А, херня. Может быть, я тебя в очко трахну? — неожиданно предложил беглец.
В глазах Малинина мелькнул животный страх.
— Чалый, да ты что?..
— Зато согреемся! Ты что? Я ведь серьезно! Давай подставляй фуфло! Тебе за твою ссученность давно пора было целяк поломать! — сказал один сука другому, но тот, другой был закошмарен настолько, что не понял всей пикантности предложения.
— Чалый, я ведь думал… ты друг.
— Да ничего, я пошутил. А согреться — у меня пачка «Беломора» с собой. Перекурим, перекумарим.
Малина опустил руки под сиденье — настолько перепуган он был шуткой подельника. Однако это движение руками неожиданно принесло беглецам избавление от холода: среди разного хлама — ключей, промасленной робы, тряпок и всего прочего — он обнаружил флягу с остатками спирта.
…Всю ночь блатные пили спирт, согреваясь. Алкоголь действовал на них по-разному. Чем больше пил Чалый, тем скабрезнее становились его шутки.
— Ты ведь тилегент, москвич, тебе спиртяру без закуси сложно. Может быть, вафлей закусишь? — предложил он, делая вид, что собирается расстегнуть ширинку.
Чем больше пил Малина, тем больше он отчаивался: ему казалось, еще один глоток — и Чалый исполнит свое пожелание.
Но — удивительная вещь! — такая перспектива уже не казалась Малине страшной; в сравнении с той, которая ожидала его в каптерке у Астры…
Весть о побеге распространилась по зоне мгновенно: разумеется, все были недовольны. Менты — потому что ЧП, Астра — потому что не успел покарать ссученных, а остальные блатные, которые должны были присутствовать на правилке, — тем, что не смогли насладиться зрелищем печени ментовских прихвостней, протыкаемой пикой.
Однако слово вора — это слово вора, и если уж он сказал, что правилка состоится, то она состоится действительно, и Астра сдержал слово.
— Суки, — подтвердил он задушевно и, неожиданно насупившись, продолжил: — То, что они сбежали, еще раз доказывает, что они суки.
Астра, в отличие от подавляющего большинства блатных этого ИТУ, не гнул пальцы веером и даже старался поменьше "ботать по фене": это был вор-интеллигент, читавший не только бульварные газеты, но и серьезные книги — Ницше, Кафку, Шопенгауэра, Канта; а в тумбочке Астры всегда лежал последний номер журнала "Вопросы философии".
Однако блатные не только его понимали, но и очень даже уважали за основательность знаний и философский подход к жизни.
Матерый, тяжело дыша, дождался, пока пахан закончит толковище, и поинтересовался:
— Так че?
— Ну, они сами себя приговорили. Никто не сделает человеку так плохо, как он может сделать себе сам, — вздохнул интеллигентный вор.
— Так че? — дебильно переспросил "торпеда".
— А ты сам что скажешь? — поднял брови вор.
Матерый молчал, осознавая происшедшее, настолько он был поражен.
Видимо, чересчур интеллигентный язык не доходил до Матерого, и Астра перешел на более доступный, а потому понятный язык:
— Бля, из тебя «торпеда» как сам знаешь из чего. Встанет и молчит.
— Ну, так бы и сказал, — ощерился Матерый. — Бля, надо малявы везде разослать…
Вор улыбнулся:
— Уже ближе.
— Чтобы любой уважающий себя блатной… бля буду, на пику бы их… — Казалось, еще мгновение — и «торпеда» изойдет от ненависти к сукам слюной.
— Ну, подумай… Ладно. — Пахан махнул рукой, давая понять, что не хочет больше слышать о суках. — Я сказал, все слышали. А теперь о другом…
Несмотря на обилие выпитого, беглецы к утру основательно замерзли.
Чалый, открыв смеженные веки, долго и тупо смотрел через дырочку в заиндевевшем стекле на окружавший его заснеженный пейзаж, не понимая, как он тут очутился. И, лишь бросив взгляд на сопящего Малину, вспомнил…
Как ни странно, но спать больше не хотелось, тем более что надо было уходить дальше, а метель утихла.
Чалый приоткрыл дверку — в кабину, полную алкогольного перегара, ворвался крепкий морозный воздух.
Дверка открылась с трудом; за ночь снегом замело даже колеса.
Малина, разбуженный ледяным ветром, протер красные глаза, наконец-то очнулся и вопросительно посмотрел на подельника:
— Нас что — ищут?
— А с чего ты взял?
— Так должны же… — Москвич посмотрел на часы, тикавшие на щитке.
— А ты, бля, пацан ничего. Догадлив, — бросил Чалый, до половины высунулся из кабины и, как показалось москвичу, принялся нюхать воздух, посматривая на верхушки лиственниц.
Затем наклонился, зачерпнул горсть снега, поднес его ко рту и тоже понюхал.
Малина смотрел на него широко открытыми глазами.
— Что делаешь?
— Смотрю — никто нашу тачку за ночь не обвафлил, — не глядя на подельника, бросил тот. — А то тут деды морозы разные шляются, онанисты хреновы. Ладно, — лицо его стало серьезным, — погода будет хорошая, пурги уже не будет. Надо сматываться…
Так уж получилось, что от брошенного ЗИЛа до ближайшего поселка было рукой подать: километров десять. Беглецы шли, утопая по колено в снегу, и Чалый все время бормотал:
— Знал бы раньше, что уйдем, лыжи бы приготовил.
Москвичу, естественно, было тяжело втройне, он все время отставал, падал, спотыкался, и если бы не боязнь противоестественных желаний напарника, он бы наверняка уснул в снегу: ему все было уже безразлично, кроме разве что боязни за свой "фуфлыжный целяк".
— Давай, Малина, давай, скоро будем. Помнишь, год назад один чертила откинулся — Дюней звали?
— Ну… был. И что?
— Тут поселок должен быть. Февральск. Сейчас придумаем что-нибудь. Согреемся. Дюня хоть и запомоенный, но выбирать не из чего. Поможет, никуда не денется.
И действительно, спустя несколько часов на горизонте появились редкие дымки — вскоре беглецы подошли к поселку. Вагончик на краю поселка был нежилым — видимо, жильцы покинули его недавно, потому как в нем даже были стекла.
Чалый и Малина зашли внутрь и, перешагивая через кучки окаменевших от мороза фекалий, устроились на свалке грязного тряпья в углу.
Удивительно, тут даже сохранилась печка-буржуйка — ее просто не успели украсть.
Вскоре в металлическом чреве заплясали веселые огоньки, и разнеженный Чалый принялся мечтать:
— Анаши бы… Водки бы… Бабу бы…
— Пожрать бы… — поддакнул Малина.
— Если я бабу не найду, тебя во все дыры отдеру, — напомнил Астафьев задушевным голосом.
— Я… я… — Казалось, лицо Малины перекосила судорога.
— Да ты не боись, я просто так говорю.
— Тут поселок, — голос подельника звучал подобострастно и приторно, — наверняка кого-нибудь найдем.
— Чертилу этого, Дюню, я трахать не собираюсь, — брезгливо поморщился Иннокентий.
— А кого хочешь? — испуганно улыбнулся Малинин и опасливо почесал задницу.
— Бабу, — последовал ответ.
— Какую?
— С дыркой между ног! И чтобы волосы вокруг! Иди ищи!
— А анаши? Выпить? Закусить?
— Укради! — неожиданно заорал Чалый. — Не можешь украсть — заработай! Иди и не возвращайся просто так… Очко на британский флаг порву — ясно?!
Глава вторая
Чем больше ментовский начальник, тем больше у него стол. Во-первых — символ власти, как корона, трон или скипетр у абсолютного монарха, а во-вторых — просто очень удобно: так, на столике кума Андрея Киселева помещаются только несколько бутылок разведенного спирта и две-три тарелки закуски, а на столе самого главного начальника, хозяина зоны Алексея Герасимова, кроме официального вида телефонов, селектора, перекидного календаря и прочей обязательной атрибутики, возвышающей его в глазах всех, — целая батарея, да не плебейского спирта, а коньяка и настоящей магазинной водки.
А чего — он ведь самый главный, что хочет, то и делает. Захочет — закажет мужикам на промзоне стол десять на десять из кедра.
Его право.
Как говорят: закон — тайга, медведь — хозяин.
Именно об этом думал хозяин, глядя на настенный календарь с голой сисястой бабой: до Нового, 1994 года остается десять дней. В прошлом году в такое время этот самый стол ломился от выпивки и закуси: по старой традиции за десять дней начали провожать старый, потом, правда, забыли, какой именно, поссорились, подрались, но на встрече Нового помирились.
Но теперь полковнику Герасимову было не до ностальгических воспоминаний: ЧП на вверенной ему правительством зоне, побег сразу двух уголовников — хуже не придумаешь.
— Бля, опять, — тяжело вздохнул хозяин и помрачнел, потому как за этот год побег был вторым.
Первый случился в мае, в самом начале, — бежали два вконец закошмаренных блатными акробата.
Май — самое время: тепло, вольготно, тайга прокормит…
Правда, акробатов нашли очень быстро, и преследователи, скуки ради, затравили их собаками. Трупы беглецов, разлагаясь, лежали перед проходной целую неделю: в назидание всем остальным.
Бегут обычно в мае — и тепло, и гнуса еще нет.
Но чтобы за несколько дней до новогодних праздников? Такое случается редко.
Полковник печально посмотрел на настенный календарь — ему показалось, что сисястая издевательски подмигнула ему.
— Кошмаришь? — вспылил Герасимов. — Улыбка твоя блядская… Сучка!
Настроение испортилось окончательно и бесповоротно: сисястая висела на стенке для возбуждения стареющей плоти хозяина, которую никто уже не мог возбудить, даже молодая жена-курва.
Тяжело вздохнув, полковник полез в сейф под столом, где хранилось самое дорогое — то, что он ценил и любил больше всего; его седая шевелюра на мгновение исчезла, но спустя каких-то несколько секунд Герасимов вновь возвышался над столом с символами официальной власти: теперь перед ним стояла бутылка "Пшеничной".
Зубами скусил пробку, шумно выплюнул в угол и, зажмурившись от приятного предвкушения, припал к горлышку фиолетовыми губами — волосатый кадык судорожно заходил, и вскоре Герасимов захорошел…
Однако питье — питьем, а дела — делами, и потому, насладившись новизной ощущений, полковник потянулся к селектору внутренней связи, набрал номер начальника режимного отдела майора Васи Коробкина.
— Вася, что делаешь? — спросил хозяин.
— Да вот уже пьем, бля, — послышалось радостно-возбужденное; судя по всему, майор выпил уже больше пол-литра.
— Идиоты, — страдальчески произнес Герасимов. — Ловить, ловить надо!
Вскоре из динамика донесся характерный булькающий звук, и Герасимов проглотил слюну.
— Да холод, у них ничего нет, сами подохнут…
— Да ты че, Вася! — Теперь полковник обратился в слух.
— Да ладно тебе!
— Собак надо, собак, — поучал хозяин.
— Чумка в вольере, собаки недееспособны, — щегольнул режимник Вася ученым словом.
— А Мухтар? — Герасимов вспомнил о самом злобном друге человека.
Да, хозяин знал, о чем говорил, — Мухтар числился лучшей розыскной собакой — именно благодаря его стараниям были найдены и загрызены майские акробаты.
Вася не смог удержаться от вздоха.
— Нет уже Мухтара…
— Что?
— Да вторые сутки, как пропал.
— Как пропал? Куда пропал?
— Наверное, съели…
— Солдаты?
— Да зэки…
— А кто позволил?
— Да разве уследишь?! — произнес режимник, причем по его тону нельзя было определить, за кем — то ли за Мухтаром, то ли за солдатами срочной службы, то ли за зэками. — Да че ты, Леша, не переживай понапрасну, пошли водки выпьем. Старый год надо проводить. Пора уже, нах…
— Так ведь начальник я, — напомнил хозяин и Коробкину, и на всякий случай — себе, пока не напился и не забыл.
— Ну и выпьем по этому поводу. — Режимника трудно было чем-то пробить.
— Так меня же… Ну, ты сам, того, понимаешь. — Полковник сделал натягивающий жест рукой на бедра, будто бы беседовал с режимником не по селектору, а по видеотелефону.
— Ну и что? Позвони в Хабаровск, объясни ситуацию. Они, начальники гребаные, в городе живут, а мы тут, в берлоге. Грамотные стали, сволочи, а нам тут заживо гнить, — вдруг злобно подытожил Вася. — Позвони, наври, что вооружены, что у нас технические неполадки, сигнализация отключилась, что урки перед побегом всех псов отравили, оттрахали, сожрали. Кинологи подтвердят. Все, жду. — Бутылка нетвердо, но конкретно звякнула о край стакана, и связь оборвалась.
Неожиданно для самого себя полковник вспомнил то, что знали все: через полгода ему, заслуженному работнику МВД, на пенсию.
Идиллия! Дача, рассада, черная «Волга», жену можно уволить без выходного пособия… А главное — переехать на Большую землю, куда-нибудь на кормилицу-Украину, где есть дешевое сало и вкусный самогон…
А тут это ЧП: опять проверка прибудет, хорошо еще, если из Хабаровска, а то и вовсе из Москвы, из ГУИН (Главного управления исполнения наказаний), начнет домогаться, придираться, значит, надо вновь взятку давать, а это — «кусок» от будущей сладкой жизни…
Запищал селектор:
— Леша, так мы тебя ждем! У тебя что есть?
Резкий, скрипящий голос режимника вывел хозяина из состояния предпенсионного оцепенения: он посмотрел на початую бутылку «Пшеничной» и тут же разозлился на Васю Коробкина.
"Что лучше — объявить выговор или не дать водовки?" Ни хрена, завтра же накатаю черновик…"
Допив водку прямо из горлышка, полковник механически сунул пустую бутылку в широкий карман галифе и, покачиваясь, пошел к двери…
Малина прибыл через час и, как заметил Чалый по здоровому блеску глаз, с хорошими вестями.
— Ментов видел?
Тот подобострастно улыбнулся:
— Та-а.
— А то ты чего — небось, уже ломанулся в мусарню, стукнул, сука, что двое опасных преступников сбежали с зоны? — В Иннокентии еще бродил ночной спирт. — Я тебе сейчас правилку устрою, и Астра тебе покажется детским лепетом в песочнице. Я тебя на пику садить не буду. Очко чтобы подмыл, ясно?
— Да че ты, Кеша, в натуре, бля буду, я же свой, — униженно залепетал Малина, — я тебе новости хорошие принес.
— Ну?
— Телок нашел — класс! — от удовольствия Малина даже присвистнул.
— Не сезон еще, — немного удивился Чалый. — Рано. Где они пасутся?
— В магазине.
— Ты че? — Видимо, уркаган, сильно завернутый на активной педерастии, слово «телки» понимал слишком буквально.
— Да тут… продмаг. Рядом совсем. Две барухи — закачаешься! Толстые, зады — во, сиськи — во! В натуре, бля буду!
Чалый аж приподнялся:
— Ну!
— Рядом! С километр, — подтвердил шестерка. — И никого нет вокруг: наверное, все еще по вчерашней пьяни отсыпаются.
Взгляд Астафьева приобрел определенную осмысленность, свидетельствующую о здоровой половой ориентации.
— Ну, тогда веди…
Продмаг открылся полчаса назад: невыспавшиеся продавщицы, поминутно зевая, обсуждали подробности вчерашнего вечера и его естественного ночного продолжения, хотя последнее получилось не совсем естественным.
Та, что стояла в промтоварном отделе, злобно щелкала костяшками счетов. Она была еще молодая, но уже стерва: об этом свидетельствовали и тонкие змеиные губы, и хищный нос, и треугольный подбородок, и зеленые глаза, горящие ненасытным огнем.
— А вчера Паша, козел, приходил, литруху моего спиртяры выжрал, я думала, останется, а он свалил спать, — вздохнула Клава.
— Ах, Клава, вот мужики-то пошли! Одной бутылки — мало, одной бабы — много. А ко мне вчера китаеза приходил…
— Ли Хуа, что ли? — Клава назвала известного в регионе торговца дешевыми шмотками из страны победивших рыночных реформ Дэн Сяопина.
— Ли Хуа, а сам ни хуа. — Вторая продавщица от остервенения с шумом вдохнула в себя пронизанный селедкой и пылью воздух, выдохнув его лишь со смачным зеленоватым плевком — тот со снайперской точностью опустился на окаменевшую буханку хлеба.
Глаза Клавы блеснули надеждой.
— А что? — Костяшки счетов плавно вернулись в исходное положение. — Зина, у него что — такой же маленький, как и он сам?
— Да если бы. — При упоминании об импортном мужчине Зина брезгливо поморщилась.
Клава напряглась, как змея перед прыжком: костяшки счетов со скрипом завизжали под ее толстыми сосисочными пальцами.
— Что?
— Да пидар он голимый, в натуре, — вздохнула обманутая.
— А я тебе давно говорила, — клавиши деревянного компьютера продолжали набирать скорость, — он ко мне как-то приставал, — соврала она на всякий случай, — и знаешь, что сказал? Что очень любит классическую музыку. Моцар-да ему подавай, арии Жопенов да Бетхуевенов! — вспомнила она. — Классику-то кто обычно любит? Только голубые…
Неизвестно, чем завершилась бы эта нехитрая интеллектуальная беседа, если бы двери не раскрылись от удара, очевидно, ногой, и тут в магазин с клубами морозного пара ворвались двое, одетые по обычной дальневосточной зэковской моде: клифты, штаны, кирзачи-"прохоря" (то есть специальные рабочие говнодавы) и бесформенные шапочки.
В полумраке магазина, в клубах пара они почти не отличались друг от друга — наверное, различие было только в табличках-фамилиях на груди…
— Эй, телки, — пробасил один, кряжистый звероподобный мужик с табличкой "Астафьев И.М.". — Че в вашем хлеву выпить есть?
И у Зины, и у Клавы от этого баса в пятки ушло все: не только сердце, но и другие органы.
"Ну, вот это настоящий мужик, — сладострастно подумала Зина. — Если сучка Клавка отобьет — отравлю. Бля буду!.."
Продавщица потянулась к счетам — то ли для каких-то загадочных арифметических вычислений, то ли для того, чтобы запустить ими в голову подруги.
"Ну, это точно не голубые, и хуа есть, и все остальное". — Груди четвертого размера равномерно вздымались из-под грязно-серого халата.
— Че молчите, лярвы грязные, как хрена в рот набрались! — пискляво произнес второй, с табличкой "Малинин С.А." на клифте, явно храбрясь.
"Ничего, мелкий, но тоже пойдет под водочку, живым ему отсюда ни за что не выбраться, — решила Клава и резким, но твердым движением бросила влево пять костяшек, потом, подумав, еще две. — Может быть, с курвой Зинкой по-дружески договориться?.."
Но Зинка уже выходила из-за прилавка; в руках у нее была табличка: "В магазине — прием товара"…
"Какого еще товара? — совершенно ошалев от увиденного, подумал Чалый. — Что — нас сдавать идет?.."
После этого он, пробежав глазами по полке со спиртным, потянулся в сапог-говнодав за спрятанной заточкой…
Наверное, только продавщицы периферийных дальневосточных продмагов могут дать мужчинам, доведенным за время «командировки» до состояния моряков-подводников в автономном кругосветном плавании, все или почти все, так что заточка не потребовалась.
Началось с любовной прелюдии: Клавка, поправляя то и дело сползавший лифчик, выставила на стол две бутылки "Русской".
Зинка, как истинная дальневосточная стерва, оказалась куда хитрей: пока ее подруга хозяйничала по столу (прилавку), та, достав огрызок кроваво-красной губной помады и надтреснутое карманное зеркальце, принялась торопливо, но тщательно наводить марафет: она твердо решила овладеть кряжистым мужиком — "Астафьевым И.М.", нимало не интересуясь его намерениями на этот счет.
— Мальчики, мальчики, а чем вы закусывать будете? — лебезила Клавка, прикидывая, чем бы угостить так кстати подваливших мужчинок.
Чалый вошел в роль:
— Всем. И вами тоже.
Глухой предоргазмический вздох вырвался из грудей подруг почти одновременно.
Зинка, вовремя вспомнив, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, вновь выиграла очко: придвинув громоздкую табуретку к полке с продтоварами, она принялась с шумом выставлять на прилавок все: сельдь, тушенку, кильку в томате, колбасу и припасенную специально для местного начальника милиции майора Игнатова баночку гусиной печени.
— Мальчики, мальчики, не стесняйтесь, вы, наверное, очень-очень голодные, — дрожащим от возбуждения голосом проблеяла Зинка униженно. — Да кушайте, гости дорогие, все, что хотите…
Клавка метнула в соперницу взгляд, полный змеиной ненависти.
— Я музыку сейчас поставлю… — И действительно, на прилавок встал добитый японский магнитофон, обмененный по дешевке у китайского фарцовщика. — Что хотите послушать? — Продавщица, по незнанке, назвала несколько громких фамилий эстрадных певцов, несомненно принадлежащих к голубому братству.
— Вивальди — есть? — Уже выпивший москвич Малина, выгибая грудь, решил продемонстрировать глубину музыкального воспитания.
После этого все внимание, естественно, переключилось на Астафьева; обе продавщицы, как по команде, метнули в любителя классики полные презрения взгляды.
— А пососи сама ты, — решил не отстать от подельника в интеллекте поддавший Чалый, имея в виду бетховенскую «Аппассионату»; продавщицы аж затаили дыхание.
Дальнейшие события развивались так, как и рассчитывали работницы прилавка: сперва дорогие гости выпили и закусили, притом обе продавщицы то и дело пододвигали к ним селедку и тушенку, подливали водку в граненые стаканы.
Затем прилично захмелевший Астафьев поманил пальцем обеих и выдохнул с икотой:
— Ты!
И Клавка, и Зинка приняли приглашение на свой счет: обе сделали несколько неуверенных шагов по направлению к дорогому гостю.
— Я? — в один голос переспросили похотливые продавщицы.
— Ты, ты… — подтвердил Чалый, продолжая манить обеих корявым татуированным пальцем, другой рукой с достоинством расстегивая ширинку грязных ватных штанов. Женщины приблизились к беглому уголовнику, на ходу срывая с себя дрожащими руками и грязные халаты, и то немногочисленное, что было под ними.
Спустя какую-то минуту пыльный полутемный зальчик продмага представлял собой сцену из крутого кинематографического «порника»: Зина, опередив подругу, дрожащими от нетерпения губами припала к бедрам кряжистого гостя; Клавка же, пораженная таким бесстыдным вероломством, довольствовалась лишь тем, что целовала его взасос, сдавив шею мощными лапами.
Малинин был обижен таким невниманием, такой фригидностью — к себе, конечно. Он угрюмо стоял у прилавка, измазанного селедочными кишками, и цедил водку.
Наконец Клавка, поняв, что подруга — надолго, обратила внимание на второго гостя.
— Ты! — Толстый палец, описав дугу, уперся в клифт беглеца.
Тот отпрянул:
— Что?
— Иди, иди сюда… Думаешь, мы тебя просто так кормили-поили? Думаешь, если, тилегент херов, пидаром прикинулся, так я на тебя управы не найду?! А ну, кому сказала!
Москвич затравленно и дико посмотрел на огромную, заплывшую жиром тушу продавщицы, загородившую собой весь проход. Пути к бегству не было, и свет померк в глазах Малины.
Хотя Чалый и был на полпути к кончине, происходящее не могло укрыться от его внимания.
— Ты че — бабу никогда не имел? — спросил он, не глядя на подельника.
— Да я… — Взгляд Клавки был гипнотичен, как у удава, смотрящего на кролика, и бедный Малинин не мог ответить внятно.
— Ты че — совсем?
Язык москвича одеревенел.
— Да я… того…
— Так че — бабы никогда не щупал? — все тем же тоном переспросил Иннокентий. — Онанизмом ты успеешь в СИЗО, на хате назаниматься, когда тебя менты накроют! Да ты… Оу-у-у-у! Ау-у-у-у! — Иннокентий кончил, а потому Малина так и не узнал, что же имел в виду его товарищ.
Удирать было некуда: Клавка, поигрывая в руках тяжелыми счетами, многозначительно смотрела на Малину — руки того дрожали.
— Ты, Малинин Эс. А., — рявкнула продавщица, глядя на зоновскую табличку, нашитую на клифт.
— Что мне делать? — затравленно и одновременно подобострастно спросил тот, не мигая глядя на ужасные счеты.
— Штаны снимай — быстро! — последовал жестокий приказ…
Чалый, устало откинувшись на спинку стула, с улыбкой наблюдал, как продавщицы издеваются над подельником: Клавка, резким движением опрокинув несчастного на спину, сидела на нем в позе наездницы. Зинка, совершенно нагая, бегала вокруг них, то и дело поглядывая на часы, и щипала подругу за мучные ягодицы.
— Клавка, сучка, — заплетающимся языком повторяла она, — сколько можно, ты уж целых полчаса на этом Малинине Эс. А. ерзаешь! Дай же и мне немножко, стерва!
Из глубины широкой груди стервы вырвалось нечленораздельное:
— Щас, щас… Еще один разок кончу!
Чалому, как ни странно, не чуждо было чувство сострадания к ближнему, даже к такому чмошнику, как этот гадкий москвичонок.
— Малина, помочь?
Из-под грузного тела послышалось сдавленное:
— Ы-ы-ы-ы… угу-у-у-у… омоги-и-и-и…
Зинка поняла это по-своему: оставив ягодицы подруги в покое, она подбежала к Иннокентию:
— Астафьев И.Эм., родненький, ну еще чуть-чуть, ну хоть часик! А я тебе еще водочки налью, а?
Чалый, вяло теребя татуированными пальцами свое обвисшее татуированное хозяйство, на редкость равнодушно спросил:
— А поднимешь?
— Ага, ага… — утвердительно кивнула продавщица и как подкошенная упала перед ним на колени — ну точно якут-язычник перед страшным шаманом. — Да я тебе все, что хочешь подыму, ты только не уходи!..
Однако договорить она не успела: тяжелые дубовые счеты опустились на распущенные волосы блудницы, и она, ойкнув, упала под прилавок.
Клавка в это время получала очередную порцию оргазма, и потому мгновенная смерть подруги-стервозы прошла незамеченной.
— Ой, ну что же ты так… (Видимо, Малина больше не мог справляться с тяжелой мужской работой.) Ну еще хотя бы одну палочку… Ну?
И тут Астафьев повел себя как истинный товарищ: не прошло и минуты, как рядом с окровавленной Зинкой лежал еще один труп.
Малина, с трудом переведя дыхание, поднялся.
— Фу-у-у-у… — Даже происшедшее только что двойное убийство не могло удержать его от искреннего вздоха облегчения.
А Чалый, быстро натянув штаны и застегнувшись, уже шел по направлению к кассе: в руках блатного невесть каким образом очутился тяжелый короткий ломик типа фомки…
Несколько тупых ударов, неприятный скрежет металла — и выдвижной ящик, подобно челюсти какого-то диковинного животного, плавно выехал вперед. Чалый быстро выгреб замасленные купюры, распихал их по карманам и кивнул оторопевшему от такого поворота событий подельнику:
— Че стоишь? Не знаешь, че? Бля, у тебя мозгов как у канарейки на хрен намазано! Водку, тушенку, хлеб, папиросы бери — живо!
Через пять минут беглецы, опасливо озираясь в сторону дверей продмага, на дверях которого по-прежнему болталась табличка "Прием товара", трусили в сторону от Февральска…
Глава третья
Огромная черная ворона, сидевшая на заснеженной лиственнице, повела головой, щелкнула клювом — казалось, она к чему-то прислушивается.
Тишину утренней тайги, со всех сторон окружающей небольшую, но основательно построенную избушку-зимовье, нарушил легонький скрип двери — пугливая ворона, резко взмахнув крыльями, тут же сорвалась с ветки, и вниз, в сугробы, рядом с зимовьем, посыпался мягкий, пушистый снег: наверное, такой снег бывает только тут, на Дальнем Востоке.
Застучал по стволу красногрудый красавец дятел — удары резко и гулко отразились от ближней голой сопки. Где-то совсем рядом завозились снегири, где-то чуть подальше послышался негромкий шорох — наверное, это был какой-то зверек, хорек или куница.
Волшебное, ни с чем не сравнимое таежное утро вступало в свои права…
Из избушки-зимовья вышел высокий, плечистый мужчина: несмотря на то, что эта избушка находилась в пятнадцати километрах от Февральска, ее обитатель выглядел куда лучше, чем председатель поселкового Совета, начальник милиции и начальник военторга (самые значительные люди поселка), вместе взятые.
Свежевыбритый, с мощным, волевым подбородком, с прямым, холодным взглядом стальных глаз, с морщинками, идущими от глаз к вискам, с аккуратно подстриженными усами и модной прической "под морскую пехоту", он чем-то неуловимо напоминал положительных героев старых американских вестернов. Серый свитер грубой ручной вязки, высокие меховые унты из волка, армейские полушерстяные брюки, широкий ремень с патронташем и массивным кинжалом в черных кожаных ножнах — все это свидетельствовало о том, что этот мужчина — профессиональный охотник.
Он потянулся, широко разведя в стороны мускулистыми руками, так, что кости хрустнули, посмотрел на восходящее белесое солнце и неожиданно доверчиво, мирно, почти по-детски улыбнулся.
Затем, быстро скинув с себя свитер и бывшую под ним рубаху, принялся обтираться снегом — мужчина от удовольствия только блаженно щурился, покрякивая, и упругие бугры бицепсов и трицепсов атлета ходили под смуглой кожей… Наверное, если бы сейчас, во время этой нехитрой, но обязательной по утрам гигиенической процедуры, рядом стояли или китаец Ли Хуа, достойный представитель местных сексуальных и национальных меньшинств, или любая порочная продавщица из поселкового продмага, они бы наверняка упали в обморок…
Впрочем, обитатель далекого заснеженного зимовья не имел никакого отношения ни к недостойному китайцу, ни к еще более недостойным продавщицам: было ему от роду тридцать три года, звали его Михаил Иванович Каратаев, и был он настоящим таежным охотником — профессия, ныне на Дальнем Востоке почти вырождающаяся.
Так уж случилось, что судьба немало побросала его по жизни…
Местный уроженец, поняв, что тут, в Февральске, делать нечего (ну не водку же пить!), он после десяти классов сразу же уехал на Большую землю и неожиданно для учителей и школьных товарищей поступил в славное Рязанское высшее командное училище десантных войск. Закончив учебу с красным дипломом, первым в выпускном списке, молодой лейтенант через полгода службы был направлен в Новосибирск, в школу спецназа КГБ.
Ну, а потом…
Потом было. многое, горы и равнины, моря и океаны, страны и континенты: Афганистан (самое его пекло — Кандагар), Никарагуа, Мозамбик, Ангола, Эфиопия, Нигерия, Сирия…
Да, Михаилу Каратаеву много где пришлось побывать на своем веку, многое перевидеть и многое познать: смерть друзей, предательство близких, ранения, контузии, болезни, маленькие радости и большие печали…
В девяностом году образцово-показательный капитан элитного спецназа «Альфа», кавалер ордена Красного Знамени Михаил Иванович Каратаев был переведен в Москву. В задачу его подразделения входила прежде всего борьба с набиравшим силу терроризмом, так думал и сам Каратаев, однако судьба распорядилась иначе…
Во время августовского путча 1991 года подразделение Михаила стояло в самой Москве — готовность номер один свидетельствовала о серьезности событий, развивавшихся столь стремительно, что вечерние приказы порой кардинально противоречили утренним. Вскоре стало известно: «Альфа», скорее всего, будет использована для разгона обезоруженных демонстрантов. Почти весь личный состав взбунтовался, и больше других — капитан Каратаев. Однако высокое начальство, выжидавшее, кто же победит, не определилось, медлило с выбором.
Демократы, как известно, победили, чего, впрочем, нельзя было сказать о демократии. Строптивца, забывшего главную воинскую заповедь — беспрекословное подчинение приказу свыше, — начальство взяло на заметку, и, когда через полгода с излишне принципиальным офицером случилось ЧП, никто из высоких чинов палец о палец не ударил, чтобы выручить провинившегося.
Хотя провинившимся его если и можно было назвать, то только с большой натяжкой.
А дело было так. Однажды поздно вечером, идя по Москве, по одному далекому микрорайону, именуемому спальным, спецназовец стал свидетелем сцены столь же дикой, сколь и безнравственной: двое хорошо подвыпивших ментов пытались затащить в служебную машину малолетку, почти девочку; выражения глаз и физиономии блюстителей правопорядка не оставляли сомнения в безнравственности их намерений. На вежливую просьбу Михаила отпустить школьницу менты лишь гадко заржали и пообещали посадить заступника на пятнадцать суток.
Каратаев отлично владел приемами каратэ, кунг-фу, самбо, айкидо, дзюдо и рукопашного боя, и потому исход дальнейшей беседы сомнения не вызывал. Однако ему немного не повезло: окровавленный сержант с переломанными ногами сумел-таки доползти до машины, где была рация, и вызвал подкрепление из РОВД.
Доказать что-либо не удалось, и капитана выгнали со службы; Михаилу оставалось утешаться лишь тем, что девочка осталась нетронутой.
Так Каратаев оказался в Москве один — без денег, без жилья и без каких-либо дальнейших перспектив.
Конечно же, такого человека с радостью взяли бы и в охрану какого-нибудь крутого нового русского, и в бригаду их идейных оппонентов — каких-нибудь солнцевских, люберецких, коптевских, долгопрудненских, таганских, мазуткинских или прочих бандитов: при своих замечательных физических статях, при своем живом уме Каратаев бы наверняка выбился в авторитеты.
Но не таким человеком был этот уроженец дальневосточного Февральска: новых русских, всех этих нуворишей в красных пиджаках с золотыми пуговицами и пищащими сотовыми телефонами в карманах, он откровенно презирал, а к бандитам всех мастей и формаций испытывал приблизительно такие же чувства, какие испытывал душман "непримиримой оппозиции" при виде обкурившегося анашой советского солдата, мочащегося в мечети.
И тогда бывший блестящий офицер избрал единственный — как, во всяком случае, ему казалось — верный путь: вернулся в родные края.
Родители к тому времени уже почили в бозе, оставив небольшое наследство: десятилетний «уазик», скромный домик в поселке да зимовье недалеко от него.
Прирожденный, Божьей милостью охотник, скромный и нетребовательный, аскет по натуре, Михаил привык всегда довольствоваться малым: чашка крепкого чая, непритязательная, но сытная еда, пусть не шикарный, но добротный, собственноручно отремонтированный домик. Из всех богатств у Каратаева были лишь дивный пятизарядный винчестер да старенький, давно нуждавшийся в ремонте «уазик»; заняться машиной никак не доходили руки.
Ровный в общении со всеми без исключения — от начальника поселковой милиции майора Игнатова и до бомжа Дюни, от председателя поселкового Совета и до торговки молоком, нехвастливый и приветливый, к тому же непьющий, он быстро завоевал уважение местных, тем более что тут еще многие помнили его родителей.
Жизнь бывшего спецназовца на исторической родине была весьма однообразна, но не казалась ему скучной: таежная охота и быт, занимавшие почти все его существование, заменяли ему многое — многое, но не все.
Тридцать три года — это возраст Христа и Магомета, возраст, когда человек задумывается о половине прожитой жизни, о семейном очаге и о продолжении рода.
Такие мысли все чаще и чаще посещали капитана в отставке, но он, человек по природе скромный и целомудренный, всегда стеснялся подойти к любой девушке первым, не говоря уже о другом.
Хотя тут, в забытом Богом, Сатаной и высоким начальством Февральске, почти все особи женского пола от пятнадцати и старше были бы счастливы, если бы этот импозантный красавец охотник хотя бы удостоил их взглядом; Михаил словно бы не замечал их.
И наверное, была только одна-единственная девушка, появление которой заставляло трепетать этого сильного, мужественного человека…
Медсестра из местного гарнизона Таня Дробязко, девятнадцатилетняя русская красавица, сразу же приглянулась Михаилу, но он ни за что бы не признался в этом никому; наверное, даже самому себе. Так и ходил он, бросая на нее косые взгляды и вздыхая украдкой…
И вот однажды в поселковом клубе, когда в дупель пьяные офицеры позволили себе в ее присутствии ругаться матом и смачно обсуждать гинекологические особенности других медсестер, Каратаев не выдержал и сделал им довольно резкое замечание. То ли офицеры были очень пьяны, то ли действительно не знали, с кем имеют дело, но защитник общественной нравственности и целомудрия был изощренно послан по всем правилам местного гарнизонного фольклора.
Увы, после этого инцидента работы у единственной непорочной медсестры только добавилось, — участники диспута долго ходили на перевязки и процедуры.
Так между Михаилом и Татьяной завязалась дружба — нежная и трогательная…
Однако все чаще и чаще Каратаев (который, конечно же, испытывал к Тане не только дружественные чувства) думал, что дело навсегда ограничится только этим — не более того. Вот уже целый месяц бывший капитан «Альфы» прикидывал, как бы сделать ей предложение; странно, что этот человек, беспримерному мужеству которого завидовали даже недоброжелатели и враги, человек, столь быстро принимавший решения в самые ключевые минуты жизни, медлил в самый, пожалуй, ответственный момент…
— Сегодня точно поговорю с ней серьезно, — дал себе слово бывший спецназовец и тут же поймал себя на мысли, что это обещание он дает себе только за последнюю неделю пятый раз…
Спустя полчаса он уже отдалялся от зимовья, уверенно работая лыжными палками. Снег скрипел под хорошо смазанными лыжами, доставшимися Михаилу еще от отца, известного таежного охотника-промысловика, и уже взошедшее солнце скупо освещало верхушки заснеженных деревьев.
Каратаев был сосредоточен и серьезен, потому как дело, на которое он шел, было важным: надо было проверить поставленные с вечера капканы. Близился Новый год, и Михаил очень хотел добыть соболя, чтобы подарить драгоценный мех своей тайной возлюбленной.
Неожиданно сердце опытного охотника тревожно забилось: на девственно-белом снегу отчетливо отпечатались крупные следы…
Их нельзя было спутать ни с чьими — конечно же, это был тигр и, судя по размеру следа, очень большой.
Остановившись, Михаил осторожно снял с плеча винчестер и прислушался: тихо… Но тишина тут, в тайге, всегда была обманчивой; коварный, кровожадный хищник мог притаиться за любым сугробом.
Положив палки на наст и стараясь не шуметь, охотник осторожно присел на одно колено и принялся внимательно изучать следы.
Каратаев понял: тигр прошел здесь недавно, максимум полчаса назад…
Тот день начальник оперативно-следственной части ИТУ строгого режима капитан Андрей Киселев запомнил на всю оставшуюся жизнь. Он сидел в кабинете, на удивление трезвый, и думал, как проведет остаток дня.
Перспективы были, конечно, заманчивыми, хотя и однообразными.
Во-первых, можно было вновь пойти к развратной жене прапорщика Красноталь — контролер сегодня был на боевом дежурстве, и его жена наверняка скучала без мужского внимания и ласки.
Во-вторых, можно было пойти к дружбану и собутыльнику, начальнику второго отряда капитану Виктору Радченко, чтобы выпить с ним разведенного спирта, тем более что Витек обещал поставить.
В-третьих, можно было совместить и то и другое — приятное с полезным, хотя Киселев так и не смог бы определить, что тут приятное, а что — полезное.
А в-четвертых…
Ну а в-четвертых, у этого гнусного, поганого мента никогда не было иных мыслей, кроме траханья и пьянства, пьянства и траханья.
Как часто говаривал пахан Астра, "бытие определяет сознание" (кстати, и блатные, и менты с уважением относились к вору за такие его мудрые мысли). Что поделать — ассортимент развлечений тут крайне скуден и ограничен, что, впрочем, соответствует интеллекту страждущего водки и зрелищ капитана МВД.
За такими вот нехитрыми, но глобальными рассуждениями и застал кума бригадир того самого отряда, где числился Астра. Вообще заходить в такие кабинеты без вызова — западло, косяк, то есть порочащий честного человека поступок, но уж если зэк пришел сам, без специального на то приглашения…
Киселев, тряхнув головой, чтобы приблизиться к жуткой реальности — а именно таковой ему всегда представлялась горькая ментовская служба, — посмотрел на авторитетного мужика.
— Ы-ы-ы? — Кум был не в духе и потому изъяснялся междометиями — кратко и лаконично.
— Гражданин начальник, с тобой хочет пахан поговорить, — после обязательного «здравствуйте» объяснил бригадир цель визита, теребя в руках шапку.
Капитан поднял левую бровь.
— Сегодня в клубе.
Кум, подняв вторую бровь, с ненавистью смотрел на посланца Астры.
— Не знаю, только он велел мне передать. Начальник оперчасти причмокнул синими от регулярно потребляемого спирта губами, смутно пытаясь представить, для чего же его хочет видеть такой уважаемый, выдающийся человек.
— В шесть вечера.
На кукишеобразной физиономии кума нервно заходили скулы.
— Астра говорит, что явка обязательна. Так и велел передать.
Засунув волосатый палец в нос, кум, обреченно вздохнув, выщипнул из ноздри длинную жесткую волосину с какой-то зеленоватой слизью и вытер его о галифе, а сам волосок положил перед собой, на какой-то старый циркуляр с грифом "секретно".
— Если опоздаешь, гражданин начальник, Астра будет очень недоволен, — напомнил авторитетный мужик. — Так велел сказать. Больше ничего, гражданин начальник. Только вот это…
Волосок из ноздри был длинный — ну точно из тех, что росли на лобке у жены прапорщика Светланы Красноталь, только не спиралеобразный, а очень прямой, как ментовские извилины.
Неожиданно все происходившее показалось непривычно, даже как-то болезненно трезвому капитану фантасмагорией: какой-то непонятный мужик в зэковской телогрейке-клифте, возникший неизвестно из какого пьяного кошмара в его черно-белой ментовской жизни, устоявшийся затхлый запах канцелярщины, перегара и сырых папок с документами, высохшее мумифицированное тельце таракана на захламленном подоконнике, невесть чей волосок на секретном документе и эти странные угрозы: "Астра будет недоволен", — запульсировало в висках…
Как! Ведь он, начальник оперативно-следственной части, тут, на строгаче, по логике — самый жуткий человек.
Наверное, еще хуже хозяина.
Ведь он почти в одиночку должен противостоять всей этой блатной кодле, сплоченной и организованной: всем этим паханам, ворам, жуликам, фармазонам, жукам, гоп-стопникам и прочим блатным; должен принижать авторитет этого татуированного сообщества, разлагая его частично и целиком, и поднимать репутацию бугров, то есть немногочисленных лагерных активистов и вообще всех, кто решил выйти на свободу с чистой совестью; должен манипулировать обещаниями отпустить на условно-досрочное освобождение, обещаниями амнистий и снисхождений, свиданок с родственниками, разрешения-получения посылок из дому…
Его должны бояться, перед ним должны трепетать все без исключения! А тут появляется какой-то идиот и говорит, что пахан, бля, его, великого и ужасного ментяру, просит к себе на свидание.
И тут шифер с крыши кума сорвало страшным ураганом; смертоносный цунами, недавно посетивший японский остров Хоккайдо, был по сравнению с этим всего лишь ласковым прибрежным бризом.
— Да ты, козлина, да я, бля буду, тебе пятую точку наболтаю!.. Ы-ы-ы… — заскрежетал кум редкими прокуренными зубами. — В мелкий порошок!.. В лагерную пыль!.. В очко!.. На крытку!.. В карцер пожизненно!.. Я вам тут устрою! Вам "Белый лебедь" раем покажется! Всех пересажаю и тебя тоже! — крикнул он собственной тени, уродливо дергающейся на облупленной стене.
Авторитетный мужик-бригадир, не впервые столкнувшись с таким ментовским беспределом, отступил, удивленный таким неуважением к воле вора в законе.
— Я к тебе не по своей воле пришел, и ты тоже не по своей пойдешь, — только и сказал он, закрывая за собой дверь.
— Сам пошел! Всех в БУР закатаю! — орал еще пока трезвый «мусор». — Отпетушу! На дальняк!.. Век воли не видать!..
Бригадир вышел, а совершенно обессиленный собственным бешенством кум наконец-то понял, какую роковую ошибку он совершил…
Мысли работали лихорадочно: надо было что-нибудь срочно предпринять.
Киселев поднялся, прошелся по кабинету и с трудом унял тик в щеке. Затем потянулся к селектору и набрал медсанчасть.
— Михалыч, дело есть… Да нет, спирта в долг больше просить не стану, если сам не нальешь… — срывающимся от волнения голосом проговорил капитан. — Что, никаких дел, пока не верну? — Кум почесал в затылке. — А? Почему? Да? Ну хорошо, а водкой возьмешь? Хорошей, «Русской». Да я понимаю, что еврейской не бывает. Хабаровский разлив — когда в отпуск ездил, купил. На Новый год берег, для себя одного. Нет, не бойся, я в собутыльники набиваться не буду, если сам не нальешь. Еще вино есть. Хорошее, настоящее чернило. Забирает не хуже спиртяры. Только один флакон, зато ноль-семь. Что? Согласен? Как — только по номиналу? Ну хорошо, хорошо…
Через полчаса капитан Киселев уже сидел в кабинете начальника медсанчасти: на столе перед Михалычем — хитрым дедком с огромной яйцеобразной головой и болтавшимся на груди неработающим стетоскопом — стоял весь драгоценный НЗ кума: четыре бутылки «Русской» водки и одна — "Портвейна-72".
— А портвейн-то хоть за литр спирта засчитай, — клянчил кум, дико таращясь на местное медицинское светило. — Ну хоть за пол-литра…
— Да ты тогда свою мочу по такому курсу посчитай себе, про сперму я и не говорю — наверное, всю уж разбрызгал в жену Красноталя, — парировал возмущенный такой грабительской арифметикой Михалыч.
Кум поник: он понимал, что пока не отдаст долг, договориться не получится.
— А что хочешь?
Михалыч был старым, опытным и хитрым и потому понял: Киселев пришел неспроста. Наверняка он попал в какую-то серьезную переделку — в карты блатным проигрался, и те его на счетчик поставили, или казенное имущество растранжирил…
Как бы то ни было, но проныра медик смекнул: теперь с Киселева можно будет скачать все, потому как торговаться не будет.
— А вот Света Красноталь…
Кум навострил давно немытые уши и спросил настороженно:
— А-а?
— А как она тебе?
— В каком смысле? — Киселев был настолько занят предстоящим разговором с Астрой, что даже не понял, что имеет в виду хитрый старик.
— Ну, в том самом…
— А-а-а. — Несмотря на серьезность ситуации, на лице Андрея Киселева отразилось понимание. — Ну, влагалище неглубокое, неширокое, типа "мышиный глаз", сиповка, волосы на лобке расчесаны, мандавошек нет, — продолжал сыпать медицинскими, как он во всяком случае считал, терминами капитан.
— Если ты не наградил. Или муж-идиот. А она хоть темпераментная?
— Да по десять раз подо мной кончает! — честно глядя в глаза Михалычу, соврал Киселев — видимо, желая прослыть эдаким Григорием Распутиным.
— Так что, — цинично продолжал зоновский Боткин, — давай по бартеру. Я тебе списываю спирт, что ты мне должен, конечно без учета сегодняшнего, а ты мне подгоняешь ту красючку.
Радостная улыбка заиграла на лице кума.
— Михалыч, спасибо, родной, благодетель. — Начальник оперчасти даже не подумал, что за жену прапорщика можно было бы договориться и без НЗ.
— А теперь говори — зачем пришел?
Кум понизил голос до доверительного шепота и, оглянувшись по сторонам, произнес:
— Мне бы больничный…
— Один день — литр спирта.
— Что-то дорого…
— Такса, — равнодушно пояснило светило, хитро прищурив один глаз. — Я со всех так беру.
— А направление в Хабару? Сколько за это возьмешь, Михалыч?
— В госпиталь?
— Ыгы.
— Обследоваться?
— Ыгы.
— От чего?
— Да от чего угодно!
Михалыч хитро прищурился:
— Импотенция — пойдет?
— Да не издевайся ты… У Красноталихи спросишь, какой из меня импотент.
Старик, взяв со стола тупой ржавый скальпель, которым недавно удалял одному акробату фурункул на ягодице, задумчиво почесал им в волосатом ухе.
— Не переживай, напишу, что с почками проблемы.
Кум сглотнул слюну.
— Сколько?
— Ну, это будет… это будет… Ящик сгущенки, ящик тушенки, желательно китайской, "Великая стена", ну и… — по тому, что кум не испугался, Михалыч уже понял, что список можно продолжить, — и твой японский двухкассетник… со всеми кассетами.
Двухкассетник был гордостью кума и, можно даже сказать, дорогой памятью. Именно под музыку, льющуюся из мощных динамиков этого дивного чуда азиатской техники, Киселев совершил выдающийся подвиг: трахнул жену самого хозяина Герасимова.
Однако делать было нечего…
— Ладно, бери, хрен с тобой, — тяжело вздохнул он, рассчитывая купить в Хабаровске еще лучший.
Как бы то ни было, но желанное направление было получено — через час Киселев, расплатившись с Михалычем и забежав к Красноталь предупредить, что на время отсутствия у него будет заместитель в лице начальника медсанчасти, счастливо теребил волшебный бланк в кармане кителя, трясясь в служебном «газончике» по направлению к железнодорожному полустанку, и размышляя, как замечательно проведет он время в краевой столице…
Глава четвертая
Вор в законе Астра, сидя за столом в тесной, жарко натопленной каптерке, задумчиво уставился на корешок знаменитой работы немецкого философа-идеалиста Артура Шопенгауэра "Мир как воля и представление". Вообще, смотрящий зоны всегда с огромным уважением относился к классической немецкой философской школе девятнадцатого века. Правда, ему по нраву пришлись и опусы Виктора Пелевина. Сейчас он читал "Жизнь насекомых" и даже что-то подчеркивал.
За этим замечательным занятием и застал его «торпеда» Матерый.
— Пахан, бля, да тут такие дела…
— Что за дела? — Карандаш Астры стремительно летал по строчкам.
— Кум в штаны насрал и с зоны свалил. На «кресте» у Михалыча за лярву Красного (это была кличка прапорщика-контролера Красноталя) и еще за ящик китайской тушенки "Великая стена", ящик сгущенки и двухкассетник «Шарп» купил у него направление в Хабару, в госпиталь, и сбежал, бля, — отрапортовал Матерый. — Надолго, если не совсем с концами.
— Кто сказал? — поинтересовался пахан, грызя карандаш.
— Сам Красный и сказал… Мы ему ножички на продажу отдаем, которые мужики на промке делают, а он нам за это — анашу, водку, чай и любую информацию. Ты же знаешь… Ну и че теперь?
Вор поднял голову.
— Ну, сбежал и сбежал… Чего суетишься? Одним ментом больше, одним меньше. А меньше на зоне ментов — чище воздух.
"Торпеда" наморщил лоб, осознавая услышанную фразу насчет связи между уменьшением ментов и чистотой воздуха, — вне сомнения, из-за краткости и емкости она могла претендовать на афоризм.
— Экология называется… Знаешь такую науку? — вздохнул вор.
— Но ведь «мусора», бля, борзеют… А все из-за сук, козлов этих. (Наименование парнокопытного животного на фене также могло означать стукача). Расплодили, бля, паучин…
Утверждение Матерого было истинной правдой: в последнее время тут, на зоне, несмотря на видимый бардак, начинался самый настоящий беспредел. По утрам похмельные менты — как правило, молодые офицеры, злые, как собаки — придирались ко всем без исключения: в ПКТ, в БУР можно было загреметь за плевок на землю, за не снятую перед начальством шапку, просто за косой взгляд…
Кум, начальники отрядов и сам хозяин пили не просыхая, и уставом, гнуловом и прессовкой занимался в основном режимник майор Василий Коробкин; несмотря на последний серьезный разнос за отказ ловить сбежавших Чалого и Малину, полковник Алексей Герасимов не раз представлял его к поощрениям и даже к правительственным наградам, справедливо полагая, что если бы не этот жестокий человек, если бы не его энергия, совершенно одичавшие зэки давно бы уже сожрали всех собак, вертухаев, прапорщицко-офицерский состав вместе с семьями, а также его, хозяина, и разбрелись бы по тайге в радиусе двухсот пятидесяти километров, грабя, убивая и насилуя всех на своем пути.
Менты хотя и гнули, и прессовали зэков со страшной силой, но не могли обойтись без них, потому что имели почти со всего контингента лагеря (и, естественно, родственников зэков, не говоря уже о воровском общаке) материальную выгоду, а потому продавали информацию и товар: именно от них и стало известно о ссученности Чалого и Малины; и даже они, при всей своей очевидной тупости, считали, что все зло на зоне — от сук (которыми, кстати, больше занимался режимник, чем кум, хотя по должности ему вроде бы это и не полагалось).
Логика дальнейшего существования была простой, как стальная заточка, и очевидной, как холодный цементный пол БУРа: надо пробить самых злостных сук, чтобы посадить их на пики; стукачей было куда больше, чем предполагалось, в свое время оперчасть создала для их появления все условия, и суки плодились с безответственностью кроликов. Короче говоря, будь их хотя бы наполовину меньше, блатным бы жилось куда вольготней.
На любой нормальной, правильной зоне, тем более на строгаче, каждый занят исключительно своим, и только своим делом: блатные держат зону, акробаты трахаются и исполняют минет, мужики работают и выполняют план по зачетам "за себя и за того парня", татуированного-татуированного, суки (а куда от них деться!) потихоньку стучат, запомоенные черти за всеми убирают, менты всех охраняют, пахан стоит во главе всей этой несложной пирамиды в качестве противовеса хозяину…
Но когда сук становится больше, нарушается естественное биологическое равновесие и вызревает настоящая экологическая катастрофа, от которой не спасет никакой "Гринпис".
Короче говоря, назревал если и не бунт — тот самый русский бунт, почти по классику, бессмысленный и беспощадный, — то во всяком случае «рамс» — непонятка, выражаясь нормальным языком. Суки стучали регулярно и изощренно, но одних только подозрений было недостаточно, чтобы их резать. Менты пользовались этим, гнулово крепчало, как мороз на лесной делянке январским вечером…
Все это прекрасно понимали — и смотрящий зоны Астра, и «торпеда» Матерый, и даже самые тупые контролеры-прапорщики…
Матерый не мигая смотрел на пахана, тот, казалось, не обращал на него никакого внимания — изощренный ум Астры был занят осмыслением небанальных мыслей великого немецкого философа.
Наконец «торпеда» кашлянул в кулак, чтобы обратить на себя внимание.
— Ну, так че бум?
Астра с шумом захлопнул растрепанный томик Шопенгауэра, привстал с «трамвая», то есть с табуретки, насупился, поджал губы.
— С хозяином тереть надо, — подытожил он. — Гнулово это если не остановить, сам понимаешь… Чем дальше, тем хуже.
— Че делать бум?
— Пошли к нему кого-нибудь из мужиков, пошустрей. Или через ментов, через того же дурака Красного мою волю передай: говорить с ним хочу… Кинь, значит, хозяину стрелку…
Примерно в то самое время, когда Астра беседовал с Матерым, Чалый и Малина, куря в бесхозном вагончике ворованный в продмаге «Беломор», запивая его ворованной же водкой, закусывая последнею тушенкой, тоже, разумеется, ворованной, вели куда более приятные, хотя и менее содержательные разговоры.
— А вот скажи: если бы я той лярве по голове счетами не дал, задавила бы она тебя своим жирком? — криво ухмыльнулся Астафьев, вскрывая ножом банку тушенки.
Даже теперь, после всего пережитого, Малина посмотрел на него с благодарностью.
— Ну… Я уже и не дышал. Изнасиловала, в натуре, сто пятнадцатая по ней плачет, — отрывисто произнес москвич. — А за такое петушить в самый раз…
— Я ей и в очко на всякий случай задвинул, — сообщил Иннокентий, улыбаясь. — Так что считай, что отпетушил…
Малина облегченно вздохнул.
— Прицепилась, курвоза, дай да дай… Что я ей — Терминатор, что ли?
— Ну, я ведь и той и другой засадил, — не без самодовольства произнес Чалый. — Во все щели. Нормальненько. Ладно, а ты ниче, бля… Не думал, что таких теток подгонишь. Че, бля, — очко сыграло, когда я тебе «гребень» хотел приделать?
— Ну что ты… Я ведь искренне, я ведь теперь для тебя все сделаю! — с большей поспешностью, чем требовалось, воскликнул трусоватый москвич.
— Да шутил я, шутил, ниче, все нормалек. Лады, прорвемся.
После этого беседа на какое-то время стихла: Чалый, жадно урча и чавкая, жрал уже третью банку тушенки, а Малина — кстати говоря, выпускник филологического факультета МГУ, — интеллигентно намазывая ее на ворованный хлеб, старался есть по возможности беззвучно.
Наконец последняя фраза дошла до сознания Малинина. Деликатно откусив кусочек бутерброда, он спросил:
— А куда?
— Че?
— Прорвемся…
— А хрен его знает, — равнодушно ответствовал насытившийся Чалый, — я почем знаю! Туда, где ментов не бывает.
— Нет, Кеша, я ведь серьезно тебя спрашиваю, не все же время нам с тобой в бегах быть! Надо определяться. На дно залечь, надолго, спрятаться, чтобы надежно так… Понимаешь?
— Спрячемся… Еще как. Тебя потом «мусора» так надежно спрячут, что сам себя не найдешь. — Массивная волосатая рука в густых синих наколках потянулась к очередной бутылке водки.
— Кеша, — в голосе бывшего столичного филолога сквозило отчаяние, — надо же что-нибудь придумать… Надо ведь… Ты же умный, Чалый, ты же все можешь. Ну придумай что-нибудь!..
Астафьев припал к горлышку бутылки — волосатый кадык равномерно заходил над грязным воротником клифта, по подбородку и шее потекли мутные потеки.
— Слушай, — по привычке занюхивая рукавом, произнес Чалый, передавая бутыль подельнику, — тебе какой транспорт больше всего нравится?
Малина отпрянул — он явно не догонял вопроса.
— В смысле?
— Ну, я же не про «блондинки» (под этим словом обычно подразумеваются специальные милицейские "воронки"), я про другое…
— Вагоны СВ, что ли? (Малина имел в виду не мягкие вагоны, а те, в которых обычно этапируют осужденных, то есть "Столыпины".) Ты че… — голос собеседника предательски задрожал.
— А мне вот услуги «Аэрофлота» нравятся, — мечтательно сказал Иннокентий. — Свободен, как сопля в полете. Бабы эти… как их…
— Стюардессы? — тут же подсказал образованный Малина.
Астафьев ухмыльнулся, утер с подбородка потеки водяры.
— Ну да, как эти дорогие сигареты называются, импортные. Стройные они, эти лярвы… Правда, синие макинтоши у них форменные, да еще с погонами, совсем на манер «мусорских». Ну ничего, разденешь — на мента вроде и не так похоже. Юбку на морду натянешь, раком к штурвалу и — вперед. А она жмет, жмет, рулует, значит, а самолет в это время на Большую землю летит, значит, со скоростью звука… Прикидываешь, Малина, какой кайф? Надоела одна — другой юбку задрал, летчик с курса сбился — его для разнообразия и порядка отпетушил. Зато потом, после всего, стюардесса тебе коньячка приносит с «прицепом», а «прицеп» знаешь какой? Огромный-огромный косяк с анашой, с пыльцой! — замечтался вконец охмелевший Иннокентий, уже ощущая во рту волшебную смесь наркотического дыма и коньяка.
— Мечты, мечты… — вздохнул Малинин. — А нам-то что с того?
Неожиданно лицо Чалого стало на редкость серьезным — он отвел руку Малины, в которой была зажата водка, и произнес загадочно:
— Так я тебе сейчас скажу про свой план… В штаны наложишь?
Малина напрягся — на грязном лбу вздулась продольная жила.
— Ну?!
— Так не будешь?
— Говори, Чалый!..
— Олени — хорошо, собаки — хорошо, паровоз — хорошо, самолеты — хорошо… А вертолеты лучше, — намекнул Чалый и, наклонившись к самому уху подельника, принялся излагать ему свой хитрый план…
Каратаев возвращался к зимовью в отличном расположении духа, и причиной тому была завидная добыча: две большие куницы, хороший соболь, ярко-желтая лисица — такому мог бы позавидовать любой, даже самый опытный таежный промысловик.
Правда, на душе все-таки было немного неспокойно: следы крупного тигра, которые он видел накануне, рано утром, когда шел проверять силки и капканы, сильно настораживали, однако Михаил успокаивал себя тем, что сюда, в тайгу, эти хищники забредали ненадолго и потом, как правило, уходили: места были слишком обжитые.
Да и кого на Дальнем Востоке живым тигром удивишь! Это же не Москва…
Размышляя таким образом, Михаил и сам не заметил, как подъехал к родному зимовью. Навстречу с радостным лаем выбежал пес Амур — крупная восточноевропейская овчарка, гладкий трехлетний кобель; по причине глубокого снега пес оставался дома.
Соскучившись по хозяину, он прыгал вокруг Каратаева, стараясь лизнуть его в щеку.
— Ну, молодец, молодец, — потрепал охотник пса за мощную шею. — Хвалю. Никто не беспокоил?
Амур, изловчившись, подпрыгнув, наконец лизнул хозяина в щеку.
— Вижу, вижу, хорошо службу несешь. Только давай без этих телячьих нежностей. Ну, успокойся, сейчас накормлю…
Зайдя в избушку, охотник первым делом стряхнул с унт налипший снег, повесил на стену дивный винчестер, аккуратно разложил на скамье добычу, быстро затопил печь. Разгорающиеся сухие поленья наполнили зимовье здоровым смолистым духом, освещая нехитрое убранство единственной комнаты: массивный дубовый стол посредине, длинную скамью, книжные полочки с разноцветными корешками над ней, пару низких табуреток, небольшую холостяцкую кровать у стены и темный шкаф в углу.
Сдвинув на край стола скромную деревянную посуду, Каратаев освежевал тушки и натянул шкурки на специальные рамки. Вымыв руки, Михаил приготовил обед, покормил пса. После еды хозяин избушки принялся за работу: достал из шкафа заготовленные куски оленьей шкуры, шило, большую иглу и принялся дошивать унты из оленьего меха — оставалось совсем чуть-чуть. Этому простому на первый взгляд, но на самом деле очень хитрому и ответственному ремеслу еще в ранней юности его обучил отец; шить унты считалось тут, в тайге, сугубо мужским занятием.
Тихая улыбка осветила волевое лицо промысловика: он представил, как обрадуется Татьяна, когда он подарит ей на Новый год изящный меховой воротник из шкурки добытого им сегодня соболя.
Спустя каких-то два часа унты наконец-то были закончены; Каратаев поставил их на стол, потом вновь взял, критически осмотрел каждый шов и, судя по всему, остался очень доволен своей работой.
Теперь, когда дела были сделаны, можно было ехать и в Февральск — благо машина была заправлена; бывший капитан элитного спецназа, положив унты в просторный холщовый мешок, пружинисто вышел из зимовья и, бросив в кабину УАЗа, сел за руль.
Заурчал прогреваемый двигатель; минут через пять машина, подобно речному катеру, медленно отчалила от избушки-зимовья и поплыла по узкому руслу-дороге, между заснеженными деревьями…
Хозяин зоны Алексей Герасимов был настолько впечатлен просьбой Астры «перетереть», что на всякий случай взял с собой самого страшного человека зоны, начальника режимного отдела майора Коробкина.
Встреча состоялась на нейтральной территории, в клубе: идти в кабинет хозяина пахану было ну очень западло, а самому хозяину, в свою очередь, нельзя было идти в кабинет-каптерку Астры: все-таки он — полковник, самый главный тут, не позволяло чувство собственного достоинства, а потом, вдруг подчиненные подумают, что он, хозяин, решил на них пахану стучать!
Два авторитета — и ментовский, и воровской — сухо поздоровались, но рукопожатиями, естественно, не обменялись. Герасимов и Коробкин уселись за стол, а Астра встал неподалеку.
Хозяин вскрыл пачку сигарет — весьма редкого тут «Космоса», закурил и из приличия предложил уважаемому вору.
Тот поморщился:
— Да нет, не надо, гражданин начальник, я только свои курю.
Естественно, взять сигарету у мента — косяк страшный, тем более для такого ревнителя воровской идеи, каким всегда был Астра.
Тихо зашелестел тоненький целлофан — Астра вскрыл пачку «Мальборо» и, закурив, небрежным жестом протянул ментам.
— Могу вас, граждане начальники, и такими вот угостить… Задымите, что ли?
Хотя «космосины» уже были в зубах и хозяина, и режимника, и тот и другой трепетно взяли по сигаретке.
Вор покровительственно заметил:
— Что — зарплаты за вашу нелегкую «мусорскую» службу на хороший табак не хватает? Или все на спирт да на шлюх уходит?
Хозяин кашлянул, подавившись дымом, — он и не знал, что ответить.
Зато Коробкин как ни в чем не бывало сунул сигарету в нагрудный карман и спросил, откинувшись на спинку стула:
— Так что, осужденный Лавров, что случилось? Чем ты на этот раз недоволен?
Астра решил безо всяких прелюдий сразу же перейти к делу.
— Непорядки тут, — сладко щурясь, произнес уважаемый вор.
— А по-моему, все путем, — начал было полковник, явно ища примирения, но режимник все испортил.
— Чего ты хочешь? — насупился Коробкин.
— Закона, только закона, — ласково промурлыкал Астра.
— Мы тут и есть закон. — Еще сегодня утром режимник, морально готовясь к предстоящему разговору, решил быть резким, категоричным и непоколебимым; у него были на это свои скрытые причины. — Кроме нас, тут представителей закона нет.
— Тайга — закон, медведь — хозяин, — поддакнул хозяин: ввиду того, что ему надо было сесть за стол переговоров и проявить дипломатию, он был трезв и свежевыбрит.
— Беспредел заворачиваете, пацанов хороших гнобите, — словно бы и не расслышав две предыдущие реплики, продолжал Астра. — Ну что это такое: какая-то ваша сука застучала, что Кайлуха (это было погоняло весьма уважаемого блатного) неделю назад с вольняшки получил японскую надувную бабу. Ну, получил и получил — что с того? Кому плохо? Что — место на хате занимает? Сдуть всегда можно, воздух бесплатный… Так ведь всем лучше, пидаров будут меньше беспокоить, те работать начнут с большей отдачей, план пойдет и все такое. Да и не один он — бабу ту резиновую пацаны всем бы отрядом отодрали. Акробаты бы не кончали, энергию бы для промки сэкономили. Вы что, граждане начальники, Зигмунда Фрейда не читали? Не знаете, что такое сублимация сексуальной энергии?
Граждане начальники молча переглянулись — Фрейда они действительно не читали.
— В Уставе на этот счет ничего не сказано, — вяло произнес Коробкин непонятно о чем: то ли о резиновой бабе, то ли о сублимации сексуальной энергии, то ли о Зигмунде Фрейде.
А вор продолжал, загибая пальцы:
— Ну, это во-первых. Дальше. Гнойный через прапорщика, контролера Красного (Астра имел в виду мужа Светы Красноталь) купил на «кресте» у Михалыча десять литров спирта. Так что — взрослый пацан не может себе такого позволить? Ведь спиртное даже в магазинах с восемнадцати отпускается, а у Гнойного — уже третья ходка. Тем более поводов было выше крыши. У Гнойного — сразу три юбилея: десять лет со дня первого заезда на хату, ровно год до откидки и тридцать полных лет от роду. Да, чуть не забыл, и четвертый повод: почти год, как петуху Валечке целку поломали, он в его отряде. Неужели даже хорошего петушочка нельзя угостить по этому поводу? Гнойный же нормальный пацан, альтруист… Ну, выпили бы, потрахались немного — никаких бы дурных мыслей ни у кого не было, ни о побеге, ни о нарушениях вашего Устава… Особенно по утрам: вы ведь наверняка сами хорошо понимаете, что утром после спирта ни о чем, кроме опохмела, думать не хочется? Наверное, Радченко себе на опохмел и конфисковал?
— Знаю я ваши мысли, — гнусным суконным голосом произнес режимник. — Вам бы только анашу курить, спиртяру пьянствовать да безобразия нарушать.
Астра болезненно поморщился: он страшно не любил, когда при нем коверкали логический строй речи, пусть даже эти неграмотные "мусора".
— Это во-вторых. Ну а в-третьих, самое последнее: зачем кум, эта гнида Киселев, предупредил засвеченных сук Чалого и Малину? И что получилось? Себе же хуже сделали. Побег, начальство во все щели трахнет, все равно их изловят и лоб зеленкой намажут (вор имел в виду приговор к высшей мере), государству на патроны тратиться, на этапы да баланду. Да и нам лишние хлопоты — теперь, когда вы их изловите, малявы везде рассылать, чернила тратить, а они на портаки (пахан имел в виду татуировки) очень нужны, других пацанов из-за дерьма всякого беспокоить… Отдали бы вы их лучше нам на раздербан: пацаны ведь злые на них, утолили бы немного жажду крови — и все. И списали бы на несчастный случай или травму. Да, граждане начальнички, Фрейда, Фрейда надо читать, вот что. — Астра даже снизошел до простейших объяснений и задал собеседникам наводящий вопрос: — Что там сказано про насилие?
— Так чего ты хочешь? — уходя от прямого ответа, спросил Герасимов.
— Закона, только закона. — Вор был на удивление ласков и корректен. — Или вы забыли, кто я? Или не знаете, чем для вас все это может закончиться?
Тон, а главное, скрытые угрозы оправдывали самые худшие опасения ментов: во власти Астры было многое, очень многое…
Если, не дай Бог, перегнуть палку относительно блатных и особенно — самого Астры, то вор как смотрящий, отдаст распоряжение блатным, а те запросто запретят «мужикам» выходить на лесоповальные делянки и промку, и тогда все — прощай план, прощай спокойствие. Зона — это тоже серьезное государственное производство, и если налицо невыполнение плана, то с "граждан начальничков" очень сурово спросится.
А ведь до пенсии Герасимову оставалось чуть-чуть меньше полугода: он, как дембель, уже завел себе карманный календарик, зачеркивая последние прожитые тут дни и недели…
Знал об этом, разумеется, и Коробкин, но он уже просчитал один коварный план — как подставить Герасимова и, если получится, занять его место.
И потому от лица хозяина решил гнуть свою жесткую линию до конца.
— Ну, так что? — Астра смотрел на ментов уже строго, не мигая.
— Есть Устав, и есть законная власть, — насупился режимник: он, несмотря на угрозы (в случае чего, отвечать полковнику), твердо решил показать Астре, кто тут главный. — И эта власть — мы.
Пахан хмыкнул:
— А ты точно это знаешь, гражданин начальник? Смотри не ошибись…
— Так, — в голосе режимника засквозили грозные металлические нотки, — и вообще… Осужденный Владимир Лавров, что все это значит? В какой ты одежде? Почему в спортивной форме, почему запрещенные вещи при себе имеешь? Ты каким тоном с нами разговариваешь — не понимаешь, кто перед тобой?
Вор смотрел на это очевидное сумасшествие широко раскрытыми от удивления глазами.
— Не понял…
— Что это за золотая цепь с крестом, что это за импортные часы! — Коробкин метнул завистливый взгляд на «Ролекс» ценой в десять тысяч долларов.
— Ну, швейцарские… А цепь с крестом, потому что я в Бога верю. — Астра уже взял себя в руки, но режимник перебил его:
— Все, терпение наше истощилось! Хватит нам ваши воровские порядки терпеть!.. В БУР! Тридцать суток! Все!..
Вор в законе выразительно покрутил пальцем у виска и ничего не ответил…
Глава пятая
План Чалого был отчаянно-авантюрным, но в то же время простым и легким для исполнения.
Неподалеку от Февральска находилась вертолетная площадка, где обычно отстаивалось несколько военных грузовиков — гул от двигателей и свист лопастей винтокрылых машин иногда доносился и до поселка.
Разгильдяйство, нехитрый разврат, близость вино-водочных магазинов и изобилие казенного спирта — все это, помноженное на скуку и извечный идиотизм жизни в далекой дальневосточной глубинке, давно притупило бдительность военных: вертолетчики, едва только добирались до Февральска, напивались до совершенно свинского состояния, и можно было смело предположить, что военные вертолеты охраняются из рук вон плохо.
Знали об этом все — не только гражданские и военные, но и уголовники: тут тяжело было скрыть что-то друг от друга…
Малина прикусил нижнюю губу:
— Так что…
— Угнать борт — и всех делов, — подытожил Иннокентий.
— А как?
— Просто даже.
— Так ведь им управлять надо… Что — пилота в заложники захватить?
— Малина, я ведь в вертолетном полку служил в армии… Потом, правда, в дизель попал (конечно же, беглец имел в виду дисбат, от одного упоминания о котором даже у седых полковников, прошедших Афганистан, по спине бегали мурашки), зато в полку кой-чему успел научиться. У нас там была хренова туча вертолетов, всяких и разных. Ну, один техник мне по пьяни показал, за какие там ручки дергать да какие кнопки нажимать, какие тумблеры перекидывать, да все такое… Я до сих пор помню. Ничего, не сложней, чем водить легковую машину. Даже лучше: никаких тебе дорожных знаков, никаких «мусоров» с полосатыми жезлами, никакого встречного транспорта…
— Так ты вертолетом умеешь управлять? — Подельник Иннокентия явно не ожидал обнаружить в собеседнике такие таланты.
Чалый только плюнул сквозь зубы:
— А чего им управлять? Ха!..
Москвич прикусил нижнюю губу:
— А взлетишь?
— А че?
— Взлететь, я слышал, легко, главное — приземлиться, — заметил Малинин, подбрасывая в «буржуйку» золотистые дрова.
— Да ты че? Если взлететь не получится, я тебя без парашюта выброшу, — ухмыльнулся Астафьев. — Ну, согласен?
— И куда? — Казалось, Малина уж поверил в возможность осуществления этого плана.
— В Китай. — Видимо, Иннокентий уже все решил для себя, даже это.
— Выдадут, — голос подельника дрогнул. — Они теперь с нашими дружат… А тут получается — террористы. К тому же мы с зоны ушли…
— С вертолетом — не выдадут. Точно тебе говорю. Военный вертолет китаезам нужен. У них ведь самолеты, наверное, до сих пор на угле работают. Еще и лавья (собеседник Малины, конечно же, имел в виду деньги), лавья, бля, выше крыши дадут. И анаши, и водки, и девок ихних мелких, китайских. А потом отправимся со всем этим куда-нибудь подальше, в теплую страну вроде Крыма (в понимании Чалого Крым был земным раем), только чтобы «мусоров» совсем не было, ни единого. Прикидываешь, Малина? Вместо того чтобы на шконках париться и вшей собой кормить, будем с тобой на «роллс-ройсах» раскатывать, баб цветных трахать и курить самую лучшую шмаль… Заведу себе слугу-негра, массажистку-китаянку, повара из хабаровского ресторана «Амур» и русскую бабу, чтобы полы мыла…
Отсвет огня из жерла «буржуйки» освещал неестественно возбужденное лицо Иннокентия Астафьева — оно казалось кроваво-красным, и Малина, посмотрев на подельника, нервно вздрогнул.
— Так ведь это… — Малинин пододвинулся ближе к жестяной печке, словно от одних мыслей о последствиях ему стало нестерпимо холодно, — это же… «вышка», бля, лоб зеленкой намажут…
— А то за побег при отягощающих обстоятельствах не намажут, — резонно возразил Чалый, — сколько за тобой жмуриков? Мента того, водилу, грохнули на хоздворе — раз, двух телок из магазина — два… Кассу взяли, а это еще и грабеж. Притом «мусорская» экспертиза установит, что ты обеих выдрал перед смертью. Сперма твоя в них осталась, — хмыкнул беглец.
— Так я… так они… в целях самозащиты… — глаза Малинина дико блуждали, — да и не я того водилу, и телок не я…
— Вот об этом ты прокурору и расскажешь. Мол, беглый заключенный Малинин в целях самозащиты изнасиловал двух продавщиц, после чего убил их, взял кассу и слинял в тайгу… А он тебе с радостью поверит и мороженым угостит…
— Чалый, да ты что… — Казалось, Малина не верит в такое черное коварство. — Это ведь ты!..
На лице Иннокентия заиграла страшная улыбка — в багровом отсвете огня она казалась еще страшней; теперь Астафьев очень напоминал какого-то кинематографического вурдалака на шабаше.
— А я скажу, что ты — организатор… А я вообще не при делах был. Там еще на кассете да на стаканах твои пальчики остались. — Вне сомнения, Чалый предусмотрел абсолютно все.
…Спустя полчаса под давлением неопровержимых улик Малина согласился, тем более что аргументы относительно захвата военного вертолета показались ему достаточно убедительными…
В теплой, жарко натопленной комнатке добротного дома на краю Февральска сидели двое: пожилой, степенного вида мужчина с брюшком, сыто-самодовольным выражением лица и небольшими залысинами и очень молодая, но уже вполне созревшая девица, наверняка еще школьница, — спелые арбузные груди, колыхавшиеся под халатиком, порочный, с поволокой взгляд, откровенно плотоядная ухмылка, то и дело блуждающая на ее пухлых губах, сдобное тело — все это свидетельствовало о том, что малолетка уже познала многие радости жизни, многие, если не все.
Они были чем-то неуловимо похожи — пожилой мужчина и молодая девушка. И не только внешне, не только брюшками и сытостью…
Лысоватый мужчина, одетый в лоснящийся милицейский китель с майорскими погонами, хотя и занимал тут, в Феральске, серьезную должность начальника РОВД, однако был нелюбим местными аборигенами за проститутскую сущность своего характера, так соответствующую занимаемому посту, и за жуткое взяточничество.
Ну а молоденькую девушку, которая не брала денег, считая, что получаемое ею удовольствие должно быть бесплатным, они тоже не жаловали: в свои тринадцать с половиной лет она уже умудрилась заразить триппером едва ли не половину мужского населения поселка от четырнадцати и до шестидесяти лет включительно.
Да, весь небольшой, но сплоченно живущий Февральск знал: девушка эта рано вступила во взрослую жизнь — еще в пятом классе, когда одноклассники уже лапали ее кто за что хотел, девушка без особых рефлексий начала трахаться.
То ли в силу половой зрелости, то ли в силу присущего ей альтруизма, она слишком рано поняла: самое главное в жизни — понравиться мужчинам, чтобы получить; с тех пор она и покатилась в глубокий, бездонный омут непритязательных плотских удовольствий, и теперь семиклассница, похоже, уже достигла самого дна: на перезрелые прелести рано сформировавшейся малолетки в пресыщенном поселке уже никто не западал — не считая командированных или заезжих, ну, а еще ее стационарного любовника, старшины местной милиции Ивана Петренко.
Майор, насупившись, просматривал какие-то деловые бумаги; девушка, глупо хлопая белесыми ресницами, то и дело зевала — было видно, что предстоящая беседа не доставит ей большого удовольствия, такого, какого она обычно получала по ночам.
— Ну что, чего молчишь, папа, зачем ты меня домой вызывал? — наконец-то спросила девушка, с трудом подавив зевок.
Это было сущей правдой: малолетнюю дочь пришлось вызывать домой официальной повесткой; и привез ее с какой-то жуткой местной блатхаты не кто иной, как непосредственный подчиненный майора, старшина Иван Петренко. Кому, как не ему, было знать, где можно найти девушку в этом пятнадцатитысячном поселке.
Конечно же, товарищ майор знал о многом, еще о большем догадывался и, как любой порядочный отец, мечтал, чтобы единственная дочь оставалась хотя бы до восьмого класса чистой и непорочной, желая при этом, естественно, отодрать всех ее подруг…
— Почему опять дома не ночевала? — Майор наконец-то оторвался от бумаг.
На лице девушки заиграла блаженная ухмылка, но она ничего не ответила.
— Василиса, я тебя серьезно спрашиваю, — продолжал майор, — я ведь тебе отец и потому дол…
Он не успел договорить — дочь раздраженно перебила его:
— Да ладно, папа, у подруги ночевала! Что тут такого?
— Знаю я твоих подруг… Сучки, животные… Хлебом не корми, дай подмахнуть хоть кому. И ты такая, как и они. То пьяные дембеля из гарнизона, то грязные геологи, то извращенцы-командированные… С одним таким как-то говорил: мол, как все не люблю, только в рот… — Майор не понимал прелестей французской любви, считая ее извращенческой. — Скоро так и до самого последнего — бомжа Дюни — докатишься.
— А что, такой же, как и все, нормальный мужчинка, хотя немного и грязноватый и не очень молодой, — глупо хмыкнула Василиса. — Зато опытный. Мужчины вообще почти ничем друг от друга не отличаются — ну, длина, ширина, толщина… И Дюня такой же.
Неизвестно, что больше вывело милицейского начальника из себя — то ли эта ухмылка дочери, то ли столь откровенные сравнительные характеристики, то ли слова о том, что самый грязный бомж Февральска Дюня и тот добрался до интимных прелестей его несовершеннолетней дочери (правильнее было бы сказать, что это она, исключительно из-за интереса добралась до прелестей бомжа, хотя и подцепила при этом вошь лобковую).
— Вся в мать, такая же блядь, — сквозь зубы проговорил майор.
Двадцатидевятилетняя мать Василисы, майорша Анжелика Иосифовна, еще не утратившая в условиях Дальнего Востока остатков женских прелестей, также часто не ночевала дома, ссылаясь, разумеется, на многочисленных подруг, постоянно оставлявших ее у себя.
— Ну и что? — хмыкнула достойная своей матери Василиса, — что я — смылюсь от этого? — Она сделала характерный жест, погладив себя внизу живота. — Да и не жалко… А даже приятно.
— Я тебя отучу блядовать! — Начальник поселковой милиции с шумом ударил кулаком по столу — грязная, вся в потеках посуда зазвенела, упал на неподметенный пол и покатился в угол граненый стакан. — Тебе в твоем возрасте учиться надо… Учиться, учиться и еще раз учиться, как говорили великие Маркс и Энгельс.
— А чему учиться? Как бедной быть? Как замуж выйти? Не хочу. А остальное я и так умею, — резонно возразила дочь. — А кто такие Маркс и Энгельс? — спросила она, но уже с видимым интересом. — Что, евреи из Биробиджана или старатели какие?
Майор оставил этот вопрос без ответа.
— Ты бы хоть восемь классов закончила, — немного успокоившись, продолжил заботливый отец. — А потом — на все четыре стороны, с глаз моих долой, куда-нибудь подальше; в Благовещенск в ПТУ или еще куда-нибудь, мне все равно, пусть там попробуют тебя воспитывать, а я уже устал, своих дел по горло. — Майор с грустью посмотрел на неаккуратно сложенную кипу слежавшихся бумаг на неубранном столе и подумал о том, что ни дома, ни на работе у него нет настоящего помощника, на которого он мог бы опереться в трудную минуту, такую, как теперь; дома — одни курвы, что дочь, что жена (если они дома, что бывало редко), на службе — пьяница и дегенерат старшина Петренко, который к тому же, как подозревал Игнатов, спал с его женой…
Кстати говоря, в последнее время старшина-дегенерат что-то слишком много внимания стал уделять малолетней Василисе.
"Надо сделать ему замечание по этому поводу", — не успел подумать майор, как за окном послышался визг тормозов, и через минуту в дом с клубами густого морозного пара ввалился старшина Петренко.
— Вызывали? — Подчиненный дебильно моргал густыми сельскими ресницами.
— На хрен ты мне сдался сегодня вечером, — раздраженно бросил майор, — и без тебя настроение хреновое.
— Так можно ж легко поднять, товарищ майор. — Старшина заискивающе заулыбался, готовый в любую минуту услужить дорогому начальству. — Так я, того, сбегаю за… — Петренко постучал толстым пальцем по горлу, приоткрыв рот; из его луженой глотки вместе с перегаром вырвался характерный глухой звук.
При одной только мысли о спиртном настроение майора резко поднялось.
"А, хрен с ним, — подумал он, — стакан выпью, и достаточно на сегодня… Нет, лучше два. Или три — Бог любит троицу".
Начальник поселковой милиции с противным жестяным звуком почесал массивный небритый затылок, пытаясь вспомнить, у кого можно было достать нормальной вкусной самогонки в этот поздний час.
Петренко попытался воспользоваться заминкой начальника; он отчаянно жестикулировал руками за его спиной, отчаянные гримасы перекашивали его красную рожу — он делал знаки Василисе, чтобы она тоже собиралась якобы ехать с ним за спиртным.
Та сразу же догадалась. Ни мало не стесняясь ни отца, ни гостя, она быстро сняла узкие джинсы, натянула теплые колготки и широкую шуршащую юбку — это чтобы легче было раздеваться в тесном «уазике». У нее был весьма богатый опыт автомобильного секса в тяжелых местных климатических условиях, и, зная, насколько неуклюж как любовник Ваня Петренко в кабине своего милицейского автомобиля, Василиса решила не рисковать модными джинсами (тем более что они ей так нелегко достались: пришлось отдаться сразу же трем фарцовщикам, причем каждый, как смутно помнила девушка, кончил по три раза).
Зато теперь у любвеобильной малолетки были самые крутые по нынешним временам джинсы во всем Февральске, а у недавних партнеров — такой немодный во все времена триппер в организме.
— Так, Ваня, поедешь к Сидорихе, возьмешь литр самогона и что-нибудь из закуски, а то мои курвы опять ничего не приготовили, — распорядился начальник, горестно вздохнув.
— Будь сделано в лучшем виде, товарищ майор, — весело ответил старшина и, пропустив Василису вперед, пошел к машине.
Дурак Петренко и шлюха Василиса ушли, а майор, тяжело вздохнув, от нечего делать принялся перекладывать с места на место бумаги, отчего те окончательно перепутались.
Вообще, если бы не тяжелая семейная жизнь и дебилы подчиненные (а таких, как старшина Петренко, было немало, если не все), существование майора тут, в удаленном от краевого начальства поселке, можно было бы назвать замечательным. Деньги делались буквально из воздуха: товарищ майор брал взятки за все — от разрешения на гладкоствольное оружие и до поборов с местных старушек-самогонщиц, от взяток с «диких» приисковиков-старателей с браконьерами и до мзды с известного поселкового фарцовщика, гомосексуалиста Ли Хуа (правда, блюдя честь мундира, с китайского бизнесмена он никогда не брал натурой).
Чисто профессиональными вопросами: расследованием преступлений, дознанием, оперативными разработками — занималось краевое начальство, если не по телефону, то командируя в этот отдаленный поселок провинившихся ментов.
Но вот женщины — что жена, что дочь… Говорили ему умные люди: зачем тебе, Валера, брать в жены молодую? И правы оказались. А тут еще генетика эта проклятущая свою роль сыграла — дочь Анжелики вышла достойной продолжательницей дела мамы.
"Еще немного, — с тоской подумал главный милиционер города Февральска, — и они вдвоем в гарнизон ходить будут…"
— Да, все было бы хорошо, если бы не бабы-бляди, — расстроенно прошептал майор и вздрогнул: под окном послышался скрип тормозов.
— Ну вот и принес. — Старшина Петренко весело поставил вещмешок на стол — в нем что-то тупо звякнуло.
Майор посмотрел сперва на часы, а затем — на подчиненного.
— Почему так долго? — Раскрасневшиеся физиономии старшины и Василисы, ее подозрительно учащенное дыхание и удовлетворенно блестящие глаза оправдывали самые худшие подозрения.
— Так того… До Сидорихи долго было. Пока нашли, пока то, се… Закуски привезли, сейчас вмажем по стакану, земля раем покажется.
— Дегустировал? — Майор старался не смотреть на Василису, которая бесстыдно подтягивала колготки. — Ну как, ничего?
— А то! Стаканчик хлобыстнешь — как Христос в лапоточках прошелся! — принялся расхваливать старшина. — Сидориха когда узнала, для кого, говорит — на здоровье, говорит — пусть Валерий Иванович кушает…
— Денег сколько дал? — Начальник февральской милиции вел строгую учетность, сколько и кто ему должен; несмотря на свою сытую добродушную физиономию, к должникам он был весьма суров.
Петренко глупо заморгал длинными ресницами.
— Да что вы… Это же долг по таксе за проданный в ноябре самогон, она нам еще только за декабрь пять литров первача должна.
Это была сущая правда: самогонщицы поселка были обложены таксой "за лицензию" (как говорил майор) — десять литров самого лучшего самогона в месяц с каждой. Некоторые, не справившись с непомерным «налогом», бросили заниматься прибыльным делом.
— Ну что глазеешь? — зыркнул Валерий Иванович на дочь. — Стаканы поставь!
Василиса, поведя грудью так, что якобы невзначай задела ею отцовский погон, принялась с достоинством мыть три стакана.
— А третий зачем? — не понял отец.
— А ты что — пить не будешь? — искренне удивилась дочь.
После такого ответа главный мент Февральска обреченно махнул рукой: мол, делайте что хотите, дайте мне только уколоться и забыться.
Налили по полному стакану, чокнулись "за все хорошее".
Пили по-разному: Василиса — как пьет большинство русских женщин тут, в Приамурье, то есть мелкими, будто бы куриными глотками.
Ваня Петренко, поднаторевший в подобных ежедневных застольях на службе и вне ее, пил основательно и много: привычно хукнув мимо стакана, он вылил его содержимое в богатырскую глотку, прополоскал самогонкой рот, не забыв при этом заметить:
— Хорошо пошла, курва!..
Ну, а майор пил так, как и подобает пить большому начальству: медленно, но не отрываясь.
Когда волшебный напиток был выпит, Валерий Иванович, утерев выступившие слезы, поставил стакан и потянулся к соленому огурцу.
— Ты, Валера, неправильно пьешь, — участливо произнес Петренко.
— Не учи меня жить, — угрюмо бросил майор, — и вообще, помни о субординации…
— Не ешь сразу, не так, лучше выпей и занюхай, — посоветовал старшина тоном министра МВД, советующего выпускникам Высшей школы милиции хранить бдительность. — Так главней… Лучше забирает. Выдохни, занюхай, дух переведи. А потом уже закусишь по полной программе. Попробуй, а?
На работе в РОВД Петренко, соблюдая субординацию, называл начальника исключительно по уставу, но в условиях домашних был фамильярен — впрочем, Валерий Иванович не возражал, потому что после первого стакана любого спиртного напитка уже не слышал: самогон, как правило, способствовал развитию чувства полного аутизма.
То ли Сидориха постаралась на славу, то ли самогон, выпитый под такую закуску (запах огурца), слишком сильно ударил по мозгам собравшихся, но все довольно быстро захмелели.
Майор, тупо глядя на диск телефонного аппарата, почему-то представлял, что это вовсе не диск, а хитрая рожа всевидящего краевого начальства с десятью зрачками, и что рожа эта коварно и злобно подмигивает ему, поселковому начальнику; сколько зрачков у него самого, товарищ майор теперь даже не знал.
— Щуришься, щуришься, сука, — бормотал он, подливая только себе, — ну, щурься, щурься… Давай я тебе лучше налью. — Он отобрал стакан у себя и поставил его ближе к телефону.
— Валера, не дури головы. — Огромная волосатая лапа Петренко уже лезла под кофточку Василисы — малолетка постанывала и елозила грудью, как колхозная хрюшка при близости кабана-производителя.
— Уйди, дурак… — бормотал майор. — Чего ты ко мне прицепился? Пью не так, живу не так, служу не так, блядей своих не так воспитываю…
— Да, Валера, куда ты звонить в такое время будешь? Давай вмажем. — Старшина осторожно забрал стакан от телефона и налил в него мутноватой жидкости, распространявшей едкий маслянистый дух по всей комнате.
— Заткнись… Ну так что, товарищ полковник, — майор вновь отобрал у себя стакан и поставил его к аппарату, — что, выпить со мной не хочешь? Западло, да? Зажрался у себя в Хабаровске? Я тут, понимаешь, заживо гнию, а ты там жируешь…
Наконец майор решил, что товарищ полковник с десятью зрачками на черной эбонитовой морде согласен с ним выпить. Взяв в левую руку один стакан, а в правую — другой, он прочувственно чокнулся с товарищем полковником, осушил сперва тот стакан, что был в правой руке, свой, а затем — тот, что был в левой.
После этого Василиса, внимательно следившая за алкоголическими метаморфозами отца, поняла, что теперь самое время предаться нехитрому, но такому приятному блуду, тем более что алкоголь и близость старшины настраивали ее на плотскую лирику.
— Папа, может быть, тебе постелить? — спросила она с участием.
— Отлезь, гнида, — процедил майор.
Спустя еще пару секунд красная физиономия начальника Февральского РОВД ткнулась в тарелку с объедками рядом с телефоном.
Василиса поняла: все, настал долгожданный час. Взяв руку старшины и засунув себе в колготки, семиклассница принялась водить рукой отцовского подчиненного по своим возбужденным гениталиям.
— Не здесь, Вася, — произнес старшина, то и дело поглядывая на начальника.
— Да ладно, этот старый козел уже десятый сон видит, — пробасила малолетка, — давай, Ваня, давай, я так хочу…
Если бы товарищ майор видел то, что произошло дальше, он бы наверняка разжаловал Петренко в сержанты или даже — с крутого бодуна — просто застрелил.
Василиса действовала деловито и быстро: сперва она сняла через голову юбку, затем стащила колготки с трусами и только затем — все остальное.
— Ваня, а ты чего не раздеваешься? — спросила она. — Ты что такой стеснительный?
— Да сил уже нет, — честно признался Петренко, — устал что-то…
— Ну, давай помогу…
Несколько ловких, почти профессиональных, движений — и милицейская форма уже валялась на полу, рядом с подростковой одеждой.
— За что я тебя люблю — что он у тебя такой большой, — призналась малолетка и, подумав, добавила: — И толстый… Я вот в какой-то газете читала про Распутина… Правда, мне с ним трахаться не довелось, — вздохнула Василиса, — потому что не знаю, где он живет…
Конечно же, ментовская дочь имела в виду не известного русского писателя Валентина, а давно умершего фаворита последней русской императрицы Григория, но Петренко это было все равно: он, закончивший восемь классов, не знал ни того, ни другого.
— …а то, что сильно большой, плоховато, конечно, с одной стороны, — она пристроилась у его ног и облизала розовым, как у сиамской кошки, языком возбужденный член, словно бы слизывая с него сливки, — никак не могу до конца в рот засунуть… Знаешь, чтобы до самого комля. Ну ничего, я себе еще челюсть разработаю…
Через пять минут все было кончено — сомлевший от самогона и жары, старшина упал на кровать, забывшись в пьяном сне, а неудовлетворенная Василиса принялась тереться бедрами о его волосатую задницу…
Майору снился дикий сон: Новый год, Кремль, Большая елка в Георгиевском зале и нарядные детишки — и он среди них. Все обряжены в зайчиков, лисичек, Снегурочек и Дедов Морозов, а он один — в майорском кителе. Ходит с мешком и вымогает подарки: с тебя, мол, сто граммов золотого песка, с тебя — шкурку соболя, с тебя — пять литров самогона, с тебя — пять миллионов рублей, с тебя — два новых колеса для «уазика»… Но дети не обращают на него внимания и водят вокруг елки хороводы. Возмущенный таким отношением, майор достает табельное оружие и стреляет в рубиновую звезду на Спасской башне — та с треском и со звоном рушится…
…Д зи-и-и-и-и-и-и-и-инь!..
Валерий Иванович дернулся так, будто бы эта самая рубиновая звезда с размаху ударила его по затылку. Дико вскочив, он опрокинул тарелки и стакан с недопитым самогоном, и вид заставленного стола наконец-то вернул его к действительности.
— Бля, хорошо, что это был всего только сон, — пробормотал он в ужасе от одной мысли, что ему могут не дать желаемое.
…Дзи-и-и-и-и-и-и-и-инь!!
Майор посмотрел на своего десятизрачкового начальника из черного эбонита — трезвость на секунду посетила его, мозги прояснились, и он сообразил, что это не начальник, а телефон.
— Во, а я еще тебе, дураку, наливал, — скривился майор и, сложив левой рукой кукиш на правой, показал телефону: — Накося, выкуси…
…Дзи-и-и-и-и-и-и-и-инь!!! — Телефон звенел пронзительно, начисто отгоняя недавние неприятные воспоминания.
Делать было нечего — пришлось взять трубку и заглянуть черному начальнику в эбонитовое ухо.
— Начальник РОВД поселка Февральск майор Игнатов слушает, — произнес мент, стараясь вложить в свои интонации как можно больше деловитой трезвости.
Сквозь шумы, треск и помехи до слуха майора донеслось:
— Ты что там делаешь?
— Оперативные сводки просматриваю, — не моргнув глазом соврал Игнатов; к его чести надо сказать, что по телефону он всегда умел прикинуться трезвым и деловым, за что начальство его очень любило.
— Какие сводки? — В голосе звонившего полковника, того самого, которому майор недавно так часто наливал, сквозило раздражение, и Валерий Иванович понял: случилось нечто из ряда вон выходящее.
— А что?
— Да дела тут… И надо же — перед праздником такое случилось, епьтимать…
Последнее, довольно загадочное (но тем не менее понятное) слово внушило начальнику февральской милиции самые худшие опасения.
— Так что, товарищ полковник?
— Да тут со строгача, зона в пятидесяти километрах от вас, ИТУ ноль-девять дробь сорок шесть, позавчера двое сбежали… Угнали грузовик с хоздвора, удалось далеко уйти. Уголовники, опасные, оба вооружены. Искать их теперь сложно, вертолет не могут поднять, тяжелые метеоусловия, собаки след не взяли… Могут появиться в твоем районе в любой момент.
— А я тут при чем?
— Ты мне задницей не крути, а слушай приметы… — Голос начальства был настолько серьезен, что Игнатов даже привстал, будто бы полковник находился не за тысячу километров, а тут же, за столом. — Бери карандаш, пока тебе ориентировку не прислали, и записывай…
Делать было нечего — пришлось подчиниться.
— Сейчас, сейчас…
Во рту уже неприятно сушило, голова начинала болеть, и потому майор, вместо того чтобы взять приборы для записи и бумагу, взял приборы для питья и закуски — зажав соленый огурец тремя пальцами, как карандаш, и стакан еще не выдохшегося первача; при этом трубку пришлось зажать между набитой закусью щекой и плечом.
— Записываю, товарищ полковник. — Майор захрустел огурцом, чтобы самогонка пошла не так гадко. — Записываю…
— А что это у тебя там трещит? — подозрительно спросил начальник.
— Да помехи, связь такая… Так какие приметы, товарищ полковник? — стараясь потише откусить огурец, спросил Игнатов, после чего, бережно прижимая трубку к уху, потянулся к стакану.
Полковник из Хабаровска называл приметы обстоятельно и профессионально — рост, вес, черты лица, все татуировки, возраст, привычки, даже приблизительный маршрут; майор же в это время тихо, чтобы не привлекать внимание, тянул самогонку.
— Записал? — угрюмо спросила трубка.
— Да… — Игнатов взял стакан, из которого только что пила дочь, и плеснул туда первача. — Ну, твое здоровье…
— Чего-чего? — не понял полковник.
— За твое здоровье, говорю, чтобы в Новом году, значит, стоял, как у волка на морозе… Чтобы, значит… — И тут нестерпимая, неудержимая тошнота подкатила к горлу. Игнатов, поперхнувшись, с шумом выплюнул закуску на аппарат, при этом выронив трубку, та с противным тупым звуком ударилась о стол.
— Майор Игнатов, ты понял про уголовников? — слышалось из трубки. — Какие волки, что ты несешь? Вроде трезвый, а несешь хрен знает что…
Но начальник февральского РОВД уже не слышал полковника, он не услышал бы даже и министра МВД.
Игнатов, лежа на грязном столе, в собственной клейкой блевотине, силился воскресить в памяти недавнее сновидение; увы, это ему никак не удавалось, и он только нервно подергивал ногой, пытаясь сбросить со стола вонючие липкие документы…
"Предновогодняя галлюцинация", — слабо осветила затуманенный мозг последняя мысль…
Каратаев был почти счастлив: никогда еще Таня не встречала его так радостно, как сегодня.
Унтайки пришлись в самый раз — медсестра, восхищенно рассматривая свои обновки, то и дело улыбалась при мысли, что скажут ее подруги.
Михаил, скромно стоя в углу, застенчиво улыбался в ответ.
— Ну, Мишенька, спасибо, — Таня, не выдержав, чмокнула его в щеку, — так ты еще и сапожник!..
Каратаев вновь взглянул на свою возлюбленную. Да, она действительно была красива, но не броской, журнальной красотой фотомодели, а красотой естественной и целомудренной.
Русая, до пояса коса с вплетенной в нее скромной ленточкой, огромные, бездонные васильковые глаза, загнутые ресницы, правильные, как у древнерусской Лады, черты лица…
Часто бывает, внешность оказывается обманчивой, и часто девушка, которая с первого взгляда кажется такой чистой и непорочной, на поверку оказывается самой прожженной сучкой.
Но к Татьяне Дробязко это не относилось ни в коей мере. Выросшая в строгих, почти что домостроевских, принципах семьи местных староверов, она с детских лет уяснила, что главное, чем может гордиться девушка ее лет (а Тане недавно исполнилось всего девятнадцать), — скромность, скромность и еще раз скромность. Похабная, удушливая атмосфера гарнизона была ей противна; и лишь природные непорочность и стыдливость не позволяли девушке даже подумать о том, что позволяли себе не думать, а делать почти все девушки Февральска…
— Что, любуешься? — спросила Таня, немного кокетничая.
— На унты?
— На меня…
Михаил потупил взор:
— Тебе идет…
— А они теплые?
— Наверное… А давай проверим. — Бывший спецназовец посмотрел на термометр — на улице было минус сорок два, и робко предложил: — Может быть, на улицу выйдем? Не против, Тань?
Щеки Каратаева так горели, что он хотел скрыть это, сославшись на мороз.
— А куда? — Видимо, предложение понравилось Тане, и она вышла в прихожую, за шубкой.
— Ну, в клуб…
— Ага, можно в кино — там сегодня новый фильм показывают, "Унесенные ветром"… Про любовь. Такой трогательный, такой жизненный, такой душевный… Моя сестра Оля три раза смотрела и всякий раз плакала.
— Не говори мне об Оле, — тихо, но твердо попросил Михаил.
Да, Каратаев откровенно не любил старшую сестру возлюбленной.
Несмотря на то что и Таня, и Оля выросли, казалось, в одинаковых условиях, старшая сестра Татьяны совершенно отличалась от младшей и была известной в Февральске проституткой. Непонятно, что этому посодействовало: то ли тонкая специфика профессии (Оля была профессиональной парикмахершей, и через ее руки, в буквальном и переносном смысле, регулярно проходили все мужчины поселка), то ли ее слишком броская красота, на которую клевали мужчины не только в гарнизоне, но и во всей округе, то ли отсутствие каких-либо мыслей в глупых глазах…
Да, у Михаила были все причины не любить сестру Татьяны.
— Ну ладно, ладно, я знаю, что у вас взаимная антипатия, — примирительно сказала девушка. — Ну так что — пойдем в клуб?..
Снег хрустел под ногами, мороз щипал за щеки — Татьяна, взяв Михаила под руку, наконец-то призналась ему, как ей не нравятся местные нравы.
— Знаешь, Миша, когда мы с тобой познакомились, я тебя даже немного испугалась…
— А что — я такой страшный? — удивился Каратаев.
Та замялась:
— Да нет, не в этом дело…
— А в чем?
— Ну, когда узнала, что ты бывший военный…
Каратаев только плечами передернул:
— Ну и что?
— Ты же видишь, какие тут военные… Пьяницы, пошляки, слова нормального от них не услышишь… Только одно на уме: водка да это самое… — Девушка стыдливо склонила голову. — Мат-перемат, водка, пьянки, драки, словно дикари какие-то… И как это они солдат могут воспитывать, когда сами…
Михаил нахмурился:
— И что?
— Ну, меня тут не любят… Разные вещи нехорошие говорят, правда, тебя немного побаиваются, так что не очень уж…
— Про тебя?
— Ну да, Миша… — Девушка с большим трудом подавила в себе тяжелый, непроизвольный вздох и продолжила: — Так то, что они всякие гадости и пошлости говорят, это даже не самое страшное. Знаешь, за последнее время я уже научилась не обращать внимания.
— А что еще?
Даже несмотря на сумерки, Михаил заметил, как его спутница густо покраснела.
— Так что?
— Да, мол… что ты цыпа такая, другая бы уже давно за счастье, а ты… Я тебе удовольствие хочу доставить, а ты еще и сопротивляешься. Что — лучше других, изображаешь из себя правильную?..
— Значит, к тебе пристают? — наконец-то Дошло до бывшего спецназовца.
Нервно проглотив слюну, девушка произнесла:
— Ну да…
Михаил насупил брови:
— Кто?
Как раз в это время спереди замаячил силуэт мужчины: длинная шинель, форменная шапка, нетрезвая походка — все это выдавало в нем офицера местного гарнизона.
— Да вот этот… лейтенант Сидоров. — При виде обидчика Таня сильней вцепилась в рукав спутника.
— Обожди…
Осторожно освободив руку, Михаил догнал военного, взяв за шиворот, легонько приподнял и осторожно подвел к Татьяне.
— Этот?
— Ой, не надо, Миша, не надо…
— Этот?
— Ну да… Точно, лейтенант Сидоров, он мне такие гадости говорил…
— Какие?
— Ой, я даже сказать тебе не могу… Прости, Миша, но стыдно… Ну, ты ведь и сам понимаешь, что он мог мне предложить?
Короткий удар ребром ладони — и лейтенант полетел в сугроб.
— Больше не будет, — резюмировал Каратаев, — ты, Танечка, если кто еще тебе что скажет, так мне сразу же… Понимаешь?
Девушка посмотрела сперва на лейтенанта — из огромного сугроба торчали хромовые сапоги и нижняя часть туловища, затем — на Михаила и произнесла, даже не пытаясь скрыть восхищения:
— Миша, какой ты сильный!..
Старшина Петренко проснулся, будто бы от толчка: переполненный мочевой пузырь сработал лучше любого импортного будильника. Открыв глаза, милиционер посмотрел на Василису — даже теперь, во сне, она продолжала похотливо улыбаться, при этом потная ладонь малолетки лежала на гениталиях возлюбленного.
Наверное, старшина по-своему любил Василису Игнатову — иначе как объяснить, что он не грубо скинул ее руку, а осторожно снял, а сам, взяв из-под подушки свои синие армейские трусы (недавно профессионально украденные в гарнизонной прачечной, где они сушились на веревке), натянул на волосатые ягодицы и, сунув ступни в обрезанные валенки, пошел в холодные, заледеневшие сени: там, на вешалке, висел огромный, почти что безразмерный, караульный тулуп (из того же самого гарнизона, разумеется), которым семья Игнатовых обычно пользовалась во время ночных походов на мочеиспускание.
На дворе была морозная темная ночь — Петренко хотя и был по пьяни нечувствителен к морозам, но даже он зябко поежился, вспомнив о мягкой, теплой Василисе, оставленной в постели.
Как человек с понятием, старшина милиции решил не мочиться на крыльцо, а немного отойти — к сараю, благо сугробы были невелики.
Он уже встал рядом с дощатой стеной, немного приспустил трусы, но в это время услышал где-то совсем близко скрип снега.
Петренко, продолжая испускать из себя мочу, повернулся — в каких-то нескольких шагах от него стояли три огромные рыже-полосатые кошки: в лунном освещении полосы рябили в глазах, и милиционер встряхнул головой, пытаясь отогнать навязчивое наваждение.
Одна кошка сразу же исчезла, но две другие остались. Они казались такими грациозными, такими домашними, что милиционер не удержался и присвистнул:
— Фьють, фьють…
Вновь скрипнул снег — кошки как-то очень синхронно сделали шаг вперед.
— Кис-кис-кис, пойдемте домой, я вас молочком угощу. — Иногда даже милиционерам не чуждо чувство сострадания к голодным животным, замерзающим на улице в предновогоднюю ночь.
Кошки сделали еще один мягкий шаг вперед…
— Кисоньки, холодно вам, хозяева из дому выгнали. — Старшина уже закончил нехитрый физиологический процесс; резинка щелкнула по волосатому животу.
Наверное, если бы не профессиональное чувство, история бы эта имела другое продолжение, но Петренко, вспомнив, как приятно бить беззащитных существ, забыв про мочеиспускание, ударил кошек ногой, целясь в левую…
Увы, самогон Сидорихи оказался слишком забористым и суровым: удар пришелся как раз между двумя рыже-полосатыми кошками, и старшина, потеряв равновесие, с размаху упал в сугроб.
— Во, бля… — Старшина выплюнул снег и попытался встал на четвереньки, но в это самое время обе кошки прыгнули на него…
Борьба была недолгой — разнеженный недавним теплом и самогонкой, старшина даже не сопротивлялся. Спустя десять минут мертвенно-желтый свет зимней дальневосточной луны освещал жуткую и отвратительную картину: кроваво-бурое месиво на вспаханном снегу; голова, откусанная нетерпеливым хищником, валялась в нескольких шагах, в сугробе, под забором, а на самом месиве, довольно урча и чавкая, сидел, облизывая окровавленные лапы, огромный рыже-полосатый тигр-каннибал…
То ли от непривычного ощущения одиночества, то ли от холода, но Василиса проснулась и, нетрезво пошарив рукой по подушке, пробормотала сквозь сон:
— Ваня, Ванечка, давай еще палочку… А?
Но Ваня уже не слышал ее: то, что осталось от бывшего старшины февральской милиции, перемешалось с побуревшим от крови снегом и лохмотьями растерзанного тулупа и лежало под забором, а от него в сторону тайги вели огромные следы страшного хищника…
Глава шестая
В кино влюбленные, к сожалению, опоздали — Таня предложила пойти в гарнизонный госпиталь, в красный уголок.
— Знаешь, а у нас уже елку поставили, — сказала она, смущенно улыбаясь, — наверное, я еще маленькая… Но что могу с собой сделать — так люблю Новый год, елку, наряжать ее, развешивать игрушки… Еще с детства. Может быть, поможешь?
Михаил Каратаев давно уже вышел из того возраста, когда наряжают новогоднюю елку. Да и елок этих за свою жизнь он, охотник, перевидал столько, что на десятерых хватило бы… Не говоря уже о пальмах, кактусах, карликовых березах и прочем, что он видел за время многотрудной и ответственной службы в «Альфе», за время путешествий по странам и континентам.
Но если Таня попросила — возражать не стоит. Тем более такой замечательный шанс побыть вдвоем, может быть, он и скажет ей то, что собирается сказать вот уже целый месяц…
Красный уголок в госпитале оказался небольшим, но на редкость уютным: телевизор, тепло, мягкие кресла, приятный полумрак…
Елка была еще холодной — наверное, ее принесли с мороза пару часов назад. Благоухая свежей хвоей, она занимала собой почти половину маленькой комнатки; темные ветви-лапы и этот свежий запах невольно создавали ощущение старой, когда-то слышанной в детстве, но давно забытой сказки.
— Ну что — давай игрушки развешивать, — дурачась, спросила девушка, — а потом дождик, снежинки, серпантин?..
Михаил не противился, скорее наоборот, — стоя на табуретке, он аккуратно и бережно брал из рук Тани игрушки, и, когда их руки случайно соприкасались, оба смущенно отворачивались.
— Таня, а этот самый Сидоров… лейтенант… Ну, которого я сегодня… Ну, короче, ты понимаешь?
Девушка насторожилась:
— Что?
— А часто он к тебе пристает? — не глядя на девушку, спросил бывший спецназовец.
— Да один раз только… Он раньше к Оле приставал — наверное, подумал, если я сестра, то и я такая же доступная, — тяжело вздохнула девушка, никогда не одобрявшая поведения старшей.
— А Оля — она что, совсем опустилась? — печально вздохнул Михаил.
— Да, знаешь, в последнее время она очень изменилась. Я пыталась с ней говорить, мол, замуж бы ты вышла, ребеночка бы родила, ты же женщина, а каждая женщина когда-нибудь должна стать мамой, — при этих словах Таня неизвестно почему покраснела, — а она мне: мол, пока не нагуляюсь, никакого замужества. А чем, мол, еще тут заниматься? С детьми — проблемы. Пеленки, мол, да и время от гулянок отнимают. Мужиков тут хватает, говорит, а мы, бабы, всегда в цене.
Михаил лишь передернул плечами и ничего не ответил — да, подобную философию исповедовало подавляющее большинство женского населения Февральска, как, наверное, всех или почти всех диких поселков Дальнего Востока.
— Я сперва подумала, что с этим лейтенантом, с Сидоровым, у нее серьезно. Обрадовалась даже: ну наконец-то. Все-таки долго с ним встречалась, целую неделю, — продолжала Таня, — а оказалось, что она в это же время и с начальником милиции Игнатовым, и со старшиной Петренко, и с другими тоже… гуляет. Я думала, что наговаривают на нее злые языки, а она говорит: мол, а что тут такого? Не люблю однообразной пищи…
— А ты что — больше не пыталась на нее повлиять? — Михаил, спустившись с табурета, принялся украшать нижние ветви.
— Да уж пыталась. И не только я. Бесполезно, не слушается. Да и она — старшая. Был бы жив наш отец — все было бы хорошо…
Отец сестер, известный на Дальнем Востоке столяр-краснодеревщик, четыре года назад погиб в автомобильной катастрофе.
Таня продолжала:
— А мать — что она одна может сделать? Старенькая уже, совсем больная. Да и жизнь теперь такая тяжелая, сам понимаешь… Я вот никак не могу понять: ты ведь молодой еще, красивый, сильный — почему ты до сих пор в тайге живешь?
Каратаев вздохнул:
— Нравится… Не знаю и сам.
Но подумал он больше, много-много больше — и о том, что ради нее согласился бы перебраться насовсем сюда, в Февральск, и о том, что перешел бы к более оседлому образу жизни, и что ради нее может изменить любые привычки, лишь бы только она, Таня, согласилась бы быть его навсегда…
Но девушка или не понимала мыслей Михаила, или делала вид, что не понимает: она аккуратно доставала из коробки блестящие игрушки и, взяв их за ниточки, бережно протягивала собеседнику.
— А вот эту туда повесь, — ее улыбка мерцала в полутьме, — а вот эту…
"Ладно, ведь я сегодня никуда не спешу… Может быть, попозже и скажу", — решил Каратаев и вновь укорил себя за такую нерешительность.
Капитан Андрей Киселев, стоя на вокзале Хабаровска, то и дело нетерпеливо посматривал на информационное табло — вот-вот должны были подать скорый поезд "Хабаровск — Москва".
Настроение было — лучше не придумаешь.
В одном кармане мятого кителя лежала перевязанная аптекарской резинкой толстая пачка денег, целых пять месячных окладов со всеми северными прибавками (один из которых он уже успел оставить в привокзальном ресторане), в другом кармане лежала копия постановления военно-врачебной комиссии об увольнении его, капитана войск МВД Андрея Киселева, "по состоянию здоровья".
Наверное, никогда еще капитану не везло так, как там, в окружном госпитале Хабары: по приезде с места службы он сразу же попал на прием к известному в здешних краях врачу-наркологу майору Митяеву. Нарколог — огромный мужчина с подозрительно сизым носом, на котором шелушились струпья кожи, выцветшими глазами и красными руками — долго щупал пульс, мял живот, бил по коленной чашечке, но после нескольких промахов отложил резиновый молоточек и задумчиво погладил большой сизый нос.
— Да, дела у вас неважные, товарищ Киселев, — вздохнул военврач.
Капитан вопросительно посмотрел на медика и испуганно подобрался на жесткой госпитальной табуретке.
— А что?
— Похмелье… Кум замялся.
— Ну, я вчера, между нами, немного выпил… Как мужчина — мужчине, как офицер — офицеру говорю… Вы ведь понимаете меня, правда? — с надеждой спросил он. — В поезде холодно, сами понимаете, скучно, впереди — полная неизвестность…
— Да не про тебя я, — поморщился нарколог. — Ладно, на двоих сообразим? — Последовало совершенно неожиданное, но такое душевное: — А я тебе все про твое здоровье расскажу; по себе знаю…
Не прошло и получаса, как оба офицера — и внутренних войск, и медицинских — уже сидели друг против друга и, закусывая вскрытой скальпелем банкой китайской тушенки «Дружба», признавались друг другу в вечных чувствах: любви и дружбе.
— Цирроз у тебя, капитан. — После первых пятидесяти граммов медик перешел на «ты». — В последней стадии уже, кстати…
— И что — это серьезно? — немного всполошился кум.
— Печень очень сильно увеличена, анализы бы неплохо сдать… Может быть, и подлечиться бы, да мест у нас в госпитале мало. По такому диагнозу — тем более. Да ладно, тут и без того все понятно. Ну, давай, не грусти, за твое здоровье! — Майор медицинской службы на всякий случай истово перекрестился, но почему-то слева направо. — Давай, капитан, чтобы земля, как говорится, тебе пухом была… За здоровье!
Сегодня он что-то все путал: печень Киселева он тоже щупал с левой стороны, причем — через китель.
— И что теперь? — Занюхав резиновой перчаткой, валявшейся на столе, капитан МВД потянулся к открытой банке тушенки.
— Комиссовать тебя надо. Умрешь зато, как белый человек, на Большой земле. В тепле, в уюте. Есть у тебя там кто?
Капитан попытался представить своих родственников, обитавших где-то в Поволжье, но не представил: перед глазами рябила початая литровая бутылка спирта, мешая сосредоточиться…
Поволжье не Поволжье — какая разница?! Главное, что на Большую землю, где жизнь теплая, дешевая, где нет ни страшного вора Астры, ни блатных законов, ни этих жутких холодов…
Зато есть пенсия, сообразная с последней дальневосточной зарплатой, да еще и прирабатывать где-нибудь можно — на спиртзаводе, например, сторожем…
А почему бы и нет?
— …на первой платформе первого пути начинается посадка на скорый поезд "Хабаровск — Москва". Нумерация вагонов — с головы поезда… Повторяю… — гулко разносился по пустынному в такое позднее время перрону голос дежурного по вокзалу.
Подхватив легонький фанерный чемоданчик (сделанный, конечно же, на зоновской промке), капитан в отставке, улыбнувшись, двинулся в сторону своего вагона. Спустя час послышался неприятный звук лязгающих бамперов, и вагон, дернувшись несколько раз, поехал на запад, быстро-быстро набирая скорость…
Унылые заснеженные пейзажи сменяли друг друга, но казалось, что за окном — один большой пейзаж, на редкость тоскливый.
Киселев, тупо глядя в заиндевевшее окно, вяло тянул «Пшеничную» — по поводу окончательного отъезда на Большую землю он был очень растроган.
Но чем больше пил он водку, тем больший дискомфорт испытывал: не было человека, перед которым можно было бы выговориться, не было собутыльника, которому можно было бы излить душу.
Как теперь бывший кум пожалел об отсутствии благодарных слушателей! Отворись дверь и войди в купе самый последний запомоенный акробат с его зоны, мент бы только просиял и налил бы ему водяры — полный стакан…
Подхватив остатки спиртного, Киселев двинулся по устланному алой ковровой дорожкой коридору вагона в сторону купе проводника: счастливому отставнику так хоть с кем-нибудь поговорить!
И ему повезло: таковой быстро нашелся. За столиком служебного купе сидел молодой безусый человек в форме железнодорожника, которую недавний кум спьяну перепутал с авиационной.
— Слышь, летчик, посидим? — И Киселев достал из кармана недопитую бутыль.
— Ну, давай, служивый, — нимало не смутившись разницы в возрасте и звании, согласился проводник. — Посидим, коли нальешь…
После того как «Пшеничная» была допита, проводник извлек откуда-то бутылку «Русской», затем — еще одну, затем — еще…
Чем больше пил Киселев, тем больше он рассказывал о себе и своей героической, опасной и трудной службе на благо Родины.
— Да ты знаешь, кто я такой? Ты знаешь, когда я на зоне хозяином был, я один, в натуре, воров в законе помоил! В натуре! Отвечаю! Вот сам, вот этой бадангой! — И бывший мент тряс огромной палкой «Московской» колбасы, купленной им втридорога в вагоне-ресторане. — Они мне там за пивом в поселок каждое утро бегали! — Отставник отчаянно врал не только по поводу воров, но и по поводу пива — достать его на зоне и вообще в дальневосточной тайге было очень тяжело, почти невозможно.
— Давай выпьем. — Проводник подлил себе и собеседнику; стаканы были пусты вот уже больше десяти минут.
— Да обожди ты! — Как ни странно, но теперь собственное вранье захватило бывшего кума, и желание возвысить себя было даже больше, чем желание выпить. — А когда откидывались, слышь, пацан, так плакали и говорили: "Спасибо тебе, дорогой наш товарищ капитан, за твою науку. Больше попадаться не будем: "А если и попадемся, то будем к тебе проситься…" — Отставной капитан перевел дух, прикидывая: "А если бы так на самом деле…" — Астру, вора знаменитого, знаешь такого?
Проводник-подросток глупо захлопал безволосыми ресницами — значит, не знал, лох.
— То-то. А я знал. Большой человек. Его собственные слова были, так мне и говорил — спасибо тебе, мол, дорогой товарищ капитан, век тебя не забуду… Уезжал, добрый такой, адрес свой оставил. Заходи, говорит, когда в моем городе будешь. Если проблемы какие возникнут, — бывший кум икнул, — или вообще что… Все решу. Бандиты если какие наедут — строй их от моего имени. Так что знай, пацан, с кем тебе выпить приходится. Детям, внукам потом будешь рассказывать, гордиться, бля… — Киселева с каждым глотком разбирало все больше и больше. — Обещал, что купит мне дом на Багамах и самый дорогой «мерседес», а если откажусь — сделает так, что меня назначат начальником "Белого лебедя", а потом на повышение — министром внутренних дел!.. В Москве буду генералов гонять! С президентом водяру трескать! Астра мне так и сказал — мол, нам такие люди, как ты, очень нужны… То-то!..
Подросток внешне спокойно слушал этот бессвязный монолог одичавшего в тайге пассажира, тонко икал, но ничего не возражал — видимо, верил. На самом деле он, практикант железнодорожного училища, еще не привыкший к своей профессии и, как следствие, к такому большому количеству спиртного, был вдребезги пьян…
Вскоре за окном показались знакомые сопки, на землю пала тяжелая фиолетовая мгла.
Взяв со стола бутылку, Киселев принялся наливать в стаканы — себе и слушателю.
— Ну, за мою тяжелую, но нужную Родине службу, на посошок, — произнес бывший мент, глядя в окно. — Это что — Февральск?
— Ы-ы-ы-ы… — очень жалобно проблеял практикант; у него было такое выражение лица, будто бы он хочет заплакать.
— Бля, Февральск, это же моя остановка, что же ты, проводник называется, мне ничего не сказал? — И комисованный, залпом допив водку, побежал в купе и принялся лихорадочно собирать вещи.
Спустя несколько минут поезд тронулся, огромная зеленая гусеница ползла по заснеженной равнине — на перроне осталась вздорная фигурка отставного капитана в расстегнутой шинели, с чемоданом в руке…
— Пока, летчик! — Киселев возбужденно помахал рукой вслед уходящему поезду. — Если какие проблемы — пиши мне, я все решу, когда министром буду…
Все было бы хорошо, если бы Киселев не забыл, в какой же именно стороне находится родная зона, которой он отдал такой кусок жизни.
Правда, он хорошо помнил только одно: если идти по путям налево от станции, то через часа четыре можно при хорошей погоде и попасть. Но бывший кум — вот незадача! — совершенно забыл, как надо повернуться к станции — спиной или лицом.
Конечно же, таежная зима, злая вьюга и сорокаградусный мороз — не самые лучшие условия для такого путешествия, которое задумал мент. Но водка играла в милицейской крови, будоражила сознание, звала на подвиги и свершения, и Киселев решил твердо: дойти во что бы то ни стало к зоне до утра.
Ветер дул в спину, раздувая шинель, как парус, и это помогало — капитану было легче держать равновесие на неверных ногах.
"Сейчас бы хоть сто граммов пригубить", — с тоской подумал Киселев и механически сунул руку в карман шинели и едва сдержал восклицание радости: он нащупал флягу со спиртом…
Руки мерзли, трусились, и недавнему капитану МВД стоило огромного труда извлечь флягу с драгоценной, спасительной жидкостью из кармана. Наконец, когда эта нехитрая, но ответственная операция была исполнена, Киселев, открутив пробку, блаженно улыбнулся и жадно припал к горлышку: по всему телу разлилась живительная теплота, и отставному капитану сразу же сделалось очень хорошо…
Правильно говорят умные люди: человеку пьяному не стоит отправляться в дорогу, особенно тут, в тайге, особенно зимой…
Заснеженные шпалы были почти невидимы, а только осязаемы — скользили, подлые, под хромовыми сапогами, и бывший кум, уже забыв, кто он вообще такой и куда теперь идет, продолжая то и дело прикладываться к холодной фляге, ориентировался исключительно по уходящим вдаль продольным бугоркам — рельсам, засыпанным снегом.
Очень хотелось спать, но богатейший, полученный на службе опыт брал свое, и отставной капитан решил, что заснет тут, на рельсах, лишь только тогда, когда допьет весь спирт.
Но его сладкой мечте не суждено было осуществиться. Недавний маленький глоток из фляги застыл в глотке. А мелькнувшая сбоку огромная, но грациозная рыже-полосатая тень стала последним, что увидел он выцветшими от пьянства глазами.
Пропитанное алкоголем вялое тело мента даже не отреагировало на страшный удар, и он, как куль с дерьмом, упал на шпалы, как куль, перетянутый скрипящей кожаной портупеей.
Сперва страшный хищник мгновенно перекусил хрупкую от мороза портупею — чтобы не мешала трапезничать. Затем принялся за более вкусные места тщедушного ментовского тела: конечности, слабо хрустнув, быстро исчезли в хищно оскаленной пасти, тело, разорванное острыми клыками и мощными лапами, вскоре превратилось в один небольшой, дымящийся кровью обрубок.
Видимо, вкусовые ощущения хищника после дегустации алкоголика-мента были несколько необычными, и потому он на всякий случай решил попробовать и эту маленькую голову, на которой каким-то чудом еще держалась форменная шапка-ушанка.
Однако и тут людоеда ждало разочарование: после того как, немного поперхнувшись жесткими костями черепа, он проглотил раздробленную голову, хищник почувствовал острую боль в нёбе.
Отойдя на несколько метров от несчастных останков кума, тигр принялся кашлять, и кашлял он до тех пор, пока из его пасти на девственно-белый снег вместе с ошметками одежды и кровавыми сгустками не выпала форменная милицейская кокарда…
Глава седьмая
Вьюга за окном страшно свистела, хохотала, бросая в стекло пригоршни снега; бешеный ветер кружил мириады белых блесток, и непонятно было, откуда же идет снег: то ли падает сверху вниз, то ли подымается с земли в небо, то ли вообще сам по себе клубится в этом диком пространстве…
Эти вьюжные завывания навевали на беглецов уныние — в мозгах ядовитой змейкой шевелилась мысль о том, что их уже ищут. Менты наверняка побывали в разграбленном магазине, увидели трупы и следы бесчинства.
Конечно же, из поселка надо было уходить, и чем быстрей, тем лучше. Но куда пойдешь в такую страшную вьюгу — заблудишься, замерзнешь, заметет мгновенно. А этот грязный заброшенный вагончик создавал пусть иллюзию спокойствия, но все-таки…
Взятая в продмаге водка, увы, почти кончилась — оставалась только одна бутылка, самая последняя, и по этой причине настроение Чалого испортилось окончательно и бесповоротно.
— Ну и когда мы это сделаем? — спросил Малина, скусывая блестящую сусальным золотом винтовую латунную пробку.
— Че?
— Ну, вертолет? — Казалось, Малинин окончательно поверил в легкость осуществления плана старшего товарища. — Ты же говорил… говорил, что угоним в Китай, и все дела…
— А кто тебе сказал, что я тебя с собой возьму? — поморщился Иннокентий. — На хрена ты мне вообще нужен, а?
Москвич оторопело отпрянул — ведь не далее как какой-то час назад Чалый обещал все: и вертолет, и бегство в соседний, пусть социалистический, но свободный Китай, и безбедную жизнь в каких-то волшебных заморских странах, где нет ни бесконечно долгой таежной зимы, ни завшивленных шконок, ни ритуальных блатных понятий, ни — что самое главное! — поганых ментов.
— Ты чего, Кеша?..
— А на хрена мне лишний вес? — хмыкнул тот. — Керосин на тебя палить, и вообще… И так с тобой вожусь слишком много.
— Так ведь много места не занимаю, — принялся оправдываться москвич, — я ведь маленький… Легкий совсем стал, похудел, отощал — и на зоне, и пока по тайге блуждали…
Чалый поднялся, осмотрел остатки пиршества — штук десять пустых банок из-под тушенки, пустые бутылки, окурки "Беломора"…
— Малина, бля, тоска… Тоска, Малина, ни хера ты не понимашь. Душа болит. Тошно мне, Малина, понимашь, совсем тошно. А-а-а, ни хрена ты не понимашь. — Сделав небольшую паузу, Астафьев неожиданно предложил: — Ладно, давай допьем, да в поселок смотаешься. Понял?
— А зачем, Чалый? — Теперь москвич воспрял духом: если уж его отправляют в поселок, значит, есть надежда, значит, не все потеряно.
— Ну, или в аптеку — вазелина себе купишь да детского мыла кусок, чтобы "копченую балдоху" подмыть (таким нежным именем татуированные специалисты обычно именуют сфинктер партнера по гомосексуальному акту), или баб опять приведешь…
— Так где я тебе их сейчас найду, в такую вьюгу? — взмолился подельник. — Я ведь уже нашел одних, а ты мне: организатор, организатор… Сперма моя в них, бля, да и остальное… Что мне теперь — за ноги их сюда волочь, да? Так замерзли уже, поди…
— Я сказал — баб чтобы нашел, — процедил Чалый сквозь зубы, — что, уши снегом запорошило? И где хочешь, но чтобы нашел сейчас же, ясно? Или ищи для себя вазелина с мылом…
Сказал — и отвернулся, всем своим видом давая понять, что разговор окончен.
Малина в нерешительности уселся к «буржуйке» — он никак не мог понять, шутит подельник или же говорит правду. Ведь, кажется, недавно говорили про вертолет, и тут на тебе — "бабу хочу"…
— А как же наш план? — напомнил Малина.
— Не наш, а мой, — сказал Чалый и, почесав грязным ногтем за ухом, неожиданно добавил: — Да, и «плана» тоже…
— Да где мне теперь анаши взять? Для конопли-то еще не сезон!
— Ты че — еще тут, сука?! — Астафьев сплюнул сквозь зубы. — Давай катись отсюдова и чтобы через полчаса с бабой и с «планом»… Ну, кому сказал!..
И Малинин, обреченно вздохнув, вышел из вагончика, закрыв за собой дверь.
Путь его лежал в поселок…
То ли звезды в тот день расположились благоприятно для беглецов, то ли судьба до поры до времени хранила Малину, но ему повезло и на этот раз: вернулся он с замечательной новостью.
— Чалый, поднимайся, нашел я тебе все, что хотел, — улыбнулся тот.
По виду подельника Иннокентий сразу же понял, что он не врет: глаза москвича радостно блестели, речь была бессвязной и возбужденной — видимо, он и сам хотел того, без чего страдал Астафьев.
— Че нашел? Аптеку? Принес мыло душистое, полотенце пушистое и густой вазелин?
— Лучше. Парикмахерскую, — самодовольно ухмыльнулся москвич.
— А у меня еще мандавошек нету, — осклабился Иннокентий, — и я не мутант какой, чтобы волосы на хрене сбривать. Малина, какая, бля, парикмахерская, что ты несешь?!
— При чем тут мандавошки?! — искренне удивился его подельник. — Я же про парикмахерш… Две классные телки, — облизался Малина.
— Что — такие же, как и в магазине? — Чалый словно нехотя начал подниматься.
— Да нет, в магазине — коровы, в натуре коровы, а эти — совсем свежие, такие, знаешь, незатасканные… Давай, давай. Сам же хотел. — Малинин подумал, что хорошо бы сейчас напомнить о плане с захватом вертолета, но в последний момент передумал: теперь слово «план» вызывало у Астафьева иные ассоциации…
Парикмахерская располагалась неподалеку от единственной в поселке гостиницы — видимо, при генеральной планировке Февральска предполагалось, что немногочисленные командировочные будут приезжать исключительно для того, чтобы постричься, побриться, помыть голову — и сразу же похмелиться, потому как гостиничное кафе "Полярная звезда" находилось тут же.
Небольшое здание чем-то напоминало то ли морг, то ли оранжерею: искусственные цветы, в изобилии развешанные на стенах и необычно большие для местной архитектуры окна, придавали парикмахерской сходство и с тем и с другим.
В маленьком помещении царил сложный запах: одеколон, денатурат, шампунь, паленый волос, средство для химической завивки, жидкость для снятия лака с ногтей; кстати говоря, покойный бомж Дюня в самые безденежные периоды жизни заходил сюда для того, чтобы просто понюхать воздух и прибалдеть. Иногда ему очень везло: за подметание и мойку полов старшая парикмахерша Оля Дробязко даже прыскала ему в рот «Шипром» из пульверизатора.
Огромное зеркало с облупившейся серебряной амальгамой отражало в себе отчаянно скучающих парикмахерш: клиентов сегодня еще не было.
Одна — высокая, с профессионально сожженной химической завивкой на голове и выражением лица, которое можно наблюдать разве что у старой морской свинки, больной хроническим триппером, — сидела в потертом кресле и маникюрной пилочкой в руках ковырялась под ногтями.
Другая — пониже, более симпатичная, с проблесками мысли на миловидном, но глупом лице — в который уже раз за сегодняшний день подкрашивала губы.
Скука, тоска и беспросветность — естественные спутники жизни тут, в Февральске, — и диктовали тему для нехитрой беседы…
— А я вот, помню, когда в июле в отпуск ездила, — начала симпатичная, с проблесками мысли, — так ко мне один такой крутой-крутой прицепился. Я уж и так и сяк — никак не отцепится.
Та, что ковырялась под длинными ногтями маникюрной пилочкой, только вздохнула — о летних отпускных приключениях своей коллеги она слышала уже минимум сто пятьдесят раз.
— Да ладно, и так все знаю, Оля, — хмыкнула подруга, отложив пилочку, — что тебе белый «линкольн» к подъезду подавали, а потом букеты из ста одной розы дарили, в самые дорогие рестораны водили, в казино, и все такое, а потом жениться предлагали…
— Ну, ты все не веришь, Людка, — вздохнула та, которую подруга обвинила во вранье, — а это все правда. Честное слово! Я вот и сестре своей рассказывала, Таньке, и она, дура, не верит… А знаешь почему?
— Ну и?..
— Завидует. — Оля Дробязко поджала губы. — А сама-то…
— Послушай, а этот её хахаль, Миша, или как там его, бывший международный герой, псих ненормальный, прынц, бля, столичный, что один в тайге живет, так что — еще не трахнул ее?
— А-а, — сочувственно произнесла сестра. — О чем ты говоришь! Конченая моя Таня, ну совсем целка-фанатка. Полжизни потеряла из-за своей дурости! И так никакого удовольствия, а она еще о чем-то думает — «чуйства» ей подавай. Все пропало! Ходит с ним под ручку, как пятиклассница с мальчиком на большой перемене… Только глазами, наверное, трахаются.
— Ну, тогда точно все пропало! — процитировала Люда любимое выражение подруги. — И этот герой тоже хорош: сам как Терминатор, мог бы и ее уже оприходовать. И как он в своей-то тайге живет: на медведиц онанирует, что ли? Ведь он мужик, бабы у него там нет, и вообще… Может быть, он «голубой» или извращенец?
— Ну вот и я о том же. Вон, в гарнизоне, какие гундосые, замухрыжные мужики — и на тех все бабы виснут. А этот — и красивый, и сильный, а мозгов не хватает. Ваня какой-то…
Оля попыталась было в сто пятьдесят первый раз рассказать про белый «линкольн» и «прынца» с Большой земли, который якобы каждый день делал ей предложение стать женой и совладелицей дивного американского автомобиля, но в это самое время дверь шумно раскрылась и в зал ввалились двое: трехдневная щетина, грязные телогрейки-клифты со следами свежеотпоротых номерков на груди, стоптанные кирзовые сапоги, ватные штаны — так могут одеваться и бомжи-профессионалы, и чернорабочие, и «дикие» приисковики-золотоискатели, и, конечно же, беглецы с многочисленных зон, которых в Хабаровском крае больше, чем драматических театров, музеев, вернисажей, цирков, балетных трупп и кружков "Умелые руки", вместе взятых.
Неизвестно, к какой из этих категорий отнесла посетителей Люда, но она, окинув мужчин равнодушным взглядом и достав из тумбочки застиранную дырявую простыню, коротко поинтересовалась:
— Как стричься будем?
— Мы — побриться, — проговорил кряжистый мужик, выступая вперед.
— А вы, я вижу, недавно стриглись, — взглянув на коротко стриженные головы посетителей, произнесла сестра Тани, довольная своей наблюдательностью, — только что-то не могу вас вспомнить…
К чести Оли надо сказать, она помнила головы едва ли не всех обитателей поселка, поскольку головы эти проходили через ее руки.
Впрочем, не только головы…
— Не стриглись, а только подстриглись, — оборвал ее кряжистый, по-хозяйски усаживаясь в кресло.
Его спутник, не спрашивая разрешения, уселся в соседнее кресло.
— И вас?
— Да, пожалуйста…
Оля аж вздрогнула от неожиданности — она не привыкла слышать таких слов.
Бритье прошло быстро и гладко: девушки были профессионалками. Правда, когда острое лезвие впервые коснулось шеи интеллигентного клиента в грязном клифте, он испуганно вздрогнул, а тот, тоже в клифте, но неинтеллигентный, захохотал:
— Ну ты, бля, и ломанулся! Че — очко сыграло? Думаешь, что это «перо» — Астра в подарок прислал? Не ссы, Малина, прорвемся…
Парикмахерши, кстати говоря, нимало не удивились: они привыкли и не к таким выражениям. Да и сами при случае могли блеснуть знаниями как блатной фени, так и ненормативной лексики.
— С вас, молодые люди… — Ольга назвала сумму, причитавшуюся за бритье.
— Эй, эй, обожди, лярва, ты еще не все сделала. — Кряжистый поудобней развалился в кресле.
— А что?
— А что ты еще умеешь? — похотливо улыбнувшись, спросил Чалый; конечно же, это был он.
Оля Дробязко взглянула на посетителя с явным уважением: несмотря на страховидный прикид, он вполне тянул на человека, который мог бы ездить на белом «линкольне» и дарить своей даме охапки свежих роз.
"Наверняка небедный приисковик, — решила она, — а то с чего бы он такой наглый и уверенный? А прикид… Что ему тут, в тайге, — во фраке ходить?.."
— Молодые люди, расплачивайтесь и не мешайте работать, вас много тут таких шляется, а мы одни, — произнесла она, не сводя глаз с «приисковиков». — Кстати, форма оплаты у нас любая… Валюта, песок…
— А я про че говорю, — бросил кряжистый раздраженно, — я и имею в виду работу…
— А как еще с вами работать? — удивленно спросила парикмахерша, уже окончательно уверенная в богатстве посетителей. — Подстрижены, побриты, поодеколонены, что еще надо?
— Обслужить нас, бля, надо полностью, по полной программе, че, дуры, не догадались, че ли? — В голосе кряжистого клиента послышались угрожающие нотки.
— Да, обслужить, — поддакнул второй посетитель, — что смотришь?
Видимо, парикмахерши попались какие-то на редкость непонятливые — кряжистый поднялся, неторопливо, с достоинством отер о портьеру лезвие опасной бритвы, которым его только что брили, и, зайдя за спину Оле, приставил ей бритву к шее и приказал Люде:
— Ну? Соси, дура…
Этого парикмахерши уже никак не ожидали: как-никак, а произошел захват заложницы. Оля сдавленно пискнула, и, когда ее коллега столкнулась с ней взглядом, Дробязко-старшая прошептала:
— Людочка, помоги мне… Делай все, что они скажут, родная, ты же сама видишь, зарежут…
Конечно же, той ничего не оставалось — Люда медленно подошла и осторожно, словно боясь испачкаться, опустилась на колени.
— Я ведь сказал — у меня соси, ты что — "кобылка"? — удивился тот.
— Так ведь она мне мешать будет… Я бы с радостью, — принялась оправдываться та.
— Ты, телка, отодвинься, — Чалый перевел нож от шеи к ребрам, — чтобы подружке не мешать; думашь, только я кончать буду? — И неожиданно кивнул подельнику: — Слушай, Малина, а давай вообще групповуху забодяжим, а? Давай так: я — ее, а та — тебя… Нет, — он поморщился, — я — тебя, а она — ее… Нет, — видимо, запах одеколона непривычно туманил его сознание, — она — тебя, а та — у меня…
Говорят, что в какой-то буржуйской стране в специальной инструкции для женщин, подвергающихся сексуальным домогательствам, есть такие пункты: а) если к вам пристает мужчина, ударьте его в самое болезненное место; б) если он не отстает, то ударьте его еще раз; в) если он не отстает и теперь, ударьте еще раз, побольней; г) если он не отстает и теперь, то расслабьтесь, чтобы получить максимум удовольствия.
Парикмахерши, видимо, никогда эту инструкцию не читали, а если и читали, то только последний пункт.
Чалый, сидя в кресле со спущенными до колен ватными штанами, дико хохотал: набравшись богатого отпускного опыта на Большой земле, Оля Дробязко, заменив дрожащую от страха подругу, исполняла сеанс французской любви очень непривычным для недавнего обитателя ИТУ методом — она облизывала ему мошонку, и это было очень щекотно, особенно когда девушка периодически брала ее в рот целиком, перекатывая яички от одной щеки к другой.
Малина, с откинутой назад головой, сидел во втором кресле, дергаясь в оргазмических конвульсиях, а девушка с физиономией морской свинки, сидя на нем в позе наездницы, методично работала бедрами.
— Ну, Малина, правда лучше, чем те телки из продмага? — спросил Чалый и дико-дико захохотал. — Да ладно, не надо так глубоко, а то гланды надорвешь, и не жуй, это тебе не ястык с икрой…
— М-м-м… — бессвязно отвечала Оля, тихо войдя в раж.
— А тебе нравится? — этот вопрос адресовался исполнительнице.
— М-угум, — послышалось снизу.
— Не слышу!
— М-м-м… — То ли недавний вид острого лезвия, то ли страх сыграли свою возбуждающую роль, но Дробязко не могла оторваться.
— Курва, громче! — приказал Чалый — видимо, эта нехитрая беседа его очень возбуждала.
То ли сестра не в меру целомудренной Тани не расслышала приказа, то ли ей так понравился французский поцелуй, то ли она решила доставить клиенту удовольствие по максимуму, но после этих слов она полностью заглотила всю мошонку беглого уголовника — Иннокентий даже подпрыгнул в дерматиновом кресле.
"Ну, курва, — небезосновательно решил Чалый, — че творит, че творит… Только ради такого можно было с зоны сорваться. Это тебе не зоновские петухи…"
"Ну, богатый, наверно. — Оля Дробязко почему-то решила, что в гости пожаловали очень-очень крутые золотоискатели, у которых денег хватит и на белый «линкольн», и на все розы, продаваемые на хабаровском рынке приезжими азербайджанцами. — Ради такого можно отсосать у всех приисковиков Дальнего Востока… — В маленькой голове парикмахерши защелкали счеты, вроде тех, что недавно щелкали в продмаге. — Даже если у каждого сосать по минуте за десять баксов, а «диких» приисковиков у нас минимум тысяч двадцать, то это… это… Это же сумасшедшие деньги получаются", — решила Оля, имевшая двойку по математике; она так и не сумела подсчитать точную цифру.
Наконец Чалый обильно кончил и отвалился удовлетворенно.
Оля утерла рот рукавом, посмотрела направо — там Люда сидела на Малине — и перевела взгляд на Иннокентия.
— Че тебе — опять? — скривился тот.
Конечно же, Оля любила потрахаться, но и цену себе знала; в отличие от ментовской дщери, малолетки Василисы, считавшей, что удовольствие должно быть бесплатным, более старая, а потому более практичная парикмахерша всегда сочетала приятное с полезным. А эти, в ватниках, были не иначе как «дикие» золотоискатели-приисковики, с полными карманами драгоценного ярко-желтого песка.
— Так че надо, лярва? — добродушно спросил Чалый, застегивая ширинку.
Оля начала издалека: сперва сообщила, что она девушка из хорошей семьи и порядочная, затем — что зарплата у нее маленькая, да и ту отбирает муж (но обручального кольца у нее не было), что жизнь дорожает, короче говоря — "сто долларов или двадцать граммов золотого песка", подытожила она.
Чалый смотрел на недавнюю партнершу по оральному акту в полном недоумении.
— Сто долларов или… — Она не успела договорить — оглушительный пинок сапогом заставил ее отлететь в угол; на лбу незадачливой вымогательницы побагровев, выступил отпечаток каблука.
Непривычный звук заставил отвлечься и вторую пару — Малина был на полпути к оргазму, и развернувшаяся сцена вызвала временную импотенцию.
— Че несешь, лярва, какой песок? Базар фильтруй, сука! Я тебя по шею в песок закопаю, как в фильме "Белое солнце пустыни", — смотрела небось?
Видимо, перспектива быть вкопанной по шею в мерзлую землю Февральска так сильно впечатлила Олю, что она тут же сжалась и заскулила.
Но Чалый уже завелся, и остановить его было нельзя никакими силами: наверняка в этот момент даже командир ментовского спецназа МВД «Алмаз», созданного специально для усмирения взбунтовавшихся уголовников, беспомощно развел бы руками.
— Слышь, я не понял, — грубо обратился он к Малине, — че она такое несет? Какой песок? Какие еще баксы? Чтобы я, бедный студент, «скрипкам» (так на жаргоне называют минетчиц) еще и лавье отстегивал? В падлу, бля, скажи, Малина!
Малина, явно недовольный таким поворотом событий, угрюмо молчал.
— Вот и Малина говорит, что в падлу, — наступая на сидевшую в углу парикмахершу, произнес Чалый; в этот момент в руках у него очутилась острая опасная бритва — та самая…
И тут Олина подруга Люда совершила единственный в своей жизни подвиг. Вскочив и опустив задранную на грудь юбку, она воскликнула:
— Да что вы себе позволяете, негодяи?! — Рука парикмахерши описала резкий полукруг, и вытянутый палец наманикюренным ногтем пребольно царапнул Иннокентия по щеке; показалась кровь, и Астафьев от этого озверел окончательно и бесповоротно.
Резкое движение остро заточенной бритвы — и из разрезанного рта незадачливой заступницы брызнула кровь, опрыскав грязные портьеры; на лице Люды появилась какая-то странная, очень широкая улыбка, и улыбка эта с каждым взмахом руки Чалого делалась все шире и шире…
Глаза Оли тут же округлились, но все-таки инстинкт самосохранения превозмог и чувство страха, и дружеские симпатии к порезанной подруге: Дробязко-старшая, подорвавшись, стрелой метнулась к двери — размягченные сексом и насилием Малина и Чалый даже не пытались ее догнать.
Еще одно движение бритвы — на этот раз по белоснежной шее, — и ярко-алый фонтанчик горячей артериальной крови брызнул на затертые обои. Люда, царапая наманикюренными ногтями пол, хрипела под батареей.
— Все, забираем весь одеколон и сматываемся по-быстрому, — приказал Астафьев. — А то она, чего доброго, в ментовку ломанется…
На этот раз — не в пример продмагу! — Малинин действовал четко: рассовав по карманам телогрейки флаконы с одеколонами, лосьонами и жидкостью для химической завивки волос, он даже вытащил выдвижной ящик стола, но денег не обнаружил, потому как они с Чалым были сегодня первыми клиентами парикмахерской.
— Сматываемся, — Чалый уже застегивал клифт, — давай, давай…
Дважды повторять не пришлось…
Китаец с необычным и немного смешным для русского уха именем Ли Хуа, сидя в утепленном вагончике, по старой привычке чесал тощие сухие ягодицы. В вагончике царствовал утонченный аромат тухлых яиц и гнилой селедки — столь непривычной для русского обоняния, но такой желанной для наследников Поднебесной.
Ли Хуа — маленький, желтенький, с будто бы приклеенной к лицу улыбкой, с козлиной бородкой, делавшей его немного похожим на героя сингапурских боевиков-каратэ, и жидкой косичкой на затылке — задумчиво смотрел в окно; вьюга разыгралась не на шутку, и эта задумчивость как-то не вязалась с его дежурной улыбкой, тем более что улыбаться особенно-то поводов и не было…
Впрочем, все по порядку: этот Ли Хуа, вне сомнения, был тут, в Февральске, личностью выдающейся: известность ему принесла торговля дешевым китайским ширпотребом и подозрительной тушенкой с изображением Великой Стены на этикетке.
Все местные малолетки при одном только появлении узкоглазого коммерсанта бледнели и подобострастно улыбались: так уж получилось, что иных источников появления модного тряпья тут, в глубинном поселке, почти не было — не считая командированных и возвратившихся с Большой земли отпускников. И, само собой, очень-очень многие местные особи женского пола были готовы на все, лишь бы стать обладательницами каких-нибудь замечательных вещей: полупрозрачных кружевных трусиков, рвущихся под грубыми и нетерпеливыми лапами любовников в первую же ночь знакомства; мутно-алой помады, от которой обычно трескались и зудели губы; презервативов, которые, во-первых, исходя из антропометрических различий между дальневосточными чудо-богатырями и азиатами, были маленькими, пригодными лишь в качестве напальчников, а во-вторых — совершенно ненадежными: акушеры местного роддома поговаривали, что именно из-за них в Февральске резко возросла рождаемость.
Кстати говоря, дочь местного милицейского начальника Василиса Игнатова и тут оказалась проворней других: пару дней назад она, прослышав об очередной партии товара, забежала в вагончик и под каким-то предлогом предложила выгодную, с ее точки зрения, бартерную сделку: один минет — одни кружевные трусики (ведь ей так хотелось поразить воображение старшины Петренко!).
Однако возмущенный китаец, продолжая вежливо улыбаться, отверг наглые сексуальные притязания, после чего был обозван «голубым», на что Ли Хуа совсем не обиделся: так оно и было на самом деле.
Уроженец маленькой деревни, что недалеко от городка Лиманьчжань, что в дикой провинции Внутренняя Монголия, Ли Хуа сызмальства пристрастился к однополой любви. В Китае мужчин больше, чем женщин (хотя в провинции Внутренняя Монголия лошадей Пржевальского больше, чем и тех и других). В Китае, строящем рыночный социализм, планируется абсолютно все — и рождаемость в том числе, не более одного ребенка на семью. Суровые демографические условия в стране победивших реформ Дэн Сяопина ставят всякого китайского гражданина перед нелегким выбором: либо искать удачи среди свято верящего в коммунистические догмы противоположного пола (что зачастую гораздо труднее, чем поймать лошадь Пржевальского), либо мужеложство, к чему Ли Хуа и обратился в десять лет и с тех пор ни разу не изменив своей натуре, благо во Внутренней Монголии этому придавались даже секретари провинциальных комитетов компартии (между прочим, первым мужчиной маленького Ли стал школьный комсомольский функционер).
Никто в поселке не помнил, как, когда и при каких обстоятельствах появился он тут — то ли через Амур переплыл, то ли бежал в шестидесятые годы от "культурной революции" Мао, то ли просто бедный студент московского вуза после окончания курса возвращался домой и был высажен ревизорами на полустанке…
Впрочем, никто об этом и не задумывался, а так же и о том, чем мог заниматься этот китаеза в свободное от фарцовки время…
Не меняя выражения лица, Ли Хуа пригнулся и извлек из-под стола электроплитку, сковородку и несколько сырых куриных яиц: обычно в минуты скверного настроения он ел и этой привычке не изменил и на сей раз.
Спираль плитки мгновенно накалилась, и Ли, бросив на закопченную сковородку замороженный кусок оленьего жира, разбил несколько яиц — по вагончику распространился удушливый, тошнотворный запах падали, но китаец только просиял: токсичные пары, иному напоминавшие бы одновременно и об атаке немцев при Ипре в 1918 году, и о газовых камерах Освенцима, его приводили в состояние истинного блаженства. Что поделаешь — такова национальная кухня великой соседней страны; и уж если чужая душа — потемки, то чужой желудок — потемки еще большие.
Яичница уже пузырилась на сковородке, и Ли, решив, что ужин слишком скромен, добавил к столу пару селедок с «душком» — китаец собственноручно положил их две недели назад в теплое подполье, и по его мнению, селедки должны уже были созреть.
Сладковатый смрад жареной падали распространялся по улочке — вьюга утихла, и чад, проникая через малейшие щели, заставлял прохожих шарахаться от вагончика.
— Холосо, — китаец причмокнул тонкими губами и мотнул косичкой.
Даже оставаясь наедине с собой, китаец разговаривал по-русски.
Ужинал Ли Хуа не торопясь, с достоинством. Сперва поковырял обгрызенными бамбуковыми палочками яйца, степенно разделил яичницу на части, затем, с хрустом перекусив хребет селедке, принялся мелкими крысиными зубками очищать ее от склизской кожуры.
Спустя минут десять селедочный хвостик, повисший с краю тарелки, да грязная сковорода свидетельствовали о том, что трапеза завершена.
Настроение немного улучшилось, однако тревожные мысли по-прежнему роились в маленькой голове с засаленной косичкой.
Да, наверное, никто во всем Февральске — ни председатель поселкового Совета, ни майор Игнатов, ни старшина Петренко, ни даже местный оперуполномоченный ФСБ старший лейтенант Гнидин (вот уже третий месяц находившийся в отпуске в Сочи) — не подозревал о том, кем же был этот улыбчивый китаец на самом деле.
А на самом деле преуспевающий фарцовщик был не кем иным, как агентом китайской внешней разведки…
И мысли Ли Хуа, столь тяготившие его до ужина, были напрямую связаны с последним заданием, пришедшим из Центра.
Обычно задания были несложными: составить карту золотоносных месторождений, сфотографировать железнодорожный мост, набросать план подъездов к военным складам, найти и переправить в Китай образцы грунта, взятого в районе месторождения магния, выяснить количество обмундирования, поставляемого в гарнизон, чтобы по нему узнать приблизительную численность служивого контингента…
Последнее же задание повергло Ли Хуа в настоящее уныние: руководство решило, что именно этот агент справится с ним лучше всех. По оперативным сведениям, не далее как месяц назад на вертолетной площадке неподалеку от Февральска появились новые винтокрылые машины Ка-0012-"Б" (именно под таким кодом фигурировал новый, совершенно секретный вертолет). От агента требовалось подробно сфотографировать его и, завязав дружбу с летчиками, выяснить хотя бы приблизительные боевые характеристики.
Но как это сделать? — вопрос не из легких.
Конечно, подружиться с местными вертолетчиками, напоив их водкой "Новый рис" и накормив тушенкой "Великая стена", проблемы не составляло. Но летчики, как хорошо знал Ли Хуа, после двух литров водки (а меньше они просто не пили) совершенно забывали обо всем — даже как звали папу-маму, не говоря уже о каких-то там боевых характеристиках. К тому же многие из них в состоянии алкогольного опьянения были буйны, и это могло бы закончиться выяснением степени дружбы между Россией и КНР (остров Дальний, некачественные пуховики и презервативы, демаркация границ) и, как следствие, большим кровопролитием.
Заполучить детальные фотографии секретной машины Ка-0012-"Б" казалось делом еще более сложным: во-первых, площадка, на которой стоял этот вертолет, дополнительно охранялась, а во-вторых, командир взвода охраны, бывший покупатель презервативов, после того, как его жена неожиданно родила тройню, обещал повесить несчастного китайца на вертолетной лопасти.
Ли Хуа, по привычке почесав ягодицы, отодвинул от себя грязную сковородку и, с вожделением понюхав яичные скорлупки, пробормотал:
— Цязело, цязело, однако…
Глава восьмая
В ту памятную для него предновогоднюю ночь Михаил Каратаев остался ночевать в поселке — разумеется, не дома у Тани, об этом даже не могло быть и речи; девушки в Февральске всегда на виду, и влюбленному вовсе не хотелось, чтобы о Дробязко-младшей говорили так, как о Дробязко-старшей.
Умершие родители оставили в поселке единственному сыну небольшую квартирку — Михаил появлялся там нечасто, а лишь тогда, когда из-за непогоды или еще каких-нибудь обстоятельств не мог ехать в зимовье.
Конечно же, редкостных для Февральска мужских статей и напора бывшего спецназовца вполне бы хватило, чтобы в отношениях с Таней добиться того, о чем мечтали едва ли не все офицеры гарнизона, даже хронические импотенты, но ведь Каратаев был не таким, как все!
Он и в мыслях не допускал того, что может тронуть Таню до брачной ночи, и та, прекрасно зная о редкостной порядочности своего кавалера, гордилась внутренне и им, таким благородным, и собой, естественно.
Михаил появился в медпункте рано утром — его девушка уже была на работе. Впрочем, и работы-то никакой пока не было; только два похмельных прапорщика, новички здесь, в Февральске. Они только что закончили школу прапорщиков и с реалиями местного быта еще не освоились.
С такими клиентами Дробязко справлялась быстро; несмотря на то, что те клянчили хотя бы по пятьдесят граммов спирта на опохмел, медсестра была непоколебима. Стакан воды из-под крана с разведенной лимонной кислотой и ватка с нашатырем каждому — и прапорщикам предстояло возвращение к гарнизонной жизни.
Каратаев скромно сидел в углу, дожидаясь, его мощная фигура многократно отражалась в стеклянных шкафчиках с лекарствами и препаратами. У него был вид человека, долго обдумывавшего что-то очень и очень важное и лишь теперь принявшего решение…
Когда прапорщики, испуганно посмотрев на визитера, торопливо ушли, Михаил поднялся со стула, откашлялся и произнес:
— Таня, я давно хотел тебе сказать…
Девушка вздрогнула — наверняка она догадывалась о теме предстоящего разговора.
— Что, Миша? — спросила она, и ее глаза при этом говорили: "Смелей, смелей…"
— Таня, — по заалевшим щекам и блеску глаз Михаил понял, что она обо всем догадывается. — Таня, а ты Пелевина читала? Классная вещь — "Омон Ра"! — голос его окреп. — Короче говоря, я хочу… — Михаил сглотнул неожиданно набежавшую слюну. — Я тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей… женой, — наконец-то закончил он.
Сказал — и точно тяжелый груз с него свалился. Вдруг подумалось: "Многое я умею, но чтобы такое… Что поделать — в наше время «альфовцы» делают признания в любви, как водопроводчики…"
Впрочем, Каратаев зря корил себя: ведь признание в любви было у него первым.
Таня скромно опустила глаза, всем своим видом показывая, как долго она этого признания ждала.
— Я-люблю-тебя-и-хочу-чтобы-ты-стала-моей-женой, — повторил Каратаев. Язык превратился в сухой комок наждачной бумаги.
Таня по-прежнему молчала, осознавая. Она опустила голову, чтобы не встречаться с ним взглядом. Наверное, скажи он теперь еще что-нибудь — и по щекам потекут слезы радости и нежданного счастья.
Внезапно бывшего спецназовца охватила решимость — в жизни ему приходилось штурмовать разного рода преграды, но с такой он сталкивался впервые; куда там Кандагар, куда там укрепления недобитых сомосовцев в латиноамериканских пампасах, куда там непроходимые джунгли Анголы!
"Неужели она мне откажет, неужели не любит, а только делала вид?" — встревоженно закрутилось в голове.
Подойдя к девушке, он решительно взял ее за руку и спросил:
— Таня, Таня… — Кровь стучала в висках, мысли путались. — Таня, ты меня любишь?
Та наконец подняла на него глаза — слезы блестели на щеках, как драгоценные жемчужины, как утренняя роса на юном листке майского ландыша.
— Я согласна, Миша… — пробормотала она и вновь потупила взор.
И, уже не в силах себя сдержать, бросилась ему на шею…
Через полчаса они, обнявшись и держа друг друга за руки, сидели на диванчике в Таниной комнате — жених смотрел на невесту с нескрываемым обожанием.
Настроение было праздничное — и не только из-за близких праздников…
— Мишенька, я ведь так страдала, я думала, что ты меня совсем-совсем не любишь, — лепетала она. — Почему ты не сказал мне этого раньше?
Каратаев с трудом подавил в себе тяжелый безотчетный вздох.
— А я думал, что ты меня не любишь…
— А почему?
— Да так, думал, что ты видишь во мне только друга, — серьезно произнес Михаил. — И не больше.
— А мне казалось, что это ты видишь во мне только друга… Миша, а когда мы поженимся? — тихо и ласково спросила Дробязко, изнывая от предвкушения тихих семейных радостей.
— А когда ты хочешь? Хоть завтра, — с подкупающей прямотой предложил жених. — А хочешь еще лучше — прямо сегодня?
— Как?..
— Ну, пойдем в поселковый Совет и подадим заявление по полной форме. — Каратаев был настроен очень и очень решительно. — Представляешь, сколько на нашу голову хлопот? Открытки пригласительные надо послать, квартиру мою подготовить — не приведу же я тебя в зимовье! Насчет кафе договориться, и все такое.
— И у меня ничего не готово, — голос Тани внезапно стал немного печальным. — Ни фаты, ни платья… Откуда я могла представить, что ты сделаешь мне предложение именно сегодня?
— Я же не виноват, — Михаил заметно смутился. — Ну, если ты против…
— Нет-нет-нет, что ты, — запротестовала Таня и, наморщив лобик, произнесла немного невпопад: — И кого в подружки взять — даже не знаю.
— Только не свою сестру, — насупился бывший спецназовец.
— Но хоть пригласить-то ее можно?
— Приглашай… Представляю, что там будет, — поджав губы, пробормотал Каратаев. — Напьется, к мужикам будет приставать. Я-то своих друзей по Афгану, Никарагуа да Анголе предупрежу, и они наверняка прибудут.
— А чем ты заниматься будешь? — Несмотря на близкое счастье, Таня, как всякая дальневосточная девушка, недолго парила в небесах и быстро спустилась на землю. — Нам-то здесь жить…
— Не бойся, что-что, а денег я всегда заработаю, — твердо, по-мужски ответил жених, — я ведь охотник не самый худший в здешних краях. Да, кстати, я тебе подарок приготовил…
— А какой? — Таня возбужденно затеребила кружевную салфетку, покрывавшую телевизор.
— А секрет, — в тон ей ответил таежный охотник. — Вот придет Новый год — от Деда Мороза и получишь…
Таня отпустила салфетку и неожиданно, безо всякой, казалось, логической связи спросила:
— А дети у нас будут? — и густо покраснела.
— А то! — воскликнул жених и добавил очень серьезно: — Трое или четверо… Вообще я считаю, чем больше, тем лучше, — убежденно продолжил он. — Конечно же, все сыновья. Я их много чему научу: будут самыми сильными, самыми смелыми и самыми красивыми — в тебя.
— А я бы хотела девочек, — возразила невеста, — девочки — они ведь такие нежные, послушные, добрые, хозяйственные…
— Тяжело с ними в наше время, — вставил Михаил и сразу вспомнил старшую сестру невесты.
— Нет, девочек, — нарочито-капризно возразила невеста.
— Ладно, у нас еще все впереди, — уклончиво закончил диспут Михаил и, чтобы побыстрей закрыть тему, включил телевизор.
По хабаровскому каналу как раз передавали местные новости. Сперва диктор рассказал о недавнем визите в край высокопоставленного чиновника из Москвы, затем — об очередной забастовке шахтеров, затем — об открытии очередного совместного предприятия, затем — о стрельбе в центре Хабаровска. Она была связана, по мнению журналистов, с этим самым предприятием.
— А теперь — специальное сообщение краевого Управления внутренних дел. — Диктор, молодой импозантный мужчина, поправив щегольские очки, взял в руки лист бумаги. — Двадцать третьего декабря из мест лишения свободы совершили побег двое осужденных…
Михаил насторожился: не то чтобы побеги уголовников были тут, в Хабаровском крае, большой редкостью. Просто после этих слов его неприятно кольнули какие-то недобрые предчувствия, и он прибавил звук.
Диктор продолжал:
— …Астафьев Иннокентий Мефодьевич, уголовная кличка Чалый, 1948 года рождения, русский, уроженец Хабаровского края, 5 судимостей, последняя — за грабеж, осужден на 7 лет, и Малинин Сергей Арнольдович, уголовная кличка Малина, 1962 года рождения, русский, уроженец города Москвы, 2 судимости, последняя — за мошенничество, осужден на 5 лет, — голос его звучал напряженно, и напряжение неожиданно передалось бывшему спецназовцу. — Преступники вооружены, их действия отличаются особой дерзостью и цинизмом. Так, двадцать пятого декабря сего года ими было совершено разбойное нападение на магазин в поселке Февральск…
И Таня, и Михаил обратились в слух.
— …преступники изнасиловали и зверски убили двух продавщиц, завладев деньгами и материальными ценностями на сумму три миллиона шестьсот двадцать три тысячи сто семьдесят пять рублей, и скрылись в неизвестном направлении. Милиция ведет поиск. Если вам что-нибудь известно об этих людях, просьба сообщить в ближайшее отделение милиции или позвонить по телефону "02".
После этого сообщения на экране появились две фотографии — преступные физиономии угрюмо смотрели с экрана на зрителей.
— Этого еще не хватало, — вздохнул Михаил.
— А нам-то какое дело? — спросила его Таня. — У нас с тобой своя жизнь… А бандитов пусть милиция ловит.
— Наша хата с краю, так, что ли? — удивился Каратаев. — А если…
Таня, ничего не говоря, обвила его шею руками:
— Да что ты, Миша, не будем же мы ссориться из-за какой-то телепередачи!
А диктор тем временем продолжал:
— Увы, это не последняя печальная предновогодняя новость. В окрестностях того же поселка Февральск объявился тигр-людоед. Пока его жертвой оказался один человек, личность которого до сих пор не установлена. — После этих слов на экране появилась какая-то невнятная, растерзанная, присыпанная слежавшимся снегом фигура, покрытая замерзшими лохмотьями. Даже Таня со своим женихом не узнали в ней останки несчастного Дюни. — Просьба ко всем охотникам, ведущим промысел в вышеуказанном районе, соблюдать повышенные меры предосторожности…
— Час от часу не легче, — пробормотал бывший спецназовец, поднимаясь.
— Миша, куда ты? — не на шутку забеспокоилась Таня.
Каратаев тяжело вздохнул и прошел в прихожую одеваться.
— Неужели ты променяешь меня на каких-то уголовников? — искренне вырвалось у девушки. — Неужели какой-то тигр тебе дороже меня?
Взгляд Михаила стал очень серьезным.
— Таня, это касается не только тебя и меня. Это касается всех нас, — произнес он.
— Миша, неужели ты оставишь меня в такую минуту? — В голосе Тани звучала мольба.
— Не переживай, Танечка, я скоро вернусь… Я буду вспоминать о тебе, я скоро…
Разумеется, о двух скверных новостях — беглых уголовниках и тигре-людоеде — февральские военные узнали еще раньше: комендант гарнизона и командир войсковой части получили шифртелеграмму еще рано утром, на рассвете. Наверное, если бы не бюрократические процедуры, все было бы иначе и проще. Но хозяин ИТУ полковник Герасимов, скрупулезно следуя инструкции, сообщил о татуированных беглецах не в Февральск, как по логике и следовало бы, а прямо в Хабаровск; что касается разграбленного магазина, то майор Игнатов, узнав о трупах и погроме в продмаге, сразу же протрезвел и сообщил туда же, в Хабару, ожидая дальнейших инструкций и разъяснений: что-нибудь предпринимать самостоятельно он боялся, да и не умел, да и был не в силах. Майор сообщил и о тигре-людоеде — останки "неустановленного лица" были обнаружены другими бомжами, которые посчитали за лучшее не забрасывать их снегом, а ломануться подальше от трупа бывшего конкурента по сбору посуды и, позвонив в ментовку, сообщить о страшной находке.
Как бы то ни было, но в гарнизоне начался кошмар и большой бенц: суетились командиры, срочно формировались усиленные патрули для прочесывания местности, офицеры и прапорщики получали табельное оружие и соответствующие инструкции у начальника штаба.
В насквозь прокуренном кабинете командира части царили гам и нездоровое напряжение. Перспектива ночного патрулирования, да еще в жесточайший декабрьский мороз, явно не придавала оптимизма офицерам — ни старым, ни молодым.
— Блин, сегодня ж футбол по телику, европейский кубок, — возмущался толстый капитан, нервно стряхивая пепел после каждой затяжки.
— Да-а, а этим неймется, каких-то зэков им приспичило разыскивать, — посетовал на вредное начальство сухощавый лейтенант в лоснящемся кителе.
— Какого хрена мы найдем? — кипятился толстяк. — Там же темно уже, ничего ж не видно!
— А холодина сегодня какая — минус пятьдесят два градуса, я сам на градусник смотрел! — В подтверждение своих слов сухощавый лейтенант даже поежился, как будто в теплом штабе тоже резко похолодало.
— Главное ж, это ж не наше дело, милиция тогда чем будет заниматься, а? — вспоминая функциональные обязанности сотрудников МВД, пожал плечами толстячок.
Тем временем штаб наполнялся прибывшими по команде «Сбор» офицерами и прапорщиками. Не в полной мере отыгравшиеся на бедных рядовых-посыльных, они ругались и на погоду, и на ментов поганых, и на начальство и, естественно, друг на друга — поводов было более чем достаточно. Оторванные от культурного досуга — игры в карты на деньги, дегустации местного самогона, встреч с чужими женами, воровства дров у местного гражданского населения, — офицеры, собравшиеся в штабе, заодно выясняли взаимную степень уважения и, как следствие, крыли друг друга разными нехорошими словами.
Спустя два часа армейское начальство сумело-таки составить списки дежурств патрулей. После оглашения списков очередности скандал разгорелся с новой силой.
— А почему это именно я в ночное время? — возмутился лейтенант, почесывая шею.
Это был тот самый младший офицер, которого урезонил Каратаев: шея у него болела до сих пор.
— А потому что ты еще неженатый, а значит, не надо тебе свои обязанности исполнять, — нашелся толстый капитан.
— Ха! А то ты исполняешь! — презрительно хмыкнул лейтенант Сидоров: он-то лучше других знал, что жена капитана была весьма недовольна темпераментом и возможностями супруга.
— Все, достаточно, хватит пререкаться в присутствии вашего старшего начальника, — подытожил председательствующий майор. — Быстро получать оружие и боеприпасы, быстро ознакомиться с милицейскими ориентировками, быстро просмотреть по карте маршрут. Все, я вам говорю!.. Сми-и-ирр-на-а!..
Правильно говорят умные люди: если уж не везет, то это надолго, если не навсегда…
В те предновогодние дни лейтенанту Сидорову здорово не везло.
Сперва он проиграл в карты три летних комплекта солдатского обмундирования — по идее, лето наступало не скоро, а когда бы обмундирования хватились, Сидоров был бы уже в другом гарнизоне.
Потом ему наотрез отказала Таня Дробязко. Это, по мнению младшего офицера, было тем более удивительно, что ее сестра Оля была отпетая шлюха, и Сидоров было подумал, что это у них генетическое. Кстати, еще неделю назад Оля творила чудеса акробатического секса, и лейтенант уделил ей целых полчаса, а потом пошел к ее подруге, парикмахерше Люде.
Затем — ну так некстати! — он получил по шее от воздыхателя Тани, этого сумасшедшего охотника Каратаева; шея тупо ныла до сих пор.
И вот теперь — новая неприятность: ночное патрулирование по дикому холоду в обществе дегенерата-прапорщика и трех своенравных дембелей, которым глубоко наплевать и на тигра, и на беглых уголовников, и на него, родного отца-командира.
Правда, служба тут, на Дальнем Востоке, учит изворотливости мысли и практичности поступков: именно поэтому лейтенант Сидоров взял с собой большую металлическую флягу со спиртом, решив никому, кроме дегенерата-прапорщика, о ней не говорить (впрочем, рассказывать о спирте беспечным дембелям не стоило — те, в предчувствии холодов и скорого поезда на Большую землю, набрали с собой дорогой «Пшеничной» водки).
Уже стемнело, когда патруль из пяти человек, с пронзительным скрипом сапог и поминутными ругательствами в адрес климата и начальства, двинулся из поселка, приминая снег…
Михаил Каратаев вел свой «уазик» аккуратно и сосредоточенно. Еще бы — одно неверное движение руля, и машина выйдет из глубокой накатанной колеи и застрянет в сугробе, а кто в такое время вытащит ее на тросе? Не говоря уже о том, что в снегу можно оставить и глушитель, и бампера…
Беспощадно яркие конусы света фар вырывали из темноты поваленные деревья, припорошенные снегом, ржавые кузова когда-то брошенной техники, полуразрушенные, давно уже нежилые вагончики, кучи шлака…
Вскоре «уазик» выехал за пределы Февральска. Каратаев, взглянув в зеркальце заднего вида, заметил лишь микроскопические световые точечки горевших вдали окон — поселок медленно, неотвратимо удалялся.
"Может быть, зря я оставил там Таню, — вздохнул Михаил, — тем более в такой день?.. Вон как я волновался, так ведь я мужчина, я сильный, а она…"
Михаил встряхнул головой, словно пытаясь сбросить с себя навязчивое наваждение.
"Нет, она умная, она добрая, она должна меня понять, — успокаивал он себя, поглядывая в зеркальце, — если разобраться, то, кроме меня, никто не сможет избавить людей и от тигра, и от…"
От этих мыслей его оторвал голос диктора, прозвучавший по радио: до того из динамика неслась какая-то легкая музыка, и Каратаев не обращал на нее внимания.
— …как уже сообщалось, в эти предновогодние дни в Хабаровском крае произошло сразу два ЧП, — в голосе, несущемся из динамика, звучали настороженные, металлические нотки. — К сожалению, уголовники, сбежавшие из ИТУ, до сих пор не обнаружены. Передаем их приметы: первый — Астафьев Иннокентий Мефодьевич, уголовная кличка Чалый, 1948 года рождения, русский, уроженец Хабаровского края, 5 судимостей, последняя — за грабеж, осужден на 7 лет. Передаем приметы…
Каратаев, прибавив громкость, весь обратился в слух.
— …рост — сто семьдесят семь сантиметров, коренастого телосложения, за левым ухом — поперечный шрам, мочка правого уха оторвана, в верхней челюсти — два зуба желтого металла, лоб низкий, нос прямой, перебитый, лицо вытянутое, волосы темные, коротко стриженные, глаза маленькие, карие. Особые приметы: на глазных веках вытатуировано предложение "ЧАЛЫЙ СПИТ". На левом предплечье — татуированное изображение распятья и слово «БОГ». На правом предплечье вытатуирована роза, обвитая колючей проволокой. На обеих плечах — татуированное изображение гусарских эполет. В области ключиц выколоты восьмиконечные звезды, такие же звезды выколоты и на коленях. На груди — изображение лысого мужчины с нимбом и крыльями за спиной, бьющего в колокола. Внизу живота — изображение рогатого мужчины с хвостом, держащего в одной руке развернутую карточную колоду, а в другой — нож, и надпись: "ПРОИГРАЛСЯ — ПЛАТИ ИЛИ ГОТОВЬ ВАЗЕЛИН". На спине — изображение православного храма с пятью куполами. Под левой ягодицей изображен черт, лопатой бросающий уголь в топку. На всех пальцах рук выколоты перстни. Между большим и указательным пальцами левой руки выколоты пять точек. На правой ноге выколота надпись "ТЕЩА — ПОМОЙ", на левой — "ЖЕНА — ВЫТРИ".
"Ходячая Третьяковская галерея", — нахмурился Каратаев, но развить свою мысль не успел, потому как диктор продолжал:
— …второй преступник — Малинин Сергей Арнольдович, уголовная кличка Малина, 1962 года рождения, русский, уроженец города Москвы, 2 судимости, последняя — за мошенничество, осужден на 5 лет. Передаем приметы: рост — сто семьдесят сантиметров, худощавого телосложения, два нижних зуба отсутствуют лоб высокий, нос расплющенный, лицо круглое, волосы русые, глаза большие, серо-голубые, губы полные, под нижней губой — небольшой продольный шрам. Особые приметы: на левом предплечье — татуированное изображение женщины, привязанной к столбу, под ней — разожженный костер и надпись на горящей книге: "УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС". На правой ноге — выколотое изображение ракеты с сидящим на ней мужчиной и надпись "НА ЛУНУ ЗА ПЛАНОМ".
Михаил, обладавший прекрасной памятью, сразу запомнил наколки, или, как их тут еще называют, портаки, и не только запомнил, но и составил по ним приблизительное представление о сбежавших. Ведь татуировка может дать знающему человеку куда больше информации, чем иному паспорт или автобиография: где сидел, за что сидел, сколько сидел, какой «масти» придерживается, какой вес имеет в уголовном мире.
Конечно же, Михаил не был ментом, но, живя тут, в Февральске, где не менее трети мужского (и четверти женского) населения отсидело на зонах, немудрено знать такие вещи: о них в поселке наслышаны даже дошкольники.
Чалый был классическим, рафинированным блатным — даже совершеннолетие он наверняка встретил за решеткой, о чем говорила роза в колючке. Пять «командировок» — по количеству куполов на спине, сторонник честной карточной игры — по изображению черта и категорического изречения насчет вазелина. Ну, а еще — звезды на плечах ("никогда не надену погоны"), на ногах ("никогда не встану на колени"), колокола на груди, распятье и прочий антураж…
Второй, судя по всему, к блатным не принадлежал — в том, что преступление было совершено не без участия женщины, свидетельствовала татуировка на левом предплечье. Ну а то, что этот самый Малинин Эс. А. любил курить анашу, — изображение космического корабля и соответствующая надпись о "плане".
"Видимо, этот самый Астафьев — матерый мужик, — прикидывал бывший спецназовец, выводя машину из юза, — к тому же — из этих мест, тайгу хорошо знает… Немудрено, что их до сих пор не поймали. А второй — так, на побегушках, шестера, слабый…"
— Преступники вооружены, их действия отличаются особой дерзостью и цинизмом. Так, двадцать пятого декабря сего года ими было совершено разбойное нападение на магазин в поселке Февральск…
Водитель на какое-то время отключился, задумался — все его мысли были только о том, сколько же еще зла могут причинить людям эти мерзавцы, если их не остановить. Позади него тускло поблескивали далекие огни — Февральск, сборище алкоголиков, развратных малолеток, бомжей, спившихся военных и коррумпированных ментов. "Ведь и они тоже люди", — думал Каратаев.
Но — и это главное! — там, в поселке, жил самый дорогой и близкий для него человек — Таня, с которой он уже связал свою жизнь…
А радио продолжало:
— Передаем еще одну неприятную новость: как уже сообщалось, в окрестностях поселка Февральск объявился тигр-людоед…
Тут уж ничего нового опытный таежный охотник услышать не мог и потому приглушил радио.
Каратаев был угрюмо-сосредоточен — он и не заметил, как подъехал к своему зимовью. Остановил машину, заглушил двигатель, хлопнул дверкой и направился к чернеющему среди заснеженных лиственниц домику.
Амур, заметив хозяина, бросился к нему с приветственным лаем.
— Ладно, ладно тебе, — произнес Михаил, заходя в зимовье, — сейчас только соберусь, и пойдем…
Он быстро почистил винчестер, взял с собой патроны, одел на Амура поводок — и вот охотник со своим любимым псом скрылись в тайге…
Глава девятая
Лейтенант Сидоров, подведя подчиненных к ржавому и бесформенному металлическому скелету автобуса, остановился.
— Все, дальше не пойдем…
Дембеля удовлетворенно выдохнули из себя воздух и привычно выматерились — шли они очень долго, километра четыре; для дембеля, который мнит себя уже совершенно свободным гражданским человеком, — расстояние достаточное, чтобы обидеться хоть на самого министра обороны.
Однако прапорщик, высокий, жилистый, с лицом, побитым угреватой сыпью, неожиданно запротестовал:
— Че ты, Коля, мы еще половину маршрута не прошли! Дальше надо!
Сидоров только недовольно поморщился:
— Если ты такой умный, то дальше иди сам. Не хрена мне там делать, каких-то уголовников ловить. Я что — мент поганый?
Возражать начальнику патруля не приходилось, да и сам угреватый прапорщик в глубине души целиком и полностью разделял мнение младшего офицера, к тому же удаляться от Февральска в такую погоду, да еще ночью — перспектива явно не из радостных.
Да и беглые уголовники вроде бы вооружены — если верить путаной милицейской ориентировке. И тигр, подлец эдакий, человечинку любит.
Похлопав рукавицами, прапорщик ответил — но уже примирительно:
— Да что ты, Коля. Думаешь, мне самому это больно надо? Я о тебе беспокоюсь…
— Че? — на редкость лаконично поинтересовался лейтенант Коля.
"Кусок" (так в армии издавна называют прапорщиков) продолжал нехитрую мысль:
— А если проверка какая, начальство внезапно нагрянет?
— Какое, твою мать, начальство, — возмутился младший офицер, — да еще в такой дубр! Да они там с бабами третий день водяру жрут, сегодня от коменданта да начштаба так несло… — завистливо продолжил он и, не закончив мысли, поежился от холода и обернулся к дембелям: — Ну, что, орлы, стоите? Дрова собирайте, а то закоченеете на хрен здесь!
— Не будем, — послышалось из кучки дембелей очень угрюмо.
— Как это не будете?! — возмутился прапорщик. — А что — мы будем, что ли?
— Если вы будете, то идите на хрен, — невнятно, но обиженно промычал один из старослужащих и, шмыгнув простуженным носом, отвернулся.
Только теперь лейтенант Сидоров заметил, что солдат был вдребадан пьян.
Двое других дембелей своим независимым видом откровенно демонстрировали пренебрежение и к воинскому долгу, и к начальственной заботе.
— Так что — так и будем мерзнуть? — примирительно поинтересовался Сидоров.
— Не будем мерзнуть. Не положено!..
Добавить что-нибудь, а тем более возразить было невозможно: младший офицер и прапорщик, на чем свет стоит проклиная судьбу и начальство, уныло побрели в сторону бурелома.
Костер долго не разгорался, и Сидоров, разминая покрасневшие, не гнущиеся от мороза пальцы, полез в болтавшийся на ремешке планшет.
— Ты че собрался, Коля? — непонятливо спросил прапорщик.
— Закоченеем ведь на хрен, — кусая синие от мороза губы, процедил лейтенант.
— А че у тебя там, бензин или сухой спирт? — Мотивы офицерского поведения были совершенно непостижимы для скудных прапорщицких мозгов.
Сидоров вытащил из планшета большой лист разноцветной бумаги с грифом «Секретно» и сунул его в самую гущу веток. Пару раз щелкнул зажигалкой — и костер наконец-то был зажжен.
— Спирт у меня вот здесь, — наконец-то снизошел лейтенант до объяснения, похлопывая рукой по внутреннему карману шинели, — только не сухой, а жидкий.
— А что там за бумажка?
— Да карта маршрута, хрен на нее большой и толстый… — поморщился младший офицер и милостиво предложил: — Ладно, согреемся, что ли?..
Спустя полчаса импровизированный бивак патруля представлял собой замечательное и во всех отношениях редкостное зрелище: офицер и прапорщик, по-братски взявшись за руки и встав спиной к костру, говорили подчиненным такие слова, от которых наверняка бы побледнели и зашатались магаданские докеры, приамурские геологи, командиры дисциплинарных батальонов, не говоря уже о простых российских уголовниках; кто угодно побледнел бы от таких слов, но только не простые российские дембеля, которым, как известно, все по хрену и все сугубо фиолетово.
Разговор был, несмотря на пятидесятиградусный мороз, на редкость оживленный…
Когда-то великий биолог Чарлз Дарвин писал о борьбе всего живого за место под солнцем, борьбе безжалостной и беспощадной. Тут, в четырех километрах от цивилизации, тоже шла борьба, но не за животворные солнечные лучи, а за близость к светилу искусственному, то есть к костру: дембеля рвались к огню, а офицер и прапорщик, справедливо обидевшись, их не пускали.
— Вы дрова не носили, снег не расчищали, костер не разжигали! — тяжело дыша перегаром, кричал на дембелей лейтенант. — На хрен, на хрен, я сказал, на хрен отсюдова!
Ему вторил надтреснутый басок угреватого прапорщика:
— Да, бля, засранцы, работать надо, работать! — Переведя дух, он неожиданно гаркнул: — Равняйсь, смирно!..
Это очень напоминало старую добрую русскую сказку о сороке-вороне: "Ты дрова не носил, печку не топил, тесто не месил…"
Однако дембеля оказались непростые: таких, как эти, за стакан кедровых орешков не купишь, а уж тем более цитатами из родного фольклора.
— А ты нас на хрен не посылай, ты, гнойный, — ощерился один из оппонентов.
— Приказ о демобилизации когда вышел?.. Или мы читать не умеем?
— Мы уже давно, бля, на вольняшке, — поддакнул другой.
— Тебе что — генерал армии, министр обороны не указ? — наступал первый.
— А где есть такой приказ, чтобы дембеля дрова носили? — наступал второй.
— А чтобы шакалы офицеры и «куски» о вверенном им личном составе не заботились, а? — откровенно издевался первый.
Третий, непонятной, явно монголоидной расы, но неопределенной даже для старшего писаря национальности, дико вытаращил глаза и медленно снял с плеча автомат Калашникова…
Вообще-то дембелям ходить на такие мероприятия, как эти, западло, а тем более западло таскать с собой автомат, большой и железный, почти в пять килограммов весом. Однако из-за серьезности ЧП гарнизонное начальство решило послать в патруль самых опытных — то есть старослужащих, дембелей. Двое, будучи крайними ревнителями священных армейских традиций, от получения оружия нагло увильнули, а третий — тот самый, непонятной для всех монголоидной расы, был страшно рад, что еще раз подержится за символ силы и власти…
Гулко и звонко лязгнул затвор — лейтенант и прапорщик отступили на несколько шагов, едва не свалившись спинами в костер.
— Стой! Кто идет? — вспомнив одну из немногих фраз на великом и могучем языке, с акцентом, но очень явственно произнес монголоид неизвестной национальности и тут же, подобно попугаю ара, выдал остальной словарный запас: — Моя русский совсем не понимай, моя стреляй плохо умей, моя скоро юрта жить, твоя водка пить, бабу гуляй, дембеля не любить.
Лейтенант Сидоров раскрыл от изумления рот, не находя слов, но тут ему на помощь пришел опытный прапорщик.
— Ефрейтор Жасымбаев, смирно! — зычно скомандовал он.
Да, прапорщик знал, что приказывал: два года службы так сильно стукнули неизвестного монголоида по азиатскому темечку, что он не мог не выполнить команды — Жасымбаев выпрямился, мгновенно повесил оружие на плечо и дико вытаращил глаза на командира, готовый, подобно роботу, беспрекословно выполнять все его приказы.
Двое других дембелей в ужасе посмотрели на товарища, начисто зомбированного уставами. В их пьяных глазах мелькнул испуг, и они поняли, что проиграли бесповоротно и окончательно…
— Ефрейтор Жасымбаев, арестовать младшего сержанта Вшивина и рядового Козлова!
— Младшая сержанта Вшивая и рядовая Козла, снять ремни, руку вверх! — бесстрастно, деревянным голосом скомандовал ефрейтор.
Вшивин оторопел, но попытался спасти ситуацию:
— Чурка, да че ты! Борзый, да? Ты же дембель, на кого задницу рвешь?! На этих шакалов? Сержанта тебе уже все равно не дадут!
— Разговорчики, — процедил сквозь зубы заметно повеселевший прапорщик, внутренне торжествуя. — Так, арестованным снять ремни, положить перед собой, выложить содержимое карманов.
При этом прапорщик быстро расстегнул кобуру и направил свой «Макаров» на младшего сержанта Вшивина — любителя утонченной поэзии из жизни дембелей и самого главного зачинщика бунта.
Сопротивляться не имело смысла, и европеоидные старослужащие вынуждены были соблюсти субординацию. Вскоре на утоптанный снег, рядом с ветками валежника, легли ремни с остро заточенными бляхами и содержимое карманов: грязные одноразовые шприцы, пустые упаковки из-под димедрола, пакетик с «насом» — очень дешевым и потому очень любимым солдатским наркотиком на Дальнем Востоке, смятые пачки «Беломора», дембельский блокнот, несколько острых заточек. Младший сержант Вшивин, ухмыляясь, положил завернутый в грязный обрывок полковой многотиражки использованный презерватив.
— А зачем ты это в карманах таскаешь? — неподдельно удивился Сидоров.
— Да от ваших, бля, от офицерских жен можно всякую подцепить, а он у нас с Ванюхой, — арестованный Вшивин кивнул на арестованного Козлова, — один на двоих… Во, как выручает. Вот уже третий месяц. А че — постирать, послюнявить, чтобы во все дыры заходил лучше, и как новенький получается, в смазке, бля, нах…
Впрочем, все закончилось благополучно: лейтенанту Сидорову как человеку, прошедшему в военном училище курс специальной педагогики, удалось договориться полюбовно — арестованные были освобождены "под честное слово", но обязались ходить за дровами и до возвращения в гарнизон выполнять несложные приказы начальства.
Лейтенант, будучи гуманистом и тонким психологом, даже угостил прощенных спиртом — чтобы за валежником ходилось веселей. Это еще более сблизило срочников и офицерско-прапорщицкий состав…
Чернильно-темная, как гематома, ночь прорезалась яркими всполохами желто-алого пламени. Искры летели в самое небо и растворялись, казалось, в самой стратосфере. Весело трещал сухой валежник, пожираемый жадным огнем, тщедушные фигурки людей в длинных шинелях отбрасывали на сугробы, на ржавый остов автобуса, на редкие кусты причудливые, фантастические тени…
Огромная рыже-полосатая кошка, при всей своей смелости, боялась огня. Наверняка бы она подошла поближе еще раньше, но пламя разгоралось все сильней, черные тени плясали как безумные, от костра полыхало жаром, и это заставило тигра притаиться; он нервно шевелил хвостом, морщил морду, оскаливая страшные клыки, но не уходил — видимо, интуиция подсказывала хищнику, что рано или поздно какая-то из этих беспечных фигурок отойдет от страшного пламени, а голод заставлял таиться, прижимаясь к холодному снегу, ломая о наст налипшие на брюхо сосульки.
Наконец-то одна из фигурок приподнялась от костра — до тигра донеслась человеческая речь; рыже-полосатая кошка насторожилась…
Тем временем патрулирование продолжалось полным ходом…
— Ну, спиртяры до хрена, а закуси нема, — пьяно пошатываясь, произнес Сидоров.
— Да ладно, летеха, сиди, хрен с ним… Покемарим, не замерзнем, — вяло ответил Козлов.
— Так нам до утра сидеть. — Урчание в животе лейтенанта вызывало естественное желание закусить, а обилие спирта (фляга, естественно, оказалась и у запасливого прапорщика) — желание допить с комфортом. — Я, бля, может быть, хочу за ваш счастливый дембель выпить… Вы на Большую землю откидываетесь, а мы тут остаемся. А что за выпивка без закуси? Не пьянка, а онанизм души и желудка, бля…
— Так где ты ее возьмешь теперь? — удивился дембель Вшивин.
— Во, бля, два года прослужил, а службы не знаешь! — ответил офицер. — В родной солдатской столовой скоммунизжу, а то где же еще?
— Так что — в гарнизон? — удивился Козлов.
На лицах дембелей вновь появилось недовольство; перспектива бросить костер, чтобы брести четыре километра туда и четыре — обратно, явно не радовала заносчивых старослужащих.
Но тут лейтенант произнес фразу, заставившую всех облегченно вздохнуть:
— Я сам…
— Да ты че, вот, бля, и впрямь службы не знаешь! — отпрянул Вшивин. — У нас ведь чурка есть, тупой-тупой! Его и пошлем. — Видимо, обида за предательство оказалась сильней солдатской солидарности. — Слышь, Жасымбай, чурка долбаный, шестерка поганая, сбегай-ка по-быструхе в нашу столовку, укради там что-нибудь… Что сидишь?.. Ну быстро — раз-два-три!
— Моя русский не понимай, — привычно откликнулся ефрейтор. — Моя скоро в юрта жить, чая пить, столовка не ходить…
— У-у-у, скотина безмозглая, — вздохнул Козлов и злобно сплюнул в костер. — Так что — офицер для тебя за жратвой пешком пойдет? Или, того почище, мы, дембеля?!
Спирт играл в молодой крови лейтенанта Сидорова и звал на подвиги. В гарнизон он хотел идти вовсе не потому, что желал угостить дембелей закуской, а из-за дела куда более важного и приятного: пока угреватый прапорщик сидел тут, у костра, его молодая, но очень стервозная жена откровенно скучала в теплой постели, а это значило, что появление в ее спальне другого мужчины пройдет безнаказанным…
— Ну и хрен с тобой, — буркнул офицеру Вшивин, — хочешь яйца отморозить — вали…
Лейтенант, напевая под нос какую-то нехитрую строевую песенку, отдалился от костра и побрел в сторону дороги. Вскоре его фигурка скрылась из виду.
— Совсем у нашего взводного мозги поехали, — искренне засокрушался дембель Вшивин, — и что это с ним такое сегодня? Ничего не пойму.
— Ну и пусть, нам больше спиртяры останется, — отозвался прапорщик, который, конечно же, подозревал об истинных мотивах поведения офицера, но тяга к свету, теплу и спирту оказалась сильней естественного чувства ревности.
— Слышь, летеха, ты там еще поддать принеси, а то до утра все выжрем! — крикнул старослужащий Козлов в темноту; его слова гулким эхом разнеслись по заснеженной пустынной равнине.
— …ы-ы-ы… бу-бу-бу… — донеслось в ответ лейтенантское пожелание.
Да, это была настоящая идиллия: братание товарищей по оружию, спиртные напитки, тепло, огонь, трогательная забота офицеров о подчиненных…
Но вскоре откуда-то из темноты послышался пронзительный, нечеловеческий, истошный крик, заставивший всех вздрогнуть, — так может кричать человек, которого живьем режут на части.
— А-а-а-а!.. О-о-о-о!.. И-и-и-и!.. — неслось из темноты — страшное, душераздирающее.
Следом за криком раздалось хищное рычание.
Все повскакивали — наверняка только теперь военные вспомнили о втором ЧП, о том, что говорили на инструкции о тигре-людоеде…
Не растерялся, как ни странно, только один ефрейтор Жасымбаев: привычным жестом вскинув автомат, он, как и положено по уставу гарнизонной и караульной службы, громко крикнул по направлению леденящих душу звуков:
— Стой! Кто идти?
В ответ донеслись еще более жуткие крики, заглушаемые тигриным рычанием.
— Стой! Моя стрелять будет! — грозно произнес монголоидный ефрейтор, втайне гордясь знанием воинских уставов.
— А-а-а-а!.. Те-е-е-е!.. — донесся последний вопль пожираемой жертвы.
— Мой совсем стреляй! — После этих слов бдительный Жасымбаев, как и положено, сделал одиночный предупредительный выстрел вверх, а когда понял, что это не подействовало, выпустил на крики и рычание весь рожок; темноту непроницаемой ночи пронзительно прорезали тонкие нити трассирующих пуль; в голову угреватого прапорщика со свистом полетели свежеотстрелянные гильзы, заставив его пригнуться и закрыть лицо руками.
Как ни странно, но после этого крики и рычание стихли.
Механическим жестом, по-уставному, Жасымбаев молодецки закинул за спину автомат и, отдав честь прапорщику; отрапортовал:
— Моя совсем шакала-людоеда убила! Моя отпуска в юрта заслужила, однако!
…Минут через десять прапорщик и трое дембелей уже стояли над растерзанным, окровавленным телом лейтенанта Сидорова.
Труп любителя спирта, закуски и чужих жен являл собой жуткое и отвратительное зрелище. На утоптанном, буром от крови снегу, что свидетельствовало об отчаянной борьбе, в угнетающей своей неестественностью позе, с перегрызенной шеей и оторванной рукой, лежал несчастный младший офицер…
На груди зияла большая, размером с хороший футбольный мяч, дыра, запекшиеся края ее и дымящаяся офицерская шинель свидетельствовали о том, что ночная стрельба из автомата трассирующими пулями достигла цели.
Трудно было определить истинную причину смерти лейтенанта Николая Сидорова: то ли клыки хищника-людоеда стали тому виной, то ли случайное попадание меткого ефрейтора Жасымбаева.
Ефрейтор, приближаясь к распростертому телу застреленного командира, удовлетворенно улыбался в предвкушении отпуска в юрте, чая с мукой и бараньим жиром, но отсутствие тела тигра-людоеда заставило вытянуться широкое монголоидное лицо ворошиловского стрелка…
После налета на парикмахерскую и очередного убийства опытный Чалый понял: из вагончика на краю поселка надо сматываться, и как можно быстрей. Пока все шло успешно, но это пока… Беглецов наверняка уже искали — менты на ушах стояли, рвали очко, чтобы уйти от неприятностей, — это наверняка. А потому оставаться, пусть в теплом и относительно комфортном убежище, но все-таки на краю большого поселка, было рискованно, и беглецы решили найти новое место дислокации.
Таковое и было вскоре найдено: старое, заброшенное зимовье в двух километрах на северо-запад от Февральска. Тут, на Дальнем Востоке, подобных брошенных зимовий куда больше, чем обжитых: охотники умирают, или, состарившись, перебираются в город, или — что куда чаще! — загибаются от огненной воды…
Чалый, устало развалившись на топчане, покрытом полуистлевшей оленьей шкурой, лениво листал найденный тут же засаленный журнал «Огонек» за 1977 год — при этом лоб беглеца прорезала глубокая вертикальная морщина, свидетельствующая о глубокой задумчивости; подобное случалось с Иннокентием нечасто.
Малина сидел у сделанной из железной бочки «буржуйки» и грел озябшие руки — после поспешного бегства из вагончика он никак не мог согреться.
— Че ты там читаешь, а, Чалый? — спросил он, задумчиво глядя на языки пламени, скачущие в жерле печи.
— Как умным стать, — послышалось из-за спины. — Как таким придурком, как ты, не быть.
Некоторое время беглецы молчали — Малинин обдумывал, как бы вернуть товарища по несчастью к главному, то есть к захвату вертолета и бегству в соседний Китай; слышны были только сопение Астафьева да треск дров в "буржуйке".
— А как же наш план? — осторожно спросил он по прошествии десяти минут.
— Кстати, почему ты, паучина, «плана» не нашел? — Астафьев с шумом захлопнул журнал. — Я ведь тебя обещал в очко выдрать, петуший гребень приделать, а?
— Да че ты, Кеша, совсем по беспределу решил зарядить — так, что ли? — невзначай щегольнул Малинин тонким знанием блатных понятий. — Где же я теперь «дури» для тебя найду-то?
— Мое какое дело… Когда старшие говорят — надо делать, — процедил Чалый, — а если не делаешь… Все по закону, никакого беспредела нет.
И он, поднявшись, решительно подошел к подельнику — тот, вжав голову в плечи, приготовился к самому худшему.
— Ладно, не боись, я тебя еще немного пожалею, — милостиво произнес Астафьев. — Кстати, ты в парикмахерской ножницы взял… Дай-ка их сюда.
Малинину вдруг показалось, что Кеша решил его зверски кастрировать: ввиду того, что ножницы были маникюрными, несчастному бы пришлось нелегко — операция обещала быть долгой и мучительной.
— Че сидишь, как прокурор на процессе? — злобно сказал Чалый, — я тебе что сказал?!
— А зачем тебе ножницы?
— Я сказал — дай, значит, дай, — последовало категоричное.
Делать было нечего — пришлось подчиниться.
Однако цирюльный прибор потребовался Чалому вовсе не для незамысловатой хирургической операции — к огромному облегчению его товарища. Взяв «Огонек», Иннокентий принялся аккуратно резать картинки на равные части, то и дело сравнивая края. Затем, немного пожевав хлеб, сделал клейстер; когда картинки с изображением передовиков производства и знатных доярок были обклеены с «рубашки» листками серой бумаги для цигарок-самокруток, у опытного блатного получились настоящие игральные карты. Ровно тридцать шесть, как и положено, — правда, не роскошные «Атласные», которые обычно продаются в Хабаровске, в киосках «Союзпечати» да на рынке, но все-таки лучше, по мнению Чалого, чем вообще никакие. Даже намного оригинальней: заслуженные доярки и свинарки были дамами, а знатные шахтеры, механизаторы и передовики производства — королями и валетами (блатной, послюнявив ртом химический карандаш, нарисовал соответствующие символы масти и достоинства).
— Ну что — хватит яйца чесать, давай лучше выясним, кто чего стоит, — опытный блатной кивнул подельнику, — давай, давай…
Кто-кто, а Малина знал, чего стоит в «катании», то есть в карточной игре, Чалый, — скривившись, словно выпив натощак стакан денатурата, он произнес:
— Да чего выяснять…
— Сыграем, что ли?
— Да как с тобой играть, Чалый, если у тебя в колоде восемь тузов и двенадцать королей?! — обреченно спросил москвич.
— Сколько надо, столько и есть, — ухмыльнулся Астафьев, — давай, давай, когда человек тебе дело предлагает. А что так сидеть — баб ты не привел, анаши не достал, «адик», — Иннокентий имел в виду одеколон, — кончается, делать все равно нехрен.
Малинин, наученный горьким опытом, решил пока не напоминать о плане — это многозначительное понятие могло быть истолковано превратно.
Он осторожно поинтересовался:
— А во что?
— Ну, можно в буру, можно в храпа, можно в очко, — ухмыльнулся Астафьев. — Очко — это игра такая, это не то, что ты подумал. Ну, надо набрать двадцать одно. Знаешь, знаешь, — упредительно сказал он, видя, что Малина хочет отвертеться от «катания» под предлогом незнания игр. — А не знаешь, так я тебя научу…
Да, наверняка в тот вечер не стоило Малинину садиться играть с Кешей — спустя три минуты он проиграл сапоги-"прохоря", спустя еще три минуты — клифт, то есть бушлат-телогрейку, спустя еще минуту — нательную фуфайку и рваные рукавицы.
Ну, а через двадцать минут москвич был раздет до исподнего.
Чалый, довольный собой, деланно-равнодушно смотрел на гору грязной одежды и на Малинина — тот, синюшный, покрытый гусиной кожей, жался грязной спиной к заржавленной "буржуйке".
Перетасовав карты, Астафьев неожиданно ласково произнес:
— Ничего, Малина, в жизни всякое бывает… Сегодня ты мне проиграл, завтра — я тебе. Судьба, бля, она ведь, как баба, знаешь, завсегда предает. Стерва переменчивая. Давай еще…
С этими словами он тасонул колоду и небрежно бросил ее на пол.
— Что? — в ужасе отшатнулся Малина и, задев локтем раскаленную бочку, тут же вскрикнул.
— Ну, я же говорю, что судьба переменчива. Что — может быть, отыграешься?
— Да что ты… Как я по тайге босиком, в одних трусах и без портянок пойду? Я же не генерал Карбышев! Нет, не хочу!..
— Если не захочешь — будешь у меня красным командиром Лазо, — как бы невзначай бросил Астафьев, многозначительно и зловеще кивнув в сторону докрасна раскаленной бочки, — которого японцы живьем в паровозной топке сожгли. Да ладно, че ты, в натуре, заладил, как целка-невидимка: "не хочу, не хочу", — перекривлял он последние слова подельника. — Давай…
— Так ведь все проиграл. Ставить-то мне на кон нечего, — вздохнул Малинин, думая, что теперь его злоключения закончатся.
— Ну, а мы на что-нибудь другое… — осторожно напомнил Чалый.
— На что?
— Ну, а ты сам, сам придумай, — хитро подмигнул Астафьев. — А как придумаешь — так и мне сразу же скажешь.
— Ни на что с тобой я играть не буду, — твердо заявил Малинин.
— А "на просто так" согласен? — вкрадчиво спросил Чалый.
То ли Малинин был закошмарен до последней степени, то ли верил еще в остатки благородства подельника, то ли действительно в мыслях думал отыграться, но он согласился.
А зря ведь. На блатном жаргоне слова "просто так" означают "на очко" — то есть на гомосексуальный акт, при этом пассивным педерастом, естественно, становится проигравшая сторона…
— Ну, давай, что ли, — Малинин с шумом выдохнул из себя воздух.
— Я тебе даже фору дам. — Татуированные руки Иннокентия принялись ловко тасовать колоду.
— Что?
— Ну, ты ставишь свое "просто так", а я — твои сапоги, — предложил Чалый; при этом он наклонил голову, чтобы партнер по игре и будущий — по педерастии не заметил его хитрой улыбки.
Наверняка москвич почувствовал подвох — тут бы ему поостеречься, но, как говорится, "жадность фраера погубит". К тому же в одних трусах Малинину было очень зябко и холодно…
— Тяни, — предложил Чалый, аккуратно пододвигая колоду.
Малинин вытянул валета бубей — это был, если верить надписи под фотоснимком, какой-то знатный механизатор колхоза "Путь Ильича".
Следующий тянул карту Чалый — он мельком взглянул на нее и положил перед собой.
— Теперь — ты.
На этот раз Малина вытянул из колоды даму червей — свинарку совхоза "Красный луч".
Чалый мягким, вкрадчивым жестом вытянул очередную и, даже не глядя, положил ее перед собой.
— Давай…
Новой картой Малины был туз треф с физиономией какого-то кандидата в члены Политбюро — итого набралось шестнадцать очков. Стало быть, для того, чтобы овладеть сапогами, надо было набрать пять очков: даму и валета или короля…
— А ты, Чалый? — заикаясь, спросил обнаженный москвич.
— Мне не надо… Тяни, тяни…
Малина, набрав в легкие побольше воздуха, как глубоководный ныряльщик, вытянул шестерку — все, перебор, очки сгорели.
А Чалый с невозмутимостью гангстера раскрыл свои карты: туз и десятка.
— Ну, когда расплачиваться будем? — улыбнулся Иннокентий.
Малину прошиб холодный пот: он знал, он чувствовал подвох, но чтобы вот так, внаглую, "когда расплачиваться"…
— Ты че, Чалый, какое расплачиваться, мы ведь на "просто так" играли, — напомнил москвич.
— Ты че — не знаешь, что это такое? "Просто так" — это твоя "копченая балдоха". Очко ты проиграл, так что давай, давай, Малина… Как там тебя — Сергей? Все, значит, Сонечкой будешь… Не веришь?!
Астафьев с силой рванул на себе грязный бушлат, расстегнул штаны, обнажая живот: с давно немытого тела беглеца на незадачливого картежника смотрел устрашающего вида черт, держащий в одной руке колоду карт веером, а в другой — финку.
Под этой замечательной композицией было выведено старославянской вязью: "ПРОИГРАЛСЯ — ПЛАТИ ИЛИ ГОТОВЬ ВАЗЕЛИН".
— Я те не фуцин позорный, если бы я проигрался, то я бы расплатился, — процедил Чалый, расстегивая штаны до конца.
Взгляд Малинина блеснул животным страхом — он, вцепившись в уже не свою одежду, медленно отодвинулся к стене.
— Чалый, да ведь мы с тобой друзья…
— С каких это пор я с непроткнутыми петухами дружу?! — искренне возмутился Астафьев таким неслыханным оскорблением и этим, естественно, не ограничился: удар тяжелого кулака — и проигравший отлетел в противоположную от стены сторону, резиново ударившись о топчан.
— Чалый, Чалый… — пробормотал Малина, выплевывая вместе со сгустком крови раскрошенный зуб.
— Фильтруй базар, бля, — Астафьев, подойдя к проигравшему, нехорошо прищурился. — Я тебя играть не заставлял, сам напросился.
— Да я… Да я…
— Головка от буя, — теперь Иннокентий, снедаемый тоской, в открытую издевался над подельником. — Вторая «командировка», а порядка не знаешь… То-то что ты сукой стал!
— Да я… Чалый, бля буду…
— Ты уже и так стал, — справедливо заметил собеседник. — А если и не стал, я помогу.
— Я все отдам… Вот увидишь… — униженно лепетал Малинин.
Неожиданно удачливый картежник смилостивился над неудачливым:
— Ладно, хрен с тобой… Не буду тебе гребень приделывать, всегда успею. Ты мой должник, ясно? И «кишки» свои, — он кивнул в сторону одежды, — тоже забирай, на хрен они мне нужны? Но смотри, Малина, — это только до первого косяка… А теперь — брысь под нары, паучина! — страшным шепотом закончил Чалый.
Усевшись на топчан, он достал из кармана единственный оставшийся флакон одеколона и, морщась, принялся пить его маленькими глотками, не обращая никакого внимания на подельника…
Вот уже почти три часа Михаил Каратаев в сопровождении верного пса Амура шел на лыжах по заснеженной ночной тайге. Редкий лес был почти безмолвен — казалось, ни одно дерево не шелохнулось за все время пути. Ветра не было совершенно — только иногда от мороза тихо потрескивались молодые деревца.
Да, человеку неискушенному, неопытному вечерняя заснеженная тайга ничего не расскажет: деревья, которым нет числа, сугробы, похожие друг на друга, кустарники, почти до верхушек засыпанные снегом, поваленные многовековые стволы, которых почти не видно из-за белого покрова…
Но не таким человеком был бывший спецназовец: ему, потомственному охотнику, тайга могла рассказать многое, очень многое…
По виду деревьев, по направлению едва заметного ветра, по твердости наста, по виду мутно-желтой луны Михаил мог безошибочно определить, какая погода будет завтра, а значит — что могут предпринять беглецы, как может повести себя тигр-людоед…
Завтрашний день, судя по всему, обещал быть теплей сегодняшнего, но ненастным. Это значило, что обитателям Февральска вновь можно было ожидать неприятностей (о происшествии в поселковой парикмахерской Каратаев еще не знал).
Да, в непогоду бесчинствовать лучше всего — и четвероногим хищникам, и двуногим: больше шансов остаться безнаказанным.
В самые критические моменты Михаил привык ставить себя на место противника, пытаясь предугадать, как бы поступил он, окажись на чужом месте, и — редко ошибался.
Вне сомнения, беглецам надо было где-то укрыться. Ясно, что не в самом Февральске — во-первых, на виду, во-вторых, в подобных ситуациях укрываются, как правило, у людей доверенных, а их у уркаганов, по всей вероятности, тут не наблюдалось.
Стало быть, они где-то неподалеку, потому что периодически надо пополнять запасы продовольствия и спиртного.
Где?
По наблюдению Каратаева, тут, в окрестностях Февральска, было немало подходящих мест: брошенные со всем имуществом воинские части, бараки старых, расформированных еще после смерти Сталина лагерей, полуразвалившиеся локаторные станции ПВО, неработавшие уже лет десять, давно покинутые зимовья, домики геологов…
И все это надо было обойти — по зиме, по такому морозу, по таким расстояниям за неделю не управиться, не говоря уж о нескольких днях.
С тигром было еще сложней — пока что никаких следов коварного хищника.
Лыжи бесшумно скользили по снегу, Амур бежал на несколько шагов впереди, ничего не предвещало опасности, и Каратаев немного успокоился.
"Наверное, Таня на меня обиделась, — думал Михаил, отталкиваясь лыжными палками, — наверное, когда я уходил, все-таки был с ней немного груб… И невнимателен. Сам виноват…"
Неожиданно Амур остановился и прислушался — казалось, недалеко послышались какие-то посторонние звуки. Охотник обернулся, осмотрелся, поправил белый маскировочный халат — никого вроде не было.
"Наверное, какая-то неосторожная ночная птица перелетела с ветки на ветку, — решил он. — И все-таки, как хорошо, что я вернулся сюда, а не остался в этой дикой и суматошной тайге… Тут я чувствую себя куда более спокойно…"
Михаил обошел уже два заброшенных зимовья, но никаких следов беглецов не обнаружил. Теперь он шел к третьему, отстоявшему в десяти километрах от поселка.
С таежной жизни размышления бывшего спецназовца плавно перешли на предмет его промысла — на охоту, с охоты — на роскошного соболя, которого он недавно добыл в подарок своей возлюбленной (теперь — невесте), с соболя, естественно, — на Таню…
"И как некстати все это произошло, — постоянно вертелось в голове, — и надо же такому случиться… Именно сейчас… Чтобы в самый счастливый день моей жизни!.. Да, никогда не бывает в жизни полного счастья", — философски подумал он.
С уголовниками — и настоящими, и бывшими — таежному охотнику-промысловику приходилось сталкиваться неоднократно. В Сибири, на Дальнем Востоке подобный контингент едва ли не пятая часть от всего населения, включая женщин, стариков и детей. Смехотворным сроком в пять лет тут никого не удивишь, потому как немало отсидело и по десять, и по пятнадцать лет. Достаточно пройтись по любой дальневосточной деревне — если во дворе нет собаки, значит, хозяин наверняка сидел: годы «командировок» начисто меняют представление людей об этом самом злобном друге человека: нет, наверное, ни одного бывшего зэка, который бы не почувствовал на себе укусов овчарок зоновских вертухаев. О людях, побывавших «там», у Михаила сложилось двойственное мнение: конечно же, среди них было немало тех, кто пострадал несправедливо, немало людей достойных и порядочных. Но таких было меньшинство, а большинство же — особенно классические уголовники — в представлении Каратаева были злобными, коварными шакалами, понимающими только один язык — язык силы.
Что же касается Чалого и Малины, о которых он слышал по телевизору и радио…
Каратаев с его огромным жизненным опытом обладал к тому же завидной интуицией и потому сразу понял, что ему придется иметь дело с самой что ни на есть отпетой мразью. Судя по блатным татуировкам, руководил всем Астафьев И.Эм., а Малинин Эс. А. был мальчиком на побегушках.
"Если только не хуже", — подумалось Михаилу; он-то знал, что такое "корова".
"Коровами" на Руси издавна, еще со времен сталинского ГУЛАГА, назывались простодушные и неискушенные в жизни зэки-фраера, которых опытные уркаганы якобы из дружеских побуждений и братских симпатий брали с собой в побег, ежели таковой по каким-то причинам случался зимой; в период пятидесятиградусных холодов и таежной бескормицы фраера служили отличной пищей — пищей, к тому же самопередвигающейся за будущим едоком; пищей, которая могла, кроме всего прочего, нести на себе неизбежную при побеге поклажу.
После всего происшедшего беглецам с зоны нечего было терять: при любом раскладе им светила «вышка». Конечно же, рано или поздно они будут пойманы, потому что оказались вне закона, потому что против них — вся пусть и прогнившая, но еще сильная государственная машина, но ведь до поимки озлобленные на жизнь уголовники могут совершить самые тяжелые преступления, и кто даст гарантию, что следующей не станет…
А тут еще и тигр: если верить хабаровскому телевидению, он растерзал какого-то неизвестного на самом краю поселка. Наверняка днем — ночью по Февральску почти не ходят. А это значит…
Мотнув головой, охотник отогнал от себя жуткое наваждение — ему почему-то показалось, что следующей жертвой станет кто-нибудь из близких ему людей; а тут, в Февральске, у него был только один-единственный близкий человек, ставший сегодня еще ближе…
"Может быть, мне надо сейчас же повернуть назад, сесть на машину и ехать в Февральск? — будто бы звучал внутри Михаила голос. — Ведь если я буду рядом с Таней, ее наверняка никто не тронет…"
Но тут же сам себе возражал:
"Ты сильный, тебя большую половину жизни учили защищать людей, ты многое можешь — то, чего не могут другие. А ты, взрослый и опытный, ты, такой уверенный в себе, как маленький, за юбку держишься. Совсем раскис. Как ты сможешь смотреть в глаза людям, если в твоем присутствии уголовники будут насиловать и бесчинствовать, что скажешь ты, потомственный таежный охотник, если тигр-людоед растерзает очередную жертву?.."
Каратаев остановился в нерешительности — очень захотелось курить. Вообще-то он, мастер спорта по нескольким видам, склонный к тому же к строжайшей самодисциплине, курил очень редко и мало — лишь в минуты сильного душевного волнения: получалось раз в несколько месяцев, не чаще. Опять, опытный охотник, он знал: ничто не выдает человека так, как запах табака.
Но теперешняя ситуация, наверное, как никакая другая, требовала успокоения…
Нащупав в кармане запечатанную пачку «Беломора», Каратаев осторожно надорвал ее и, достав папиросу, неумело смял бумажную гильзу. Щелкнул зажигалкой, затянулся дымом, закашлялся с непривычки.
Амур, вильнув хвостом, укоризненно посмотрел на хозяина: мол, что же ты так?
Каратаев отвернулся — легкий ветерок подхватывал беловатый дым и уносил его за спину.
Да, теперь в этом сильном, опытном, закаленном жизнью мужчине боролись две стихии: любовь к Тане, не далее как несколько часов ставшей его невестой, высокое светлое чувство, познать всю полноту которого дано лишь избранным, и чувство долга…
Пес, подойдя ближе к охотнику, поднял голову, навострил уши — казалось, он прекрасно понимал душевное смятение хозяина…
"Совсем раскис, как тряпка, — укорил себя Михаил и с силой швырнул окурок, концентрируясь на главном. — Все, хватит пускать слюни и сопли. Так было всегда и так будет: мужчина уходит в лес — или за добычей, или чтобы обезопасить тех, кто слабей, а женщина остается дома. И мужчина всегда возвращается к ней…"
…Мерно работали лыжные палки, едва слышно шуршал под лыжами наст — Каратаев со своим Амуром методично обходил места, где, по его мнению, могли прятаться беглецы; казалось, ему неведома усталость.
Теперь лицо его было каменным и непроницаемым…
Глава десятая
И прапорщик, и подчиненные ныне покойному лейтенанту Сидорову дембеля от происшедшего были в шоке — бросив горящий костер и даже недопитый спирт, они помчались в гарнизон. Четыре километра, отделявшие бивак патруля от Февральска, военные преодолели за пятнадцать минут, и, когда добежали до КПП, от них валил густой пар, подозрительно отдававший перегаром.
Прапорщик, с вытаращенными от ужаса глазами, сразу же побежал докладывать о происшедшем ЧП в штаб части — в столь позднее время найти командира и начштаба стоило огромного труда.
Когда последний, застегивая на ходу ширинку, появился на крыльце, угреватый «кусок», бессмысленно таращясь на начальника, пробормотал:
— Товарищ майор, Сидорова съели!..
Товарищ майор, только что поднятый из чужой постели, а потому очень недовольный, естественно, посчитал фразу подчиненного пьяным бредом — об этом говорил безумный вид прапорщика и явственный запах алкоголя из его рта, который не мог не почуять даже сильно нетрезвый майор.
— Кто съел? — непонимающе заморгал майор. — Где съел? Вы съели? Младший по званию? Почему без моего разрешения? — Видимо, начальник штаба понял изречение не буквально, а переносно.
— Тигр, товарищ майор, — пробормотал безумный прапорщик, — лично и съел…
— Ты пьян, как свинья, прапорюга, — поморщился майор. — Что ты несешь, козел? Сгною на губе!..
— Я только чуть-чуть… Честное слово, чтобы согреться! — оправдывался прапорщик. — С солдатами… С Сидоровым… По пятьдесят граммов, и все.
Однако на сердитого майора это не произвело должного действия.
— Отпуск на расцвет таежной зимы перенесу! Квартиру до самой пенсии получать будешь! Да я… я из тебя прямо сейчас младшего прапорщика сделаю. — Угрожая, начштаба безуспешно пытался застегнуть ширинку, но безнадежно плюнул, попав при этом на сапог подчиненного.
Обладатель двух маленьких звезд на погонах от такого уничтожающего недоверия окончательно пришел в ужас.
— Да я… Да мы… Да у нас еще и бунт был…
— Что — тигр взбунтовался? — язвительно спросил майор. — Так вы же его съели на закуску, ты же сам докладывал, алконавт!
Несчастному прапорщику долго пришлось объяснять происшедшее — часа через полтора майор, немного протрезвев, наконец-то поверил в реальность его рассказа.
— Во бля, делов… — присвистнул он, — так Сидоров че — там так и лежит?.. Дежурный по части, — скомандовал майор, — подать к штабу мой "уазик"!..
А прапорщик, совершенно опустошенный, понуро отправился домой — теперь его могла спасти только полноценная доза спиртного…
Так уж получилось, что в тот злополучный вечер в гарнизонном медпункте дежурили две медсестры — Таня Дробязко и ее подруга Наташа Мирончук. В виду наступающих праздников дежурный врач-офицер третий день находился в безудержном запое — запасы спирта были почти что опустошены, и несчастный ходил по Февральску в поисках полноценной замены медицинского спирта — домашнего самогона.
Пациентов, к счастью, не было: подруги, скучая, обсуждали последние события.
— А как ты думаешь, — поинтересовалась Наташа, почему-то уверенная, что с зоны сбежали не банальные уголовники, а сексуальные маньяки, — они уже кого-нибудь изнасиловали?
Таня, занятая невеселыми мыслями о женихе, что-то ответила невпопад.
— Нет, наверное, все-таки изнасиловали, — мечтательно произнесла Мирончук. — Интересно, а когда насилуют, это больно? Или все-таки чуточку приятно? А, Тань, как ты считаешь?
В свои двадцать лет медсестра была девственницей — она хотела, чтобы это свидетельствовало об ее исключительных порядочности и целомудрии. Однако физиологическое присутствие девственной плевы ни в коем разе не мешало предаваться иному разврату: по мнению гарнизонных плейбоев, Наташа была непревзойденным специалистом в области анального секса и французского поцелуя.
— Ладно, — тяжело вздохнув, Таня посмотрела на часы, — через двадцать минут уходим.
— Домой?
— А то куда же. — Лицо Дробязко было очень озабоченным.
Наташа что-то очень бессвязно лепетала, перескакивая безо всякой связи с сексуальных маньяков на французское белье, недавно появившееся в военторге, с военторга — на косметику, купленную у китайского фарцовщика Ли Хуа, с Ли Хуа — на свежий порнографический журнал, всего только за позапрошлый год, недавно подаренный ей милицейским старшиной Петренко (украденный, кстати говоря, из вагончика того же китайца), с поселковой милиции — на последние моды от Кардена, виденные ей в том же журнале (глупая Наташа приняла за карденовский вечерний костюм набор эротического белья для лесбиянок), затем — на молодых офицеров, недавно сосланных в гарнизон из Хабаровска…
Дробязко кивала, поддакивала, чтобы не обидеть подругу, а сама мучительно размышляла: ее жестоко бросили, над ней насмеялись; было немного жаль жениха — такой мороз, такая темень, а он из-за каких-то непонятных принципов пошел один против маньяков-уголовников и тигра; жаль подругу за то, что она такая дура…
Но больше всего, конечно же, было жаль себя.
В это время дверь медпункта открылась, и на пороге появился высокий старший лейтенант — молодцеватые усики, запах одеколона «Шипр», густо нагуталиненные сапоги, новенькая скрипучая портупея и густой дембельский начес на парадной шинели — все выдавало в нем опытного гарнизонного сердцееда.
Таня, равнодушно посмотрев на вошедшего, отвернулась, а Наташа просияла:
— На что жалуетесь?
Старший лейтенант откашлялся в кулак.
— Да на жизнь…
— Как это?..
— Да вот, попал в эту дыру, девушек красивых мало… Ресторанов приличных нет, начальство — одни дебилы, тоска, душа болит.
— Как это красивых нет! — деланно возмутилась Мирончук. — А мы как же?
— Вот я и говорю… Вы — самые красивые девушки во всем Февральске, нет, даже во всем Хабаровском крае, да нет же, — офицер наморщил лоб и завершил обрадованно: — Во! На всем Дальнем Востоке!..
Продолжать сравнительную прогрессию не пришлось, потому как в военном училище географию не преподавали — только политическую.
Донжуан, пожирая Таню откровенным взглядом, подошел к ней и как бы невзначай взял ее руку — та отдернула кисть, будто бы прикоснувшись к раскаленному утюгу.
— А что вы такая дикая? — промурлыкал лейтенант. — Что — за ручку подержать нельзя?
Мирончук посмотрела на подругу так, как, наверное, смотрит понурый хабаровский бомж, опохмеляющийся по утрам просроченным денатуратом, на преуспевающего нового русского, покупающего к завтраку флакон «Абсолют-цитрона», — с неприкрытой завистью.
— А у нее муж, между прочим, бывший спецназовец из «Альфы», а еще он — мастер спорта по боксу и дзюдо, потомственный таежный охотник, хорошо стреляет из винчестера и к тому же очень ревнивый, — заговорщицки сообщила медсестра.
Видимо, тон Наташи не оставлял сомнений, что это именно так, и потому старлей, отойдя на несколько шагов, процедил зло:
— Сразу предупреждать надо, а не морочить людям голову…
Дальнейшие события разворачивались без участия страдающей невесты — к ее облегчению.
Сперва старший лейтенант, сняв щегольскую портупею и не по-уставному длинную шинель, осторожно подсел к Наташе. Затем подержал ее ручку. Затем осведомился, кто ее муж, а узнав, что такового нет, обрадовался. Затем сказал, что сегодня очень замерз. Затем благосклонно отнесся к предложению распить чуть-чуть разведенного спирта, чтобы немного согреться. Затем полез к Наташе под белый медицинский халатик. Затем поцеловал ее взасос. Затем, расстегивая ширинку, представился — звали его Васей, и Наташа нашла это имя редкостным и аристократичным.
— Таня, у нас тут бинты заканчиваются, может быть, посмотришь у сестры-хозяйки? — прерывисто дыша, предложила Мирончук.
"Ох, дура же она, дура, — подумала Дробязко, закрывая за собой дверь, — ведь все равно не женится…"
То, что произошло в медпункте дальше, просто не могло не произойти: размягченный спиртом и женским теплом, старлей с аристократическим именем Вася без зазрения совести предложил Наташе вступить с ним в половую связь.
— А я девушка порядочная, — честно округлив глаза, намекнула та.
— Ну и я мальчик порядочный, — нашелся старший лейтенант Вася, продолжая сдирать с нее через голову юбку.
— Я не могу так просто, с первым встречным, — вздохнула Наташа, деловито расстегивая толстый, как броня тяжелого танка, лифчик.
— Так и я не могу с каждой встречной, — в тон ей сказал старший лейтенант, путаясь в длинных, почти до колена, трусах, — да уж больно вы красивы…
Дальнейшее повергло старлея в шок — Наташа призналась, что она еще девственница.
— Как?! — воскликнул насмерть пораженный старлей. — Не может быть!
— Да, я же говорила, что девушка порядочная, — невозмутимо напомнила она.
— Вот так наступает резкая импотенция, — пробормотал любвеобильный офицер. — Ммугу…
— Но я все равно сделаю тебе очень хорошо, — с большей поспешностью, чем требовалось, заверила она и облизала пересохшие губы…
Наверное, старший лейтенант уже триста раз пожалел о том, что связался с этой дурой.
Удовлетворив его естественное плотское чувство, глупая медсестра взахлеб принялась рассказывать, какая она порядочная, как будет любить будущего мужа и как будет его ждать.
— А возьми меня в жены, а? — с подкупающей откровенностью неожиданно предложила она. — Ну, хозяйство заведем, как у нормальных людей… Хозяином будешь…
Старший лейтенант, как-то странно посмотрев на эту идиотку, быстро засобирался — даже ширинку застегнул не на те пуговицы.
— Вася, да куда же ты от меня? — забеспокоилась Наташа.
— В караул пора, — озабоченно сообщил офицер.
— А как же хозяйство?
— Мое — на месте, слава Богу, — старлей наконец-то заметил не по-уставному застегнутую ширинку и быстро исправил положение.
— Вася, да куда же ты? — почти патетически выдохнула из себя брошенная, но кавалер уже не слышал ее — он мгновенно исчез за дверью.
Наташа, печально накинув на голые плечи халатик, уселась за стол в позе роденовского мыслителя и произнесла прочувственно:
— Да, все они, мужчины, кобеля шалые, подлецы… Одного от нас, бедных, хотят… А как добьются своего — ничем не удержать…
И горько-горько заплакала.
За окном давно стемнело, рабочий день кончился, и девушки засобирались.
Выйдя из теплого помещения медпункта на пятидесятиградусный мороз, подруги ускорили шаг, чтобы побыстрее миновать темные улицы.
— А пойдем к тебе в общежитие, — неожиданно предложила Таня; несмотря на печаль, сердцу невесты было не чуждо сочувствие, и, заметив уныние подруги, она решила поддержать ее.
— А твой часом не заругает, что ты не домой, а ко мне пошла? — на всякий случай спросила Наташа, зная суровый нрав Каратаева; о недавнем провале и своих слезах она уже забыла.
— Да нет, ничего страшного, — успокоила подруга, — он ушел в тайгу; как услышал по телевизору объявление про беглых уголовников и тигра-людоеда, сразу собрался и даже меня бросил…
— Можно подумать, без него не справятся, — не удержалась от ехидничества завистливая Наташа.
На жениха подруги она поглядывала давно. Поначалу даже строила какие-то планы относительно себя и Михаила. Приметив в поселке этого красавца мужчину, предприимчивая девушка в мыслях уже женила его на себе и строила естественные, с ее точки зрения, планы насчет будущей семейной жизни: куры, уточки, кабанчик, телочка в сарае… На пышную свадьбу в Борзне — ее родном местечке на северной Украине — съехались бы все родственники, пришли односельчане от мала до велика. Папа преподнес бы зятю крутой подарок — «Жигули» ("копейку" семьдесят второго года выпуска). Все бы ахали и завидовали. Гордая молодая, взяв красавца мужа под руку, пошла бы к сельсовету…
Но планы ее разбились о стену непонимания при первом же знакомстве. Почувствовав, что она не во вкусе Михаила, девушка приложила максимум усилий для соблазнения предмета вожделения. Увы! — все усилия оказались тщетными: спецназовец, влюбленный в ее подругу, не обращал на нее никакого внимания. В медсестре заиграло чисто спортивное честолюбие, и она уже хотела выложить свой козырный туз в этой авантюрной игре — намекнуть ослепительному жениху о девственности, столь дефицитной в этих суровых краях. Но даже это сообщение натолкнулось на такой холод равнодушия и непонимания, что несчастная сразу же растеряла весь свой пыл и сникла, как нежный южный цветок на суровом таежном морозе.
Такого женщины не прощают; покинутая мысленно поклялась отомстить. А уж если женщина решает отомстить, то возмездие будет безжалостным.
Когда до общежития оставалось не более пятнадцати минут, Мирончук как бы невзначай обронила:
— А ты уверена, что он в тайгу пошел?
Таня замедлила шаг:
— Ну да…
— А может быть… — глубокомысленно начала лучшая подруга и тут же осеклась; впрочем, она могла бы и не продолжать.
— Да что ты, Наташка, в самом деле! — возмутилась Дробязко. — Да ты…
Мирончук не дала ей договорить:
— Все мужики такие… Ты ему… ну, того… еще не давала?..
— Наташа, как тебе не стыдно! — Даже несмотря на ночную темень, было заметно, что щеки невесты зарделись. — Я ведь… У нас с Мишей все совсем по-другому.
— Да все они одинаковы… — с деланным равнодушием махнула рукой подруга, поднаторевшая в отношениях с подлецами.
— Миша — самый лучший, самый порядочный из всех, кого я знаю, — искренне произнесла Таня, — и он совсем не такой, как ты думаешь.
— Да ладно тебе…
— Наташа, извини, но если ты и дальше так будешь говорить, я…
Таня не успела досказать — неожиданно где-то недалеко, шагах в двадцати, мелькнули две тени. Это казалось более чем подозрительным — в такое время, да еще в пятидесятиградусные морозы, путники на улицах поселка были редки.
Мирончук, перехватив ее взгляд, только и могла, что произнести:
— Ой, мамочка…
"Наверное, показалось, — попыталась успокоить себя Таня, — устала, нервы пошаливают… Мишенька мой куда-то исчез. Нет, наверное, он все-таки прав… Он мужчина, ему, конечно же, виднее. Но почему мир так несправедливо устроен? — задала она сама себе сакраментальный вопрос. — Почему я должна страдать?.."
Но Таня, увы, не ошиблась: вскоре совсем рядом показалась небольшая, какая-то незнакомая фигура — во всем облике неизвестного было что-то напряженное, угрожающее, и это, естественно, заставило подруг повернуть назад. Но сзади тут же, будто бы из-под земли, выросла еще одна фигура — куда более страшная, чем спереди.
— Мамочка… — прошептала Наташа. — Ой, что это?..
Тень приближалась: беззащитным девушкам показалось, что земля уходит у них из-под ног…
Да, к сожалению, несчастные девушки не ошиблись: на полпути до Наташиного общежития им действительно встретились те самые уголовники, которых одна из них посчитала сексуальными маньяками. И намерения их не оставляли в этом сомнения…
Малина, желая хоть как-нибудь реабилитировать себя за проигрыш в карты, а заодно желая оттянуть страшный момент "приделывания гребня", не поленился по вечернему морозу вновь отправиться в Февральск, при этом он рисковал многим, но страх перед опущением в петушиное сословие оказался сильнее страха перед ментами погаными.
Вернувшись через пару часов, он сообщил Чалому, что нашел стоящее на отшибе небольшое, но очень симпатичное женское общежитие — беззащитность возвращающегося сюда контингента не оставляла ни малейшего сомнения в том, что добыча окажется легкой.
Чалый, допив остатки одеколона и подумав, согласился — несмотря на риск.
И надо же такому случиться, что первыми на пути уркаганов оказались Таня и Наташа…
Сценарий был отработан загодя, еще по дороге: Малина, принимая зверский вид, встречает девушек впереди, а Чалый незаметно подкрадывается сзади: вокруг метровые сугробы, в которых сразу утонешь, так что с узкой тропинки никуда не свернешь.
Так оно и случилось…
Одна из девушек попыталась закричать, но Астафьев, показав ей опасную бритву, прихваченную на память из парикмахерской, быстро заставил замолчать.
Другая, более резвая, попыталась было спастись бегством, но, получив подножку, зарылась лицом в колючий снег.
Дальнейшее свидетельствовало о высоком профессионализме нападавших: сперва обе девушки получили по головам чем-то тупым и тяжелым, отчего потеряли сознание. Затем насильники затащили их в какой-то заброшенный сарай: не насиловать же ночью в сугробе да еще при пятидесятиградусном морозе! Ну а дальше произошло самое жуткое…
…Таня то взлетала куда-то в заоблачные высоты, то падала в разверзшиеся бездонные пропасти — ее мутило, выворачивало наизнанку, страшно болела голова. Ей очень хотелось кричать, кусаться, ругаться, хотелось ударить мерзавцев чем-то тяжелым, но руки были словно чугунными; сотрясение мозга парализовало волю.
Наверное, в свои девятнадцать лет она даже не представляла, что в жизни может происходить такая жуть, такой кошмар.
"Боже, как я буду после этого жить? — со скоростью метеора промелькнуло в ее помутившейся голове. — Боже, что они со мной сделали?.. Боже, почему со мной нет моего Мишеньки?.. Зачем он меня оставил?.."
И как сквозь вату воспаленное сознание с трудом уловило чьи-то голоса:
— …бля, прикидываешь — целку ей сбил, в натуре… Вон весь хер в кровище!
— …и моя тоже — целка!
— Да ну? Может быть, течка у сучек? Конец же месяца…
— Это у тебя течка! Там целяк что противотанковая броня, чуть бадангу не поломал!..
Что произошло дальше, несчастная не слышала — кровавая пелена застлала глаза, и она потеряла сознание: наверное, это стало для нее единственным спасением…
Чалый, деловито зачерпнув татуированной рукой пригоршню снега, растер его пальцами и принялся отмывать окровавленный член. Он даже не поморщился — закаленный суровыми зоновскими буднями организм не привык к разным аристократическим излишествам.
— Липкий, бля, точно, я ей целку сбил, в натуре. — Иннокентий, взглянув на русую девушку, которая, будто бы в бреду, тихо постанывала, зло сплюнул. — Да, бля, такой вот "рамс"…
— И у меня целка, — произнес Малина, уверенный, что теперь удовлетворенный Чалый наверняка не приделает ему "гребень".
— Да и сам ты пока целка, — нашелся Иннокентий. — Бля, как посмотрю, никакого от тебя толку. То каких-то идиоток в магазине нашел, то стерв с бритвами в парикмахерской, то теперь две целки на морозе. Ох, отпетушу я тебя, Малина, бля буду… И без вазелина. Фуфел на британский флаг порву, до гланд достану.
Одна из изнасилованных девушек, словно сомнамбула, поднялась, но, не найдя сил идти, встала на четвереньки.
— Она еще хочет, Чалый, — ощерился Малинин, — рачком ее давай… Или в рот.
— Я щас тебя рачком выдеру… Брысь под нары, паучина! — заорал вконец озверевший Астафьев и тут же насторожился, не договорив о дальнейшем обещании — ему показалось, что где-то недалеко проехала машина.
— Кеша, уходить надо, — тут же понял его мысль москвич. — А то…
— Сам знаю. — Вытерев о девушку окровавленную руку, Чалый быстро застегнул штаны.
— А этих куда?
— В санаторий, в Ялту отправить, лечиться, целки зашивать, — скривился уркаган. — В расход, а то куда же… Они нас хорошо запомнили. Первый мужик — он ведь никогда не забывается. Теперь тебя, Чикатило, во всех газетах пропечатают. Ничего, прославишься, мемуары напишешь — ты ведь у нас придурок грамотный…
При всей безвыходности положения Малинин не смог отправить несчастных девушек на тот свет: духу не хватало. Чалый, презрительно посмотрев на трусливого подельника, зло сплюнул и вытащил из кармана опасную бритву…
Мертвенно-бледная луна зависла над спящим поселком — казалось, в этот вечер она отсвечивает свежей кровью; темные глазницы ее были пусты и бесстыжи, как у палача. Колючий свет звезд, подобно острым заточкам, отражался от снега, и этот страшный свет будто бы проникал в самое сердце редким прохожим.
Где-то глухо и протяжно заскулила собака — на вой отозвалась другая, третья…
Пронзительно скрипнула дверь, раскачиваемая ветром, и это заставило возвращавшийся с дежурства патруль остановиться.
Пожилой капитан с суровым лицом, посмотрев по сторонам, увидел подозрительно раскрытую дверь сарая.
— Так, проверить, что там, — скомандовал он солдатам и прапорщику.
Военные подошли ближе — то, что они увидели, заставило их содрогнуться: на полу в неестественных позах лежали две молоденькие полураздетые девушки — темные замерзшие потеки на полу не оставляли сомнения в том, что тут разыгралась жуткая трагедия.
Начальник патруля, пожилой капитан, стараясь не смотреть на лица несчастных, нагнулся и потрогал руку одной из них, пытаясь нащупать пульс, — закоченевшая кисть почти не сгибалась…
— М-да, дела… — тяжело вздохнул офицер и снял шапку…
Глава одиннадцатая
А Каратаев по-прежнему методично обходил все укромные места, где, по его мнению, могли скрываться беглые уголовники. Да, это была настоящая охота, но теперь не на четвероногих хищников, а на двуногих — куда более злых, жестоких, коварных и непредсказуемых.
Увы, удача на этот раз не сопутствовала охотнику: три давно заброшенных зимовья оказались пусты — наверняка люди не появлялись в них несколько лет. Но всего в десяти километрах от последнего был заброшенный лагерь ИТУ, в просторечии — зона: место, вполне подходящее для того, чтобы отсидеться. И охотник, прикинув все «за» и «против», направился туда…
Наверняка, если бы какому-нибудь режиссеру захотелось снимать фильм о том, что есть ад, в качестве декораций он бы избрал это место: залитые холодным лунным светом полуразрушенные бараки, обвалившиеся сторожевые вышки, на которых когда-то торчали бессонные вертухаи, буты ржавой колючей проволоки, заснеженные одноколесные тележки, так называемые "бериевки"…
Все это навевало уныние и печаль.
Стараясь на всякий случай не шуметь, Каратаев обошел бывший лагерь по периметру, аккуратно подсвечивая дорогу карманным фонариком, прислушиваясь после каждого шага. Нет, никаких следов — лишь изредка ветер завывает в трубе полуразрушенной котельной, да поземка гуляет между темных бараков…
Тяжело вздохнув, охотник повернул обратно — Амур, вильнув хвостом, последовал за хозяином. Нет, ни беглецы, ни тигр тут, в этом мертвом царстве тлена и запустения, не объявлялись — во всяком случае в последнее время. Михаил, сосредоточенно глядя перед собой, прокладывал лыжню в сторону своего зимовья — надо было хотя бы немного отдохнуть, чтобы завтра со свежими силами продолжить поиск.
"Если бы я был на их месте, — верный себе, бывший спецназовец решил просчитать возможные действия беглых уголовников, — то выбрал бы только два варианта: во-первых — затаиться где-нибудь в тихом месте и ждать, пока все уляжется, ведь менты не будут искать их по всей тайге! Ну а во-вторых — сразу же попытаться скрыться отсюда — хоть на Большую землю, хоть за границу…"
Но, чем больше размышлял охотник о действиях урок, тем больше утверждался в мысли, что ведут они себя совершенно неадекватно ситуации: вместо того чтобы тихонько пересидеть ментовский шмон по всему лесу, вместо того чтобы сразу рвануть в сторону железной дороги, уголовники принялись за любимое занятие — убийства, грабежи, насилия.
"Нет, наверное, правы люди, утверждающие, что у каждого в жизни — свое место, — решил охотник, — у меня свое, а у них… Как их понять? Они вырвались на волю, это опьянило их, но ведь ничего, кроме насилия, они не умеют. И то, что теперь происходит, вполне закономерно. Грабитель не может не грабить, вор не может не воровать, насильник не может без насилия…"
Рассуждая таким образом, Каратаев прошел большую часть пути к зимовью.
Но неожиданно где-то внизу послышался омерзительный хруст, и тут же сугроб словно бы разверзся под ногами, — едва не потеряв равновесие, обладавший завидной реакцией, бывший офицер «Альфы» попытался было ухватиться за низко нависшую ветку ели, но тут же полетел куда-то вниз, в черную бездну.
Послышался хруст ломаемых лыж, сверху густо посыпался снег, полетели обломанные ветки, — когда бывший спецназовец, реактивно сгруппировавшись, упал на дно ямы, он сразу же понял, что с ним произошло…
Огромная рыже-полосатая кошка, понюхав воздух, остановилась: по девственной тайге разносился какой-то посторонний запах. Тигр повертел массивной головой, пытаясь определить, откуда же доносится этот странный и резкий запах — слабое дуновение ветра откуда-то сбоку сделало его еще более насыщенным, обоняемым, и это заставило хищника насторожиться.
Спустя несколько секунд до чуткого слуха кошки донеслись новые звуки: поскуливание, подвывание, грызня — будто бы стая изголодавшихся на диком холоде собак дралась из-за кости. Вкус собачатины уже был знаком хозяину тайги — несколько поселковых шавок нашли свою смерть в его пасти.
Конечно же, человек был вкусней, да и обмануть его было намного проще: изнеженный цивилизацией, он совершенно растерял первобытные инстинкты, главный из которых — инстинкт самосохранения. Поселковые же собаки, бывшие в Февральске не домашними, а почти что дикими, обладали выработанным природой чувством опасности, а потому куда реже, чем беспечный и беззащитный человек, становились жертвами полосатого людоеда.
Тигр ускорил шаг — теперь его движения стали плавными и расчетливыми: подгоняемый голодом, хищник теперь наверняка бы не побрезговал даже псиной…
Однако на этот раз тигр ошибся: на соседней поляне дрались не собаки, а волки, — четыре больших матерых волка сражались друг с другом за остатки изюбра.
Усы полосатого хищника затопорщились, и он недовольно зарычал…
Волки, словно по команде, прекратив драку, подняли головы на непрошеного гостя. Это была их территория, и они были готовы дать отпор любому, кто посягнет на чужие охотничьи угодья.
Как известно, тут, на Дальнем Востоке, есть только один закон — закон тайги, в котором, естественно, выживает сильнейший.
Сильнейшим, естественно, был тигр, но он был один, а волков — четверо. И ими, волками, руководил не только ненасытный зимний голод, не только семейная солидарность, но и естественный природный рефлекс, выработанный за тысячелетия: никогда не пускать в свои угодья чужака, каким бы сильным он ни казался.
Вожак стаи — самый крупный из волков, подняв голову, угрожающе клацнул зубами и зарычал, обнажая желтоватые клыки; шерсть на холке поднялась дыбом, глаза блеснули злобным огнем…
Тигр на секунду замер, присел, оценивая ситуацию, а затем оскалил огромную пасть, заревел и стал бить себя хвостом по телу, готовясь к атаке.
Волки заняли стратегическую позицию — вожак так и остался стоять напротив тигра, а остальные медленно, не сводя глаз с чужака, стали обходить его, намереваясь напасть на него с разных сторон.
Наверняка тигр понял: эта свора сильна своим единством, а единство будет сохранено до тех пор, пока жив вожак. А это значило, что ни в коем случае не стоит ждать, пока волки нападут первыми…
Мягкий, но стремительный прыжок — пронзительный визг свидетельствовал, что страшные зубы тигра достигли цели; вожак, поваленный на бок, яростно огрызался, пытаясь вырваться, но рыже-полосатый хищник безжалостно вдавливал его в снег. Волк вертелся юлой, разбрасывая вокруг себя мириады снежинок, взрыхляя сугробы, но с каждым движением головы тигра слабел…
Но в это самое время трое других волков, словно по команде, бросились на пришельца — один повис на шее, другой вцепился в заднюю лапу, а еще один, самый молодой, не найдя себе применения, бегал вокруг свалки, стараясь укусить противника, — наконец это ему удалось, и волчьи зубы вцепились в мягкий тигриный живот.
Но это лишь разъярило полосатого хозяина тайги: мощным ударом когтистой задней лапы он отбросил одного — волк с распоротым брюхом полетел в сугроб, скуля от боли. Резкий поворот головы — и тот, что висел на шее, нелепо перевернувшись в воздухе, упал под переднюю лапу — череп его был расплющен в мгновение ока. Молодой волк на миг ослабил хватку, но этого оказалось достаточно, чтобы истинный хозяин тайги, почувствовав относительную свободу, расправился с вожаком: из перегрызенного горла фонтаном хлынула кровь, и от этой крови тигр, казалось, озверел окончательно.
Победно зарычав, рыже-полосатая кошка бросилась за единственным оставшимся в живых противником — тот, скуля от боли и страха, поджал хвост; спустя несколько секунд тигр нагнал его и подмял под себя; и уже ничто не могло спасти серого волка.
Ситуация, в которую попал Каратаев, была незавидной. Тут, в тайге, осталось немало волчьих ям: зачастую эти злобные хищники так донимают охотников, что у последних не остается иного выхода, кроме как оградить себя от волков таким незамысловатым, но действенным способом.
Волчья яма, судя по всему, была старой — в центре торчал трухлявый кол, рядом валялись пожелтевшие кости и череп: Михаил, опытный таежный охотник, сразу же по черепу и сильным, нестертым зубам определил, что тут нашел смерть матерый волчище.
Лыжи были сломаны; первое, что сделал попавший в яму охотник, — освободился от их обломков.
— М-да, попал… — прошептал он, обращаясь к самому себе; и тут же сверху послышался собачий лай, переходящий в печальный вой, — Амур не находил себе места, волнуясь за хозяина.
"Главное, не нервничать, собраться и взять себя в руки", — решил Каратаев.
Неожиданно — кстати или некстати, но, наверное, все-таки кстати — перед глазами наплывом, словно в широкоформатном фильме, возникло лицо Тани — это придало попавшему в западню уверенности.
Охотник достал нож — десантный стропорез, оставшийся у него еще со времен службы в «Альфе», и несколько раз ковырнул промерзшую стену ямы. Нож, так легко обрезавший крепкие парашютные стропы, в сильных руках Михаила едва сковырнул кусочек мерзлого грунта.
Но другого выбора не было…
Пот лился из-под меховой шапки, болели руки, и вскоре пленник скинул и белый маскхалат, и армейский бушлат. Каратаев долбил землю вот уже второй час, но, казалось, без видимых результатов.
Наверху жалобно поскуливал Амур, и хозяину то и дело приходилось успокаивать пса.
— Ничего, выберемся, — успокоительно произнес он, тяжело дыша…
Наверное, ни одна смерть за последние дни не потрясла жителей Февральска так сильно, как смерть Тани Дробязко.
Тут, в поселке, ничего ни от кого не скрыть, и жители прекрасно знали и о редкостной порядочности покойной (которую, кстати, искренне не понимали), и о ее чувствах к Михаилу.
"Он ушел в тайгу, его пока нет в поселке… Но ведь он когда-нибудь вернется. Чего же ожидать от этого таежного Рембо, когда он узнает, что мы не сберегли его невесту?.." — приблизительно такой вопрос задавал себе каждый офицер гарнизона, каждый милиционер, но никто не находил на него ответа.
Да, от этого могучего, уверенного в себе человека можно было ожидать чего угодно — Михаил был по-таежному немногословен, но решителен: пудовые кулаки, спецназовские навыки, холодный расчет и таежная закалка не оставляли сомнения в том, что смерть невесты не останется безнаказанной. Несладко будет и тем, кто это допустил…
Начштаба, узнав от сурового капитана о происшедшем, мгновенно протрезвел — он вспомнил несколько хуков, полученных в клубе от отставного капитана «Альфы», и от этого ему сделалось очень нехорошо; заныл когда-то перебитый нос, и воспоминание об экзекуции остро кольнуло циррозную печень.
— Как это могло случиться? — произнес майор, словно бы обращался не к капитану, нашедшему тела девушек, а в безвоздушное пространство.
— Товарищ майор, я, будучи начальником вверенного мне патруля, двигался по установленному маршруту. Не доходя метров сто пятьдесят до женского общежития, обратил внимание на распахнутую дверь, и это показалось мне подозрительным, — по-военному четко рапортовал капитан. — Следуя инструкции, я…
Майор обреченно махнул рукой:
— Да подожди ты… А Каратаеву бы ты так тоже говорил?
Капитан сразу же замолчал, всем своим видом демонстрируя, что он лишь выполнял поставленную задачу — не более того.
— Вот уж несчастья на нашу голову, — пробормотал майор, — скорей бы этот год закончился!.. Ладно, иди, свободен, — махнул он подчиненному.
О том, как сообщить Каратаеву о смерти невесты, он ломал голову весь вечер, — не придумав ничего путного, отправился к коменданту; они несколько раз ходили вместе на охоту и потому считались приятелями.
— Что делать будем?
Комендант — подполковник, человек старый и повидавший на своем веку немало смертей — тяжело вздохнул:
— Да, жаль парня… Хорошая была девушка. Ладно, я старше него, я сам ему все расскажу…
Михаил выбрался из ямы только к вечеру следующего дня: Амур, лая взахлеб, сразу же бросился к нему, норовя лизнуть в лицо.
— Ну, дождался, дождался… — устало пробормотал Каратаев, трепля его за холку.
Как ни устал охотник, но он нашел в себе силы сделать возле волчьей ямы вешку — чтобы, не дай Бог, никто другой не попал в коварную западню.
Сгодилась одна из лыжных палок: укрепив ее вертикально, на самом краю чернеющей ямы, Каратаев обвязал конец длинной красной тряпкой. И лишь после этого позволил себе устало присесть на снег, прислонившись спиной к огромному стволу пихты.
Охотник посмотрел на стропорез — даже этот страшный нож, способный одним махом разрубить банку с тушенкой, заметно затупился. Тело ныло, будто бы он сутки разгружал вагон с углем; руки, изодранные в кровь, окоченевшие от мороза, страшно саднили; лицо, исцарапанное острыми осколками мерзлого грунта, сводили судороги…
Но Михаил позволил себе отдохнуть лишь тридцать минут — уже смеркалось, до наступления полной темноты оставалось пару часов, а идти по заснеженному лесу без лыж — задача не из легких.
К тому же он опять вспомнил Таню — и так захотелось увидеть ее, прижать к себе, сказать что-нибудь очень ласковое и ободрительное…
С трудом поднявшись и опираясь на вторую из оставшихся лыжных палок, он направился к своему зимовью…
Глава двенадцатая
При всей очевидной слабости Сергей Малинин был человеком неглупым. После того как он вчистую проиграл Иннокентию Астафьеву в карты все, что было можно (даже собственное фуфло), он отлично понял: сейчас никак, ни под каким предлогом не надо форсировать события, иначе выигравший исполнит свое ужасное намерение — отпетушит в натуре. Придет время, и, опытный, поднаторевший и в не таких делах, Иннокентий сам назначит срок осуществления своего замечательного вертолетного плана: не будет же он только грабить, убивать и насильничать, насильничать, убивать да грабить…
Да и это заброшенное зимовье, несильно отдаленное от Февральска, становилось все более опасным.
И вот наконец настал желанный для Малины час: на следующий день после изнасилования и убийства девственных медсестер у женского общежития Чалый очень серьезно заявил:
— Все, хватит дурака валять, хватит яйца из кармана в карман перекатывать… Теперь пора бы и делом заняться. Пришло время матереть, — немного витиевато закончил он свою мысль.
Малина оживился: надежда на успешное осуществление плана вновь озарила его.
— Че, Чалый?
— Наследили мы с тобой, Малина, надо бы уже отсюда подрываться. Менты поганые давно на ушах стоят, начальство их там небось всем скопом трахает: не уследили, мол, не нашли, а этот приличный пацан и тот гадкий чертила, сука, что с ним заодно сбежал, кассы, понимаешь ли, в поселке берут, девок дерут, целки им сбивают, водку грабят, порядок нарушают. Вызовут они, в натуре, бля, целый полк «вэвэшников» на прочесывание тайги, да еще и с «вертушкой», ориентировки свои «мусорские» по всем поселкам повесят — потом в какой магазин зайдешь… Да и так понятно — вон вояк уже подняли, патрулями, бля, ходят. — Судя по тону, Чалый обращался не столько к собеседнику, сколько к самому себе. — Короче, сматываться надо отсюда, и как можно быстрей. Тут оставаться нельзя. В натуре заметут. И еще — больше в этот голимый поселок — ни ногой, ни хером.
По серьезному тону Иннокентия москвич понял, что на этот раз тот не шутит.
— Ты о вертолете? — на всякий случай переспросил москвич.
— Да, Малина, какой же ты, бля, умный, я о вертолете… Я не могу ходить пешком… — С этими словами Чалый принялся снимать с ног "прохоря"-говнодавы.
Размотал портянки, вытер налипшую между пальцами грязь и поманил подельника пальцем.
— Иди-ка…
— Че?
— Читай, что тут написано, — назидательно произнес Иннокентий, выставляя напоказ жилистые, мосластые ступни.
— ЖЕНА — ПОМОЙ, ТЕЩА — ВЫТРИ, — прочитал тот. — Ну и что?
— А здесь? — Чалый приподнял обе ступни, выставляя на обозрение пятки, на которых было каллиграфически вытатуировано: ОНИ УСТАЛИ ТОПТАТЬ ЗОНУ; этот портак в милицейской ориентировке почему-то не был упомянут. — Понял, бля, придурок? Так что, Малина, пользуйтесь услугами "Аэрофлота".
Москвич сглотнул набежавшую слюну — липкую и тягучую, и быстро-быстро заморгал.
— Так как же, те вертолеты, наверное, нехило охраняются… Автоматчики, собаки, сигнализация, спецсвязь и все такое. Да и в связи с бегством двух таких хороших пацанов, как мы с тобой, — Малина, естественно, немного исказил первоначальную мысль Кеши в свою пользу, — караулы усилены… Да и сам ты, Чалый, когда в последний раз за штурвалом-то сидел, а?
Чалый небрежно сплюнул сквозь коричневые от чифиря и самокруток зубы — слюна, подобно торпеде, выпущенной из носового аппарата подводной лодки, стремительно пролетела над самым ухом Малины и покрыла всю пустую пачку из-под "Беломора".
— Не боись, Малина, прорвемся, — скривился Иннокентий, — не бздимо, все будет нормалек…
Спустя минут десять две темные фигуры отделились от зимовья.
Беглецы шли долго, часа два, и успели основательно продрогнуть. Малина трясся, словно пораженный лихорадкой; Чалый, не обращая никакого внимания на товарища, неутомимо шел впереди.
Вскоре совсем стемнело — так быстро темнеет лишь тут, в дальневосточной тайге. Неожиданно в просвете между редеющими сухими деревьями заколебался яркий электрический огонек, потом глаза резанул белесый, мертвенный свет сверхмощного прожектора.
Это и была та самая военная часть с вертолетной площадкой.
Иннокентий сделал знак остановиться и произнес:
— Так, жди тут, я сейчас…
Малина глупо заморгал: ему подумалось, что подельник сам захватит вертолет и бросит его, несчастного, замерзать в тайге.
— Посмотрю, какая охрана и нет ли собак… Жди, я сейчас…
Сказал — и медленно, стараясь не шуметь, пошел вперед, оставив москвича в полном смятении…
Наверное, нет ничего хуже для солдата-срочника, чем стоять ночью, да еще в пятидесятиградусный мороз, да еще накануне самого Нового года, в карауле. А еще если солдат-срочник — не дембель, не дед, а всего-навсего «гусина» — так в славном боевыми традициями Краснознаменном Дальневосточном военном округе обычно именуют тех, кто прослужил родине всего лишь полгода; и если дома, в богатой деревне под Тамбовом, осталась толстая веснушчатая любимая, которая пишет все реже и реже, а еще — роскошный красный мотоцикл «Ява», отданный на это время младшему брату, да к тому же и почти новый магнитофон «Весна» с дорогими сердцу записями "Ласкового мая" и «На-на»; то здесь жизнь кажется окончательно прожитой, и несчастному караульному уж никак ни до автомата системы Калашникова с полным рожком патронов, висящему на плече, ни до Устава гарнизонной и караульной службы, который надо зазубривать наизусть, и даже ни до вертолетов, которые надлежит охранять.
Рядовой Кишкин, невысокий и худосочный тамбовец, тяжело вздохнув, нервно задрал голову на тощей шее и печально посмотрел на зловеще чернеющую кромку тайги — густой хвойный лес начинался совсем рядом, в каких-нибудь ста пятидесяти — двухстах метрах от небольшой вертолетной площадки, тщательно расчищенной от снега. Все тут, в этой забытой Богом и Сатаной глухомани, было не таким, как в его родном и любимом колхозе имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург, что на Тамбовщине: морозы — трескучие, самогонка — вонючая, девки — тощие и совсем без симпатичных рыжих веснушек, а вместо быстроходных мотоциклов «Ява», столь любимых лихими притамбовскими допризывниками, все сплошь танки, БМП, БТРы, УАЗы, лесовозы-МАЗы да страховидные КрАЗы-"болотники" с огромными двухметровыми колесами. Даже волки тут были другими — не в пример родимым, тамбовским, куда злей.
Непроницаемая чернота тяжелой пеленой покрывала вертолетную площадку, и казалось, что эта ночь никогда не кончится, что так, тяжело и печально, пройдет вся оставшаяся жизнь.
Рядовой Кишкин, тяжело вздохнув, обвел взором унылый пейзаж: три вертолета «Ми-8» поодаль — там маячила мощная коренастая фигура другого караульного, "заслуженного дедушки Российской армии" ефрейтора Зубилина; ярко-алая точка сигареты, словно ракетная боеголовка, призывно и нагло светилась в кромешной темноте, навевая донельзя замерзшему «гусю» нестерпимое желание хоть пару раз затянуться самокруткой. Слева — унылый темный силуэт радиолокационной будки с паутинообразным локатором, справа — длинные бараки-казармы, перекосившийся дощатый сортир, караулка, по архитектуре мало отличающаяся от сортира, и приземистые склады, из которых прапорщики-завхозы уже давно украли все, что можно было украсть.
Обернувшись, молодой караульный с откровенной ненавистью взглянул на то, ради чего он, собственно, и торчал тут уже полночи: небольшой, но очень изящный военный вертолет Ка-0012-"Б" с подвешенными под подкрылки мощными крупнокалиберными пулеметами. Винтокрылая машина уже заправлена, с полным боекомплектом, — еще сегодня вечером должна была улететь куда-то под Хабаровск, кажется, в район китайской границы, но пилот неожиданно прихворал, и вылет задержался на сутки. Замначальника по воспитательной работе, то есть по-прошлому — замполит, недавно говорил на занятиях, что это — совсекретное российское оружие и что многочисленные враги родины многое бы отдали, чтобы просто посмотреть на это дивное чудо отечественной милитаристской мысли.
Страшно захотелось курить, и Кишкин уже подумывал, чтобы зайти за совсекретную машину и сделать несколько затяжек хотя бы там, чтобы только «дедушка» ефрейтор Зубилин не заметил, но тут ему очень повезло: алая точка сигаретного окурка падучей звездой полетела в снег, и старослужащий крикнул хрипло и зло:
— Эй, «гусяра», посмотришь на «вертушки» за меня, я сейчас буду…
Ефрейтор даже не дожидался ответа — ушел, подтягивая на ходу ремень.
А чего — разве «гусь» может что-нибудь возразить "дедушке"?
По опыту тамбовский «гусяра» Кишкин знал: «дедушки» Зубилина не будет минимум два часа. Сперва пойдет к своим корефанам-"дедам" варить чифирь, потом, может быть, — бухать такой вкусный и калорийный одеколон «Шипр», украденный намедни у приезжавших с проверкой офицеров, а может быть, даже спать завалится — до рассвета.
Он «дедушка», ему все можно…
— Хорошо у нас в деревне, — пробормотал рядовой, — никаких тебе «дедов»… Только мой родной дедушка, Митрофан Евграфыч…
Почему-то вспомнился пятый класс деревенской восьмилетки и курс родной литературы — Антон Павлович Чехов, и так захотелось написать "на деревню Митрофану Евграфьичу", но, вспомнив про Зубилина, рядовой сразу же забыл великого классика.
Рядовой Кишкин, воровато оглянувшись по сторонам, побежал к тому месту, где на слежавшемся, утоптанном за день снегу так соблазнительно тлел брошенный "заслуженным дедушкой" окурок «Примы»: своего табака у «гусей», как правило, не было; его, по местным солдатским понятиям, сразу же отбирали старослужащие.
Но добежать не успел — страшной силы удар обрушился ему на голову…
— Ну, все нормалек, — самодовольно ухмыльнулся Чалый, стаскивая со спины убитого солдата автомат. — Вот, бля, и стволом разжились… А ты мне, бля, еще что-то говоришь. Главное — не наложить в штаны, тогда точно улетим.
Малина колотился мелкой дрожью: он-то понимал, что убийство военнослужащего и захват боевого вертолета, наверное, самое страшное, что они совершили в бегах.
"Кажется, это называется терроризм, — промелькнуло в напрочь закошмаренных мозгах умного москвича. — А за это полагается…"
Что полагается за это, Малина не помнил — он не был таким большим знатоком Уголовного и уголовно-процессуального кодекса, как его напарник.
"Впрочем, саму "вертушку"-то мы еще и не захватили, — озабоченно подумал москвич, — так что рано радоваться…"
Астафьев, по-хозяйски осмотрев холодный автомат, повесил его через плечо и оглянулся по сторонам — вокруг никого не было.
Вдали — три больших силуэта «Ми-8», а рядом — небольшой, но какой-то совершенно незнакомый вертолет с обтекаемо-гладким фюзеляжем: он чем-то неуловимо напоминал полуфантастическое "оружие будущего" — таким, каким его обычно изображают в голливудских боевиках.
Да, есть из чего выбирать…
Астафьев на секунду задумался, замешкавшись, а затем произнес:
— Эта «вертушка» меньше, значит, ею проще управлять, — решил он, сообразуясь со своей очень своеобразной логикой.
Спустя несколько минут нижний люк, ведущий в кабину, был варварски выломан при помощи обыкновенной фомки — той самой, из поселкового продмага. А еще через несколько минут и Чалый, и продолжавший дрожать Малина уже сидели в вертолете.
Огромная приборная панель — с какими-то тахометрами, спидометрами, с непонятного свойства табло, с экранами многочисленных локационных разверсток, невообразимым количеством тумблеров, переключателей, кнопок, гашеток совершенно неизвестного применения — поразила воображение Малинина.
— А ты чего… — он несмело толкнул в бок Чалого, — того… Думаешь — взлетим?
— Отдзынь. — Теперь голос Астафьева прозвучал уже не очень уверенно. — Брысь, паучина, брысь, не мешай мне воровать. Поищи лучше, чем тут можно разжиться. А я пока посмотрю, повспоминаю, — как «Ми-8» летает, еще помню, а это халудина какая-то новая, неизвестная… Давай, давай!
Малина принялся послушно обшаривать кабину — улов, как ни странно, был замечателен: четыре бутылки «Пшеничной», десять четырехсотграммовых банок китайской тушенки «Дружба», блок «Беломора» и небольшой полотняный кисет — когда москвич развернул его и понюхал, то сразу же блаженно заулыбался.
Видимо, несмотря на причастность к самым страшным государственным секретам, местные военные вертолетчики любили водку и наркотики не меньше остальных жителей Приамурья, отношения к военным секретам не имевшим.
И в это самое время…
Вертолет затрясся, завибрировал, будто бы огромный доисторический птеродактиль — летающий ящер из учебника палеонтологии; лопасти принялись вращаться сперва медленно, а затем быстрей, быстрей, еще быстрей: совершенно неотвратимо набирая скорость.
— Э-э, бля… — донеслось до слуха москвича едва слышное; спустя несколько секунд он почувствовал, как винтокрылая машина, несколько раз качнувшись, отрывается от земли.
Вздымаемая мощными лопастями, по вертолетной площадке поплыла мелкая поземка, и за стеклом кабины на какое-то время стало бело; от внезапного ветра качнулись елочки, росшие по краям площадки.
Унылый белоснежный пейзаж, темные строения, едва подкрашенные тускло-желтым электричеством, черные силуэты трех оставшихся на земле «вертушек» как-то нервно задергались под стеклянным носом и стали медленно-медленно уменьшаться, отдаляясь…
То ли принцип управления этого совсекретного вертолета не очень сильно отличался от принципа управления «Ми-8», то ли Чалый в свое время и впрямь был образцовым учеником вечно пьяного офицера-вертолетчика в той части, где когда-то служил, то ли импровизированному пилоту так сильно помогла какая-то техническая инструкция, которую он нашел тут же, в кабине, — но Ка-0012-"Б" все-таки взлетел. Правда, как-то очень неуверенно, неуклюже, тяжело и неровно: надсадно ревели двигатели, стрелки и индикаторы приборов и датчиков то и дело зашкаливало, но вертолет медленно и неотвратимо шел вверх.
Поднявшись метров на двадцать, винтокрылая машина зависла в морозном воздухе: татуированный пилот никак не мог определить, как же управлять горизонтальными рулями, как переключить двигатель для дальнейшего полета, как регулировать тягу.
А Малина тем временем, воровато оглянувшись по сторонам, будто бы тут, в кабине, мог быть еще кто-нибудь, принялся забивать анашой "беломорину"…
— Эй, че ты там делаешь? Забалдел и кончил? Так еще рано! — Спереди, из кабины пилота, послышался дикий, захлебывающийся хохот. — Как только мы с тобой в Америку прилетим, в Голливуд, там на саму Мерилин Монро кончать будешь! — блеснул блатной глубинными знаниями американской кинематографии. — Я буду ее трахать, трахать, а ты смотреть и кончать. Ха-ха-ха!.. — залился Иннокентий воистину сатанинским смехом.
Впрочем, из-за шума двигателя и свиста лопастей москвич или не услышал, или не понял прогноза подельника, а пойми — все равно бы не обиделся.
— За наш план! — Малина, скусив с «Пшеничной» пробку, с бутылкой в одной руке и с забитым анашой косяком, пробирался к креслу, в котором сидел Чалый. — Кеша, дорогой, ты ведь «плана» хотел? Вот я и нашел тебе плана, дорогой Чалый, как ты и желал…
Подкурив косяк, шестерка подобострастно сунул его в рот подельника, а другой рукой, стараясь не расплескать, предложил бутылку.
— Ну ты, бля, ниче, — похвалил Чалый, — давно я хорошей «шмали» не курил. Нормалек, цепляет, бля… Исправляешься потиху, чертила. Но, Малина, я тебя все равно трахну!.. — пообещал он. — Не сегодня, так завтра.
Видимо, это была шутка.
Вертолет висел совсем низко над казармами, страшно вибрируя всем корпусом. Затем, немного наклонив острый нос, снизился над караулкой…
Ефрейтор Зубилин, выйдя из дощатого сортира, долго застегивал ремень, а когда застегнул — содрогнулся от непривычного звука: треск, грохот, надрывный форсаж заставили его на какое-то время оглохнуть.
"Заслуженный дедушка" российской армии вообще и Краснознаменного Дальневосточного военного округа в частности поднял голову и охренел: прямо на него летел тот самый совсекретный вертолет КА-0012-"Б", который должен был охраняться рядовым Кишкиным.
— Во, бля, «гусяра» дает… — прошептал пораженный ефрейтор; ему почему-то показалось, что наглый тамбовский «гусь» решил на вертолете смотаться в самоволку — за девками и спиртом.
КА-0012-"Б" немного снизился, и Зубилин, придерживая от поднимаемого лопастями ветра шапку, призывно замахал руками:
— Эй, «гусяра», что — совсем борзый стал, да? Ты куда — в Февральск, за водкой? Возьми меня с собой! Ты че, не понял, козлина? А ну спускайся!
Вертолет продолжал висеть над караулкой — совсем низко над землей, метрах в двадцати. Неожиданно под самым брюхом зажегся мощный прожектор, и белый галогеновый луч совершенно ослепил ефрейтора.
— Ты че, совсем борзый, да? — Зубилин, прикрывая одной рукой глаза, другой принялся грозить совсекретному вертолету кулаком. — Ты че, совсем охренел? Службы не знаешь? Я тебе, бля, такой "дембельский поезд" устрою, «гусеныш», что…
Он не успел договорить обещания: пулеметы под подкрылками мягко и плавно повернулись и выплюнули сноп огня — вокруг старослужащего заплясали фонтанчики вздымаемого пулями снега, и спустя несколько секунд Зубилин, изрешеченный насквозь, как крупное решето, валялся на вспаханном, окровавленном снегу…
Чалый, жуя темными щербатыми зубами давно погасший папиросный мундштук, в котором уже не оставалось ни анаши, ни табака, дико хохотал и жал, жал на пулеметную гашетку — пулеметные очереди полосовали вертолеты «Ми-8», стоявшие рядом с казармой, — вскоре над одним из них всполыхнул сноп огня.
То ли неожиданно удачное осуществление плана по захвату вертолета, то ли сам план, грамотно набитый Малиной в толстый-толстый косяк, а скорей и то и другое вместе! — но Иннокентий находился в самой настоящей эйфории: дико хохоча, он остервенело жал на пулеметную гашетку, маневрировал горизонтальными рулями (откуда только умение взялось!), и безжалостные пулеметные очереди дырявили все, что попадалось у них на пути, — казармы, караулку, даже дощатый сортир, склады…
Вскоре внизу показались какие-то длинные тени в шинелях, они суетливо бегали по площадке, нелепо размахивая руками.
Откуда-то снизу показалась вспышка пламени, а затем спустя какую-то долю секунды рванул взрыв — над складами вздыбился густой черный дым; тщедушные фигурки скрылись в этом дыму сразу же. Затем рвануло еще раз, еще и еще…
Видимо, пули попали в цистерны с авиационным керосином. Теперь можно было с уверенностью сказать, что ни один из оставшихся Ми-8" не станет преследовать угнанную "вертушку".
А КА-0012-"Б", медленно развернувшись, поплыл над темной тайгой…
Каратаев, пройдя еще шагов двести, наконец-то добрался до старой лиственницы и устало прислонился к замшелому стволу.
Сердце гулко билось, кровь пульсировала, тяжело отдавая в висках, болели исцарапанные руки, ныли уставшие мышцы. Передвигаться по заснеженной приамурской тайге без лыж, по колено, а то и по пояс в снегу, — дело непростое, требующее огромных физических усилий, даже для бывшего спецназовца.
Амур, с огромным трудом догнав хозяина по оставленной в снегу глубокой колее, обессиленно присел на задние лапы, и отощавшие бока его устало раздувались в такт учащенному дыханию.
Немного передохнув, Михаил собрался продолжить нелегкий путь к своему зимовью, но внимание его привлекло несколько ворон, перелетавших с ветки на ветку метрах в пятидесяти от него; чернильно-черные птицы рельефно выделялись на заснеженных ветках.
Удивительные эти птицы — вороны: как же скоро они узнают, где есть мясо! Потомственный таежный охотник, Михаил знал: шумное поведение ворон в голодной зимней тайге объясняется, как правило, просто — эти прожорливые птицы, как никакие другие, быстро находили в лесу остатки чьего-то обеда или останки падших животных и сразу начинали трапезу, громко перекликаясь между собой и перелетая с одного дерева на другое.
Издали заметив на снегу бурые пятна и клочки шерсти, Михаил сразу догадался о таежной трагедии, происшедшей недавно. На впаханном мощными лапами лежалом снегу валялись останки разорванных в клочья дальневосточных волков, — даже в таком суровом человеке, как Михаил, они вызывали острое чувство сострадания — ну точно как собака, раздавленная самосвалом.
"Странно, — подумал Каратаев, — ведь волки редко нападают друг на друга, и то только из-за территории, да и если между ними и происходят стычки, то они редко заканчиваются очень плачевно: а тут вообще друг дружку на куски изорвали", — недоумевал Михаил. Весь его опыт на сей раз не подсказывал ему ничего.
Конечно же, голодные хищники могли бы сцепиться и из-за скудной добычи, столь редкой в холодную дальневосточную зиму. Но охотник-промысловик, долго и внимательно изучавший место сражения, не нашел никаких признаков обыкновенной волчьей охоты, которая бы принесла серым удачу: на снегу нигде не было видно других, кроме волчьих, следов, клочьев шкуры, костей…
Правда, вскоре охотник обнаружил закоченевшие останки изюбра, растерзанного какими-то мощными клыками, но даже с первого, поверхностного взгляда было видно: это не волчьи клыки…
Внезапная находка заставила его сердце забиться сильнее и позабыть об усталости: на снегу отчетливо был виден глубокий отпечаток тигриной лапы — следы вели в самую глубину тайги; Михаилу сразу стала понятна причина смерти бесстрашных таежных волков. Да, только полноправный царь приамурской тайги — тигр мог позволить себе безнаказанно вторгнуться на чужую территорию и столь хладнокровно и решительно расправиться с ее хозяевами.
Каратаев насторожился, прислушался — все было тихо. Но он, сняв с плеча винчестер, на всякий случай придержал Амура за холку, давая знак, чтобы тот успокоился и был внимателен.
Опытный охотник настороженно обошел место сражения таежных хищников и, изучив следы, понял, что тигр, победивший в недавней схватке с матерыми волками, был тем тигром-людоедом, о котором сообщалось по хабаровскому телевидению и за которым Михаил охотился в последние дни.
Кровожадный хищник, судя по глубоким следам, после удачной охоты ушел в сторону ручья, унося в зубах тело одного из волков.
Преследование быстрого хищника по заснеженной тайге без лыж было заведомо обреченным на неудачу делом, и Михаил, повесив ружье на плечо, продолжил свой путь до зимовья.
Неожиданно послышался характерный стрекочущий звук: из-за верхушек пихт и лиственниц показался вертолет камуфляжной окраски, торпедообразный корпус которого сразу же привлек внимание Каратаева.
"Странный какой-то силуэт у этого вертолета, — подумал хорошо разбирающийся не только в вертолетах, но и в любой военной технике бывший спецназовец, — наверное, какая-то последняя модель. Молодцы все-таки наши российские умельцы: денег нет, «оборонка» развалена, работают небось на голом энтузиазме, на Западе они бы уже давно на личных вертолетах летали, а у нас… Зато какие чудеса техники создают! Любой натовский начальник за одну только фотографию этого вертолета, наверное, готов отдаться любому конструктору прямо на чертежном столе — независимо от звания, должности и сексуальной ориентации!.."
Странные, весьма алогичные маневры неизвестного вертолета отвлекли Михаила от размышлений и заставили насторожиться: винтокрылая машина то набирала скорость, то, замерев на несколько секунд, начинала двигаться в противоположном направлении, задрав острый нос с тупым коротким стволом в голубое небо.
Внезапно вертолет завис на месте и принялся медленно вращаться вокруг своей оси; казалось, еще чуть-чуть — и он свалится на острые верхушки пихт. Затем снова замер… и неожиданно вековую тишину тайги разорвал мощный взрыв: оставив за собой шлейф черного дыма и осыпав верхушки лиственниц снопом искр, ракета класса "воздух — земля" стремительно вонзилась в подножие сопки, и через доли секунды вверх и в стороны взлетели огромные глыбы мерзлого грунта, перемешанные с сотнями килограммов песка и лежалого снега; сверху на Каратаева с треском посыпались сломанные взрывной волной ветки ели.
"Что они там — опять анаши обкурились, что ли? — пронеслась в мозгу мысль; он-то отлично знал, что военные вертолетчики для снятия профессиональных стрессов пользуются не только водкой и спиртом. — Совсем с ума сошли, придурки". Михаил нагнулся, уклоняясь от падающих веток, и машинально прикрыл лицо руками.
В мозгу зазмеилось нехорошее предчувствие: почему-то Михаилу подумалось, что это не офицер-вертолетчик сидит за штурвалом секретной экспериментальной модели. Вряд ли испытывать явно секретную винтокрылую машину доверили бы очевидному наркоману.
Хотя…
Тут, на Дальнем Востоке, возможно и не такое: в этих краях никто никогда ничему и никому не удивлялся…
Глава тринадцатая
Когда начальник режимной части майор Коробкин "за ношение недозволенных Уставом вещей" определил уважаемого вора в законе Астру в барак усиленного режима, то есть — в БУР, он делал это вовсе не потому, что действительно хотел наказать пахана, вовсе нет. Упрятать такого уважаемого человека в БУР — наглый плевок в душу всему блатному сообществу зоны; кто-кто, а режимник, поднаторевший в уголовных «понятиях», знал это наверняка. Знал также и о том, что может за этим последовать…
Говорят, что когда-то любимый вождь китайского народа Мао Дзэдун сказал по поводу проводимой в Поднебесной культурной революции: "Чем хуже, тем лучше".
Неизвестно, читал ли майор Василий Коробкин труды великого Мао, неизвестно, знал ли он вообще, кем был "великий кормчий", но теперь он действовал в полном соответствии с этим замечательным принципом.
Обидится Астра, через своих «торпед» запретит мужикам выходить на работы, на лесоповальные делянки да промку — очень хорошо. Начнется бунт — еще лучше. По любому поводу высокие комиссии и спросят прежде всего не с него, режимника, а с хозяина.
А там, глядишь, отправят полковника Герасимова на пенсию досрочно, а единственная кандидатура на такую замечательную должность — он, режимник. Не сегодня завтра должны дать подполковника, а это звание вполне достаточное для начальника строгача. К тому же на нем-то, на майоре Васе, тут весь порядок и держится…
Астра, протянув руку, включил огромный японский вентилятор — на хате было довольно душно, и это услужливое чудо совершенной азиатской техники с встроенной климатической установкой сильно выручало подорвавшего здоровье вора в законе.
Камера БУРа, где вот уже вторую неделю коротал время смотрящий строгой зоны, мало чем отличалась от номера хорошей (по европейским меркам) гостиницы: душ, огромный, на полстены, японский телевизор, услужливый видеомагнитофон, питательные, калорийные «бациллы», регулярно носимые сюда прямо из офицерской столовой, относительно приличная и удобная мебель, а главное — любимые книги и новенькая пишущая машинка; вор в законе ни на минуту не оставлял занятий философией…
Общеизвестно: чем скромней законный вор в быту (например, на отсидке), чем меньше у него каждодневные запросы, тем больший у него авторитет. Это особенно касается воров старой, «босяцкой» формации, или, как их еще называют, "нэпманских".
Именно таким вором и был осужденный Лавров, более известный, как Астра. И ко всей роскоши, которая тут, на строгаче смотрится вызывающе, он, будучи к тому же истинным философом, относился безразлично.
Но так уж получилось: два года назад отсюда, со строгой зоны, «откинулся» другой вор — полная противоположность Астре.
Авторитет Чалдон, никогда «босяцких» традиций особо не придерживавшийся, а бывший для всех блатных очевидным «апельсином», то есть вором-скороспелкой, купившим «коронацию» за большие деньги, повел совершенно другую политику, тем более что с начала девяностых порядки в лагерях стали более либеральными. На вольняшке Чалдон был нагл и беспределен, но на зоне со старыми блатюками в открытые конфликты не входил, предпочитая их избегать, щедро ссыпал лавье в общак, и потому тут, на зоне, его терпели и даже немного уважали. Чалдон, один из самых небедных людей Приамурья, сибарит и неженка, не мог примириться с пусть временными, но все-таки значительными неудобствами, которые ему приходилось испытывать в далеком от благ цивилизации лагере (сроку у него было восемь лет, но вышел он через полтора — кореша подкупили прокуратуру, всю и оптом, а та сильно скостила срок). И надо же было такому случиться, что как раз в то время во всех без исключения дальневосточных лагерях начались серьезные проблемы: задержка зарплаты офицерам и прапорщикам, перебои с заказами на промку и, как следствие, с питанием, общая задолженность…
Обладавший завидной деловой сметкой, «апельсин» сразу же предложил администрации замечательную вещь: одна из крупных фирм, которой Чалдон давно уже ставит «крышу», выступает в качестве щедрого спонсора, но взамен администрация ИТУ дает осужденному возможность жить так, как он привык, не отказывая себе ни в чем. Администрация, естественно, с радостью согласилась — ведь в спонсировании учреждений ГУИТУ нет ничего противозаконного.
Чалдон, оборудовав себе тут настоящий курорт, перебрался в БУР, где и провел оставшийся срок почти безвылазно. Он жил тут настоящим принцем — его оберегали от пушинок, не ходил на разводы, не нюхал лагерной баланды, смотрел по видаку да специально установленной спутниковой «тарелке» боевики да «порники» и по сотовому телефону держал связь с братвой, координируя ее действия. Иногда, когда Чалдону становилось совсем скучно, он приглашал на бутылку коньяка самого хозяина Герасимова, ведя с ним непринужденную светскую беседу и наслаждаясь пикантностью момента и профессионализмом собеседника.
"Апельсин" вскоре откинулся, по слухам, спустя какой-то год он, будучи в Магадане, стал жертвой киллера, но «курорт» на буровской хате остался.
А коли «курорт» есть — не пропадать же ему! К тому же приамурская братва, свято блюдя корпоративную честь, продолжила благотворительные отчисления в фонд бедствующей зоны.
Именно по этой причине Астра, как самый уважаемый тут человек, и был определен в доставшуюся зоне по наследству роскошную хату; а че, бля, в натуре, петухам с чертилами запомоенными тут кочумарить?..
Вор, тяжело вздохнув, полез в бар, достал оттуда бутылку благородного «Ахтамара», пачку «Беломора» и небольшую коробочку с анашой.
— Красноталь! — Астра, подойдя к металлической двери, постучал кулаком, вызывая прапорщика-контролера, — тот не замедлил явиться на зов.
— Вызывали? — по-лакейски изогнув спину, спросил контролер.
— Слышь, Красный, мне вот тут пацаны говорили, что ты косяки с анашой лучше всех забиваешь… — небрежно сообщил пахан.
— Чалдон говорил мне как-то, что я — лучший косячник на всем Дальнем Востоке! — не без затаенной гордости сообщил контролер, который был приставлен к «курортной» хате БУРа в качестве надсмотрщика, лакея и мелкого порученца одновременно.
— Ну так забей, — распорядился Астра. — Покажи умение…
Когда дурак-контролер, вежливо кивнув на прощание, ушел, заслуженный вор, пыхнув анаши, налил себе полновесную рюмку коньяка и, смакуя, пил ее минут десять. В голове произошло приятное помутнение, пробежало легкое волнение, и пахан, с минуту подумав, подошел к полочке с телевизором и видаком. «Порники», примитивные стейтовские триллеры с крутым мордобоем, звучными взрывами машин да набившие оскомину гангстерско-полицейские фильмы совершенно не интересовали вора-интеллектуала: Астра очень любил тот кинематограф, который идиоты-критики почему-то именуют «элитарным», а не меньшие идиоты-видеопрокатчики почему-то — «жизненным». Бергман, Антониони, Пазолини, Феллини, Орсон Уэллс, Тарковский, Бунюэль, — подобные вещи пахан мог смотреть по несколько часов кряду; видиотеке БУРа. наверняка бы позавидовал любой столичный сноб. Правда, одну видеокассету все-таки пришлось выбросить — "Цвет граната": Астра с явной брезгливостью сделал это после того, когда узнал, что режиссер этого фильма — натуральный педераст, в свое время отсидевший срок за педерастию.
Астра, немного подумав, выбрал "Скромное обаяние буржуазии" — этот фильм он видел, наверное, раз сто, если не больше, но не мог удержаться, чтобы не посмотреть его еще раз. К тому же знатоки и любители утверждали, что бунюэлевский «сюр» лучше всего смотреть в состоянии наркотического опьянения…
Вот уже третьи сутки хозяин полковник Герасимов пребывал в подавленном настроении. Причина была более чем серьезна: Астра действительно обиделся.
Герасимов был на «курортной» хате уже два раза, пытаясь примириться с вором, — тот оставался корректным и сухим, всем своим видом демонстрируя, что не желает беседовать с поганым "мусором".
Хозяин был человеком опытным и потому понимал: теперь надо ждать неприятностей.
Поднявшись, полковник подошел к зарешеченному окну, выглянул во двор — занималась вьюга.
"Как хорошо будет после отставки, — принялся самоуспокаиваться Герасимов. — Поеду на Полтавщину, к хохлам, буду там жрать по литрухе самогона в день, а закусывать исключительно салом да галушками… Жену, паскуду эту, выгоню, другую найду, — как куплю себе черную «Волгу», буду кататься по городу, и девки сами вешаться будут, на капот прыгать…"
Однако до богатой народным алкоголем и дешевой свининой Полтавщины, столь желанной полковничьему сердцу, было еще далеко — и теперь уже дальше, чем когда бы то ни было. Нехорошие, косые, явно недоброжелательные взгляды Астры, подчеркнуто-корректный тон, полное нежелание "договориться полюбовно" — все это подтверждало самые нехорошие предчувствия.
Хозяин, захрустев пачкой «Космоса», щелкнул дорогой зажигалкой, закурил, на какое-то мгновение окутавшись сероватым дымом.
— М-да, бля, и зачем я этого Васю послушался? — рассуждал он вслух, меряя неверными шагами кабинет. — Мог бы тогда, в клубе, сразу договориться… Да и Киселев, подлец, тоже хорош. — Начальник ИТУ, не зная о несчастливой судьбе бывшего кума, был уверен, что тот уже давно на Большой земле. — Отдал бы этих ссученных блатным на разборку: что — убыло бы от Киселева? Да и сук на зоне небось на сто разборок бы еще хватило, резать не перерезать… Кабан шалый. Нагадил, а мне отдуваться… Да и эти, Чалый с Малиной, тоже хороши…
Знал бы теперь товарищ полковник, где теперь те ссученные и чем занимаются…
Вертолет КА-0012-"Б", надсадно ревя сверхмощными двигателями, продолжал свой беспорядочный и, казалось, бесцельный полет над заснеженной тайгой. Беглецы нашли в кабине какие-то инструкции и навигационные справочники — сидевший за штурвалом Чалый ни хрена не смыслил ни в том, ни в другом, но, будучи человеком таежным, опытным, выросшим в этих краях, все-таки умудрялся ориентироваться по каким-то только одному ему известным приметам.
За иллюминаторами то и дело мелькали темные силуэты высоких лиственниц, яркими пятнами белели лесные поляны, закрывали горизонт покатые сопки.
После третьего косяка в дупель обкурившийся Иннокентий, естественно, полностью забыл о первоначальной причине угона военного вертолета и о спасительном плане бегства за границу.
"Шмаль" попалась хорошая, веселящая, не «грузила», то есть не концентрировала внимание на незначительных пустяках, — вертолетчики Краснознаменного Дальневосточного военного округа знали толк в наркотиках, в натуре. Кабину вертолета то и дело сотрясал животный гогот — Чалый, глядя на приборы, дико хохотал; видимо, качавшиеся стрелки, светящиеся точки на экранах и локаторные разверстки выглядели в его глазах очень забавно. Корявые татуированные пальцы с обгрызенными коричневыми ногтями неуверенно лежали на штурвале — пилот, размахивая зажатой в одной руке бутылкой водки, другой то и дело дергал резко горизонтальные и вертикальные рули, и после каждого такого движения вертолет то заваливался в полете набок, грозясь неминуемо свалиться, то резко взмывал ввысь, из-за чего у обессиленного такими сверхасовскими маневрами Малинина подкатывал к горлу ком и начинались рвотные спазмы.
— Эх, Малина, гуляем, фуля той жизни! — возбужденно кричал Астафьев. — Ха-ха-ха!..
Москвич уже жалел, что показал Чалому кисет с анашой, и сильно жалел. Призрак столь желанной, столь близкой свободы снова исчез в зыбком таежном тумане. Даже сам сатана, существуй он тут, в дикой дальневосточной природе, скорее всего, не знал бы, какие мысли проносятся сейчас в голове подельника, затуманенной наркотическим дымом и алкогольными парами.
Спустя минут двадцать, когда был докурен четвертый косяк и предусмотрительно забит пятый, Чалый окончательно вошел в раж. Он с силой надавливал на штурвал — дикие вопли Малины, теряющего от этих маневров равновесие и постоянно валящегося с ног, вызывали в нем лишь очередные приступы гомерического хохота.
Пилот давно перестал обращать внимание на стрелки приборов, плясавшие перед глазами. Еще после первых затяжек травкой он отбросил в угол инструкцию по полетам, посчитав себя опытным мастером высшего пилотажа. И чем сильней ревели двигатели вертолета, работающего на максимальных перегрузках, чем круче были повороты и виражи, то и дело вдавливающие его в пилотское кресло, чем громче и отчаянней вопил за спиной подельник, в очередной раз валившийся с ног, тем радостнее становилось на душе Иннокентия; душа смеялась и пела, а оркестром ей были грохочущий вертолет и визжащий Малинин.
Наконец после часа полета водка и наркотики немного утряслись в теле Чалого, он перестал веселиться и тупо уставился в бронированное лобовое стекло.
Из-за спины послышался стон Малины:
— Кеша, ну ты че?.. Потише… Так же и угробиться можно.
— Отдзынь, козлина, прорвемся. Учись, как надо техникой управлять, пока я жив, а то так и подохнешь придурком неграмотным.
Малина, пошатываясь, добрался до соседнего кресла, устало плюхнулся в него, обиженно поджал губы.
— Че расселся, паучина, планшет тащи, — не глядя на подельника, презрительно процедил Чалый.
Тот беспрекословно повиновался. Через минуту Астафьев, не снимая заскорузлую руку со штурвала, развернул на коленях навигационную карту полетов. Перед глазами предстала полная, как посчитал уголовник, ахинея: какие-то черточки, цифры, знаки градуса, широты и долготы, параллельные и кривые линии.
— Ты че, бля, принес, это че, по-твоему, карта, да? — Чалый решил не показывать перед подельником незнание законов аэронавигации: негоже нормальному пацану падать лицом в грязь перед полным идиотом.
— Кеша, так больше ж ничего нету, только этот планшет, я все обыскал, бля буду, — затараторил перепуганный Малинин, от волнения растирая бледные дрожащие руки. — Че теперь делать-то, а?..
— Ладно, я уже придумал, — оборвал его Чалый, в голове которого созрело спасительное решение.
Астафьев устроился в кресле поудобней, минут за десять выровнял вертолет и взял курс на тонкую струйку дыма, вьющуюся в небо из-за невысокой сопки, примерно в десяти километрах от них…
Вертолет продолжало трясти, Малинин, собрав в кулак остаток сил, вяло спросил:
— Куда?
— Ты думаешь, в Китае хорошо жить? — Чалый вспомнил журнал «Огонек» за 1978 год, где писалось об ужасах маоизма.
— Так… они же того, и тушенку выпускают, и гондоны, и пуховики, и… — На этом знания политической экономии закончились.
— Социализм там, понятно? Там у них компартия, Мао Цзэдун за пахана — я сам в журнале читал. Жрать нечего, так они, что козы, травку щиплют, воробьев жрут… — Обладавший неплохой памятью, Астафьев довольно подробно пересказывал содержание статьи "КНР: извращенный социализм, предательство интересов трудящихся".
— Ну и че?
— В очке горячо, понятно? Награбить надо, где чего плохо лежит, чтобы там фуцинами нищими себя не чувствовать. А то будешь траву жрать… Или на завод работать пойдешь, чугун плавить. — Это предположение показалось Чалому настолько диким и оскорбительным, даже относительно шестерки Малины, что он заржал как лошадь.
— А что награбить? — неуверенно промямлил москвич — как ни странно, но доводы подельника показались ему убедительными.
— Я ж тебе грю — что плохо лежит, — снизошел Иннокентий. — Думаешь, проблемы? Стволов у нас видал сколько? Трах-тибидох из пулеметов, пару ракет, я еще разберусь, как ими управлять, — и всех делов-то.
Конечно же, он был прав, потому что тут, на Дальнем Востоке, плохо лежит абсолютно все…
В артели золотоискателей был обычный рабочий день.
После скудного завтрака, получив от старшего дневное задание, приисковики, по традиции перекурив, принялись за тяжелый, но за долгие месяцы уже ставший привычным труд.
Журчала прозрачная вода в ледяной полынье, в старой драге периодически с неприятным шумом открывалась дощатая заслонка, и в ручей сбегали мутные потоки грязи: вымывались из отработанной породы ярко-желтые крупинки драгоценного металла.
Стрекот вертолета, темный силуэт на фоне холодного голубого неба, столь неожиданно выросший из-за высокой заснеженной сопки, естественно, не привлекли внимания старателей — никто даже не взглянул на приближающуюся боевую машину, никто даже не поднял головы. Рабочие давно привыкли к ежедневному появлению в этих местах военной авиации, тем более что ни для кого не было секретом: на вертолетной площадке, находившейся километрах в пятидесяти, «вертушек» несколько. Плановые учебные полеты со стрельбами и без них, патрулирование приграничных с соседним Китаем территорий — мало ли у вояк поводов для сжигания денег налогоплательщиков?
Но этот вертолет был каким-то странным — пилот вел себя очень нестандартно. В отличие от прежних, обычно облетавших прииск стороной, этот, летевший очень низко, почему-то держал курс прямо на старателей. И с каждой секундой грохот приближающейся огромной стрекозы все усиливался, грозная фигура боевой машины как-то неестественно быстро увеличивалась в размерах, и вот уже она нависла над маленьким участком старателей, взметая мощными потоками воздуха от свистящих винтов тучи снега, за одну секунду подняв настоящую метель.
Старатели подняли воротники, прячась от жалящих иголок колючего снега, с силой впивающихся в лицо, одновременно удивляясь и возмущаясь пилоту, нарушившему их покойные трудовые будни.
Старший участка принялся что-то возмущенно кричать, размахивая руками, но его крик утонул в ужасном грохоте винтов.
Внезапно темный бок вертолета осветился яркими короткими вспышками, и сквозь шум двигателя донеслась глухая пулеметная очередь: фигурка старшего участка подкосилась и рухнула в снег.
На секунду замерев, старатели бросились врассыпную, спасаясь от пулеметного огня.
Вертолет, несколько минут повисев над затерянным прииском, резко повернул в правую сторону на несколько градусов — снова засверкали яркие вспышки огня, теперь уже с обоих боков вертолета, и на старателей обрушился град пуль сразу из двух пулеметов.
Затрещали, посыпались в разные стороны куски досок и деревянные щепки расстрелянных убогих приисковых построек; точно колода карт, рассыпались сборно-щитовые жилые домики старателей — некоторые тут же ярко вспыхнули, подобно факелам; видимо, там хранилось слишком много керосина. Погром продолжался: во все стороны летели куски мерзлой породы, взмывались вверх фонтаны песка. Пули безжалостно настигали метавшихся в испуге рабочих, и снег густо и обильно орошался бурыми пятнами крови. Сусально блестящие горячие гильзы беспорядочно сыпались сверху, усеивая перемешанный с породой лед.
Раздался грохот, внизу обтекаемого сигарообразного фюзеляжа мгновенно сыпанул сноп ярко-розовых искр, и, испустив облако черного дыма, прямо в приисковый склад ударила ракета. От страшного взрыва сотряслась земля и с веток деревьев, растущих в радиусе одного километра от взрыва, полетел вниз снег.
В считанные доли секунды от склада не осталось и следа; на его месте зияла глубокая черная яма с кипящей водой на дне, и вокруг нее тлели обугленные деревяшки, шел пар от горячих комьев земли, валялась разорванная одежда, обломки драги.
Старатели, утопая по колено в рыхлом снегу, с животным ужасом бежали по направлению к чернеющему рядом лесу, в надежде укрыться под непроницаемыми сверху ветками хвойных деревьев.
Вертолетчики, впрочем, скоро заметили эту уловку. Стрельба по прииску вскоре прекратилась вообще; да там уже и не осталось никого живого. Сеющая смерть железная птица неуклюже развернулась и, опустив нос с тупым пушечным рылом, погналась за убегающими. Началась индивидуальная охота за оставшимися в живых рабочими — темные фигурки старателей, валились в снег после каждой огненной вспышки на веретенообразном фюзеляже…
Не спасся никто — КА-0012-"Б" как раз для уничтожения живой силы был отлично сконструирован…
Малина, вывалившись из кабины вертолета, тут же закрыл глаза — опершись одной рукой о фюзеляж, он наклонил голову; не было такой силы, которая бы смогла теперь задержать рвотные спазмы.
— Ну ты, бля, еще мою тачку обрыгиваешь! — Чалый, не в силах снести такого кощунства над боевой машиной, подошел к москвичу и дал ему пинка под задницу. Малинин, поскользнувшись на льду, как резиновый, отлетел на несколько метров, ткнувшись носом во что-то теплое, мягкое и бесформенное; это было человеческое туловище, без рук, ног и головы.
— А-а-а-а!.. — дико заорал подельник Иннокентия. Вскочив на ноги с проворством преследуемой коршуном ящерицы, он побежал в сторону, но успел пробежать лишь метров десять — на этот раз он споткнулся о чью-то свежеоторванную голову.
— Ну, бля, и таракан же ты, — презрительно сплюнул сквозь зубы Чалый.
Он долго стоял на одном месте, глядя, как его подельник барахтается в окровавленном снегу, словно раздумывая — помочь ему или не помочь, а может быть, еще раз подойти да дать под задницу; но в это самое время с Малининым, казалось, что-то произошло — поднявшись на четвереньки, он завыл, но уже не ужасающе, а радостно:
— Чалы-ы-ы-ы-ы… Ы-ы-ы-ы…
— Ну, еще этого не хватало — совсем шифер с крыши сорвало! — Гневу Астафьева, казалось, не будет предела. — Идиот хренов… Оставить его тут, что ли, или пусть еще поживет, пригодится…
Иннокентий, поискав глазами что-нибудь продолговатое, удобное для захвата и одновременно тяжелое, остановил внимание на оторванной по плечо окровавленной человеческой руке, — видимо, кровь вытекла из нее, и она была совсем белой, твердой и уже совершенно закоченелой — словно гипсовой. По мнению жестокого, циничного и безжалостного уркагана, этим жутким предметом можно было как следует избить незадачливого напарника.
Однако он ошибся — Малина кричал не только от страха…
Постояв на четвереньках с минуту, москвич наконец-то нашел в себе силы подняться.
— Чалый… — пробормотал он синими губами, — смотри, что тут…
Иннокентий, не выпуская из рук свое страшное орудие воспитания, сделал несколько шагов вперед:
— Ну?..
Солнце было в зените — через бронированный стеклоколпак оно щедро заливало небольшую кабину вертолета. Чалый сидел на своем привычном месте, позади кресла переминался с ноги на ногу Малинин, кусая от нетерпения потрескавшиеся от мороза и переживаний губы.
На соседнем с Иннокентием сиденье лежало штук пять пустых кожаных мешочков, а на коленях стоял большой вещмешок: пилот и ссыпал туда содержимое мешочков маленьких.
— А что мы со всем этим делать будем? — спросил Малина, стараясь не смотреть на подельника, чтобы тот по счастливому блеску глаз не заметил его радости.
— Не твоего ума дело, — не оборачиваясь в сторону шестерки, буркнул Чалый.
— Так ведь тут много… На всех хватит, — не унимался москвич.
— Всем давать, поломается кровать. — Астафьева не раздражал даже самоунижающе-просительный тон напарника; глаза его блестели, как бутылочное стекло на солнце. — Отвали, Малина, не говори мне под руку…
— Чалый, ты ведь поделишься со мной… правда? — Казалось, еще чуть-чуть, и москвич заплачет.
— Ну-ну… — Астафьев ссыпал в вещмешок содержимое еще одного мешочка.
— Это ведь я нашел! — продолжал канючить Малинин. — Да если бы…
— Если бы я тебе пинка не дал, ты бы продолжал на морозе рыгать, — резиново улыбнулся Иннокентий, — а это для здоровья вредно. Гланды бы простудил. Так что скажи еще спасибо…
Да, Малине было что клянчить: в кожаных мешочках было ничто иное, как золотой песок. Именно такой мешочек и обнаружил москвич рядом с окровавленным трупом. Затем — еще один, затем — еще…
Золото — а его было здесь около пяти килограммов — манило к себе волшебным блеском, согревало душу и веселило ум, прибавляло оптимизма и давало повод считать, что и в диком социалистическом Китае можно будет прожить очень безбедно. Хватит и на водку, и на анашу, и на рис с тушенкой «Дружба», и на малолетних китаянок, и на многое-многое другое — например на какую-нибудь крутую тачку, вроде «мерседеса» или "роллс-ройса".
С золотом еще никто нигде никогда не пропадал…
Малина продолжал клянчить:
— Неужели ничего не дашь?
— А-а…
— Дай хоть килограммчик! — продолжал унижаться москвич.
— Отлезь, паучина. — Чалый стал медленно закипать. — Брысь под нары!
— Ну, Кеша!.. — Казалось, теперь даже перспектива получить архитектурное излишество в виде петушиного «гребня» не пугала москвича.
Чалый, аккуратно завязав вещмешок, сунул его под свое кресло и произнес внушительно:
— Это — общаковое. Понятно? Я назначаюсь смотрящим общака. Это решение братвы… В моем лице. Ты ведь не пацан, правильно? — Не дождавшись ответа, Кеша продолжил внушительно: — Ты сявка, ты на вольняшке придурком был, так что уважай решение людей. Сиди себе спокойно и молчи в тряпочку.
Униженный таким явно несправедливым решением, Малина, уткнувшись белым расплющенным носом в толстое стекло иллюминатора, тяжело вздохнул: чего-чего, а этого он не ожидал…
Глава четырнадцатая
Как ни устал Каратаев, как ни измучила его волчья яма и особенно путь по глубоким сугробам до зимовья, как ни хотелось ему попасть в Февральск, но все-таки на следующее утро он нашел в себе силы подняться засветло и вновь пойти исследовать тайгу.
Почему-то охотник был совершенно уверен: именно ему суждено избавить людей и от тигра-людоеда, и от беглых уголовников.
На этот раз Михаил решил обследовать юго-западное от Февральска направление.
Во-первых, там было несколько добротных зимовий, брошенных всего только пару лет назад, — лучшего убежища не сыскать.
Во-вторых, километрах в шестидесяти от поселка находился «дикий» прииск старателей — в большинстве своем людей с уголовным прошлым и настоящим, и можно было почти с уверенностью сказать, что «дикие» приисковики на какое-то время укроют беглецов.
В-третьих, недалеко от приискового участка проходила российско-китайская граница, а это давало Чалому и Малине дополнительный шанс.
Ну, а в-четвертых, в том районе была железнодорожная ветка, а это, в свою очередь, давало возможность уехать на Большую землю.
Лыжи, щедро натертые медвежьим жиром, легко скользили по твердому насту; Амур, то и дело оборачиваясь назад, бежал впереди. Лицо бывшего спецназовца было сосредоточенно, но спокойно.
"Вот уж странно устроен человек, — думал он, работая лыжными палками. — Кажется, еще неделю назад меня трудно было чем-нибудь удивить: столько видел, столько прошел. А как стукнет тебя жизнь по голове — и кажешься сам себе маленьким, наивным ребенком, ничего не видевшим и не знающим. Кто бы мог сказать, что я, наконец решившись сделать Танечке предложение, спустя какой-то час должен буду оставить ее. Но ведь и оставаться в поселке я не мог: не пойди я в тайгу, я бы навсегда перестал бы уважать себя".
Михаил шел уже часа два. Вскоре показался знакомый ручей, теплые родники, бившие на дне, не давали ему замерзнуть даже в самые лютые морозы.
Ему не хотелось терять время, делать большой крюк, чтобы выйти к мосту. Он снял лыжи, вытащил из-за ремня острый топорик и подошел к огромной сухой ели. Внимательно осмотрел дерево, быстро отследил направление ветра, легонько постучал по стволу, прислушиваясь к звону, придирчиво изучил противоположный берег, прикидывая, как же ляжет ствол…
Несколько мощных взмахов топора — и вековая ель, содрогнувшись, с треском рухнула, образовав собой импровизированный мост.
Ну, а переправиться с верным Амуром на другой берег было делом техники — не самая сложная задача для отставного капитана элитной "Альфы".
То, что увидел Михаил на месте некогда хорошо обжитого приискового участка, заставило его содрогнуться от боли, ужаса и негодования: в своей жизни Каратаев видел такое количество изувеченных человеческих тел разве что в восемьдесят шестом году под Кандагаром, где отряд «непримиримых» афганских моджахедов вчистую уничтожил колонну общевойсковой советской части.
Но там, в Афганистане, была война, а здесь…
Окоченевшие, изуродованные трупы уже почти вмерзли в ледяной берег ручья; темно-бурые кровавые пятна, присыпанные поземкой, устрашающей мозаикой устилали весь бывший прииск.
Каратаев широко раскрытыми глазами смотрел на дотлевающие головешки на месте сборно-щитовых домиков, на комья вывороченной земли, на разметенную мощным взрывом драгу… Все это говорило о том, что прииск был уничтожен в крайне короткое время — нападение было внезапным, и его явно не ожидали.
Но кто?
Сделав несколько шагов, охотник присел на корточки, подняв блестящую латунную гильзу крупнокалиберного пулемета, — эта находка прояснила многое, если не все.
Неожиданно перед глазами с отчетливостью голографического снимка всплыла недавняя картина: доселе невиданное им веретенообразное зализанное тело ревущей над тайгой железной стрекозы, какие-то странные маневры, ракета "воздух — земля", оставляющая за собой дымный шлейф, взрыв, разнесший подножие сопки…
Сомнений быть не могло: в вертолете были не военные, не офицеры, а, по всей вероятности, те самые уголовники, которые вот уже целых пять дней безнаказанно бесчинствовали в окрестностях Февральска.
Конечно, многое оставалось неясным: как, почему в руки бандитов попал новый совсекретный вертолет? Кто помог им? Кто, в конце концов, сидит за штурвалом? В том, что это был непрофессионал, опытный Каратаев не сомневался.
Но теперь ему было не до размышлений. Надо было как можно скорее сделать главное — во что бы то ни стало обезвредить распоясавшихся негодяев…
Примерно в то самое время, когда артель мирных приисковиков-старателей методично уничтожалась Чалым, смотрящий строгой зоны Астра наконец-то закончил просмотр любимого фильма. Работа замечательного испанского режиссера настроила вора на философские размышления, особенно та часть, в которой один из главных героев читает лекцию о вреде алкоголя и пользе наркотиков.
Пахан, развалившись в глубоком кожаном кресле, щелкнул кнопкой пульта дистанционного управления: изображение на огромном экране, собравшись в одну точку, мгновенно исчезло.
Да, именно теперь, как никогда прежде, вора-интеллигента тянуло на обобщение действительности. Взяв со столика растрепанный томик Шопенгауэра с закладкой посередине, Астра раскрыл его и, усевшись поудобней, принялся читать, едва шевеля губами:
— "Любовь — это слепая воля к жизни. Она заманивает человека призраками индивидуального счастья и делает его орудием своих целей", — произнес вор в законе любимую цитату немецкого философа и причмокнул губами. — Да, хорошая мысль, надо бы запомнить…
Уважаемый вор, разнеженно листая книгу, вспоминал, как впервые влюбился по-настоящему. Ему, только-только откинувшемуся с «малолетки», знакомому лишь с примитивным онанизмом да активным петушением сверстников, было всего семнадцать, ей — тридцать четыре, и за ее татуированными плечами было уже три серьезных судимости: грабеж, мошенничество и еще один грабеж. Она была толста, неряшлива и откровенно безобразна, ее отвисшие желтоватые груди с размытыми, нечитаемыми татуировками навевали мысли об ушах породистого коккер-спаниеля, но он, восторженный и романтический юноша, все равно любил ее: ведь она сделала его мужчиной, открыла его глубинную сущность — сущность мужчины и сущность вора…
— "Где ты теперь, и кто тебя ласкает, поганый мент иль грозный уркаган?" — строчкой из старой блатной песни спросил сам себя пахан, но так и не вспомнил продолжения.
С тех пор у Астры было множество женщин, разных возрастов, цветов кожи, разной степени красоты и глупости, наглости и лицемерия — попадались отсидевшие и еще несудимые, татуированные и нетатуированные, молодые и старые, с относительно нормальной грудью, с грудью отвисшей и вообще без оной. Петухов он в счет не брал, не считая их даже и за женщин.
— …она заманивает человека призраками индивидуального счастья…" — проникновенно прошептал пахан. — Как все-таки умно сказано. И как жаль, что этот Артур Шопенгауэр уже умер, так и не познакомившись со мной!.. Я бы объяснил ему такое…
Что именно объяснил бы великому немецкому идеалисту великий российский вор — неизвестно: или бы объяснял, чем отличается «рамс» от косяка, а «лепень» от клифта, или же показал бы свою первую серьезную философскую работу — "Влияние современной пенитенциарной системы на экзистенциальное осмысление действительности" — неизвестно, потому как размышления обитателя «курортной» хаты БУРа прервал звонок сотового телефона.
— Алло, — послышалось привычно-мурчащее, и Астра, подавив в себе тяжелый безотчетный вздох, переложил трубку в другую руку. — Братан, привет, как поживаешь?
Звонил Тихий, он же Александр Валерьевич Малой — есть такой народный депутат Государственной Думы, заместитель председателя думского комитета по разработке нового Уголовного Кодекса Российской Федерации, а так же известный московский вор-авторитет, тесно связанный с одной из подмосковных группировок.
— Твоими молитвами, — сердечно произнес в ответ осужденный абонент. — А что так рано? Мы же договаривались, что связь по вечерам… Ты ведь по утрам делами занимаешься.
— А до нас в Думе слухи дошли, будто бы менты поганые тебя на «козлодерку» кинули, — принялся объяснять причину неожиданного звонка вор-депутат.
— Да чтоб они сдохли, — поспешил успокоить Астра звонившего. — Я тут прилично кочумаю.
Но депутат, хотя и не был делегирован в Думу от местного избирательного участка, все равно продолжал беспокоиться о пахане:
— "Марамойки" не беспокоят? «Мусора» не гнут? Ведут хоть себя хорошо? Уважают? А то у нас в Москве по поводу ваших дальневосточных краев слух нехороший идет — мол, бычье это рогатое, ментяры хреновы, совсем оборзели, нет от них житья уважаемым людям… Так как там у вас — порядок?
— Порядок… — Нехорошая улыбка зазмеилась на тонких губах узника БУРа — он сразу же вспомнил о Герасимове, так некстати полезшем не в свое дело, но по понятным причинам решил отложить разговор о хозяине на потом.
Тихий продолжал:
— А ты сам? Как здоровье? Все ли нормально?
— Да так… — неопределенно ответил пахан.
— А чем занимаешься? По-прежнему философия, да? — Из трубки донесся дружеский смешок.
— А ты не смейся, — немного обиделся осужденный, — ты ведь знаешь, как трепетна я к таким вещам отношусь. А если не задумываться — зачем жить, на хрен тогда воровать на хрен зону топтать, да и вообще мир коптить? Проще уж на завод работать идти…
Видимо, Тихий был немного навеселе, скорее всего еще со вчерашнего. Конечно же, звонить коллеге-вору пьяным — огромное неуважение, откровенное пренебрежение этикетом и понятиями, освященными десятилетиями лагерей, но ведь он, Астра, был его старинным, закадычным другом, с которым они еще по сопливому малолетству чалились по одной статье, и в разговоре с друзьями иногда можно пренебречь скучным ритуалом.
— Ну и о чем ты теперь пишешь?
— О неизбежности воровства в современном мире, — серьезно ответил пахан. — Ты там в своей Думе и не с такими, как я, встречаешься. Любая собственность — это воровство.
— Сам придумал? — Видимо, мысль очень понравилась звонившему.
— Нет, это не я, это сказал Прудон.
— Во, бля, очень даже неглупо, — протянул вор-депутат. — А где он теперь, этот Прудон? На зоне или на вольняшке? Из отмороженных или из честных пацанов? Бригада? Стволы? Банки? Фирмы? Он "в законе"? И че за погоняло такое? Никогда не слышал…
Как ни уважал Астра своего старого друга, но он не мог не сдержаться от досадливого вздоха:
— Книжки читать надо… Прудон — был лет сто пятьдесят назад такой французский философ-анархист.
— А я их не читаю, я их пишу, — словно отмахнувшись, заспешил Тихий. — Мы тут с братвой над новым Уголовным Кодексом работаем. Я таких зверей консультантами в Думу устроил — все эти коммунисты, демократы да аграрии в буфете, едва нас видят, сразу же очередь уступают. А ты что пишешь?
Пахан, бросив взгляд в сторону пишущей машинки с заправленным листом бумаги, принялся цитировать по памяти:
— "В мире всегда были три человека: терпила, вор и мент. Есть, конечно же, и другие, паханы, и они, хотя и делают погоду, руководя всеми тремя, на самом деле не видны. Менты делают вид, что охраняют терпил от воров, но на самом деле под видом охраны мужиков грабят то, что не успели ограбить честные жулики. Ну и с каждой стороны есть главные паханы, вроде премьер-министра, директора ФСБ или "главного мусора" Российской Федерации, есть и вор-патриарх с теннисной ракеткой… Гомосеков и чертей я вообще за людей не считаю; с ментами — это птицы одного полета. А пока есть терпила, вор и мент, всегда будет разделение на тюрьму и волю…" — выпалил Астра.
Тихий слушал, затаив дыхание, — из трубки то и дело доносилось восторженное посапывание.
— Ну, а выводы?
— А выводы простые: мы, воры, решаем общее положение в тюрьмах и на зонах, и русские зоны греются и будут греться ворами и братвой.
— Ну, ты, в натуре, философ, — восхищению Тихого не было предела. — Кстати, когда откидываешься? Кажется, через полгода?
— Через пять с половиной месяцев, — смиренно ответил пахан. — Если опять не накрутят.
— А потом?
— Не знаю. Стар я уже, хочу от дел отойти, кресты на куполах свести, змейке голову наклонить. — Татуировка "собор без крестов" означает вора, отошедшего от дел, то же самое означает и изображение змеи, обвивающей кинжал, с головой, опущенной вниз. — Домик куплю в Швейцарских Альпах, книги буду писать.
Замыслы Астры всегда отличались грандиозным великолепием — Тихий прекрасно об этом помнил.
— Ну, твое дело. Ты, наверное, зоновской баланды побольше каждого из нас похлебал, — с явным уважением протянул Тихий.
— Слушай, ты кого-нибудь из пацанов в журнал "Вопросы философии" пошли, поинтересуйся, когда они там мою статью напечатают, — попросил пахан.
— А что за статья? — послышалось после секундной паузы; слово «статья» телефонный собеседник сперва понял в определенном, слишком уж узко профессиональном значении.
— "Влияние современной пенитенциарной системы на экзистенциальное осмысление действительности", — повторил пахан.
— Какое, какое?
— Ладно, тебе это неинтересно. Так отправишь кого? Спросишь?
— Да я хоть сейчас твои труды в любой газете напечатаю — от «СПИД-Инфо» до "Российских ведомостей", и по телевизору рекламку забодяжим.
— Нет, мне не надо «СПИД-Инфо», мне надо, чтобы именно в "Вопросах философии", — печально и серьезно возразил пахан.
— Ну, считай, что это устроено. А что еще? Может быть, прислать тебе чего? Травки? Бухла? Петуха какого-нибудь столичного для братвы подогнать? Есть тут один артист… Концерты дает, вся столица на ушах, по телеку-то хоть видел?
— Да нет…
— Сливкин, кажется, зовут, дитя порока, бля. Вот бы твоя братва оттянулась!
— Если можно, пришли мне «Замок» Кафки, — поморщился Астра, — издание «Пингвина», только в оригинале, не по-русски. — Пахан, за время многочисленных «командировок» в совершенстве овладевший пятью европейскими языками, не любил переводной литературы. — Петухов не надо, тут своих акробатов хватает. А так, Тихий, спасибо за заботу, очень тебе благодарен.
— Ладно, пришлю… — В этот самый момент из трубки что-то булькнуло — пахан потряс телефон, думая, что это помехи.
Но он ошибся…
— Во хорошую технику буржуи выпускают! — донеслось до Астры через несколько секунд. — Прикидываешь, телефон в бассейн упал — и работает?
— Так ты откуда звонишь? — насторожился вор в законе.
— Да со вчерашнего дня на даче одного чиновника гуляем, — признался Тихий. — В сауне щас. Вот уже третью ночь на заседание попасть не можем. Как жаль, что тебя тут нет — какие телки, какие акробаты… — Затем, видимо, решив, что подобными суетными вещами абонента не подкупишь, депутат добавил: — А какая тут библиотека! Все книжки, правда, не на нашем, ни хера не понимаю.
И, словно в подтверждение сказанному, из трубки послышался всплеск дурашливого девичьего смеха.
— Чем еще помочь тебе, братан? — стараясь перекрыть смех, спросил депутат.
Астра с издевкой улыбнулся — теперь он понял, что пробил желанный час.
Начал он издалека: вот, мол, смотрю зону, как и наказано сходняком, ты мол, Тихий, меня знаешь — второй срок на строгаче это тебе не второй срок в Думе. Беспредела никакого тут нет и не будет, пока я. Но вот "мусора"…
— Что? — очень серьезно поинтересовался народный депутат.
— Беспредельничают, — пахан поджал губы, — договориться с ними никак нельзя, зажимают… Гнулово царит, пацанов классных гнобят, прессуют, почем зря… Сук, понимаешь ли, тут развели, стучат на нас, а резать их всех тяжело, потому что… Ну, не по телефону.
— Обожди, обожди, а хозяин у вас кто?
— Да есть бычара такой, Герасимов, может быть, помнишь, когда Червонец со мной в Тулуне сидел, он там режимником был…
— А, Гунявый, что ли? — Менты так же, как и блатные, имеют свои погоняла, и Герасимов не был исключением.
— Ну, вспомнил?
— Козлина редкостная, — с очевидной ненавистью произнес депутат. — Обожди, братан, я сейчас трубочку одному тут дам…
Спустя несколько секунд из аппарата послышался солидный бас, но, судя по немного срывающимся интонациям, довольно нетрезвый:
— Господин Астра?
— Да, — сухо, с огромным внутренним достоинством ответил пахан. — Слушаю.
— Мне тут мой коллега сказал, что у вас какие-то проблемы… Что — начальник вверенного вам ИТУ неправильно себя ведет? Допускает грубые нарушения устава?
Хотя пахан никогда раньше не слышал этого начальственного голоса, но он настолько доверял Тихому, что сразу же высказал все, что думает о хозяине, правда строго нормативным языком.
— Так, понятно, сейчас только запишу… Ага, так-так, понял, готово. Ну, можете быть спокойны: завтра же к вам вылетает проверка из ГУИН. И финансовую отчетность проверим, и жалобы выслушаем, и оперативные показания, и все остальное…
— …это мой кореш, нормальный пацан, председатель думской фракции… — взял трубку Тихий. — Э-э-э, забыл только, как она у нас называется. Да хрен с ней. Большой человек, все может, — многозначительно сообщил Тихий. — Ну, все, не буду отрывать тебя от философии, пиши. Все, о чем ты меня просил, — сделаю. Привет пацанам, всем низкий поклон от меня…
Положив трубку, Астра довольно хмыкнул и, подойдя к металлической двери, стукнул в нее кулаком:
— Красный, забей-ка мне еще один косяк…
О предстоящей проверке из Москвы хозяин узнал вечером того же дня, — он, сидя на кухне, вяло ковырял вилкой в банке с икрой, мечтая о хорошем, с ладонь толщиной, свежем куске украинского сала.
Было без четверти девять вечера, когда в квартиру позвонили.
— Оксана, открой, — распорядился Герасимов молодой жене-курве, даже не поднимая головы.
На пороге стоял майор Коробкин. Тулуп, припорошенный снегом, огромные подшитые валенки, меховая шапка с опущенными ушами — несмотря на будничность формы, режимник почему-то показался полковнику крупнее, чем обычно, — наверное, потому, что он принес скверную новость.
— Леша, короче, тут такие дела, — принялся объяснять майор, раздеваясь, — мне знакомый подполковник из Москвы позвонил. Нормальный мужик, мы с ним вместе в Академии выпускались.
— Выпьешь? — без особого энтузиазма предложил полковник — не потому, что действительно хотел выпить с подчиненным, а исключительно для порядка.
— Давай…
Минут через десять, глядя на свое отражение в бутылочном стекле, Коробкин принялся рассказывать подробности: оказывается, из Главного Управления Исполнения Наказаний завтра вылетает проверка — сюда, на Дальний Восток. Мол, якобы жалоб много, и по прокурорскому надзору, и просто так, и по финансовой части какие-то непорядки. Короче, ожидается большой шмон.
— А чего это они, с хрена сорвались, на Новый год летят? — резонно спросил Герасимов, пытаясь сообразить, чем грозит ему проверка и сколько денег придется раздать на взятки.
— Ну, подробностей я не знаю. Но тот подполковник сказал — мол, кто-то из Думы, из бывшего Верховного Совета надавил, а в ГУИН и рады. На Новый год. в такую даль никто не полетит — значит, службистов набрали, которые к каждой мелочи цепляться будут…
Полковник, подумав, умножил примерную сумму взяток на два.
— Якобы из какой-то там ихней парламентской подкомиссии…
Герасимов прибавил стоимость сауны, банкета в самом дорогом кабаке Хабаровска и содрогнулся от количества нулей.
— Но тот подполковник говорит, что они специально, мол, едут, чтобы хозяина, тебя то есть, урыть. — Говоривший опустил лицо, чтобы по радостному блеску глаз собеседник не догадался о его далеко идущих планах. — Якобы кто-то в Москву стукнул, имеет в Думе неслабую лапу… Понимаешь?.
— Да уж знаю, кто… — деревянным голосом отозвался хозяин, — догадываюсь…
Коробкин еще долго что-то говорил, говорил, но хозяин не слышал его: он методично всаживал в себя стакан за стаканом, но не пьянел, — наверно, выпей он теперь весь спирт из санчасти — не опьянел бы.
— Так что ты смотри, сделай что-нибудь… Придумай… — Допив "на посошок", майор грузно поднялся из-за стола.
— Ага… Придумаешь тут… — процедил Герасимов. — Придумаешь… Хрен тут большой и толстый. Больше не придумаешь.
Зеленые фосфоресцирующие стрелки будильника показывали двенадцать ночи. Полковник МВД Алексей Герасимов, сидя за столом, сосредоточенно смотрел на лежавший перед ним табельный "Макаров".
Визит Васи Коробкина поверг его в состояние глубочайшей депрессии — чем больше размышлял хозяин над своими перспективами, тем больше убеждался в том, что перспективы эти совершенно безрадостны и беспросветны.
Да, другого выбора у него не было: надо было стреляться.
Наверное, нет для лагерного офицера ничего хуже, чем проверка из Москвы. Разденут до исподнего, все заберут, а потом еще, чего доброго, и посадят.
И ведь есть за что…
Не секрет: для мало-мальски неглупого человека зона — золотое дно. Конечно, только в том случае, если такой человек носит на плечах офицерские погоны с малиновыми просветами, если к тому же он наделен реальной и почти что бесконтрольной властью, если он в хороших отношениях с хабаровским начальством.
Во-первых, любое СИЗО, ИТУ, ИТК дает работу, дает хлеб с маслом (иногда даже с паюсной икрой), и дает ее абсолютно всем: ментам, учителям, врачам, инженерам да простым обывателям — тоже.
Штатные врачи из зоновской медсанчасти подбирают докторов-зэков, коих всегда достаточно на любой зоне, и ставят их санитарами. Выгодно всем: самим врачам, которые прирабатывают еще на ставку где-нибудь в районной больнице или медучилище, зоновскому начальству, потому как с докторов-зэков можно спросить куда строже, да и заключенным в белых халатах: все-таки не на промке, промышленной зоне, и не на лесоповале работать. То же самое с учителями, инженерами, наладчиками станков… А это значит, что за трудоустройство в лагере хозяину можно брать взятки.
Зона удобна и тем, что на ней масса рабочей силы, притом квалифицированной и к тому же совершенно бесплатной и неучтенной. Полковник Герасимов, сообразуясь с запросами края, оперативно сколачивал специальные бригады из расконвоированных: строить и обновлять коттеджи, дачи для начальства да и просто для нужных людей.
Выгодно всем: хозяину, потому как обрастает связями, клиентам, потому как дешевле и качественней выходит, да и зэкам, потому что за хорошую работу могут расщедриться и премировать: отпустить на условно-досрочное освобождение, на «химию» или поселение. Да и клиенты, бывает, что-нибудь подбрасывают — чай, сигареты, еду, а то и водку с травкой.
А еще любая зона удобна тем, что через нее можно достать практически все, наверное, кроме реактивного двигателя к самолету. Лекарства, сырье, оборудование и особенно любая новая техника: станки, бензопилы, автокары, подъемники. И всегда можно требовать и требовать еще и еще: мол, эти урки саботируют производство и план, работать не хотят, все ломают тайно и явно. Зэки, разумеется, работают на старой технике — новые бензопилы продают артелям лесозаготовителей, новые станки — в малые производственные предприятия, им же зачастую идет и дефицитное сырье.
И все это тысячекратно гоняется из одной ведомости в другую, новые станки на бумаге превращаются в старые, старые — в заготовки, заготовки — в металлолом, который и продается по цене металлолома.
Так что Герасимову, сильно поднаторевшему в двойной бухгалтерии, было чего бояться. Тут уже даже предупреждением о неполном служебном соответствии не отделаться: можно и на специальную ментовскую зону под Нижним Тагилом залететь… А уж чем грозит такая зона бывшему хозяину, можно было и не объяснять: там есть и свои блатные, гнущие пальцы веером, — бывшие опера ФСБ, МВД и прокуратуры, есть свои мужики, обычно — бывшие гаишники и сельские участковые, есть и свои петухи, а таковыми становятся как раз лагерные офицеры, осужденные за многочисленные преступления. Говорят даже, есть свой главпидар зоны — осужденный за взятки генерал-майор ГУИНа, бывшего ГУИТУ, то есть Главного управления исправительно-трудовых учреждений.
Короче говоря, перспектива невеселая — из преуспевающего полковника МВД, которому до желанной пенсии-то всего полгода, попасть в петушиное сословие… Можно было и не сомневаться в том, что так оно и будет: Астра всегда отличался изощренной мстительностью.
Нет, лучше уж застрелиться.
— Ну, Астра, подонок, — процедил Герасимов, глядя на лежавший перед ним табельный пистолет, — будь ты проклят!
Не надо было обладать даже маленькой толикой проницательности, чтобы догадаться, чьих рук это дело.
Полковник взял вороненый пистолет, достал обойму, сосчитал патроны — восемь, как и положено, полный боекомплект.
Затем, медленно передернув затвор, положил оружие на колени. Налил сто граммов спирта, залпом шарахнул весь стакан, не найдя закуски, занюхал стволом — оттуда несло оружейным маслом.
— Сука татуированная, бандюга… — Спирт не брал полковника.
Затем выпил еще сто граммов, затем еще…
Неожиданно в голове побежали круги, стол закачался, и Герасимов понял: теперь ему уже ничего не страшно.
"Как лучше стреляться? — подумал офицер и, подойдя к зеркальному шкафу, встал перед ним по стойке «смирно». — В рот? Блатные не поймут, шутить будут очень пошло. В висок? Кровищи много, мундир зальет, хоронить не в чем будет. В сердце? Так ведь и промахнуться недолго, спасут врачи, выходят, а потом на зону кинут… Акробат-инвалид — хуже не придумаешь…"
Видимо вспомнив о том, что у него есть еще и парадный мундир, полковник решил-таки стреляться в висок. Сняв ПМ с предохранителя, он поднес его к голове и едва заметно надавил на курок.
Но в это самое время в прихожей раздалась мелодичная трель звонка…
Совсекретный вертолет КА-0012-"Б" тяжело и медленно плыл над тайгой. На месте пилота сидел Чалый, уже неплохо освоившийся с обязанностями вертолетчика — татуированные руки крепко сжимали штурвал. Протрезвевшие глаза внимательно следили за показаниями приборов, — впрочем, Иннокентий по-прежнему ни хрена в них не понимал.
Малина, вусмерть обиженный несправедливым решением братвы, сиротливо примостился у иллюминатора: слезы буквально душили его.
Видимо, Астафьев, разнеженный неожиданным богатством, был не чужд сентиментальности: следственные изоляторы, зоны, этапы и пересылки не окончательно очерствили его татуированное сердце.
— Да ладно, Малина, — скосив глаза, он посмотрел на небольшие ладошки подельника, — сходняк пересмотрел свое решение… Ну, есть предложение взять тебя на работу. Тебе ведь работать не западло? Ты ведь, как пила, железный, никогда не ломаешься?!
Малина ничего не ответил — он только не мог понять, шутит Чалый или же хочет предложить ему что-нибудь серьезное.
— Так пойдешь работать? За песочек…
— А че делать-то надо? — не глядя на собеседника, спросил москвич.
— Да ничего особенного… Ты точно справишься, я ведь тебя хорошо знаю, — хмыкнул Астафьев. — Братва со мной посовещалась, говорит — лучшей кандидатуры не найти на всем Дальнем Востоке.
Малина выжидал.
— Ну?..
— Не нукай, я тебе не конь педальный… Тебе, бычаре рогатому, работу предлагают, бля, а ты, козлина голимая, еще старших подгоняешь! — перебил его Астафьев и грязно, цинично выругался. — Короче, работа такая: будешь каждое утро балдоху копченую мылом подмывать, «тампакс» вставлять и меня нежить… Так не забесплатно: каждый сеанс супружеского долга — чайная ложка песка. Пока я себе в Китае бабу не найду… Так че, Малина? Это ведь не больно, а даже приятно. Вот увидишь — тебе очень понравится, соглашайся, не пожалеешь! Другой работы для тебя все равно не предвидится…
— Чалый! — с невыразимой тоской произнес Малина. — Как ты так можешь?!
Он посмотрел в иллюминатор: все те же островерхие лиственницы, те же заснеженные полянки, сопки с редким кустарником…
Наверняка лети вертолет чуть ниже — Малина бы выпрыгнул из него.
— Как ты можешь… — свистящим полушепотом повторил москвич.
— Ха! Я и в рот могу. — По тону, которым была произнесена эта фраза, москвич понял, что Чалый не шутит. — Так что?
— Кеша… — проникновенно вздохнул вусмерть закошмаренный шестерка.
— Нет, тоже, посмотрите на этого негодяя! — На секунду Иннокентий выпустил из рук штурвал. — Он мне лавье, «кишки» вчистую проиграл, фуфел свой… Я ему все отдал, кормлю его, альфонса, пою, воспитываю, а он еще чем-то недоволен?! Работу непыльную предложил — гигиеной тела займется… Чистота — залог здоровья, знаешь об этом?
Вертолет несколько раз клюнул носом, и это заставило Чалого вновь взяться за штурвал.
— Кеша, помнишь, когда ты мне предложил с зоны подорваться… Я ведь думал, ты ко мне душевно отнесешься, думал, мы с тобой друзья…
— Ладно, пошутил я, пошутил… Пока, — многозначительно добавил Иннокентий и, метнув в Малину взгляд, полный презрения, уставился на приборную панель, силясь хоть что-то понять в показаниях приборов…
Полковник Герасимов, воровато оглянувшись по сторонам, сунул пистолет в карман галифе и пошел открывать дверь — жена-курва на ночь глядя ушла "к подруге", собираясь провести с «нею» всю ночь. Это, конечно, была не она.
— Кого еще несет? — пробормотал хозяин; почему-то в затуманенном спиртом мозгу мелькнула мысль, что это проверка из Москвы.
Однако он ошибся — это был начальник второго отряда капитан Виктор Радченко.
— Разрешите обратиться, товарищ полковник? — почему-то по уставу произнес капитан.
— Да ладно тебе, брось выделываться, говори по-человечески, — раздраженно махнул рукой полковник и тут же другой поглубже сунул пистолет, выпиравший из кармана. — Раздевайся, посидим, выпьем…
Видимо, капитан Радченко настолько уважал устав и субординацию, что никак не мог перечить полковнику Герасимову.
— Слушай, мне тут сказали, что у тебя неприятности, — без обиняков выложил он.
Хозяин вздрогнул.
— Кто?
— Что?
— Кто сказал?
— Да Оксана твоя и сказала, — спокойно ответил капитан.
"Ну, сучка, скоро весь Дальний Восток будет знать", — подумалось хозяину.
— И что?
— Ну, Вася сегодня приходил, о проверке сказал! — почему-то радостно выпалил Радченко.
— О какой такой проверке? — ледяным голосом спросил полковник.
— Да уже вся зона знает о какой — из Москвы, естественно! — как о чем-то само собой разумеющемся сказал капитан.
Отрицать было бессмысленно, и Герасимов решил — а, черт с ним! Будь что будет…
— Так тебе что — Оксана сказала?
— Да я ее недавно видел… Так за тебя переживает, если бы ты знал!
"Еще бы, — мысленно хмыкнул Герасимов, — если меня за колючку, она побираться пойдет… Что ей, дуре, светит? Бомжихой стать…"
— Ну и что?
— Да мне Вася по Секрету сказал, кого проверять отправляют, — простодушно сообщил Радченко.
— Ну и?..
Капитан назвал фамилию — хозяину она ничего не сказала, а капитан продолжал, все более и более воодушевляясь:
— Знаю я его, в Москве как-то гуляли… Это он с виду такой строгий, интеллигентом хочет казаться, потому и очки носит, а на самом-то деле… Ничего, нормальный мужик, мудак, конечно же, как и все москвичи, но и с ним можно договориться.
— Так ведь там из Думы, из какого-то подкомитета вроде бы… — Полковник понял, что курва Оксана, слышавшая разговор с Коробкиным, наверняка слово в слово передала его "подруге".
— А, плевать, они напрямую министру подчиняются, а министр на ту Думу свой прибор клал, — неожиданно Радченко блеснул отличным знанием кулуарной политики Кремля. — А того мужика, что с проверкой сюда летит, я, грю, знаю: козлище редкостный, трахаться любит даже больше, чем прапорщик Лысенко…
Двадцатитрехлетний прапорщик Владимир Лысенко, старший специалист связи, был тут, на зоне, притчей во языцех: шифроблокнот любвеобильного прапорщика был испещрен телефонами и адресами многочисленных любовниц; по нему можно было изучать географию всего СНГ.
— Ну, если даже больше, чем этот… — Полковник справедливо не любил Лысенко за то, что тот отымел жену самого хозяина спустя всего лишь два часа после появления на новом месте службы.
— Так что можно договориться, — обнадеживающе продолжал Радченко. — Я с ним сам перебазарю. Что нормальный офицер любит? — спросил он и тут же сам ответил на вопрос: — Правильно — водку и баб…
— Ну есть водка, — немного оживился Герасимов, — а бабу-то приличную где взять? Он небось в своей Москве только манекенщиц да фотомоделей трахает.
— А Оксана? — с неподдельной простотой предложил капитан.
— Что?!
— Да ладно тебе… И так все знают, что у тебя в последний раз стоял на шестидесятую годовщину Великой Октябрьской революции.
— А ты-то откуда знаешь? — страшным голосом поинтересовался хозяин.
— Оттуда же, откуда и все…
— Э?..
— Оксана сказала…
Лежавший в кармане пистолет острым дулом пребольно давил в мошонку, и полковник решил незаметно переложить его в китель.
— Да ладно тебе… — Нагло и даже покровительственно улыбнулся полковнику капитан; только теперь хозяин, погруженный в свои невеселые мысли, заметил, что капитан Радченко пьян — именно это придавало ему смелости в разговоре с вышестоящим начальством. — Не стоит он у тебя… Я уже и с Оксаной говорил, она согласна… Видишь, как она тебя любит?
И, допив стопку спирта, поднялся из-за стола, оставив Герасимова в куда более обнадеженном состоянии, нежели всего полчаса назад…
Глава пятнадцатая
А Михаил тем временем продолжал свой нелегкий путь: теперь он шел к небольшому полустанку, где, как он точно знал, была телефонная связь.
Надо было во что бы то ни стало позвонить в гарнизон, в местное отделение ФСБ, даже в ментовку — куда угодно, только бы сообщить о захваченном вертолете, только бы рассказать о разгромленном прииске старателей.
Кто мог дать гарантии, что не сегодня завтра вертолет с безумными пилотами не появится над Февральском?
От одной мысли об этом бывшему спецназовцу, который отлично знал возможности современной фронтовой авиации, становилось плохо…
Неожиданно, как это часто бывает в Приамурье, замела пурга. — идти стало трудней. Но закалка спецназовца и опыт таежного охотника не подвели и на этот раз — спустя три часа Михаил был на полустанке.
— Мне телефон — срочно, — отдышавшись, бросил он дежурному — седенькому старику в облезлой шапке-ушанке с кокардой железнодорожника.
Тот, конечно же, не стал прекословить — он прекрасно знал крутой нрав этого человека. К тому же серьезное и сосредоточенное лицо, резкие движения, тяжелый взгляд — все это свидетельствовало о том, что случилось нечто из ряда вон выходящее…
— Звони, Миша. — Дежурный, кряхтя, аккуратно придвинул ему огромный аппарат из черного эбонита, стоявший тут если не со времен конфликта на КВЖД 1928 года, то со времен разгрома Квантунской группировки японского милитаризма наверняка.
Охотник принялся набирать номер коменданта февральского гарнизона — к сожалению, линия была занята.
Он попытался было дозвониться до поселковой милиции майору Игнатову — результат был тот же.
А вот в санчасти никто не брал трубку — это смутило Михаила больше всего.
…Дежурный по станции выпил третий стакан чаю, полистал журнал, затем вернулся в кабинет — охотник, поставив перед собой аппарат, продолжал накручивать потрескавшийся от времени диск…
Тот день на шестой заставе Дальневосточного погранокруга начался так же, как и всегда: ночная смена вернулась из караула, утренняя заступила на их место. Накануне Нового года офицеры — а их было только двое — пребывали в приподнятом состоянии духа.
Старший лейтенант, он же командир заставы, сидя в своем кабинете, заполнял какие-то бумажки; близился конец года, и документы надо было во что бы то ни стало отправить в отряд, в Хабаровск.
Его заместитель по воспитательной части, лейтенант с розовыми, как у породистого поросенка, щеками, с улыбкой смотрел на старания начальника.
— А в Москве сейчас, наверное, гуляют вовсю… — Замполит закончил Голицинское училище под Москвой и, сидя тут, в таежной глуши, частенько вспоминал подробности учебы. — Помню, на втором курсе мы с ребятами нажрались в хлам, я иду — и начальник училища, — продолжал лейтенант, — я прятаться, а он меня не видит. Оказывается, тоже поддатый был…
— Повезло тебе. — Старлей тоже учился на Большой земле, но уже не под Москвой, а в самой столице, и не в политическом училище, а в командном. — А у нас с этим делом строже было…
Чем именно отличались порядки одного военного училища от другого, он не успел договорить — в кабинет кто-то постучался.
— Ага, — оторвавшись от документов, произнес старлей. — Кто там еще?
Новость, которую принес сержант-радист, была столь же жуткой, сколь и невероятной.
— М-гуму. — Командир заставы, прочтя распечатку, едва не поперхнулся. — Слышь, Коля, они там у себя в Хабаре совсем с ума сошли…
— А что?
— Да ахинею какую-то передают. Бред сивой кобылы. Да ты сам посмотри.
Розовощекий лейтенант посмотрел: из Хабаровска передавали о том, что какие-то уголовники, сбежав из лагеря, захватили совсекретный военный вертолет КА-0012-"Б", новейшую экспериментальную модель. Если верить сообщению, то беглые уголовники сразу же после захвата военной машины, существующей только в четырех экземплярах, уничтожили вертолетную площадку с остававшимися там тремя «МИ-8», казармы со всем личным составом, караулку и даже склад, а затем, пользуясь антилокационным устройством, улетели в неизвестном направлении; попытки засечь их локаторами пока что ни к чему не привели.
Но и это было еще не все: если верить все тому же сообщению, в регионе появился чудовищно прожорливый тигр-людоед, который уже сожрал какого-то неизвестного мужчину.
— М-да… — Лейтенант многозначительно покрутил пальцем у виска.
— Вот и я о том же подумал, — отозвался его начальник, перехватив взгляд.
— Наверное, шифровальщик Новый год с первым апреля перепутал, — предположил командир заставы.
— Да они там с первого апреля небось не просыхают, — в тон ему отозвался заместитель, от души завидуя такому замечательному времяпровождению.
— Так что передать в Хабару, товарищ старший лейтенант? — с той развязностью, которая всегда свойственна срочникам-дедам, поинтересовался стоявший тут же сержант-радист.
— А хрен его знает… Ты, Галимулин, иди, мы что-нибудь потом придумаем, — хмыкнул старлей и, взяв обгрызенную авторучку, принялся старательно заполнять какие-то бланки…
Чем больше летел Малина, тем больше ему начинало казаться: эта бескрайняя тайга никогда не кончится. Так можно лететь еще день, два, три, неделю, а под фюзеляжем по-прежнему будут проплывать унылые сопки, бело-зеленые лиственницы, небольшие заснеженные полянки…
Чалый за штурвалом был трезв, суров и немногословен. Теперь вертолет летел без рывков, куда более плавно, нежели при угоне. Иннокентий, разобравшись с инструкциями, нашел даже очень хитрое устройство, посылающее помехи радарам ПВО, — теперь можно было не волноваться, что вертолет настигнет ракета.
Да к тому же, как справедливо рассудил Чалый, вряд ли начальство осмелится сбить секретную машину, стоящую миллионы рублей без санкции самого главного начальства — московского. А пока с Москвой созвонятся, пока там кого-нибудь найдут, пока кремлевские генералы протрезвеют и попьют рассола — времени для бегства в спасительный Китай будет более чем достаточно.
Так, в полном молчании, они и летели почти час; свистели лопасти, гудел двигатель, из рации то и дело доносился какой-то свист.
Москвич не выдержал первым:
— Чалый, а до Китая — успеем?
— А что — торопишься? — не глядя на подельника, спросил тот.
— Да вот топливо кончится, хрен долетим, — вздохнул Малина.
— Не кончится… На твой век хватит, — кивнул Астафьев.
— А сейчас куда?
Нехорошая улыбка зазмеилась на губах ссученного блатного.
— Да тут один старый должок надо бы отдать…
— Че?..
— Я про Астру. Тоже мне, хрен с бугра выискался: думает, если у него столько пацанов с заточками, то все можно делать. Ни хрена, теперь я главней его. Че они со своими заточками против вертолета, а?
В глазах Малинина мелькнул испуг.
— Ты что, Кеша?
— А то…
— Ты что надумал?
— То, чего они, в натуре, заслужили, то и надумал, — жестко проговорил Астафьев. — Знаешь такую поговорку: "Закон — тайга, медведь — хозяин?.."
— Ну, слышал…
— Медведь — хозяин, потому что он сильный, — поучал Иннокентий. — Астра считал, что он сильный, потому что лавья, фирм и стволов за ним много стоит, а теперь… — И Чалый многозначительно кивнул на пулеметную гашетку.
— Так ведь это… Ты знаешь, что с нами сделают? Истребители-перехватчики вызовут, ПВО поднимут… Собьют ведь на хрен, как пить дать!
— Еще скажи, что третья мировая война начнется, — беспечно отмахнулся Кеша. — Молчи, сучара, слушайся меня, все будет нормалек. Прорвемся… Долги раздам — и тогда в Китай! А на шмаль, девок и водяру с тушенкой я уже имею… Да и ты, если примешь мое предложение, — тоже, — закончил он.
Покончив с документами, командир заставы прислушался: ему показалось, что где-то вдалеке с нарастающей силой слышится какой-то странный шум.
— Слышь, что это? — аккуратно ровняя пачку документов, спросил он у заместителя.
— Вертолет, наверное, — безразлично отозвался тот.
— А?
— Вертолет, говорю. Что это у тебя накануне праздников — уши заложило? Так еще вроде бы рано… — Заместитель поднялся, прошелся по кабинету, разминая отекшие от длительного сидения ноги.
— Что-то в такое время летуны тут не появляются, — почесал за ухом командир заставы.
— Ты еще скажи — те самые блатные на вертолете! — улыбнулся лейтенант. — Работаешь много, отдыхаешь мало… Лучше о приятном подумай — как отпуск-то проводить собираешься?
Старлей, не отвечая, вышел на крыльцо и задрал голову — из-за синеющей тайги прямо к заставе, на подозрительно низкой высоте приближался военный вертолет; его темный контур рельефно вырисовывался на фоне пронзительно-голубого неба…
— Ага, что это у нас там внизу? — Чалый, как заправский пилот, повесил «вертушку» над какими-то убогими строениями. — Никак — вояки?
Малина словно нехотя поднялся и заглянул в иллюминатор — маленькие фигурки, облаченные в темно-серые шинели и белые тулупы, сразу же воскресили в его памяти недавний расстрел вертолетной площадки с немногочисленным гарнизоном.
— Ну че — постреляем, потренируемся? — предложил Астафьев.
— Да будет тебе… — вяло отозвался Малинин. — Давай лучше к границе…
— А чего это мне будет? — весело и зло спросил Иннокентий. — Боекомплекта у нас — выше крыши, керосину хватит до Пекина и обратно… Хватит, попило это государство моей кровушки! Теперь мой черед.
— Чалый, не надо, не буди лихо, пока оно тихо, — пробормотал Малина.
— Да ладно тебе… Я тут описание посмотрел, выяснил, что и как. Мы ведь еще не все испробовали, — хитро подмигнул Астафьев.
— Только не стреляй, — испуганно пробормотал Малина, — только не это… Кеша, накличем мы с тобой неприятностей.
— Я не акробат, чтобы у меня очко играло, — обрезал Астафьев. — И вообще, кто тебе сказал, что я собрался стрелять? — ощерился Чалый. — Я так, только побалуюсь… Скоро Новый год, надо бы вояк чем-нибудь обрадовать, подарочек им от Деда Мороза сбросить… А я им еще и песенку спою, чтоб служилось веселей. Слышал, была когда-то такая передача — "По вашим письмам"? По хохотальнику вижу, что не слышал. Ну ничего, сейчас…
И действительно, Чалый тут же загундосил старую блатную песню:
То, что произошло потом, могло бы напомнить кадр из какого-нибудь военного фильма — то ли вьетнамской, то ли афганской войны; при условии, что в этих азиатских странах девять месяцев в году была бы зима.
Чалый, нажав на какой-то рычаг (как выяснил Малина потом, эта была ручка бомбосбрасывателя), потянул его на себя — вертолет слегка качнуло, и спустя несколько минут внизу прогремел взрыв страшной силы…
— Хорошо пошла, курва… Фугаска, — улыбнулся пилот, комментируя происшедшее. — Трехсоткилограммовая. А на хрена я ее под брюхом таскать буду? Мало того, что тебя таскаю, так еще и это. Богу — Богово, вору — воровское, а военным — военное, — добавил он, гордясь собственным умом. — Представляешь, Малина, как теперь этих долбаных вояк затопит?..
Чалый, немного прибавив оборотов, старательно выводил вертолет в сторону — внизу что-то полыхало, булькала и рвалось.
Лик пилота был воистину страшен: серое лицо с безумно блестящими глазами, с потухшим окурком «Беломора», намертво приклеенным к нижней губе; руки, сплошь испещренные татуировками, плясали на штурвале, и в кабине звучал страшный, прокуренный голос, от которого по спине москвича бегали мурашки:
Малина смежил веки, втянул голову в плечи — больше всего на свете ему теперь хотелось, чтобы этот кошмар поскорей закончился…
Застава горела — трехсоткилограммовой фугасной бомбы оказалось более чем достаточным, чтобы уничтожить ее сразу же, и теперь уже ничто не могло ее спасти.
Казарма, офицерский домик, караулка, склад, небольшая вышка прожекториста — все это было охвачено ярким пламенем.
Вышка продержалась всего несколько минут — и рухнула, словно подпиленная. Послышался дикий крик солдата, находившегося там, — видимо, он не мог выбраться из-под обломков и теперь горел заживо.
Между горящими домиками, в чадном дыму метались перепуганные военные, на складе рвались цистерны с ГСМ, патроны — во все стороны летели щепки, комья земли и горячие угли, но даже это было не самым страшным; от фугасного взрыва и горящего бензина снег расплавился буквально за несколько секунд, и теперь территория заставы являла собой огромную лужу кипящей жижи, напоминавшей вулканическую лаву; выбраться отсюда было невозможно.
Вскоре прозвучал еще один взрыв — это рванул оставшийся в цистернах бензин, и над бывшей шестой заставой взметнулся огромный красно-черный гриб…
Наверное, правы люди, утверждающие: если уж человеку не везет в чем-то одном, то эта полоса продлится долго-долго…
А как долго?
Да пока сама не кончится…
Неприятности Михаила начались с того самого момента, когда он провалился в волчью яму. Он потерял много времени — тем более что выбрался оттуда только с наступлением темноты.
А потом — пошло-поехало: страшная картина расстрелянной артели; пурга, благодаря которой он едва не сбился с пути, и теперь такое невезение со связью.
Оптимист по натуре, Каратаев никогда не был склонен к суевериям: ну, бывает в жизни всякое, и уж если тебя настигает черная полоса, то можно быть уверенным: рано или поздно она завершится…
— Послушай, что такое с линией? — Каратаев несколько раз нажал телефонный рычаг; на этот раз из трубки не было слышно вовсе никаких гудков.
— Да что ты хочешь — тут ведь всякое бывает, — равнодушно откликнулся дежурный. — Иногда и по четверо суток связи не бывает. Линию-то в поселок когда прокладывали? В сорок восьмом году. Помню, как ее строили, — нас, зэков понагоняли, а мы туфту-то и гнали, чтобы норму по нарядам выполнить. Сам столбы устанавливал — еще удивляюсь, как она до сих пор держится.
— Что же мне делать? — Казалось, этот вопрос бывшего спецназовца адресовывался не дежурному, а только самому себе.
— А ничего… Ждать, пока починят.
— А когда?
— Одному Богу известно, — печально проговорил дежурный. — Может быть, даже и сегодня… Хотя вряд ли: праздник скоро, никому до этого дела нет. Сам ведь не маленький, понимаешь…
— Но мне срочно надо связаться с поселком! — воскликнул охотник.
— Что — зазноба, чай, ждет? — понимающе усмехнулся дежурный; коренной февральский житель, он, конечно же, знал об отношениях Каратаева и Дробязко — не знал он только того, что Тани уже не было в живых…
Михаил, метнув в старика убийственный взгляд, вновь потянулся к телефону, понажимал кнопки рычага — аппарат по-прежнему молчал.
— Ай случилось чего? — заметив беспокойство гостя, осведомился дежурный.
Вяло отмахнувшись, Каратаев вздохнул:
— Да уж, случилось…
Старик, шамкая губами с синеватыми прожилками, что-то говорил, вспоминая и бериевскую амнистию, благодаря которой он вышел на свободу, и катастрофу пассажирского лайнера — два с половиной года назад «Ту-134», выполняя рейс Хабаровск — Москва, упал и разбился неподалеку от полустанка; и известный инцидент на острове Дальний, и еще какие-то ненужные теперь частности.
Амур, свернувшись у печки калачиком, блаженно грыз старую кость, подаренную заботливым стариком, — за день хождения по тайге он очень проголодался.
А Михаил прикидывал, что ему делать.
Конечно же, можно было бросить телефон и идти в поселок на лыжах. Но теперь, в занявшуюся пургу, для этого понадобилось бы, как минимум, пять-шесть часов, а времени терять было нельзя ни минуты. И как было бы обидно, если бы за это время связь восстановили!
— Можно было бы на дрезине до Большой сопки добраться, так ведь и пути замело, — вслух размышлял старик. — А товарняк на Хабару уже прошел… Следующий только через сутки.
— А дрезина? — Каратаев соображал, что лучше — оставаться тут и ждать, пока наладится связь, добираться до Большой сопки на дрезине, а оттуда — на лыжах до Февральска или же идти в поселок через тайгу.
— Да поломана она… К тому же не мотодрезина, а простая, ручная. Ты уж посиди тут, милок, — гостеприимно предложил дежурный, — а я тебя чайком с вареньем угощу…
Ничего не отвечая, Михаил вышел на крыльцо глотнуть свежего воздуха; он волновался, как никогда в жизни…
Глава шестнадцатая
Начальник поселковой милиции майор Игнатов, стоя у стола, пожирал белесыми, выцветшими от водки глазами телефон так, будто бы внутри, под треснувшим пластмассовым корпусом, сидел тот самый высокий начальник, который теперь его сурово отчитывал. Поза главного поселкового милиционера свидетельствовала о крайней серьезности телефонных переговоров: майор стоял навытяжку, по стойке «смирно», правой рукой прижимая трубку к уху, а левую — к лампасу форменных брюк.
Игнатов понуро молчал, а трубка урчала весьма недовольно:
— Ты куда, идиот, смотришь… Ты кто там — милиционер или козел вонючий? У тебя под носом двое отпетых уголовников грабят магазины, взламывают кассы, убивают и насилуют порядочных женщин и остальных мирных жителей… Что ты сделал?
— Э-э-э… — попытался было оправдаться Игнатов, но начальник и слушать его не стал:
— Затем — еще одно зверское убийство, в парикмахерской. И вновь с ограблением. Что ты предпринял для поимки уголовников, майор Игнатов?
— Э-э-э… — В виду сильного волнения товарищ майор мог изъясняться только междометиями.
— Что ты там туфту гонишь! — После этих слов трубка гнусно, начальственно выматерилась. — Не слышу! Что ты там предпринял?
— Так ведь они… того… секретный военный вертолет захватили, — наконец-то выдавил из себя несчастный милиционер.
— А почему захватили? — надрывалась трубка. — Кто позволил? Кто недосмотрел?
— Э-э-э… Вообще-то оперативно-розыскной работой я не занимаюсь… А вертолет — это дело военных, — бормотал майор, пытаясь оправдаться, по привычке сваливая вину на других, — не мой профиль… А беглыми зэками в основном режимная часть занимается… ИТУ, не мы… И никаких конкретных инструкций не было… Ну, усилить бдительность, все такое… У нас в поселке к тому же недокомплект личного состава…
— Гы! — выплюнула трубка. — Тебя как послушать, так ты вообще в Февральске на хрен не нужен. Может быть, тебя сократить, а?
Губы Игнатова задрожали мелким студнем.
— Товарищ полковник… Да я…
— Знаю, знаю. Я все про тебя знаю, Игнатов, — шипела трубка. — Взятки берешь, казенное имущество транжиришь, правонарушения покрываешь, приисковиков да охотников в липку обдираешь…
— Да что я один могу сделать против вертолета?! — засопел майор. — Войдите в мое положение, я ведь не ПВО!
— Так, майор Игнатов, — суровый голос звенел металлом, — даю тебе два дня, чтобы наладил контакт с гарнизоном и с администрацией ИТУ. О проделанной работе доложишь мне лично!
Из трубки послышались короткие гудки, извещавшие, что беседа завершена.
Майор на всякий случай еще послушал трубку — будто бы сквозь равномерно гудящий зуммер могло пробиться то, чего он еще не слышал. И лишь убедившись, что на сегодня — это все, он положил трубку на рычаг.
— Хорошо тебе, — тяжело вздохнул на удивление трезвый Игнатов. — В тепле сидишь, музыку слушаешь, на тебя куча подчиненных работает, только с нашего говна сливки снимаешь, а мне тут, в поселке, заживо гнить. И столько несчастий на мою голову… Ох и тяжела же ты, горькая ментовская доля!
Несчастный устало опустился на табурет, почесал в промежности — майор мучительно соображал, чего же ему теперь не хватает, и, лишь выкурив несколько «беломорин» подряд, сообразил: не хватало любимого подчиненного — старшины Ивана Петренко.
Вообще-то начальник поселковой милиции держал этого недалекого человека только для двух целей.
Во-первых, вороватый, но очень удачливый милиционер Ваня мог быстро и легко исполнить любое, пусть даже самое конфиденциальное поручение (как правило, он был постоянным посредником между майором и остальным населением поселка в получении взяток); к тому же смекалистого подчиненного можно было услать за водкой и закуской хоть в пять утра, не беспокоясь, что старшина завалит ответственное поручение мудрого начальства.
А во-вторых, Иван Петренко был откровенно туп, и это качество больше всего нравилось майору: на его фоне самый главный милиционер Февральска чувствовал себя Аристотелем, Гегелем и Кантом одновременно, а ведь ничто, как известно, не тешит самолюбие так, как осознание величия собственного ума.
После той, последней пьянки с подчиненным старшина как в воду канул — вот уже третий день он не появлялся на службе. Конечно же, такое случалось и раньше: на день, на полтора…
Но не трое же суток!
"Наверное, вновь по бабам в гарнизон пошел, — решил майор, — офицеров сейчас постоянно в караулы гоняют, уркаганов ловить, жены недосмотрены, а Ваня небось вокруг каждой телки со стоячим куканом так и бегает, так и скачет… Везет же людям — ему бы такого начальника, как у меня…"
Больше всего майора удивляло следующее обстоятельство: после той пьянки Петренко бесследно пропал, но форма и сапоги так и остались валяться под кроватью дочери. Зато исчез свежеукраденный тулуп, в котором вся семья Игнатовых обычно ходила во двор по нужде, и обрезанные по щиколотку валенки, применяемые для того же…
Получалось нечто вовсе несуразное: Петренко после Василисы, бросив все, включая даже символ власти — форму с погонами и ремнем, накинув на плечи тулуп и обувшись в обрезки валенок, глубокой ночью в пятидесятиградусный мороз исчез в одних трусах.
Даже сам майор, в состоянии тяжелого алкогольного опьянения склонный ко всякого рода парадоксальным продолжениям застолий, не мог понять мотиваций этого поступка подчиненного…
Скрипнула дверь — Игнатов поднял голову: на пороге стояла его несовершеннолетняя дщерь Василиса. Развратно-миловидная улыбка блуждала на ее раскрасневшемся лице — видимо, в мыслях восьмиклассница была где-то очень далеко…
— Ну, приперлась? Уже небось весь поселок успела обслужить? — окрысился отец.
— Да успокойся ты, папа, — не глядя на Игнатова, пропела дочь. — У подружки была…
— Две ночи — и все у подружки, — саркастически хмыкнул папа. — Ты бы лучше меня с ней познакомила… Кто такая?
— Для тебя, папа, она слишком молодая, — безмятежно сообщила дочь, — ты ведь должен уважать Уголовный Кодекс, правда? По сто семнадцатой чалиться не хочешь, нет ведь, па?
Против такого веского юридического аргумента у майора милиции возражений не нашлось, и потому майор, сплюнув в сердцах, отвернулся к окну.
Из головы никак не шел старшина Петренко: странно, но теперь Игнатов не хотел видеть перед собой никого, кроме этого откровенного дебила.
"Гуляет, гуляет, добрый молодец, чудо-богатырь, никак нагуляться не может, — вертелось в голове. — Мало ему моей Василисы…"
В глубине души начал медленно, но неотвратимо вызревать гнойный пузырек раздражения — он рос, рос, увеличиваясь в размерах, но никак не находил выхода…
— Папа, я сегодня опять к подружке иду, — весьма некстати произнесла дочь, снимая шубу. — Так что ты не волнуйся…
И тут Игнатова буквально взорвало:
— Да ты… блядь малая… да я тебя… в колонию… своими руками, на «малолетку», сучка, я тебя… — Не в силах удержать порыв, майор схватил висевшую на ржавом гвозде портупею и, намотав на кулак ремень, со страшными глазами пошел на Василису.
Та, впрочем, нисколько не испугалась, а только подбоченилась:
— Ха! Да меня и не такие топтали! — презрительно хмыкнула она. — Думаешь, сильно испугал? Мне мамочка рассказала, почему тебе второй год не дает, — извлекла коварная дочь свой самый страшный козырь. — Да потому, что сам не можешь. Кто с водкой дружен, тому хрен не нужен, так что… Импозант старый!
Видимо, майорская дочь, имевшая по всем гуманитарным предметам твердую «двойку», спутала медицинско-бытовое понятие «импотент» и куртуазное прилагательное «импозантный», — впрочем, папа, в свое время учившийся не лучше, и так отлично уразумел ее мысль: дочь и отец прекрасно понимали друг друга.
Раздался страшный свист пряжки — латунная бляха со свистом пролетела перед самым носом Василисы, и если бы та не отскочила, то вряд ли бы смогла пользоваться благосклонностью "подруг".
— Что? Что? — Возмущенный майор просто не находил слов.
— Да иди ты…
То, что началось дальше, воскрешало в памяти лучшие страницы «Домостроя» — замечательного памятника древнерусской педагогики: милицейский майор со зверским лицом гонял непочтительную дщерь по маленькой комнате — дщерь летала, как веник, то и дело натыкаясь на стол и табуретки; латунная пряжка свистела и иногда звонко опускалась на ее упругую, не по годам развитую задницу.
— Я тебя отучу блядовать! — истошно ревел майор. — Я сделаю из тебя настоящего советского человека! Будь ты сыном, я бы тебя собственноручно в армию, в дисбат бы отправил! На «дизель», на три года!
Василиса носилась по комнате с диким постельным визгом — иногда ей даже удавалось уворачиваться, но латунная бляха все чаще и чаще настигала роскошное тело непочтительной майорской дочери.
Неожиданно изловчившись, она укусила отца за волосатый палец — тот взвыл от боли и возмущения и со всей силы ударил ее кулаком в скулу: этого оказалось достаточно, чтобы дочь поняла всю бесперспективность сопротивления и объявила полную капитуляцию.
— Папа, папочка, не надо, я больше не буду! — юлила она. — Папочка, не надо, не бей меня, честное пионерское, я не буду больше!
— Да я тебя сейчас… — Лицо Игнатова было искажено страшной гримасой.
— А-а-а-а!.. — орала дочь. — Помогите! Он маньяк, он меня хочет… убить… Ментовская рожа! «Мусор» поганый! Козел воню…
Звонкий шлепок, пришедшийся по груди третьего размера, заставил малолетнюю развратницу на какое-то время замолчать.
— Сука, — сплюнув на пол, выдавил из себя Игнатов, — мразина…
Наконец, когда Василиса, окончательно поняв преимущество домостроевского метода воспитания перед современным, европейским, забилась в угол и принялась тихонько скулить, папа сменил гнев на милость; к тому же, гоняя дочь, он очень устал.
— А теперь приготовь мне пожрать. — Гнев по поводу необъективности хабаровского начальства понемногу прошел. — Убери в хате, помой полы, постирай мне носки и… — Отерев со лба крупную каплю соленого пота, запыхавшийся отец довершил: — Покажи свой дневник… Что-то я там давно не расписывался…
— А-гы… гы… — тоненько всхлипывала Василиса. — По… кажу…
— То-то, — многозначительно хмыкнул Игнатов, полностью удовлетворенный воспитательным процессом. — Теперь будешь знать…
Спустя полчаса в доме царили понимание и семейная идиллия: полы были помыты, «мусор» — выброшен на улицу (конечно, не сам хозяин дома, а содержимое помойного ведра), рубашки и носки постираны.
Отец, любовно поглаживая выпиравшее из-под лоснящегося кителя брюхо, удовлетворенно рассматривал бутылку «Хабаровской» водки — Василиса, хранившая заначку на Новый год, выставила ее на стол, чтобы задобрить сурового воспитателя.
— Ты, это… того… доченька, соображаешь. — Майор скусил латунную пробку и выплюнул ее под стол. — Я ведь тебе добра желаю, я тебя не потому бил, что мне это нравится, а потому, что хочу из тебя человека вырастить… — Говоривший старался не встречаться с дочерью взглядом, чтобы не вспоминать неприличное слово, начинавшееся на «импо». — Может быть, в техникум какой поступишь или в институт, на заочное…
— Да ладно тебе, папа, — Василиса, трогая фиолетовый рубец на мятой щеке, налила и себе, и воспитателю, — я еще маленькая… Про учебу еще всегда успеется подумать.
— М-да, маленькая, сиськи небось четвертого размера? — осведомился любящий папа.
— Третьего, — скромно возразила дочь и опустила глаза, показывая, что у нее еще все впереди. — Я ведь акселератка. Теперь все такие, и мальчики тоже. Ладно, давай выпьем, что ли…
Лишь после третьей рюмки майор вспомнил то, что мешало ему жить уже третьи сутки.
— Ты своего Ваню не видала?
— Какого?
— А у тебя их что — много? — вопросом на вопрос ответил майор.
— Ну, как сказать… — Дочь стыдливо потупила взор.
— Ну, Петренко, старшину. — На этот раз майор благоразумно решил не увязать в подробностях относительно всех Вань Февральска.
— Он не мой, а твой, — вполне резонно возразила дочь. — Он ведь не мне подчиняется… Нет, папа, давно уже не видела.
— А где он может быть? — осторожно поинтересовался начальник поселковой милиции. — Совсем оборзел молодой, никакой дисциплины… А все из-за тебя, все из-за тебя…
— Почему же из-за меня?
— Да уж из-за тебя… Так где он?
— А хрен его знает, — равнодушно ответствовала Василиса. — Может быть, загулял где, а может, в Хабару на праздники рванул…
— В Хабару, в Хабару… — задумчиво повторил Игнатов, почесав подбородок.
— Он мне сам как-то на прошлой неделе сказал, что надоело ему тут все, бабы уже приелись, мол, вот бы до Хабаровска дорваться, он бы показал… — вспомнила дочь последнюю ночь с Ваней.
— А у меня уже разрешения не надо спрашивать, да? — резонно возмутился начальник февральской милиции. — Совсем уже распоясались все!.. И почему он в одних трусах да в тулупе на голое тело ушел? Нарушение формы одежды! — Отдышавшись, он опрокинул в горло стакан водяры и, занюхав рукавом, поинтересовался: — Ты что… может быть, обидела его чем-то?
— Да перестань ты, па, — махнула рукой дочь, — давай лучше еще хряпнем.
И вновь налила отцу полный стакан.
— …да ты только не обижайся, — бубнил отец.
— …да ладно тебе, па… — привычно отмахивалась дочь.
Так, в нехитрой застольной беседе прошло еще полчаса, пока Василиса, почувствовав мощные позывы к мочеиспусканию, не поднялась из-за стола.
Тулупа на гвозде не было — Василисе пришлось накинуть на плечи отцовскую шинель.
Путаясь в полах, она вышла в холодные сени и с трудом приоткрыла дверь: снегу намело столько, что та поддалась с трудом.
Девушка скромная и к тому же склонная к гигиене жилища, майорская дочь, как прежде ее любовник, не решилась мочиться прямо на обледеневшем крыльце. Она взяла широкую фанерную лопату и размашистыми движениями принялась расчищать путь к чернеющему недалеко сараю, в семье Игнатовых — обычное место для исправления естественных надобностей.
Снег был свежий, мягкий, недавно выпавший, и потому минуты за три Василиса, раскрасневшись от труда и мороза, была почти у цели.
Неожиданно лопата, подозрительно хрустнув, уперлась во что-то твердое, и это не могло не заинтересовать любознательную девочку. Воткнув лопату в сугроб, она наклонилась…
Взгляд Василисы остановился, зрачки расширились от ужаса: замерзшие остекленевшие глаза оторванной головы смотрели на нее невидяще, немигающе; иней застыл на густых длинных ресницах; снег набился в узкую черную щель рта; оборванные сухожилия и артерии замерзшими буроватыми потеками тянулись в сугроб.
— А-а-а-а!.. — дико закричала Василиса. — Помогите! А-а-а…
Крик был настолько страшен, что майор, бросив все, тут же выбежал во двор.
— Что?.. Что?..
Василиса не могла говорить — речь ее была полностью парализована.
— Что?..
Игнатову трясло, колотило крупной дрожью, как в лихорадке, но она нашла в себе силы кивнуть в сторону страшной находки.
— Папа… Там…
Когда начальник милиции Февральска медленно приблизился, то едва не лишился чувств: откусанная замороженная голова принадлежала никому иному, как пропавшему без вести старшине Ивану Петренко…
После разгрома пограничной заставы Чалый будто бы с цепи сорвался: таким могущественным и страшным казался он сам себе.
— Да я… Сейчас бы на Хабаровск — представляешь, какой был бы козырный шухер? — не оборачиваясь в сторону Малины, мечтал он вслух. — Подлетаем, бля, и к самому зданию краевой «мусорни». Сажусь на крышу — тихо, чтобы меня никто не видел. Затем поднимаюсь, примериваюсь, и — хлоп на них бомбу! Они, значит, врассыпную, а я из пулеметов их всех: тра-та-та-та-та!
Астафьев изобразил пулеметную очередь столь громко и натурально, что Малинин даже вздрогнул.
"Шифер совсем осыпался, — подумалось ему, — вконец озверел…"
А тот продолжал:
— А потом — на Москву, прикидываешь? Подлетаю, значит, к Министерству внутренних дел, смотрю — самый главный «мусор», видит меня, значит, полные штаны наложил… А я его ракетой "воздух — «мусор» — и в жопу ему бабах! А потом, значит, на Кремль… Приземляюсь я на Красной площади — грохот, дым, корреспонденты эти, значит, понабегут, — замечтался Чалый. — Девка или петух какой с хлебом-солью выходят, в костюмчике, а лучше — не с хлебом-солью, а со стаканом и косяком, чистяком «чуйкой» забитым… Ну, я их, в натуре, трахаю, косяком пыхчу, все такое… А потом наш президент подходит и спрашивает: кто тебя, дорогой, обижает и, вообще, чего тебе, пацан, надо? А я… А я… Слышь, Малина, а че тебе для полного счастья надо? — неожиданно поинтересовался взбудораженный собственными фантазиями Астафьев.
Малину этот вопрос застал врасплох.
— Да я… — Немного подумав, он определился и, робея от собственной смелости, вытянул вперед тощую грабку, сложив ее ладошкой: — Песочка бы мне… Хоть килограммчик — а, Кеша?
— Сука ты, и шутки у тебя сучьи, — брезгливо поморщился Чалый. — Да, не умеешь ты мечтать, нету в тебе настоящего блатного запала… Ладно, смотри, что там впереди!
Впереди, на небольшом возвышении, виднелись сторожевые вышки, геометрически-правильные ряды колючки, темные контуры блоков — труба котельной нелепым перстом возносилась в вечереющее небо.
— Зона, — процедил Малина.
— Узнал, — ощерился Астафьев. — Что — понравилось? А то давай, высажу за безбилетный проезд. Ничего, без парашюта быстро долетишь, Киселев с Астрой тебя сразу же поймают, а?
Да, Малинин не ошибся: это действительно было ИТУ строгого режима, откуда он с Чалым сбежали немного меньше недели назад.
Естественно, москвич догадывался, почему его подельник привел вертолет именно сюда.
Лицо Иннокентия в одночасье стало очень серьезным — он, подобно грифу-падальщику, вытянул шею и, взглянув через пуленепробиваемый стеклянный колпак вниз, грязно выругался — и в адрес судей с прокурорами, которые его сюда упрятали, и в адрес ментов, которые заставили его стучать на своих, и в адрес Астры, который наверняка приговорил его к смерти за ссученность.
И вот настал долгожданный момент — теперь можно было посчитаться со всеми, вместе и сразу…
Астра, сидя в глубоком кожаном кресле, беседовал со своим «торпедой» Матерым: разговор, естественно, касался предстоящей проверки, и потому пахан решил изъясняться не абстрактными философскими категориями, а более приземленными, доступными понятиями.
— Значит, так: скажи всем мужикам, чтобы те завалили комиссию ксивами, чтобы понатуральней жаловались. Мол, и работать не дают, и гоняют почем зря, и используют в целях личного обогащения. Передачи с «бациллами» отбирают, жалобы не принимают, газеты и журналы выписывать нельзя, в баню не пускают, мыла не выдают. В ПКТ да БУРе просто так, в собственный кайф гноят — месяцами на «балдоху» через «решку» смотрят.
— Понятно. — Матерый смотрел на пахана с немым уважением — вот что значит правильный смотрящий, любого хозяина загнобит! Пусть Герасимов знает, как накладно тянуть на блатных мазу!
— Дальше. На промке поломайте все, что можно, — желательно к самому появлению «мусорской» комиссии, чтобы починить не успели. Станки, оборудование, кабеля повыдирайте. Мол, ничего не знаем, такое прислали. Работать, мол, на таких станках нельзя, а мы, мол, хотим… Так мужики пусть и базарят. И подошли каких-нибудь побойчее, чтобы натурально получилось.
— Понял, — улыбнулся Матерый. — Все так и сделаем.
Астра не сомневался: все будет именно так, как он и распорядится. В чем-чем, а в этом на Матерого можно было положиться.
— Ну, вроде все… Слышь, Матерый, ты чего сейчас делать собрался?
— А че?
— Может быть, в стиры перекинемся? — С этими словами вор извлек из кармана спортивного костюма новенькую колоду карт.
— В буру, в очко? — с готовностью спросил Матерый, который, как истинный блатной, очень любил и уважал карточные игры.
— Давай в буру, — предложил Астра. — Ну, сдавай, сдавай…
Играли недолго — часа всего полтора. Пахан сперва немного проигрался, но затем, собравшись с мыслями, быстро отыгрался и даже немного выиграл: вскоре перед вором вперемешку лежала небольшая стопка российских рублей, американских долларов, китайских юаней и японских йен; вся эта валюта была в ходу и в Приамурье, и, следовательно, на приамурских зонах.
— Ну, еще? — вежливо предложил пахан.
— Давай, что ли…
Игра возобновилась.
Матерый, глядя на пахана, очень хотел узнать — как же это так получилось, что тот умудрился натравить одних ментов на других.
— Послушай, Астра… — несмело начал он.
— Слушать — это всегда очень опасно, — тонко улыбнулся вор в законе.
"Торпеда" отпрянул.
— Почему?
— Никогда нельзя слушать людей всерьез, — продолжал склонный к изощренным силлогизмам умный вор. — Потому что эти люди тебя могут в чем-нибудь убедить. А человек, который позволяет убедить себя доводами разума, крайне неразумное существо…
У Матерого от такой мудреной фразы рот открылся и не закрывался минуты полторы.
— Если бы я с детства слушался семью, школу и инспектора по делам несовершеннолетних, никогда бы из меня вора не вышло, — пояснил пахан.
— Да нет, Астра, я ведь того, хотел…
Впрочем, обладавший завидной проницательностью, вор прекрасно понял тайную мысль собеседника.
— Ты это о проверке из ГУИНа? Ну, Матерый, ты с восемьдесят пятого года сидишь и многого не понимаешь. Теперь на вольняшке многое что изменилось, можно кого угодно купить, — пояснил пахан, — а еще лучше решать такие вещи при помощи связей.
Матерый сглотнул слюну и выдал:
— Не имей сто рублей, а имей сто друзей, да?
— Во-во, — весело подтвердил Астра. — Особенно если твой друг — депутат в Думе. Так теперь Верховный Совет называется. Тихого помнишь?
— Так что он… того, ссучился? Может быть, мы, блатные, уже ментам поганым лучшие друзья? — недоуменно завертел головой «торпеда», наверняка не понявший, что такое Дума, и, видимо, посчитав ее каким-то новым милицейским подразделением. — Что за понятия такие: сколько парюсь тут, никогда о таком не знал…
— Да ладно тебе, — примирительно бросил пахан. — Теперь на вольняке такой беспредел творится, что даже уходить отсюда не хочется. Ничего, откинешься, жизнь научит новым реалиям, — поморщился он, но по выражению лица собеседника понял — нет, этого уже никто и ничему не научит.
Тихо, почти что неслышно, шелестели карты, на стол из дорогого мореного дуба ложились взятки.
Неожиданно Астра, взглянув на раздачу, прислушался: ему показалось, что где-то рядом, прямо за бетонной стеной, послышался необычный звук.
— Матерый, слышал? — спросил он "торпеду".
— Угу, — подтвердил тот.
— Че это, трактор прислали, что ли? — не успокаивался пахан.
— Наверно, для комиссии, — с ненавистью сказал Матерый; от одного только упоминания о ментах поганых лицо его исказилось гримасой отвращения. — Большой и железный. Завтра «мужиков» гонять на нем будут, показывать, как работать надо.
— Нет, это точно не трактор, — перебил его старший в блатной иерархии, — это явно что-то в воздухе… Это… Это…
Он не успел договорить — страшной силы взрыв всколыхнул комфортабельную камеру, в баре жалобно и тонко зазвенели бутылки, певуче завибрировали бокалы из дорогого горного хрусталя.
— Во, бля… — только и успел протянуть Матерый. Следующая его фраза потонула в страшном грохоте пулеметных очередей…
Когда началась стрельба, полковник Герасимов сидел в своем кабинете, составляя приблизительную смету расходов на встречу комиссии.
Главным пунктом приема были, конечно же, водка и закуска. Затем — водка, закуска и баня. Затем — опять водка, закуска, баня и бабы, а если точно — одна, собственная жена — курва Оксана.
По замыслу хитроумного, многоопытного хозяина можно было организовать самый настоящий блатной хипес: пусть тот подполковник вволю трахает его жену, но затем, как бы случайно, появляется он, Герасимов и, как оскорбленный в лучших чувствах любящий муж, так сразу же и не соображает, за что хвататься: то ли за нож, чтобы кастрировать москвича, то ли за табельный пистолет, чтобы пристрелить неверную, то ли и за то и другое сразу.
Проверяющий, естественно, пугается и предлагает разойтись полюбовно: терять "облико морале" явно не в его интересах.
И все, пожимая друг другу руки, расходятся с миром, оставаясь при своих интересах.
Московский подполковник докладывает о мелких нарушениях (а у кого их нет?), машет ручкой, оставляет Оксане свой служебный телефон — мол, будешь, заходи, после чего уезжает в Москву; Герасимов, отделавшись банальным выговором, счастливо дослуживает до пенсии и уезжает на Полтавщину, жрать сало и запивать его самогоном. Там сразу же выгоняет Оксану за курвозность, припомнив ей измену с московским подполковником, покупает черную «волжану» и живет остаток дней в собственное удовольствие.
Вроде бы и недорого получалось — даже дешевле, чем просто давать взятку.
Так размышлял полковник, и все вроде бы сходилось: ничто не могло нарушить подсчета — план принятия московского гостя не имел слабых мест.
Внезапно его стройные размышления нарушил какой-то посторонний звук — он доносился с улицы и не был похож ни на один из привычных, слышимых на зоне каждый день. Герасимов, одернув штору, посмотрел в окно и остолбенел: прямо напротив, занимая полнеба, над зоной висел грозный силуэт военного вертолета.
Полковник даже не успел удивиться и спросить себя, что это такое: разом ударили многоствольные крупнокалиберные пулеметы, полыхнуло из автоматической пушки — раздались оглушительный взрыв, страшный грохот, и прямо на обезумевшего хозяина упал, отколовшись от потолка, огромный кусок штукатурки…
— На!.. На!.. На!.. — Чалый, ерзая и подскакивая в кресле от вполне понятного нетерпения, кусал губы и остервенело жал на все гашетки — вертолет содрогался от жуткого гула, и звуки взрывов, сливаясь с надсадным ревом двигателей и свистом лопастей, создавали воистину адский аккомпанемент.
Малина ничком лежал на полу, закрыв уши, — он не слышал, как Астафьев возбужденно орал:
— Да нет, ты посмотри — пятый блок на хрен пошел! Горит, Малина, бля буду! Обожди — сейчас я в административный корпус загну…
Ракета класса "воздух — земля", остроумно переименованная командиром вертолета в ракету более высшего класса, "воздух — «мусор», сорвалась с крепления на гладком обтекаемом фюзеляже и, как раскаленный нож — масло, прошила бетонную стену главного ментовского гадюшника, где находились кабинеты и хозяина, и кума, и режимника, и прочей серой сволочи. Спустя какие-то доли секунды раздался мощный взрыв — во все стороны полетели оплавленные кирпичи, куски бетона с торчащими арматуринами, куски казенной мебели, окровавленные клочья мундиров.
— Ну, красота, бля! — Чалый то и дело потирал руки, едва не выпустив штурвала. — Сейчас еще захерячу… А ну-ка…
И действительно, через пару минут из короткой тупорылой пушки вылетели, один за другим, три снаряда и легли почти в одну точку — блок, где находился БУР, тут же рассыпался в руины.
— Все, Малина, можешь сказать мне спасибо: больше тебя в «козлодерку» не посадят, — заржал Иннокентий. — Так, что там у нас дальше?..
Огневая мощь КА-0012-"Б", созданного и для поддержки наступающей пехоты, и для «точечного» поражения целей в городских условиях, действительно впечатляла: российские авиаконструкторы постарались на совесть. Вскоре почти вся зона — и жилые бараки, и промка, и хоздвор, и вышки, и, естественно, административные корпуса — полыхала ярким пламенем.
Внизу беспомощно бегали какие-то жалкие фигурки, размахивая руками. Спотыкаясь и падая, они бежали к проходной, но там их настигали короткие очереди вертухаев, стоявших на вышках: согласно инструкции, они должны были открывать огонь по любому беглецу.
Несколько вэвэшников, наверное самых умных, догадались открыть огонь по вертолету — с ближней к КА-0012-"Б" сторожевой вышки раздалась короткая, сухая автоматная очередь, но ответная очередь Чалого заставила не в меру ретивого умницу замолчать навсегда.
— Ну, почти все, что было, расстреляли. — Несмотря на существенную потерю боезапаса, радости Астафьева не было предела. — Дело сделано. Теперь можно и в Китай… Не боись, Малина, прорвемся…
Вертолет отлетел на порядочное расстояние — лишь тогда москвич поднял голову и со страхом взглянул в иллюминатор…
На фоне безбрежной, заснеженной тайги занималось страшное черное пожарище: жирный ядовитый дым валил от пылающих руин, там-сям огромным всепоглощающим костром вспыхивало дикое пламя; даже сквозь значительное расстояние Малине казалось, что он слышит вой сгораемых заживо людей, ощущает сладковатый запах паленого человеческого мяса.
Вечерело.
Темнеющее светло-фиолетовое небо было будто бы подкрашено огромным багровым заревом — оно ширилось, разрастаясь в размерах, и занимало уже почти половину горизонта.
— А город подумал — ученья идут, — хохотнул Чалый. — Ну, вроде все на сегодня… Пора и в Китай.
Вор в законе Астра, придавленный огромным обломком бетонной стены, умирал мучительно, тяжело и жутко. Из развороченного живота вываливались окровавленные внутренности, сквозь обгоревшие лохмотья спортивного костюма виднелась густо татуированная грудь, из которой торчали поломанные ребра.
Матерому повезло больше: смерть «торпеды» была мгновенной — кусок бетона расплющил ему голову. Недавний партнер по буре лежал в каком-то метре, картинно раскинув руки.
Движимый волей к жизни, Астра, сжав в кулак остаток последних сил, попытался было высвободиться из-под тяжелого обломка — ему это не удалось, и адская, всепроникающая боль пронзила все тело. Под седую, коротко стриженную голову медленно натекала лужа крови, и почему-то не эта боль, а именно кровавая липкость причиняла умирающему больше всего страданий.
Но Астра не был бы Астрой, если бы даже теперь, в предсмертных муках, не обратился к философии: то ли он хотел забыться, отвлечься от физической боли, то ли сказалась старая привычка все обобщать.
— …кровь людская брызжет до самого неба, долетая до Господа Бога, а он моет в ней грязные ноги свои и молчит… — в полузабытьи пробормотал пахан.
Неожиданно, кстати или некстати, так живо и отчетливо вспомнилось: конец пятидесятых, жаркий август, подмосковная «малина», куда его, откинувшегося с «малолетки» семнадцатилетнего пацана, привела первая, незабвенная любовь, тридцатичетырехлетняя татуированная «жучка», ее изощренные ласки и его молодой неуемный порыв; и от этого сладостного воспоминания сердце умирающего пронзительно защемило…
"Как жаль, что не увидел опубликованной свою лучшую работу… — блеснуло в его потухающем сознании, но пахан тут же философски заметил: — Хотя — что ни делается, все к лучшему. Так им, ментам поганым, и надо… Сколько же их, «мусоров» голимых, сегодня полегло?.. И кто же это такой хороший в верто…"
Смерть равняет всех: воров — с мужиками, петухов — с чертями, придурков — с шерстяными и, что самое ужасное, первых, вторых, третьих и четвертых — с самыми жуткими ментами.
Смерть Герасимова была еще страшней и мучительней, чем смерть его главного идейного оппонента: пулеметной очередью полковнику оторвало обе ноги по колена, и хозяин, оставляя за собой две густые кровавые дорожки, все равно сливавшиеся в одну страшную полосу, непонятно для чего полз к развороченным дверям.
Теряя кровь, он слабел с каждым движением: несколько судорожных рывков — и полковник, царапая ногтями линолеум, ткнулся подбородком в выщербленный порог.
"И почему я тогда послушался Васю? — беспорядочно мелькало в голове. — Почему я, старый идиот, заткнул Астру в БУР? Почему не выдал ему парочку сук, как он требовал? Все он, все он… — Почему-то умиравшему хозяину подумалось, что эта вертолетная атака и была «проверкой» из Москвы, организованная злопамятным вором. — Вот она, организованная преступность, всех подкупил… И вертолетчиков, и ГУИН, и Думу…"
Герасимов умирал — глаза заволакивал кровавый туман, сердце билось все реже и реже, но сознание почему-то не покидало его.
"Как хорошо, что я не дожил до визита самого подполковника! — подумалось ему; видимо, в предсмертном бреду Герасимов посчитал, что само появление страшного московского подполковника выглядело бы еще более кошмарным. — Но почему я только не дожил до пенсии?! Прощай, Родина, прощай, Полтавщина…"
Несколько раз конвульсивно дернувшись, полковник наконец затих — теперь уж навсегда…
Спустя всего лишь час связь с Февральском возобновилась — видимо, старичок ошибся, а скорее всего, ему просто не хотелось отпускать гостя.
И вот уже полчаса Каратаев, сосредоточенно глядя на потрескавшийся диск, поочередно набирал три телефонных номера.
Результат был все тот же: и у коменданта гарнизона, и у начальника поселковой милиции было занято, а в санчасти по-прежнему никто не брал трубку.
"Странно, — все сильней волновался бывший спецназовец, — может быть, в Февральске что-то случилось? Ну, Игнатов и гарнизон — понятно. Но почему же тогда не берет трубку Таня?.. Может быть, ремонтники что-то напутали, когда налаживали связь?.."
Но тогда бы, по логике, и в санчасти были короткие гудки, но там — почему-то длинные, как и всегда при свободной линии. Вот только к телефону там никто не подходит, а ведь обязательно должен быть кто-нибудь из дежурного медицинского персонала.
И это очень тревожило Каратаева.
Неизвестно, что было в голове беглых преступников, но, увидев своими собственными глазами, какие те оставляли за собой следы, Михаил очень волновался за судьбу беззащитного поселка, в котором ничего не подозревавшие жители продолжали размеренную жизнь.
"А что, если они уже над Февральском?.." — пронеслась в его голове черная мысль, но он тут же отогнал ее, с досадой поморщившись из-за вынужденного временного бессилия.
Надо было срочно что-то делать, а телефонная связь, как всегда, подводила именно в тот момент, когда она была всего нужнее.
Не в силах усидеть на месте от волнения, Михаил вышел из маленького здания полустанка. На крыльце стоял в оранжевом железнодорожном жилете дежурный и спокойно попыхивал "Беломором".
— Сигареты не найдется? — не глядя на курящего, глухим от волнения голосом спросил Каратаев.
Вообще-то он курил очень редко. Но за последнюю неделю это была уже вторая его сигарета.
— Пожалуйста, Миша, бери. — Железнодорожник протянул смятую пачку "Беломора".
Он знал, что тот не курит, и хотел что-нибудь спросить об этом, но, взглянув на потемневшее от волнения серьезное лицо бывшего капитана «Альфы», решил не задавать лишних вопросов.
Охотник вытянул из протянутой пачки папиросу, смял огромными пальцами гильзу и слегка наклонился, прикуривая от протянутой дежурным по полустанку короткой «беломорины», сделал глубокую затяжку.
Сосредоточенно глядя перед собой, Михаил, казалось, ничего не замечал вокруг — мысли его витали далеко от железнодорожного полустанка. Несколько сильных, глубоких затяжек, и он, нервно швырнув окурок в сугроб, вернулся к телефону.
Зажав старую трубку аппарата между ухом и плечом, Каратаев вновь принялся дозваниваться по так необходимым сейчас телефонным номерам.
Но вновь все его попытки остались безуспешными…
На линии — или короткие гудки, или гробовое молчание.
Не отнимая трубки от уха, Михаил с тревогой посмотрел в мутное окно: где-то там, в сизо-голубой дали, был Февральск, была гарнизонная санчасть, в маленьком помещении которой должна была дежурить его Таня…
Глава семнадцатая
Популярный в поселке фарцовщик, он же — агент разведки соседнего государства китаец Ли Хуа, сидя в своем вагончике, задумчиво смотрел в какую-то одному ему известную пространственную точку перед собой.
Причиной такой серьезной задумчивости послужило недавнее сообщение по телевизору: хабаровская дикторша взволнованным, прерывающимся, непривычно серьезным голосом сообщила о захвате беглыми уголовниками совсекретного военного вертолета.
Это был тот самый КА-0012-"Б", информацию о котором и предстояло собрать хорошо законспирированному агенту. Сообщение об угоне вертолета уголовниками кардинально меняло ситуацию…
Китаец поднялся, поставил перед собой магнитофон и включил кассету — из динамиков полились торжественные аккорды Первого фортепьянного концерта Петра Ильича Чайковского.
Как ни странно, Ли Хуа совершенно не любил традиционной азиатской музыки — она, размытая, эмоционально неопределенная, навевала на него тоску, парализовывала мысль, склоняла к медитативности и вообще вгоняла в уныние.
А вот Чайковского он, наоборот, любил — то ли за глубокое философское осмысление мира, то ли за сексуальную ориентацию: как известно, этот классик, написавший шесть симфоний, одна лучше другой, всю сознательную жизнь прожил со своим слугой.
Торжественные, величественные фортепьянные аккорды, мощное звучание духовых, форте скрипок, альтов и виолончелей — все это настраивало Ли на оптимистический лад — почему-то после первых же тактов законспирированному под мелкого коммерсанта китайскому разведчику начинало казаться, что и с этим заданием он справится не хуже, чем с предыдущими.
"Если они угнали вертолет, — соображал китаец, — то наверняка не для того, чтобы просто на нем покататься. Рано или поздно им придется что-то предпринимать. Но ведь пока они тут, в России, им никуда не скрыться… Они — вне закона. А что, если…"
Мысль показалась Ли Хуа настолько свежей, оригинальной и замечательной, что он аж заерзал от нетерпения.
"Так, какие там у них клички? — принялся вспоминать разведчик; ему было достаточно услышать что-либо один раз, чтобы больше не забывать никогда. — Чалый, он же Иннокентий Мефодьевич Астафьев, и Малина, он же Сергей Арнольдович Малинин… Наверняка среди жителей этого поселка должны быть какие-нибудь их знакомые. Да и сами угонщики не смогут все время находиться в воздухе; так или иначе им придется приземляться — заправиться, если дадут, набрать анаши, водки, снять девок… Вертолет — это даже лучше, чем джип, против такого никакая не устоит…"
Тем временем первая часть закончилась — вторую часть этого замечательного фортепьянного концерта разборчивый китаец любил немного меньше, и потому мыслительные процессы чуть затормозились.
"Так-так, а кто недавно сидел на той зоне? — Ли Хуа, тряхнув заскорузлой косичкой, принялся вспоминать всех местных уголовников, откинувшихся за последние годы. — Витя Сухой? Нет, он же под Красноярском сидел. Митя Червонец? Тоже нет, он в Абакане парился… Гундосый? Тоже не то: этот все больше в пермских лагерях… Петя Габон? Так он второй месяц в бегах, говорят, что на Большую землю подался… Ага, — наконец вспомнил китаец, — Корзубый, точно он! Этот как раз полтора года назад на «химию» откинулся, якобы по здоровью, теперь тут кочегаром подвизается. И — точно на строгаче сидел, на том же самом, значит, наверняка знает и того и другого…"
Ли, поднявшись с табуретки, подошел к шкафчику и достал оттуда бутылку замечательной водки "Новый рис", — как он точно знал, Корзубый уважал этот напиток больше денатурата и одеколона. Накинув тулуп, китаец сунул бутылку в бездонный внутренний карман и, кряхтя от предвкушения удачи, отправился в кочегарку…
Михаил так и не дозвонился до Февральска — чем больше размышлял он об этом, тем более странным и подозрительным казалось молчание.
Попрощавшись с дедком-дежурным, он встал на лыжи, кликнул Амура; спустя несколько минут полустанок скрылся за невысокой сопкой.
Метель улеглась, и идти по свежевыпавшему снегу было легко и приятно; охотник посчитал, что до Февральска он успеет еще засветло.
А в голове роились тяжелые, черные мысли, одна другой хуже, — и о подозрительном молчании в поселке, и о беглецах, захвативших секретный военный вертолет, и о тигре-людоеде…
Особенно почему-то о последнем.
Михаилу, поднаторевшему в охоте на крупных таежных хищников, уже приходилось встречаться с тигром — правда, та охота едва не закончилась трагично. Каратаев всегда с досадой вспоминал эту давнюю историю, случившуюся с ним, еще когда он был курсантом…
Шел последний год учебы в родном Рязанском военно-десантном училище, на зимние каникулы Михаил счастливым выпусником приехал в родные таежные места, и отец, который тогда еще был жив, поведал о том, что в тайге появился тигр. Естественно, молодой и горячий Миша вызвался идти с отцом, матерым охотником, в тайгу; его не остановило даже предостережение — мол, этот коварный хищник куда хитрее, чем может показаться.
Следы были найдены относительно быстро — спустя каких-нибудь шесть часов отец и сын увидели отчетливые оттиски грозных лап, впечатанные в свежий снег; казалось, тигр прошел тут совсем недавно, каких-то полчаса назад. И охотники двинулись по следам…
Так уж получилось, что в пылу погони сын оторвался от отца, вырвавшись на полкилометра вперед: его, тогда такого неопытного, не остановили даже жесты старого охотника. Ведь Каратаеву так хотелось подстрелить царя тайги! Казалось, еще чуть-чуть, и он настигнет царственную рыже-полосатую кошку.
Вскоре тигриные следы свернули с лесной тропы в бурелом, и молодой охотник решил: тигр пришел к своему логову, и теперь его отстрел — дело техники. Он осторожно снял двухстволку, прилег, навел ствол на поваленные деревья, но в это время…
Даже теперь, будучи уже матерым таежным охотником, Каратаев содрогался, вспоминая тот момент. Сзади послышался едва уловимый скрип снега. Михаил, естественно, даже не обернулся — он решил, что это отец. Было странно, что отец долго не подходил, и тогда сын наконец-то обернулся — прямо перед ним стоял огромный тигр, нетерпеливо хлопая себя хвостом по отвисшим бокам…
И если бы не подоспевший папа, вряд ли бы Каратаев-младший шел бы теперь по тайге. Как выяснилось потом, тигр, учуяв погоню, воспользовался своим излюбленным коварным приемом; грамотно запутав следы, он несколько раз прошелся по кругу, и теперь уже не охотники шли за ним, а он нагонял их сзади, примериваясь, когда можно будет накинуться на них со спины…
Лыжи беззвучно скользили по снегу, изредка царапая лежавшие под сугробами ветки бурелома.
Как бы то ни было, но Каратаев знал твердо и наверняка: тигра, появившегося тут, будет не так-то легко обмануть, а этот коварный людоед, судя по всему, был матерым и очень хитрым. Знал он и еще одно: этот жуткий зверь, уже однажды попробовав сладкого человеческого мяса, теперь постоянно будет кружить вокруг поселка или караулить одиночных путников.
А такими одиночками вполне могут быть…
Михаил остановился, задумался.
Да, беглые уголовники представляли для этого величественного, царственного животного завидную добычу, точней, представляли бы, если бы они шли по тайге, а не летели над ней.
— Но ведь рано или поздно они приземлятся, рано или поздно у них кончится горючее, и тогда беглецы отойдут от вертолета… — прошептал он.
Как и многие люди, привыкшие одиноко жить в тайге, Каратаев часто проговаривал свои мысли вслух.
Утерев пот со лба, Михаил дождался Амура и ласково кивнул ему:
— Пойдем, пойдем… У нас с тобой слишком мало времени…
Корзубый, высокий как жердь, сидел на замасленном топчане в углу кочегарки, блаженно попыхивая «беломориной». Лицо его было черным, как у зимбабвийского негра: за какой-то год угольная пыль въелась в самые поры.
Рядом с огромным разверзшимся жерлом топки, в которой страшно гудело алое пламя, орудовал лопатой низенький, подслеповатый мужичок неопределенного возраста. Истинный блатной по рождению и убеждениям, Корзубый строго придерживался понятий воровской этики: пусть пила работает, она железная и большая, а человек работать не должен. Ему это очень западло.
Папироса тлела в темноте кочегарки, белки глаз Корзубого сверкали, как бутылочное стекло, и эта полуфантастическая картина явственно воскрешала в памяти то ли дешевые американские фильмы ужасов из жизни кладбищенской нечисти, то ли художественное описание ада в "Божественной комедии" Данте Алигьери.
Китаец, зайдя в кочегарку, поклонился и, приседая от вежливости, произнес:
— Корзубый, моя давно твоя не видала… Моя очень рада, очень-очень рада. — Отбивая мелкие поклоны, он осторожно приблизился и аккуратно вытащил из кармана китайскую поллитруху.
Блатной принял подношение вежливо и с достоинством, сообразным со званием.
— Спасибо, падла узкоглазая, — кивнул он, — присаживайся. Ну, какого хрена приперся, пидар голимый? Гондонами своими торговать, что ли? Так мы резиной не пользуемся, трахаться в гондоне — это все равно что бить мента подушкой, — перефразировал он популярную русскую пословицу.
— Да нет, не надо мента, — немного испуганно пробормотал Ли.
— Ну, подымим, что ли? — Благосклонность блатного простиралась так далеко, что он даже бросил петуху недокуренную папиросу, а сам потянулся за следующей.
— Моя не хочет, моя к твоя по делу пришла, — резиновая улыбка не сходила с лица Ли Хуа.
— Ну, давай…
Фарцовщик выразительно взглянул в сторону орудовавшего лопатой помощника, но Корзубый, перехватив этот взгляд, произнес:
— Да не боись, это ведь чурка, нанаец или якут, он и сам не знает кто, ни хрена по-нашему не понимает. Знает только несколько главных слов: «водка», "адик", «деник» и "закуска".
И действительно, закопченный кочегар, услышав четыре известных ему слова, сразу же бросил лопату и жалко заулыбался.
— Работать, работать! — цыкнул на него хозяин кочегарки. — Давай, чалдон, вкалывай, а то «адик» вечером не получишь. — Состроив немного обиженное лицо, он вновь обернулся к гостю: — Нанял этого чурку за буханку хлеба и флакон «адика» в день. Ничего, старается… Ну, так что у тебя?..
Китаец начал издалека.
Мол, он — человек маленький, живет тут, в Февральске, скромно, никого не трогает, никому не грубит, очень любит блатных (Корзубый усмехнулся), ненавидит майора Игнатова и старшину Петренко (Корзубый благосклонно закивал), не любит российскую действительность (Корзубый ощерился), но любит его, Корзубого, за истинную щедрость и широкий размах души ("А ты ниче, въезжаешь, бля", — процедил обладатель широкой души).
— А в очко — любишь?
— Моя все любит. — Голова Ли наклонилась, как у фарфорового болванчика.
Отблески пламени отсвечивали на скуластом, побитом угреватой сыпью лице хозяина кочегарки.
— Ну и че надо? Да ты не гони пургу, давай, китаеза… Чего пришел — чтобы я тебя трахнул? Так я его нежу, — Корзубый кивнул в сторону маленького кочегара. — Чурка, а нравится.
Китаец продолжал также смиренно, как и начал, — мол, ему, наверное, скоро умирать, так вот умереть он бы хотел не на чужбине, а на родине.
— Так че тебя — бандеролью в Пекин отправить? — не понял Корзубый.
Ли Хуа махнул засаленной косичкой — да нет же, уважаемый собеседник очень ошибается. Не слыхал ли Корзубый о вертолете, который угнали хорошие-хорошие пацаны?
— Ну, слыхал, — снизошел собеседник.
Так вот… Им за побег, убийство и угон все равно лоб зеленкой намажут, а вот если бы на нем вместе на родину, в Китай… Он, Ли Хуа, хорошо знает местного функционера госбезопасности, у которого друзья в Пекине, в Народном Собрании… Тот бы помог, не дал бы в обиду… И всем было бы хорошо.
— Ну и че теперь? — Казалось, Корзубый плохо соображает, что же от него требуется.
— Да вот пацаны ведь не всю жизнь в воздухе проведут, пацана ведь не птица, летать без пищи — угля не может. Когда-нибудь красивый женщина, толстая петушка или вкусная трава захотят, приземлятся в твоя кочегарка, чтобы углем заправиться, — косил под идиота хитроумный разведчик, — ну, ты им про моя просьба расскажешь… А я тебе за это отблагодарю. Китайца — хорошая, мента — плохая, — завершил Ли Хуа.
Корзубый буркнул в ответ что-то невнятное и сделал татуированными корявыми пальцами пару едва заметных движений — желтая бутылочная пробка отлетела в грязный угол кочегарки. Откинув голову, блатной жадно припал губами к горлышку. Заходил вверх-вниз покрытый грязной щетиной острый кадык, и добрая половина содержимого бутылки провалилась в луженый желудок.
— Ну, что твоя скажет?
— Моя скажет тем пацанам, — Корзубый еще не знал ни о приговоре блатной правилки, ни о жестоком расстреле некогда родной зоны, — твои слова. Все, узкоглазый, я сказал, ты услышал…
И отвернулся, всем своим видом давая понять об окончании дипломатического раута.
Нельзя сказать, что военные и в Февральске, и в Хабаровске ничего не предпринимали по поводу угнанного совсекретного вертолета. Начальство в краевом центре, узнав о пропаже и уничтожении гарнизона, пришло в неописуемый ужас — еще чего не хватало в предновогодние дни: годовой отчет уже благополучно отправлен в Москву, и тут, как назло, ЧП, да еще какое!
Хуже не придумаешь.
Пришлось скрепя сердце доложить в генеральный штаб. Командующий округа, тяжело дыша от волнения, бледнел и зеленел, слушая пьяное хрюканье вышестоящего генерала из Москвы:
— Твою мать!.. Таких вертолетов всего только четыре в армии!.. Отправили к вам на испытание, а вы… — Генерал очень нехорошо выматерился и продолжил: — А если бы они стратегический бомбардировщик с атомной бомбой украли?! Что тогда? Слышь, генерал, ты ротой на Камчатке командовать не хочешь?! Аттестую лично. На розыски — три дня.
Командующий округом, съев полпачки валидольчика и запив коньяком, позвонил заместителю:
— Дебил! Единственный секретный вертолет России — в руках уголовников! Тебе доверили, а ты!.. Ты еще генерал-майор, да? А когда у тебя там представление к очередному званию? Так станешь просто лейтенантом, без генерала, я сказал — однозначно!.. Даю два дня на розыски!..
Естественно, после этого кошмара заместитель, натерев виски вьетнамской «звездочкой», дернул для храбрости стакан «Пшеничной» и позвонил начальнику ПВО округа:
— Такие, как ты, позорят российскую армию! Скоро на всем Дальнем Востоке ни одной «вертушки» не останется, все уголовники покрадут. День на розыски, иначе в запас уйдешь прапорщиком.
Ну а тот, в свою очередь, приняв на грудь сто пятьдесят граммов неразведенного спирта и занюхав рукавом, чтобы наутро не болела голова, взглянул на карту — определить приблизительное место дислокации угнанного вертолета. После чего набрал номер командира части ПВО, ответственного за этот район.
— Рядовой Гузеев, — отрыгнулся свежевыпитым спиртом полковник, — поздравляю, тебя переводят на Новую землю, на ядерном полигоне будешь белых медведей лыжной палкой гонять! Что?! Говоришь, что ты — майор?! Гузеев, завтра же ты об этом забудешь! Иди в каптерку к своему ефрейтору, получи новые погоны рядового, а старые уже можешь отдирать. Уголовники уже поугоняли всю авиатехнику, летают по тайге, как на сафари! Что, про сафари никогда не слышал? Ну-ну, у тебя еще все впереди: будешь за Полярным кругом из лыжной палки по гагарам стрелять — это и будет твое сафари! Даю шесть часов — или ты сажаешь на свой аэродром этот вертолет и до приезда министра обороны лично стоишь в оцеплении, или… — Звонивший бросил трубку.
Майор, хряпнув стакан самогонки и занюхав несвежей портьерой, вновь потянулся к телефону. Конечно же, перспективы дальнейшей карьеры, столь живописно нарисованные полковником, были безрадостными; конкретных инструкций командир части ПВО так и не услышал. Он несколько раз вдавил рычаг телефона, но привычного длинного гудка в трубке так и не послышалось — связь не работала.
Гнусно выматерившись, будущий рядовой плюнул на телефонный аппарат и вызвал к себе радиста…
Радист пытался связаться с Хабаровском два часа — это ему не удалось. Телефон молчал по-прежнему, и все это выводило майора из равновесия.
Он материл всех подряд — от министра обороны до последнего рядового переменного состава, очень некрасиво отзываясь об их мамах и бабушках, бегал по кабинету и всем входящим и выходящим щедрой рукой раздавал подзатыльники — видимо, справедливо полагая, что на Новой земле подчиненных уже не будет.
А связи все не было…
Что делать, майор так и не знал.
Сажать вертолет?
Так ведь его хрен посадишь — чтобы посадить, надо знать технические и боевые характеристики.
Сбивать?
Так ведь таких машин в России да и в мире всего только пару экземпляров — за такое и под трибунал не долго угодить.
И вообще…
Уже темнело, когда командир части ПВО, от волнения не попадая руками в рукава шинели, принялся собираться — делать было нечего, приходилось катить в Хабару за письменными инструкциями. Телефонный разговор, как известно, к рапорту не подошьешь…
В девять вечера темно-зеленый «уазик», трясясь и подпрыгивая на каждой кочке, покатил по обледеневшей колее…
Да, Уинстон Черчилль когда-то справедливо заметил: "В России нет дорог, в России есть направления". По крайней мере, что касается Дальнего Востока, — это уж точно.
Ту разбитую, донельзя разъезженную гусеничными тракторами и седельными тягачами таежную колею можно было назвать как угодно, только не дорогой, и, чтобы двигаться тут, надо было иметь по крайней мере танк Т-90 или БТР, но никак не хлипкий "уазик".
Водитель угрюмо и сосредоточенно смотрел на дорогу — жидкий конус света фар то и дело выхватывал из темноты фрагменты ночной тайги. Отвлекаться было нельзя: немного зазеваешься — и очутишься колесами вверх в придорожном кювете.
— У тебя закурить есть? — поинтересовался майор; от волнения он забыл сигареты в кабинете.
Водитель-ефрейтор протянул ему пачку "Примы".
— Ыгы… — по-военному кратко поблагодарил майор. — А прикурить?
Наверное, командиру не стоило этого говорить — протягивая зажигалку, водитель на какое-то время отвлекся, и «уазик», сильно тряхнув, мгновенно выбило из колеи в сугроб.
— Во, бля, приехали… — пробормотал ефрейтор, матеря в душе начальника.
— Погазуй, — подсознательно чувствуя свою вину, посоветовал майор, — давай, со второй скорости, внатяг попробуй…
Газовать и с первой, и со второй, и с третьей было совершенно бесполезно: машина застряла намертво. Майор и его подчиненный менялись местами — один газовал, а другой толкал, затем — другой газовал, а первый толкал — никакого эффекта.
Через полчаса они, запыхавшись, сели перекурить — при этом старались не смотреть друг на друга.
— Слышь, — поинтересовался майор у ефрейтора, который слыл очень образованным, потому как до призыва закончил курсы ДОСААФ, — а Новая Земля — это очень далеко от Февральска?..
Вертолет тяжело летел над притихшей ночной тайгой, освещая сверхмощным прожектором под брюхом узкий участок леса.
Чалый, сидя за штурвалом, то и дело косился на техническое описание, — оказывается, эта чудесная машина могла летать сама, почти без участия человека: умный борткомпьютер следил и за курсом, и за метеоусловиями, и за показаниями датчиков, предупреждая о грозе, перепадах давления, направлении и силе ветра.
— Во, бля, какая тачка, — не мог сдержать восхищения пилот, — ею даже последний дебил вроде тебя может управлять…
Малина, будучи на грани депрессии, кочумарил в уголке, подложив под голову меховой треух.
Услышав голос подельника, он встрепенулся:
— А теперь куда, Кеша? В Китай?
— Теперь к узкоглазым, — успокоил его Кеша. — Я по карте смотрел — за час долетим. Километров двести пятьдесят — триста. Вот вам, суки!
Неожиданно луч прожектора высветил заснеженную дорогу — зоркий взгляд пилота сразу же заметил темный силуэт легковой машины.
— Слышь, Малина, кажется — «мусора», — предположил Астафьев. — Смотри, «воронок», в натуре!..
— Где? — Москвич вяло взглянул по направлению, указанному Чалым.
— Да вон… Видишь? Вон, и форма на них точно — ментовская…
Заметив вертолет, пассажиры УАЗа почему-то сразу бросились в кабину, и это окончательно укрепило Чалого в мысли, что машина "мусорская".
— Окропим снежок красненьким, — предложил Чалый, привычно потянувшись к гашетке. — А ну-ка…
Покойную тишину ночной тайги пронзительно вспороли короткие пулеметные очереди — «уазик» был пропорот буквально насквозь, и от капота по дороге потянулись фонтанчики взметаемого пулями снега; прожектор безжалостно освещал две фигурки в длинных шинелях, метавшиеся у машины. Сперва упала одна, затем — другая, и через несколько минут на том месте, где только что стоял ментовский «воронок», взметнулся сноп пламени; наверняка перед дальней дорогой водитель заправил полный бак бензина.
Огромная рыже-полосатая кошка, услышав отдаленный грохот, вздрогнула и насторожилась. По опыту последних дней тигр знал: на том месте, где слышался подобный шум, всегда оставалось что-нибудь вкусное.
Подгоняемый голодом хищник, грациозно перепрыгивая через поваленные буреломом стволы деревьев, устремился к источнику шума.
Правда, спустя короткое время на том же месте взметнулся сноп огня, и это заставило хищника остановиться. Но вскоре легкое дуновение ветерка донесло до чуткого обоняния царя дальневосточной тайги аппетитный запах жареной человечины, и это решило все: тигр, ускоряя бег, без колебаний, продолжил путь.
Животный инстинкт, помноженный на голод, и на этот раз не обманул ожиданий хищника. Рядом с обуглившейся черной коробкой, отвратительно вонявшей горелой резиной и бензином, лежали, раскинув руки в снегу, две тщедушные человеческие фигурки.
Тигр, довольно урча, подошел к ближайшему телу и, обнюхав его, принялся за ужин…
Не стоит и говорить: отъезд майора Гузеева в Хабаровск был воспринят в воинской части противовоздушной обороны с огромной радостью. Этого злобного самодура люто ненавидели все — от последних салаг до матерых прапорщиков, не говоря уже об офицерах.
Среди прапорщиков бытовало стойкое убеждение, что даже последние поселковые шлюхи, изредка забредавшие из Февральска в эту голимую воинскую часть на огонек и полновесный стакан технического спирта, ни за что бы не отдались чудовищу-командиру.
В осиротевшей без отца-командира воинской части царило пьянство: времени немного, а спирта — достаточно, и до возвращения майора Гузеева предстояло выпить хотя бы половину. И разумеется, на третий день отсутствия командира никто даже и не вспомнил о его обещании пробыть в Хабаровске не более суток.
"Наверное, с начальством сговорились, загуляли… Везет же людям!.." — таково было общее мнение.
Глава восемнадцатая
До поселка оставалось не более часа пути, и Каратаев, чувствуя, что силы окончательно покидают его, решил сделать небольшой привал. По своему богатейшему таежному опыту он знал: лучше немного передохнуть, чтобы потом с новыми силами двинуться в дорогу, чем устало брести по заснеженной тайге.
Тайга, где, как известно, царит только один закон — закон сильнейшего, — никогда не прощает промахов, даже случайных. Тут, в этих непролазных, коварных дальневосточных чащобах, никогда нельзя терять бдительности и быстроты реакции.
Каратаев, сняв лыжи, принялся старательно вытаптывать унтами место импровизированного бивака — когда то было готово, охотник, положив сухие ветки валежника у мощного ствола пихты, прислонился к нему спиной, облегченно смежив веки.
Ему не нужен был будильник: «Альфа» приучила его остро чувствовать время. На отдых он дал себе всего только полчаса…
Амур уселся рядом, положив голову на ноги хозяина, — тот потрепал его по холке.
— Ничего, скоро будем… Устал ты, бедный, проголодался, вижу, вижу…
Неожиданно где-то вдалеке, за сопкой, послышался звук вертолетного двигателя, и это заставило бывшего спецназовца насторожиться.
Кто это там — военные?
Милиция, наконец-то понявшая, какая опасность нависла над Февральском?
Или же те татуированные ублюдки, недавно сбежавшие из лагеря?
Как ни устал Каратаев, но при этих звуках он вскочил на ноги и прислонился к стволу, чтобы не быть замеченным с воздуха.
Увы, он не ошибся: вскоре из-за острых верхушек пихт показался зловещий, хищный силуэт экспериментального вертолета. КА-0012-"Б" летел низко, почти цепляясь фюзеляжем за кроны деревьев. Небольшая скорость давала все основания считать, что или в вертолете оставалось мало горючего и его приходилось экономить, или же бандиты что-то или кого-то высматривают…
Не долго думая, Каратаев вскинул винчестер и, прицелившись в воображаемую точку в воздухе, перед самым носом страшной машины смерти сделал несколько выстрелов; эхо гулко раскатилось по лесу.
Да, что и говорить, заряд, способный пробить автомобильный двигатель почти навылет, оказался бессильным для этой новейшей авиационной разработки: от веретенообразного фюзеляжа сыпанули искры, и вертолет, как ни в чем не бывало, полетел дальше.
Наверное, те, кто находился в кабине, даже не заметили выстрелов, потому как вертолет неотвратимо продолжал бороздить тусклое небо, и охотник с ужасом сообразил, что он летит по направлению к Февральску…
Старшина Петренко, чьи свежемороженые останки были найдены в снегу под сараем, когда-то сказал очень неглупую фразу: мол, как хорошо, что я родился не бабой, а мужиком. Всех неприятностей — только бриться, да и то раз в неделю, а можно и бороду с усами отпустить. А вот бабам — куда сложней: косметику покупать, прическу делать, наряды разные, зубы чистить, ногти красить, а к тому же каждый месяц жуткие неудобства, мешающие главному жизненному удовольствию, хотя настоящему мужчине, если как следует разобраться, даже это не помеха…
То ли от пережитого ужаса, то ли после недавней бурной ночи с темпераментным Петренко (увы! — уже покойным) месячные неприятности Василисы начались много раньше обычного.
С одной стороны, оно, конечно, было и неплохо: Василиса, не любившая и не умевшая предохраняться, всегда со страхом отпетой грешницы ожидала страшного Судного дня, но, когда тот снова не наступал, радовалась как маленький ребенок. Иногда даже со всей своей детской непосредственностью она носилась по комнате, напевая на мотив популярного марша "Прощание славянки".
Но теперешние естественные физиологические неприятности, начавшиеся раньше обычного, своей обильностью повергли малолетку в настоящий ужас. Василиса не успевала менять марлевые тампоны и стирать белье. Острый, терпкий и горький запах женской крови, как ей казалось, заполнил собой весь дом. Марли для прокладок, висевшие на батарее, не успевали сохнуть — а марля в поселке, как известно, была жутким дефицитом.
И — что страшнее всего — едва ли не с каждым часом кровотечение усиливалось…
Делать было нечего: малолетка, погоревав о нелегкой женской доле, решила идти сдаваться в гарнизонную санчасть. Предстоящий разговор со склонным к педагогике строгим дядей-гинекологом о недопустимости и преступности ранней половой жизни нисколько не смущал многоопытную бесстыжую девицу: она искренне считала, что гулять начала слишком поздно. Потому как многие ее одноклассницы познали запретный сладкий плод еще задолго до появления вторичных половых признаков.
Тяжело вздохнув, Василиса в который уже, за последний час, раз переменила прокладки и, потеплей одевшись, вышла из дому.
Вконец озверевший от холода и голода тигр, потеряв естественное чувство опасности, уже не таился от людей. Хищник понял очевидное: людишки по своей сути — существа жалкие, слабые и беззащитные. К тому же сладковатый вкус человечины с каждым съеденным телом нравился людоеду все больше и больше.
Выйдя из тайги, тигр не спеша, в явном раздражении размахивая длинным хвостом, прошел центральной улицей поселка в поисках легкодоступной добычи — добыча скрывалась за стенами вагончиков и щитовых домиков и, казалось, обязательно должна была появиться.
Наверное, в тот погожий морозный день Бог хранил жителей Февральска — так уж получилось, что никто из них не выходил на улицу, и тигр оставался голоден и зол…
Вскоре вдалеке замаячила одинокая детская фигурка, и хищник, пригнувшись, понюхал воздух: слабое дуновение ветерка донесло до него запах крови, и от этого запаха царь тайги окончательно озверел.
Стараясь казаться незамеченным, тигр напружинился. Ветерок усиливался — запах крови становился все более явственным…
Василиса шла неторопливо — натекшая кровь стекала к коленям, пропитывая толстые колготки, и майорской дочери начинало казаться, что если она побежит, то кровь брызнет из нее фонтаном.
Погода была почти безветренной, мороз несильным — не более тридцати градусов; для этих краев температура почти весенняя.
До гарнизонного госпиталя оставалось не более километра, но чтобы скосить путь, девушка свернула в переулок, думая пройти дворами; это и решило ее судьбу…
Спустя несколько шагов она интуитивно обернулась — майорской дочери показалось, что за ней кто-то следит. Нет, вокруг было тихо, и лишь за сугробом промелькнуло что-то рыжее, наверное рабочий жилет дорожного рабочего.
"Мужик, что ли, какой увязался? — решила кокетливая малолетка и, забыв о месячных неприятностях, на всякий случай замедлила шаг. — Ну, хоть узнаю, кто он, познакомлюсь… Мало ли что?.."
Но это был не мужик; огромная рыже-полосатая кошка, прыгнув на спину очередной жертве, мгновенно подмяла ее под себя: Василиса не сопротивлялась — острая боль в сломанном позвоночнике лишила ее чувств…
От запаха свежей крови шерсть на холке хищника встала дыбом — спустя несколько секунд он, разорвав острыми когтями шубу, нетерпеливо принялся за трапезу. На этот раз тигр пожирал тело не с головы, как обычно, а с низа живота. Лобковая кость глухо хрустнула под жуткими клыками, толстые колготки, пропитанные кровью, намотались на зубы, и это заставило тигра недовольно зарычать…
А вертолет продолжал свой путь — беглецы двигались в сторону спасительного Китая.
— А мы точно в Китай? — на всякий случай осведомился москвич, все еще не веря в долгожданное спасение.
— Нет, на Москву летим, — совершенно спокойно ответил Чалый. — Бомбить, в натуре…
Внизу по-прежнему проплывало безбрежное море тайги, навевая москвичу старый шлягер семидесятых годов: "Под крылом самолета о чем-то поет…"
— Ты что? — За последние дни Малина был запуган настолько, что принял бы на веру утверждение не только о Москве, но и о Лондоне или Париже.
— А ГУИН раздербать — что, совсем забыл? — едва усмехнулся Иннокентий. — Да, сразу видно, натуральная сука. Про пацанов, которые здоровье на зонах гробят, не думаешь, только о своей шкуре печешься.
— Так ведь… Того, керосину мало, — на всякий случай напомнил Малинин.
— Э, да нам любой нальет, — хмыкнул Астафьев. — Ствол наставим — обделаются. Я тут смотрел, по дороге на Москву — Тюмень. Нефтяная столица мира. Там этого керосина как воды в Амуре…
Малина замолк, понимая, что спорить с Чалым — себе дороже.
Свистели лопасти, гудел двигатель; вертолет двигался со скоростью не более ста километров в час.
— Слышь, Малина, косяк есть?
Москвич, понимая все многообразие этого слова, тут же спохватился:
— Да ты чего, я ведь нормальный пацан, никаких косяков за мной нету…
— Да нет, идиот, я про анашу говорю, — цыкнул на него Иннокентий.
Увы, аппетиты Чалого были несоизмеримыми даже с аппетитами вертолетчиков: отборная трава, хранившаяся в кисете, кончилась еще ночью.
— Да там уже ничего нет… — Теперь и самому Малинину хотелось расслабиться, пыхнуть косячок, чтобы забыть о страхе и унижении, а пуще того — о несправедливом приговоре воровской сходки, лишившей его законной доли. — Все, кончилось…
— Да еще оставалось, — упрямо твердил пилот, — сам видел…
— Да что ты! Я тебе перед рассветом последний забил! — взмолился Малина, понимая, что любящий анашу Чалый может его сильно наказать.
— Та-а-а-к… — Синие от наколок пальцы нервно впились в штурвал. — Закрысил? Во, бля, с кем связался: мало того, что сука, так еще и «крыса». — Под последними блатные обычно именуют тех, кто ворует у своих.
— Не пойман — не вор, — извернулся Малина.
— Это ты-то вор? — Казалось, Чалый был возмущен до самой глубины блатной души. — Да ты сявка, паучина позорная, козел голимый, конь ты педальный… Таких «маромоек», как ты, петухи на хате парашу жрать заставляют! Не будь это моя хата… — Огромные руки Чалого злобно ударили по штурвалу, и вертолет сильно качнуло. — Если бы это не был мой дом, я бы заставил тебя сожрать собственные яйца! Быча-а-а-а-ра… Священное слово «вор» ты, помойная гнида, должен произносить стоя… на коленях, — веско добавил он, немного подумав.
Малина замолчал, понимая: скажи он хоть слово — и тут же полетит вниз без парашюта. А летать без парашюта он не умел…
Некоторое время Чалый молчал, осознавая неприятную новость — отсутствие анаши. Малина внутренне обрадовался тому, что этот жуткий человек оставил его в покое, но ненадолго; вскоре Астафьев спросил:
— Ну, а хоть водяра-то осталась?
Сердце москвича екнуло — так сильно, что, казалось, на какое-то мгновение заглушило даже свист вертолетных лопастей.
— Чалый, — взмолился он, — так ведь водку-то ты сам всю выпил…
— Всю не мог. Точно бутыль должна была остаться. Там, в ящике для патронов, посмотри.
Послышался характерный звук открываемого ящика, затем — еще более характерный — ворошимых кассет с патронами, и после этого — недоуменное:
— Да пусто, Кеша…
— Что — и этого нет? — набычился Астафьев.
— Да откуда же… — Москвич, елозя тощей задницей по полу, передвигался подальше от пилотского кресла. — Да нет больше… честное слово…
— Это кто там про честность вякал, сучья рожа, ты, что ли? Да ты у кума Киселева каждый вечер чаи гонял, пока мы с пацанами своими почками да легкими цементные полы в БУРах да в ПКТ крыли… — Не находя слов от возмущения, Чалый поднялся из-за штурвала и двинулся грозно прямо на побледневшего Малину.
Несчастный втянул голову в плечи, поняв, что ему сейчас будет очень больно.
— Я… Я…
— Ы-ы-ых! — После удара говнодавом Малинин, отлетев, стукнулся головой об обшивку.
— Чалый, Чалый, не надо, не надо, — фальцетом залепетала жертва, — не бей!..
— А я тебя бить не буду, — любезно сообщил Астафьев, — ты мне «кишки» свои должен? Должен, потому как в стиры проигрался. Фуфло мне должен? Проиграл? Должен… — Подумав, он добавил, но уже мечтательнее: — Вот уж никогда не думал, что буду целяк фуфлыжный в военном вертолете ломать!..
И, расстегивая штаны, Астафьев с плотоядной улыбкой двинулся прямо на жертву…
Корзубый, выйдя из кочегарки по малой нужде, удивленно задрал голову и прислушался: откуда-то из-за сопки доносилось равномерное тарахтение.
Вскоре показался и вертолет — темный обтекаемый контур фюзеляжа мрачно и важно выплыл из-за голубоватой кромки леса.
— Ну, бля, пацаны дают, — не без восторга прошептал откинувшийся "на химию" блатной, — в натуре «борт»… А я думал — косоглазый "форель гонит"…
Да, он не ошибся — это действительно был вертолет КА-0012-"Б", угнанный несколько дней назад.
— И для чего только они китаезе понадобились? — Орошая угол кочегарки мутно-желтой струей, размышлял Корзубый вслух. — И чем ему тут плохо? На хрена тот Китай?..
Неожиданно низколетящий вертолет, зацепившись за самую верхушку ели, качнулся — Корзубый от удивления поднял руки вверх, словно защищаясь, и мутно-желтая жидкость натекла ему в штанину.
— Во, блин, обкурились, че ли? — завистливо предположил хозяин кочегарки.
Его бы слова да Чалому в уши…
Астафьев, донельзя разозленный беспредельной наглостью кандидата в акробаты, неминуемо бы лишил того невинности, если бы перед предполагаемой дефлорацией летел чуть выше. Вертолет, зацепившийся за верхушку дерева, сильно качнуло, и Иннокентий, потеряв равновесие, с размаху рухнул на Малинина — тот истошно завизжал.
— Твое счастье, петух непроткнутый, — процедил Чалый, морщась от боли, и на четвереньках пополз к пилотскому креслу.
К счастью или к несчастью, он успел схватиться за штурвал в самый последний момент и спасти себя и «паучину» от неминуемой гибели.
Вертолет, качнувшись еще раз, выровнялся, и Чалый, наконец-то уверовав в то, что любимый допинг, наркотики и водка, кончился, решил совершить вынужденную посадку, чтобы пополнить запасы.
Вертолетные лопасти еще по инерции вращались, вздымая вокруг боевой машины настоящую метель. А к кабине уже бежал какой-то долговязый тип, его фигура показалась Чалому до боли знакомой.
— Корзубый, бля. — Астафьев злобно плюнул на приборную доску и потянулся к автомату покойного караульного; Иннокентий, вспомнив о правилке, которую он, по понятным причинам, прогулял, решил, что это посланец Астры. Хотя авторитет родного ИТУ наверняка был мертв, его воли никто не отменял.
Но сейчас Чалый явно ошибался…
Корзубый был полон искреннего восторга и прямо-таки лучился радостью: достаточно было одного беглого взгляда на хозяина кочегарки, чтобы понять — о приговоре сходняка ему еще ничего не известно.
— Ну, бля, я смотрю на «вертушку» и прикидываю: никак «мусора» в патруль вылетели, — неуклюже пошутил Корзубый.
Чалый внутренне напрягся и, искоса, нехорошо взглянув на недавно откинувшегося товарища, со скрытым подозрением кивнул:
— Здравствуй, братан, мир твоему дому.
— А про вас тут такое базарят!.. — Корзубый взахлеб принялся пересказывать содержимое последней передачи хабаровского телевидения "Их разыскивает милиция". — Надолго в наши края? А то давай ко мне, в кочегарку, у меня полбутылки водяры осталось, а заодно фуфлом угощу, мне не в падлу.
Видимо, одичавший за время таежных странствий, Чалый понял мысль собеседника немного не так, как имел в виду хозяин кочегарки:
— Чьим же это?
Хозяин кочегарки нахмурился:
— Ты че же это такое думаешь, а? Да у меня тут акробат свеженький появился, чурка правда, но нежный-нежный, ласковый-ласковый. Я ж к тебе, Чалый, как к брату родному, с дорогой душой, я бы с тобой даже оленьим жиром поделился, он у меня вместо вазелина.
Возникшее было напряжение требовало разрядки, и потому Астафьев, небрежно кивнув в сторону кабины, в свою очередь предложил:
— Да у меня у самого классный петушила есть. Непроткнутый, но ничего, мы с ним быстро справимся. Столичный, из самой Москвы. Из Театра моды… То ли Елдашкина, то ли Вафлюшкина… С заячьими ушами, — на всякий случай соврал он, по-дружески желая, чтобы Корзубый как следует возбудился.
Спустя несколько минут старые друзья сидели в кочегарке на замасленном топчане, а петухи, и проткнутый и непроткнутый, жались в углу.
Менты и гарнизонные патрули мало интересовали Чалого: кочегарка находилась на самом краю поселка, на небольшом возвышении, и все подходы отлично просматривались. Конечно же, можно было поставить на крышу Малинина в качестве дозорного, но теперь относительно этого урода у Иннокентия созрели совершенно другие планы…
Задумчиво пожевав во рту папиросный мундштук, разомлевший от выпивки и тепла Чалый взглянул на собеседника и спросил:
— А кто он?
Корзубый махнул рукой с явным пренебрежением.
— Да «утюг». — Так на блатном жаргоне издавна именуют фарцовщиков. — Мелочь, дешевка, так себе, ничего особенного. Трындел что-то о любви к своей мелкой узкоглазой родине — мол, надоело ему здесь жить, холодно, рис не растет, бабы наши для него слишком большие… Да и не нужны ему те бабы.
Чалый оживился:
— Как так?
— Да петух он голимый, в натуре! В «духовку» нога влезет… Вообще, странно: такой мелкий, а фуфло, как нора барсучья.
Перспектива лететь в Китай в компании с двумя акробатами, один из которых к тому же импортный, повергла Чалого в состояние эйфории.
— Ну, бля, удружил, дружбан Корзубый, — коротко хохотнул Чалый. — Я как посмотрю — везде одни акробаты, скоро нормальных пацанов совсем не останется, все заголубеют.
— Что ж, жисть такая стала, — философски заметил старший истопник. — Закона не знают…
— Вот-вот, — кивнул Иннокентий, пытаясь сообразить, почему это вдруг так резко начался этот базар: на всякий случай он, идя в кочегарку, захватил с собой острую заточку, спрятав ее в голенище сапога.
А Корзубый продолжал задумчиво и проникновенно:
— "Мусорам" направо-налево продаются. Понятия наши херят. Приходится их петушить волей-неволей. Я-то думал, им это в западло, а им — в кайф, в натуре. Так и не знаешь, что для такого паучины лучше: протыкать или не протыкать? — горестно посетовал знаток блатной этики.
— Ну и где твой китаеза?! — с большей поспешностью, чем следовало, воскликнул Иннокентий; слова о всеобщей ссученности неприятно резанули ему слух.
— Да щас, только свистну, мигом примчится. — Поднявшись, он кивнул своей помощнице. — Эй, чуркоза, гони в поселок за этим…
После чего, присвистнув, сделал обеими руками характерный жест.
Ли Хуа, то и дело оборачиваясь, шагал по направлению к вертолету. При этом в каждой клеточке его тщедушного тельца звучали торжественные аккорды Первого фортепьянного концерта Петра Ильича Чайковского.
"Ну, теперь точно представят к очередному званию, объявят благодарность от имени компартии, направят в какую-нибудь более цивилизованную страну, Уганду или Танзанию…" — звучало в такт мощным фортепьянным аккордам.
Чалый и Малина шли сзади, при этом взгляд Астафьева похотливо скользнул по поджарому заду китайца.
— Слышь, ты, узкоглазый, Ли, или как там тебя еще? — послышалось шпиону сзади, и он, послушно остановившись, проблеял:
— Моя — Ли Хуа, твоя — Чалая, твоя друга — Малина, да?
Кеша хмыкнул и, очень нехорошо улыбнувшись, предложил:
— А хочешь, и ты будешь моя подруга? — Не дождавшись ответа, он сразу же завершил любовную прелюдию и перешел к более конкретному предложению: — Давай, забирайся в кабину, понежу своим садильником.
Казалось, невозмутимого китайца трудно было удивить каким-то там садильником — за свою бурную шпионскую жизнь он насмотрелся всякого.
— Хоросо, товарища, в Китаю прилетаем, все тебе там будет. — Для большей убедительности Ли Хуа принялся загибать пальцы, перечисляя: — Рыночная социализма будет, а значит, и риса будет, и водка будет, и тушеная дракона будет, и Ли Хуа будет…
То ли Чалый пребывал в слишком возбужденном состоянии, то ли близость новой родины способствовала эрекции, то ли порыв ветра сильно исказил последние слова китайского «утюга», но он сразу же впал в амбицию.
— Кого-кого ты послал? — окрысился блатной. — Кому не будет? Да и вобще, на хрен ты мне сдался: акробат у меня уже есть, «адика» дружбан Корзубый отлил… Давай, я тебя по-быструхе трахну, тем более целяк ломать не надо, и вали в свой поселок…
— Вот-вот, — неожиданно встрял Малина, понявший, что если Чалый удовлетворит свое плотское желание, то он, Сергей Арнольдович, сохранит свою девственность еще минимум на сутки, — у вас в Китае хреновая демографическая ситуация, на кой там столько китайцев? И так уже там миллиард с чем-то. А то еще забрюхатишь от Чалого, тройню родишь, риса на вас не напасешься, да и вообще: сколько вы нам, русским-то, задолжали? — Неожиданно непроткнутого акробата охватил порыв благородного патриотизма.
Китаец оглянулся: сзади с беспечным, хотя и откровенно вызывающим, видом шагали двое отпетых подонков, организм которых наверняка был подорван наркотиками, денатуратом и долгими годами «командировок». Впереди заманчиво блестели пуленепробиваемые стекла совсекретного военного вертолета, угон которого мог стать венцом шпионской карьеры китайского агента.
Теперь Ли Хуа словно бы преобразился: куда делся тот щуплый, тщедушный «утюг», служащий посмешищем всего Февральска!
Теперь он больше, чем когда-либо, напоминал героя гонконговских фильмов-каратэ — плавные, вкрадчивые движения, напряженный взгляд хитрых маленьких глазок…
Резкий крик «кий-а-а», удар ноги — и предполагаемый партнер по несостоявшемуся гомосексуальному акту отлетел в сугроб.
Этот удар наверняка бы убил насмерть быка, но только не русского уголовника, организм которого, наоборот, был закален наркотиками, денатуратом и долгими годами «командировок». Поднявшись из сугроба, Иннокентий удивленно посмотрел на тщедушную фигурку пидора и протянул пораженно:
— Ну, бля, ты так?!
Дальнейшие события развивались бурно. Ли Хуа удачно провел удар «мая-гири»; наверняка, будь тут Брюс Ли, он бы побледнел от зависти. Русский уголовник, только удивленно хукнув, со всего размаха саданул в маленькую головку пудовым татуированным кулаком. Этого оказалось более чем достаточно: перед глазами Ли Хуа заплясали огромные радужные круги, и секретный китайский агент впервые пожалел о том, что, готовясь, в разведшколе он изучал приемы каратэ, а не русской уличной драки…
— Бей его, Чалый, дай ему, дай! — завизжал из-за спины подельника Малинин.
— Ну, ты, «марамойка» китайская! — Чалый, выплюнув изо рта окровавленный осколок зуба, вытащил из-за голенища острую заточку. В следующую секунду она, блеснув в слабом лунном свете, вонзилась в узкий глаз поверженной жертвы, прошив насквозь черепную коробку.
— Все, паучина, полетели, — не глядя на Малину, коротко бросил Чалый. — До Китая двести километров, минут за сорок успеем…
Глава девятнадцатая
Маленькие таежные звезды тускло отсвечивали от пуленепробиваемого стекла вертолетной кабины. На окраину Февральска, на весь Хабаровский край опустилась тяжелая чернильная мгла — месяц светил тускло, занималась пурга, видимость была почти нулевой; лучших условий для бегства на суперсовременном всепогодном вертолете и представить нельзя.
— Ну, давай, давай, Малина. — Нетерпеливо подтолкнув москвича вперед, Чалый залез в вертолет за ним. — Времени мало, улетаем, хватит, нашалились уже. Давай, будем красиво жить!..
Тот ощерился в счастливой улыбке:
— Ыгы…
Хлопнул люк. Тишину вечера вспороли резкий звук двигателя и пронзительный свист винтов: лопасти, бешено закружившись, вскоре слились в один огромный круг, и вертолет стал медленно подниматься.
— Ну, теперь точно в Китай? — Малина знал наверняка, что до границы по Амуру Чалый не будет его трогать.
— Да заткнись ты, никак не могу прожектор включить, — процедил Иннокентий сквозь зубы.
— Нет, точно? Или на Москву? — Вусмерть запуганный москвич даже не знал, верить ему насчет новой счастливой жизни в Китае или нет.
— Да пошел ты на… Где же эта проклятая кнопка?! — со страшным лицом заорал Чалый; вертолет тем временем медленно поднимался.
То ли выпитая в кочегарке водка Корзубого подействовала на Астафьева расслабляюще и он никак не мог найти на пульте кнопку управления прожектором, то ли он все еще мысленно дрался с китайским акробатом, но случилось нечто совершенно непредвиденное: вертолет зацепился за высокую сосну, одиноко стоявшую рядом с кочегаркой. Послышался жуткий, раздирающий душу скрежет, и тяжелая бронированная стрекоза, пролетев по инерции несколько сот метров, накренилась и с грохотом упала наземь.
Земля содрогнулась — казалось, что с неба упал огромный метеорит, наподобие знаменитого Тунгусского.
Винтокрылая машина, потеряв вертикальную тягу, неминуемо бы разбилась, если бы густые ветви многочисленных пихт внизу сопки не смягчили удар, но даже и этот удар был жутким: кабина содрогнулась, вовнутрь мелким дождем посыпались осколки стекла, забарабанив по приборной доске, и спустя несколько секунд в салоне резко запахло чем-то паленым…
К счастью или к несчастью, и пилот, я пассажир особо не пострадали: Малина отделался разбитым носом, а Чалый всего лишь сильно ударился о приборную доску.
Как ни страшно было Чалому, но он понял: сейчас надо как можно быстрей выбираться из салона. Не ровен час — и в баках взорвутся остатки керосина.
Понял это и Малинин — кряхтя и охая, он полез к люку…
Астафьев, вытирая с разбитого лица кровь, стремглав бежал от «мертвого» вертолета, следом за ним с болтавшейся, точно плеть, рукой трусил Малина; оказалось, при падении он еще сильно ушиб локоть. В сотне метров от вертолета оба они, как по команде, в полнейшем изнеможении упали и привалились спинами к огромному пню. Беглецы судорожно, прерывисто дышали, глядя на горящую машину, едва не ставшую им братской могилой.
Взрыв страшной силы потряс тайгу — это взорвались топливные баки. Яркое пламя осветило вырубку — на мгновение стало светло, как днем. В трещавшем костре силуэт вертолета словно таял.
Да, это было полное и безоговорочное крушение всех надежд: план, так тонко разработанный Чалым и с таким мастерством исполненный, был провален…
— Су-у-ука… — с ненавистью пробормотал Иннокентий, как завороженный глядя на полыхавшую ярким огнем боевую машину.
Почему-то Малина решил, что эта сентенция относится вовсе не к нему, а к китайцу.
— Ну, точно, гадина…
— Да ты, ты сука… Козлина голимая! — От ненависти к москвичу Иннокентий буквально брызжал слюной. — Все из-за тебя, гаденыш московский… телигент хренов! Паучара… — И не в силах себя сдержать, он, тяжело дыша, саданул Малинину кулаком в грудь, — несчастный, перелетев через пень, свалился в сугроб.
— Я… Я… Ты ведь за штурвалом был!.. Я-то тут при чем?! — лепетал Малина, утирая кровь с разбитого подбородка.
— Да ты… Ты… — В плясавших языках пламени белки глаз Астафьева страшно блестели. — Зачем под руку говорил? Косяк, бля!.. Ну, все, козел… Долго я тебя терпел, хватит!
И, выхватив опасное лезвие, мгновенно раскрыл его и пошел на москвича.
Малинин приготовился к самому худшему; он понял, что теперь Чалый наверняка не пощадит его…
До Февральска Михаилу Каратаеву оставалось не более получаса ходьбы. Правда, охотник немного выбивался из графика — он планировал быть в поселке до наступления темноты, но, как говорят, человек предполагает, а Бог располагает, и, по всей вероятности, расположение небесных сил в тот предновогодний день было явно не в его пользу.
Охотник посмотрел на часы — светящиеся зеленоватым фосфором стрелки «командирских» показывали половину девятого вечера.
"Наверное, Таня теперь в гарнизонном клубе, — подумал жених и тут же почему-то неожиданно поймал себя на мысли, что немного ревнует ее к тем, кто предпочел трехдневному переходу по тайге уют домашнего очага, — а там сейчас хорошо, тепло, музыка играет… Несмотря ни на что, настроение у всех праздничное, беспечное… Неужели в Февральске никто ничего не предпринимает?.." Он вспомнил жуткую картину" расстрелянной артели золотодобытчиков, и от этого воспоминания ему стало немного не по себе.
Какое-то время он машинально работал лыжными палками, стараясь отогнать от себя неприятное воспоминание: мало ли крови довелось видеть ему на своем веку, мало ли слез, мало ли трупов…
Но ведь нельзя вспоминать об этом вечно!
Каратаев попытался подумать о чем-нибудь приятном: единственной приятной мыслью для него теперь была Таня Дробязко и все, что с ней связано…
Вдруг где-то совсем рядом, как показалось охотнику, прогремел взрыв страшной силы; это было столь неожиданно, столь оглушительно, что заставило его вздрогнуть. По лесу прокатилось раскатистое эхо, и Каратаев замер…
"Что это еще?.. — с тревогой подумал он. — Неужели вновь бандиты?.."
Прошло несколько минут — и еще один взрыв, страшнее первого, потряс девственную тайгу: с еловых лап полетел слежавшийся снег, где-то рядом, над самым ухом со свистом пролетела одинокая перепуганная птица и еще через мгновение алое зарево осветило лес — в непроницаемой темноте оно казалось настолько ярким, что заставило охотника зажмуриться…
При всей своей злости, при всем своем отчаянии Чалый отлично понимал: Малину нельзя резать ни при каких обстоятельствах…
Да, эти обстоятельства менялись с калейдоскопической быстротой: удачный побег, в котором мелкий, гаденький фраер-москвичонок, по замыслу опытного блатюка, играл роль «коровы», прошел удачно, а затем удача не просто следовала за беглецами, а волочилась с покорностью самого последнего лагерного петуха.
Захотелось баб и водки? — Зашли в продмаг.
Решил постричься, а заодно продегустировать одеколона и парикмахерш? — Посетил поселковую цирюльню.
И даже самое рискованное, казавшееся неосуществимым и фантастическим, с легкостью сбылось: наверняка во всей военной истории современного мира еще не бывало случая, чтобы сбежавшие с зоны пацаны захватили совершенно секретную технику.
И даже в совсекретном вертолете нашлись наркотики и спиртное!
Но эта нелепая катастрофа перечеркнула все: и сладкие грезы о безбедной жизни на каких-нибудь экзотических островах, и мечты о цветных наложницах и наложниках, о лимузинах и белых телефонах…
К тому же в кабине осталось все нажитое честным грабежом: автомат, патроны и — что самое жуткое — вещмешок, доверху набитый золотым песком.
Как это ни было печально, но ситуация возвращалась на круги своя: Чалый — главное действующее лицо побега, а Малина по-прежнему — "корова"…
Надо было смириться и идти дальше — другого выбора у Астафьева не было.
"Конечно же, этого фраерка можно и нужно опустить, — мелькнула в голове ссученного блатного весьма соблазнительная мысль, но другая мысль, куда более трезвая, остановила его от этого желания: — Конечно, можно, но ведь тогда Малина становится акробатом, а мне, пацану, акробата жрать будет западло…"
Уняв дрожь в руках, Астафьев щелкнул бритвой — лезвие мгновенно спряталось в рукоятке.
— Ладно, прощаю я тебя…
Казалось, Малина не верит в искренность великодушия подельника.
— Что?
— Прощаю, грю… — Иннокентий отвел взгляд, чтобы не смотреть на пляшущую нижнюю челюсть коровы. — Прощаю… Я сам виноват…
— Кеша!.. Родной!.. — Казалось, еще чуть-чуть — и благодарный Малинин рухнет перед ним на колени.
Подавив в себе огромное желание ткнуть эту падаль ногой, Кеша промолвил:
— Так, теперь сматываться надо… Шухера вон какого наделали!.. Не ровен час, ментов сюда нагонят, оцепление и — прочесывать начнут. Давай!..
Малина, бросая на Чалого полные страха взгляды, осторожно поднялся — голова москвича была вжата в плечи, будто бы он в любую минуту ожидал очередного удара.
— Пошли, пошли, — торопил его Астафьев, — быстрей, уходим…
И они пошли, все время ускоряя шаг. Темная тайга окружала их, дыша жутким холодом.
Чалый подумал, что теперь, после взрыва вертолета, наверняка не прошедшего незамеченным в поселке, военные и менты выведут усиленные караулы с собаками, а те возьмут их следы.
Теперь Иннокентий не шел, а, подгоняемый животным страхом, уже бежал — обледеневшие ветви хлестали лицо, ноги спотыкались о бурелом и корни деревьев: счет шел на секунды, за это время надо было как можно дальше уйти от горящего вертолета.
Сзади, тяжело дыша, трусил Малина — для него, незнающего тайгу городского жителя, потерять из виду поводыря было равносильно смерти.
Удивительное дело, но теперь в этот страшный, критический момент Астафьев был для Малинина и палачом и спасителем одновременно; москвич боялся его, как никого не боялся в своей жизни, но еще больше он боялся потерять Чалого из виду.
Позади что-то еще раз громыхнуло — наверное, в КА-0012-"Б" взорвались остатки боеприпасов, и Чалый инстинктивно зажмурился.
Вдруг послышался какой-то шорох — когда Иннокентий обернулся, то увидел: Малина, сидя на корточках, в багровом, на полнеба зареве тихонько скулил…
Не надо было быть кадровым офицером спецназа, чтобы понять причину ночного взрыва: сперва несильного, а затем — совершенно оглушительного.
— Ага, долетались: угробили вертолет. — Несмотря на явный драматизм ситуации, Каратаев заметно повеселел: безоружны, теперь ничто не могло угрожать поселку и его жителям.
Этот взрыв словно бы придал охотнику сил — свистнув Амуру, он устремился к месту катастрофы. В глубине души таежный зимовщик очень надеялся, что бандиты погибли при взрыве, оставалось только убедиться лично.
Михаил был там уже через полчаса, и взору его предстало жутковатое зрелище: поломанные обгоревшие деревья, вертолет, а точнее, то, что от него осталось: обуглившийся корпус, местами еще раскаленный докрасна, безжизненно повисшие лопасти, провалившаяся кабина, мертвые глазницы иллюминаторов с выбитыми стеклами…
От погибшей машины валил нестерпимый жар, и охотник отступил на несколько шагов назад. Да если бы кто-нибудь и остался в кабине — его уже ничто и никто не смог бы спасти.
Неожиданно Амур, тихонько заскулив, вильнул хвостом и поднял на хозяина голову: это заставило того насторожиться.
— Что, Амурушка?
От погибшего вертолета в глубь тайги вели человеческие следы.
Беглецов было двое — один, как сразу же определил таежный следопыт, был побольше, покрупней, он бежал впереди; другой — поменьше, трусил за ним.
"За ними", — не раздумывая, решил Михаил и, бросив прощальный взгляд на некогда грозную машину смерти и разрушения, двинулся по следам…
Ему не надо было объяснять, чьи это следы: ориентируясь по снегу, он мог детально рассказать не только о росте и весе беглецов, но даже об их теперешнем состоянии.
А уж тем более — просчитать в голове примерный план их дальнейших действий.
Следы петляли между деревьями, уходили в глубину леса — теперь Каратаев знал наверняка: час, два, может быть, три, и он обязательно настигнет мерзавцев.
Амур также вошел в азарт — внезапно он прижал уши и зарычал…
— Ты слышал? — дернулся Малина.
— Чего там?
— Собака.
Даже несмотря на почти полную темноту, москвич заметил, как побледнело лицо Чалого.
— Где?
— Да вот… Послушай…
И точно — где-то совсем рядом послышался собачий рык — негромкий, но отчетливый.
— Точно.
— Может быть, волки? — не оборачиваясь, предположил Малинин.
— Да нет, это не волки…
Только инстинкт самосохранения удержал Малину от того, чтобы не закричать, не забиться в истерике.
— Менты?
— Менты, наверное, — наконец-то взял себя в руки Астафьев.
— Прочесывают? — Рот москвича от испуга полураскрылся.
— Прочесывают, — успокоил его подельник. — Так, или ты сейчас бежишь изо всех сил, или я тебя тут бросаю… Понял? — Страшный шепот блатного пробирал Малинина так, что он, так и не закрывая рта, безропотно проследовал за Чалым.
Астафьев, местный житель, прекрасно знал, как правильно уходить от подобного преследования: остановившись, он вывернул карманы и, найдя там несколько раскрошенных «беломорин», аккуратно, чтобы не развеять по ветру драгоценный табак, насыпал крошку в глубокие следы — и в свои, и в Малинины.
Конечно же, можно было поступить куда проще: оставить Малину тут — пока менты занимались бы им, Чалый успел бы выкроить несколько драгоценных, спасительных минут, попытаться уйти еще дальше.
Можно было поступить и того проще: разойтись в разные стороны.
Но оставаться в дикой заснеженной тайге одному, без еды…
Нет, «коровой», в этих страшных условиях воистину священной, нельзя было жертвовать ни при каких условиях.
— Малина, давай, давай; — горячо шептал Чалый, — быстро, быстро…
Москвич и без понуканий бежал из последних сил — недавний рык ментовской собаки будто бы удесятерил его силы.
Меховой треух сбился на лоб, по которому катился грязный пот, зоновский клифт был расстегнут — беглец не обращал на это никакого внимания.
— Давай, давай…
Неожиданно в темноте послышалось близкое журчание воды, и у Чалого мелькнула спасительная мысль, как укрыться от преследования, тем более что теперь задача немного упростилась: урываться надо было не от собак с их чутким обонянием, а от ментов, обоняние которых большой остротой не отличалось.
— Так, давай сюда, — свистящим полушепотом приказал он Малине.
— А?..
— Да давай же… — Держа себя в руках из последних сил, скривился Чалый.
Он подтолкнул обезумевшего от страха москвича вперед — под небольшим обрывом протекал никогда не замерзавший ручей.
— Прыгай!..
— Да я… утону… — пробормотал Малина, — я плавать не умею…
— Идиот, там воробью по хер, не утонешь! — осклабился Астафьев.
— Зачем?
— Плавать буду учить… Потом на море поедешь… А ну, прыгай, твою мать, или я тебя сейчас своими руками утоплю!..
Угроза подействовала — москвич, обдав заледеневший берег мириадами брызг, свалился в воду. Следом за ним туда сошел и Чалый…
Они шли против течения минут двадцать, дрожа и матерясь от холода, но теперь, по хитроумному замыслу опытного блатюка, следы никак не могли вывести на них поганых ментов…
Наверное, Чалый зря израсходовал на собаку остатки табака: не таким псом был Амур, чтобы потерять след, и вскоре он вывел своего хозяина к обрыву.
Каратаев, выйдя к незамерзающему ручью, остановился: следы упирались в берег.
— Да, дела, — тихо, едва слышно проговорил он.
Было очевидно, что уголовники спустились в воду. Может быть, один пошел дальше — по течению, а другой против, предварительно сговорившись между собой встретиться в каком-то условном месте?
Подумав, Михаил сразу же отбросил эту мысль: судя по ментовской ориентировке, слышимой им по радио в УАЗе, только один из беглецов был местным; другой же, Малинин Эс. А., наверняка не отличил бы пихту от дуба.
К тому же Каратаев всерьез и небезосновательно подозревал, что этот самый Малинин, он же Малина, состоит при втором, Астафьевым, он же Чалый, «коровой»; о неравноправии мест, занимаемых беглецами в уголовной иерархии, свидетельствовали татуировки.
Все это говорило в пользу того, что беглецы не разделялись, а пошли вместе.
Михаил задумался: решение следовало принять мгновенно.
Спуститься вниз и попытаться идти по колено в ледяной воде? Но в какую сторону?
Шансов выйти на след пятьдесят на пятьдесят. К тому же точно определить место, где бандиты вышли на берег теперь, в почти кромешную темень, не представлялось возможным даже такому опытному охотнику, как он. Да и ручьи тут холодные: и летом в нем трудно пробыть больше пяти минут, а теперь — минут тридцать…
Подумав, Каратаев принял единственно верное, как ему показалось, решение: вернуться в поселок.
"Ничего, все равно они не могут уйти далеко, — решил он, — мороз усиливается, ноги пропотеют, одежда намокнет… А это значит, что придется искать какое-нибудь пристанище: отогреться, обсушиться…"
В этом районе находилось два заброшенных зимовья, и охотник решил завтра же утром, перейдя ручей в другом месте, попробовать застать бандитов врасплох…
К заброшенному зимовью, которое Астафьев несколько часов назад приметил еще с вертолета, они вышли только под утро: у обоих беглецов от холода зуб на зуб не попадал. Еще бы! — брести в предновогодний мороз по колено в воде — удовольствие ниже среднего.
Зимовье оказалось запертым — пришлось прилично повозиться, чтобы содрать огромный, заржавленный амбарный замок, висевший на двери: такие замки вешают не столько от лихих людей, сколько от хищников: медведю-шатуну ничего не стоит если и не развалить такой домик, то превратить его в берлогу.
Зато в зимовье беглецы были вознаграждены сторицей: тут, на их счастье, нашлись и спички, и керосин, и печка-буржуйка, сделанная, по старой дальневосточной традиции, из выброшенной бензиновой бочки, и перемена одежды, несколько телогреек, и даже немного еды: пара банок отдающей ружейной смазкой армейской тушенки, пачка чая и две случайно найденные сигареты (полторы из которых выкурил, естественно, Чалый) вернули страдальцев к жизни.
— Ну и что теперь? — немного осмелев, осведомился Малина.
— Че, че… Хрен тебе через плечо, — буркнул Чалый и отрыгнулся.
— Может быть, попробовать какой-нибудь другой вертолет угнать? — Предположение москвича прозвучало настолько дико и нелепо, что Чалый даже улыбнулся.
— Все, кончились вертолеты. Уходить надо. Теперь менты тайгу по полной программе шмонать будут. Тайгу прошмонают, что прапорщик Красноталь — твою шконку.
Даже упоминание о контролере Краснотале, наверняка уже покойном, не придало Малинину оптимизма.
— Ну, а куда?
— К "железке".
— Куда?.. — не понял Малина.
— Ну, к железной дороге. С Китаем у нас не получилось — ничего, попробуем хотя бы до Хабары добраться. У меня там корефан есть классный — думаю, что поможет и с ксивами, и с лавьем, и с цивильными «кишками». — Астафьев, сожрав всю тушенку, сварив из чая чифирь и милостливо поделившись с шестеркой «четвераками», то есть четвертой заваркой, решил пока не резать подельника на мясо, сделав это завтра или послезавтра.
— А… далеко до нее?
— Километров пять-шесть. — Чалый немного помолчал, а затем произнес трагически: — Во, бля, если бы не ты… Давно бы в Китае кочумарили… Ладно, Малина, ложись спать, завтра утром выходим.
Огонь в раскаленной докрасна буржуйке догорал, мокрая одежда, дыша теплой сыростью, сушилась рядом.
Малина спал, тихо посапывая, а Чалый нервно ворочался с боку на бок.
Мысли о навсегда упущенной возможности провести остаток жизни в неге и комфорте так, чтобы потом не было стыдно за бесцельно прожитые в «командировках» годы, не давали ему заснуть…
Глава двадцатая
Амурского тигра справедливо называют царем тайги. И не только за его природные стати, не только за грациозность, не только за своеобразную, дикую красоту, пугающую и отталкивающую одновременно.
Тигр, как правило, — животное очень умное.
И нечего даже сомневаться: тот тигр, который вот уже многие дни был ужасом Февральска, оказался не самым глупым зверем этого семейства кошачьих.
Как это ни странно, но каннибал очень полюбил беглых уголовников.
Впрочем, чего уж тут странного…
Там, где появлялись беглецы, всегда было много крови, всегда было много свежей человечины: тигру не надо было даже тратить силы на охоту, не надо было таиться, прятаться, рисковать…
Добыча попадала к нему в лапы без видимых усилий, ее надо было только разжевать.
Так было и на ночной таежной дороге, так было и теперь — когда страшная стальная птица, немного пролетев над тайгой, разбилась, людоед понял: через какое-то время и там можно будет чем-то разжиться…
Конечно, после такого страшного взрыва любой таежный зверь в ужасе бы обделался и, не разбирая дороги, убежал бы куда подальше, а если бы и приблизился, то очень не скоро и очень осторожно.
Но этот тигр настолько осмелел, настолько уверовал в собственную безнаказанность, что даже взрыв вертолета в ночной тайге не мог его остановить.
Рыже-полосатая кошка появилась неподалеку от места взрыва на рассвете, когда все закончилось.
Тигр поднял голову, принюхиваясь: в морозном воздухе царили жирные запахи паленой резины, сожженного керосина и еще один, заставивший людоеда насторожиться, — жуткий аромат горелого пороха.
Но голод оказался сильнее: тигр, поминутно озираясь, двинулся на запах гари.
Он долго не решался подойти к эпицентру запахов: вонь отпугивала его. Сделав несколько кругов вокруг гари, хищник насторожился: ему показалось, что где-то рядом запахло сладковатой человеческой кровью.
И действительно, между кочегаркой и выгоревшей опушкой он наткнулся на тщедушного человечка с обмороженным сине-желтым лицом, уткнувшимся в снег; маленькая косичка нелепо торчала из его головы.
Опытные таежники утверждают: тигр — если он действительно убежденный людоед, — чтобы насытиться, должен съедать по человеку в сутки. Правда, не всегда сразу: если хищник опытный, матерый, то часть мяса он может припрятать на черный день.
Но зачем прятать мясо, когда его тут, вокруг поселка, сколько угодно?
Для голодного зверя этот мелкий человечек был настоящим подарком — издав тихое рычание, тигр подошел к останкам китайского разведчика, понюхал его и принялся пожирать, начав с конечностей…
Спустя какой-то час все было закончено, и рыже-полосатая кошка, аккуратно прополоскав рот, медленно двинулась по высокому берегу никогда не замерзавшего мелкого ручья; неведомый, темный инстинкт подсказывал ей, где теперь находятся беглецы, все это время столь щедро снабжавшие ее человеческим мясом…
На следующее утро Каратаев вновь двинулся в тайгу; он спал в своем зимовье четыре часа, но для такого закаленного бойца, как бывший капитан элитной «Альфы», этого было более чем достаточно.
Охотник был совершенно уверен: теперь он обязательно настигнет беглецов. Выбора у них не было: одно, ближнее зимовье, находилось в семи километрах от того места, где оборвались следы, а другое, дальнее, — в десяти. Учитывая усталость и ночной мороз, можно было не сомневаться, что бандиты наверняка выберут ближнее.
И вновь однообразие зимней тайги, и вновь тихо, почти неслышно поскрипывает снег, шуршат по насту лыжи, и вновь впереди бодро бежит верный Амур.
Неожиданно Амур остановился, навострил уши — это заставило остановиться и хозяина.
— Ну, что еще? — на всякий случай стаскивая с плеча винчестер, спросил он, неизвестно к кому обращаясь: то ли к псу, то ли к самому себе.
Амур поднял на охотника умную морду, всем видом давая понять: он обнаружил нечто очень важное.
Действительно, на снегу отчетливо выделялись огромные отпечатки тигриных лап.
— Ага, понятно. — Теперь Каратаев все больше и больше убеждался в правильности своей догадки о том, что людоед наверняка будет поблизости от поселка, как, впрочем, и уголовники.
Пес нетерпеливо заскулил, словно приглашая следовать дальше.
— Сейчас, сейчас, обожди. — Михаил, перевесив винчестер на грудь, ускорил шаг.
Он видел: следы совсем свежие, тигр прошел тут максимум час назад.
Предстоял выбор: или следовать за четвероногим хищником, преследуя его, или же, бросив след, продолжать преследование двуногих…
Поразмыслив, охотник решил следовать за тигром, тем более что следы вели в том же направлении, где, по его подсчетам, находилось ближайшее заброшенное зимовье…
Земля загудела и содрогнулась, но охотник лишь поморщился: неподалеку проходила железная дорога, по которой, видимо, только что прошел товарняк.
"Может быть, свернуть на полустанок, попытаться еще раз прозвониться в Февральск? — пронеслось в голове Каратаева. — Как знать: может быть, они еще не в курсе последних событий? Да и Таня…"
Сегодня ночью Михаил никак не мог заснуть, думая о невесте, но и сон не принес облегчения: Таня снилась ему всю ночь. Она звала его, затем, когда он приближался, с силой отталкивала…
Каратаев никогда не страдал суевериями — не читал идиотские гороскопы в бульварной прессе, не покупал сонники, а тех, кто относился к подобному бреду всерьез, справедливо считал людьми недалекими и глубоко невежественными.
Но сегодняшний странный сон настолько сильно запал ему в душу, что он не выдержал и, оставив следы, сделал крюк в два километра, чтобы хотя бы по телефону, издалека услышать любимую…
В прокуренной дежурке сидел все тот же дедок — наверное, ему вообще никогда не присылали замены и он стал вечным дежурным по полустанку.
Голубые, выцветшие глаза бывшего узника сталинского лагеря слезились от дневного света, но, заметив вошедшего, он сразу же повеселел. Впрочем, веселость эта длилась недолго…
— Ну, здравствуй, — кивнул дежурный, почему-то стараясь не встречаться взглядом с охотником.
— Здравствуй, — приветливо ответил Каратаев. — Ну, наладили связь?
— С тех пор…
— Не ломается больше? — Михаил подошел к столу, пожимая руку хозяина кабинета.
— Пока нет, а потом что будет — одному Богу известно, — философски вздохнул девушка.
— Так и позвонить можно?
— Звони, — печально ответил дежурный, придвигая к нему телефонный аппарат.
Михаил немного колебался, с кого начать: или с санчасти (он отлично помнил рабочее расписание Дробязко и знал, что сегодня она должна дежурить с утра), или же с коменданта гарнизона.
На этот раз чувство победило рассудок: влюбленный набрал Танин телефон.
И как и в прошлый раз, там никто не брал трубку — это заставило звонившего нахмуриться.
"Может быть, аппарат сломался? — строил он предположения, накручивая диск в очередной раз. — Или отключили? Да нет, санчасть — не то место, где отключают телефоны… Так что же это такое?.."
Следующая попытка дозвониться Тане также не принесла успеха.
— Странно все это… — со все нарастающей тревогой пробормотал жених.
Положив трубку, он поймал взгляд старика — опытному Михаилу сразу же подумалось, что такой вид бывает лишь у людей, которые борются с собой, не зная, рассказывать о какой-то страшной тайне, что гложет их, или же не рассказывать…
"Наверное, у дедушки Васи тоже есть свой маленький секрет, — мысленно приободрял себя охотник. — Какой же?.. Счет в швейцарском банке? «Ягуар», закамуфлированный под дрезину? А впрочем, зря я так: старик прожил такую тяжелую жизнь, столько хлебнул за свои семьдесят лет… И теперь доживает один, в глухомани — на нищенскую зарплату и такую же нищенскую пенсию…"
Стараясь вложить в свои интонации как можно больше приветливости, охотник вежливо поинтересовался:
— А можно еще?
— Звони, — тяжело вздохнул дежурный и принялся накручивать цигарку-самокрутку, при этом руки его как-то странно затряслись.
"Нет, что-то тут не то", — решил Каратаев, набирая номер коменданта гарнизона.
На этот раз трубку взяли сразу же: знакомый голос, вежливо поздоровавшись, представился и тотчас осведомился, кто это.
— Каратаев Михаил, — четко бросил отставной офицер. — Николай Андреевич, тут страшные вещи происходят… Да. Секретный вертолет, тот самый, который недавно появился. В курсе? Они расстреляли из пулеметов прииск, несколько десятков трупов, я там был… Как — и зону тоже? Ракетами?.. Не может быть… — пробормотал охотник. — И еще шестую погранзаставу? Фугасом? — Звонивший удивленно вскинул густые брови, но тут же, взяв себя в руки, продолжал: — Вертолет, он вчера взорвался при падении… Сам видел… Что — вы уже в курсе?.. Да, бандиты ушли, я преследовал их, но им удалось скрыться. Наверняка теперь отдыхают, мерзавцы, на одном из заброшенных зимовий, скорее всего в том, что ближе к моему… Так, понятно. — Переложив телефонную трубку в другую руку, Каратаев прищурился. — Вы не могли бы зайти в санчасть и… Что? Не понял? Николай Андреевич, я лицо сугубо штатское, гражданское, в отставке, и вам не подчиняюсь… Сам знаю, что мне делать. Да. Почему возвращаться? Зачем? Да, я иду по следу, они тут, рядом… Да, и следы тигра неподалеку!.. Того самого, людоеда, других тут нет… Что? Почему так срочно? Что-то случилось? Что же? — взволнованно закричал он.
Из трубки неслись короткие гудки, извещающие об окончании разговора.
Он несколько раз тряхнул аппарат, будто бы он, а не комендант гарнизона был виноват во внезапном обрыве связи.
— Ничего не понимаю, — пробормотал охотник, кладя трубку.
Дежурный вздохнул.
— Возвращайся, сынок, возвращайся, — зашевелил он бескровными фиолетовыми губами.
— Что такое? — Теперь Михаил выглядел очень обеспокоенным.
— Возвращайся, — прошептал старик и, глубоко затянувшись самокруткой, закашлялся.
— Дедушка Вася, что там произошло? — твердо спросил охотник. — Что?
— Там все узнаешь. — Табачный дым ел глаза старика, и они слезились еще больше; а может быть, и не от дыма слезились, а от чего-то другого…
— Почему ты не хочешь говорить?
— Николай Андреевич тебе все расскажет…
— Что там произошло?! — вне себя закричал Каратаев, наступая на дежурного. — Дядя Вася, почему ты не хочешь мне ничего рассказать?.. Ты что мне — враг? Что я тебе такого сделал?!
— Там все узнаешь. — Пепел из потухшей цигарки сыпался на ватные брюки дедка, но он словно бы и не замечал этого. — Возвращайся…
В красном уголке, рядом с празднично убранной елочкой, стоял небольшой красный гроб. В гробу лежала та, кого он так любил, к кому он так стремился все это время…
Лицо Тани не обезобразили ни предсмертная мука, ни страх: она выглядела молодой, красивой — словно бы живой. Казалось, что она лежит тут по ошибке и сейчас, сдернув покрывало, поднимется, затушит свечку, горящую у нее в сложенных руках, и улыбнется так обаятельно, как умела улыбаться одна она.
Но это только казалось…
Наташу Мирончук похоронили днем раньше. Место для невесты Каратаева уже было подготовлено, на метр промерзшая от лютых морозов земля, разогретая костром, была уже выброшена в отвал лопатами равнодушных землекопов, и страшная могильная яма вторые сутки чернела на краю скромного поселкового кладбища.
Похороны Татьяны Дробязко были отложены только по одной причине: надо было во что бы то ни стало дождаться жениха.
Каратаеву казалось, что все это происходит не с ним, а с кем-то другим, — вот елочка, которую украшали нежные руки Тани, вот кресло, в котором она сидела, выслушивая его робкие признания, вот табуретка, на которую становилась, вешая блестящие игрушки…
А вот и она сама…
Михаил, не мигая, смотрел на лицо покойной невесты, — он знал, что пройдет еще час, еще два, три часа, и она будет предана земле, и он уже никогда — никогда! — не увидит ее…
Тихо скрипнула дверь — в комнату, стараясь не шуметь, вошел комендант.
— Как это произошло? — почти неслышно, одними губами спросил Михаил.
Подполковник, встав рядом, положил ему руку на плечо.
— Тебе вряд ли стоит об этом знать, — печально произнес он.
— Я хочу знать. Я должен знать все, — бесстрастно откликнулся бывший спецназовец. — Кто? Почему? Когда? Зачем? Как?
— Миша, я тебе потом все расскажу… Потом, я тебе обещаю, — горестно вздохнул комендант, глядя на гроб из-за широкой спины охотника.
— Хорошо, — деревянным голосом проговорил Каратаев. — Потом. Но мне обязательно надо знать все. Обязательно. Иначе… — Он не договорил: беззвучные рыдания сотрясли его тело, и подполковник так же неслышно вышел, плотно закрыв за собой дверь…
Глава двадцать первая
Из зимовья беглецы вышли, едва только начало светать. Разнеженный теплом и относительной безопасностью, Малина долго, минут пять не хотел подниматься, и Чалому пришлось будить его пинками.
— Давай, паучина, давай, а то тут кочумарить останешься… Брошу сейчас и один пойду! — ругался Астафьев.
Угроза возымела действие, и Малина, наскоро умывшись снегом, вышел на крыльцо.
Первые полчаса шли медленно — ноги вязли в сугробах. Беглецы почти не разговаривали: Малинин по-прежнему находился во власти сна, а Чалый, видимо, справедливо считал, что с этим придурком говорить совершенно не о чем, да и вообще — западло.
Первым не выдержал Малина:
— А все-таки на вертолете легче было…
— А ты, оказывается, парень догадливый, — хмыкнул Астафьев.
— А долго нам еще?
Остановившись, Чалый посмотрел «корове» в глаза так, что тому сделалось страшно.
— Тебе — недолго, — пообещал он. — Это я тебе точно говорю.
Конечно же, следуя элементарной логике и здравому смыслу, зарезать, освежевать, разделать и приготовить Малинина надо было бы еще в зимовье — и печка есть, и вообще сподручнее.
Но затем тащить тушу целых пять километров на своем горбу?!
Нет, лучше уж путь она сама пройдет к «железке» — так удобней.
До железной дороги, по подсчетам Чалого, оставалось почти ничего — километра полтора, и он, нагнувшись, нащупал в голенище сапога остро заточенную опасную бритву — ту самую, из поселковой парикмахерской…
Чалый точил ее рано утром, долго и тщательно, до пробуждения Малины.
Таню хоронили уже под вечер.
На кладбище, продуваемом со всех сторон лютыми ветрами, было немноголюдно — ввиду наступавшего новогоднего праздника на похороны пришли только самые близкие друзья и знакомые, а родственников, кроме сестры Оли, у нее тут больше не было вовсе.
Кресты, памятники, обычные могильные холмики, некоторые не с фамилиями на табличках, а просто с номерами — все свежие, недавние.
Поселок, вставший в тайге перед самой войной, в тридцать девятом, хоронил своих жителей все больше молодыми: с медальонов на стелах смотрели лица в самом расцвете сил, да и даты рождения-смерти свидетельствовали: тут, в Февральске, почему-то чаще всего уходили из жизни люди здоровые, крепкие, и далеко не все они умирали своей смертью.
"Трагически погибшей…", "Безвременно сошедшему в могилу…", "Рано ушедшему…" — эти нехитрые, но много о чем говорившие эпитафии свидетельствовали о том, какой опасной и суровой была здешняя жизнь.
Нестройно гудел военный оркестр из гарнизона, музыканты, переминаясь с ноги на ногу, то и дело сплевывая на утоптанный снег залитый в духовые инструменты незамерзающий спирт, играли вразнобой; губы примерзали к латунным мундштукам труб и валторн.
Подполковник — комендант гарнизона, которому сегодня досталась печальная обязанность распорядителя, — тихо спросил:
— Все попрощались?
Присутствующие закивали.
Комендант, подойдя к Михаилу, стоявшему в одиночестве, спросил на ухо:
— Ну, все?
Тот кивнул и ответил одеревеневшим голосом:
— Да.
Алая крышка гроба плавно опустилась в вечную мерзлоту — спустя несколько минут по крышке глухо застучали комья мерзлой земли, жиденький оркестр загнусавил что-то протяжное, и народ стал тихо расходиться.
А Каратаев так и остался стоять у свежего могильного холмика. На почерневшем лице его не было слез.
Присутствующие обходили его стороной, шарахаясь. И когда все наконец ушли, Михаил, подойдя к могиле, опустился на колени и, сдерживая себя, сжал зубы.
Да, буквально за час до похорон подполковник Андрей Николаевич подробно (но щадя его чувства) рассказал жениху, какую страшную и мученическую смерть приняла его невеста.
"Месть, месть, месть", — звучно стучала приливавшая кровь в висках охотника.
Теперь все помыслы его были заняты только этим…
Железная дорога показалась неожиданно: высокая насыпь, бетонные столбы, валявшиеся под откосом отслужившие свое трухлявые шпалы — даже несмотря на их явную древность и мороз, рядом с железнодорожным полотном витал неприятный запах креозота.
Чалый, вытащив из голенища опасную бритву, раскрыл ее и, пряча в рукаве, приблизился к Малине.
Тот, естественно, даже не подозревал, какая незавидная участь ожидает его через несколько минут.
— Малина, — на редкость ласково спросил Чалый, — ты голоден?
— А что? — удивился тот; он никак не ожидал встретить такую заботу.
— А то, — произнес Иннокентий; ему было мало просто убить и сожрать «корову»; истинный сын своей среды, он должен был перед смертью как следует поиздеваться над ним, — а то, Малинушка, что я очень проголодался…
— У тебя есть что?
— У меня есть что, — хмыкнул Астафьев и тут же прыснул от смеха.
— Может, поделишься?
— Не буду я с тобой делиться, Малина, — нежно глядя будущей жертве в глаза, произнес Чалый.
— Жалко, да?
— Жалко у пчелки, пчелка на елке, елка в лесу, а лес… А лес тут рядом, — продолжал глумиться уголовник. — Вот он, лес-то… Дровишки, то, се… — загадочно добавил он.
— Так чего ты, — москвич поджал губы, — думаешь, одному тебе жрать хочется?
— Думаю, что да, — облизнулся Иннокентий.
— Я тоже хочу.
— А я тебе не дам, — пообещал ссученный блатной, делая несколько шагов ближе.
— А почему?
Ответ прозвучал немного загадочно:
— Понимаешь, Малина, я бы дал тебе… Но никак не могу. Если бы я от себя отрывал, то может быть, и подумал, как это сделать, но ведь от тебя…
Некоторое время они молчали — Малинин обиженно дулся, а Чалый, осматривая его фигурку, в уме прикидывал, как будет удобней зарезать этого щуплого москвичонка, который причинил ему столько неприятностей, с каких частей тела лучше начать трапезу, какие части, круто посолив, стоит взять с собой до Хабаровска.
"А ничего свежина, — прикидывал Иннокентий, — даже больше получится, чем я думал… У-у-у, сучара, отожрался на моих-то харчах!"
Теперь Чалый твердо пообещал себе вернуть все долги сполна — и за карточный проигрыш, и за вертолет, и за ворованные наркотики, и за без спросу выпитую водку, и за харчи — тоже, естественно.
— А хочешь, дорогой мой друг Малина, я сейчас расскажу тебе, что буду делать дальше? — неожиданно спросил Иннокентий.
Малина пожал плечами.
— Кеша, мы же с тобой друзья… Я тебе доверился, когда мы с зоны бежали, я поверил тебе, когда вертолет украли… Да если бы не ты… — Сглотнув набежавшую после упоминания о еде слюну, он спросил: — Ну, так что?
— А дальше, любезный брат Малина, я поеду на поезде… Далеко-далеко.
— Со мной?
— Частично, — замысловато ответил Астафьев.
— Это как?
— А так…
— Не понимаю.
— А ты подумай…
— Ну, даже и сказать не могу, — вздохнул Малинин, явно ожидая очередного подвоха.
— Да ты у нас парень догадливый… Может быть, дойдешь умишком-то своим убогим, — откровенно издевался ссученный блатной.
Малина наморщил лоб.
— Хочешь сказать… что мы с тобой до какого-то города вместе доберемся, а там наши пути-дорожки разойдутся краями, да?
— Именно это я и хочу сказать… — промурлыкал Чалый.
— А до какого? До Хабары?
— До него, родимый, до Хабаровска… Ну, может быть, немного дальше…
Наверное, Малинин прожил бы еще несколько минут, если бы вдруг не задал глупый вопрос, совершенно выведший Чалого из состояния умиротворения:
— А почему ты меня до конечной станции взять не хочешь?
— А потому…
Это были последние слова, которые Сергей Арнольдович Малинин услышал за свою беспутную жизнь. Приблизившись к москвичу вплотную, беглый уголовник левой рукой взял его за грязный зоновский клифт, а правой мгновенно полоснул по горлу, после чего тут же отскочил, чтобы не испачкаться в крови. Из горла Малины послышался звук, немного напомнивший урчание унитаза, от толчка он свалился на спину — кровь хлынула из разрезанных артерий, и спустя несколько секунд тело зоновской шестерки, пару раз царапнув морозный воздух, окончательно обмякло.
Чалый удовлетворенно хмыкнул:
— Вот и посчитались… Жаль, что я тебя перед тем, как завалить, не опустил, и тебе бы удовольствие было, и мне тоже… Да ничего, Малина, на том свете черти тебя всем скопом петушить будут. Будешь ты там главпидаром ада за свою сущность поганую. В натуре, бля, обещаю, — тоном Господа Бога, распределяющего грешников по мастям, закончил он прощальную речь…
На смиренное поселковое кладбище опустился мрак.
Было совершенно тихо — лишь где-то вдали, чувствуя близкое приближение чьей-то смерти, тоненько выла одинокая собака.
Каратаев, поднявшись с колен, невидяще посмотрел на могильный холмик с небольшой деревянной табличкой, прибитой к столбику:
Дробязко Татьяна Николаевна
1974–1993
Достав из внутреннего кармана платок, он развернул его и, вновь опустившись к могильному холмику, положил в платок несколько комьев мерзлой земли.
— Это я во всем виноват, — прошептал он, — если бы не я…
Да, теперь Михаил больше всего корил в происшедшем только себя: если бы тогда, в красном уголке, он послушался невесту, если бы не пошел тогда в тайгу — как знать, может быть, и не стоял бы он теперь тут, перед ее свежей могилой?!
Ведь он наверняка сумел бы защитить ее — да хоть от всех беглых уголовников России!
"Но кто бы тогда защитил остальных? — неожиданным импульсом пронеслось в голове — кстати или некстати, — ведь девушки всех этих таежных поселков… Они ведь тоже чьи-то невесты, жены, сестры, матери…"
Каратаев тяжело вздохнул: теперь ему меньше всего хотелось об этом думать.
Бережно завернув землю с могилы в платок, он аккуратно положил его в карман и, пошатываясь, пошел к кладбищенским воротам.
"Месть, месть, месть", — звучно стучала кровь, приливавшая к вискам охотника.
Если бы теперь он мог видеть себя в зеркало, то заметил бы наверняка: за сегодняшний день виски его поседели…
Разделать тело Малинина было, как говорится, делом техники: сперва Чалый раздел его, прихватив для себя кое-что из «кишек» — не в нормальном, естественно, понимании, а в уголовном (в смысле — одежды). Затем, критически осмотрев начинающее синеть тело бывшего подельника, принялся за главное.
Отличавшийся похвальными сметкой и предусмотрительностью ссученный блатной на всякий случай прихватил из заброшенного зимовья старую ржавую ножовку — еще вчера вечером он справедливо предполагал, что распиливать кости, отделяя их друг от друга, и резать опасной бритвой сухожилия будет весьма нелегко.
Разделку тела, как и положено опытному мяснику, он начал с тщательного отделения конечностей: руки Чалый решил съесть сейчас же, а ноги оставить про запас: путь до Хабаровска был неблизким, и в трехстах километрах безлюдного пути сквозь зимнюю тайгу вряд ли можно было найти что-нибудь съедобное.
Вскоре утоптанный снег густо окропился свежей кровью — картина немного напоминала предрождественские гулянья в каком-нибудь богатом приамурском селе, где перед этим всеми любимым веселым праздником по устоявшейся традиции обязательно бьют кабанчика.
Весело горел костер — тлеющие трухлявые шпалы распространяли вокруг специфический запах креозота, и Астафьеву почему-то подумалось: "Были бы у меня человеческие условия — я бы его еще и подкоптил…"
Но условий, к сожалению, не было, так же как и времени. Вчерашнее бегство от ментов поганых (а в том, что это были менты, Чалый сомневался еще меньше, чем в том, что они поганые) окончательно утвердило его в мысли: надо подрываться, и как можно быстрее.
Но на туловище Малинина оставалось еще достаточно мяса, а дорога до Хабары обещала быть тяжелой, и потому Иннокентий решил немного пожертвовать временем, чтобы выиграть в "бациллах".
Освежевав труп со спины, Чалый аккуратными ломтями срезал с позвоночника розоватое мясо и, нанизав на вертел, принялся его жарить; руки и ноги, отделенные от костей, были уже почти готовы.
И вот спустя полчаса обоняния Астафьева коснулся волшебный, замечательный, ни с чем не сравнимый запах, который больше всего раздражал аппетит, — запах дымящегося жаркого…
— Ну, приятного аппетита, Чалый, — пожелал он сам себе и, сняв с костра руку (это был наиболее прожаренный кусок — роль шампура выполняла кистевая кость), принялся за трапезу…
Увы, «паучина» Малина и теперь не оправдал надежд Астафьева — мясо москвича оказалось куда более жестким, чем ожидалось; и Чалый, зверски вгрызаясь в жареный бицепс, неожиданно сломал зуб.
— Ну, бля, педрила! — закричал он, отбрасывая руку в сугроб. — Надо было лучше с собой взять… помоложе кого-нибудь, посвежей…
Но теперь, в этих диких условиях, выбирать больше было не из кого.
Наконец насытившись вволю, Чалый уселся, прислонившись спиной к стволу, и, достав из кармана загодя припасенный гвоздик, принялся методично выковыривать им из зубов остатки мяса…
Дальнейший план был прост: с запасами жареного мяса дойти до полустанка, завладеть дрезиной и на ней попытаться добраться до станции, в сорока пяти километрах отсюда.
Ну, а там…
Станция, где было целых две платформы, уже давала куда большие шансы скрыться.
Глава двадцать вторая
Дежурный по полустанку, сворачивая из газеты очередную самокрутку, уже подумывал набрать Февральск, чтобы справиться о Каратаеве, которого он любил, как родного, когда в дверь кто-то постучал.
— Не заперто, — крайне недовольно пробурчал дедушка Вася.
Стук повторился, но уже более ожесточенно и нагло.
— Да не заперто, войдите же! — надтреснутым старческим голосом крикнул дежурный.
Дверь резко раскрылась, и на пороге показался мужчина жуткого вида: заляпанная кровью телогрейка, очевидный зоновский клифт, холодные, безжалостные глаза, тяжелый, словно придавливающий, взгляд…
Конечно же, дежурный сразу сообразил, кто перед ним, но, как человек достаточно умудренный жизненным (прежде всего лагерным) опытом, виду не подал.
— Вам кого? — спросил он, инстинктивно отодвигаясь к окну.
— Тебя, — ощерился посетитель и, не вступая в дальнейшие переговоры, шагнул к столу.
Первым делом Чалый — а это был, конечно же, он — перерезал телефонный провод, а сам телефон, разбив о пол, бросил в окно, предварительно распахнув его, — аппарат утонул в глубоком сугробе.
— Вы… ты кто? — с расширенными от ужаса глазами спросил дедушка Вася.
— Хрен в пальто, — представился непочтительный визитер, — а ты кто?
Пальцы дедушки задрожали, и он впервые просыпал из самокрутки драгоценный табак.
— Де… дежурный по полустанку.
— Кто тут еще?
— Ни… кого.
— Один?
— Да…
— Когда тебя меняют?..
— Не-е-е-е…
— Что? — издевательски приложив ладонь к уху, переспросил бандит.
— Не-е-е-е… не знаю.
— Вообще, что ли, никогда?
— После смерти сменят, — дежурный всеми силами старался взять себя в руки.
— Кроме телефона, что-нибудь еще есть?
— Не-е-е-т…
— А рация?
— Да не было никогда…
— Проверяют тебя по телефону часто?
— Не… очень.
— Раз в час?
— Раз в месяц… Иногда.
— Смотри, гнида, если ты мне врешь… очко на британский флаг порву, не посмотрю на твой возраст. Думаешь, если ветеран, то все можно?
— Да нет же, нет никого!
— Так, — хмыкнул посетитель, — хорошо. А дрезина тут есть?
— Е-е-е-есть… — Бескровные губы дежурного тряслись мелким студнем, но, услыхав про дрезину, он обрадовался, решив, что на этот раз, пожертвовав средством передвижения, сохранит себе жизнь.
Бандит не мог удержаться от довольной улыбки.
— Где?
Дежурный неопределенно махнул рукой:
— Там…
— Где — там?
— За стрелкой…
— За какой? — Привыкший к блатной фене гость под словом «стрелка» понимал исключительно понятие "деловая встреча".
— Да рядом… Стрелка железнодорожная.
— Исправна?
— Стрелка?
— Дрезина, старый козел…
— Да-а-а-а…
Хотя дедушка Вася за свою тяжелую жизнь повидал немало уголовников, и беглых, и сидевших, но таких жутких, как этот, ему еще не приходилось видеть.
— Веди.
Старик, даже забыв от страха накинуть кожух, вышел на крыльцо, страшный гость тут же сунул ему в руки свернутую узлом телогрейку.
— Неси.
— Что это?
— Не твое дело, старый мудак!..
Дежурный, поняв, что прекословить — смерти подобно, почтительно взял тяжелый сверток и, случайно опустив глаза, едва не лишился чувств: из узла торчала человеческая нога, а от самого свертка шел сладковатый, тошнотворный дух жареного мяса.
Уголовник, подтолкнув дежурного в старческий зад, чтобы тому веселее шагалось, спросил:
— Ну, где твоя дрезина?
— Та-а-ам… Сейчас увидишь.
— Что, дед, в штаны наложил? — хохотнул каннибал. — Показывай!..
Дежурного от увиденного и услышанного словно парализовало.
— Та-а-ам…
— Донесешь, понятно? Или отправлю на дрезине в виде того, что тут завернуто. — Палец с вытатуированным перстнем уперся в жареную ногу.
…Спустя десять минут дрезина тяжело и медленно отъехала от полустанка, оставляя лежавшего на рельсах дежурного: горло ветерана дальневосточных лагерей было перерезано, из него послышалось слабое, почти неслышное, бульканье, и дедушка Вася тихо скончался…
Да, тысячу раз был прав Каратаев, когда решил: тигр обязательно пойдет по следу бандитов.
Где эти жуткие двуногие хищники — там кровь, трупы, то есть как раз то, что так любит хищник четвероногий. И уж сейчас можно было быть уверенным, что людоед ни за что не оставит беглецов.
Вот и теперь, почуяв запах свежей крови, рыже-полосатая кошка вышла к железнодорожному полотну.
Лизнув окровавленный снег, людоед подошел к кострищу — оно едва тлело, сизоватый дымок вился в белесое, ртутное небо.
Увы, на этот раз трапеза была куда более скудной, нежели в предыдущий: запасливый Чалый не оставил тигру почти ничего. Разве такой огромный прожорливый хищник, как этот, мог довольствоваться отрезанной головой да обгрызенными костями?
Но выбирать было не из чего, и потому хищник, недовольно поведя головой, с голодным урчанием принялся грызть кости с налипшими на них ошметками мяса.
Обед был непривычно скудным, а вкус мяса — немного странным: никогда прежде тигру не приходилось есть мяса, печеного на костре.
Неожиданно где-то совсем рядом, в нескольких десятках метров, что-то прогрохотало: тигр отскочил в сторону, пригнулся, чтобы его ярко-оранжевый полосатый окрас остался незамеченным.
Впрочем, он мог не предостерегаться: небольшая тележка, выехав с горки, помчалась под уклон, оставляя за собой явственный шлейф мясного аромата, и тигр, подгоняемый нестерпимым голодом, отбросил кость и, уже не таясь, двинулся вдоль железнодорожной насыпи…
Каратаев шел по тайге, не чувствуя усталости.
"Месть, месть, месть", — стучала приливавшая кровь.
Острое чувство неудовлетворенной мести подгоняло его — расстояние до полустанка, которое охотник обычно преодолевал часов за пять-шесть, он прошел всего лишь за три с половиной.
Вид полустанка сразу же насторожил охотника, частенько бывавшего тут: дверь небольшого строения была раскрыта — это было совершенно не похоже на дедушку Васю, который славился своей аккуратностью.
А кроме того, как сразу же заметил наблюдательный Каратаев, не было дрезины: если верить дежурному, она была не совсем исправной и проехать на ней большое расстояние было тяжело.
— Дедушка Вася! — сложив руки рупором, позвал Михаил; эхо гулко разнесло голос, но ответа не последовало.
Тихонько свистнув Амуру, охотник приблизился к дежурке и, заглянув в открытую дверь, осторожно постучал.
— Дедушка Вася!..
Никто не ответил ему и на этот раз.
— Дедушка Вася!..
Молчание.
Каратаев осторожно зашел в дежурку, тепло из которой, несмотря на распахнутое окно, еще не успело выветриться: это свидетельствовало о том, что дедушка Вася где-то поблизости. Ну, может быть, вышел на пару минут, а дверь и окно открылись сами…
Сразу же бросилось в глаза то, что на столе не было привычного телефона, и это заставило бывшего капитана «Альфы» насторожиться.
Он снял с плеча винчестер, оглянулся — все было тихо. Да и Амур не выказывал никаких признаков беспокойства.
— Неужели он на дрезине покатил? — прошептал охотник, выходя из дежурки и аккуратно закрывая за собой дверь. — Так ведь поломана, да и дрезина ручная, старая… Как дедушке с ней управиться?..
Еще раз подозрительно осмотревшись, Каратаев отправился к тому месту, где обычно стояла дрезина, к единственной на полустанке стрелке, и тут взгляд его упал на бездыханное тело старика…
Заметно похолодало — пронзительный ветер, гулявший в полосе отчуждения у железнодорожной насыпи, пронизывал Чалого насквозь.
Рельсы под колесами дрезины стучали на стыках, сама же она скрипела, грозя или развалиться, или же в любой момент сойти под откос.
— Суки, — шептал Иннокентий, неизвестно к кому обращаясь: то ли к ветру, от которого он окончательно задубел, то ли к рельсам, равномерный стук которых буквально сводил его с ума, то ли к дрезине, которая раздражала беглеца своей медлительностью. — Ну ничего, я вам, фуцынам позорным, еще покажу…
Будь жив теперь Малина — наверняка бы в очередной раз решил, что подельник сошел с ума.
Но Сергей Малинин, осужденный за мошенничество, уже никогда, ничего и никак не мог решать: часть его лежала в рваном окровавленном бушлате, часть — под железнодорожной насыпью, а остальное почти равномерно распределялось между желудками Чалого и тигра-людоеда.
— Вы меня все запомните, — в злобном исступлении бормотал Астафьев, — всех опущу, всех в очко, в очко!.. Педри-и-илы!..
Чалый упорно работал рычагом — ржавая металлическая тележка, тяжело идя в гору, двигалась со скоростью катафалка.
— Ничего, я своего по-любому добьюсь, — упрямо твердил Астафьев, — вы у меня, петухи голимые, все отсосете, отвечаю…
Дрезина, с трудом поднявшись на небольшой пригорок, оттуда покатилась вниз, набирая скорость.
— Да, Малина был все-таки прав: на вертолете куда лучше, — скривился Астафьев, с трудом удерживая себя от желания плюнуть в завернутый ужин.
До большой станции, по подсчетам Чалого, оставалось не более двадцати пяти километров, то есть час или полтора езды…
Было очевидно: уголовники, убив старика, захватили дрезину, чтобы двигаться в сторону ближайшей станции. И опять они выиграли во времени — как бы то ни было, но двигаться по рельсам, не думая ни о направлении, ни о дороге, куда удобнее, чем на лыжах по дикой тайге.
Охотник остановился на краю платформы, соображая. Конечно же, если бы связь работала, если бы чертовы бандиты не догадались ее уничтожить, можно было бы позвонить и в Февральск, и на станцию, упредить, объяснить, что и как…
Наверняка теперь бы Михаил почувствовал себя беспомощным, если бы не остро горевшее в нем желание отомстить: и за любимую, так жестоко убитую негодяями, и за себя… и за этого несчастного старика, который в своей жизни никому ничего худого не сделал.
Каратаев взглянул на часы — он точно знал, что по расписанию через час тут должен был пройти товарняк на Хабаровск.
— Только бы он не опоздал, — твердил про себя мститель, — только бы вовремя…
Правда, машинист останавливался тут очень редко, лишь по техническим причинам, но это не пугало Каратаева: он уже знал, что ему надо делать.
Конечно, в силу исключительной важности момента, можно было выйти навстречу, сигнализируя об остановке. Можно было бы включить стоп-семафор — но тогда бы было потеряно драгоценное время, и потому охотник, прекрасно знавший местный рельеф, избрал другой путь.
— Амур, пошли, — позвал он пса и, бросив прощальный взгляд на полустанок, двинулся вперед, вдоль железнодорожного полотна…
Через несколько километров, когда железная дорога пошла на подъем, Амур неожиданно заскулил, рванувшись куда-то в сторону. Каратаев едва успел побежать за ним.
Он-то хорошо знал: этот пес не будет рваться просто так…
Едва только охотник спустился вниз и, пройдя несколько метров, раздвинул густые заросли кустов, он увидел жуткое зрелище, от которого его чуть не стошнило: на буром от крови снегу, рядом с черным пятном потухшего кострища, в полнейшем беспорядке лежали разрозненные человеческие останки. О том, что останки действительно человеческие, говорили только две вещи: похожая на кочан капусты, черепная коробка треснула от какого-то страшного удара, и голова эта казалась приплюснутой; да еще кисть руки…
И все-таки охотник, поборов брезгливость, нашел в себе мужество подойти поближе…
Вокруг остатков страшной трапезы, разбросанных под насыпью, по-видимому, недавно, виднелись отчетливые, совершенно свежие следы тигра — сперва он ходил вокруг, а затем четвероногий людоед, доев то, чем побрезговал двуногий, пошел вдоль полотна.
Подняв со снега татуированную руку, несмотря на сорокаградусный мороз, остро пахнувшую жареным мясом, Михаил обратил внимание на едва различимую на коричневатой коже татуировку…
Неожиданно, с отчетливостью голографического снимка вспомнилась та, далекая картинка: долгая дорога из Февральска в зимовье, теплая, пропахшая машинным маслом кабина УАЗа, жидкий свет фар, выхватывающий из темноты поваленные деревья и взволнованный голос диктора, читающий ментовскую ориентировку:
"…особые приметы: на глазных веках вытатуировано предложение "ЧАЛЫЙ СПИТ". На левом предплечье — татуированное изображение распятия и слово «БОГ». На правом предплечье вытатуирована роза, обвитая колючей проволокой. На обоих плечах — татуированное изображение гусарских эполет. В области ключиц выколотые восьмиконечные звезды, такие же звезды выколоты и на коленях… На груди — изображение лысого мужчины с нимбом и крыльями за спиной, бьющего в колокола. Внизу живота — изображение рогатого мужчины с хвостом, держащего в одной руке развернутую карточную колоду, а в другой — нож, и надпись: "ПРОИГРАЛСЯ — ПЛАТИ ИЛИ ГОТОВЬ ВАЗЕЛИН". На спине — изображение православного храма с пятью куполами. Под левой ягодицей изображен черт, лопатой бросающий уголь в топку…"
Каратаев, обладавший завидной памятью, тут же вспомнил — это касалось опытного беглеца, Астафьева И. Эм., известного как Чалый.
Но на этой кисти не было розы, обвитой колючей проволокой…
"… на левом предплечье, — вспоминал Михаил, — татуированное изображение женщины, привязанной к столбу, под ней — разожженный костер и надпись на горящей книге: "УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС". На правой ноге — выколотое изображение ракеты с сидящим на ней мужчиной и надпись: "НА ЛУНУ ЗА ПЛАНОМ".
— "Уголовный кодекс", — поднеся кисть руки поближе к глазам, прочитал Каратаев, с огромным трудом сдерживая рвотные спазмы.
И действительно, как раз над ним виднелось расплывчатое изображение женщины, привязанной к столбу, и языки пламени под ней…
— Значит, Чалый остался один… — прошептал охотник, брезгливо отбрасывая татуированную руку.
Послышался отдаленный шум — это шел долгожданный товарняк на Хабару.
Свистнув Амуру, охотник быстро побежал к насыпи. Из-под подошв летели камешки, Каратаев несколько раз поскользнулся, но тут же поднялся: теперь ему нельзя было терять ни минуты.
Здесь, перед спуском, машинист обычно тормозил, снижая скорость до десяти — пятнадцати километров в час — это давало возможность зацепиться за вагон, двигаясь по направлению к той самой железнодорожной станции, куда теперь наверняка направлялся единственный оставшийся в живых подонок, несколько часов назад съевший «корову» — подельника и товарища по несчастью…
Все произошло именно так, как и рассчитывал бывший капитан спецназа: перед затяжным спуском машинист затормозил, и Михаил, подхватив пса, уцепился рукой за скобу одного из вагонов: спустя несколько минут он уже ехал внутри его, а Амур, радостно поскуливая, сидел рядом.
Теперь, после всего увиденного, Каратаев окончательно осознал, с каким же жестоким, коварным и беспредельно жутким противником придется ему встретиться.
И встреча эта была уже недалеко…
Глава двадцать третья
Чалый бросил дрезину километра за полтора до подъезда к долгожданной станции — как только показались первые мутные проблески железнодорожных семафоров и низкие грязные пакгаузы, он, подхватив свой страшный, окровавленный сверток, осторожно притормозил на повороте и, соскочив на ходу, покатился в лежалый сугроб.
Показываться тут, да еще в таком виде, к тому же — с таким грузом, — было опасно.
План Астафьева был довольно прост: найти какой-нибудь товарный состав, который бы отправлялся куда-нибудь подальше, незамеченным прокрасться в вагон, забраться в него и ехать, ехать…
А все составы отсюда шли только на Хабаровск, где у Иннокентия действительно был какой-то дружбан; поезда, идущие обратно из столицы края, как правило, редко останавливались на этой маленькой станции.
То, что увидел Иннокентий, наблюдая за подходом к вагонам из-за сугроба, неприятно поразило его: караулов — и военных, и вэвэшных — тут было никак не меньше, чем железнодорожных рабочих.
И все подходы к вагонам грамотно охранялись — видимо, и тут уже стало известно о гибели вертолета.
— "Мусорские" рожи, — злобно шептал Чалый, глядя, как розовощекий молоденький лейтенант с погонами внутренних войск отдает распоряжения солдатам, — козлины голимые… Мен-ты-ы-ы!..
Очень захотелось есть — дальняя дорога по свежему воздуху всегда вызывала в Астафьеве завидный аппетит, но теперь разворачивать сверток было никак нельзя: усиленный милицейский патруль был с собакой, и обладавшая завидным нюхом казенная немецкая овчарка вполне бы могла учуять запах крови.
Поразмыслив, Чалый пришел к мысли: надо переждать, пересидеть — пусть даже тут, в сугробе, но зато — куда безопасней…
Сидел он в своем сугробе долго — пока не продрог окончательно. Но и многочисленные патрули, судя по всему, тоже изрядно продрогли: видимо, они были выставлены тут так, для проформы, и никто — ни солдаты, ни прапорщики, ни офицеры не верили в то, что беглые уголовники непременно появятся тут.
Иннокентий продолжал внимательно наблюдать за их действиями — вскоре ментовский патруль лениво двинулся в сторону маленького вокзальчика, видимо, чуть-чуть погреться, а может быть, и выпить во главе с отцом-командиром, а военные принялись обходить длинный товарный состав, по всей вероятности прикидывая, что находится в вагонах, что тут можно украсть, чтобы потом пропить.
А вскоре подошедший длинный товарняк, вагонов на сорок, и вовсе скрыл караул из вида, полностью закрыв ему всякий обзор.
Чалый понял: пора!
Да, теперь или никогда; настало время действовать решительно.
Еще раньше он заприметил несколько вагонов, прицепленных к небольшому маневренному локомотивчику ЧТЗ…
"Хоть бы какой из них был открыт. — Наверняка, если бы Астафьев верил в Бога, он бы рухнул на колени, горячо молясь. — Только бы был открыт… Чтобы мне не пришлось дверь выламывать…"
Видимо, у этого отпетого негодяя все-таки был свой ангел-хранитель — впрочем, сообразно с ситуацией, не ангел, а дьявол: первый же вагон оказался незапертым.
Осторожно, стараясь не привлекать внимания, Чалый открыл дверь и, перекинув на дощатый пол набухший от крови сверток, нырнул вовнутрь…
Товарняк приблизился к станции буквально в тот самый момент, когда Чалый воровато открывал дверку товарного вагона.
Каратаев, высунувшись наружу, осмотрелся: грязное, в потеках здание вокзальчика, какие-то тщедушные фигурки местных похмельных бомжей, страдающих в предновогодние дни без любимых напитков, несколько вэвэшников в расстегнутых шинелях.
Где-то тут должен был скрываться бандит — другого выхода у него не было: пересидеть, переждать, а потом скрыться ближайшим поездом, зализывая раны, и уже в другом месте сеять смерть…
Тяжелый товарный состав, противно лязгая металлическими буферами, остановился, и охотник, приоткрыв дверку пошире, легко спрыгнул вниз — за ним последовал и Амур.
Каратаев давно не был тут, на станции, и почему-то подумал, что его вид — в охотничьих унтах, с винчестером, да еще и с собакой — наверняка должен привлечь к себе внимание.
Но он ошибался…
Тут, в этой глуши — куда большей, чем Февральск, — никому не было до него никакого дела.
Бомжи по-прежнему умирали от профессиональной болезни, асинентного синдрома, солдаты, прапорщики и офицеры патруля, уже проводившие старый, 1993 год и принявшиеся за встречу Нового, 1994-го, не обращали на него никакого внимания: наверное, появись тут министр обороны в обществе министра внутренних дел, всем было бы глубоко наплевать.
— Амур, к ноге, — тихо, но решительно скомандовал Михаил.
Пес, приблизившись к хозяину, понюхал морозный воздух и непонятно почему заскулил — очень жалобно.
— Амур, что с тобой? — удивился Каратаев. — Чего это ты?
Пес продолжал скулить.
— Амур!.. — В голосе хозяина зазвучали металлические нотки. — Как тебе не стыдно?!
Как ни пытался охотник успокоить и даже усовестить Амура, ничего у него не получалось: пес по-прежнему жался к ноге, скулил — словно в предчувствии какого-то страшного несчастья…
Говорят, что матерый амурский тигр-людоед, идя по следу добычи, способен за очень короткое время покрывать большие расстояния — если он здоров и действительно очень голоден. Правда это или неправда — сказать трудно, потому как никто: ни таежные охотники, ни биологи, ни лесоводы никогда не ставили подобных опытов, а если случайно и ставили, будучи убегающей от грозных клыков приманкой, то об их результатах пока ничего не известно — и вряд ли когда-нибудь станет известно.
Как бы то ни было, но этот тигр добрался до станции очень быстро — наверняка он пробирался через тайгу звериными тропами, и, пока дрезина Чалого делала большой крюк, каннибал сэкономил время.
Подойдя к станции, рыже-полосатая кошка остановилась в нерешительности.
С одной стороны от железнодорожных путей, от всех этих уродливых складов несло чем-то мерзким, неаппетитным, а кроме того, веяло опасностью.
Но с другой…
Запах человечины по-прежнему витал в нервно подрагивающих ноздрях хищника, манил за собой, и усы людоеда хищно топорщились.
Да и люди, обитавшие во всех этих домах, не были такими опасными, какими могли показаться с первого взгляда: за все время своей кровавой охоты тигр-людоед еще ни разу не встретил достойного отпора…
Сделав несколько мягких шагов вперед, огромная грациозная кошка остановилась, пригнувшись, — людоеду явственно почудился немного странный, но все равно невероятно аппетитный запах жареного мяса: точь-в-точь такой же, как там, у маленького полустанка.
И это решило все: несколько раз хлопнув себя мощным хвостом по бокам, тигр осторожно, стараясь не привлекать ничьего внимания, двинулся в сторону тех вагонов, что стояли на запасных путях — рядом с небольшим маневренным локомотивчиком ЧТЗ…
Сюда, к вагонам, вели чьи-то следы, и следы эти пахли свежей человеческой кровью…
— Амур, Амур, что такое? — Вот уже минут пять Каратаев безуспешно пытался успокоить пса. Тот по-прежнему скулил, испуганно косясь в сторону вагонов.
— Амур!..
Неожиданно Каратаев понял, в чем же причина такого поведения…
А причина могла была быть только одна: где-то тут, совсем рядом, находился тигр — тот самый, таежный людоед… Собаки, как никакие другие домашние животные, чувствуют его приближение: некоторые от страха даже теряют обоняние — это общеизвестно.
— Хорошо, Амур, я сам займусь охотой, а ты сиди тут, — приказал Михаил и, сняв со спины винчестер, двинулся в сторону одиноко стоявших вагонов с прикрепленным к ним тепловозиком: ему показалось, что где-то там мелькнуло нечто рыже-полосатое…
Как бы то ни было, но к Чалому вскоре вернулось бодрое расположение духа.
А че, бля?
Он прошел через такие передряги, через которые наверняка бы не прошел ни один блатной Дальнего Востока: благополучно избежал суровой лагерной «правилки» и смертного приговора, благополучно сбежал с хорошо охраняемой зоны, прихватив с собой «корову» — традиционное блюдо зимних татуированных беглецов; он познал радость свободной жизни, насилуя все, что движется, куря все, что курится, выпивая все, что горит, и грабя все, что нравится; ему даже удалось угнать военный вертолет; не его это вина, что все закончилось так плачевно.
Его и его «корову» преследовали менты с собаками — он умудрился обмануть и тех и других.
Наконец, ему даже посчастливилось украсть дрезину, добраться на ней сюда, на станцию, — тут-то его наверняка никто не стал бы искать.
Ангел, а точнее, дьявол-хранитель заботливо вел своего избранника через все тернии.
— Я вас всех опущу, — хмыкнул Чалый и, подумав о своем ангеле — или дьяволе, — добавил очень неразумно: — И тебя тоже…
Развернув сверток, Астафьев с достоинством принялся за трапезу — мясо Малины уже прилично замерзло и, что странно, таким, свежемороженым, казалось вкуснее, чем свежезажаренным.
Отрезая острой бритвой по тоненькому кусочку строганины, Иннокентий медленно, старательно пережевывал ее, помня о том, что тот долго живет, кто долго жует, смаковал, пытаясь вспомнить какие-нибудь смешные или унизительные истории, связанные с тем, кем он теперь ужинал.
"Нет, надо было все-таки его опустить, — укорил он себя, — ну и что, что петух? Зато доставил бы ему радость перед смертью…" Внезапно где-то рядом подозрительно заскрипел снег: Иннокентий затаил дыхание. Да, это были чьи-то шаги, и теперь они, как показалось Чалому, постепенно отдалялись от вагона.
— Обходчик или сцепщик, наверное, — прошептал он самому себе. — М-да, что-то совсем я нервным стал… Ничего, подлечусь, поправлюсь, возьму хорошего «медвежонка», — вне сомнения, он имел в виду сейф, — или кассу, или просто жирного карася раздербаню, их теперь много развелось… И в Сочи. Или в Ялту — мне все равно, абы только ментовских харь было поменьше… — Беглец, достав из кармана «беломорину», прикурил, продолжая строить планы. — А пока тут пересижу: если к вагонам локомотив прицепили — значит, им тут недолго стоять. Да и вагоны новые, ремонт таким не нужен… Наверняка в Хабару отправят, — окончательно уверовался в этой мысли пассажир, — а там… А там…
Он не успел дошептать, что же такого хорошего произойдет с ним в краевой столице, потому как где-то совсем рядом, под самым вагоном послышался подозрительный скрип снега…
Тигр подлез под вагон и, подняв морду, принялся нюхать доски со стороны рельсов — да, теперь чуткое обоняние хищника различало не один, а целых два запаха: запах мертвой, чуть сладковатой человечины, и запах еще живой — тела, в котором играла горячая горькая кровь; то, что этот хищник любил больше всего.
Людоед был очень хитер: он вылез из-под вагона, нарочно поскрипел снегом и очень быстро вновь скрылся под вагоном.
Наконец спустя несколько минут дверь осторожно приоткрылась — и тигр, сжавшись, как пружина, прыгнул в темный проем…
Да, теперь Чалый в ужасе понял: это конец, это смерть, и никто — ни Бог, ни сатана, ни ангел, ни дьявол, хранившие его до самого последнего момента, — уже ни за что не выручат его.
Огромная рыже-полосатая кошка шла по вагону, доски прогибались под ее страшной тяжестью, и Чалый, подняв взгляд, отпрянул: прямо на него смотрел страшно мерцающий, словно подсвеченный изнутри, зеленоватый взгляд — взгляд настоящего убийцы…
Они смотрели друг на друга недолго — казалось, всего одно мгновение, но этого страшного, гипнотического желто-зеленого взгляда было достаточно, чтобы Иннокентий понял: вот она какая, зеленоглазая смерть!.. Волосы под зоновским треухом встали дыбом, и Астафьев страшно, по-животному закричал:
— А-а-а-а!..
Тигр, пружинисто изогнувшись, прыгнул прямо на Чалого…
— А-а-а-а!..
— А-а-а-а!.. — вдруг послышалось где-то совсем рядом истошное. — А-а-а-а!..
Каратаев, оглянувшись, сразу же понял, откуда доносится крик: дверь вагона была приоткрыта, и, как показалось зоркому охотнику, в темном проеме на какое-то мгновение мелькнуло рыже-полосатое пятно.
Не медля ни минуты, Михаил бросился туда, рванул дверку и, вскочив, прицелился…
В самом углу сидел грязный, окровавленный мужчина, перед которым на рваном клифте были разложены пахнущие костром человеческие останки.
В другом углу, нервно ударяя себя хвостом по обвисшему брюху, стоял огромный тигр, — заметив вошедшего, который мог отобрать у него трапезу, тигр недовольно зарычал, оскалив желтоватые клыки…
— Его ешь, не меня… — фальцетом скулил мужчина, — его, его…
Казалось, еще чуть-чуть — и он заплачет от животного страха, от жуткой боли; только теперь охотник заметил, что одна рука Чалого полуоторвана, и из рукава на дощатый пол, на шкуру хищника хлещет темная кровь…
Чалый просил тигра предпочесть останки Малины, потому что, заметив появившегося с винчестером наперевес таежного охотника, заорал из последних сил:
— Спаси!.. Помоги!.. Убей его, застрели его, паучину полосатую, бля буду, очко тебе вылижу… Век воли не видать!..
Каратаев с ненавистью и отвращением смотрел на человека, так жестоко изуродовавшего его судьбу, — теперь тот, такой жалкий и грязный, вызывал в нем только чувство омерзения. А тигр, куда более хищный и, несомненно, коварный, в своем царственном величии вызывал у охотника невольное уважение…
— Спаси!..
Тихо и безжалостно щелкнул предохранитель винчестера; мужчина в бушлате закричал истошным голосом:
— Брата-а-ан!..
— Подохни, сука!.. — с ненавистью процедил Каратаев и даже не целясь плавно нажал на курок; оглушительно грянул выстрел, в тесном товарном вагоне едко запахло пороховым дымом, и уголовник, с головой, размозженной страшным зарядом, свалился на останки другого — того, которого он так и не доел.
Тигр нервно дернулся в сторону и, оглушительно зарычав, пошел на охотника — тот, отступив, выстрелил ему в голову…
Едва раздался первый выстрел, караулы — и ментовские, и военные, — бросив и водку, и грабеж вагонов, побежали к зданию вокзала.
Неизвестно, что они подумали: то ли о высадке на этой станции американского десанта и начале третьей мировой войны, то ли о появлении какого-нибудь другого, вышестоящего патруля, высланного для наведения дисциплины в двух нижестоящих, то ли о новогоднем салюте, каким-то загадочным образом самотранслирующемся сюда из столицы нашей Родины; как бы то ни было, все, едва не теряя по дороге оружие, бросились к маленькому зданию вокзала, явно желая забаррикадироваться где-нибудь в буфете до полной капитуляции начальника.
Второй же выстрел (тот самый, которым охотник поразил тигра-людоеда) и вовсе поверг их в панику: теперь всех бывших на станции военных можно было бы арестовать, орудуя только водяным пистолетом.
Но выстрелы прекратились так же неожиданно, как и начались: когда военные, немного осмелев, выглянули из укрытия, то увидели устало бредущего по путям человека с винчестером в руках…
— Эй, мужик, ты кто? — наконец крикнул самый смелый офицер.
Мужчина с винчестером, даже не обернувшись, продолжил свой путь.
Да, этот человек лучше других понимал главный закон сурового края, дающий право на победу только сильнейшему: "Закон — тайга, медведь — хозяин…"