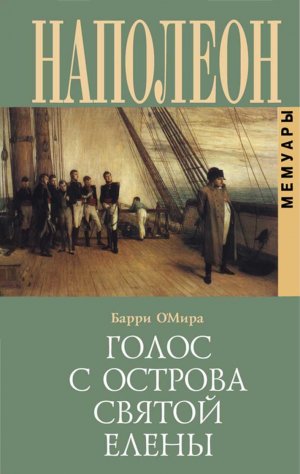
Голос с острова Святой Елены
В соответствии с резолюцией, принятой британским правительством о ссылке бывшего монарха Франции на отдалённое поселение, — о чем ему было сообщено несколько дней назад в Плимуте на борту военного корабля «Беллерофона», находившегося под командованием капитана Мэтленда заместителем государственного секретаря генерал-майором сэром Генри Банбери, — Наполеон вместе с членами своей свиты, которым было разрешено сопровождать его, 7 августа 1815 года был переправлен с борта «Беллерофона» на борт военного корабля «Нортумберлэнд». На этом корабле был поднят флаг контр-адмирала сэра Джорджа Кокбэрна, кавалера «Ордена Бани» 1-й степени, на которого была возложена обязанность доставить Наполеона на остров Святой Елены и обеспечить меры, необходимые для его охраны. Из всех членов свиты Наполеона, деливших его судьбу на борту «Беллерофона» и «Мирмидона», правительство его величества разрешило последовать вместе с ним в ссылку четырем его офицерам, его врачу и двенадцати лицам его обслуживающего персонала. На борту «Нортумберлэнда» его сопровождали следующие нижепоименованные лица: графы Бертран, Монтолон и Лас-Каз, барон Гурго, графиня Бертран и ее трое детей, графиня Монтолон и ее ребенок, Маршан, главный камердинер Наполеона, Киприани, метрдотель, Пьеррон, Сен-Дени, Новерраз, Лепаж, два брата Аршамбо, Сантини, Руссо, Жантилини, Жозефина, Бернар с женой — слуги графа Бертрана. Симпатичному юноше, примерно лет четырнадцати, сыну графа Лас-Каза, также было разрешено сопровождать своего отца. Перед переправкой Наполеона с борта «Беллерофонта» на борт «Нортумберлэнда» у сопровождавших его лиц, считавшихся пленниками, потребовали сдать шпаги и другие виды личного оружия, а затем их багаж был подвергнут досмотру с тем, чтобы изъять у них личные средства, будь то денежные чеки, наличные деньги или драгоценности. После выплаты денежного содержания тем членам свиты Наполеона, которым не было разрешено сопровождать его в ссылку, у лиц, отправлявшихся вместе с Наполеоном, были обнаружены 4000 золотых наполеондоров, конфискованные уполномоченными представителями правительства Его Величества.
Когда о решении британских министров отправить Наполеона на остров Святой Елены было сообщено членам его свиты, г-н Мэнго, врач, сопровождавший Наполеона из Рошфора, отказался следовать за ним в тропики. Г-н Мэнго, молодой еще человек, был неизвестен Наполеону и, благодаря случайному совпадению обстоятельств, был выбран для того, чтобы заботиться о состоянии здоровья Наполеона до тех пор, пока г-н Фурро де Борегар, работавший врачом Наполеона на Эльбе, сможет присоединиться к группе лиц, обслуживающих Наполеона; и, как мне стало известно, даже если бы г-н Мэнго пожелал проследовать на остров Святой Елены, его готовность предоставить свои услуги не была бы принята.
В первый же день, когда Наполеон вступил на борт «Беллерофона», он, после того как обошел весь корабль, обратился ко мне на палубе полуюта с вопросом, не являюсь ли я главным врачом. Я подтвердил это, причем на итальянском. Тогда он — тоже на итальянском — спросил меня, уроженцем какой страны я являюсь. Я ответил, что моя родная страна — Ирландия. «Где вы обучались своей профессии?» — «В Дублине и в Лондоне». — «В котором из этих двух городов лучше преподаётся медицина?» Я ответил, что считаю, что в Дублине лучше обучают анатомии, а в Лондоне — хирургии. «А, — заметил он, улыбаясь, — вы утверждаете, что анатомию лучше преподают в Дублине потому, что вы ирландец». Я ответил, извинившись при этом, что сделал подобное заявление только потому, что оно соответствует действительности: поскольку в Дублине трупы для анатомирования в четыре раза дешевле, чем в Лондоне, а профессора в этих городах одинаково высококвалифицированны. Мой ответ вызвал у Наполеона улыбку, после чего он спросил, в каких сражениях я принимал участие и в каких частях света мне приходилось служить. Я упомянул несколько стран и среди них Египет. При слове «Египет» он забросал меня вопросами, на которые я постарался ответить по мере моих сил. Я рассказал ему, что офицерская столовая воинской части, к которой я тогда принадлежал, размещалась в доме, служившем до этого конюшней для его лошадей. Этот мой рассказ вызвал у него смех и после этой беседы, когда бы он ни прохаживался по палубе, то всегда, когда замечал меня, подзывал к себе, чтобы я выступал в роли переводчика в беседах с другими членами экипажа или чтобы я что-либо объяснил ему.
При переходе из Рошфора в Торбей полковник Плана, один из его ординарцев, серьёзно занемог и мне пришлось лечить его, поскольку г-н Мэнго, страдавший от морской болезни, был не в силах оказывать какую-либо медицинскую помощь. В период всей болезни г-на Мэнго Наполеон часто задавал мне вопросы о состоянии здоровья больного и расспрашивал о характере его заболевания и о способе его лечения. После нашего прибытия в Плимут генерал Гурго также почувствовал себя очень плохо и оказал мне честь, обратившись ко мне с просьбой о медицинской консультации. Все эти обстоятельства способствовали тому, что у Наполеона со мной установился более близкий контакт, чем с кем-либо из других офицеров корабля, за исключением капитана Мэтленда; и за день до отплытия «Беллерофонта» из Торбея герцог Ровиго, с которым у нас вошло в привычку часто беседовать, спросил меня, не хочу ли я сопровождать Наполеона на остров Святой Елены в качестве врача, добавив при этом, что в случае моего согласия я получу соответствующее сообщение от графа Бертрана, гофмаршала. Я ответил, что у меня нет возражений против этого предложения при условии, если британское правительство и мой капитан будут готовы разрешить мне это, а также при условии соблюдения некоторых договорённостей. Обо всём этом я немедленно доложил капитану Мэтленду, который был столь любезен, что высказал свою точку зрения по этому поводу и дал мне совет; а именно, что мне следует принять данное предложение при условии, если на это можно будет получить санкцию адмирала лорда Кейта и английского правительства. Капитан Мэтленд добавил, что обсудит этот вопрос с его светлостью. Когда мы прибыли в Торбей, граф Бертран сделал данное предложение капитану Мэтленду и мне. О предложении было немедленно доложено лорду Кейту. Его светлость вызвал меня на борт корабля «Тоннант» и после короткой предварительной беседы, во время которой я объяснил характер договорённостей, подготовленных мною для обсуждения деталей сделанного мне предложения, оказал мне честь, настоятельно порекомендовав принять это предложение. Лорд Кейт добавил, что он не может приказать мне сделать это, поскольку указанное предложение выходит за рамки положения о британской военно-морской службе, а всё дело имеет чрезвычайный характер. Но лорд Кейт посоветовал мне принять данное мне предложение и выразил свою убеждённость в том, что правительство будет чувствовать себя обязанным мне, так как оно очень хотело бы, чтобы Наполеона сопровождал врач, выбранный им самим. Лорд Кейт добавил, что это именно тот самый случай, когда я могу следовать своему профессиональному долгу, согласуя его с честью и с долгом перед моей страной и моим монархом.
Испытывая чувство глубокого удовлетворения от того, что избранный мною путь, над которым я много раздумывал, одобрительно встречен столь выдающимися личностями, как адмирал лорд Кейт и капитан Мэтленд, я принял данное мне предложение и проследовал на борт «Нортумберлэнда». Но, однако, в письме на имя его светлости своё согласие сопровождать Наполеона в качестве врача я обусловил тем, что всегда буду считаться британским офицером, находящимся в списке морских врачей с полной оплатой денежного содержания, выплачиваемого британским правительством, и что буду волен покинуть столь специфическое место службы в том случае, если найду его несовместимым с моими пожеланиями.
Во время плавания, которое продолжалось около десяти недель, после первой недели Наполеон не особенно страдал от морской болезни. До обеда он редко появлялся на палубе. В десять или в одиннадцать часов утра он завтракал в своей каюте, стоя у стола, и значительную часть дня проводил за чтением и делал записи в тетради. До того как сесть за обеденный стол, он обычно успевал сыграть партию в шахматы и затем из чувства уважения к адмиралу примерно час отводил обеду: затем ему подавали кофе, после чего он покидал сотрапезников и отправлялся на прогулку по палубе в сопровождении графа Бертрана или графа Лас-Каза, в то время как адмирал и остальные участники обеда продолжали оставаться за обеденным столом час или два. Прогуливаясь по верхней части палубы, зарезервированной для офицеров, он нередко обращался к тем офицерам, которые понимали французский язык, и беседовал с ними; и часто задавал г-ну Уордену (врач «Нортумберлэнда») вопросы, касающиеся наиболее распространённых заболеваний и способов их лечения. Иногда он проводил время за карточным столом, играя партию в вист, но обычно отправлялся в свою каюту в девять или десять часов вечера. Таков был его однообразный распорядок пребывания на корабле в течение всего плавания к острову Святой Елены.
Прибыв к острову Мадейра, «Нортумберлэнд» остановился у входа в порт Фуншал, а к берегу был отправлен фрегат «Гавана», чтобы пополнить запасы провизии. В течение всего времени, когда мы стояли в открытом море, подняв якорь, дул неистовый ветер сирокко, нанесший громадный урон виноградникам острова. Нам сообщили, что некоторые невежественные местные жители из чувства суеверия приписывали присутствию Наполеона происхождение всех этих местных бед. Граф Бертран направил заказ в Англию на покупку для Наполеона от 1400 до 1500 книг.
Мы прибыли на остров Святой Елены 15 октября. Ничто не может вызвать большего чувства запущенности и отвращения, чем внешний вид этого острова. Когда мы стали на якорь, то ожидали, что Наполеона пригласят остановиться в «Континентальном доме», загородной резиденции губернатора, — до того времени, пока не будет готов дом для него: поскольку прежде всех знатных пассажиров, посещавших остров, неизбежно приглашали гостить в этой резиденции. Существовала, возможно, некая убедительная причина, вследствие которой подобная обходительность не распространялась на Наполеона.
Вечером 17 октября, примерно в семь часов, Наполеон высадился в Джеймстауне в сопровождении адмирала, графа и графини Бертран, Лас-Каза, графа и графини Монтолон и других и проследовал в дом, принадлежавший господину по имени Портез. Этот дом, один из лучших в городе, был выбран адмиралом для временного размещения Наполеона. Однако дом не был лишён неудобств, поскольку Наполеон не мог подойти к окнам и даже покинуть спальную комнату без того, чтобы не оказаться перед дерзкими и пристальными взглядами тех, кому не терпелось удовлетворить своё любопытство видом царственного пленника. В городе не было ни одного дома, предусматривавшего полного уединения, за исключением губернаторского дворца, защищённого с одной стороны садом, а с другой — прогулочной дорожкой вдоль крепостных валов, возвышавшихся над бухтой с видом на океан. Близость губернаторского дворца к океану, вероятно, и явилась причиной того, что дворец не был выбран в качестве места размещения Наполеона.
Большую часть дня жители острова пребывали в состоянии сильного возбуждения в ожидании возможности увидеть ссыльного правителя в тот момент, когда он вступит на землю своего заключения. Масса лодок и судёнышек заранее бороздили воды бухты, самый разнообразный люд толпился на улице и заполнил дома, вдоль которых должен был проезжать Наполеон, страстно надеясь хотя бы мельком увидеть его лицо. Однако ожидание этого момента для многих местных жителей ничего, кроме чувства разочарования, не принесло, ибо Наполеон высадился на берег острова только после захода солнца, когда большинство островитян, устав ждать, отправились по своим домам, предположив, что высадка Наполеона на берег перенесена на следующее утро. К тому же после захода солнца было почти невозможно распознать в темноте фигуру Наполеона.
В доме г-на Портеза также были размещены графы Бертран и Монтолон с супругами, граф Лас-Каз с сыном, генерал Гурго и я.
Рано утром 18 октября Наполеон в сопровождении адмирала и Лас-Каза отправились в Лонгвуд, где находился дом, служивший загородной резиденцией вице-губернатора. Наполеону доложили, что это место считается наиболее подходящим для его будущей резиденции. Наполеон с помощью слуги оседлал небольшого норовистого черного коня, которого для этого случая одолжил Наполеону полковник Уилкс, управляющий островом Святой Елены от Восточно-Индийской компании. На пути в Лонгвуд, в том месте, где на дороге начинается подъём, внимание Наполеона привлёк небольшой, аккуратно построенный дом. Это был коттедж «Брайерс», расположенный примерно в двухстах ярдах от дороги. Этот коттедж принадлежал г-ну Балькуму, которому, как сообщили Наполеону, предстояло стать его поставщиком. Наполеону явно понравилось очаровательное место, в котором находился коттедж.
Лонгвуд расположен на плато, образовавшемся на вершине горы высотой около 1800 футов над уровнем моря; включая Дедвуд, всё плато занимает примерно 1400–1500 акров земли, на большей части которой произрастает эвкалипт. Весь безрадостный вид плато оставляет в душе чувство полной безнадежности. Наполеон, однако, заявил, что он скорее согласится устроить свою резиденцию в этом месте, чем оставаться в городе в качестве мишени назойливого любопытства докучливых зрителей. К сожалению, в одноэтажном доме на плато Лонгвуда было только пять комнат, которые, в соответствии с пожеланиями владельцев дома, были построены в один ряд, следуя одна за другой, как бы демонстрируя полнейшее пренебрежение как к какому-либо порядку, так и к удобству. Подобное расположение комнат в доме было совершенно неприемлемым для пристанища Наполеона и его свиты. Следовательно, необходимо было провести работу по дополнительному строительству в доме, которая, и это было очевидно, не могла быть завершена в течение ближайших нескольких недель даже под надзором такого энергичного офицера, каким являлся сэр Джордж Кокбэрн. Возвращаясь из Лонгвуда, Наполеон на пути к коттеджу «Брайерс» заметил сэру Джорджу, что, пока дополнительные работы не будут закончены в Лонгвуде, он предпочёл бы вместо того, чтобы, вернувшись в город, дожидаться там дня переезда в Лонгвуд, временно поселиться здесь, при условии, что на это будет получено согласие владельцев коттеджа. Пожелание Наполеона было немедленно удовлетворено.
Поместье «Брайерс» находится в очаровательном уголке острова, примерно в полутора милях от Джеймстауна, и включает в себя несколько акров тщательно возделанной земли с прекрасным садом и культивированными огородами. Вся территория поместья в избытке снабжена водой и украшена многими восхитительными тенистыми дорожками для прогулок. Коттедж «Браейрс» давно славился искренним старым английским гостеприимством его владельца г-на Балькума. Примерно в двадцати ярдах от жилого дома стоял небольшой флигель с одной хорошей комнатой на первом этаже и с двумя комнатушками на чердаке. Наполеон выбрал для своего обиталища этот флигель, не желая причинять какие-либо неудобства семье хозяина коттеджа. В комнате на первом этаже была разложена походная кровать Наполеона, и именно в этой комнате он ел, спал, читал и диктовал заметки о своей богатой событиями жизни. Лас-Каз и его сын разместились в одной из комнатушек на чердаке, а главный камердинер Наполеона и остальные члены обслуживающего персонала спали в другой комнате, а также на полу в маленьком холле перед входом в комнату на первом этаже. Поначалу обед Наполеону привозили готовым из города; но позже г-н Балькум изыскал способ использовать одну из кухонь коттеджа для приготовления еды для Наполеона. Условия для сносного проживания во флигеле были столь ограниченны, что Наполеон часто сразу же после своего обеда выходил из комнаты, чтобы дать возможность членам своей свиты обедать там же.
Семья г-на Балькума состояла из его жены, двух дочерей, одной было двенадцать лет, а другой — пятнадцать, и двух сыновей, пяти и шести лет. Юные девушки сносно говорили по-французски, и Наполеон часто захаживал в дом хозяина, чтобы принять участие в игре в вист или просто немного поболтать. Однажды, к большому удовольствию юных девушек, он затеял с ними игру в жмурки. Эта достойная семья делала все возможное, чтобы облегчить тяготы нынешнего положения Наполеона. В коттедже «Брайерс» обосновался артиллерийский капитан, выступавший в роли дежурного офицера; поначалу там же были размещены сержант и несколько солдат для обеспечения дополнительной безопасности; но вследствие протеста на имя сэра Джорджа Кокбэрна последний приказал их удалить. Графы Бертран и Монтолон, соответственно со своими супругами и детьми, а также генерал Гурго и я проживали в доме г-на Портеза, куда нам г-ном Балькумом был доставлен удобный стол, сделанный во французском стиле. Когда кто-либо из них высказывал пожелание посетить коттедж «Брайерс» или выйти из дома куда-нибудь в город, то, помимо необходимости сделать это в моём сопровождении или в сопровождении другого британского офицера или в присутствии шествовавшего позади солдата, никакие дальнейшие ограничения в их свободе передвижения не предусматривались. В случае соблюдения упомянутой процедуры им разрешалось посещать, в соответствии с их пожеланиями, любую часть острова, за исключением фортов и артиллерийских батарей.
Французским обитателям дома г-на Портеза наносили визиты полковник Уилкс и его супруга, полковник Скелтон и его супруга, члены городского совета и многие уважаемые жители острова, а также офицеры, как военные, так и военно-морские, служившие в местном гарнизоне и в эскадре, охранявшей остров. Эти офицеры посещали дом г-на Портеза целыми семьями. Иногда французы устраивали для своих гостей скромные вечеринки, стараясь проводить их в атмосфере, лишённой признаков напряжённости и скованности. Время от времени графини Бертран и Монтолон, сопровождаемые одним, а то и двумя случайно попавшими на остров транзитом приезжими, посвящали часок-другой осмотру достопримечательностей города и, бывало, покупали выставленные на продажу в лавках местных торговцев товары, завезённые из стран Востока и Европы; эти лавки, хотя и далёкие от того, чтобы соперничать с магазинами на рю Вивьен с их разнообразием и великолепием товаров, тем не менее способствовали тому, чтобы хотя бы немного отвлечь их от скудных условий проживания на острове Святой Елены.
Для представителей местного высшего света сэр Джордж Кокбэрн дал несколько балов, на каждый из которых приглашались и французы; и они постоянно ходили на эти балы, за исключением Наполеона.
Тем временем сэр Джордж Кокбэрн, не покладая рук, принимал все возможные меры для расширения и приведения в божеский вид устаревшего дома в Лонгвуде.
В результате бесперебойной работы дом в Лонгвуде был реконструирован и расширен до такой степени, что 9 декабря смог принять Наполеона и часть его обслуживающего персонала, а также графа и графиню Монтолон с детьми и графа Лас-Каза с сыном.
Сам Наполеон занял на первом этаже небольшую узкую спальную комнату, комнату таких же размеров, приспособленную для его рабочего кабинета, и небольшую комнатушку, что-то вроде передней, в которой была водружена ванна. Из рабочего кабинета Наполеона дверь вела в тёмное, с низким потолком помещение, которое было превращено в столовую комнату. Противоположное крыло дома вмещало спальную комнату, по своим размерам превышавшую спальню Наполеона. Эта спальная комната с прихожей и чуланом стала пристанищем графа и графини Монтолон с их сыном. Из столовой комнаты дверь вела в гостиную комнату, примерно восемнадцати футов в длину и пятнадцати футов в ширину. К гостиной примыкала пристроенная к дому по приказу сэра Джорджа Кокбэрна просторная приёмная комната, гораздо больших размеров, чем гостиная, с более высоким потолком и с тремя окнами с каждой стороны. Вдоль всего здания была построена веранда с выходом в сад. Эта приёмная была единственно хорошей комнатой во всём доме, хотя и строилась в тягчайших условиях, так как с приближением вечера наступала нестерпимая жара, буквально прожигавшая насквозь дерево, из которого она возводилась.
Лас-Каз получил в своё распоряжение комнату, находившуюся рядом с кухней[1]. В потолке этой комнаты, ранее предназначенной для слуг полковника Скелтона, было сделано отверстие для верхушки очень узкой лестницы, ведшей в небольшой «скворечник» под крышей, в котором отдыхал сын Лас-Каза. В чердаках под крышей старой постройки дома были настелены полы, после чего они стали жилыми помещениями для Маршана, Киприани, Сен-Дени, Жозефины и других членов обслуживающего персонала Наполеона. В связи с тем, что крыша всего здания была покатой, в этих чердачных каморках можно было встать во весь рост только в центре помещения. Лучи солнца, проникавшие сквозь щели крыши, временами создавали атмосферу нестерпимой жары. Для обслуживающего персонала, а также для генерала Гурго, дежурного британского офицера и для меня были построены дополнительные комнаты. До завершения их строительства всем этим лицам пришлось проживать в шатрах, снаружи дома. Лейтенант Блад и г-н Купер, плотник с корабля «Нортумберлэнд», с несколькими квалифицированными рабочими с того же корабля также проживали в Лонгвуде; первые двое обосновались под старым лисельным парусом, преобразованным в шатёр. По приказу сэра Джорджа Кокбэрна для дежурных офицеров и для меня был найден и доставлен в Лонгвуд весьма роскошный (по меркам уровня жизни на острове Святой Елены) стол.
Граф и графиня Бертран с семьёй поселились в небольшом коттедже «Ворота Хата», примерно в одной миле от Лонгвуда. Хотя этот коттедж не отличался комфортабельностью, но семья графа Бертрана тем не менее выбрала его для своего проживания по своему собственному желанию.
В течение того времени, пока Наполеон проживал в коттедже «Брайерс», я не вёл регулярного дневника и, соответственно, могу привести только краткое описание событий. Наполеон в основном был занят тем, что диктовал свои воспоминания Лас-Казу и его сыну, а также графам Бертрану, Монтолону и Гурго. Иногда на лужайке перед домом он принимал посетителей, наносивших ему визит, чтобы выразить своё уважение. Несколько раз некоторые из них, если они на это получали разрешение, удостаивались чести быть принятыми Наполеоном вечером в доме г-на Балькума. Пока он проживал в коттедже «Брайерс», он лишь один раз покинул территорию поместья. Это случилось тогда, когда он, совершая длительную прогулку, вышел к небольшому дому г-на Ходсона, майора пехотного полка. В течение получаса Наполеон с удовольствием беседовал с майором и его супругой, уделив особое внимание их удивительно очаровательным детям. Он постоянно часами прогуливался по тенистым дорожкам и по аллеям поместья «Брайерс». В этих случаях принимались все меры, чтобы никто не нарушал его покоя. Однажды, совершая со мной одну из таких прогулок, он остановился, подняв руку, указал на уродливые мрачные обрывы, окружавшие нас, и сказал: «Вы только посмотрите, каково благородство министров правительства вашей страны! Вот вам пример их великодушия по отношению к несчастному человеку, который, слепо положившись на то, что он так ошибочно принял за их национальный характер, в свой чёрный час простодушно доверился им. Одно время я думал, что у вас свободное общество: теперь же я вижу, что ваши министры смеются над вашими же законами, которые, как и законы других стран, устанавливаются только для того, чтобы притеснять беззащитных и прикрывать сильных, всякий раз когда ваше правительство имеет в виду какую-либо цель».
Как-то от Лас-Каза он узнал, что старый малаец, нанятый г-ном Балькумом на работу садовником, несколько лет назад на своей родине попал в ловушку, был схвачен и перевезён на английском корабле на остров Святой Елены. С корабля он был тайно высажен на берег, незаконно продан как невольник и затем передавался из рук в руки каждому, кто хотел нанять его, но все его заработки в основном присваивались купившим его хозяином. Об этой истории Наполеон сообщил адмиралу, который немедленно дал указание провести расследование; если бы остров остался под командованием адмирала, то вероятным результатом расследования явилось бы освобождение бедняги Тоби из рабства[2].
В Лонгвуде Наполеону было отведено вокруг его дома пространство примерно миль двенадцать по окружности, в пределах которого он мог ездить верхом или прогуливаться без сопровождения британского офицера. Внутри этого пространства в Дедвуде, около мили от Лонгвуда, был разбит лагерь 53-го пехотного полка, а другой лагерь обосновался у «Ворот Хата», напротив дома Бертрана, у дверей которого стоял караульный офицер. С Бертраном была достигнута договорённость, в соответствии с которой лицам, получавшим от него пропуск, разрешалось вступать на территорию Лонгвуда. Эта процедура не вызывала слишком больших неудобств для графа Бертрана, поскольку никто не мог обращаться к нему за пропуском без того, чтобы сначала не заручиться разрешением у адмирала, губернатора или сэра Джорджа Бингема, и, соответственно, любой нежелательной личности был закрыт доступ к графу.
Французам также разрешалось направлять запечатанные письма местным жителям, а также лицам, пребывающим на острове. Подобный установленный порядок вряд ли таил в себе какую-либо опасность, поскольку было очевидно, что если бы французы захотели переправить письма в Европу, то сделать это можно было только после предварительной договорённости с посредниками; и было совершенно невероятно, чтобы французы, используя посредничество английского слуги или английского гвардейского драгуна, послали письма, содержание которых скомпрометировало бы их самих или их друзей, когда в их распоряжении имелся более простой и естественный способ отправки корреспонденции[3].
У входа в Лонгвуд, примерно в шестистах шагах от дома, на посту стоял охранник в звании младшего офицера, а вдоль границ всей территории Лонгвуда были расставлены часовые и пикеты. В девять часов часовые подтягивались к дому и занимали позиции, позволявшие им переговариваться друг с другом; они окружали дом таким образом, чтобы видеть любого человека, который мог войти или выйти из дома. Вход в дом охранялся двумя часовыми, а вдоль дома непрерывно взад и вперёд шагали патрули. После девяти часов вечера Наполеон не мог свободно покинуть дом, если его не сопровождал старший офицер; и никакому лицу не разрешалось проходить мимо дома без специального пропуска. Подобное положение дел продолжалось до восхода солнца следующего утра. Каждое место на всём берегу острова, удобное для высадки с моря, и фактически каждое место, которое, казалось, могло предоставить возможность такой высадки, находилось под охраной. Часовые были расставлены даже на всех ведущих к морю горных тропинках, которыми пользовались разве лишь дикие козы, хотя, в сущности, препятствия, воздвигнутые самой природой практически на каждом шагу, оказались бы непреодолимыми для столь грузного человека, каким был Наполеон в период своей жизни на острове Святой Елены.
С различных сигнальных постов острова корабли в море зачастую обнаруживались уже на расстоянии в двадцать четыре морские лиги и всегда задолго до того времени, когда они могли приблизиться к берегу. В море постоянно крейсировали два военных корабля, один с наветренной стороны, другой — с подветренной. Эти корабли немедленно получали сигналы, как только посты на берегу обнаруживали в море судно. Каждое судно, за исключением британского военного корабля, сопровождалось по пути одним из крейсеров, который оставался с ним до тех пор, пока ему разрешалось бросить якорь или отдавался приказ отплыть прочь от острова. Никаким иностранным суднам не разрешалось бросать якорь, если только они не терпели бедствия. В этом случае ни одному человеку с таких суден не разрешалось сходить на берег. Офицер с воинской командой с одного из военных крейсеров посылался на борт судна, чтобы держать под наблюдением весь его персонал на всё время стоянки, а также для того, чтобы воспрепятствовать любому виду связи с островом. Каждое рыболовное судно с острова было пронумеровано. Каждый вечер при заходе солнца оно должно было стать на якорь под надзором лейтенанта военно-морских сил. Ни одной лодке, за исключением сторожевых лодок с военных кораблей, которые крейсировали у острова всю ночь, не разрешалось находиться в море после захода солнца. Кроме того, дежурный офицер получил указание в течение суток дважды удостоверяться в фактическом существовании Наполеона, что он и делал с максимальным, насколько это было возможно, тактом. Таким образом сэр Джордж Кокбэрн, мобилизовав все имеющиеся в его распоряжении людские резервы, принял чрезвычайные меры предосторожности, дабы воспрепятствовать побегу Наполеона. Оставалось разве лишь запрятать Наполеона в тюрьму и посадить его там на цепь.
Вскоре после прибытия Наполеона в Лонгвуд я сообщил ему новость о смерти Мюрата. Он выслушал меня с невозмутимым видом и сразу же спросил, погиб ли Мюрат на поле битвы. Поначалу я не решался сказать ему, что его шурин был казнен как преступник. После его повторного вопроса я рассказал ему, каким образом Мюрат был лишён жизни. Он слушал мой рассказ, не меняя спокойного выражения лица. (Я также информировал его о смерти Нея.) «Он был храбрым человеком, храбрее его не было; но он был сумасшедшим, — заметил Наполеон. — Он умер, не испытывая чувства уважения к человечеству. Он предал меня в Фонтенбло: воззвание против Бурбонов, которое, как он заявлял в свою защиту, было передано ему по моему указанию, на самом деле было написано им самим, и я никогда ничего не знал об этом документе, пока он не был зачитан войскам. Это верно, что я направил ему приказ подчиняться мне. А что он мог сделать? Его войска покинули его. Не только войска, но народ хотел присоединиться ко мне».
Я дал ему почитать книгу мисс Вильямс «Современное положение Франции». Через два или три дня он, одеваясь, сказал мне: «Это гнусная стряпня этой вашей дамы. Это нагромождение лжи. Это, — сказал он, распахивая рубашку и выставляя напоказ фланелевую жилетку, — единственная броня, которую я когда-либо носил. И для моей шляпы подкладкой также служила сталь! Вот вам шляпа, которую я надевал, — и он указал на ту самую шляпу, которую всегда носил. — О, ей, несомненно, хорошо заплатили за всю ту злобу и ложь, которые она излила».
Время, когда Наполеон утром вставал с постели, было неопределенным и во многом зависело от того, как он провел ночь. У него был плохой сон, и часто он вставал с постели в три или четыре часа утра. В этом случае он читал или писал до шести или семи часов утра, а потом, если погода была хорошей, садился на лошадь и отправлялся на прогулку в сопровождении кого-либо из своих генералов или вновь ложился спать на пару часов. Когда он ложился спать, он не мог заснуть до тех пор, пока ему не обеспечивали полнейшую темноту в его спальне. Для этого прикрывалась любая щель, через которую мог проникнуть луч света. Хотя я иногда видел, как он падал на диван и засыпал на несколько минут при полном дневном свете. Когда он заболевал, то Маршан изредка читал ему до тех пор, пока он не засыпал.
Когда он завтракал в собственной комнате, то обычно ему подавали завтрак на небольшом круглом столе между девятью и десятью часами утра; если же он завтракал вместе со своей свитой, то это было в одиннадцать часов утра; и в том и в другом случае это был лёгкий завтрак. После завтрака он обычно в течение нескольких часов диктовал кому-либо из своей свиты, а в два или в три часа дня он принимал посетителей, которых направляли к нему с визитом в соответствии с предварительной договорённостью. Между четырьмя и пятью часами, когда позволяла погода, он совершал прогулку верхом или в карете в течение часа или двух, сопровождаемый всей свитой; затем возвращался домой, диктовал или читал до восьми вечера, а иногда играл партию в шахматы. В восемь часов вечера объявлялся обед, который редко продолжался более двадцати-тридцати минут. Он ел с аппетитом и быстро, не проявляя пристрастия к острой и жирной пище. Одним из его любимых блюд была жареная баранья нога, с которой, как мне иногда приходилось видеть, он срезал поджаренную кожицу; он также был неравнодушен к бараньим отбивным. За обедом он редко выпивал более пинты бордо, обычно сильно разбавленного водой. После обеда, когда слуги удалялись и не было гостей, он иногда играл в шахматы или в вист, но чаще посылал за томом Корнеля или другого высокочтимого автора и читал вслух около часа или беседовал с дамами и другими членами свиты. Обычно он удалялся в спальную комнату в десять или одиннадцать часов вечера и сразу же ложился спать. Когда он завтракал или обедал в собственных апартаментах, то иногда посылал за кем-либо из своей свиты для беседы во время еды. Он никогда не ел более двух раз в день, и я никогда не видел, чтобы он пил более одной очень маленькой чашки кофе после еды. Те люди, которые служили у него последние пятнадцать лет, сообщили мне, что он никогда не превышал эту норму кофе с тех пор, когда они впервые узнали его.
14 апреля из Англии прибыл фрегат «Фаэтон» под командованием капитана Стэнфелла. На борту фрегата находились генерал-лейтенант сэр Хадсон Лоу, его супруга, сэр Томас Рид, заместитель сэра Хадсона Лоу, генеральный адъютант, майор Горрекер, адъютант сэра Хадсона Лоу, подполковник Листер, инспектор полиции, майор Эммет, офицер инженерных войск, г-н Бакстер, заместитель инспектора госпиталей, лейтенант Уортам, офицер инженерных войск, лейтенант Джэксон, штабист, а также другие офицеры. На следующий день сэр Хадсон Лоу высадился на берег и официально вступил в должность губернатора острова Святая Елена с соответствующими данному событию протокольными церемониями. Затем в Лонгвуд было направлено уведомление о том, что новый губернатор нанесёт Наполеону визит в девять часов утра. В соответствии с этим немного раньше указанного часа сэр Хадсон Лоу прибыл в Лонгвуд. Сопровождаемый сэром Джорджем Кокбэрном и многочисленным персоналом губернаторского штаба, он приехал в самый разгар проливного дождя, да ещё и при штормовом ветре. Поскольку назначенный час визита был явно неуместным, учитывая то обстоятельство, что в такой ранний час Наполеон никого не принимал, то приехавшему губернатору сообщили, что Наполеон испытывает недомогание и принять в это утро никого не сможет. Подобный оборот событий, по-видимому, привёл в замешательство сэра Хадсона Лоу, который, прошагав несколько минут под окнами гостиной дома, потребовал, чтобы ему сообщили, в какое время следующего дня его смогли бы принять; встреча с Наполеоном была назначена на 2 часа дня.
Именно к этому времени губернатор и прибыл на следующий день в Лонгвуд, сопровождаемый, как и накануне, адмиралом, а также персоналом губернаторского штаба. Сначала их провели в столовую. Позади неё находилась гостиная, в которой их должны были принять. Сэр Джордж Кокбэрн предложил сэру Хадсону Лоу, чтобы он представил последнего Наполеону, что явилось бы, по его мнению, наиболее официальным и правильным способом передачи полномочий по надзору над пленником; для этого, как предложил сэр Джордж, он и сэр Хадсон Лоу должны войти в гостиную вместе. Сэр Хадсон Лоу согласился с этим предложением. У двери в гостиную стоял Новерраз, один из французских слуг. Ему вменялось в обязанность объявлять имена лиц, приглашаемых в гостиную. Прибывшая группа англичан во главе с губернатором стояла в комнате перед гостиной в ожидании. Наконец дверь гостиной открылась и прозвучало имя губернатора. Как только было произнесено слово «губернатор», сэр Хадсон Лоу ринулся к двери и вошел в гостиную настолько быстро, что сэр Джордж Кокбэрн не успел оценить создавшуюся ситуацию. Дверь за губернатором закрылась, и когда адмирал представился французскому слуге, чтобы прошествовать вслед за губернатором, то Новерраз, не слышавший имени адмирала для приглашения, заявил ему, что тот не может войти в гостиную. Сэр Хадсон Лоу оставался с Наполеоном примерно минут пятнадцать. Беседа между ними велась в основном на итальянском языке. Затем состоялось представление Наполеону офицеров губернаторского штаба. Адмирал вновь обращаться с просьбой быть принятым Наполеоном не стал.
18 апреля я принёс Наполеону несколько газет. Наполеон, задав мне пару вопросов о заседании парламента, поинтересовался, кто же это одолжил мне газеты. Я ответил, что это адмирал одолжил их мне. На это Наполеон сказал: «Я думаю, что с ним довольно дурно обошлись в тот день, когда он приехал ко мне вместе с новым губернатором. Что он говорит по этому поводу?» Я ответил: «Адмирал расценил это как оскорбление, нанесённое ему лично, и, конечно, чувствует себя сильно обиженным. Однако генерал Монтолон предоставил объяснения всему случившемуся». Наполеон сказал: «Мне не доставляет никакого удовольствия видеть его, да и он сам не выражал подобного желания». Я объяснил: «Он хотел официально представить нового губернатора и думал, что, поскольку ему предстояло выступать именно в этом качестве, необходимости в предварительном извещении о встрече с вами не требуется». Наполеон ответил: «Он должен был информировать меня через Бертрана, что хочет видеть меня; но, — продолжал он, — он хотел поссорить меня с новым губернатором и с этой целью уговорил его появиться здесь в девять часов утра, хотя хорошо знает, что я никого не принимал и не буду принимать в этот час. Очень жаль, что человек, действительно наделённый талантами, ибо я считаю его очень хорошим офицером той службы, которую он представляет, вынужден был обращаться со мной именно так, как он обращался. Это говорит о величайшем недостатке великодушия, когда оскорбляют несчастного; потому что оскорбление тех, кто находится в вашей власти и соответственно не в состоянии сопротивляться, является определённым признаком подлого ума».
Я заявил, что абсолютно убежден в том, что вся эта история с адмиралом явилась результатом нелепого недоразумения, что у адмирала никогда не было ни малейшего намерения оскорбить или поссорить его с губернатором. Наполеон же продолжал: «Я, оказавшись в бедственном положении, искал прибежища, но вместо него обрёл неуважение к себе, дурное обращение и оскорбления. Вскоре после того как я вступил на борт его корабля, во время обеда в его каюте я, поскольку не хотел сидеть за столом в течение двух или трёх часов, поглощая вино до полнейшего отупения, встал из-за стола и вышел прогуляться по палубе. Когда я выходил из каюты, он заявил высокомерным тоном: «Я думаю, что генерал никогда не читал лорда Честерфилда», — имея в виду, что я недостаточно учтив и не знаю, как вести себя за столом».
Я постарался объяснить Наполеону, что у англичан, и прежде всего у морских офицеров, отсутствует привычка придерживаться строгих правил и манер, и поэтому высказывание адмирала не таило в себе абсолютно никакого умысла. «Если, — заявил Наполеон мне в ответ, — сэр Джордж захотел бы нанести визит лорду Сен-Винсенту или лорду Кейту, разве он заранее не предупредил бы их об этом и не спросил бы, в котором часу им удобно видеть его; и разве ко мне не должны относиться с таким же уважением, как к любому из них? Не говоря уже о том, что я являлся коронованной особой, — добавил он, смеясь, — по крайней мере то, что я совершил, так же хорошо известно, как и то, что совершили они». Я попытался вновь взять под защиту адмирала, но в ответ Наполеон напомнил мне о лорде Честерфилде, о котором он только что рассказывал, и спросил меня, что бы это могло означать.
В этот момент в комнату вошёл генерал Монтолон с переводом текста официального заявления, присланного сэром Хадсоном Лоу. От лиц обслуживающего персонала Наполеона, пожелавших остаться на острове, требовалось, чтобы они подписали это заявление; к нему был приложен перевод текста следующего письма:
«Даунинг-стрит, 10 января 1816 года.
Настоящим я информирую вас о желании Его Королевского Величества, принца-регента, чтобы вы по прибытии на остров Святой Елены сообщили лицам из окружения Наполеона Бонапарта, включая лиц его обслуживающего персонала, что они свободны в своём решении немедленно покинуть остров и вернуться в Европу, добавив, что никому не будет разрешено оставаться на острове Святой Елены, за исключением тех лиц, которые сделают в письменной форме заявление, переданное в ваши руки, что они желают остаться на острове и готовы подчиняться всем ограничениям, которым по необходимости будет лично подвергнут Наполеон.
Батхерст».
«Те же лица, которые решат вернуться в Европу, должны быть при первой возможности отправлены на мыс Доброй Надежды; губернатор этой колонии будет обязан предоставить им необходимые средства для возвращения в Европу.
Батхерст».
Текст приложенного к письму заявления, подписать которое таким образом требовалось от лиц обслуживающего персонала, не был одобрен Наполеоном. Более того, он высказал мнение, что заявление переведено слишком буквально для того, чтобы оно могло быть понято французом. Соответственно он предложил графу Монтолону удалиться в соседнюю комнату, где и было подготовлено новое следующее заявление: «Мы, нижеподписавшиеся, желая остаться на службе императора Наполеона, согласны оставаться здесь, независимо от того, насколько тяжёлым станет наше пребывание на Святой Елене, и подчиняться ограничениям, какими бы они ни были несправедливыми и своевольными, которые навязываются Его Величеству и лицам, находящимся на его службе».
«Ну вот, — заявил Наполеон, — пусть те, кто хочет подписать это заявление, подпишут его; но не пытайтесь оказывать на них давление тем или иным путём».
21 апреля. Наполеон дал в саду аудиенцию капитану фрегата «Гавана» Гамильтону. Наполеон рассказал ему, что когда он (Наполеон) прибыл на остров, то его спросили, чего бы ему хотелось, поэтому он умолял самого себя сказать, что он жаждет свободы или палача; что в отношении него английские министры подло нарушили самые священные законы гостеприимства, объявив его пленником, чего даже дикари не сделали бы в той ситуации, в которой он оказался.
Полковнику и мисс Уилкс предстояло отправиться в Англию на борту фрегата «Гавана». Накануне отъезда они посетили Лонгвуд и имели продолжительную беседу с Наполеоном. Ему очень понравилась мисс Уилкс (прекрасно воспитанная и элегантная молодая девушка), которой он галантно сделал комплимент, заявив, что «она в действительности намного превосходит то описание, которое ему дали».
24 апреля. Погода по-прежнему скверная. Наполеон вначале пребывал в плохом настроении, но постепенно стал более оживлённым. Много говорил об адмирале, которому отдавал должное как талантливому человеку в своей профессии. «Он не тот человек, — сказал Наполеон, — у которого недоброе сердце; наоборот, я считаю, что он способен на великодушный поступок; но характер у него грубый и властный; он тщеславен, своенравен и вспыльчив; он никогда ни с кем не советуется; ревниво относится к попыткам покуситься на его власть; когда же ему надо употребить власть, то он считает, что для этого все способы хороши; иногда в приступе ярости он теряет чувство собственного достоинства».
Затем он высказал ряд замечаний по поводу волов, привезённых по указанию правительства с мыса Доброй Надежды, среди которых произошло большое количество падежа. «Адмирал, — заметил он, — обязан был сбыть их на острове по контракту, а не оставлять в собственности государства. Хорошо известно, что то, что принадлежит государству, всегда остаётся без присмотра и расхищается всеми, кому не лень. Если бы он сбыл волов кому-нибудь по контракту, то я рискну сказать, что пали бы единицы, а не треть стада, как это и произошло».
Наполеон задал мне много вопросов о сравнительной цене различных товаров в Англии и на острове Святой Елены и в конце нашей беседы поинтересовался, беру ли я гонорар за уход за больными на острове. Мой отрицательный ответ вызвал у него, судя по всему, удивление. «Корвисар, — заметил он, — несмотря на то, что был моим главным врачом, обладал большим состоянием и имел обыкновение получать от меня много дорогих подарков, постоянно брал целый наполеондор за каждый визит к больному. Особенно в вашей стране каждый человек занимается каким-то своим делом, приносящим доход: член парламента берёт деньги за свой голос при голосовании, министры — благодаря занимаемому ими месту, юристы — за свою точку зрения».
26 апреля. Наполеон поинтересовался, какие корабли следуют из Англии в сторону острова Святой Елены.
«Это верно, — спросил он, — что они высылают для меня строительные материалы и мебель, поскольку в ваших газетах так много лжи, что у меня возникли сомнения по этому поводу, тем более что официально об этом я ничего не слышал?» Я сообщил ему, что сэр Хадсон Лоу заверил меня в этом, а сэр Томас Рид заявил, что сам видел всё это своими глазами.
Со времени прибытия сэра Хадсона на остров произошло много изменений в обращении с французами. Г-н Брук, секретарь губернатора колонии, майор Горрекер, адъютант сэра Хадсона, и другие официальные лица обошли по очереди разных владельцев лавок в городе, запретив им от имени губернатора предоставлять французам кредит, обязав их продавать им всё лишь за наличные деньги. В противном случае владельцам лавок пригрозили не только потерей всей суммы, выделенной под кредит, но и обещали подвергнуть их другим наказаниями. Затем им было предписано прекратить любые контакты с французами, если на то не будет специального разрешения губернатора, нарушителям указанного запрета грозила высылка с острова.
Многим из тех офицеров 53-го пехотного полка, у которых вошло в привычку наносить визиты госпоже Бертран в коттедж «Ворота Хата», дали понять, что их посещения госпожи Бертран не находят понимания у недавно прибывших представителей власти. Офицеру, стоявшему на посту у коттеджа «Ворота Хата», было приказано докладывать властям имена всех лиц, входивших в дом графа Бертрана. Повсюду были расставлены часовые, чтобы они препятствовали приближению к коттеджу тех лиц, которые хотели посетить «Ворота Хата». Некоторых из них часовые заставляли, включая дам, повернуть назад. У жителей острова и даже у военных и морских офицеров появлялось чувство отчуждённости, близкое к страху, когда на их пути случайно встречались ссыльные. Расспрашивая тех лиц, кто ранее беседовал с Наполеоном или с кем-либо из его свиты, губернатор требовал от них подробные, вплоть до деталей, отчёты о таких беседах. Несколько офицеров 53-го пехотного полка навестили «Ворота Хата», чтобы попрощаться с графиней Бертран (по их собственным словам), и сообщили ей, что они, будучи благородными людьми, не могут принять новые правила общения с французами. От всех лиц, посещавших «Ворота Хата» и Лонгвуд, ожидалось и требовалось, чтобы они в должном порядке представляли подробный отчёт губернатору или сэру Томасу Риду о беседах, которые они вели с французами. Вокруг дома в Лонгвуде и прилегавшей местности были поставлены дополнительные часовые.
3 мая. В течение нескольких дней шел проливной дождь и был густой туман. Всё это время Наполеон не выходил из дому. Но из «Колониального дома» то и дело в Лонгвуд прибывали посыльные и письма. Губернатор явно хотел сам увидеть Наполеона, поскольку у него, очевидно, возникли сомнения в отношении физического присутствия Наполеона в Лонгвуде. Губернатор направил графу Бертрану ряд посланий, в которых твердил о возникшей, по его мнению, необходимости того, чтобы тот или иной его офицер ежедневно видел Наполеона. Он сам часто заявлялся в Лонгвуд и, в конце концов, преуспел в том, что получил возможность минут пятнадцать беседовать с Наполеоном в спальной комнате последнего.
За несколько дней до этого губернатор послал за мной, забросал меня вопросами самого разнообразного толка, касающимися пленника, несколько раз обошёл вокруг дома, заглядывая в окна, и при этом шагами вымеривал план нового рва, который, как он заявил, будет выкопан для того, чтобы помешать скоту нарушать границы поместья в Лонгвуде. Когда он подошёл к углу, образованному соединением двух старых рвов, то обратил внимание на дерево, ветви которого в значительной мере свешивались через ров. Это обстоятельство, судя по всему, вызвало в душе его превосходительства настоящее смятение, поскольку он немедленно потребовал, чтобы я послал за г-ном Портезом, управляющим садами Восточно-Индийской компании.
Прошло несколько мучительных минут, прежде чем я отправил посыльного за этим господином. Губернатор, не отрывавший взгляда от злополучного дерева, потеряв терпение, потребовал, чтобы я лично немедленно отправился за г-ном Портезом и привёл его. Возвратившись с ним, я обнаружил сэра Хадсона Лоу, в нетерпении шагавшего с места на место и пристально созерцавшего предмет, который являлся, судя по всему, источником безмерного душевного смятения. Не тратя времени на размышления, он тут же приказал г-ну Портезу немедленно прислать нескольких рабочих, чтобы выкорчевать дерево, и, прежде чем оставить занятые позиции, вполголоса дал мне указание «присмотреть, чтобы все было сделано как надо».
4 мая. Сэр Хадсон Лоу отправился на встречу с графом Бертраном, с которым имел часовую беседу. Разговор оказался не из тех, который пришёлся бы ему по нутру, ибо, покидая графа, он, садясь на коня, о чём-то раздражённо бормотал и был явно не в духе. Немного погодя я узнал о цели его визита к графу. Он начал беседу с того, что заявил, что французы слишком много жалуются, не имея на то никаких веских причин; что, принимая во внимание их положение, с ними очень хорошо обращаются. За это им следует быть благодарными, а не выступать с какими-то жалобами. Однако, как ему представляется, вместо того чтобы выражать чувство благодарности, они злоупотребляют либеральным обращением. В свою очередь он, губернатор, полон решимости ежедневно убеждаться в том, что Бонапарт действительно находится на острове, а это возможно лишь в том случае, если назначенный губернатором офицер будет в определённые часы навещать пленника. Весь свой монолог губернатор произнес высокомерным, властным, не терпящим никаких возражений тоном, постоянно ссылаясь при этом на великие державы, которые облекли его чрезвычайными полномочиями.
5 мая. Около девяти часов утра Наполеон послал за мной Маршана. Через черный ход я был приглашён в спальную комнату Наполеона, описание которой я постараюсь дать. Размер её равнялся четырнадцати футам на двенадцать, а высота — примерно 11 футов. Стены без карнизов были выстелены коричневой хлопчатобумажной тканью «китайка» и окаймлены по бордюру обычными зелёными бумажными обоями. Два небольших окна без вспомогательных шнуров выходили в сторону лагеря 53-го пехотного полка. Одно из окон было раскрыто и закреплено деревянной щепкой с зазубринами. Занавески на окнах из белого миткаля, небольшой камин, старая каминная решётка с невзрачной деревянной каминной доской, выкрашенной в белый цвет, на которой стоял маленький мраморный бюст сына Наполеона. Над каминной доской висел портрет Марии Луизы и четыре или пять небольших портретов юного Наполеона, один из которых был вышит руками матери. Немного правее висел миниатюрный портрет императрицы Жозефины, а слева — будильник Фридриха Великого, приобретённый Наполеоном в Потсдаме; справа — консульские часы с гравированным вензелем «Б», свисавшие на цепочке из заплетённых волос Марии Луизы с булавки, воткнутой в стенную обивку из «китайки». Пол спальной комнаты покрывал подержанный ковёр, который одно время украшал столовую комнату лейтенанта, служившего в артиллерийском полку острова Святой Елены. В правом углу комнаты была поставлена небольшая простая железная походная кровать, покрытая зелёным шёлковым покрывалом. На этой кровати ее хозяин отдыхал на полях Маренго и Аустерлица. Между окнами — убогий подержанный комод, а слева от двери, ведущей в следующую комнату, — старый книжный шкаф, прикрытый зелёными шторами. В комнате в разных местах стояли четыре или пять стульев с плетеными спинками зелёного цвета. Перед дверью чёрного хода стояла складная ширма, отделанная «китайкой», а между ней и камином — старомодное канапе, покрытое белым длинным покрывалом.
Когда я вошёл в спальную комнату Наполеона, он полулежал на канапе в белом утреннем халате, на нём были белые штаны и такого же цвета чулки. На голове был повязан клетчатый красный платок, а воротник рубашки без галстука расстёгнут. У него был печальный и несколько встревоженный вид. Перед ним стоял небольшой круглый стол с книгами, а на ковре у ножки стола лежала в полном беспорядке груда книг, которые он уже прочитал. Над канапе, у его подножья, лицом к Наполеону, висел портрет императрицы Марии Луизы, державшей на руках маленького сына. Перед камином стоял Лас-Каз, скрестивший руки на груди. В одной из рук он держал какие-то бумаги. От былого великолепия когда-то могущественного императора Франции остался лишь стоявший в левом углу спальной комнаты роскошный умывальник с серебряной раковиной и с кувшином из того же благородного металла.
После нескольких незначительных вопросов Наполеон в присутствии графа Лас-Каза спросил меня на французском и на итальянском: «Вы знаете, что именно в результате моего заявления вы были назначены на должность моего врача. Теперь же я хочу получить от вас точный и правдивый ответ, ответ благородного человека: в каком качестве, вы полагаете, вам предстоит быть — в качестве, в котором был г-н Мэнго, или в качестве врача тюремного корабля и врача пленников? Должны ли вы докладывать губернатору, в соответствии с полученными приказами, о всех пустяках или о моей болезни или обо всём том, о чём я говорю с вами? Отвечайте мне искренно, в каком качестве, как вы полагаете, вам предстоит быть у меня?»
Я ответил: «В качестве вашего врача для того, чтобы лечить вас и членов вашей свиты. Никаких приказов я не получал, кроме одного: немедленно докладывать в том случае, если вы серьёзно заболеете, и только для того, чтобы сразу же получить возможность совета и помощи от других врачей». — «Но сначала получив мое согласие на то, чтобы вызвать и других врачей, — потребовал он, — не так ли?» Я ответил, что, конечно, я сначала заручусь его согласием на это. Затем он сказал: «Если бы вы были назначены тюремным врачом, чтобы докладывать содержание моих бесед губернатору, которого я считаю главарём шпионов, то я бы вас никогда больше не видел. Не думайте, — продолжал он, — что я считаю вас шпионом; совсем наоборот, у меня не было ни малейшего повода усомниться в вашей порядочности, я испытываю чувство дружбы к вам и уважаю ваш характер. Я не мог дать вам большего доказательства этого, чем откровенно просить вас сообщить мне ваше мнение о вашем положении в моём кругу; поскольку вы являетесь английским подданным и оплачиваетесь английским правительством, то вполне возможно, что вы обязаны делать то, о чём я вас спрашивал».
Я повторил мой ответ и добавил, что в моём профессиональном качестве я не считаю себя принадлежащим к какой-либо конкретной стране. «Если я серьёзно заболею, — заявил Наполеон, — то ознакомьте меня с вашей точкой зрения и получите согласие на приглашение других врачей. В те дни, когда я находился в подавленном состоянии и испытывал душевное расстройство из-за того обращения, которому я здесь подвергаюсь, что и мешало мне выходить из дома, чтобы не портить другим жизнь своим настроением, этот губернатор вознамерился прислать ко мне своего врача под предлогом наведения справок о моём здоровье. Я попросил Бертрана сообщить ему, что у меня нет достаточного доверия к его врачу и если бы я действительно серьёзно заболел, то послал бы за вами, за врачом, к которому испытываю полное доверие, но что в данном случае я не нуждаюсь во враче и хочу только одного, а именно, чтобы меня оставили в покое.
Насколько я понимаю, он дал указание офицеру входить в мою комнату, если я не выхожу из дома. Любой человек, — продолжал Наполеон, — кто попытается силой войти в мою комнату, станет трупом в тот момент, когда он вступит на её порог. Если этот человек после этого будет вновь есть хлеб и мясо, то тогда я уже не Наполеон. В этом я настроен самым решительным образом; я знаю, что после этого буду убит, ибо что может сделать один человек против целого вражеского лагеря? Я слишком много раз встречался со смертью лицом к лицу, чтобы бояться её. Недавно я сказал губернатору, что если он хочет покончить со мной, то для этого у него есть очень хорошая возможность направить кого-нибудь ко мне. Я немедленно превращу в труп первого же, кто войдёт в мою комнату, и тогда, конечно, меня казнят, а губернатор может написать домой в Англию своему правительству, что Бонапарт был убит в драке. Я также сказал ему, чтобы он оставил меня в покое и не мучил своим ненавистным присутствием. Мне приходилось встречаться с пруссаками, татарами, казаками, калмыками и прочими, но никогда прежде в моей жизни я не лицезрел столь уродливого и неприятного лица».
Я пытался убедить его в том, что английский кабинет министров никогда не будет способен совершить то, что он предполагает, и что подобное поведение не в характере английской нации. «У меня были основания жаловаться на адмирала, — заявил Наполеон, — но хотя он обращался со мной грубо, он никогда не вёл себя так, как этот пруссак. Несколько дней назад он в грубой форме настаивал на том, чтобы повидаться со мной как раз в тот момент, когда я находился в спальной комнате раздетым, да к тому же был жертвой приступа меланхолии. Адмирал никогда не просил свидания со мной после того, как ему сообщали, что я нездоров или ещё не одет».
После этого долгого разговора о его взаимоотношениях с губернатором Наполеон упомянул о своём дурном предчувствии оказаться жертвой приступа подагры. Я порекомендовал ему побольше заниматься физическими упражнениями и почаще гулять. «Что я могу сделать, — ответил он, — на этом мерзком острове, где нельзя проехать и мили без того, чтобы не промокнуть насквозь, острове, на которой даже сами англичане страдают, хотя им к сырости не привыкать?»
Он завершил беседу со мной резкими замечаниями в адрес губернатора, пославшего своего адъютанта и секретаря в обход по местным лавкам с запретом для их владельцев предоставлять французам кредит под страхом жесточайшего наказания.
6 мая. Беседовал с Наполеоном на ту же самую тему, что и вчера. Разговор с ним я начал с того, что представил ему свою точку зрения по затронутому вопросу, а именно, что для меня не представляется возможным отвечать на вопросы, касающиеся его или его дел, независимо от того, кто задает мне такие вопросы, губернатор или кто-нибудь ещё. Наполеон должен сознавать, что в качестве его лечащего врача мое иное поведение полностью исключается. Более того, со времени моего приезда на остров я часто привлекался им в качестве посредника между ним и властями острова. Выполнение этой задачи, как я надеялся, не вызвало у него нареканий в мой адрес.
Наполеон ответил: «Так кем вам предстоит быть: моим врачом или врачом каторжников на галере; и ждут ли от вас доклада обо всём, что вы видите и слышите?» Я сказал: «Я — ваш врач, а не шпион. Причём такой врач, к которому вы можете испытывать полное доверие. Я не врач каторжников на галере и я не считаю для себя обязательным докладывать о чём-либо, что совсем не противоречит соблюдаемой мною лояльности по отношению к моей должности британского офицера». Я также постарался объяснить, что буду вести себя, руководствуясь правилами, которые существуют между джентльменами, так же как если бы я был лечащим врачом при английском вельможе; но что полнейшее молчание для меня всё же исключено, если он желает, чтобы я поддерживал связь между ним и губернатором или любым англичанином на острове. Он ответил, что хочет от меня всего лишь одного, а именно, чтобы я вёл себя как джентльмен и действовал бы точно так же, как если бы был лечащим врачом лорда Сен-Винсента. «Я не намерен требовать от вас, чтобы вы хранили молчание, или воспрепятствовать тому, чтобы вы повторяли какую-нибудь болтовню, услышанную от меня; но я не хочу, чтобы вы позволили обмануть себя и стали, совершенно неумышленно с вашей стороны, шпионом губернатора. После Бога вы должны оказывать почтение своей стране, своему монарху и затем уже своим родителям».
«Во время краткой беседы с губернатором в моей спальной комнате, — продолжал Наполеон, — первое, что он предложил мне, так это отказаться от вас и на ваше место взять его собственного врача. Об этом он говорил дважды; и настолько он был серьёзен в том, чтобы добиться этого, что, хотя я решительно отказал ему в этом, он, повернувшись ко мне, когда уходил от меня, вновь повторил мне это предложение. Никогда в жизни не видел столь отвратительную физиономию. Он сидел на стуле напротив моего канапе и на маленьком столе между нами стояла чашка с кофе. Его физиономия произвела на меня столь неприятное впечатление, что я думал, что его взгляды отравили кофе и после его ухода приказал Маршану выплеснуть кофе в окно; ни за что на свете я не смог бы проглотить и каплю этого кофе».
Граф Лас-Каз, вошедший в комнату Наполеона после отъезда губернатора, сообщил мне о том, что ему заявил император: «Боже мой! Что за подлая персона! Сожалею, что признаюсь в этом, но если бы он оказался около чашки с кофе, то я бы не прикоснулся к ней».
12 мая. Вчера сэр Хадсон Лоу обнародовал декларацию, запрещающую любому лицу получать или иметь при себе какие-либо письма или корреспонденцию любого содержания от генерала Бонапарта, офицеров его свиты, сопровождающих его лиц и слуг, под страхом немедленного ареста и расследования дела.
14 мая. Виделся с Наполеоном в его гардеробной; он пожаловался на появление катаральных симптомов. Я объяснил это тем, что он выходил из дома в дождь, надев очень тонкие туфли, и порекомендовал ему носить галоши. Он дал указание Маршану обеспечить его ими. «Я обещал, — добавил он, — сегодня встретиться с некоторыми людьми; и хотя я испытываю недомогание, я встречусь с ними». Как раз в этот момент некоторые из посетителей близко подошли к окну его гардеробной, которое было раскрыто, и попытались отодвинуть штору и заглянуть внутрь. Наполеон захлопнул окно и затем, задав несколько вопросов о госпоже Мойра, заметил: «Губернатор направил приглашение Бертрану для генерала Бонапарта посетить «Колониальный дом», чтобы встретиться с госпожой Мойра. Я сказал Бертрану, чтобы он вернул приглашение без ответа. Если бы он действительно хотел, чтобы я встретился с ней, то он должен был включить «Колониальный дом» в зону моего передвижения по острову; но подобное приглашение, учитывая, что я должен отправиться туда в сопровождении охранника, — оскорбление. Если бы он дал знать, что госпожа Мойра больна, сильно устала или беременна, то я бы отправился повидаться с нею; хотя я думаю, что при всех обстоятельствах она могла бы сама приехать ко мне или поехать к госпоже Бертран или Монтолон, поскольку она свободна в своих передвижениях и не отягчена условностями. Самые могущественные монархи мира не стыдились нанести мне визит».
Вошёл граф Бертран и объявил, что несколько человек пришли повидаться с ним, помимо тех, кто ранее получил подтверждение на встречу в течение сегодняшнего дня. Среди других имён был упомянут Арбутно. Наполеон спросил меня, кто это такой. Я ответил, что думаю, что это брат того человека, который был послом в Константинополе. «А, да, да, — подтвердил, слегка улыбнувшись, Наполеон. — Это было тогда, когда там находился Себастиани. Вы можете сказать, что я приму их».
«Приходилось ли вам общаться с врачом губернатора?» — поинтересовался Наполеон. Я ответил утвердительно, добавив, что он являлся главой медицинского персонала, но не был приставлен к губернатору в качестве его личного врача. «Что он за человек — производит ли впечатление честного человека и опытного врача?» Я ответил, что он производит очень благоприятное впечатление и считается опытным врачом и учёным в своей профессиональной области.
16 мая. Сэр Хадсон Лоу провёл получасовую беседу с Наполеоном, которая оказалась малоприятной. Увидел Наполеона гуляющим в саду с задумчивым видом вскоре после отъезда губернатора из Лонгвуда. Передал Наполеону «Словарь Флюгеров» и несколько газет. После того как он спросил меня, где я их достал, он сказал: «Здесь только что был этот мучитель. Передайте ему, что я более никогда не хочу его видеть. Пусть он никогда не появляется около меня, если только не с приказом расправиться со мной; тогда он встретит мою грудь готовой для удара; до того же времени освободите меня от возможности лицезреть его гнусную физиономию; я не могу заставить себя привыкнуть к ней».
19 мая. Наполеон пребывает в очень хорошем настроении. Я сообщил ему, что на остров по пути в Англию прибыл бывший губернатор острова Явы г-н Раффлз со своим персоналом и им очень хотелось бы, чтобы им оказали честь принять их. «Что он за человек, этот губернатор?» Я ответил, что, как меня проинформировал г-н Урмстон, г-н Раффлз — прекрасный человек; он обладает глубокими знаниями и очень способный. «Ну что ж, — заявил Наполеон, — тогда я приму его через два или три часа, когда оденусь. Но этот губернатор, — продолжал Наполеон, — настоящий дурак. На днях он спросил Бертрана, выяснял ли он (Бертран) когда-либо у кого-нибудь из пассажиров, следовавших в Англию, не намерены ли они отправиться во Францию, ибо если Бертран действительно интересовался этим, то он обязан прекратить подобную практику. Бертран ответил, что, конечно, интересовался этим и, более того, даже умолял их сообщить его родственникам, что все члены семьи Бертрана находятся в хорошем состоянии здоровья. «Но, — заявил этот глупец, — вы не должны так поступать». — «Почему, — удивился Бертран, — разве ваше правительство не разрешило мне писать столько писем, сколько я хочу, и разве может любое правительство лишить меня свободы слова?» Бертран, — продолжал Наполеон, — обязан был ответить, что рабам-каторжникам на галерах и узникам, приговорённым к смертной казни, разрешается интересоваться делами своих родственников».
Затем Наполеон заметил, насколько ненужно и обременительно требование того, что его должен сопровождать офицер, если у него появится желание посетить удаленные от моря места. «Нет проблем с тем, — продолжал он, — чтобы держать меня подальше от города и от побережья. Я никогда не выражу желания попытаться приблизиться к тому и к другому. Всё, что необходимо для моей охраны, так это хорошо оберегать побережье этой скалы. Пусть он расставит пикеты вокруг острова вблизи моря таким образом, чтобы они поддерживали между собой постоянную связь. Это он может сделать легко с тем количеством солдат, которые у него есть, и тогда у меня не будет никакой возможности сбежать с острова. Более того, разве он не может выставлять кавалерийские пикеты тогда, когда узнает, что я собираюсь выйти из дома? Разве он не может расставить их на холмах или там, где ему захочется, так чтобы я об этом ничего не знал. Я никогда не покажу вида, что заметил их.
Разве он не может сделать всего этого, вместо того чтобы обязать меня сообщать Попплтону, что я хочу отправиться на прогулку верхом. Не потому, что у меня есть какие-то претензии к Попплтону. Мне нравится хороший солдат любой нации; но я ничего не буду делать такого, что могло бы заставить людей вообразить, что я являюсь пленником — я был насильно доставлен сюда вопреки закону наций и я никогда не буду признавать их право незаконно содержать меня под стражей. Моя просьба к офицеру сопровождать меня была бы молчаливым признанием моего статуса пленника. Я не вынашиваю намерения сбежать с этого острова, хотя и не давал слова чести не пытаться сделать этого.
Разве они не могут ввести дополнительные ограничения, когда на остров прибывают корабли, и прежде всего не позволять любому кораблю покидать остров, пока не будет установлен факт моего физического присутствия на острове, без того чтобы были введены подобные бесполезные ограничения. Для моего здоровья необходимо ежедневно совершать прогулки верхом от семи до восьми лиг, но я не буду делать этого с офицером или со стражником. Я всегда придерживался того мнения, что человек проявляет больше истинного мужества именно тогда, когда он выдерживает все беды и противостоит несчастьям, которые обрушиваются на него, а не тогда, когда он решает покончить с собой. Самоубийство — это поступок проигравшего игрока или разорившегося мота, это признак отсутствия мужества, а не его доказательство. Ваше правительство глубоко заблуждается, если полагает, что, выискивая всевозможные средства, чтобы досадить мне, — как, например, отправив меня на этот остров, лишив всякой связи с самыми близкими и дорогими мне родственниками, изолировав от всего мира, навязав бесполезные и обременительные ограничения, которые с каждым днём становятся все более строгими, назначив в качестве охранников отбросы человечества, — оно, в конце концов, выведет меня из терпения и склонит к самоубийству. Ваши министры ошибаются. Даже если бы я когда-либо задумался о нечто подобном, то сама мысль о том удовлетворении, которое они получат от этого, помешала бы мне пойти на такой шаг.
«Этот так называемый дворец, — заявил он, смеясь, — который, как они говорят, послали мне, есть не что иное, как пустая трата немалых денег. Я бы предпочёл, чтобы они выслали мне четыреста томов книг, а не мебель и строительные материалы для нового дома. Во-первых, потребуется несколько лет, чтобы построить дом, но к этому времени меня уже не будет на свете. Всё строительство должно будет осуществляться за счёт труда этих бедняг, солдат и матросов. Мне этого не нужно и я не хочу навлекать на себя ненависть этих бедняг, которые уже достаточно несчастны из-за того, что их выслали в это отвратительное место, где подвергают столь изнурительной работе. Они осыпят меня проклятиями, полагая, что именно я, и никто иной, являюсь виновником всех их неприятностей, и, возможно, у них возникнет желание покончить со мной».
В связи с этим высказыванием Наполеона я заметил, что ни один английский солдат не станет вероломным убийцей. Он прервал меня, сказав: «У меня нет причины жаловаться на английских солдат и моряков; наоборот, они относятся ко мне с большим уважением и даже как будто сочувствуют мне».
После этого разговора он сделал ряд замечаний об условиях жизни на острове Святой Елены. «Положение дел на этой скале, — заявил Наполеон, — настолько плачевно, что отсутствие признаков подлинной нищеты или голода рассматривается как великое благо. На днях Пионтковский навестил семью Робинзонов, и они сказали ему: «О, как же вы должны быть счастливы, имея каждый день на обед свежее мясо. О, если бы мы могли наслаждаться этим, то какими же мы были счастливыми». Разве это место, — продолжал Наполеон, — достойно смертного, привыкшего жить среди людей?»
28 мая. Я сообщил Наполеону о том, что получено известие о кончине королевы Португалии, а также о том, что в Рио-де-Жанейро прибыл французский фрегат с официальным посланием, в котором содержится предложение одной из дочерей короля выйти замуж за герцога де Берри. «Королева, — заметил Наполеон, — уже в течение долгого времени была сумасшедшей, а дочери все без исключения безобразны».
29 мая. Из Англии прибыл корабль; я отправился в город; там виделся с губернатором и, возвратившись в Лонгвуд, пошёл к Наполеону, который в это время играл в кегли в саду со своими генералами. Я сообщил ему (по указанию губернатора), что в парламент внесён законопроект, касающийся Наполеона. Законопроект даёт право министрам держать Наполеона под охраной на острове Святой Елены и предусматривает выделение необходимых сумм на его содержание.
Он спросил, были ли в парламенте противники этого законопроекта? Я ответил: «Почти никого». — «А разве Бругэм и Бурдетт, — заметил он, — не выступили против?» Я ответил, что не видел газет, но думаю, что г-н Бругэм что-то сказал. Я передал Наполеону несколько французских газет, которые адмирал отдал мне до того, как сам прочитал их. «Кто вам дал эти газеты?» — «Адмирал». — «Что, для меня?» (Не скрывая удивления.) — «Он просил меня передать газеты Бертрану, но на самом деле они предназначались для вас». После краткой беседы он попросил меня постараться достать «Морнинг Кроникл», «Глоуб» или любую из оппозиционных или нейтральных по духу газет.
7 июня. Завтракал с Наполеоном в саду. Между нами завязался длительный спор о методах лечебной медицины Он утверждал, что применяемая им практика лечения в случае заболевания, а именно: полное воздержание на этот период от еды, частый приём ячменного отвара, отказ от вина и верховая прогулка на семь или восемь лиг, чтобы вызвать потение, намного лучше, чем то, что рекомендую я.
Во время беседы мы также затронули вопрос о браке. Я рассказал, что в Англии, когда сочетаются браком представители протестантской и католической церкви, то необходимо, чтобы брачная церемония проводилась сначала протестантским священником, а потом уже романо-католическим священнослужителем. «Это неправильно, — заявил Наполеон, — церемонию заключения брака следует осуществлять как гражданский контракт; вступающие в брак обязаны явиться в магистрат в присутствии свидетелей и, заключив брачное соглашение, должны считаться мужем и женой. Именно такой процедуры я добился во Франции. Если же обе стороны брачного союза пожелают, то они могут потом пойти в церковь и повторить церемонию, но это не следует рассматривать как обязательную процедуру. Я всегда придерживался того принципа, что эти религиозные церемонии никогда не должны главенствовать над законами. Я также постановил, что браки, заключённые между французскими подданными в других странах, когда они заключаются в соответствии с законами тех стран, должны оставаться в силе, если супружеская пара возвращается во Францию».
15 июня. Пришёл к Наполеону, когда он завтракал, принимая ванну, поверх краёв которой был установлен плавно скользящий маленький стол с тарелками. Я сообщил ему, что Уорден нашёл его книгу, которая считалась потерянной на борту «Нортумберлэнда». «А! Уорден, прекраснейший человек, как он сейчас? Почему он не приходит ко мне повидаться? Я буду рад видеть его. Как поживает этот главный медик?» Я ответил, что Уорден будет весьма польщён оказанной ему честью быть представленным ему, если Наполеон согласится принять его в качестве частного лица, а не врача. «Поскольку вы говорите, что он истинный джентльмен, я приму его; вы можете представить его мне в саду в любой день по вашему выбору. Вам пришлось встречаться с госпожой Лоу? Я слышал, что она тактичная и вообще замечательная женщина». Я ответил, что слышал о ней точно такое же мнение и что она также обладает острым умом. «Жаль, — заявил он, — что она не может одолжить своего ума и такта мужу: ибо что касается характера этого должностного персонажа, то я никогда не встречал другого человека, у которого бы полностью отсутствовали и первое и второе».
Наполеон задал мне несколько вопросов о Лондоне. Я одолжил ему книгу об истории Лондона, которую мне подарил капитан Росс. Судя по всему, Наполеон был хорошо знаком с содержанием этой книги; он дал описание иллюстраций к книге и попытался освежить в памяти несколько легенд о городе, а затем сказал, что если бы он был королём Англии, то проложил бы широкие улицы по обе стороны Темзы и ещё одну — от собора Святого Павла к реке.
Затем разговор перешёл к обсуждению темы образа жизни во Франции и в Англии. «Кто больше ест, — задал вопрос Наполеон, — француз или англичанин?» Я ответил: «Думаю, что француз». «Не согласен с этим», — возразил Наполеон. Я ответил, что французы, хотя номинально едят в день только два раза, на самом деле питаются четыре раза. «Только два раза», — настаивал на своём Наполеон. Я возразил: «Они едят в девять утра, затем в одиннадцать, потом в четыре часа дня и в семь или в восемь часов вечера!» — «Я, — заявил Наполеон, — никогда не ем более двух раз в день. Вы же, англичане, едите четыре или пять раз в день. Ваша стряпня более насыщена питательными продуктами, чем наша. Однако ваш суп просто ужасен: в нём ничего нет, кроме хлеба, перца и воды. Вы выпиваете громадное количество вина». Я заметил: «Ну не так же много, как, считается, пьют французы». — «Так почему же, — ответил он, — Пионтковский, который иногда обедает с офицерами в лагере 53-го пехотного полка, говорит, что они пьют по принципу часовой оплаты; что после того, как со стола убирается скатерть, они платят за час и пьют столько, сколько хотят, и это иногда продолжается до четырёх часов утра». Я возразил, что это очень далеко от правды, поскольку некоторые офицеры вообще не пьют вина более двух раз в день, и это происходит в те дни, когда в лагерь разрешается приглашать посторонних. Для каждого, кто пьёт вино, на стол ставится бутылка, наполненная напитком на одну треть, и когда бутылка осушается, то она вновь наполняется на одну треть и так далее.
Каждый платит только за то, что он соразмерно выпил. После этого объяснения Наполеон выглядел несколько удивлённым, заметив, что иностранец, имеющий только несовершенные знания чужого языка, легко приходит к неправильной интерпретации обычаев и порядков других наций.
17 июня. Сообщил Наполеону, что в пределе видимости в море показался фрегат «Ньюкасл» с новым адмиралом. Он попросил меня принести мой бинокль и показать ему фрегат. Вернувшись с биноклем, нашёл Наполеона, направлявшегося в конюшни. Показал ему корабль, с трудом плывущий против ветра. Вскоре пришёл Уорден, и Наполеон пригласил меня, а также Уордена и лейтенанта Блада позавтракать с ним. За завтраком разговор зашёл об аббате де Прадте; затем беседа коснулась абсурдной лжи, подробно расписанной в «Квотерли Ревью», относительно поведения Наполеона во время его проживания в коттедже «Брайерс». «Это позабавит публику», — сказал Наполеон. Во время беседы Уорден отметил, что вся Европа очень интересуется мнением Наполеона о лорде Веллингтоне как о боевом генерале. Этот вопрос Уордена Наполеон оставил без ответа, и повторного вопроса не последовало. Фрегат «Ньюкасл» доставил на остров Святой Елены трёх полномочных представителей: России — графа Бальмэна, Австрии — барона Штюрмера с баронессой, Франции — маркиза Моншеню с адъютантом, капитаном Гором. Барона Штюрмера сопровождал также австрийский ботаник.
18 июня. Сообщил Наполеону, что побывал в городе и что в город прибыли полномочные представители России, Франции и Австрии. «Вы кого-нибудь видели из них?» — «Да, я виделся с французским полномочным представителем». — «Что он за человек?» — «Он — старый эмигрант, по имени маркиз де Моншеню, чрезвычайно болтлив. Но внешне производит неплохое впечатление. Когда я стоял с группой офицеров на террасе, что напротив дома адмирала, из дома вышел маркиз и, обратившись ко мне, сказал на французском языке: «Ради Бога, если вы или кто-нибудь из вас говорит по-французски, то дайте мне знать, ибо я ни слова не знаю по-английски. Я приехал сюда, чтобы закончить свои дни среди этих скал (указывая на Лэдцер Хилл) и не могу вымолвить ни одного слова на английском языке». Наполеон от души рассмеялся от этого рассказа, при этом несколько раз повторяя: «Ну и болтун! Ну и дурак!» «Что за глупость, — заявил Наполеон, — посылать сюда этих полномочных представителей. Не имея никаких обязанностей, никакой ответственности, им здесь абсолютно нечего делать, разве только прогуливаться по улицам и лазить по скалам. Прусское правительство проявило больше здравого смысла и сберегло свои деньги». Я сообщил Наполеону, что Друо оправдан, чему Наполеон был очень рад. О талантах и добродетелях Друо он высказался в самых лестных выражениях и отметил, что в соответствии с законами Франции тот не мог быть наказан за своё поведение.
20 июня. Наполеону были представлены контр-адмирал сэр Пультни Малькольм, капитан Мейнель (командир флагманского корабля) и несколько других морских офицеров.
21 июня. Увидев Наполеона, прогуливавшегося в саду, я подошёл к нему с книгой, которую достал для него. После того как он поинтересовался состоянием здоровья г-жи Пиери, почтенной пожилой дамы, которую я навещал, Наполеон сказал, что виделся с новым адмиралом. «А вот это действительно стоящий человек, у которого доброжелательное, открытое, умное и честное лицо! Вот вам лицо англичанина. Само его лицо свидетельствует о его сердце, и я уверен, что он добрый человек: мне ещё никогда не приходилось встречать человека, о котором у меня тотчас же сложилось бы хорошее мнение, как это произошло, когда я в первый раз увидел этого замечательного пожилого господина с военной выправкой. Он ходит с поднятой головой и высказывает свои мысли открыто и смело и при этом не боится смотреть вам прямо в глаза. Его лицо заставляет любого человека желать продолжения знакомства и вызывает доверие у самых подозрительных людей».
Затем в разговоре мы коснулись темы протеста, который был подан лордом Холландом против законопроекта о содержании Наполеона под арестом[4].
Наполеон высказал высокое мнение о лорде Холланде, заявив, что его таланты и достоинства полностью дают право на подобную оценку. Наполеону было также приятно узнать, что герцог Сассекский поддержал протест его светлости. Он заметил, что, когда страсти поутихнут, поведение этих двух лордов будет передано последующему поколению как пример высочайшего благородства, так же как поведение тех, кто внёс законопроект, будет в будущем покрыто позором. Наполеон задал несколько вопросов относительно сокращения английской армии, заметив, что английское правительство ведёт себя нелепо, пытаясь сделать из своей страны великую военную державу, при этом не имея достаточного количества людей, чтобы позволить себе нужное число солдат для успешных военных действий с великими или даже второразрядными континентальными странами, и пренебрегая и, судя по всему, недооценивая военно-морской флот — истинную силу и оплот Англии. «Они ещё поймут, — сказал он, — что допустили ошибку».
23 июня. Накануне Наполеону были привезены несколько ящиков с книгами, заказанными Бертраном ещё в Мадейре и доставленными на «Ньюкасле» сэром Пультни Малькольмом. Я нашёл его в спальной комнате в окружении груды книг: его лицо сияло улыбкой и он явно находился в наилучшем состоянии духа. Почти всю ночь он занимался чтением книг. «А! — воскликнул он, указывая на некоторые книги, которые он по привычке сбросил на пол после того, как прочитал их, — какое удовольствие я получил! Какая большая разница. Я могу прочитать сорок страниц на французском языке за то время, которое мне потребовалось бы, чтобы понять смысл двух страниц на английском». Потом уже я узнал, что его нетерпение увидеть книги было столь великим, что он самолично усердно трудился с молотком и со стамеской в руках, открывая ящики.
24 июня. Встретился с Наполеоном в саду. Сообщил ему, что сэр Томас Рид направил мне для Наполеона семь ящиков с книгами. Также уведомил его, что губернатор прислал мне два ружья с ударным капсюлем, чтобы я затем передал их ему. Губернатор попросил меня объяснить Наполеону устройство этих ружей. «Какой смысл присылать мне ружья, — заявил Наполеон, — когда я ограничен территорией, на которой нет охоты». Сказал ему, что приехал г-н Бакстер, чтобы удостоиться чести быть принятым им. Наполеон пожелал, чтобы я тут же пригласил г-на Бакстера. Когда ему представляли приглашенного, он, улыбнувшись, спросил: «Итак, синьор медик, и сколько же пациентов вы отправили на тот свет?» Затем он беседовал с врачом на различные темы почти целый час.
Сэр Хадсон Лоу сообщил мне, что «он пока не желает препятствовать направлению каких-либо писем или жалоб в Европу, что он предложил Бонапарту посылать любые письма или заявления по его желанию в Англию и что он не только будет способствовать этому, но и окажет содействие в том, чтобы их печатали в газетах на французском и на английском языках».
28 июня. Сэр Хадсон Лоу обнародовал декларацию, объявляющую о том, что все лица, поддерживающие переписку или иной вид связи с Наполеоном Бонапартом, с его окружением и слугами, получающие от него или передающие ему или им любую корреспонденцию без специальной санкции губернатора, скрепленной его подписью, будут считаться виновными в нарушении парламентских актов о безопасной охране Наполеона Бонапарта. Декларация также предписывает, что лица, получающие письма от Наполеона Бонапарта, его окружения или его слуг и не ставящие об этом в известность губернатора или не передающие в руки губернатора эти письма, а также лица, которые будут снабжать вышеупомянутого Наполеона Бонапарта, его окружение и слуг деньгами или вещами, посредством которых можно содействовать его побегу, будут рассматриваться как его сообщники и, соответственно, привлечены к суду.
1 июля. Сэр Хадсон Лоу направил письмо графу Бертрану с запрещением всех видов связи, письменных и устных, с жителями острова, если предварительно об этом не будет проинформирован губернатор через дежурного офицера.
После того как в Лонгвуд были присланы ящики с книгами, император ежедневно занят тем, что в течение нескольких часов занимается чтением и подбором дат и других материалов для написания истории своей жизни, которая пока готова в черновом виде по срокам до высадки во Францию из Египта. Погодные условия, почти постоянный дождь или туман с сильным непрекращающимся ветром, продувающим насквозь открытое плато Лонгвуда, также во многом способствовали тому, чтобы он отсиживался внутри дома, и это еще больше вызывало у него чувство величайшего отвращения к его нынешней резиденции. Он выразил пожелание, чтобы его перевели для проживания в подветренную часть острова, климат которой намного теплее, чем в Лонгвуде, и которая защищена от вечного резкого юго-восточного ветра.
4 июля. Наполеон провёл почти двухчасовую беседу с сэром Пультни и его женой. Оба они ему чрезвычайно понравились. Во время беседы он дал подробное описание битвы при Ватерлоо. Наполеону были также представлены офицеры «Ньюкасла». Мясо, которое обычно было плохого качества, сегодня оказалось столь отвратительным, что капитан Попплтон почувствовал себя обязанным отправить его обратно и написать жалобу губернатору.
6 июля. Госпожа Бертран информировала капитана Попплтона и меня, что она написала письмо Моншеню, в котором просит его навестить её в «Воротах Хата», так как она слышала, что он виделся с ее матерью, находящейся в неважном состоянии здоровья, и очень хочет выяснить у Моншеню в связи с этим все подробности о ней. В этом письме г-жа Бертран также написала, что Лас-Каз посетит её, когда к ней прибудет Моншеню, так как ему сообщили, что Моншеню виделся с его женой перед самым отъездом из Парижа.
8 июля. Слуги из Лонгвуда, доставлявшие продукты графу Бертрану, были остановлены часовыми, не разрешившими им войти во двор дома. Продукты, наконец, были переданы через забор в присутствии часового, который заявил, что он не мог разрешить никакого разговора во время передачи продуктов. Аналогичный случай произошёл, когда мой слуга принёс некоторые лекарства для слуги графа Бертрана Бернара, который был опасно болен. К одной из бутылок с лекарством была прикреплена написанная мной записка, содержавшая указания, как принимать лекарства. Записка была написана на французском языке, и часовой, не знавший этого языка, посчитал, что он обязан не допустить, чтобы эта записка попала по назначению, и, в соответствии с этим, сорвал её с бутылки. Накануне другой часовой был освобождён от службы и отправлен в лагерь под суд военного трибунала за то, что позволил чернокожему войти во двор дома графа Бертрана, чтобы напиться воды. Этот факт, вероятно, как раз и дал повод для этой повышенной строгости со стороны солдат.
10 июля. В течение нескольких дней возникла большая нехватка в количестве вина, домашней птицы и других необходимых продуктов. Об этом я написал сэру Томасу Риду. Кроме того, капитан Попплтон сам отправился в город, чтобы поставить этот вопрос перед сэром Хадсоном Лоу.
11 июля. В то время, когда я находился в коттедже «Ворота Хата», туда за мной явился сержант с посланием от сэра Хадсона Лоу, пожелавшего, чтобы я приехал к нему. Его превосходительство задал мне вопрос, в какой части острова генерал Бонапарт хотел бы, чтобы ему построили новый дом. Я ответил, что «он предпочёл бы «Брайерс». Сэр Хадсон заявил, что из этого ничего не получится, поскольку «Брайерс» находится слишком близко к городу, и вообще это место в качестве резиденции генерала Бонапарта не подлежит обсуждению. Потом он спросил, что я думаю по поводу того, какую часть острова он предпочтёт по сравнению с Лонгвудом. Я ответил, что «бесспорно он бы предпочёл жить на другой стороне острова». Тогда его превосходительство попросил меня выяснить у самого Наполеона, какую часть острова он бы пожелал для своей резиденции. Он также напомнил мне, что Наполеон отказался видеться с полномочными представителями, и попросил меня удостовериться в том, остался ли Наполеон по-прежнему при своём мнении не встречаться с ними. Его превосходительство спросил меня, известно ли мне о том, что именно хотели выяснить г-жа Бертран и г-н Лас-Каз у маркиза Моншеню. Я ответил, что госпожа Бертран хотела расспросить маркиза Моншеню о состоянии здоровья её матери, а г-н Лас-Каз очень хотел получить свежие новости о своей супруге, поскольку ему сказали, что Моншеню виделся с ней незадолго до его отъезда из Парижа. Сэр Хадсон поставил меня в известность о том, что он доложит британскому правительству о поведении г-на Лас-Каза, который с презрением отказался получить некоторые предметы жизненной необходимости, присланные для пополнения запасов лиц из окружения Бонапарта, но в то же время написал письмо госпоже Клаверинг с просьбой, чтобы такие же предметы были ею закуплены и присланы ему.
Сэр Хадсон Лоу вновь заверил меня о своей готовности не только сообщать правительству его величества о жалобах генерала Бонапарта, но и содействовать тому, чтобы они публиковались в газетах; и он добавил, что очень хотел бы, чтобы я ставил его в известность о пожеланиях генерала Бонапарта, чтобы он мог сообщать о них британскому правительству, которое таким образом будет знать, как заранее обеспечить их выполнение. Сэр Хадсон Лоу также пожелал, чтобы я сообщил госпоже Бертран, что он весьма сожалеет, что введённые им ограничения неприятны для неё и оскорбляют её чувства, хотя, как ему кажется, её используют в качестве орудия в чужих интересах. После нашей беседы он отправился в Лонгвуд, где долго совещался с генералом Монтолоном, главным образом о переделке, расширении и улучшении дома в Лонгвуде.
12 июля. Наполеон пребывает в дурном настроении. Я сообщил ему, что вчера в Лонгвуде был губернатор для того, чтобы посмотреть самому, не может ли он что-либо сделать для улучшения условий проживания Наполеона за счёт пристройки нескольких дополнительных комнат к дому или возведения нового дома где-нибудь в другой части острова; и что губернатор поручил мне выяснить у Наполеона, какой вариант для него более предпочтителен. Наполеон ответил: «В этом доме, в этом печальном месте я ничего не хочу слышать от него. Я ненавижу этот Лонгвуд. Его вид портит мне настроение. Пусть он отправит меня в такое место, где есть тень, зелень и вода. Здесь же или дует неистовый ветер, сопровождаемый дождем и туманом, и всё это буквально разрывает мою душу; или, если этого нет, палящее солнце чуть ли не сжигает мой мозг, когда я выхожу из дома и не могу найти даже малейшего признака тени. Пусть он поселит меня в той части острова, где находится «Колониальный дом», если он действительно что-то хочет сделать для меня. Но какой смысл в том, что он приезжает сюда, чтобы что-то предложить и ничего после этого не сделать. Со времени его приезда на остров строительство дома Бертрана ничуть не продвинулось. Адмирал, по крайней мере, прислал сюда своего плотника, который сдвинул с места строительство дома».
Я ответил, что губернатор попросил меня сказать, что ему не хотелось бы что-либо предпринимать, не зная сначала, что это будет воспринято Наполеоном с одобрением, но если он (Наполеон) примет или сам предложит план строительства дома, то он даст указание всем рабочим на острове с нужным числом офицеров инженерного корпуса проследовать в Лонгвуд и приступить к строительству. Я добавил, что губернатор опасается, что пристройка дополнительных помещений к существующему дому будет беспокоить Наполеона из-за шума строительных работ. Наполеон ответил: «Конечно, будет беспокоить. Я не хочу, чтобы он что-то делал в этом доме или на этом унылом месте. Пусть он строит дом на другой стороне острова, где есть тень, зелень и вода и где я смогу укрыться от этого ветра, несущего пыль. Если есть решение о постройке нового дома для меня, то я бы хотел, чтобы его возвели на территории поместья полковника Смита, которую осмотрел Бертран, или у «Розмари Холл». Но его предложения — сплошной обман. С тех пор как он прибыл на остров, ничто не сдвинулось с места. Посмотрите сюда, — сказал он, указывая на окно. — Я был вынужден заказать пару простынь, чтобы использовать их в качестве занавесок на окнах, так как другие стали настолько грязными, что я не мог подходить к ним, и ничего нельзя было приобрести, чтобы заменить их. О, несчастный человек на худшем из худших островов! Обратите внимание на его поведение по отношению к этой бедной женщине, госпоже Бертран. Он лишил её той маленькой свободы, которой она обладала, запретив людям навещать её и поболтать хотя бы час с ней, что было небольшим утешением для нее, привыкшей к обществу людей».
Я заметил, что, как объяснил губернатор, это обстоятельство стало следствием записки госпожи Бертран, посланной маркизу Моншеню без того, чтобы эта записка сначала побывала в руках губернатора. «Вздор, — отреагировал Наполеон, — в соответствии с правилами, существовавшими до его приезда на остров, нам разрешалось посылать записки жителям острова, и никакого сообщения об изменении этих правил не было. Кроме того, разве она и её супруг не могли отправиться в город и встретиться с Моншеню? Слабые люди всегда пугливы и подозрительны. Этому человеку быть впору главарем полицейских ищеек, но не губернатором».
16 июля. Наполеон, отправившись рано утром в конюшни, приказал запрячь лошадей, а сам, перехватив меня в парке, предложил мне сопровождать его в карете. Пожаловался на зубную боль. Пригласил позавтракать вместе с ним. Во время еды затронули вопрос о полномочных представителях. Наполеон спросил, видела ли его госпожа Штюрмер когда-нибудь в Париже. Я ответил, что да, видела и очень бы хотела вновь увидеть его. «И кто же мешает ей в этом?» — спросил он. Я ответил, что она и её муж, так же как и остальные полномочные представители, полагают, что Наполеон не примет их. «Кто им сказал такое? — удивился он. — Я готов принять их всегда, когда им захочется, попросив об этом через посредство Бертрана. Я приму их в качестве частных лиц. Я никогда не отказываюсь встретиться с любым человеком, когда просьба о визите ко мне оформляется надлежащим образом, и я буду всегда рад встретиться с дамой.
Оказывается, — продолжал Наполеон, — ваши министры послали для нас большое количество одежды, а также другие вещи, которые, как предполагалось, могут нам пригодиться. Итак, если бы этот губернатор обладал качествами джентльмена, то он бы направил Бертрану список всех этих вещей, заявив при этом, что английское правительство послало целый запас вещей, которые, думается, мы могли бы захотеть получить. Но вместо того чтобы следовать правилам вежливости, этот тюремщик, выбрав вещи по своему разумению и не посоветовавшись с нами, выслал их нам в надменной манере, словно подавал милостыню группе нищих или раздавал одежду заключённым. Тем самым он превращает в оскорбление то, что, вероятно, ваше правительство, намеревалось сделать актом любезности. В действительности мы имеем дело с сердцем палача, ибо никто кроме палача безо всякой на то необходимости не приумножает страдания людей, находящихся, как мы, в бедственном положении.
Его руки пачкают любую вещь, до которой он дотрагивается. Посмотрите, как он мучит эту бедняжку, госпожу Бертран, лишив её возможности общаться с небольшой группой людей, к чему она так привыкла и что так необходимо для её существования. Этим он не наказывает её супруга, который довольствуется уже тем, что в руках у него есть книга. Меня удивляет тот факт, что губернатор позволяет вам или Попплтону оставаться около меня. Он бы с удовольствием сам всегда следил за мной, если бы это было в его власти. У вас в Англии есть преступники, приговорённые к каторжным работам на галерах?» Я ответил: «Нет; но у нас были заключённые, приговорённые к каторжным работам в Портсмуте и в других местах». «Тогда, — заявил Наполеон, — его следовало назначить надсмотрщиком над ними. Это была бы именно та самая должность, к которой он наиболее подходит».
В Лонгвуд приехал сэр Хадсон Лоу и провёл с Наполеоном краткую беседу.
17 июля. Наполеон вызвал меня к себе в сад. Сообщил мне, что он сказал губернатору, что тот безо всякой необходимости ужесточил свои ограничения; что тот безосновательно наказал госпожу Бертран; что тот оскорбил французов самим способом передачи им вещей, присланных из Англии; что тот оскорбил Лас-Каза, сообщив ему, что читал его письма, и информировав его о том, что если Лас-Каз захочет получить пару туфель или чулок, то должен сначала направить запрос губернатору. «Я сказал ему, — добавил Наполеон, — что если бы Бертран или, скажем, Лас-Каз захотели организовать заговор с полномочными представителями (чего он, видимо, боится), то им достаточно было бы отправиться в город и договориться о встрече с одним из полномочных представителей в месте сбора войск при тревоге. Я заявил губернатору, что, оскорбляя такого человека, как Бертран, который пользуется уважением во всей Европе, он, облеченный властью, покрывает себя позором».
Затем Наполеон заговорил о новом доме, сказав, что, если, как он полагает, ему предстоит ещё долго оставаться на острове Святой Елены, то он хотел бы, чтобы этот новый дом был построен в районе «Колониального дома». «Но, — продолжал он, — я придерживаюсь того мнения, что, как только дела во Франции будут налажены и обстановка в целом успокоится, английское правительство разрешит мне вернуться в Европу и закончить мои дни в Англии. Я не верю, что оно настолько глупо, чтобы держать меня здесь, затрачивая ежегодно восемь миллионов, когда я более не представляю никакой опасности; поэтому меня не волнует проблема нового дома».
Затем он затронул проблему своего побега с острова, заявив, что если бы даже он был склонен к тому, чтобы попытаться сделать это, то есть только два шанса из ста на то, что его попытка увенчается успехом. «Несмотря на это, — продолжал он, — этот тюремщик вводит такое множество ограничений, словно у меня нет иных дел, как сесть в лодку и отплыть от острова. Верно и то, что, пока человек живёт, всегда есть шанс, — хотя он и прикован к цепи, заперт в клетке и приняты все меры предосторожности для его охраны, — всё же есть шанс для побега, и единственный эффективный способ помешать этому заключается в том, чтоб умертвить меня. Только мёртвые не оживают. После этого все беспокойства европейских держав и лорда Каслри прекратятся: не надо будет делать затрат, содержать эскадры, чтобы следить за мной, и бедных солдат, замученных до смерти необходимостью стоять в пикетах и на постах охраны и утомлённых до предела после переходов с тяжёлым грузом на плечах вверх на эти скалы».
18 июля. Сэр Хадсон приехал в Лонгвуд и обговорил с генералом Монтолоном некоторые вопросы, связанные с реконструкцией дома. Вся эта работа ведётся под руководством подполковника Виньярда. Ему помогает лейтенант Джэксон из губернаторского штаба. В Лонгвуд доставили бильярдный стол.
24 июля. Адмирал прислал лейтенанта с небольшим отрядом матросов, чтобы разбить палатку, используя для неё в качестве материала взятый с парусного корабля нижний лисель, поскольку деревья в Лонгвуде не дают никакой тени. Полковник Маунселл из 53-го пехотного полка обратился ко мне с просьбой постараться добиться через графа Бертрана аудиенции у Наполеона для д-ра Уорда (который находился в Индии восемнадцать лет). В соответствии с моей просьбой граф Бертран обратился к императору, который ответил, что «д-р Уорд должен лично обратиться к графу Бертрану».
25 июля. Я сообщил Наполеону, что накануне вечером из Англии прибыл корабль «Грифон» с новостями о приговоре генерала Бертрана к смертной казни заочно. На какую-то минуту он произвёл впечатление человека, полностью поверженного в состояние крайнего изумления и притом весьма обеспокоенного; но, взяв себя в руки, высказался в том смысле, что, по законам Франции, человек, обвиняемый в совершении преступления, за которое предусматривается смертная казнь, может быть предан суду и приговорён к смертной казни заочно, но подобный приговор не может быть приведён в исполнение: преступника должны судить вновь, но уже в его присутствии; если бы Бертран сейчас находился во Франции, его бы оправдали, как это случилось с Друо. Однако Наполеон выразил глубокое сожаление по поводу того отрицательного эффекта, который, вероятно, может произвести на госпожу Бертран эта новость. «В революции, — продолжал он, — любая вещь забывается. Привилегии, которые ты жалуешь сегодня, завтра забываются. Отношения меняются, благодарность, дружба, родственные и другие связи исчезают, и все стремятся добиться личной выгоды».
26 июля. Застал Наполеона во время его утреннего туалета. Одеваться ему помогали Маршан, Сен-Дени и Новерраз. Один из двух последних держал перед Наполеоном зеркало, а другой — необходимые принадлежности для бритья, Маршан же ждал своей минуты, чтобы затем передать ему одежду, одеколон и прочие вещи. Когда он заканчивал брить одну сторону лица, то спрашивал Сен-Дени или Новерраза: «Все в порядке?» и после получения утвердительного ответа принимался брить другую. После окончания процедуры бритья к свету подносили зеркало и Наполеон внимательно смотрел, хорошо ли он выбрит. Если он чувствовал, что что-то осталось на лице, он иногда щипал одного из слуг за ухо или слегка шлёпал по щеке провинившегося и добродушно восклицал: «А! Мошенник, почему ты мне сказал, что всё в порядке?»
Этот забавный, часто повторяющийся эпизод, вероятно, послужил основанием для досужих разговоров о якобы укоренившейся в характере Наполеона привычке избивать или грубо обращаться со своими слугами. Затем он умывался водой, в которую добавлялась небольшая доза одеколона, и этой же водой слегка опрыскивал грудь, весьма тщательно чистил зубы, часто сам массируя себя массажной щёткой, сменял своё льняное бельё и фланелевую жилетку, потом надевал белые бриджи из кашемира (или из хлопчатобумажной ткани «китайка»), белый жилет, шёлковые чулки, туфли с золотыми пряжками, зелёный однобортный китель с белыми пуговицами, чёрный шарф, полностью прикрывавший воротник белой рубашки, и треугольную шляпу с чуть-чуть поднятыми полями и с небольшой трёхцветной кокардой. Поверх одежды он всегда прикреплял орденскую ленту с большим крестом ордена Почётного легиона. После того как он надевал шинель, Маршан вручал ему небольшую бонбоньерку, табакерку и носовой платок, надушенный одеколоном, и затем Наполеон покидал спальную комнату.
Наполеон жаловался на слабые боли в правом боку. Я посоветовал ему это место хорошенько массировать фланелевым платком, смоченным одеколоном, а также увеличить дозу физических упражнений. Что касается последнего совета, то он в ответ на мою рекомендацию рассмеялся и слегка похлопал меня по щеке. Он спросил меня о причинах жалоб на боли в печени, в настоящее время весьма частых у местных жителей. Я перечислил несколько причин и среди прочих пьянство и жаркий климат. «Если, — заметил Наполеон, — причиной заболевания печени является пьянство, то я никогда не должен страдать от этой болезни».
28 июля. Как мне рассказал Киприани, в начале 1815 года его послали из Эльбы в Легхорн, чтобы закупить для дворца Наполеона мебель на сумму в 1 007 000 франков. Выполняя порученное задание, Киприани близко сошёлся с неким господином по имени N, у которого в Вене на связи был господин NN. От последнего поступило тайное сообщение о том, что на Венском конгрессе зреет решение отправить императора на остров Святой Елены. От него же поступил документ, излагавший содержание соглашения Венского конгресса. Киприани, получивший копию документа, сразу поспешил на Эльбу, чтобы обо всём доложить императору. Эта информация, вкупе с подтверждением её достоверности, полученным в дальнейшем Наполеоном от господ М., А. и М., находившихся в Вене, способствовала принятию Наполеоном решения об осуществлении попытки вернуть свой императорский трон во Франции.
Сопровождал Наполеона во время его вечерней поездки в карете. Сообщил ему, что сэр Томас Рид обратился ко мне с просьбой известить его о том, что русский полномочный представитель не принимал участие в подготовке официальной ноты, адресованной губернатору и содержащей пожелание повидаться с ним (Наполеоном). Наполеон заметил, что если они хотели видеть его, то для этого они выбрали совсем неподходящий способ, так как все державы Европы не заставят его встретиться с ними в качестве официальных представителей. Затем Наполеон обратил внимание на тот факт, что книга[5], описывающая время его последнего правления во Франции, была недавно послана автором (англичанином) сэру Хадсону Лоу с просьбой передать её ему.
На корешке книги была сделана золотыми буквами дарственная надпись: «Императору Наполеону» или «Великому Наполеону». «Теперь же, — продолжал Наполеон, — этот тюремщик не разрешает передать эту книгу мне, потому что на ней написано «император Наполеон», так как он посчитал, что эта книга доставит мне удовольствие видеть, что не все люди подобны ему и я пользуюсь уважением некоторых его соотечественников».
Со времени прибытия сэра Хадсона Лоу на остров резко сократилось количество газет, присылаемых в Лонгвуд. Вместо регулярно получаемых, как это было до сих пор, номеров некоторых газет, а также отдельных номеров других газет в Лонгвуд приходят нерегулярные номера «Таймса» и изредка «Курьера». Это обстоятельство вызвало большое беспокойство в Лонгвуде у тех, у кого остались родственники во Франции, а также резкое недовольство самого Наполеона, для которого сэр Джордж Кокбэрн часто посылал газеты ещё до того, как сам просматривал их.
5 августа. В Лонгвуд приехал сэр Хадсон Лоу. Отозвав меня в сторону, он с таинственным видом спросил, не считаю ли я, что «генерал Бонапарт» хорошо воспримет приглашение посетить бал в «Колониальном доме» по случаю дня рождения принца-регента? Я ответил, что при всех обстоятельствах наиболее вероятной реакцией на это приглашение будет то, что Наполеон расценит его как оскорбление, особенно если приглашение будет прислано на имя «генерала Бонапарта». Его превосходительство возразил, что он постарается избежать этого, так как он лично пригласит Наполеона. Я сказал, что я бы порекомендовал ему проконсультироваться по этому вопросу с графом Бертраном. Сэр Хадсон Лоу ответил, что он так и сделает. После этого губернатор перевёл разговор на тему о книге г-на Хобхауза, заметив, что он не мог послать её в Лонгвуд, поскольку она поступила на остров, минуя каналы государственного секретаря; более того, лорд Каслри чрезвычайно дурно отозвался об этой книге и у него и в мыслях не было, чтобы позволить генералу Бонапарту читать книгу, в которой образ британского министра подаётся в плохом свете. Лорд Каслри даже не знал, что книга, позволяющая автору очернять британского министра, могла быть опубликована в Англии. Я позволил себе заметить его превосходительству, что Наполеону очень хотелось видеть эту книгу и что его превосходительство не мог бы оказать большей любезности Наполеону, чем послать ему эту книгу.
6 августа. Наполеон вновь вернулся к обсуждению проблемы с книгой г-на Хобхауза. Он заявил, что губернатор поступил просто незаконно, оставив у себя упомянутую книгу; что даже если бы он был заключённым, приговорённым к смертной казни, поведение губернатора не может быть законным, когда он оставляет у себя книгу, которая не содержит ни секретной корреспонденции, ни элементов государственной измены, только потому, что она содержит «пустяк». Под «пустяком» Наполеон имел в виду адресованную ему дарственную надпись.
10 августа. Когда Наполеон завтракал снаружи дома, в палатке, приехал сэр Хадсон Лоу, чтобы поговорить с ним, но это ему не удалось.
11 августа. Большие манёвры на территории лагеря 53-го пехотного полка в честь принца-регента. Объяснил Наполеону, что во всех наших колониях празднуется день рождения его королевского высочества. «Конечно, конечно, — сказал он, — это вполне естественно». Спросил меня, приглашён ли я на обед к губернатору. Я ответил, что нет, но что меня пригласили вечером на бал.
14 августа. Наполеон выехал на прогулку верхом впервые за последние восемь недель. Сообщил мне, что у него настолько разболелась голова, что он попытался использовать эффект небольшого физического упражнения. «Но, — продолжал он, — пределы моей зоны настолько ограничены, что я не могу ездить более часа; а для того, чтобы получить для здоровья какую-нибудь пользу, я должен на скорости ездить три или четыре часа. Он был здесь, — продолжал Наполеон, — этот сицилийский главарь полицейских ищеек. Я бы задержался в палатке ещё на один час, если бы мне не сообщили о его приезде. Мне противно его видеть. Он пребывает в вечном беспокойстве и производит впечатление человека, который всегда на кого-то сердит или которого одолевают тревожные думы, словно что-то гложет его совесть, и он поэтому стремится сбежать от самого себя».
«Человеку, более всего подходящему для должности губернатора острова Святой Елены, — высказал своё мнение Наполеон, — следует быть личностью, обладающей большим тактом и в то же время сильным и твёрдым характером — таким, кто мог бы самым деликатным образом представить свой отказ и уменьшить страдания заключённых, вместо того чтобы вечно вдалбливать им в голову, что их рассматривают только как узников. Вместо такого человека сюда прислали неизвестного человека, который никогда не командовал, никогда не придерживался ни порядка, ни системы, не умеет подчиняться обстоятельствам, вести себя в обществе, не обладает творческими возможностями, и выглядит так, словно всегда жил среди воров».
15 августа. День рождения Наполеона. Праздничный завтрак в палатке с участием дам, всех членов свиты, включая Пионтковского и детей. Наполеон, однако, не поменял мундира и к орденской ленте не прикрепил дополнительных знаков отличия. Вечером для обслуживающего персонала, включая английских подданных, был устроен праздничный ужин, после которого были танцы. К удивлению французов, никто из англичан не напился.
16 августа. В Лонгвуд приехал сэр Хадсон Лоу и провёл продолжительную беседу с генералом Монтолоном и со мной. Беседа в основном касалась необходимости снижения расходов на ведение хозяйства в Лонгвуде, которое, как считал губернатор, проводилось без должного соблюдения экономии средств. Губернатор заявил генералу Монтолону, что он обратил внимание, сравнивая счета «Колониального дома» и Лонгвуда, на то, что в Лонгвуде потребляется гораздо большее количество столовой соли, чем в «Колониальном доме»; поэтому губернатор потребовал, чтобы в будущем в Лонгвуде в кухне и на столе для слуг, по возможности, больше использовалась грубая соль.
Сегодня в Лонгвуд была доставлена пневматическая машина Лесли для выработки льда. Как только машину установили, я отправился к Наполеону и сообщил ему об этом. Я также информировал его о том, что в Лонгвуде находится адмирал. Наполеон задал несколько вопросов о технологическом процессе работы машины, и было очевидно, что он прекрасно разбирается в технологии, в основу которой положены действия воздушного насоса. Он выразил восхищение положением дел в области химической науки и говорил о больших достижениях, достигнутых в этой области за последние годы, заметив, что он всегда делал всё, что было в его власти, для поддержки и поощрения учёных-химиков. Затем я покинул его и отправился в комнату, где была установлена машина, чтобы приступить к эксперименту в присутствии адмирала. Через несколько минут в сопровождении графа Монтолона пришёл Наполеон. Он с радостью приветствовал адмирала, и было заметно, что ему доставляет удовольствие видеть его. В присутствии Наполеона примерно через пятнадцать минут в результате работы машины вода, налитая до края чашки, превратилась в лёд. Наполеон подождал ещё минут тридцать, чтобы посмотреть, как такое же количество лимонада будет заморожено, но этого не получилось.
Попробовали заморозить молоко, но из этого также ничего не вышло. Наполеон взял кусочек льда, полученного из воды, и, обратившись ко мне, заметил, какое это было бы удовольствие в условиях Египта. Эта машина произвела на свет первый кусок льда, который когда-либо видели на острове Святой Елены. Этот лёд с выражением величайшего изумления рассматривали уроженцы острова, некоторых из них смогли с большим трудом убедить в том, что кусок твёрдого вещества в их руках действительно состоит из воды, и уверовали они в это только тогда, когда стали свидетелями процесса её сжижения.
17 августа. Я отправился в коттедж «Ворота Хата», чтобы осмотреть слугу графа Бертрана Бернара, который серьёзно болен. Сержант на посту приказал часовому не пропускать меня в коттедж. Я подошёл к сержанту, чтобы выяснить причину поведения часового. Сержант сообщил мне, что он получил указание никого не пускать в коттедж, за исключением членов губернаторского штаба. Как выяснилось, это указание дал сам сэр Хадсон Лоу, когда вчера выходил из дома графа Бертрана, которому он показал письмо от лорда Батхерста, в котором сообщалось, что денежный фонд для покрытия всех расходов персонала коттеджа «Ворота Хата» сокращается до ежегодной суммы в 8000 фунтов стерлингов. Поставщикам провизии запретили вступать на территорию поместья. Они теперь вынуждены передавать продукты через забор. Слугам из Лонгвуда также запрещено входить на территорию «Ворота Хата», так же как и г-ну Бруксу, секретарю администрации колонии. Сэр Хадсон Лоу направил письмо графу Монтолону с требованием ограничить ежегодные расходы Наполеона и его свиты на содержание персонала Лонгвуда суммой в 121 000 фунтов стерлингов.
18 августа. Губернатор и адмирал, сопровождаемые сэром Томасом Ридом и майором Горрекером, приехали в Лонгвуд в тот самый момент, когда Наполеон прогуливался в саду вместе с графами Бертраном, Монтолоном и Лас-Казом, а также с сыном Лас-Каза. Его превосходительство попросил уделить ему время для беседы с Наполеоном и получил на это согласие. Беседа прошла в саду. Три основных персонажа встречи, Наполеон, сэр Хадсон и сэр Пультни, оказались несколько впереди остальных. Капитан Попплтон и я стояли на некотором расстоянии от них, но достаточно близко, чтобы наблюдать за их жестами. Мы отметили, что беседу в основном вёл Наполеон, который временами казался чрезмерно оживлённым. Он часто останавливался и затем вновь ускорял шаг, сопровождая свою речь активной жестикуляцией. Манера сэра Хадсона вести беседу также отличалась заметной торопливостью, а он сам казался весьма возбуждённым. Адмирал был единственным из всех троих, кто, судя по всему, говорил, сохраняя полную невозмутимость. Примерно через полчаса мы увидели, как сэр Хадсон Лоу резко повернулся и удалился, не попрощавшись с Наполеоном. Адмирал же снял шляпу, отвесил поклон Наполеону и также ушёл. Сэр Хадсон Лоу подошёл к тому месту, где Попплтон стоял со мной, и стал нервно расхаживать взад и вперёд, поджидая своих лошадей. Обратившись ко мне, он сказал: «Генерал Бонапарт вёл себя по отношению ко мне очень оскорбительно. Я резко прервал нашу беседу и сказал ему: «Вы очень невежливы, мосье». Затем губернатор вскочил на коня и галопом умчался прочь. Адмирал казался встревоженным и задумчивым. Было очевидно, что беседа Наполеона с губернатором и адмиралом была очень неприятной.
19 августа. Виделся с Наполеоном в его спальной комнате. Он был в очень хорошем настроении — спросил, как себя чувствует Гурго. Когда я сообщил ему, что дал Гурго некоторые лекарства, он рассмеялся и сказал: «Ему бы лучше сесть на диету на несколько дней: пусть он пьёт как можно больше воды и ничего не ест. Лекарства, — заявил Наполеон, — подходят только для стариков».
Затем он сказал: «Этот губернатор вчера приехал сюда, чтобы досадить мне. Он увидел меня гуляющим в саду, и в результате этого я не мог отказаться от встречи с ним. Он хотел вовлечь меня в обсуждение деталей, касающихся сокращения расходов на содержание персонала Лонгвуда. Он имел наглость сказать мне о том, как ему видится положение дел и что он приехал в Лонгвуд, чтобы оправдаться передо мной: но прежде, чем сделать это, он два или три раза приезжал сюда, однако я в это время принимал ванну. Я ответил: «Нет, сэр, я не принимал ванны, но я дал указание приготовить её для меня специально, чтобы не видеть вас. Пытаясь оправдаться, вы только ухудшаете положение вещей».
Он заявил, что я не знаю его, что если бы я знал его, то изменил бы мнение о нём. «Знаю вас, сэр? — ответил я. — Каким образом я мог знать вас? Люди создают себе имя своими деяниями; командованием войсками в сражениях. Вы никогда не командовали войсками в сражениях. Вы вообще никем не командовали, разве что сбродом корсиканских дезертиров, пьемонтских и неаполитанских бандитов. Я знаю поименно каждого английского генерала, который отличился в сражениях, но я никогда не слыхал о вас, за исключением того, что вы были клерком у Блюхера и служили комендантом тюрьмы для бандитов. Вы никогда не командовали и никогда не были приняты в общество честных и порядочных людей».
Он заявил, что не добивался нынешней работы. Я сказал ему, что подобной работы не добиваются: правительства назначают на такую работу тех, кто обесчестил себя. Он возразил, что он лишь выполнял свой долг и что я не должен порицать его, так как он действовал только в соответствии с полученными указаниями.
Я ответил: «Вот именно так поступает палач. Он действует в соответствии с полученным приказом. Но когда он затягивает петлю на моей шее, чтобы прикончить меня, разве мне должен нравиться этот палач только по той причине, что он действует в соответствии с полученным приказом? Кроме того, я не верю, что какое-либо правительство может быть столь подлым, чтобы отдавать подобные приказы и обязывать вас исполнять их. Я сказал ему, что если ему так хочется, то для него нет необходимости в том, чтобы присылать мне что-либо поесть: я отправлюсь в лагерь 53-го пехотного полка и буду обедать за столом славных офицеров этого полка; я уверен, что среди этих офицеров не найдётся ни одного, кто не будет счастлив накормить старого солдата; что нет ни одного солдата в полку, который был бы менее милосердным, чем он; что в ужасном законопроекте предписано, что со мной должны обращаться как с узником, но он обращается со мной хуже, чем с приговорённым преступником или с каторжником, отбывающим срок на галерах, потому что этим преступникам разрешается получать газеты и книги, которых он лишил меня.
Я сказал: «Вы властны над моим телом, но не над моей душой. Эта душа в настоящее время так же преисполнена гордостью, так же неистова и полна решимости, как и тогда, когда она командовала Европой!» Я сказал ему, что он — сицилийский главарь полицейских ищеек, а не англичанин; и настоятельно попросил его более не встречаться со мной до тех пор, пока он не придёт с приказом расправиться со мной и когда он обнаружит, что все двери распахнуты, чтобы принять его.
Не в моей привычке, — продолжал он, — оскорблять кого-либо, но наглость этого человека вызвала у меня такую враждебность к нему, что я не мог сдержать своих чувств. Когда он имел наглость заявить мне в присутствии адмирала, что он ничего не менял, что всё осталось таким же, как и до его прибытия на остров, тогда я ему ответил: «Позовите сюда капитана охраны Лонгвуда и спросите его. Я оставляю его свидетельство на его усмотрение». Это лишило его дара речи, он онемел.
Он заявил мне, что находит своё положение настолько затруднительным, что вследствие этого он подал в отставку. Я ответил, что прислать сюда более худшего человека, чем он, просто невозможно, хотя его должность не из тех, которую хотел бы занять джентльмен. Если вам представится возможность, — добавил Наполеон, — или кто-либо спросит вас, то я предоставляю вам полную свободу повторить то, что я вам сейчас рассказал».
21 августа. Из Англии прибыл корабль. Я отправился в город, где встретился с капитаном Стэнфеллом, в беседе с которым я упомянул, что между губернатором и Наполеоном состоялся очень неприятный разговор и что сэр Хадсон Лоу заявил последнему, что он подал в отставку. Возвращаясь в Лонгвуд, заехал в «Ворота Хата» вместе с капитаном Маунселлом из 53-го пехотного полка и с капитаном Попплтоном. Госпожа Бертран спросила, есть ли какие-нибудь письма. Капитан Маунселл подтвердил, что на почте видел несколько писем для них. Когда я приехал в Лонгвуд, Наполеон задал мне такой же вопрос. Я ответил ему, что капитан Маунселл информировал госпожу Бертран, что на почте есть несколько писем. У меня не было намерения упоминать о судьбе присланных писем, пока я не удостоверюсь в том, что они будут направлены в Лонгвуд, так как я не хотел дальнейшего обострения отношений Наполеона с губернатором, но поскольку я был уверен, что он услышит о существовании писем от обитателей «Ворот Хата», то я не мог утаивать от Наполеона, что я знаю, что письма находятся на почте.
22 августа. Сэр Хадсон Лоу послал за мной, чтобы я приехал в «Колониальный дом». Нашёл его прогуливающимся по дорожке слева от дома. Он заявил, что намерен направить правительству несколько сообщений. Затем он поинтересовался состоянием здоровья генерала Бонапарта и спросил меня, не хочу ли я что-либо сказать. «Насколько я понимаю, — продолжал он, — этот Бонапарт сообщил вам, что я сказал, что представил заявление о моей отставке с должности губернатора, это так?» Я ответил: «Он сообщил мне, что именно это вы и сказали ему». Сэр Хадсон сказал: «Я никогда не говорил ничего подобного и у меня никогда не возникало и мысли об этом. Он или придумал все это сам, или, возможно, ошибочно понял мои слова. Я всего лишь сказал, что если правительство не одобрит моего поведения, то я подам в отставку. Поэтому я хочу, чтобы вы объяснили ему, что я никогда не говорил так и никогда не имел намерения сделать это».
Затем он спросил меня, слышал ли я их разговор. Я ответил, что частично. Он захотел знать, что именно. Я ответил, что он сам помнит весь разговор и я не хочу повторять то, что должно быть неприятно ему. Он заметил, что в другом месте я уже упоминал об этом разговоре и потому он имеет право услышать все из моих уст. Хотя у меня было разрешение пересказывать этот разговор, все же мне было неприятно говорить прямо в лицо человеку те мнения о нём, которые были высказаны; но, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, я не посчитал нужным отказаться выполнить просьбу губернатора. Поэтому я повторил содержание части их беседы.
Сэр Хадсон заявил, что, хотя он не командовал армией против Наполеона, однако он, возможно, причинил ему больше вреда, чем если бы командовал армией против него, тем, что до и во время проведения переговоров в Шатильоне он давал советы и предоставлял информацию, которая частично была утаена, поскольку в то время переговоры продолжались; что то, что именно он указывал, было в дальнейшем задействовано и стало причиной свержения Наполеона с трона. «Я хотел бы, — добавил он, — чтобы он знал об этом для того, чтобы предоставить в его распоряжение хотя бы какую-то причину для его ненависти ко мне. Я, возможно, опубликую доклад по этому вопросу».
Затем сэр Хадсон Лоу на короткое время возобновил свою прогулку, обгрызая при этом ногти, и спросил меня, повторяла ли госпожа Бертран что-либо из того разговора, который состоялся между генералом Бонапартом и им.
Я ответил, что не осведомлен, что госпожа Бертран извещена об этом разговоре. «Для неё было бы лучше, — заявил губернатор, — если бы она не знала об этом разговоре, чтобы положение её и её супруга не стало бы ещё более неприятным, чем в настоящее время». Затем губернатор раздражённым тоном повторил некоторые фразы Наполеона и спросил меня: «Сообщил ли генерал Бонапарт вам, сэр, что я сказал ему, что он разговаривает невежливо и непристойно и что я более не намерен выслушивать его?» Я ответил: «Нет». «Тогда это свидетельствует, — заметил губернатор, — о чрезмерной мелочности со стороны генерала Бонапарта — не рассказать вам обо всём. Ему бы лучше поразмыслить о собственном положении, ибо в моей власти ухудшить его. Если он будет продолжать наносить мне оскорбления, то я заставлю его почувствовать, в каком положении он находится. Он является военнопленным, и я имею право обращаться с ним в соответствии с тем, как он ведёт себя. Я сумею его приструнить».
В течение нескольких минут он расхаживал, вновь повторяя некоторые высказывания Наполеона, характеризуя их как не свойственные джентльмену и т. д., пока не довёл себя до состояния крайнего раздражения, заявив: «Скажите генералу Бонапарту, чтобы он внимательнее следил за тем, что он делает, так как если он станет по-прежнему вести себя подобным образом, то я буду обязан принять меры, чтобы ужесточить уже существующие ограничения». Напомнив, что Наполеон был причиной потери жизни миллионов людей и может вновь стать ею, если вырвется на свободу, губернатор закончил беседу, заявив: «Я считаю, что Али Паша — намного более сносный негодяй, чем Бонапарт».
23 августа. Во время беседы с Наполеоном сказал ему, что губернатор сообщил мне, что он (Наполеон) неправильно понял суть его фразы, так как он (губернатор) никогда не говорил, что подал в отставку. Просто он имел в виду, что если правительство не станет одобрять его поведения, то он подаст в отставку и т. д. «Всё это очень странно, — заявил Наполеон, — так как он сам мне сказал, что подал в отставку, по крайне мере, именно так я его и понял. Тем хуже». Затем я сказал, что вследствие того, что случилось во время последней их встречи, вполне возможно, что губернатор не будет добиваться нового свидания. «Тем лучше, — произнёс император. — Так как в этом случае я буду освобождён от тяжкой необходимости лицезреть его ужасное лицо».
26 августа. Наполеон спросил меня, видел ли я письмо, написанное графом Монтолоном сэру Хадсону Лоу, содержащее список наших жалоб. Я ответил, что видел это письмо. «Как вы думаете, — спросил Наполеон, — пошлёт ли этот губернатор письмо в Англию?» Я заверил его, что в этом нет никаких сомнений. Более того, губернатор сообщил мне, что он предлагает ему не только посылать письма французов домой, но даже будет способствовать тому, чтобы их публиковали в газетах. «Всё это ложь, — ответил император. — Он сказал, что будет посылать письма в Европу и способствовать их публикации в газетах, однако с условием, что он будет санкционировать их содержание. Помимо этого, если бы даже он хотел делать это, то его правительство этого не допустит. Предположим, например, что я посылаю ему обращение к французской нации. Я не думаю, что они разрешат опубликовать письмо, которое так безудержно покрывает их позором. Народ Англии хочет знать, почему я называю себя императором после того, как отрёкся от трона — в этом письме я как раз это и объясняю.
Я был намерен жить в Англии как частное лицо под чужим именем, но, поскольку они выслали меня сюда и хотят представить дело таким образом, что я никогда не был главой государства и императором Франции, то я по-прежнему сохраняю свой титул. NN сообщил мне, что он слышал, что лорды Ливерпуль и Каслри заявили, что одной из главных причин, почему они выслали меня сюда, было опасение того, что я вступлю в заговор с их оппозицией в парламенте.
Вполне вероятно, они опасались, что я буду говорить правду о них, а это не придётся им по нраву, так как они знали, что если я останусь в Англии, то они будут вынуждены разрешить высокопоставленным лицам встречаться со мной».
Затем Наполеон пожаловался на излишнюю строгость, проявленную в том, что он лишён возможности читать неразрозненную подборку газет и вместо них получает только отдельные номера бурбонской «Таймс».
Через несколько дней в Лонгвуде были выставлены дополнительные пикеты, а также увеличено количество часовых, наблюдающих за Наполеоном, если он прогуливался после захода солнца. Вокруг сада почти закончено окапывание рвов, глубиной от восьми до десяти футов.
27 августа. Наполеон спросил меня, не поссорились ли между собой французский полномочный представитель и госпожа Штюрмер? Я ответил, что Моншеню заявил, что госпожа Штюрмер не знает, как следует входить в гостиную комнату. Наполеона это рассмешило, и он заметил: «Беру на себя смелость утверждать, что старый болван так сказал, потому что она не происходит родом от этих глупцов, старых аристократов. Потому что её отец — плебей. Эти старые эмигранты ненавидят и ревнуют всех, кто, подобно им, не входит в касту наследственных ослов».
Я спросил Наполеона, является ли король Пруссии одарённым человеком. «Кто? — переспросил он. — Король Пруссии? — Его охватил смех. — Он — одарённый человек! Величайший болван на свете. Невежда, у которого нет ни таланта, ни знаний. Внешне он похож на Дон Кихота. Я хорошо его знаю. Он не в состоянии вести беседу в течение пяти минут. Не то, что его жена. Она очень умная и прекрасная женщина, но очень несчастная. Она красива, грациозна и с умом».
Потом он довольно долго говорил о Бурбонах. «Они хотят, — заявил он, — внедрить в армии старую систему. Вместо того чтобы позволить сыновьям крестьян и рабочих получить право стать генералами, как это было в моё время, они хотят дать это право только старой аристократии, эмигрантам, таким, как этот старый болван Моншеню. Когда вы видите Моншеню, то это значит, что вы повидали всю старую аристократию Франции до революции. Такими они все были и такими же они вернулись — невежественными, тщеславными и надменными. Они ничему не научились, они ничего не забыли. Они стали причиной революции и последующего массового кровопролития; и теперь, после двадцати пяти лет ссылки и позора, они вернулись, отягощенные теми же пороками и преступлениями, за которые их изгнали из отечества. Они вернулись, чтобы породить новую революцию. Я знаю французов. Поверьте мне, что после шести или десяти лет всё это племя будет уничтожено и сброшено в Сену. Они — проклятие страны. Это из их числа Бурбоны хотят наплодить генералов. Я же производил в генералы таких же, как я сам, таких, кто вышел из грязи. Когда я находил в человеке талант и мужество, я воздавал ему должное. Я придерживался принципа: карьера открыта для талантливых, не спрашивая о том, есть ли у них хотя бы четверть аристократизма. Это верно, что я иногда продвигал представителей старой аристократии, придерживаясь принципа политики и справедливости, но я никогда не питал к ним большого доверия. Множество людей сейчас видят возрождение феодальных времён: они видят, что вскоре их потомству будет невозможно сделать карьеру в армии. Каждый истинный француз размышляет с болью в душе, что королевская семья, на протяжении многих лет столь одиозная и отвратительная для Франции, силой навязана французскому народу с помощью иностранных штыков.
То, что я вам собираюсь рассказать, даст вам некоторое представление о слабоумии королевской семьи. Когда граф д’Артуа прибыл в Лион для того, чтобы уговорить войска выступить против меня, он хотя и бросился ради этого на колени перед солдатами, но и не подумал прицепить на себя кокарду Почётного легиона. При этом ему было, хорошо известно, что только один вид этой кокарды склонит солдат в его сторону, так как для многих из них было в порядке вещей с гордостью носить её на своей груди, ибо, чтобы заслужить её, ничего не требовалось, кроме храбрости и мужества. Но нет, он украсил себя орденом Святого Духа: чтобы иметь право носить этот орден, вы должны доказать свою принадлежность к аристократическому роду, насчитывавшему, по крайней мере, сто пятьдесят лет. Этот орден был преднамеренно учреждён для того, чтобы исключить заслуги награждённого, и именно такой орден вызвал возмущение в груди старых солдат. «Мы не будем сражаться ради орденов, подобных этому, и не будем сражаться ради эмигрантов, таких, как эти люди». Дело в том, что граф д’Артуа привёл с собой десять или одиннадцать глупцов, бывших его адъютантами. Вместо того чтобы представить войскам тех генералов, которые так часто приводили старых солдат к славе, он взял с собой кучку ничтожеств, которые добились лишь того, что вызвали в памяти ветеранов их прошлые страдания под пятой аристократов и священников.
Чтобы дать вам пример общего настроения во Франции в отношении Бурбонов, я расскажу вам одну историю. Во время моего возвращения из Италии, когда моя карета с трудом поднималась по крутому холму Тараре, я вышел из нее и пошел вверх один без сопровождавших меня лиц, что я делал довольно часто. Моя жена и моя свита шли позади меня, несколько отдалившись. Я увидел старую, хромую женщину, ковылявшую с помощью костыля, старающуюся добраться до вершины холма. На мне была большая шинель и меня было трудно узнать. Я догнал её и спросил: «Ну, ну, моя славная, и куда же вы идёте с такой поспешностью, которая никак не к лицу вашим годам? Что случилось?» — «По правде говоря, — ответила пожилая женщина, — мне сказали, что где-то здесь находится император, и я хочу увидеть его, прежде чем умру!» — «Вот ещё! — воскликнул я. — Ради чего вам потребовалось увидеть его? Что хорошего он вам сделал? Он же такой тиран, как и все остальные. Вы только поменяли одного тирана на другого, Луи на Наполеона». — «Но, мосье, может быть и так, но, в конце концов, он все же король народа, а Бурбоны были королями знатных людей. Это мы выбрали его, и если нам суждено иметь тирана, то пусть это будет тот, кого избрали мы сами». Таковы, — заявил Наполеон, — чувства французской нации, выраженные старой женщиной».
Я спросил его мнение о Сульте, сказав при этом, что я слышал, как некоторые люди ставят его как генерала, вслед за ним. Наполеон ответил: «Он отличный военный министр и армейский генерал-майор: он гораздо лучше знает организационную структуру армии, чем как командовать ею».
Несколько офицеров 53-го пехотного полка сообщили госпоже Бертран, что сэр Томас Рид заявил, что Бонапарт не желает видеть их или любого другого офицера полка в красной шинели, поскольку это заставляет его вспомнить Ватерлоо. Госпожа Бертран заверила их, что это заявление прямо противоречит всему тому, что он когда-либо говорил об этом в её присутствии. Вчера об этом же заявлении сэра Томаса Рида мне сообщили лейтенанты Фитцжеральд и Маккэй.
28 августа. Узнал, что небезызвестное письмо было показано некоторым армейским и морским офицерам, а также, возможно, что несколько копий писем отправлены в Англию.
Письмо, вручённое сегодня вечером графом Монтолоном капитану Попплтону для губернатора, выражало пожелание, чтобы губернатор более никому не разрешал выдачу пропусков в Лонгвуд, если губернатор не считает нужным сохранить порядок выдачи пропусков в том виде, в каком он действовал во времена сэра Джорджа Кокбэрна и который был санкционирован его правительством.
30 августа. Наполеон встал с постели в три часа утра. Продолжал писать до шести часов утра; затем вновь удалился в свою спальную комнату, чтобы отдохнуть. В пять часов граф Бертран пришёл к капитану Попплтону и сообщил ему, что его желает видеть император. Попплтон, стоявший в утреннем халате, захотел удалиться и переодеться, но ему предложили посетить императора без церемоний. Таким образом, он был проведён в бильярдную комнату в нижнем белье, но в накинутом халате. Наполеон стоял, держа шляпу под мышкой.
«Итак, господин капитан, — заявил он, — полагаю, вы служите старшим капитаном 53-го пехотного полка?» — «Так точно». — «Я питаю уважение к офицерам и солдатам 53-го пехотного полка. Все они — храбрые люди и достойно выполняют свой долг. Мне сообщили, что в лагере говорят, что я не хочу видеться с офицерами. Будьте добры сообщить им, что кто бы ни утверждал подобное, он лжет. Об этом я никогда не говорил, и в мыслях у меня ничего подобного не было. Я буду всегда рад видеть их. Мне также сказали, что губернатор запретил им навещать меня».
Попплтон ответил, что он считает, что информация, полученная Наполеоном, беспочвенна, так как хорошо известно то высокое мнение, которое Наполеон ранее высказывал в отношении офицеров 53-го пахотного полка, и что это его мнение о них весьма лестно им. Они испытывают к нему величайшее уважение. Наполеон улыбнулся и ответил: «Я не старая женщина. Я люблю храброго солдата, который получил боевое крещение, независимо от того, цвета какой нации он защищает».
31 августа. Сэр Джордж Бингем и майор Ферзен из 53-го пехотного полка имели с Наполеоном продолжительную беседу.
1 сентября. В Лонгвуд приехал Сэр Хадсон Лоу. Два или три дня назад граф Лас-Каз показал и зачитал «письмо» капитану артиллерии Грею и некоторым другим офицерам. Сэру Хадсону очень хотелось выяснить, получил ли кто-нибудь из них экземпляр этого письма. Я поставил губернатора в известность о том, что любой человек, посетивший Лонгвуд, может, если захочет, получить экземпляр письма. Его превосходительство выглядел весьма встревоженным этим обстоятельством, заметив при этом, что для любого лица, не принадлежавшего к Лонгвуду, получение этого письма является нарушением постановления парламента. Затем он спросил, сообщил ли я генералу Бонапарту то, что он 22 августа поручил мне сказать ему. Я ответил, что это поручение я выполнил. В связи с этим Наполеон заявил, «что губернатор волен поступать, как ему нравится, что губернатору теперь осталось сделать лишь одно, а именно: поставить часового у дверей и окон, чтобы помешать ему выйти из дома; но что пока у него есть книга, подобная акция его мало волнует». Губернатор сообщил, что он направил британскому правительству письмо Наполеона с жалобами и что теперь решающее слово, как поступить с письмом, остаётся за министрами. Он поставил в известность министров о всём том, о чём Наполеон хотел, чтобы я сообщил ему (губернатору).
4 сентября. Сообщил Наполеону, что губернатор поручил мне сказать ему, что письмо графа Монтолона направлено правительству его высочества и теперь решающее слово, как поступить с изложенными в письме жалобами Наполеона, остаётся за британскими министрами. Я добавил, что губернатор информировал министров обо всём, ничего не утаив. «Может быть, — ответил Наполеон, — письмо будет опубликовано в английских газетах до того, как копия достигнет Англию».
5 сентября. В Лонгвуд приехал майор Горрекер, чтобы вместе с генералом Монтолоном урегулировать деловые проблемы, возникшие в связи с предполагаемым сокращением расходов на содержание Наполеона и всего его персонала. Майор Горрекер попросил меня присутствовать на переговорах.
Суть его делового сообщения состояла в том, что, когда британское правительство установило размер денежной суммы, равной 8000 фунтов стерлингов как максимум для оплаты всех расходов по содержанию генерала Бонапарта и его персонала, оно исходило из того, что в скором времени некоторые члены свиты Наполеона и часть его обслуживающего персонала покинут остров и вернутся в Европу. Но поскольку этого не произошло, то губернатор, взяв на себя всю ответственность, распорядился, чтобы была добавлена сумма в 4000 фунтов стерлингов. Таким образом, на покрытие всех расходов Наполеона и его персонала ежегодно выделяется 12 000 фунтов стерлингов. Вследствие этого генерал Монтолон должен быть проинформирован, что ежемесячное денежное содержание персонала Наполеона ни в коем случае не может превышать 1000 фунтов стерлингов. Если генерал Бонапарт не согласится с предполагаемым сокращением расходов, то избыточные расходы должны будут оплачиваться им самим, или векселями, выданными каким-либо банкиром в Европе, или его друзьями, готовыми оплатить их.
Граф Монтолон ответил, что император готов оплатить все расходы персонала Лонгвуда, если ему будет разрешено использовать имеющиеся у него средства и способы для осуществления этого. Если ему будет позволено обратиться к услугам коммерсанта или банковского дома на острове Святой Елены, в Лондоне или в Париже, по собственному выбору британского правительства, готовых выступить в качестве посредников, через которых можно будет отправлять опечатанные письма и получать ответы, то император возьмёт на себя обязательство оплачивать все расходы. С одной стороны, император готов поручиться своей честью в том, что письма будут касаться исключительно финансовых вопросов, и, с другой стороны, вся переписка должна оставаться неприкосновенной. Майор Горрекер ответил, что с этим согласиться нельзя: ни одному опечатанному письму не будет позволено покинуть пределы Лонгвуда.
Вскоре после обмена мнениями по поводу писем майор Горрекер объявил графу Монтолону, что предполагаемые сокращения будут иметь место, начиная с 15-го числа настоящего месяца. Он попросил графа Монтолона урегулировать все вопросы с г-ном Балькумом, поставщиком, о передаче ему ежемесячно 1000 фунтов стерлингов, если только он не предпочтёт платить чеками за избыточные расходы. Граф Монтолон ответил, что он не будет вмешиваться в это дело; что губернатор может действовать так, как ему хочется; что в настоящее время нет излишков поставленных продуктов; что, как только решение о сокращении расходов вступит в силу, он, Монтолон, со своей стороны откажется от всех обязанностей и в дальнейшем не будет вмешиваться в эти дела. Он сказал, что поведение английского кабинета министров просто постыдно, когда он (кабинет) объявляет всей Европе о том, что император ни в чём не будет испытывать недостатка, и при этом отказывается от предложений союзных держав оплачивать часть расходов на его содержание, а теперь еще сокращает фонд оплаты его расходов, тем самым обрекая Наполеона и его свиту на нормирование продуктов. Майор Горрекер отверг заявление о том, что союзные державы когда-либо делали подобное предложение. Монтолон ответил, что читал об этом в газетах.
Затем майор Горрекер заявил, что большое сокращение может быть введено в поставке вина, а именно, что количество поставляемого ежедневно вина может быть сокращено до десяти бутылок сухого красного вина типа бордо и одной бутылки мадейры; что в «Континентальном доме» потребление вина регулируется в среднем пропорцией — одна бутылка на человека. Монтолон ответил, что французы пьют вина гораздо меньше, чем англичане, и он уже проделывал за императорским столом то, что никогда не делал в собственном доме во Франции, а именно: затыкал пробкой бутылки с остатками вина для того, чтобы поставить их на стол на следующий день. Более того, на ночь в буфетной не оставалось ни кусочка мяса. Горрекер заметил, что 12 000 фунтов стерлингов ежегодно являются весьма приличным денежным содержанием.
«Это примерно то же самое, что 4000 фунтов стерлингов в Англии», — возразил ему Монтолон. Затем деловое обсуждение было отложено до субботы. Прежде чем уехать из Лонгвуда, майор Горрекер сам признался мне, что 12 000 фунтов стерлингов ежегодно явно недостаточно для содержания персонала Лонгвуда, но он думает, что вполне возможно, этот фонд может каждый год сокращаться ещё примерно на 2000 фунтов стерлингов. Я высказался в том смысле, что это может случиться, но только в том случае, если в Лонгвуде будет загодя сделан запас всего необходимого вместе со строительством скотного двора под руководством опытного специалиста.
7 сентября. Приехал майор Горрекер, проведший в моём присутствии долгий разговор с графом Монтолоном. Последний сообщил майору, что был дан приказ уволить семь слуг, что с последующей экономией продуктов и сокращением потребления вина уменьшит расходы на содержание персонала Лонгвуда примерно до 15 194 фунтов стерлингов; но эта сумма дошла до критической точки в своём минимуме, и никакое дальнейшее ее сокращение просто невозможно. Майор Горрекер согласился, что в своих расчётах он сам пришёл примерно к этой сумме. Однако он по-прежнему настаивал на своём, заявляя, что, начиная с 15-го числа будет разрешено расходовать на содержание Лонгвуда не более 1000 фунтов стерлингов в месяц.
Тогда граф Монтолон, повторив предложение, сделанное во время их последней беседы, заявил, что, поскольку британское правительство не разрешает императору получить доступ к его личной собственности в Европе, то ему ничего не остается, как избавиться от своей собственности, находящейся здесь, в Лонгвуде, и потому часть его столового серебра будет отправлена в город на распродажу для того, чтобы получить необходимую месячную сумму в дополнение к той, которую разрешил сэр Хадсон Лоу, и тем самым обеспечить Лонгвуд предметами первой необходимости. Майор Горрекер заявил, что он уведомит об этом губернатора.
Сэр Хадсон Лоу в сопровождении генерала Мида (который прибыл на остров день или два дня назад) приехал в Лонгвуд и совершил объезд поместья. Видимо, он ознакомил генерала с границами поместья и с другими делами, связанными с узниками.
Ночью Наполеон вызвал меня, пожаловавшись на сильную головную боль. Он находился в спальной комнате, освещённой только огнём горевших поленьев в камине, которые, то вспыхивая, то затухая, придавали его лицу отречённое и меланхоличное выражение. Наполеон сидел как раз напротив камина, скрестив руки на коленях, и, вероятно, размышлял о превратностях своей незавидной участи. После небольшой паузы он спросил: «Доктор, не могли бы вы дать лекарство человеку, который хочет, но не может спать? Это вне пределов вашего искусства. Я безуспешно пытался хоть немного поспать. Я не могу в полной мере осмыслить поведение ваших министров. Они не скупятся на расходы в 60 000 или 70 000 фунтов стерлингов, направляя для меня мебель, дерево и строительные материалы, но в то же время отдают указания посадить меня на нормированный рацион, вынуждают увольнять моих слуг и прибегают к сокращению средств, несовместимому с соблюдением приличий и комфорта в доме.
Затем мы имеем дело с этим губернаторским адъютантом, который обуславливает нормы выдачи вина в количестве одной бутылки и мяса в количестве двух или трёх фунтов с таким торжественным и значительным видом, словно речь идёт о раздаче королевств. Я вижу противоречия, с которыми не могу примириться: с одной стороны — безмерное и бесполезное расходование средств, с другой — беспримерная низость и мелочность. Почему они не позволяют мне самому обеспечить себя всем необходимым, вместо того чтобы покрывать позором свою нацию? Они не обеспечивает мою свиту тем, к чему привыкли мои люди, и они же не позволяют мне позаботиться о моих людях, запрещая с этой целью направлять опечатанные письма коммерческим компаниям, даже ими же самими выбранным. Ибо ни один человек во Франции не ответит на мое письмо, когда он знает, что оно будет прочитано английскими министрами, и, соответственно, об этом человеке будет направлен донос Бурбонам, и его собственность и он сам будут подвергнуты уничтожению.
Более того, ваши министры были далеки от того, чтобы явить собой образец добродетели, когда конфисковали у меня жалкую сумму денег на борту «Беллерофона», что дает мне основание полагать, что они вновь поступят точно таким же образом, если узнают, где размещена хотя бы часть моей собственности. Должно быть, — продолжал он, — они хотят одурачить английскую нацию. Англичане, увидев, как отправляется на остров Святой Елены вся эта мебель и как в Англии устраивается вся эта парадность и неимоверная шумиха по поводу подготовки к её отправке, невольно приходят к выводу, что со мной здесь обращаются очень хорошо. Если бы английский народ знал всю правду и, как её следствие, то бесчестье, которое пятнает его, то он не стал бы терпеть всё это».
Затем Наполеон спросил, кто был «тот незнакомый генерал?» Я ответил, что это был генерал Мид, который вместе с г-жой Мид несколько дней назад прибыл на остров. И я находился под его командованием в Египте, где он был серьезно ранен. «Что, с Аберкромби?» — «Нет, — ответил я, — во время неудачной атаки на Росетту». — «Что он за человек?» Я ответил, что у него прекрасный характер. «Этого губернатора, — заметил Наполеон, — видели, как он часто останавливался с генералом и указывал на разные места в различных направлениях. Предполагаю, что губернатор забивал его голову всякой ерундой в отношении меня и сказал ему, что мне противен вид любого англичанина, подобно тому, как некоторые из его приспешников говорили об этом офицерам 53-го пехотного полка. Я дал указание написать письмо с сообщением о том, что я готов встретиться с ним».
8 сентября. Письмо, написанное графом Монтолоном генералу Миду, содержащее приглашение посетить Лонгвуд, констатировало, что император будет очень рад встретиться с ним. Это письмо было передано капитану Попплтону, которого также попросили информировать г-жу Мид, что Наполеон не приглашает даму навестить его, но если она придет с супругом, то Наполеон будет счастлив видеть также и ее. Капитан Попплтон передал это письмо сэру Хадсону Лоу распечатанным. Его превосходительство вручил письмо генералу Миду. По дороге в Джеймстаун генерал Мид остановил лошадь и заявил капитану Попплтону следующее: он был бы очень счастлив воспользоваться этим приглашением, но понимает, что существуют определённые ограничения, и он должен обратиться к губернатору за разрешением. Кроме того, корабль был на ходу и он не мог задерживать судно. Обо всем этом он попросил Попплтона передать в Лонгвуд. Позже генерал Мид направил графу Монтолону письменное извинение с выражением благодарности за оказанную ему честь и с просьбой простить его в связи с тем, что корабль был на ходу.
9 сентября. Наполеон жаловался на головную боль, колики. Я посоветовал ему увеличить дозу физических упражнений. Мой совет он отклонил, сказав, что сам вылечит себя с помощью диеты и куриного бульона. Он рассказал, что генерал Мид написал письмо графу Монтолону с извинениями, выразив сожаление, что не смог принять приглашения посетить Лонгвуд. «Но я уверен, — продолжал он, — что на самом деле в этом ему помешал губернатор.
Скажите губернатору, как только увидите его, что я заявил о том, что именно он помешал генералу Миду посетить меня».
Генералы Гурго и Монтолон пожаловались на качество вина, которое, как они подозревали, содержало свинец, так как после того, как они выпили его, у них начались колики. Они попросили взять это вино на пробу, чтобы сделать его анализ.
Молодой Лас-Каз и Пионтковский сегодня днем отправились в город и беседовали с русским и французским полномочными представителями. Вернувшись в Лонгвуд, Пионтковский рассказал, что сэр Томас Рид дал указание лейтенанту, который сопровождал их, не разрешать им гулять в городе поодиночке, следовать за ними повсюду и слушать их разговоры. Когда они говорили с «Розанчиком» (с прелестной молодой девушкой, названной так из-за свежести и красоты её лица), один из ординарцев сэра Томаса Рида по его приказу отвёл их лошадей с указаниями проинформировать их о том, что их слуга напился пьяным и если они немедленно не покинут город, то он (сэр Томас) арестует их слугу, так как тот — солдат, и накажет его за то, что тот напился. Молодой Лас-Каз, проявивший большее хладнокровие, попросил ординарца сэра Томаса представить указание сэра Томаса в письменной форме; но, будучи всё же возбуждённым от всего случившегося, он не удержался, сказав, что ударит кнутом всякого, кто попытается отвести лошадей прочь.
10 сентября. Немного поговорив о состоянии своего здоровья, Наполеон рассказал, что «пока молодой Лас-Каз вчера беседовал с русским полномочным представителем, губернатор расхаживал взад и вперёд перед домом, где они находились, внимательно следя за ними. Раньше я бы не поверил, что это возможно, чтобы генерал-лейтенант и он же губернатор мог уронить свое достоинство до такой степени, чтобы выступить в роли жандарма. В следующий раз, когда вы его увидите, скажите ему об этом».
Затем Наполеон обратил внимание на плохое качество вина, поставляемого в Лонгвуд, отметив при этом, что когда он был артиллерийским лейтенантом, у него был лучший стол и он пил гораздо лучшее вино, чем сейчас.
Позже я виделся с сэром Хадсоном Лоу, который спросил меня, не делал ли генерал Бонапарт каких-либо замечаний относительно того, что генерал Мид не принял сделанного ему предложения. Я ответил, что он (Наполеон) заявил, что уверен в том, что он (сэр Хадсон) помешал генералу Миду принять приглашение в Лонгвуд, и что он (Наполеон) хотел, чтобы я сообщил губернатору, что он придерживается именно такого мнения. Не успел я закончить эту фразу, как выражение лица его превосходительства резко изменилось и он воскликнул весьма раздраженным тоном: «Он — отвратительный, лживый негодяй, он — отвратительный злобный злодей. Я хотел, чтобы генерал Мид принял приглашение, и посоветовал ему сделать это». Затем губернатор несколько минут расхаживал в состоянии сильного возбуждения, не переставая повторять, «только злобному злодею могла прийти в голову подобная мысль»; после чего он вскочил на лошадь и помчался прочь. Но не проехав и минуты, он внезапно развернул лошадь, подъехал обратно ко мне и заявил рассерженным тоном: «Передайте генералу Бонапарту, что утверждение о том, что я помешал генералу Миду встретиться с ним, является гнусной ложью и человек, заявивший это, является беспримерным лжецом. Передайте ему мои слова именно так, как я их сейчас сказал»[6].
Сэр Томас Рид поставил меня в известность о том, что сообщение Пионтковского об инциденте в городе было ошибочным: единственное указание, которое он дал лейтенанту Свини, заключалось в том, чтобы тот не потерял из виду Пионтковского и молодого Лас-Каза; но, увидев, что их слуга настолько пьян, что не может сидеть на лошади, он послал своего ординарца за лошадьми всего лишь в качестве любезности.
12 сентября. Наполеон по-прежнему нездоров; жаловался на лёгкие колики. Настоятельно рекомендовал ему принять дозу солей Эпсома. Он добродушно шлёпнул меня по щеке и заявил, что если он завтра не почувствует себя лучше, то примет собственное лекарство, кристаллики винного камня. Я сообщил ему, что губернатор заверил меня в том, что он не только не мешал генералу Миду встретиться с ним, но, наоборот, рекомендовал ему принять приглашение. «Я не верю ему, — заявил на это Наполеон, — но если он действительно так поступил, то сделал это в такой манере, что генерал Мид понял, что лучше ему не принимать моего приглашения».
Потом я пересказал Наполеону объяснение, данное мне сэром Томасом Ридом, относительно происшествия с Пионтковским. «У меня вызывает недовольство, — в связи с этим заявил Наполеон, — тот неискренний образ их действий, направленных на то, чтобы воспрепятствовать французам посещать город. Почему бы им сразу не сказать по-мужски: «Вам нельзя посещать город», и тогда никто не будет спрашивать разрешения на поездку в город, вместо того чтобы превращать офицеров в шпионов и жандармов, заставляя их повсюду следовать за французами и слушать их разговоры. Но их замысел состоит в том, чтобы создавать множество препятствий на нашем пути и делать для нас поездку в город настолько неприятным делом, фактически граничащим с нарушением закона, что и без прямого приказа этот губернатор сможет заявить, что мы свободны в своём желании посетить город, но мы сами не пожелаем воспользоваться этой свободой».
Виделся с сэром Хадсоном Лоу в городе. Объяснил ему, что говорил Наполеону о Пионтковском. Сообщил губернатору об ответе Наполеона по делу Пионтковского, а также уведомил губернатора о жалобах генералов Гурго и Монтолона по поводу качества поставляемого в Лонгвуд вина и их просьбах взять это вино на пробу, чтобы сделать его анализ. У капитана Попплтона заняли несколько бутылок сухого красного вина («кларе») для самого Наполеона.
3 сентября. Наполеону стало намного лучше. Он провёл деловую беседу с г-ном Балькумом по поводу хозяйственных проблем Лонгвуда.
Было взвешено большое количество столового серебра, чтобы затем разбить его и пустить на продажу. Капитан Попплтон поставил об этом в известность сэра Хадсона Лоу. Граф Монтолон и Киприани высказали жалобы по поводу состояния медных кастрюль в Лонгвуде. Внимательно осмотрев их, они пришли к выводу, что кастрюли нуждаются в немедленном лужении. Об этом сообщили майору Горрекеру, попросив его, чтобы тотчас в Лонгвуд прислали мастерового для ремонта кастрюль. Граф Монтолон получил от г-на Балькума письмо, содержавшее таксу оплаты продуктов, которая была установлена для ежедневного потребления в Лонгвуде, в соответствии с ограничениями, введёнными по приказу губернатора. Монтолон отказался впредь подписывать какие-либо квитанции.
Вечером Киприани отправился к капитану Маунселлу и обратился к нему с просьбой приобрести дюжину или две бутылок того вина «кларе», которое два или три дня назад они одолжили у капитана Попплтона для императора и которое было получено из столовой 53-го пехотного полка. Киприани пояснил, что от того вина, которое поступает из Джеймстауна, у Наполеона бывают колики. Киприани добавил, что вино, доставленное капитаном Маунселлом, будет оплачено или будет возвращено в таком же количестве. Эту просьбу Киприани я переводил капитану Маунселлу, который заявил, что постарается достать вино.
Получил известие от майора Горрекера, навестившего меня, о том, что он заказал для Лонгвуда новую кухонную посуду.
В лагерь 53-го пехотного полка со своим штабом прибыл сэр Хадсон Лоу; он был очень рассержен просьбой к капитану Маунселлу достать для Киприани вино. Как выяснилось, капитан Маунселл упомянул об этой просьбе своему брату и полковому комитету, ведавшим распределением вина. Капитан Маунселл предложил отправить ящик с бутылками «кларе» Наполеону. Об этом было доложено сэру Джорджу Бингему, который, в свою очередь, сообщил обо всем губернатору. Губернатор вызвал меня к себе и заявил, что в мои обязанности не входит действовать в качестве переводчика в подобных случаях. Майор Горрекер при этом заметил, что для генерала Бонапарта вино высылается и он обязан пить его или, в противном случае, он ничего взамен не получит.
15 сентября. Написал письмо майору Горрекеру в ответ на некоторые вопросы, поставленные в его последнем письме, и представил пояснение относительно вчерашнего дела с вином. В письме я констатировал, что генерал Гурго утверждал, что в вине содержится свинец, и что он просил провести тест с целью подтверждения этого факта. Я добавил, что ознакомил сэра Хадсона Лоу с этой просьбой, когда встречался с ним последний раз в городе. Я также дал понять, что для Наполеона было весьма естественным поверить утверждению генерала Гурго (который считался хорошим химиком), пока не будет доказано обратное. Я попросил майора Горрекера ознакомить губернатора с этим письмом.
17 сентября. Представил подробное объяснение во время личной встречи с сэром Хадсоном Лоу о случае переговоров о вине между капитаном Маунселлом, Киприани и мной. Его превосходительство любезно заявил, что он полностью удовлетворён моим объяснением.
Сегодня майор Горрекер в ходе беседы со мной рассказал, что сэр Хадсон Лоу заявил, что любые солдаты, которые будут работать в Лонгвуде в качестве слуг генерала Бонапарта, недостойны солдатского довольствия. Сэр Томас Рид обратился ко мне с просьбой попытаться заполучить для него некоторые предметы столового серебра Наполеона в целом виде, поскольку, как он считает, в этом состоянии они будут продаваться дороже, нежели в разбитом.
19 сентября. Большая часть столового серебра Наполеона разбита на куски. С предметов столового серебра срезаны имперские гербы и эмблемы. К капитану Попплтону обратился граф Монтолон с просьбой прикомандировать к нему офицера для поездки в Джеймстаун с целью распродажи столового серебра. Капитан Попплтон через ординарца немедленно известил губернатора о просьбе графа Монтолона. В ответ капитан Попплтон получил приказ известить графа Монтолона о том, «что деньги, полученные от продажи серебра, не должны быть вручены ему, но переданы в руки г-на Балькума, поставщика, в целях их использования для генерала Бонапарта».
21 сентября. В Лонгвуд приехал сэр Пультни Малькольм для того, чтобы попрощаться с Наполеоном перед своим отплытием на мыс Доброй Надежды, которое ожидается через несколько дней. Адмирал был очень любезно принят Наполеоном, между ними произошла продолжительная беседа, посвящённая в основном Шельдту, Антверпену, битвам в Германии, полякам.
23 сентября. Встретил сэра Хадсона Лоу, когда тот направлялся в Лонгвуд. Сэр Хадсон высказал мысль, что генерал Бонапарт нанёс себе большой вред теми письмами, которые он заставлял писать графа Монтолона. Губернатор хотел, чтобы генерал Бонапарт знал об этом. Если бы он в течение нескольких лет вел себя надлежащим образом, то министры могли бы поверить в его искренность и разрешить ему вернуться в Англию. Губернатор добавил, что он (сэр Хадсон) написал в Англию такие письма о графе Лас-Казе, которые в результате воспрепятствуют ему когда-либо получить разрешение вернуться во Францию. Когда губернатор приехал в Лонгвуд, капитан Попплтон показал ему домашнюю птицу, присланную для потребления на сегодняшний день. Губернатор изволил признать, что она очень плохого качества.
27 сентября. Полномочные представители подъехали к воротам Лонгвуда и хотели войти внутрь, но офицер на посту отказал им в этом, так как в их пропусках не был обозначен Лонгвуд, а было только написано «проход всюду, где британский офицер имеет право проходить».
28 сентября. Наполеон углубился в чтение большой работы Денона о Египте, из которой он собственноручно делал выписки.
1 октября. Повторил Наполеону то, что сэр Хадсон Лоу хотел 23 сентября передать ему через меня. Наполеон ответил: «От нынешнего кабинета министров я ничего не жду, кроме дурного обращения. Чем больше они хотят унизить меня, тем больше я хочу возвеличить себя. У меня было намерение присвоить себе имя полковника Мурона, который был убит под Арколой рядом со мной, прикрыв меня своим телом, и жить в качестве частного лица в Англии, в какой-нибудь части этой страны, как живут люди в отставке, никогда не испытывая желания вращаться в высшем свете. Я бы никогда не ездил в Лондон и даже никогда не обедал вне дома. Возможно, мне пришлось бы видеться с ограниченным кругом лиц. Возможно, я смог бы завести дружбу с кем-то из учёных. Я бы ежедневно прогуливался верхом и затем возвращался к своим книгам».
Я обратил его внимание на то, что, пока он будет продолжать настаивать на титуле «его высочество», английские министры будут иметь предлог для того, чтобы держать его на острове Святой Елены. Он ответил: «Они вынуждают меня на это. По прибытии на этот остров я хотел принять чужое имя и предложил это адмиралу, но они не захотели разрешить мне пойти на этот шаг. Они настаивают на том, чтобы называть меня генералом Бонапартом. У меня нет причин стащиться этого титула, но я не возьму его из их рук. Если бы республика не имела законного существования, то у неё не было бы больше права назначать меня генералом, чем у первого же магистрата. Если бы адмирал остался, то, вероятно, все проблемы можно было бы урегулировать. Он был добрый человек и, отдавая ему должное, он не был способен на подлые поступки. Как вы считаете, — добавил он, — нанесёт ли он нам какой-нибудь вред, прибыв в Англию?»
Я ответил: «Я не думаю, что он окажет вам какую-нибудь услугу, особенно в связи с тем, как вы обошлись с ним, когда он в последний раз пришёл повидаться с вами, но он никогда не станет лгать: он будет строго придерживаться правды и высказывать своё мнение о вас, которое малоприятно». — «Отчего же, — возразил Наполеон, — на борту корабля мы были очень благосклонны друг к другу. Что он может сказать обо мне? Что я хочу сбежать и вновь взобраться на французский трон?»
Я ответил, что весьма вероятно, что он и подумает об этом и скажет это. «Вот ещё! — воскликнул Наполеон. — Если бы я сейчас находился в Англии и депутации из Франции предстояло приехать туда и предложить мне трон, то я бы не принял этого предложения до тех пор, пока не узнал, что это единодушное желание всей страны. В противном случае я был бы вынужден превратиться в палача и отрубить головы тысячам, чтобы оставаться во главе страны: чтобы мне удержаться там, пришлось бы разлиться целому океану крови. Я уже наделал достаточно шуму во всем мире, теперь же я старею и хочу уединения. Именно эти побуждения, — продолжал он, — вынудили меня отречься от престола в последний раз».
Я напомнил ему, что, когда он был императором, он добился ареста брата сэра Джорджа Кокбэрна, бывшего тогда послом в Гамбурге, и отправки его во Францию, где он в течение нескольких лет содержался под стражей. Наполеон выглядел удивленным, услышав от меня эту историю, и попытался вспомнить её. После небольшого раздумья он спросил меня, уверен ли я в том, что человек, арестованный в Гамбурге, был действительно братом сэра Джорджа. Я ответил, что абсолютно уверен, поскольку об обстоятельствах этого дела мне рассказал сам адмирал.
«Вполне возможно, — ответил Наполеон, — но я не припомню имени арестованного. Однако я предполагаю, что это, должно быть, случилось в то время, когда я добивался ареста всех англичан, которых можно было обнаружить на континенте, только потому, что ваше правительство еще до объявления войны захватывало все французские корабли, задерживало матросов и пассажиров, которых они могли обнаружить в гаванях или в портах. Я, в свою очередь, задерживал всех англичан, которых можно было бы найти на континенте, для того, чтобы показать им, что если они всемогущи в море и могут делать там всё, что им угодно, то я в такой же степени силен на земле и имею такое же право задерживать людей на подвластной мне территории. Теперь, — заявил Наполеон, — я могу понять причину, почему именно его выбрали ваши министры. Однако меня удивляет, что он никогда не обмолвился об этом. Деликатный человек не согласился бы взять на себя обязанность препровождать меня сюда, учитывая подобные обстоятельства. Вот вы увидите, — продолжал он, — что довольно скоро англичане прекратят ненавидеть меня. Многие из них побывали во Франции, где они услышали правду, именно они и совершат революцию в мнении обо мне в Англии — пусть же они сами оправдают меня, и у меня нет сомнений, каков будет результат».
Узнал, что полномочные представители получили разрешение от сэра Хадсона Лоу приближаться к Лонгвуду вплоть до внутренних ворот.
Сэр Хадсон Лоу в сопровождении сэра Томаса Рида, майора Горрекера, Виньярда и Причарда, за которыми следовали три драгуна и слуга, въехали на территорию Лонгвуда, спешились перед бильярдной комнатой и потребовали «встречи с генералом Бонапартом». Генерал Монтолон ответил им, что Наполеон нездоров. Этот ответ не удовлетворил его превосходительство, который вновь в приказном тоне отправил гонца заявить, что у губернатора есть важное сообщение, которое он (губернатор) хочет лично передать генералу Бонапарту, и что никому другому он это сообщение не передаст.
Губернатору был послан ответ, что он может передать своё сообщение Наполеону тогда, когда тот будет в состоянии его принять, и что в настоящее время Наполеон страдает от зубной боли. В четыре часа дня Наполеон послал за мной и попросил осмотреть один из его зубов мудрости, который шатался и в котором образовался кариес. Затем он спросил меня, известно ли мне, чего хотел губернатор. Я ответил, что, вероятно, он получил какое-то сообщение от лорда Батхерста, которое не хочет передавать кому-либо другому.
«Для нас было бы лучше не встречаться, — заметил Наполеон. — Возможно, это какая-то глупость лорда Батхерста, которую губернатор хочет сделать еще более неприятной манерой ее передачи. Я уверен, что в этом сообщении ничего хорошего нет. В противном случае ему бы так не терпелось передать его мне лично. Лорд Батхерст плохой человек, его сообщения ничего хорошего не сулят, но губернатор хуже всех остальных. От нашей встречи ничего хорошего не получится. В последний раз, когда я встречался с ним, он дважды или трижды в гневе хватался за эфес своей сабли. Поэтому прошу вас завтра пойти к нему или к сэру Томасу Риду и сказать, что если ему требуется что-то сообщить мне, то пусть он лучше обратится к Бертрану или Бертран сам отправится к нему, заверьте его в том, что он может положиться на правдивый доклад Бертрана мне. Или пусть он пошлёт ко мне полковника Рида, чтобы тот объяснил, чего ему хочется сказать мне; я приму Рида и выслушаю его, так как он будет выступать только в роли передающего приказы, а не отдающего их; поэтому если полковник Рид явится ко мне с плохой миссией, то меня это не будет волновать, поскольку он будет только подчиняться приказам своего начальника».
Я попытался уговорить Наполеона встретиться с губернатором для того, чтобы, если это будет возможно, как-то приуменьшить разногласия, существующие между ними; но он ответил: «Встретиться с ним означало бы прибегнуть к самому худшему способу сгладить эти разногласия, так как я уверен, что в сообщении лорда Батхерста содержится какой-то пустяк, который он (губернатор) может сделать неприятным и превратить его в оскорбление своей грубой манерой передачи мне. Вы знаете, — добавил он, — я никогда не терял контроля над собой при встречах с адмиралом, потому что даже тогда, когда он должен был сообщить мне нечто неприятное, он делал это в деликатной манере; но этот человек обращается с нами так, словно перед ним находится кучка дезертиров».
Зная, что сэр Томас Рид абсолютно не в состоянии передать ни на французском, ни на итальянском суть любого сообщения, я спросил Наполеона: «В том случае, если сэр Томас Рид окажется неспособным ясно объяснить каждую деталь сообщения и вследствие этого будет вынужден изложить на бумаге то, что он хотел бы сказать, будете ли вы согласны прочитать это или разрешите кому-либо зачитать это вам?» Наполеон ответил: «Конечно, пусть он так и сделает или направит сообщение Бертрану. Что касается меня, то я, может быть, не захочу больше видеть губернатора в течение шести месяцев. Пусть он взламывает двери или сравнивает дом с землей. Я не подвластен английским законам, потому что эти законы не защищают меня. Я уверен, — продолжал он, — что губернатор ничего приятного не собирается сообщать, ибо в противном случае он бы так не настаивал на личной встрече. От лорда Батхерста ничего, кроме оскорблений или плохих новостей, не приходит. У меня возникает желание, чтобы они отдали приказ казнить меня. Мне не нравится мысль кончать жизнь самоубийством: это такая вещь, которую я никогда не одобрял. Я дал обет допить свою чашу до последней капли, но я был бы очень рад, если бы они прислали указание отправить меня на тот свет».
2 октября. Утром навестил Наполеона. Как он мне рассказал, зубная боль не давала ему спать большую часть ночи: щека опухла. Осмотрев зуб, я рекомендовал удалить его. Он попросил меня отправиться к губернатору и передать ему сообщение, суть которого заключалась в том, что вследствие плохого самочувствия, боли и желания выспаться он не готов спокойно выслушивать какие-либо сообщения или вступать в дискуссию; поэтому он выражает пожелание, чтобы губернатор передал графу Бертрану то, что хотел сообщить непосредственно ему. Граф Бертран в свою очередь все в точности и правдиво передаст ему. Если губернатор не соизволит передать сообщение графу Бертрану или любому другому резиденту Лонгвуда, то Наполеон не будет иметь ничего против того, чтобы получить сообщение от полковника Рида. Оставшаяся часть моего сообщения губернатору от Наполеона соответствовала тому, что он сказал вчера по данному вопросу.
«Если, — добавил Наполеон, — этому человеку предстоит довести до моего сведения то, что сюда прибыл фрегат с целью отвезти меня в Англию, то я буду считать это плохой новостью, поскольку он явится ее носителем. Учитывая подобное настроение, вы должны понять, до какой степени была бы неуместной предполагаемая встреча. Вчера он приехал в окружении своего штаба, словно собирался принять участие в церемонии смертной казни, а не просить личной встречи со мной. Трижды он уезжал отсюда в состоянии чрезмерного гнева, поэтому будет лучше, если у меня с ним более не будет личных встреч, так как из этого ничего хорошего не получится; и поскольку он представляет здесь свою страну, то я не хочу оскорблять и делать ему обидные замечания, подобно тем, которые я был обязан высказать ранее».
Я отправился к сэру Хадсону Лоу, которому передал порученное мне сообщение, опустив все его оскорбительные части, но высказав все то, что было необходимым для понимания его сути. Его превосходительство пожелал, чтобы я все это изложил письменно.
Позже губернатор продиктовал сэру Томасу Риду свой ответ генералу Бонапарту. Продиктованный ответ губернатор прочитал и затем вручил мне:
«Основная цель визита губернатора в Лонгвуд и его встречи с генералом Бонапартом определялась чувством внимания к нему и заключалась в том, чтобы ознакомить его первым с полученными инструкциями, касающимися его офицеров. Выполнение ими этих инструкций может зависеть только от решения самого генерала Бонапарта до того, как они сами будут ознакомлены с этими инструкциями. Губернатор желал бы, чтобы связь с генералом Бонапартом осуществлялась непосредственно им самим (губернатором) в присутствии сэра Томаса Рида или кого-либо из губернаторского штаба, а также одного из французских генералов. Губернатор никогда не имел намерения сказать что-либо, что обидело бы или оскорбило генерала Бонапарта; наоборот, он хотел снискать доверие и смягчить строгий язык полученных им инструкций, проявляя всяческое внимание и уважение к генералу Бонапарту. И поэтому он не может понять причину столь сильного чувства обиды, проявляемого к нему со стороны генерала Бонапарта.
Если он не даст согласия на встречу с губернатором в присутствии других лиц, то губернатор направит к генералу Бонапарту сэра Томаса Рида (если тот согласится на это), чтобы передать общий смысл того, что должен был сказать губернатор, опустив при этом в беседе с генералом Бонапартом некоторые вопросы для их дальнейшего обсуждения в будущем. Если к губернатору будет послан граф Бертран, то от него потребуется, чтобы он выразил озабоченность по поводу резких, в соответствии с пожеланиями самого генерала Бонапарта, слов во время его последней беседы с губернатором, проведенной по инициативе последнего. Со стороны губернатора не было намерения сказать что-либо обидное, и его слова послужили лишь ответной мерой против высказанных в его адрес резких выражений, и губернатор вел бы себя совсем иначе в отношении какого-нибудь лица, окажись тот в любом положении, отличном от положения генерала Бонапарта. Но если последний полон решимости ставить под сомнение старания губернатора проводить в жизнь свои приказы, то он едва ли сможет надеяться на должное взаимопонимание между ними».
Возвратившись в Лонгвуд, я подробно изложил всё вышеупомянутое сначала одному Наполеону, а затем ему же в присутствии графа Бертрана. Наполеон презрительно усмехнулся по поводу идеи принести свои извинения сэру Хадсону Лоу.
3 октября. Утром встретился с Наполеоном. После того как я осведомился о состоянии его здоровья, он вернулся к обсуждению вчерашних событий. «Поскольку этот губернатор, — заявил Наполеон, — объявляет, что он не будет полностью передавать мне свое послание через Рида, но намерен оставить некоторые вопросы для будущего их обсуждения, то я не буду встречаться с губернатором, так как я согласен видеться только с Ридом именно для того, чтобы избежать возможности видеть губернатора. Желая оставить некоторые вопросы для их будущего обсуждения, о чём он говорит в своём послании, он может появиться здесь завтра или послезавтра и потребовать новой встречи со мной. Если он хочет что-то сообщить мне, то пусть пошлёт для этого своего адъютанта к Бертрану, или к Монтолону, или к Лас-Казу, или к Гурго, или к вам; или вызовет кого-либо из вас и сообщит то, что хочет; или пусть передаст мне своё сообщение в полном виде через Рида, или через сэра Джорджа Бингема, или еще через кого-нибудь; и тогда я встречусь с выбранным им человеком. Если же он по-прежнему будет настаивать на встрече со мной, то я в ответ напишу сам: «Император Наполеон не будет встречаться с вами, потому что последние три раза, когда вы были с ним, вы оскорбили его, и он более не желает общаться с вами».
Я хорошо знаю, что если мы встретимся, то вновь возникнет ссора и посыпятся взаимные оскорбления: любой подозрительный жест может вызвать неизвестно что. Ему, ради него самого, не следует добиваться новой встречи со мной после тех слов, которые я ему наговорил во время нашей последней встречи. Я заявил ему в присутствии адмирала, что, когда он говорит, что только выполняет свой долг, то то же самое делает и палач, но приговоренный к смерти не обязан видеть своего палача до момента свершения казни. Мы встречались трижды, но какие это были постыдные встречи! Я не хочу их повторения. Я знаю, что от встречи с ним кровь вскипает в моих жилах. Я хочу, чтобы ему предали, что ни одна держава на земле не обязывает узника видеться и дискутировать с его палачом; ибо поведение губернатора в моих глазах сделало его палачом. Он делает вид, что действует в соответствии с полученными им инструкциями: правительство, находящееся вдали на расстоянии двух тысяч лье, не может сделать больше, чем указать местной администрации образ действий общего характера, в рамках которых следует вести дела, и предоставить ей немалую самостоятельность. Эту власть он извращает и манипулирует ею самым худшим способом для того, чтобы мучить меня. Доказательством того, что он хуже своего правительства, служит то, что его правительство послало мне некоторые вещи, чтобы моя жизнь проходила в более комфортных условиях. Он же, не ударяя палец о палец, не только не улучшает условий моей жизни, но лишь мучает и оскорбляет меня, стараясь сделать мое существование как можно более жалким. Завершая общую картину своих подлых действий, он пишет письма, полные божьей благодати и сладости, притворяясь, что проявляет по отношению ко мне максимум заботы. Потом он отсылает эти письма в Англию, чтобы заставить весь мир поверить, что он является нашим лучшим другом.
Я хочу избежать новой встречи с ним. Я никогда, находясь на вершине своей власти, не прибегал к подобному языку ни с одним человеком, к языку, который я был вынужден использовать в разговоре с ним. Такой язык был бы непростителен в Тюильри. Я скорее вырву зуб, чем пойду на встречу с ним. У него скверные обязанности и выполняет он их скверно. Я не думаю, что он полностью осознаёт то, насколько сильно мы ненавидим и презираем его; мне бы хотелось, чтобы он знал об этом. Он полон подозрений буквально к любому человеку, даже его собственный штаб не свободен от них. Вы же видите, что он не станет доверять Риду. Почему бы ему не обратиться к Монтолону или к Лас-Казу, если ему не нравится Бертран?»
Я ответил, что сэр Хадсон Лоу не может, передавая суть своих посланий, положиться на точность их изложения ни Монтолоном, ни Лас-Казом. «А, — воскликнул Наполеон, — Монтолон вызывает у него чувство раздражения в связи с тем письмом, написанным в августе, а на Лас-Каза он таит обиду, потому что тот не только пишет правду одной даме в Лондоне, но и говорит об этом здесь повсюду».
Я ответил: «Губернатор обвинил графа Лас-Каза в том, что он написал много неправды о том, что происходило здесь». «Лас-Каз, — возразил Наполеон, — не такой уж болван, чтобы писать ложь, при том что он обязан отправлять письма через его руки. Он пишет только правду, о которой этот тюремщик не хочет, чтобы она стала известной. Я уверен, что он хочет сказать мне, что некоторых из моих генералов следует выслать с острова, и он полон желания переложить весь позор их изгнания с острова на меня, чтобы я сам сделал это по своему усмотрению. Они бы и вас тоже выслали с острова, если бы не опасались, что вы нанесете им вред в Англии, рассказав обо всём, что здесь видели. В их планы, как я думаю, входит высылка с острова всех тех, кто настроен сделать мою жизнь здесь менее неприятной. Вот уж действительно они избрали для Батхерста прекрасного представителя. Я бы скорее побеседовал с капралом с поста охраны, чем с этим тюремщиком. Как все было по-другому с адмиралом! Мы обычно беседовали вместе в дружелюбной обстановке на различные темы, как друзья. Но этот человек пригоден только для того, чтобы угнетать и оскорблять тех, кто в силу превратностей судьбы оказался подвластен ему».
В соответствии с пожеланиями Наполеона я написал отчёт обо всём том, что он говорил, сэру Хадсону Лоу; избегая, однако, повторения наиболее резких выражений.
4 октября. В мою комнату в Лонгвуде явился сэр Томас Рид с текстом послания от губернатора, содержащим новые инструкции, полученные последним из Англии. Я отправился к Наполеону и сообщил о приезде сэра Томаса Рида. Наполеон спросил меня: «Прибыл ли Рид с полным текстом послания, ничего не упустив при этом?» Я ответил, что сэр Томас Рид подтвердил мне, что привез полный текст послания. Тогда Наполеон попросил меня пригласить сэра Томаса Рида к нему. Когда я вернулся к себе, сэр Томас Рид признался, что его миссия малоприятна и он только надеется, что «не вызовет сильного раздражения у Бонапарта». Затем мы отправились в сад, где уже находился Наполеон. Через несколько минут Наполеон вызвал к себе графа Лас-Каза и попросил его перевести вслух на французский содержание документа, доставленного Ридом. Когда Рид пришёл в мою комнату, возвратившись от Наполеона, он заявил, что Наполеон вёл себя с ним очень вежливо и не только не выказывал чувства раздражения, но, наоборот, улыбался во время беседы и расспрашивал Рида о последних новостях. Наполеон лишь отметил (слова Наполеона верный рыцарь губернатора повторил на своём итальянском): «Чем больше будут меня преследовать, тем это будет лучше для меня, ибо это продемонстрирует всему миру всю жестокость, проявляемую в отношении меня. Вскоре на меня обрушатся все, кому не лень, и в одно прекрасное утро меня убьют».
Затем сэр Томас разрешил мне прочитать привезённое им в Лонгвуд послание, содержание которого сводилось к следующему: «Французы, пожелавшие остаться с генералом Бонапартом, должны сделать заявление в письменной форме о своём желании подчиняться всем ограничениям, которым может быть подвергнут генерал Бонапарт, без каких-либо собственных замечаний по этому поводу. Те же, кто откажется подписать это заявление, будут немедленно отправлены на мыс Доброй Надежды. Личный персонал сокращается на четыре персоны; те же, кто остается, обязаны рассматривать себя как лица, ответственные перед законами в том же порядке, как если бы они были британскими подданными, особенно перед теми законами, которые были сформулированы для безопасной охраны генерала Бонапарта и которые объявляют, что оказание ему помощи в попытке совершить побег является тяжким преступлением. Любой из них, оскорбляющий, наносящий какой-либо вред и плохо поступающий по отношению к губернатору или к правительству, под покровительством которого он находится, будет тотчас отправлен на мыс Доброй Надежды, где ему не будут предоставлены какие-либо средства для его транспортировки в Европу».
В документе также давалось объяснение, что не следует понимать, что взятое на себя обязательство должно рассматриваться как бессрочное для тех, кто дал письменную подписку. В послании губернатора также содержалось требование оплатить 1400 фунтов стерлингов за присланные в Лонгвуд книги. Всё послание было изложено в весьма категоричном тоне. Затем сэр Томас Рид сообщил мне, что на следующий день графу Бертрану предстоит отправиться в «Колониальный дом» и что я могу намекнуть ему, что если он там будет вести себя хорошо, то, возможно, с острова будут высланы только лица обслуживающего персонала Лонгвуда, но что всё будет зависеть от «хорошего поведения» графа Бертрана.
5 октября. Прогуливаясь утром по парку и раздумывая о событиях вчерашнего дня, я услыхал голос, зовущий меня. Повернувшись, я с удивлением увидел императора, кивком головы подзывающего меня к себе. Спросив о моём самочувствии, он заявил: «Ну что же за лгун этот губернатор! Ничего особенного не было в том сообщении, о котором он сказал, что может передать его только мне лично. Он мог бы сделать это через Бертрана или ещё через кого-нибудь. Но он подумал, что получил возможность оскорбить и огорчить меня, и поэтому решил воспользоваться представившимся случаем. Он приехал сюда со своим штабом, словно собирался объявить о свадебной церемонии. От мысли, что он властен огорчить меня, его лицо излучало ликование и радость. Он задумал вонзить кинжал в моё сердце и не мог отказать себе в удовольствии лично присутствовать при этом и наслаждаться виденным. Никогда он не представлял большего доказательства порочного ума, чем тогда, когда возжелал вонзить кинжал в сердце человека, который ему подвластен».
Затем Наполеон повторил некоторые части вчерашнего послания губернатора и высказался в том плане, что это послание следовало бы прислать в письменном виде, поскольку французу невозможно понять его, когда оно зачитывается на английском языке в течение всего лишь нескольких минут. Я взял на себя смелость указать Наполеону на необходимость решить возникшие проблемы. Я сказал, что у меня есть основания верить тому, что губернатор хочет выслать из Лонгвуда только лиц обслуживающего персонала, а не кого-либо из генералов, но в том случае, если губернатора выведут из себя, он может поступить иначе.
На это Наполеон ответил: «Вы рассуждаете как свободный человек, но мы несвободны: мы находимся во власти палача, с которым невозможно справиться. Они вышлют с острова остальных постепенно, поэтому им лучше уехать сейчас, чем в скором времени. Какая мне будет выгода, если все они будут при мне до прибытия следующего корабля из Англии или до тех пор, пока это животное не найдет какой-нибудь предлог их выслать. Я бы лучше предпочёл, чтобы они все уехали, вместо того чтобы видеть рядом с собой людей, беспокоящихся обо мне и дрожащих от страха при мысли о том, что их силой посадят на борт корабля. Ибо благодаря этому вчерашнему посланию они становятся целиком подвластными губернатору. Пусть он всех вышлет с острова, расставит часовых у всех дверей и окон и будет присылать только хлеб и воду. Мне всё равно. Но душа моя — свободна. Я точно так же независим, как и тогда, когда командовал армией в шестьсот тысяч человек; об этом я сказал ему на днях. Моё сердце так же свободно, как и тогда, когда я вводил законы в Европе.
Он хочет, чтобы французы дали подписку о согласии с новыми ограничениями, не зная, в чём они заключаются. Ни один честный человек не поставит своё имя под обязательством, сначала не ознакомившись с ним. Но он хочет, чтобы они подписались под тем, что уже потом взбредет ему в голову, и тогда, взяв, как всегда, ложь на вооружение, он будет утверждать, что он ничего не поменял. Его разгневал Лас-Каз, потому что тот написал своим друзьям, что живёт в ужасных условиях и с ним плохо обращаются. Когда-нибудь слышали о подобной тирании? Он по-варварски обращается с людьми, он осыпает их обидами и оскорблениями, а затем хочет лишить их возможности свободно жаловаться. Я не думаю, — продолжал Наполеон, — что лорд Ливерпуль или даже лорд Каслри позволили бы обращаться со мной так, как это делается сейчас. Я полагаю, что этот губернатор пишет только лорду Батхерсту, которому он сообщает то, что ему хочется».
Вчера сэр Хадсон Лоу в беседе со мной пространно высказал своё отношение к генералу Бонапарту, заявив, что он сделал все, что было в его силах, чтобы доказать (после моего сообщения о беседе с Наполеоном), что в его поведении в отношении генерала Бонапарта полностью отсутствует элемент кары или мщения; но так как генерал Бонапарт его не принял, то ему пришлось довольствоваться тем, что имеющиеся проблемы будут разрешаться естественным путём; и что я должен абсолютно ясно опровергнуть обвинение генерала Бонапарта в том, что он (губернатор) схватился за эфес своей сабли; что свидетели могут доказать, что этого не было; что никто, кроме закоренелого злодея, не мог подумать о возможности такого действия против невооруженного человека.
Что же касается полученных им инструкций и его манеры доводить их до сведения французской стороны, то он никогда не считал мнение генерала Бонапарта непреложной истиной. Исходя из этого, он (губернатор) не склонен думать менее одобрительно ни об инструкциях, ни о его способе претворять их в жизнь; наоборот, он опасается, Бонапарту недоступна любая изысканность в поведении; поэтому, имея дело с ним, необходимо быть или слепым поклонником его слабостей, или покладистым инструментом в его руках, безмолвным рабом его желаний. В противном случае тот, у кого возникает идея, не совпадающая с его точкой зрения, должен быть готовым ко всякого рода оскорблениям. Губернатор добавил, что пока генерал Бонапарт не предложит иной вид обращения к нему, он должен сам отказаться от титула императора, и если он желает присвоить себе вымышленное имя, то почему он не сделал этого до сих пор?
Граф Бертран отправился в «Колониальный дом», где узнал, что Пионтковскому и трем лицам из обслуживающего персонала Наполеона предстоит быть высланными с острова.
9 октября. В Лонгвуд прибыл сэр Хадсон Лоу в сопровождении полковника Виньярда. Они прошли в комнату капитана Попплтона, где, судя по всему, чем-то усиленно занимались в течение двух часов. Часто из комнаты выходил губернатор. Он шагал взад и вперёд перед дверью, подняв одну руку, чтобы кончиком пальца прижимать угол рта. Эта известная привычка губернатора означала, что он находится в состоянии глубокого раздумья. Когда они закончили работу, то капитану Попплтону был передан запечатанный пакет для последующего его вручения графу Бертрану; после чего его превосходительство подошел ко мне и, поговорив немного на общие темы, спросил, как я считаю, не распространялись ли копии письма Монтолона к нему?
Я ответил, что это вполне возможно, так как из содержания письма никакого секрета не делалось, и что французы, как ему было хорошо известно, открыто заявляли о своём намерении и желании распространить копии этого письма. Губернатор спросил меня, как я думаю, получили ли полномочные представители копию письма. Я ответил, что вполне вероятно. Сначала казалось, что он обеспокоен этим обстоятельством, но потом сказал, что он сам показывал им это письмо. Затем он спросил меня, а нет ли у меня экземпляра письма. Я ответил, что есть. Мой ответ очень встревожил его превосходительство. Он спросил, кто хотел увидеть письмо, и затем добавил, что отправка письма в Англию будет рассматриваться как совершение преступления.
Во время обсуждения этой проблемы я обратил внимание губернатора на то, что, учитывая моё положение, а также то, что я являюсь посредником в делах между Лонгвудом и «Колониальным домом», я не могу находиться в неведении относительно важнейших событий. Его превосходительство подтвердил, что это верно и что я обязан докладывать ему обо всём, что происходит между генералом Бонапартом и мною. Я ответил, что если замышляется какой-нибудь заговор с целью побега генерала Бонапарта с острова, или возникает переписка по этому вопросу, или случается что-то подозрительное, то я должен считать своим долгом обо всём этом ставить его в известность; также если Наполеон выскажется о чём-нибудь политически важном или расскажет какую-нибудь историю, раскрывающую какую-либо часть его политической биографии, или скажет что-либо, что может оказаться полезным для губернатора, то со всем этим я ознакомлю его превосходительство. Но что я и не подумаю рассказывать ему буквально всё, особенно вещи оскорбительные и обидные для него самого, которые случаются в моих беседах с Наполеоном, а также о том, что могло бы привести к ссоре или усилить разногласия, уже, к сожалению, существующие между ними, если только мне не будет приказано поступить иначе.
Сначала сэр Хадсон Лоу согласился с тем, что было бы неправильным передавать ему оскорбления в его адрес; но после этого он сразу же заявил, что мне обязательно следует докладывать ему о подобных вещах; что одно из средств, способствующих побегу генерала Бонапарта с острова, заключается в очернении личности губернатора; что оскорбление и унижение статуса кабинета министров являлось тайным и гнусным способом осуществить попытку сбежать с острова; и, следовательно, на меня возложена обязанность немедленно докладывать о всех высказываниях подобного рода. Что касается его самого, то он не обращает внимания на оскорбления в свой адрес и его никогда не выведут из состояния равновесия испытываемые в отношении него чувства мести и злобы, но при этом он желает знать буквально всё; и только через него одного должны осуществляться контакты с Англией; и только он сам может поддерживать связь с лордом Батхерстом.
Не совсем согласившись с софистикой его превосходительства, я ответил, что, как представляется, не все члены правительства его высочества разделяют подобную точку зрения. Об этом свидетельствуют те письма, которые я получал от официальных лиц Лондона с просьбой ставить их в известность об обстоятельствах пребывания Бонапарта на острове, а также письма с выраженной мне благодарностью за мои прошлые письма, показанные некоторым членам кабинета министров. Губернатор был в высшей степени обеспокоен моим ответом и заявил, что упомянутые мной лица ничего общего не имеют с делами, касающимися Бонапарта; что только государственный секретарь, с которым он поддерживает связь, должен знать всё, что относится к упомянутому вопросу; что он (губернатор) не сообщает о том, что происходит на острове, даже герцогу Йоркскому; что никто из министров, за исключением лорда Батхерста, не должен знать о том, что происходит на острове; и что все сообщения с острова, даже его светлости, должны направляться через губернатора, и только через него.
Его превосходительство затем заявил, что моя переписка с Лондоном должна подлежать тем же ограничениям, что и переписка лиц, сопровождающих генерала Бонапарта. Я ответил, что если он (губернатор) неудовлетворен сложившимся положением дел, то я готов отказаться от порученных мне обязанностей и отправиться обратно на борт корабля сразу же, как только этого пожелает его превосходительство, поскольку я полон решимости отстаивать права британского офицера. Сэр Хадсон в ответ на мое заявление сказал, что в этом нет необходимости, так как будет очень просто уладить все дела. Затем губернатор завершил нашу беседу, заявив, что этот вопрос требует тщательного рассмотрения и он возобновит его обсуждение на следующий день.
10 октября. Беседовал с Наполеоном в его спальне. Я пытался убедить его, что на самом деле сэр Хадсон Лоу, возможно, намерен был проявить вежливость в те моменты, когда его поведение казалось оскорбительным; что иногда его жесты указывали на намерения, далёкие от его мыслей; и особенно я старался объяснить ему, что сэр Хадсон Лоу, положив руку на свою саблю, действовал целиком и полностью в силу своей непроизвольной привычки, которая заключается в том, что он подтягивает саблю вверх и затем прижимает её к своему боку (что я попытался продемонстрировать Наполеону жестами); что он сам заявил мне, что никто, кроме закоренелого злодея, не бросится с саблей на невооружённого человека. «Доктор, — возразил Наполеон, — это и детям понятно. Если он и не выступал в роли палача, то выглядел он как настоящий палач. Он вам показывал новые инструкции?» Я ответил, что он ни словом не обмолвился о них. «А, — вздохнул император, — я уверен, что он замыслил нечто зловещее».
Сегодня вечером в мою комнату пришел граф Бертран для того, чтобы я помог ему перевести некоторые пункты новых ограничений, которые, как он сказал, по своей природе столь бесчеловечны по отношению к императору, что он (граф Бертран) склонен думать, что не понял их. Это были те пункты, которые запрещали Наполеону прогуливаться по верхней дороге, прогуливаться по дорожке, ведущей к коттеджу мисс Мейсон, входить в любой дом и разговаривать с любым человеком, которого он мог встретить во время верховой или пешей прогулки. Будучи уже подготовленным самим губернатором и всем тем, чему я был свидетелем в этот день, к чему-то совсем нехорошему, я, признаюсь, при первом ознакомлении с текстом этих инструкций, какое-то время не мог сдвинуться с места, словно громом пораженный. И даже после того как я прочитал их три или четыре раза, я едва мог убедить себя в том, что правильно их понял. В то время как я помогал графу Бертрану переводить инструкции, в дверь постучали, и в мою комнату вошел полковник Виньярд. Когда граф ушёл, я рассказал полковнику, что именно от меня хотел граф Бертран, и затем спросил его, правильно ли было мое толкование текста инструкций, которое я объяснил графу. Полковник Виньярд ответил, что мое толкование абсолютно точное.
11 октября. Сэр Хадсон Лоу вызвал меня в город. Завтракал вместе с ним в доме сэра Томаса Рида; после завтрака губернатор сказал мне, что должен сообщить нечто особенное, но данное место не совсем удобно для предстоящего разговора, и поэтому он состоится в другое время. Показал губернатору и сэру Томасу мой перевод тех мест в инструкциях, которые вызвали сомнение у графа Бертрана. Сэр Хадсон заметил, что в одном месте я в переводе слишком усилил одну из формулировок, но что я абсолютно точно передал смысл инструкций. А именно: французы не должны спускаться в долину или отклоняться от верхней дороги, так как этот участок в свое время был предоставлен им для прогулок ради сохранения их здоровья; они не должны разговаривать с посторонними и заходить в дома, любое ограничение, касающееся генерала Бонапарта, в той же степени относится и к сопровождающим его лицам. Свои высказывания он закончил тем, что предложил мне при возможности сообщить Бонапарту, что я слышал, как губернатор сказал, что инструкции исходят от британского правительства, а он всего лишь исполнитель указаний, а не их автор.
12 октября. Наполеон завёл разговор о новых ограничениях, заметив, что Бертран не мог заставить себя поверить, что он правильно их понял, и попросил меня высказать моё мнение, что я и сделал, насколько это было в моих силах, кратко и точно. Когда я закончил, Наполеон воскликнул: «Какая дикая расправа!» Я заметил, что губернатор вчера сказал, что указания о новых ограничениях исходили от британского правительства и он всего лишь их исполнитель. Наполеон бросил на меня взгляд, полный скепсиса, усмехнулся и добродушно шлёпнул меня по щеке.
На имя Бертрана от сэра Хадсона Лоу поступили два письма. Я не читал их, но мне рассказали, что одно из них касалось новых ограничений и содержало утверждения о том, что они почти ничем не отличаются от предыдущих, так как в соответствии с ними границы Лонгвуда практически остались такими же.
13 октября. Наполеон принимает ванну. Пожаловался на головную боль и на общее недомогание; и его немного лихорадило. Он бранил остров и отметил, что не может выйти погулять при солнце хотя бы полчаса без головной боли из-за отсутствия малейшей тени. «Вот уж действительно, — заявил он, — надо обладать на редкость твёрдым характером и огромной силой воли, чтобы выдерживать такое существование, какое влачу я в этом ужасном обиталище. Каждый новый день этот палач вонзает в моё сердце кинжал, наслаждаясь содеянным злодейством. Судя по всему, это у него единственное развлечение. Ежедневно он только и размышляет над тем, как бы по-новому досадить мне, оскорбить и заставить испытать очередные лишения. Он хочет сократить мою жизнь, ежедневно раздражая меня. В соответствии с его последними ограничениями мне не разрешается разговаривать с любым встреченным человеком. В этом не отказано людям, приговоренным к смертной казни. Человек может быть закован в цепи, его могут заточить в тюремную камеру и содержать на одном хлебе и воде, но ему не отказывают в свободе слова. Это неслыханный пример тирании, если не считать эпизода с человеком в железной маске. В трибуналах инквизиции выслушивают человека, выступающего в свою защиту; но мне безо всякого суда, в нарушении всех божьих и человеческих законов вынесли приговор, так и не выслушав меня; заключили в тюрьму в качестве военнопленного в мирное время; отлучили от жены и сына, силой привезли сюда, где мне навязаны произвольные и до сих пор неизвестные ограничения, вплоть до лишения права говорить.
Я уверен, что никто из министров, за исключением лорда Батхерста, не дал бы своего согласия на этот последний акт тирании. Его неодолимая страсть к секретности свидетельствует о том, что он боится того, что его поведение станет известным даже самим министрам. Вместо всей этой мистики и шпионажа им бы лучше обращаться со мной так, чтобы они не опасались каких-либо разоблачений. Вспомните о том, что я говорил вам, когда этот губернатор сообщил мне в присутствии адмирала, что все наши жалобы будут в письменном виде отправляться в Англию, и он сам будет способствовать тому, чтобы их публиковали в газетах. Вы же видите теперь, что он охвачен страхом и весь дрожит от одной только мысли, как бы письмо Монтолона не оказалось в Англии.
Они в Англии заявляют во всеуслышание, что готовы удовлетворить все мои запросы, и действительно они выслали немало вещей. Затем появляется этот человек, всё сокращает, вынуждает меня продать моё столовое серебро, чтобы купить предметы первой необходимости, которые он при поставках в Лонгвуд или целиком отвергает, или посылает в столь малом количестве, что их оказывается совершенно недостаточно. Вводит ежедневно новые и произвольные ограничения, оскорбляет меня и моих соратников, и заканчивает всё это попыткой лишить меня свободы слова, после чего имеет наглость писать, что он ничего не изменял. Он заявляет, что если посторонние люди приезжают в Лонгвуд, чтобы нанести мне визит, то они не могут говорить ни с кем из моей свиты, и требует, чтобы они были представлены мне им самим. Если мой сын приедет на остров и потребуется, чтобы он был представлен губернатором, то я не встречусь с собственным сыном.
Вы знаете, — продолжал Наполеон, — что для меня принимать посторонних лиц, приезжавших в Лонгвуд, значило бы скорее беспокойство, чем удовольствие; некоторые из этих лиц приезжали лишь для того, чтобы поглазеть на меня как на любопытное животное; но всё же для меня было утешением иметь право видеть их, если мне хотелось этого».
Осмотрел его десны, которые оказались мягкими, бескровными, но кровоточили при малейшем нажатии. Рекомендовал ему в большем количестве, чем обычно, потреблять овощи, окисленные продукты, полоскать полость рта кислотой и заниматься физическими упражнениями.
14 октября. Присланная губернатором в Лонгвуд официальная бумага, содержавшая предложение французам подтвердить своё согласие подчиняться как существующим, так и будущим ограничениям, была подписана всем персоналом Лонгвуда и затем отправлена сэру Хадсону Лоу. Французы внесли в текст документа единственное изменение, а именно, вместо «Наполеон Бонапарт» они вписали «император Наполеон».
15 октября. Эти официальные бумаги с подписями французов были возвращены губернатором графу Бертрану с требованием, чтобы вместо «император Наполеон» в них был вписан «Наполеон Бонапарт».
Встретился с Наполеоном, который сообщил мне, что он посоветовал всем не подписывать эти официальные бумаги и тем самым покинуть остров и отправиться на мыс Доброй Надежды.
В Лонгвуд приехал сэр Хадсон Лоу. Я поставил его в известность о том, что, как я думаю, французы не подпишут заявление в том виде, как его сформулировал губернатор. «Я полагаю, — возразил его превосходительство, — что они очень рады именно такому тексту заявления, так как они получают предлог покинуть генерала Бонапарта». Затем он попросил пригласить к себе графа Бертрана, графа Лас-Каза и остальных офицеров (за исключением Пионтковского), с которыми он провел длительную беседу. В одиннадцать часов вечера сэр Хадсон Лоу направил графу Бертрану письмо, в котором сообщал ему что, в случае отказа французских офицеров подписать заявление со словами «Наполеон Бонапарт» все они и лица обслуживающего персонала должны немедленно отправиться на мыс Доброй Надежды за исключением повара, дворецкого и одного или двух слуг; что, принимая во внимание большой срок беременности графини Бертран, её мужу будет разрешено оставаться на острове, пока она не будет способна переносить плавание на корабле.
Перспектива разлуки с императором вызвала большое горе и даже испуг среди обитателей Лонгвуда, которые, без ведома Наполеона, дождались встречи после полуночи с капитаном Попплтоном и подписали злополучную отвратительную официальную бумагу (за исключением Сантини, отказавшегося подписывать любую бумагу, в которой отсутствовало имя императора Наполеона), после чего документ с подписями был переправлен губернатору.
16 октября. В половине седьмого утра Наполеон послан за мной Новерраза. Когда я прибыл к нему, Наполеон с серьёзным видом посмотрел на меня и затем, рассмеявшись, сказал: «Вы выглядите так, словно вчера вечером основательно выпили». Я возразил ему, что нет, не выпивал, но обедал с офицерами 53-го пехотного полка в их лагере и лёг спать очень поздно. «Сколько бутылок, три?» — спросил он, выставив вперед три пальца.
Затем он сообщил мне, что вчера с губернатором беседовал граф Бертран. Разговор частично касался его, Наполеона, и он послал за мной для того, чтобы я мог объяснить губернатору истинное мнение Наполеона по затронутому вопросу; и «вот здесь то, — продолжал он, взяв лист бумаги, исписанный его собственным почерком, — то, что я написал и что я намерен послать ему».
Затем он зачитал вслух своё послание, часто останавливаясь, чтобы спросить меня, правильно ли я понимаю то, что он написал, после чего заявил: «Копию этого послания вы вручите губернатору и при этом скажете ему, что таковы мои намерения. Если он спросит, почему я не подписал это послание, то вы объясните ему, что в этом не было необходимости, поскольку я зачитал все это вслух и объяснил вам суть».
Обратив внимание на то, что имя Наполеон слишком хорошо известно и может вызвать в памяти воспоминания, без которых было бы лучше обойтись, он высказал желание именоваться полковником Муроном, который был убит рядом с ним во время битвы при Арколе, или бароном Дюроком; но, поскольку слово «полковник» обозначало воинское звание и могло, возможно, кого-нибудь обидеть, то было бы лучше позаимствовать имя у барона Дюрока, носителя самого низкого феодального титула.
«Если губернатор согласится с этим, то пусть он даст знать Бертрану, что одно из этих двух имён приемлемо для него, и тогда оно будет мною принято. Это поможет избегнуть многих затруднений и облегчит решение проблем. Ваши глаза, — продолжал он, — выглядят так, как они выглядят у человека, устроившего вчера вечером дебош». Я объяснил ему, что вид моих глаз явился результатом сильного ветра с пылью. После моего объяснения Наполеон позвонил колокольчиком, вызвал Сен-Дени, взял у него лист бумаги, с которого ранее была сделана копия, попросил меня зачитать вслух написанный текст, подчеркнул собственноручно несколько фраз и, передав мне это послание, стал мягко выталкивать меня из комнаты, говоря при этом, чтобы я отправлялся к губернатору с заявлением о том, что его намерения именно такие, какими они изложены в послании.
Послание было следующим:
«Я обратил внимание, что во время беседы, имевшей место между генералом Лоу и несколькими господами, были высказаны некоторые суждения о моем положении, которые не соответствуют моим убеждениям.
Я отрекся от престола, отдав себя в руки нации и в пользу моего сына. Я доверчиво сдался Англии, чтобы жить там или в Америке в полном уединении под именем полковника, сражённого в битве рядом со мною, приняв твёрдое решение оставаться чуждым любым политическим делам.
Как только я вступил на борт корабля «Нортумберлэнд», мне сообщили, что я являюсь военнопленным. Меня привезли к югу от экватора и мне предстояло называться генералом Бонапартом. Считаю для себя обязательным носить титул императора Наполеона, а не титул генерала Бонапарта, который мне желают навязать.
Примерно семь или восемь месяцев тому назад граф де Монтолон предложил выступить посредником улаживания проблем, которые непрерывно возникают. Адмирал посчитал нужным написать об этом в Лондон, и решение этого вопроса там и осталось.
Сейчас мне присвоено имя, имеющее то преимущество, что оно не наносит ущерба прошлому, но вместе с тем не соответствует должным социальным формам. Я по-прежнему готов принять имя, которое войдёт в обычный обиход, и я повторяю, что, когда будет решено положить конец этому жестокому пребыванию на острове, я намерен никогда больше не принимать участия в политической жизни. Таковы мои убеждения, и что-либо, сказанное иначе, им не соответствует».
Я немедленно отправился в «Колониальный дом», где и вручил губернатору послание Наполеона и довел до его сведения содержание разговора с последним. Его превосходительство не скрывал своего явного изумления и заявил, что моя информация представляется весьма важной, требующей тщательного рассмотрения. Губернатор сразу же написал на листке бумаги следующие слова: «Губернатор, но теряя времени, сразу же направит британскому правительству официальное послание, врученное ему доктором О’Мира. Губернатор, однако, считает, что указанное послание вызвало бы большее удовлетворение, если бы оно было подписано персоной, от имени которой представлен этот документ. Этим замечанием губернатор, однако, не намерен подвергать ни малейшему сомнению достоверность и действительность данного официального послания, как в отношении его содержания, так и в отношении его истинного смысла, но просто было бы лучше прислать его в такой форме, которая бы не вызвала никаких кривотолков. Губернатор внимательно рассмотрит возможность того, чтобы принять положительное решение по любому из предложенных имён. Однако он, естественно, должен получить на это санкцию своего правительства. Губернатор будет готов в любое время обсудить эту проблему с генералом Бертраном».
Эту записку губернатор попросил меня показать Наполеону, добавив при этом: «Фактически неважно, если вы оставите записку у него». Затем он спросил меня, как я думаю, подпишет ли Наполеон свое послание. Я ответил, что вполне возможно, что и подпишет, особенно в том случае, если он (сэр Хадсон) разрешит ему использовать любое из имен, о которых идет речь. Однако, заявил губернатор, эта проблема пока еще не может быть решена.
После этих слов его превосходительство предупредил меня, что я не должен поддерживать никакой связи с какими-либо официальными лицами в Англии, и потому он настаивает, чтобы я не говорил ни слова о предложении, о котором я только что ему сообщил. Он сообщил также, что писал лорду Батхерсту обо мне, и нет никаких сомнений, что я и в дальнейшем буду вести себя хорошо, к тому же мой особый статус предопределяет необходимость безграничного доверия ко мне и никто из министров, за исключением того одного, с кем он поддерживает связь, не должен ничего знать о том, что происходит на острове Святой Елены. После этого губернатор попросил меня вернуться в Лонгвуд и попытаться уговорить Наполеона поставить свою подпись под своим посланием.
Возвратившись в Лонгвуд, я доложил Наполеону об ответе губернатора и о его пожеланиях. Наполеон обратил внимание на то, что он не намеревался оставлять свое послание у губернатора. Он просто хотел, чтобы послание было зачитано и показано ему, после чего оно должно было быть возвращено, как это уже однажды имело место раньше. Он просто хотел поставить губернатора в известность о своём мнении по затронутому вопросу для того, чтобы знать, до какой степени губернатор склонен пойти ему навстречу. После обсуждения данного вопроса с Бертраном будет написано соответствующее письмо, которое и будет им подписано. Наполеон закончил беседу со мной тем, что распорядился, чтобы я поехал в «Колониальный дом» и забрал обратно его послание.
В соответствии с указанием Наполеона я отправился в «Колониальный дом» и сообщил сэру Хадсону Лоу, что меня попросили вернуть послание Наполеона. Губернатор вернул его мне, выразив при этом неподдельное изумление, и высказал предположение, что подобное требование вызвано некоей уловкой и недостатком искренности со стороны Бонапарта или неудачным советом одного из его генералов. Затем он спросил моё мнение о том, «полагает ли граф Монтолон, что ему гарантировано дальнейшее пребывание на острове после того, как он подписал декларацию?» Губернатор хотел от меня услышать, что обращение к британскому правительству не означало просьбу разрешить генералу Бонапарту поменять имя, но всего лишь желание получить ответ на вопрос, одобрят ли британские министры подобное изменение имени. Возвратившись в Лонгвуд, я вернул Наполеону его послание и доложил ему о настроении губернатора. Наполеон объяснил, что если бы сэр Хадсон Лоу дал знать Бертрану или даже мне, что он санкционирует изменение имени и соответственно будет обращаться к нему уже по-новому, то он (Наполеон) написал бы письмо с заявлением о том, что принимает одно из двух имен, которые были им предложены, и такое письмо он бы подписал и направил губернатору.
«Половина всех притеснений, — заявил Наполеон, — которые я испытал здесь, проистекают из-за проблемы, связанной с титулом». Я напомнил ему, что многие люди были удивлены тем, что он сохранил свой титул после отречения от трона. Наполеон объяснил мне: «Я отрёкся от трона Франции, но не от титула императора. Я не называю себя Наполеоном, императором Франции, но императором Наполеоном. Монархи обычно сохраняют свои титулы. Так, например, Карл, король Испании, сохраняет титул короля и его высочества после того, как отрекся в пользу своего сына. Если бы я был в Англии, то не называл бы себя императором. Но они хотят представить дело так, что французская нация не имела права делать меня её монархом. Если они не имели права делать меня императором, то в равной степени они не были способны сделать меня генералом. Человек, когда он становится во главе небольшой группы людей во время беспорядков в стране, зовется вожаком бунтовщиков; но когда он добивается успехов, совершает великие дела и возвеличивает свою страну и самого себя, то его уже не называют вожаком бунтовщиков, но величают генералом, монархом и т. д. Только успех делает его таким. Если бы он был неудачником, то так бы и остался по-прежнему вожаком бунтовщиков и, возможно, окончил бы жизнь на виселице. Ваша страна, — продолжал Наполеон, — называла Вашингтона главой мятежников в течение долгого времени и отказывалась признавать его и конституцию его страны; но его успехи вынудили ее изменить своё отношение и признать и Вашингтона и конституцию. Именно успех делает человека великим. По правде говоря, — добавил он, — мне самому казалось бы нелепым называть себя императорам, если бы ваши министры не вынудили меня на это при той ситуации, когда я нахожусь здесь, и часто напоминаю одного из тех бедняг в Вифлеемской психиатрической больнице в Лондоне, которые воображают себя королями среди цепей и соломы».
Затем он с большой похвалой отозвался о графах Бертране, Монтолоне, Лас-Казе и остальных членах свиты в связи с проявленной к нему героической преданностью и с доказательствами их привязанности к нему, которую они продемонстрировали, оставшись с ним на острове вопреки его желанию. «Они имели — продолжал Наполеон, — отличный предлог уехать, во-первых, отказавшись написать «Наполеон Бонапарт», и затем из-за того, что я приказал им не подписываться под заявлением. Но нет, они бы написали «тиран Бонапарт» или любое другое оскорбительное имя, лишь бы остаться здесь со мной в нищете, чем вернуться в Европу, где они могли бы жить в великолепных условиях. Чем больше ваше правительство пытается унизить меня, тем с большим уважением они относятся ко мне. Они гордятся тем, что оказывают мне большее уважение сейчас, чем тогда, когда я был на вершине славы. Представляется, — затем заявил Наполеон, — что этот губернатор — прирождённый шпион. Ему подходит роль комиссара полиции в маленьком городе».
Я спросил его, как он считает, кто был лучшим министром полиции, Савари или Фуше, добавив, что оба они пользовались дурной репутацией в Англии. «Савари, — ответил Наполеон, — неплохой человек; более того, Савари — человек с добрым сердцем, он смелый солдат. Вы могли видеть его плачущим.
Он любит меня любовью сына. Англичане, побывавшие во Франции, вскоре откроют глаза вашей стране. Фуше — мерзавец всех цветов и оттенков, он — тот самый человек, который принимал активное участие во многих кровавых событиях во время революции. Он — человек, который способен выведать все тайны у вас с самым невозмутимым и равнодушным видом. Он очень богат, но его богатство нажито неправедным трудом. Игорные дома в Париже были обложены налогом, но поскольку это был постыдный способ приобретения денег, то я приказал, чтобы все деньги, собранные с помощью этого налога, были выделены больнице для бедных. Сумма достигала несколько миллионов, но Фуше, собиравший сбор с налога, большую часть денег клал в собственный карман, и я не мог узнать истинный ежегодный доход».
Я обратил его внимание на то, что многих очень удивляло, что, находясь на вершине славы, он никому не пожаловал герцогство во Франции, хотя в других местах он наплодил многих герцогов и принцев. Он ответил: «Это вызвало бы большое недовольство у народа. Если, например, я бы сделал одного из моих маршалов герцогом Бургундским вместо того, чтобы присвоить ему титул, который вел свое происхождение от одной из моих побед, то это вызвало бы немалое волнение в Бургундии, так как местное население посчитало бы, что некоторые феодальные права и территория принадлежат титулу, и новый герцог потребовал бы, чтобы они принадлежали ему.
Нация столь ненавидела старую аристократию, что введение любого высокопоставленного титула, воскресавшего в памяти эту аристократию, вызвало бы взрыв всеобщего недовольства, допустить которого я, каким бы могущественным монархом я ни был, не решился. Я создал новую аристократию для того, чтобы раздавить старую и угодить народу, так как большая часть представителей новой аристократии вышла из народа, и каждый рядовой солдат получил право рассчитывать на титул герцога. Я думаю, что действовал неправильно, поступая даже так, потому что даже это ослабляло ту систему равенства, которая так пришлась по душе народу; но если бы я создал герцогов с французским титулом, то это бы рассматривалось как возрождение старых феодальных привилегий, от которых так долго страдала нация».
Его дёсны находились в таком же состоянии, как и раньше; он жаловался на общее ухудшение здоровья и добавил, что почувствовал уверенность, что при всех обстоятельствах долго протянуть ему не суждено. В качестве лечебных средств я порекомендовал ему, как и прежде, физические упражнения и диету. Он заявил, что стал практиковать диету и другие лечебные средства, но что касается физических нагрузок (которые были наиболее необходимы), то навязанные ему ограничения представляют для них непреодолимое препятствие. Он задал много вопросов, касающихся анатомии, особенно работы сердца, и признался: «Я думаю, что моё сердце не бьётся: я никогда не чувствую пульса». После этих слов он попросил меня проверить его пульс. Я некоторое время пытался нащупать пульс, но не мог ощутить какую-либо пульсацию, объяснив это его чрезмерной полнотой. Ранее я обратил внимание на то, что в его организме кровообращение очень замедленно, редко когда превышает пятьдесят восемь или шестьдесят ударов в минуту, и наиболее часто оно равняется пятидесяти четырём ударам в минуту.
16 октября. Капитан Пионтковский, Руссо, Сантини и Аршамбо, младший брат, были теми лицами, которых поименно назвал сэр Хадсон Лоу для высылки из Лонгвуда. Граф Монтолон попросил меня проинформировать губернатора, что император не хотел разлучать братьев Аршамбо, к тому же это поставит под вопрос возможность прогулок в карете, поскольку губернатору хорошо известно, что на Святой Елене дороги столь опасны, что очень важно иметь опытных кучеров. Он добавил, что если бы выбор тех, кто должен покинуть Лонгвуд, был предоставлен Наполеону, то он бы назвал Руссо, Сантини и Бернара, который бесполезен для Лонгвуда и к тому же подвержен интоксикации, или Жантилини, поскольку он считал, что жестоко разлучать двух братьев.
Сообщил об этом сэру Хадсону Лоу, который ответил: выбор не был оставлен за генералом Бонапартом, слуги были отобраны из персонала Лонгвуда, и, более того, приказ был выслать французов, а не уроженцев других стран; Бернар — фламандец, а Жантилини — итальянец, и поэтому они не подпадают под точное выполнение приказа; если бы Сантини не отказался подписать заявление, то на него бы не пал выбор, так как он — корсиканец, а не француз. Однако губернатор не возражал против того, чтобы французы, обслуживающие генерала Бонапарта, между собой бросили жребий. Губернатор пожелал, чтобы я смог, учитывая все эти обстоятельства, повлиять на настроение генерала Бонапарта. Он добавил, что, поскольку право выбрать кандидатов на высылку с острова оставлено за ним в силу имеющихся у него инструкций, он отдаст письменные распоряжения капитану Попплтону выслать Пионтковского и двух братьев Аршамбо, если останется Руссо, или одного из братьев Аршамбо, если Руссо придётся уехать. Затем губернатор поручил мне выяснить, следует ли ему ожидать дальнейших сообщений относительно имен кандидатов на высылку, поскольку корабль с его депешей по данному вопросу отплывет в Англию сегодня вечером[7].
Вернувшись в Лонгвуд, я доложил Наполеону о беседе с губернатором. Наполеон поинтересовался, «властен ли губернатор давать санкцию на изменение состава высылаемых лиц; записка, присланная им, явствует обратное». Я ответил, что не знаю более того, что уже сообщил. «Тогда. — заявил Наполеон, — прежде чем будут предприняты дальнейшие шаги, пусть он ясно ответит, властен ли он давать санкцию на изменение состава или нет, да или нет». Я информировал Наполеона о точке зрения и о решении его превосходительства относительно лиц обслуживающего персонала в Лонгвуде, которым предстоит покинуть остров Святой Елены. «Сантини — не француз? — переспросил Наполеон. — Доктор, вы не можете быть столь слабоумным, чтобы не видеть, что это лишь предлог для того, чтобы нанести мне оскорбление. Все корсиканцы являются французами. Отбирая у меня моих кучеров, он хочет лишить меня даже небольшой физической нагрузки, которую я получаю от поездки в карете».
19 октября. Пересказал сэру Хадсону Лоу последние фразы Наполеона во время нашей с ним беседы об изменении имени. Губернатор в связи с этим заявил: «Полагаю, что в моей власти одобрить это». Я затем порекомендовал ему встретиться с графом Бертраном и обговорить с ним эту проблему. В связи с этим его превосходительство отправился в коттедж «Ворота Хата».
20 октября. Граф и графиня Бертран с семьёй переехали из «Ворот Хата» в Лонгвуд.
21 октября. Обедал в «Колониальном доме» в обществе русского и австрийского полномочных представителей, ботаника и капитана Гора.
Большую часть беседы они посвятили тому, что выражали глубокое разочарование, что до сих пор не встретились с Наполеоном. В частности, граф Бальмэн отметил, что они (полномочные представители), судя по всему, выступают в основном в роли объектов подозрения. Если бы он знал заранее, как с ними будут обращаться, то не приехал бы сюда; хотя император Александр весьма заинтересован в том, чтобы предотвратить побег Наполеона с острова, но в то же время он хотел бы, чтобы с Наполеоном хорошо обращались, в том числе и благодаря заботам графа Бальмэна: по этой причине он (граф Бальмэн) просил встретиться с Наполеоном только в качестве частного лица, а не официально, как полномочный представитель. Они же станут объектами насмешек в Европе, как только узнают, что, пробыв столько месяцев на острове Святой Елены, они даже ни разу не видели ту личность, охранять которую и являлось единственной целью их миссии. Он сказал, что губернатор всегда говорил им, что Бонапарт решительно отказывается кого-либо принимать у себя. Ботаник вел разговор в том же духе, отметив, что Лонгвуд является «наихудшим обиталищем во всем мире» и наихудшей частью острова.
22 октября. Сэр Хадсон Лоу вызвал меня к себе и заявил, что полномочные представители уделили мне слишком много внимания. Он не будет гадать о том, что они говорили, но все эти разговоры имеют такой вид, словно они хотят что-то передать генералу Бонапарту, и поэтому губернатор посоветовал мне быть очень осторожным в беседах с ними. Губернатор также сообщил мне, что граф Бертран подтвердил ему все, что я рассказал относительно проблемы, связанной с изменением имени генерала Бонапарта.
23 октября. Наполеон испытывает недомогание: одна из его щек сильно распухла. Я порекомендовал ему припарки, а также подержать опухшую щеку над паром, что он и сделал. Кроме того, я посоветовал ему удалить гнилой зуб и вновь повторил свою рекомендацию, которую давал ранее неоднократно в отношении физических упражнений и нагрузок, как только опухоль щеки спадет, а также соблюдения диеты, в основном за счёт овощей и фруктов.
«Когда я выхожу из дома, — пожаловался Наполеон, — то меня донимают или сильнейший ветер с туманом, из-за которых у меня распухает лицо, или, когда они прекращаются, меня нещадно обжигает солнце при полном отсутствии какой-либо тени. Они специально заслали меня в самую худшую часть острова. Когда я жил в коттедже «Брайерс», то там, по крайней мере, я имел то преимущество, что прогуливался в тени и наслаждался мягким климатом; ладно, об этом хватит, но сейчас, не теряя времени, приступим к обсуждению поставленной нами цели. Вы встречались с этим сицилийским тюремщиком?» Я ответил, что сэр Хадсон Лоу информировал меня о том, что он послал в Англию письмо с сообщением о предложении Наполеона принять чужое имя. «Он всё врет, — возмутился Наполеон. — Это его система. Ложь не принадлежит к числу национальных пороков англичан, но этот… собрал в себе все пороки карликовых государств Италии».
Наполеон попросил меня достать для него медицинское кресло. Об этом я сообщил губернатору, который ответил, что закажет кресло, так как подобных вещей нельзя найти на острове.
28 октября. Впервые после длительного перерыва Наполеон совершил прогулку в карете. После прогулки сообщил мне, что он следовал всем моим лечебным предписаниям. Опухоль на щеке спала, и его лицо выглядит гораздо лучше. Но зубы мудрости шатались, и в них начался кариесный процесс.
Затем мы перешли к обсуждению проблемы национального долга и чрезмерного бремени налогов в Англии. Наполеон признался, что он сомневается в том, что англичане сейчас смогут продолжать производить товары так, чтобы иметь возможность продавать их по такой же цене, по которой продаются аналогичные товары, производимые во Франции, вследствие того, что товары первой необходимости намного дороже в Англии, чем во Франции. Он не скрывал своего неверия в то, что Англия сможет выдержать неимоверное бремя налогов, дороговизну продуктов и сумасбродство плохого администрирования.
«Когда я был во главе Франции, — продолжал он, — имел на руках территорию в четыре раза большую, чем ваша, и население в четыре раза превышавшее население вашей страны, то я никогда не мог повысить свои налоги сверх половины налогов в Англии. Не могу понять, как это выдерживает простой английский народ. Несмотря на ваши огромные успехи, которые и в самом деле почти невероятны и которым во многом способствовали и счастливая случайность и, может быть, просто судьба, я все же не думаю, что вам удастся выкрутиться из неприятного положения: хотя вы командуете всем миром, я не верю, что вы когда-нибудь будете в состоянии сбросить бремя вашего национального долга.
Ваша великая прибыльная торговля держала вас на плаву; но такое положение придёт к концу, когда вы более не сможете продавать свои товары дешевле, чем производители других стран, которые быстрыми темпами наращивают свои силы. Ещё несколько лет подобного процесса покажут, что я прав. Самое худшее, что когда-либо сотворила Англия, — продолжал Наполеон, — так это то, что она стремилась стать великой военной державой, а это невозможно без того, чтобы не превратиться в раба России, Австрии или Пруссии, потому что у вас нет населения, достаточно многочисленного, чтобы сражаться на полях континента с Францией или с любой из названных мною держав, и вы, следовательно, должны нанимать солдат какой-нибудь из этих держав.
Тогда как на море вы превосходите всех; ваши моряки настолько превосходят всех, что вы всегда можете командовать другими, обеспечивая свою безопасность сравнительно небольшими силами. Ваши солдаты не имеют необходимых качеств для поддержания статуса военной державы. Они уступают в ловкости, боевитости и сообразительности французским солдатам. Когда они действуют под страхом плети, то теряют голову, чтобы подчиниться приказу. В отступлении они неуправляемы; и если они прикладываются к бутылке с вином, то в них вселяется столько чертей, что прощай всякая субординация. Я видел отступление Мура, и ничего подобного мне никогда не приходилось видеть. Было совершенно невозможно собрать их вместе и заставить что-либо делать. Почти все они были пьяны. Ваши офицеры служат ради карьеры или ради денег. Вашим солдатам не откажешь в смелости, никто не станет это отрицать; но вы проявили себя плохими политиками, когда стали поощрять увлечение военщиной, вместо того чтобы уделять главное внимание морскому флоту, который является истинной силой вашей страны, той силой, которая всегда будет делать вас могучей державой, пока вы будете сохранять его. Для того чтобы иметь хороших солдат, нация всегда должна находиться в состоянии войны.
Если бы вы проиграли сражение при Ватерлоо, — продолжал Наполеон, — в каком положении оказалась бы Англия? Цвет вашей молодежи был бы уничтожен; ни один солдат, даже лорд Веллингтон, не смог бы ускользнуть». Здесь я заметил Наполеону, что лорд Веллингтон был полон решимости не покидать поле сражения живым. Наполеон ответил: «У него не было возможности отступать. Он был бы уничтожен вместе со своей армией, если бы вместо пруссаков на подмогу пришёл Груши». Я спросил его, разве он не верил, что появившиеся пруссаки как раз и были частью корпуса Груши. Наполеон ответил: «Конечно, я и теперь едва могу понять, почему это была прусская дивизия, а не дивизия Груши».
Я затем взял на себя смелость спросить: не правда ли, если бы не появились ни Груши, ни пруссаки, то сражение при Ватерлоо стало бы битвой с неясным исходом. Наполеон ответил: «Тогда бы английская армия была разгромлена и уничтожена. К середине дня она уже потерпела поражение. Но счастливый случай или, что более вероятно, сама судьба решила, чтобы лорд Веллингтон одержал победу. Я почти не мог поверить, что он даст мне сражение: ибо, если бы он отступил к Антверпену, а именно так ему следовало сделать, меня должны были сокрушить армии в триста или четыреста тысяч солдат, которые подходили, чтобы выступить против меня. Тем, что лорд Веллингтон решился дать мне сражение при Ватерлоо, он дал мне шанс. Это была величайшая глупость — разъединить английские и прусские армии. Им следовало быть вместе; и я не могу понять причину того, что они разъединились. Веллингтон совершил глупость, что дал мне сражение в месте, где, если бы он потерпел поражение, все для него было бы потерянным, ибо он не имел возможности отступить. Позади него стоял лес и, чтобы добраться до него, была лишь одна дорога. Он был бы уничтожен. Более того, он позволил мне застать его врасплох. Это была его колоссальная ошибка. Ему следовало покинуть лагерь под Ватерлоо с самого начала июня, так как он должен был знать, что я намерен атаковать его. Он мог потерять буквально всё. Но ему повезло; его судьба оказалась более удачливой; и всё, что он сделал, было встречено аплодисментами.
Я намерен был атаковать и уничтожить англичан. Это, я знал, вызвало бы немедленную смену английского кабинета министров. Негодование деятельностью английских министров, ставшей причиной гибели сорока тысяч отборных солдат английской армии, вызвало бы такое всенародное волнение в Англии, что этих министров выгнали бы прочь. Народ сказал бы: «Какое нам дело, кто там сидит на троне Франции, Луи или Наполеон; стоит ли нам проливать свою кровь, пытаясь посадить на трон ненавистную королевскую семью? Нет, мы достаточно много страдали. Это не наше дело — пусть они там, во Франции, разбираются сами». Они бы пошли на заключение мира. А ко мне присоединились бы саксонцы, баварцы, бельгийцы, вюртембержцы. Без Англии коалиция перестала бы существовать. Русские пошли бы на мир со мной, и я бы спокойно сидел на троне. Состояние мира стало бы постоянным, ибо что могла сделать Франция после Парижского договора? Разве её можно было опасаться?
Таковы были мотивы, — продолжал Наполеон, — в силу которых я должен был атаковать англичан. Я разбил пруссаков. До двенадцати часов дня мне сопутствовал успех. Я могу сказать, что всё складывалось в мою пользу, но счастливая случайность и сама судьба решили по-другому. Несомненно, англичане сражались храбро, никто не может этого отрицать. Но они должны были быть разбиты.
Питт и его политика, — продолжал он, — почти погубили Англию тем, что продолжали континентальную войну с Францией!» Я возразил ему, заметив, что многие умные политики в Англии утверждают, что если бы мы не вели континентальной войны, то наша страна была бы разрушена и, в конце концов, стала бы провинцией Франции. «Это неверно, — возразил Наполеон, — Англия, находясь в состоянии войны с Францией, дала последней повод и возможность добиться под моим началом расширения завоёванных территорий до такой степени, что я почти стал императором всего мира. Этого бы не случилось, если бы не было войны».
Пять часов вечера. Наполеон послал за мной. Увидел его сидящим в кресле напротив зажжённого камина. Он выходил прогуляться, и у него начался приступ озноба, разболелась голова, и все это сопровождалось сильным кашлем. Осмотрел его миндалины, которые оказались распухшими. Щёки выглядели воспалёнными. Пока был с ним, озноб усилился. «Меня трясёт, — пожаловался он присутствующему графу Лас-Казу, — словно от страха». Пульс сильно участился. Я порекомендовал ему теплые припарки на щеки, смазывание горла жидкой мазью, средство для разжижения крови, полоскание горла, ножные ванны и полное воздержание от вина; все мои рекомендации он принял, за исключением смазывания горла. Наполеон задал мне много вопросов о лихорадке.
В девять часов вечера вновь посетил его. Он лежал в постели. Наполеон строго выполнил все мои рекомендации; я хотел, чтобы он принял потогонное средство, но он больше полагался на свои средства для разжижения крови. Он объяснил, что занемог в результате воздействия резкого ветра, беспрерывно обдувавшего незащищённое, открытое плато Лонгвуда.
«Мне следовало, — сказал он, — жить в коттедже «Браейрс» или на другой стороне острова, вместо того чтобы находиться в этом отвратительном месте. Когда я был там в прошлом году, именно в это время года, то чувствовал себя прекрасно». Он спросил меня, какой самый легкий, по моему мнению, способ умереть, и заявил, что смерть от холода — самый легкий способ по сравнению с другими, потому что смерть приходит во время сна.
Я послал письмо сэру Хадсону Лоу, в котором сообщал о болезни Наполеона.
27 октября. Ночью у Наполеона было обильное потоотделение, и ему стало значительно лучше. Я посоветовал ему продолжать все рекомендованные лечебные процедуры и не выходить из дома, чтобы избежать воздействия ветра. Он вновь, как и вчера, пожаловался на открытую и нездоровую местность, в которой расположен Лонгвуд, добавив, что земля здесь настолько бесплодна, что едва ли на ней произрастёт что-либо из овощей.
Немного поговорил с ним об императрице Жозефине, о которой он высказался самым нежным образом. Его первая встреча с этой очаровательной женщиной произошла после разоружения мятежников в Париже, последовавшего за событиями 13 вандемьера (5 октября) 1795 года. «Мальчик двенадцати или тринадцати лет попросил встречи со мной, — продолжал Наполеон, — и стал умолять меня, чтобы ему вернули саблю его отца, который был генералом республики. Я был так растроган этой страстной просьбой, что приказал вернуть ему эту саблю. Этого мальчика звали Евгением Богарнэ. Увидев саблю, он зарыдал. Я был настолько взволнован его поведением, что уделил ему особое внимание и похвалил его. Через несколько дней его мать нанесла мне визит вежливости, чтобы поблагодарить меня. Я был поражен ее внешностью и еще более её умом. Это первое впечатление от неё с каждым днем усиливалось, и наш брак оказался не за горами».
Виделся с сэром Хадсоном Лоу. Информировал его о состоянии здоровья Наполеона, а также сообщил, что Наполеон считает причиной своего недомогания климат Лонгвуда, где постоянно свирепствует ветер, от которого нет возможности где-либо укрыться из-за открытого характера местности. Сказал, что Наполеон выразил желание, чтобы его перевели на местожительство или в коттедж «Брайерс», или на другую сторону острова. Его превосходительство ответил: «Все дело в том, что генерал Бонапарт хочет поселиться в «Колониальном доме», но Восточно-Индийская компания не даст согласия на то, чтобы передать этот прекрасный утолок природы кучке французов для того, чтобы они обломали деревья и испортили сады».
Восемь часов вечера. Наполеону нездоровится; правая сторона челюсти распухла, он с трудом глотает из-за того, что воспалились миндалины. Он отказывается что-либо принимать, за исключением средств для разжижения крови и припарок. Порекомендовал ему утром принять слабительное средство, а также некоторые другие активно действующие лекарства, от которых он отказался, заявив, что с детства не принимал никаких лекарств, знает собственный организм и уверен в том, что даже небольшая их доза вызовет у него сильную реакцию; что, более того, возможно, реакция на эти лекарства будет воспрепятствовать благотворному воздействию природы. Он будет полагаться на диету, средства для разжижения крови и пр.
29 октября. Наполеону стало лучше. Я сказал ему, что если он станет жертвой одной из тех болезней, что свойственны местному климату, то, по всей вероятности, не протянет и нескольких дней, поскольку те медицинские средства, которые он признаёт и применяет, абсолютно непригодны для того, чтобы одолеть страшную болезнь, хотя они (эти средства) могут быть достаточными для того, чтобы ослабить незначительное недомогание, с которым он сейчас борется. Несмотря на все мои аргументации и протесты, которые я высказал ему, он всё же явно считает, что лучше ничего не делать, чем принимать лекарства, являющиеся, с его точки зрения, опасными или, по крайней мере, сомнительными, ибо они могут нарушить нормальное функционирование организма.
30 октября. Наполеон согласился использовать для полоскания рта настой из роз и серной кислоты. У него появилось много мелких пузырьков на внутренней стороне щёк и на дёснах. Он вовсю поносил варварский климат Лонгвуда и вновь упоминал коттедж «Брайерс».
Информировал сэра Хадсона Лоу о состоянии здоровья Наполеона и о его желании переехать в коттедж «Брайерс». Его превосходительство ответил, что если генерал Бонапарт хочет жить в комфортабельных условиях и смириться с мыслью о пребывании на острове, то ему следует забрать деньги из тех громадных сумм, которыми он обладает, и выложить их для покупки дома и земельного участка. Я сказал, что Наполеон сообщил мне, что он не знает, где находятся его деньги. Сэр Хадсон ответил на это: «Полагаю, что он сообщил вам об этом для того, чтобы вы могли повторить его слова мне».
1 ноября. Наполеону лучше. Незначительное опухание ног и увеличение лимфатических узлов на бедре. Рекомендовал ему применить сульфат магния или глауберовой соли. Разбита ещё часть столового серебра Наполеона, чтобы послать в город на продажу.
2 ноября. Состояние здоровья Наполеона почти не изменилось. Самым настоятельным образом рекомендовал ему совершать прогулки на воздухе, как только состояние его щек и улучшение погоды позволят это, высказал ему моё твёрдое и окончательное мнение о том, что пока он на практике не осуществит этот совет, то он неизбежно окажется жертвой очень серьёзного заболевания.
Во время последовавшей затем беседы я взял на себя смелость спросить императора о причинах, в силу которых он так энергично поддерживал евреев. Наполеон ответил: «Я хотел заставить их отказаться от ростовщичества и стать такими же, как и все люди. В странах, которыми я правил, было очень много евреев; отменив ограничение их в правах и обеспечив им равенство с католиками, протестантами и другими, я надеялся содействовать им в том, чтобы они стали добропорядочными гражданами и вели себя так же, как и остальные члены общества. Я верю, что я бы, в конце концов, добился успеха в моём начинании. Мои аргументы в отношении их заключались в том, что, поскольку их раввины объясняли им, что они не должны заниматься ростовщичеством среди своих соплеменников, но при этом им разрешалось заниматься этим делом с христианами и с представителями других вероисповеданий, то поэтому, так как я восстановил их во всех правах и привилегиях и сделал их равными с другими подданными, они должны считать меня, как Соломона или Ирода, главой своей нации, а моих подданных считать своими братьями-соплеменниками. Соответственно, им не разрешалось заниматься ростовщичеством с моими подданными и со мной, но они должны были относиться к нам так, словно мы принадлежали одной крови.
Имея те же привилегии, что и другие мои подданные, они подобным же образом были обязаны платить налоги, подчиняться законам о воинской повинности и другим законам. Благодаря этому я получил много солдат. Кроме того, я должен был этим привлечь во Францию большие материальные ценности, так как евреев повсюду множество и они бы стекались в страну, где им предоставлялись такие исключительные привилегии. Более того, я хотел установить всеобщую свободу совести. Моя система новых общественных отношений предусматривала, что ни одна из религий не должна занимать доминирующего положения, но эта система разрешала абсолютную свободу совести и мысли для того, чтобы сделать всех людей равными, независимо от того, протестанты они, католики, мусульмане, деисты или представители других вероисповеданий. Таким образом их принадлежность к той или иной религии не влияла на получение ими работы в рамках правительственной службы. Фактически принадлежность к религии не должна была быть ни средством для продвижения по службе, ни препятствием для него; и никаких возражений не следовало высказывать человеку при рассмотрении вопроса о занятии им определённого места на государственной службе по причине его религиозной принадлежности, при условии, что он подходит для этого места во всех других отношениях.
В моей государственной системе я сделал все независимым от религии. Все суды и трибуналы действовали по этому принципу. Заключение брачных союзов было независимым от священников; даже кладбища не были оставлены в их распоряжение, так как они не могли отказать ритуалу погребения любого человека, принадлежавшего к какой бы то ни было религии. Я намерен был придать всему, принадлежавшему государству и конституции, чисто гражданский вид, не имеющий никакой связи с религией. Я хотел лишить священников всякого влияния и власти в решении гражданских проблем и обязать их заниматься только своими духовными делами, ни во что иное не вмешиваясь».
Я спросил, имеют ли право дяди и племянницы во Франции вступать в брак. Наполеон ответил: «Да, имеют, но они должны получить специальное разрешение». Я спросил его, должно ли это разрешение даваться папой римским. «Папой римским? — переспросил Наполеон и, ответив. — Нет, — схватил меня за ухо и, улыбаясь, добавил: — Скажу вам, что ни папа римский и никто из его священников не имеют права что-либо разрешать. Только монарх».
Я задал несколько вопросов о масонах и поинтересовался мнением Наполеона о них. Компания глупцов, которые встречаются, чтобы вкусно поесть, а потом начать вытворять нелепые и дурацкие выходки. «Однако, — заметил Наполеон, — они кое-что делают и хорошее. Они принимали участие в революции и недавно помогали ограничить власть папы римского и влияние духовенства. Когда народ настроен против правительства, то любое общество склонно в свою очередь нанести ему какой-нибудь вред». Я затем спросил, не имеют ли масоны на континенте каких-либо связей иллюминатами. Наполеон ответил: «Нет, это общество совершенно отлично от масонов, и его деятельность в Германии принимает весьма опасный характер». Я спросил, оказывал ли он поддержу масонам. Наполеон ответил: «Скорее всего так, поскольку они боролись против папы римского».
Далее я поинтересовался, разрешил бы он когда-нибудь восстановление деятельности иезуитов во Франции. «Никогда, — твёрдо заявил Наполеон, — это самое опасное из всех религиозных обществ: оно нанесло больше вреда, чем все остальные общества вместе взятые. Они придерживаются той доктрины, что их генерал является монархом монархов и властителем всего мира; и все должны подчиняться его приказам, как бы они ни противоречили законам и какими бы они ни были порочными. Каждый поступок, каким бы он ни был отвратительным, совершенный ими в соответствии с приказами их генерала в Риме, становится в их глазах достойным поощрения. Нет, нет, я бы никогда не разрешил существования в моих владениях общества, которое подчиняется приказам иностранного генерала в Риме. В действительности я бы не разрешил присутствия во Франции никаких монахов. В стране хватало священников для тех, кто хотел их, и в стране обходились без монастырей, переполненных канальями, которые, ничего не делая, лишь обжирались, молились и совершали преступления».
Я высказал предположение, что следует опасаться, что вскоре священники и иезуиты будут пользоваться большим влиянием во Франции. Наполеон ответил: «Вполне вероятно. Бурбоны — фанатики и охотно вернут в страну и иезуитов, и инквизицию. До моего правления с протестантами обращались так же, как с евреями; они не могли покупать землю — я же поставил их права вровень с правами католиков. Теперь же они будут буквально растоптаны Бурбонами, для которых они, как и все либеральное, всегда будут объектом чрезмерной подозрительности. Император Александр может позволить распахнуть для них двери своей империи, так как он придерживается политики привлечения в свою варварскую страну людей с обширными знаниями, независимо от их принадлежности к той или иной религиозной секте, и более того, в России их едва ли будут встречать с опасением, учитывая различие религий».
5 ноября. В Лонгвуде появился сэр Хадсон Лоу. Я информировал его о том, что хотя Наполеону стало намного лучше, но, с моей точки зрения, если он будет упорствовать в своем нежелании выходить из комнаты и совершать прогулок на свежем воздухе, то довольно скоро может серьёзно заболеть и тогда, по всей вероятности, его существование на острове Святой Елены не затянется более чем на год или два. Сэр Хадсон довольно раздражённым тоном спросил: «А почему он не совершает прогулок?» Я вкратце перечислил губернатору некоторые из им же самим введённых ограничений: среди них — назначение часовых на пост у ворот в сад, в котором Наполеон ранее гулял в шесть часов вечера, когда наступало прохладное время дня. Сейчас же в это время часовые имели приказ никого не выпускать в сад.
Сэр Хадсон возразил мне, заявив, что часовые заступали на этот пост не в шесть часов, а с наступлением захода солнца. Я объяснил его превосходительству, что солнце заходит сразу же после шести часов вечера и, учитывая особенности климатических условий в тропиках, сумерки на острове Святой Елены крайне непродолжительны. Губернатор тут же послал за капитаном Попплтоном и потребовал, чтобы тот ему объяснил, в каких местах на посты назначаются часовые и какие они получают приказы. Капитан Попплтон информировал губернатора, что приказы часовым отдаются устно, и в связи с этим постоянно возникают недоразумения по поводу их толкования.
После разговора с капитаном Попплтоном сэр Хадсон Лоу сказал мне, что он считает весьма странным тот факт, что генерал Бонапарт не совершает прогулок верхом в сопровождении британского офицера. Я высказал предположение, что Наполеон и совершал бы, возможно, такие прогулки, если бы они были хорошо организованы. Например, если бы в тот момент, когда он садится на лошадь, офицера посылали наблюдать за ним на некотором расстоянии, то я уверен, что Наполеон не подал бы вида, хотя прекрасно понимал, чем занимается офицер. Поскольку речь зашла об этом, то я добавил, что сам Наполеон намекнул мне, что будет делать вид, что не замечает того человека, который будет следовать за ним, при условии, что при этом не будет официально объявлено, что за ним идет слежка. Сэр Хадсон ответил, что он подумает об этом предложении, и затем попросил меня дать ему письменное заключение о состоянии здоровья Наполеона; предупредив меня при этом, что, когда я буду писать это заключение, я должен не забывать, что жизнь одного человека не идет ни в какое сравнение с теми бедами, которые он может натворить, если вдруг окажется на свободе; и что я должен помнить, что генерал Бонапарт уже был проклятием для всего мира и явился причиной гибели многих тысяч людей.
7 ноября. Наполеону намного лучше, он почти не жалуется на недомогание.
8 ноября. Наполеон задал мне много вопросов, касающихся анатомии и психологии. Он рассказал, что в течение нескольких дней занимался изучением анатомии, но почувствовал отвращение, вплоть до тошноты, при виде изображенных на макетах вскрытых человеческих тел с их внутренностями и отказался от дальнейших попыток добиться прогресса в познании этой науки. После непродолжительного изложения им его идей о человеческой душе как таковой я затронул тему поведения поляков, служивших в армии Наполеона, которые, как я заметил, были ему очень преданы. «А! — воскликнул император. — Они были очень преданы мне. Нынешний вице-король Польши был со мной во время моих кампаний в Египте. Я сделал его генералом. Большинство моей старой польской гвардии сейчас выступает против политики, проводимой Александром. Поляки — храбрый народ и они — прекрасные солдаты. Во время холодов, которые преобладают в северных странах, польские солдаты более предпочтительны, чем французские».
Я спросил Наполеона, являются ли польские солдаты такими же хорошими, как и французские, в условиях менее сурового климата. «О, нет, нет. В других странах, с менее холодным климатом, французский солдат намного лучше. Комендант Данцига рассказывал мне, что во время суровой зимы, когда термометр показывал восемнадцать градусов мороза, было просто невозможно назначить французских солдат стоять на посту в качестве часовых, в то время как польским солдатам было все нипочём. Понятовский, — продолжал Наполеон, — обладал благородным характером, он был преисполнен чести и мужества. Если бы я добился успеха в русской кампании, то, в соответствии с моим намерением, я бы сделал его королём Польши».
Я спросил Наполеона, что, по его мнению, стало главной причиной неудачи его военной кампании в России. «Холод, преждевременный холод и московский пожар, — ответил Наполеон. — Я опоздал на несколько дней — я изучил данные о погодных условиях за последние пятьдесят лет. Сильнейшие холода никогда не начинались примерно до 20 декабря. Но на этот раз они начались на двадцать дней раньше. Пока я был в Москве, термометр показывал три градуса мороза. Такую погоду французы могли выдержать с легкостью; но, когда мы выступили из Москвы, температура воздуха упала до восемнадцати градусов мороза, и, соответственно, почти все лошади пали. В одну ночь я потерял тридцать тысяч лошадей. Из пятисот единиц артиллерии, которые были в моем распоряжении, мы были вынуждены оставить большую часть. Мы не могли из-за недостатка лошадей вести разведку или выслать передовой отряд на лошадях, чтобы найти дорогу. Солдаты пали духом, доходили до сумасшествия и были близки к состоянию полнейшего смятения. Любой пустяк мог испугать их до крайности. Было достаточно четырёх или пяти вражеских солдат, чтобы привести в ужас целый батальон. Вместо того чтобы держаться вместе, солдаты блуждали поодиночке в поисках огня. Солдаты, когда их посылали в головную походную заставу, вместо того чтобы выполнять свои обязанности, покидали посты и уходили в поисках тепла в домах. Одни бродили вразброд и становились лёгкой добычей для врага. Другие же ложились где попало, засыпали с небольшим кровотечением из ноздрей и уже во сне умирали. В таком положении погибали тысячи. Поляки сумели не потерять всех своих лошадей и сохранить масть своей артиллерии, но французы и солдаты других национальностей более не были похожи на самих себя. Особенно пострадала кавалерия. Не думаю, что из сорока тысяч удалось спасти более трех.
Если бы не этот пожар Москвы, я должен был добиться успеха. Я бы там пережил зиму. В том городе насчитывалось около сорока тысяч жителей, находившихся на положении рабов. Ибо вы должны знать, что русская аристократия держала своих вассалов на положении, близком к рабству. Я бы провозгласил свободу для всех рабов в России и уничтожил вассалитет и аристократизм. Это обеспечило бы мне союзническую поддержу со стороны громадной и могущественной массы людей. Я бы тогда или добился заключения мира уже в Москве, или на следующий год двинулся на Петербург. Александр был уверен в этом и отправлял свои бриллианты, ценности и корабли в Англию. Если бы не этот пожар, то я бы добился всего. За два дня до пожара я победил русскую армию в великом сражении под Москвой; я атаковал русскую армию силой в двести пятьдесят тысяч человек, окопавшихся в траншеях по самые уши, и со своими девяносто тысячами полностью разгромил их. Семьдесят тысяч русских пали на поле сражения. Они имели наглость заявить, что именно они одержали победу, хотя уже через два дня я вошёл в Москву.
Я был в самом центре прекрасного города, имевшего запасы провизии на целый год, так как в России всегда заготавливают провизию на несколько месяцев до наступления морозов. Запасов всякого рода было предостаточно. Дома местных жителей были хорошо обеспечены, и многие владельцы домов даже оставляли своих слуг, чтобы они обслуживали нас. Во многих домах их владельцы оставляли записки с просьбой к французским офицерам аккуратно обращаться с их мебелью и с другими вещами; они оставили все необходимое для наших нужд и надеялись вернуться домой через несколько дней после того, как император Александр урегулирует со мной все проблемы. В городе остались многие дамы. Они знали, что я был в Берлине и в Вене с моими армиями и никакого вреда не наносил местным жителям; и, более того, они ожидали скорого мира. Мы лелеяли надежду с комфортом устроиться на зимних квартирах в ожидании неминуемого успеха весной.
Через два дня после того, как мы вошли в Москву, был обнаружен первый пожар, который поначалу не дал повода для беспокойства, поскольку предполагалось, что он был вызван нашими солдатами, которые разожгли костры слишком близко от деревянных домов. Я был очень рассержен этим случаем и издал строгий приказ по этому поводу командирам полков и другим частям французской армии. На следующий день число пожаров увеличилось, но всё еще не до такой степени, чтобы забить тревогу. Однако, опасаясь, что пожары могут добраться до нас, я отправился верхом к месту происшествия и дал указание об их ликвидации. На следующее утро подул сильнейший ветер, и огонь от пожаров стал распространяться с необычайной скоростью.
Несколько сотен негодяев, нанятых для этой цели, рассеялись по всему городу и спичками, которые они прятали под одеждой, поджигали столько домов с наветренной стороны, сколько возможно, что было весьма легким делом, учитывая то обстоятельство, что дома были построены из легковоспламеняющихся материалов. Все это, а также сильнейший ветер сводили все попытки потушить пожары к нулю. Я сам чуть не стал жертвой пожара. Для того чтобы показать пример другим, я отважился шагнуть через языки пламени, в результате чего подпалил волосы и брови, а на спине загорелась моя одежда; но все наши попытки покончить с пожарами были напрасными, так как русские уничтожили насосы для тушения, и если таких насосов было свыше тысячи, то изо всех них, я думаю, мы могли найти лишь один годный.
Кроме того, мерзавцы, нанятые Ростопчиным, бегали по всем кварталам города, занимаясь поджогами домов. В этом им очень сильно помогал ветер.
Это ужасное пожарище, охватившее весь город, уничтожило всё. Я был готов ко всему, но только не к этому. Это не было предусмотрено, ибо кто мог подумать, чтобы сама нация подожжет собственную столицу. Однако сами местные жители делали все, что было в их силах, чтобы потушить пожар, и некоторые из них погибли, пытаясь сделать это. Они также приводили к нам немало поджигателей со спичками, спрятанными в их одежде, так как мы сами никогда бы не смогли обнаружить поджигателей среди мужиков. Я приказал расстрелять двести таких негодяев. Если бы не этот фатальный пожар, то мы бы имели всё, что хотела армия; прекрасные зимние квартиры; магазины, заполненные до отказа всякого рода товарами; и следующий год все решил бы. Александр согласился бы на мир, или я был бы в Петербурге».
Я спросил Наполеона, не думал ли он, что сможет полностью покорить Россию. «Нет, — ответил Наполеон, — но я бы вынудил Россию подписать со мной такой мир, который соответствовал бы интересам Франции. Я запоздал на пять дней с отходом из Москвы. Несколько генералов, — продолжал он, — сгорели в собственных постелях. Сам я оставался в Кремле до тех пор, пока все вокруг не было охвачено пламенем. Пожар в Москве разрастался, охватив огнем склады с китайскими и индийскими товарами и несколько лавок, торговавших керосином и спиртными напитками. От взрыва содержимого лавок пламя вырвалось нарушу, разметав все вокруг. Я выехал из Кремля в загородный дворец императора Александра, находившийся на расстоянии в одно лье от Москвы.
Вы можете представить себе интенсивность пожара в городе, если я вам скажу, что мы едва могли прислонить ладони к стенам и к окнам дворца, выходящим в сторону Москвы, так сильно они накалились от бушевавшего пожара. Это был потрясающий вид разлившегося моря огня, когда всё небо было в облаках пламени. Горы чередующихся красных языков пламени, подобно громадным морским волнам, то взмывали вверх, образуя огненное небо, то обрушивались вниз, становясь сплошным океаном огня. О, это было наиболее грандиозное и величественное зрелище, которое когда-либо созерцал мир! Ну-ну, доктор»[8].
9 ноября. Беседовал с императором на тему религии. Я обратил внимание Наполеона на то, что в Англии существуют различные точки зрения о его вере.
В последнее время некоторые люди предполагали, что он является приверженцем римско-католической церкви. «Я верю всему, — ответил Наполеон, — чему верит церковь. Бывало, я часто устраивал в своем присутствии диспуты епископа Нанта с папой римским. Папа римский хотел восстановить монашеский статус. Мой епископ обычно говорил ему, что император не возражает, чтобы тот или иной человек в душе был монахом, но он возражает против того, чтобы разрешить любому обществу монахов существовать публично. Папа римский хотел, чтобы я исповедовался. От этого я всегда уклонялся, повторяя: «Святой отец, в настоящее время я очень занят. Вот когда постарею…» Я получал удовольствие от бесед с папой римским, который был добрым стариком, хотя и упрямым.
Существуют так много различных религий, — продолжал Наполеон, — или их разновидностей, что очень трудно знать, какую именно следует избрать.
Если бы какая-то религия существовала со дня сотворения мира, то я думаю, что именно она и являлась бы истинной. А так я придерживаюсь той точки зрения, что каждый человек должен продолжать оставаться верен той религии, в которой он был воспитан, той религии, которая была религией его отцов.
Каково ваше вероисповедание? — «Протестант», — ответил я. — «А ваш отец также был протестантом?» Я ответил: «Да». — «Тогда продолжайте быть приверженцем этого вероисповедания».
Во Франции, — продолжал Наполеон, — во время приёма гостей я в равной степени принимал и католиков, и протестантов. Я одинаково вознаграждал священников и той, и другой церкви. Я отдал протестантам прекрасную церковь в Париже, которая раньше принадлежала иезуитам. Для того чтобы предотвратить любые ссоры на религиозной почве в местах, где находятся и католическая, и протестантская церкви, я запретил и той, и другой звонить в колокола для сбора верующих на богослужение в церквах до тех пор, пока их священники не обратятся за разрешением звонить в колокол, указав, что их обращение является результатом желания и просьбы прихожан обеих церквей. Тогда разрешение выдавалось на год, и если по истечении этого года обращение не было возобновлено обеими сторонами, то разрешение теряло свою силу.
Этим самым я воспрепятствовал возникновению ссор, так как католические священники поняли, что они не могут звонить в свои колокола до тех пор, пока протестанты не получат аналогичную привилегию.
Существует связь между животными и Богом. Человек, — добавил Наполеон, — является более совершенным животным, чем остальные животные. Он размышляет лучше. Но откуда нам известно, что животные не имеют собственного языка? Я придерживаюсь той точки зрения, что присущее нам высокомерие заставляет нас сказать «нет», потому что мы не понимаем их. Лошадь обладает памятью, знанием и чувством любви. Лошадь отличает своего хозяина от слуг, хотя последние находятся с ней чаще. У меня самого была лошадь, которая отличала меня от всех других людей, и, когда я сидел на ней, она ясно показывала своё понимание того, что её всадник превосходит всех других, окружавших его, тем, что она выделывала антраша и двигалась с гордо поднятой головой. Она также никому не позволяла оседлать себя, за исключением одного конюха, который постоянно ухаживал за ней. Когда конюх ехал на ней, то ее движения были совсем другими, казалось, она сознает, что позволила ехать на себе человеку, подчиненному ее хозяину. Когда я терял дорогу, то обычно бросал вожжи, и она всегда находила правильный путь в местах, где я со всей моей наблюдательностью и хвалёными познаниями не мог этого сделать.
Кто может отрицать ум собак? Существует связь между всеми животными и всем живым. Растения — тоже живые; и в мире растений и животных существуют ступени развития вплоть до человека, который один является высшим существом по сравнению со всеми другими существами. Но один и тот же дух оживляет их всех в большей или меньшей степени.
Этот губернатор, — добавил Наполеон, — закрыл для меня дорожку, которая вела к садам Восточно-Индийской компании, где я обычно гулял, так как это — единственное место, защищенное от пыльных бурь, что было, как я полагаю, по его мнению, слишком большой поблажкой для меня. Я уверен, что он задумал что-то дурное. Но меня это мало беспокоит, ибо когда время человека приходит, он должен уходить».
Я взял на себя смелость спросить его, был ли он фаталист. «Конечно, — ответил Наполеон, — в такой же степени, как турки. Я был им всегда. Когда судьба проявляет волю, ей следует подчиниться».
Задал Наполеону несколько вопросов о Блюхере. «Блюхер, — заявил Наполеон, — очень храбрый солдат, прекрасный рубака. Он подобен быку, который закрывает глаза и, не видя опасности, бросается напролом. Он совершил тысячу ошибок, и, если бы не благоприятные для него обстоятельства, я мог неоднократно взять в плен его и большую часть его армии. Он упрям и неутомим, он ничего не боится и очень предан своей стране; но в качестве генерала он лишен всякого таланта. Я помню, когда я был в Пруссии, он обедал вместе со мной после того, как сдался в плен, и тогда он производил впечатление самого заурядного человека».
Говоря об английских солдатах, он заметил: «Английскому солдату не откажешь в храбрости, в этом он превосходит всех, а английские офицеры обычно — благородные люди, но, однако, я не думаю, что они способны осуществлять большие маневры. Думаю, что если бы я командовал ими, я мог бы добиться от них многого. Тем не менее, я пока недостаточно знаю их, чтобы высказать о них окончательное мнение. Я беседовал об этом с Бингемом, и хотя он придерживается другой точки зрения, я бы изменил вашу систему. Вместо хлыста я бы вел их за собой под знаменем чести. Я бы внедрил в их умы принцип соперничества. Я бы повышал в чине каждого заслуживающего это солдата, как я практиковал подобное во Франции. После сражения я собирал офицеров и солдат и задавал вопрос: кто лучше всех проявил себя? Кто был самый храбрый? И повышал в чине проявивших себя наилучшим образом в сражении и способных читать и писать. Тех, кто не мог ни читать, ни писать, я заставлял учиться ежедневно по пять часов, пока они в достаточной мере не овладевали грамотой, после чего я повышал их в чине. Что можно было ожидать от английской армии, если бы каждый солдат надеялся стать генералом, если он хорошо сражается?
Однако Бингем говорит: большая часть английских солдат — просто животные, которых надо подгонять палкой. Но, конечно, английским солдатам необходимо привить чувства, достаточные для того, чтобы, по крайней мере, они вышли на уровень, превышающий уровень солдат других стран, где не используется унизительная система хлыста. Никакой униженный солдат не пригоден к воинской службе. Бингем говорит, что в солдаты по своей воле идут только отбросы общества. Но причина этого как раз и заключается в этом позорном наказании. Я бы отменил это наказание и сделал так, чтобы даже положение рядового солдата рассматривалось как оказание чести лицу, носящему это звание. Я бы действовал так, как я делал это во Франции. Я бы поощрял молодых образованных людей, сыновей купцов, молодых джентльменов и других вступать в армию в качестве рядовых солдат и повышал их в чине, в зависимости от их заслуг. Я бы заменил плеть заключением в тюрьму, посадив провинившихся на хлеб и воду, презрением товарищей по оружию и другими наказаниями. Когда солдат унижен и обесчещен арестантской одеждой, он не думает о славе и о чести своей страны. Какую честь может иметь солдат, которого высекли перед строем его товарищей? Он теряет все чувства достоинства, и если противник лучше оплатит его работу, то он вскоре будет сражаться против своих же бывших товарищей.
Когда австрийцы овладели Италией, то они тщетно пытались из итальянцев сделать солдат. Они или сразу дезертировали, как только их набирали в армию, или же, когда их заставляли выступать против врага, немедленно убегали при первом же выстреле. Было просто невозможно сохранить хотя бы один полк. Когда же я овладел Италией и стал набирать солдат в армию, то австрийцы смеялись надо мной и говорили, что всё это напрасно, что они пытались это сделать в течение продолжительного времени и что не в характере итальянцев сражаться и становиться хорошими солдатами. Несмотря на это, я призвал в армию много тысяч итальянцев, которые сражались так же храбро, как и французы, и не покинули меня, когда я стал жертвой превратностей судьбы. И в чём заключалась причина поведения итальянских солдат? Я запретил порку и палки, которые применяли австрийцы. Я способствовал продвижению по службе тех, кто был талантлив, и многих из них сделал генералами. Террор и плеть я заменил честью и соперничеством».
Я спросил Наполеона о его мнении относительно сравнительных качеств русских, прусских и немецких солдат. Наполеон ответил: «Солдаты меняются, иногда они бывают храбрыми, иногда трусливыми. Я видел русских солдат в сражении при Эйлау, они демонстрировали чудеса храбрости: среди них было много героев. В битве под Москвой они, зарывшись по самые уши в траншеи, позволили мне с моими девяносто тысячами солдат одолеть их армию в двести пятьдесят тысяч. В сражении под Иеной и в других битвах той кампании пруссаки бежали в беспорядке с поля боя, словно стадо овец; но потом они сражались храбро. Я придерживаюсь того мнения, что сейчас прусский солдат по своим боевым качествам превышает австрийского солдата. Французские кирасиры были лучшими кавалеристами в мире. Нет лучшего наездника в мире, чем мамелюк, когда он один, но мамелюки не могут успешно сражаться, когда они выступают как единый отряд. Как партизаны казаки остаются непревзойдёнными, а поляки преуспевают в качестве уланов».
Я спросил его, как он считает, кто является лучшим генералом среди австрийцев. «Принц Карл, — ответил Наполеон, — хотя он и совершил массу ошибок. Что касается Шварценберга, то ему нельзя поручать командовать и шестью тысячами солдат».
Затем Наполеон заговорил об осаде Тулона, припомнив, что он взял в плен генерала О’Хара. «Могу сказать, — заявил он, — собственными руками. Я соорудил замаскированную батарею из восьми 24-фунтовых пушек и 4-х мортир, чтобы открыть огонь по форту Мальбоске (думаю, что это был он), который находился в руках англичан. Сооружение батареи было закончено вечером, и я намерен был открыть огонь батареи по форту утром. Пока я давал распоряжения в другой части армии, к батарее пришло несколько депутатов Конвента. В те дни депутаты конвента иногда появлялись в армиях, чтобы руководить их операциями. Эти идиоты приказали батарее открыть огонь, и артиллеристы подчинились их указаниям. Как только я увидел, что батарея преждевременно открыла огонь, я тут же понял, что английский генерал атакует батарею и, весьма вероятно, захватит её, так как ещё не были приняты меры для её поддержки. И действительно О’Хара, увидев, что огонь с этой батареи заставит его войска уйти из Мальбоске, из которого я бы захватил форт, возвышавшийся над гаванью, принял решение атаковать батарею.
Соответственно рано утром он во главе своих войск совершил вылазку и практически захватил батарею и оборонительные рубежи слева, которые я создал (Наполеон в этом месте рассказа набросал на листке бумаги план положения батареи), а оборонительные рубежи справа были заняты неаполитанцами. Пока он был занят тем, что заклёпывал пушки, я выдвинулся вперёд с тремястами или четырьмястами гренадёрами, совершенно незамеченными, через узкий проход, прикрытый оливковыми деревьями, который сообщался с батареей, и открыл по его войскам плотный огонь.
Удивленные англичане поначалу предположили, что неаполитанцы, заняв оборонительные рубежи справа, приняли их за французов и стали кричать, что это неаполитанские канальи открыли огонь по ним (ибо даже в то время ваши войска презирали неаполитанцев). О’Хара выбежал из расположения батареи и бросился к нам навстречу. Когда он бежал, его ранил в руку сержант, а я, стоявший в самом начале узкой тропы, схватил его за мундир и столкнул назад в самую гущу моих солдат, считая, что это полковник, так как на мундире у него была пара эполет. Когда его вели в тыл наших войск, он стал кричать, что он главнокомандующий англичан. Он думал, что наши солдаты собираются покончить с ним, так как в то время существовал ужасный приказ Конвента не давать никакой пощады англичанам. Я подбежал к солдатам и помешал им расправиться с англичанином. Он очень плохо говорил на французском; и так как я понял, что он вообразил, что его собираются убить, то я сделал всё в моих силах, чтобы успокоить его, приказал немедленно забинтовать его рану и оказать посильное внимание. Уже потом он умолял меня дать ему официальную бумагу с отчётом о том, как он был взят в плен, чтобы показать её своему правительству в своё оправдание.
Эти болваны, депутаты Конвента, — продолжал Наполеон, — хотели сначала атаковать и взять штурмом город; но я объяснил им, что город очень сильно защищён и что, атакуя его, мы потеряем много людей; что лучше было бы стать полными хозяевами форта, который господствовал над гаванью, и тогда англичане либо будут взяты в плен, либо будут вынуждены сжечь большую часть флота и на оставшихся кораблях удалиться восвояси. Мой совет был принят; и англичане поняв, что их ждёт, подожгли свои корабли и оставили город. Если бы подул южный ветер, то все они попали бы в плен. Корабли поджёг Сидней Смит, и они бы все сгорели, если бы испанцы вели себя правильно. Это был самый прекрасный фейерверк, который можно было придумать.
Эти неаполитанцы, — продолжал Наполеон, — самые подлые канальи во всем мире. Мюрат погубил меня, когда выступил во главе их против австрийцев. Когда старик Фердинанд услыхал об этом, он расхохотался и на своём жаргоне заявил, что они поступят с Мюратом так же, как поступили с ним раньше, когда Шампонье со своими десятью тысячами французов разогнал сто тысяч неаполитанцев, словно стадо баранов. Я запретил Мюрату что-либо делать: так как после моего возвращения с Эльбы между мною и императором Австрии было достигнуто соглашение, что я отдам ему Италию, а он не присоединится к коалиции против меня. Именно это я ему обещал, и я бы выполнил своё обещание; но этот глупец, несмотря на мои указания оставаться на месте и вести себя тихо, двинулся со своим сбродом в Италию, где он лопнул, словно мыльный пузырь. Император Австрии, узнав об этом, сразу же пришёл к выводу, что Мюрат действовал в соответствии с моим приказом и что я обманул его; и сознавая, что он раньше предавал меня, он предположил, что я не намерен верить ему, и принял решение попытаться сокрушить меня всеми своими силами.
Дважды Мюрат предавал и губил меня. Ранее, когда он бросил меня, и присоединился к союзникам со своими шестьюдесятью тысячами солдат и тем самым вынудил меня оставить в Италии тридцать тысяч своих солдат, когда я так нуждался в них в других местах. В то время его армия была хорошо укомплектована французским офицерским составом. Если бы не это поспешное выступление Мюрата, русские бы отступили, так как они и не думали наступать в том случае, если Австрия откажется присоединиться к коалиции; таким образом Англия бы осталась в одиночестве и с радостью подписала мирное соглашение».
Наполеон подчеркнул, что он всегда хотел заключить мир с Англией. «Пусть ваши министры говорят что хотят, — заявил он, — я же всегда был готов заключить мир. К тому времени, когда скончался Фокс, всё было за то, чтобы осуществить это. Если бы лорд Лодердейл вёл себя искренне с самого начала, мир также был бы заключён. До начала прусской кампании я дал ему понять, что в его интересах убедить своих соотечественников заключить мир, поскольку мне бы хватило двух месяцев, чтобы стать хозяином Пруссии; по той самой причине, хотя Россия и Пруссия, объединившись, могли бы противостоять мне, сама Пруссия в одиночестве была против меня бессильна. Русским, чтобы успеть подойти на помощь Пруссии, требовался трёхмесячный походный марш; и так как я имел разведывательные данные о том, что в план проведения Пруссией военной кампании входит зашита Берлина — вместо отступления из него, чтобы дождаться помощи русских, — то я бы разгромил прусскую армию и взял Берлин до прихода русских, которым потом, когда они остались одни, я бы легко нанёс поражение. Поэтому я советовал лорду Лодердейлу воспользоваться моим предложением мира до того, как Пруссия, которая была вашим лучшим другом на континенте, будет разгромлена. Полагаю, что после этого моего совета лорд Лодердейл вел себя честно: он написал вашим министрам письмо с рекомендацией о мире; но они отвергли предложение о мире, думая, что король Пруссии во главе армии в сто тысяч солдат сможет одержать победу в схватке со мной и что это моё поражение будет означать мою гибель. Вполне возможно. Иногда одно сражение решает все, но иногда какой-нибудь пустяк решает судьбу сражения. Последовавшие события, однако, подтвердили, что я был прав: после Иены Пруссия стала моей. После Тильзита и Эрфурта письмо, содержавшее предложения о мире и подписанное императором Александром и мною, было направлено вашим министрам, но они отказались принять наши предложения».
В ответ на моё замечание о том, что вторжение в Испанию оказалось для него весьма неблагоприятной политической акцией, Наполеон ответил: «Если бы правительство, которое я там установил, осталось у власти, то это было бы самой лучшим делом, которое когда-либо случалось в Испании. Я бы возродил испанцев, я бы сделал из них великую нацию. Вместо ничтожного, слабоумного и суеверного рода Бурбонов я бы установил для них новую династию, которая бы ничего не навязывала стране, за исключением добра. Вместо наследственного рода невежд испанцы имели бы монарха, способного возродить нацию. Возможно, что Франции повезло, что моя политика в Испании не увенчалась успехом, поскольку Испания стала бы для Франции могущественным соперником. Я бы ликвидировал суеверие и духовенство, а также упразднил инквизицию и монастыри, прибежище для этих ленивых скотов в монашеских одеяниях. По крайней мере, я бы сделал их священников безобидными существами. Партизаны, которые так храбро сражались против меня, теперь сетуют по поводу своих успехов. Когда я был в последний раз в Париже, я получал письма от Мины и от многих других предводителей испанских партизан, умолявших о моей помощи, чтобы согнать с трона своих монахов».
Затем Наполеон сделал несколько замечаний в адрес губернатора, чьё поведение он противопоставил той открытой и непритворной манере, которая отличала поведение сэра Джорджа Кокбэрна. «Хотя адмирал был суров и груб, — заявил Наполеон, — но он, тем не менее, не был способен на подлые поступки. Он не замышлял чего-либо отвратительного, и поэтому ничего непостижимого и таинственного в его поведении не было. Я никогда не подозревал его в каких-нибудь дурных замыслах. Хотя он мог мне и не нравиться, тем не менее у меня не было оснований презирать его. Будучи тюремщиком, адмирал был добр и человечен, и мы должны быть благодарны ему; поскольку он был нашим хозяином, то у нас были причины быть недовольными им и жаловаться на него. Этот же тюремщик лишает меня всяких стимулов к жизни. Если бы это не было проявлением трусости и если бы от этого ваши министры не получили удовольствие, то я бы избавился от жизни. Я живу ради славы. В том, что я влачу подобное существование, заложено гораздо больше мужества, чем если бы я прекратил его. Этот губернатор ведёт двойную переписку с вашими министрами, подобную той, которой пользуются все ваши послы: одна предназначена для того, чтобы обманывать весь мир в тех случаях, когда их нет-нет да и обязывают опубликовать письма, а другая, когда в письмах сообщается истинное положение, предназначена для них самих».
В свою очередь я высказался в том смысле, что я верю, что послы и другие официальные лица во всех странах пишут два вида докладов, один — для публики, а другой — содержащий вопросы, не подлежащие разглашению.
«Совершенно верно, синьор врач, — подтвердил Наполеон, добродушно взяв моё ухо, — но во всём мире не существует более макиавеллистического кабинета министров, чем ваш. Такова ваша система. Это, а также свобода вашей прессы обязывает ваших министров предоставлять некоторую отчётность о своих делах в распоряжение народа, и поэтому они хотят иметь возможность обманывать публику; но так как для них необходимо знать правду только для себя и только в собственных интересах, то поэтому они ведут двойную переписку; одна — официальная и фальшивая, рассчитанная на то, чтобы, будучи опубликованной, одурачить страну, или на случай, если её затребует парламент; другая же — личная и правдивая — предназначена для строгого хранения, является их личной собственностью и не сдаётся в архив. Действуя таким образом, они ухитряются представлять Джону Буллю все в таком виде, в каком им будет угодно. Эта система обмана не нужна в стране, где отсутствует традиция обнародования официальных документов; если монарх не желает предавать гласности что-либо, то он и не дает никаких объяснений; поэтому нет необходимости приукрашивать отчетность или официальную переписку, чтобы обманывать народ. По этим причинам в ваших документах содержится больше фальсификаций, чем в подобных документах любой другой страны.
10 ноября. Написал заявление сэру Хадсону Лоу, в котором выразил своё мнение о том, что дальнейшее постоянное пребывание Наполеона в четырёх стенах и отсутствие прогулок на свежем воздухе грозит серьёзным заболеванием, которое, по всей вероятности, может оказаться для него фатальным.
12 ноября. Имел продолжительную беседу с Наполеоном, который принимал ванну. Спросил его мнение о Талейране.
«Талейран, — ответил он, — самый подлый из всех биржевых игроков. Он — развращённый человек, предавший все партии и всех людей. Недоверчив и осмотрителен; всегда в душе предатель, но всегда в сговоре с судьбой. Талейран относится к своим врагам так, словно в один прекрасный день они станут его друзьями; и к друзьям — словно им предстоит стать его врагами. Он талантливый человек, но продажен во всём. С ним невозможно что-либо решить, если не подкупить его. Короли Вюртемберга и Баварии столько раз жаловались на его жадность и вымогательство, что я отобрал у него портфель министра; кроме того, я выяснил, что он разгласил некоторым интриганам самую сокровенную тайну, которую я вверил ему одному. В душе он ненавидит Бурбонов. Когда я вернулся с Эльбы, Талейран написал мне из Вены, предлагая свои услуги и предательство по отношению к Бурбонам при условии, что я прощу его и вновь буду к нему благосклонен. Он оспаривал ту часть моей прокламации, в которой я заявлял, что существуют обстоятельства, против которых невозможно устоять. Он с этим не согласился, сославшись на некоторые из них. Но я посчитал, что как раз их и следует исключить, и отказался принять его предложение, так как если бы я кого-то не наказал, то это вызвало бы возмущение».
Я спросил Наполеона, верно ли то, что Талейран советовал ему свергнуть с трона короля Испании, и упомянул, что герцог Ровиго рассказывал мне, что Талейран заявил в его присутствии: «Ваше высочество никогда не будет в безопасности на вашем троне, пока кто-либо из Бурбонов будет сидеть на своём троне». Наполеон ответил: «Это правда, он советовал мне делать все возможное, чтобы нанести вред Бурбонам, которых он ненавидел».
Наполеон показал мне шрамы от двух ран; один из них, над левым коленом, был очень глубоким. Этот шрам он получил во время своей первой кампании в Италии. Рана была настолько серьёзной, что хирурги пребывали в сомнении: нет ли необходимости ампутировать ногу. Наполеон пояснил, что когда он получал ранения, то это всегда держалось в секрете, чтобы не волновать солдат. Другой шрам был на пальце ноги в результате раны, полученной в сражении при Экмюле.
«Во время осады Акры, — продолжал Наполеон, — когда нас обстреливал артиллерийским огнём Сидней Смит, снаряд упал к моим ногам. Два солдата, стоявшие рядом, схватили снаряд и, отбросив его, тесно прижались ко мне, один спереди, а другой сбоку, образовав из своих тел защитное прикрытие, чтобы снизить эффективность разрушительного действия снаряда, который взорвался и засыпал нас песком. Мы свалились в воронку, образованную в результате взрыва; один из солдат был ранен. Обеих солдат я произвёл в офицеры. Уже после один из них потерял ногу в сражении под Москвой и командовал в Винсенсе, когда я покинул Париж. Когда русские потребовали от него сдачи Винсенса, он им ответил, что, как только они вернут ему ногу, потерянную под Москвой, он сразу же сдаст крепость. Много раз в моей жизни, — продолжал он, — я был спасён солдатами и офицерами, заслонявшими меня.
В сражении под Арколой, когда я шёл вперёд, полковник Мурон, мой адъютант, бросился передо мной, прикрыл меня своим телом и получил рану, которая предназначалась мне. Он упал мне в ноги, а его кровь струёй хлынула мне в лицо. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти мою. Думаю, никогда ещё солдаты не выказывали такую преданность, какую мои солдаты демонстрировали в отношении меня. Никогда ни одному человеку так преданно не служили его войска. С последней каплей крови, вытекавшей из их вен, солдаты кричали: «Да здравствует император!»
Я спросил его, если бы он выиграл сражение при Ватерлоо, согласился бы он на Парижский договор. Наполеон ответил: «Я бы, конечно, утвердил его.
Сам бы я не пошёл на заключение подобного мира. Охотнее, чем согласиться на гораздо лучшие условия договора, я бы отрёкся от трона; но, выяснив, что он уже заключён, я бы согласился на него, потому что Франция нуждалась в отдыхе».
13 ноября. Сэр Хадсон Лоу направил указание графу Лас-Казу уволить его нынешнего слугу и заменить его солдатом, которого он, губернатор, послал для этой цели. Граф ответил, что сэр Хадсон Лоу властен отобрать у него слугу, но что он не может заставить его (Лас-Каза) взять в услужение другого; что потеря слуги, учитывая нынешнее болезненное состояние здоровья его сына, безусловно создаст определённые неудобства для графа; но что если его слуга будет уволен, то граф не согласится с выбором нового слуги сэром Хадсоном Лоу. Капитан Попплтон написал сэру Хадсону Лоу о нежелании графа Лас-Каза принять предложение губернатора. Я же информировал губернатора о том, что солдат, которым он хотел заменить слугу графа, ранее работал в Лонгвуде, но от его услуг там отказались из-за его приверженности к пьянству. Тогда Сэр Хадсон Лоу попросил меня сообщить Попплтону, что прежний слуга графа Лас-Каза может продолжать работать у графа до тех пор, пока он (губернатор) не подыщет другого человека, которым был бы удовлетворён граф Лас-Каз. Губернатор также просил меня передать графу, что он лично займётся поиском подходящего человека. Я информировал губернатора о том, что намерен нанести визит г-ну Бакстеру, чтобы воспользоваться его рекомендациями в отношении состояния здоровья молодого Лас-Каза, которое стало внушать некоторые опасения.
По поручению сэра Хадсона Лоу передал его сообщение графу Лас-Казу. Граф мне ответил: «Если бы губернатор сообщил, что он не хочет, чтобы мой слуга оставался со мной, или что он был бы рад, если бы я уволил этого слугу, и при этом он даёт мне две недели на поиски другого слуги, то я бы немедленно простился со своим слугой и, более чем вероятно, попросил губернатора прислать мне другого; но так как он не сказал мне ни слова, я не приму нового слугу по его указанию. Он обращается со мной так, как вел бы себя капрал. Адмирал, даже если бы я был для него неприятен, никогда бы не отобрал у меня слугу из чувства мщения».
17 ноября. Рацион для Лонгвуда по приказу сэра Хадсона Лоу уменьшен на два фунта мяса ежедневно в связи с отбытием слуги, который получал лишь один фунт. Количество бутылок вина также уменьшилось на одну.
Возчики, которые доставляют в Лонгвуд провизию, рассказывают, что грязное бельё всего персонала Лонгвуда, когда его привозят в город, часто подвергается тщательному осмотру сэром Томасом Ридом. Графиня Бертран отправила в город сундук со своим грязным бельём и несколько романов, которые она одолжила у мисс Чесборо до того, как сэр Хадсон Лоу прибыл на остров. Книги были положены на бельё и сундук был вскрыт. Сэр Томас Рид заявил, что это факт явился нарушением официальных правил поведения французов на острове, и поэтому мисс Чесборо следует выслать с острова. Затем он тщательно осмотрел бельё графини, сделав ряд замечаний, недопустимых с точки зрения такта и уважения к прекрасной половине человечества.
Рассказал императору о том, что мне сообщили, что он спас жизнь маршала Дюрока во время первой кампании в Италии, когда Дюрока схватили и приговорили к смертной казни как эмигранта; что, как утверждалось, и стало причиной большой преданности Дюрока к императору вплоть до часа его смерти. Наполеон удивлённо спросил: «Ничего подобного, кто рассказал вам эту сказку?» Я ответил, что слышал сам, как об этом не раз говорил маркиз Моншеню на званом обеде. «В этой истории нет ни одного слова правды, — заявил Наполеон. — Я забрал Дюрока из артиллерийского обоза, когда он был ещё мальчиком, и покровительствовал ему до самой его смерти. Но я предполагаю, что Моншеню рассказал об этом потому, что Дюрок происходил из старого аристократического рода, что в глазах этого болвана является единственным источником заслуги. Он презирает всякого, чей аристократический род не насчитывает более ста лет, как его собственный. Это из-за таких, как Моншеню, и возникла главная причина революции. До неё такой человек, как Бертран, который стоит целой армии из одних Моншеню, не мог стать даже лейтенантом в то время, как старики, впавшие в детство, подобные Моншеню, ходили в генералах. Боже, помоги стране, которой правят люди такие, как Моншеню. В моё время большинство генералов, чьими подвигами так гордится Франция, были выходцами из класса плебеев, столь презираемых Моншеню».
22 ноября. Сэр Хадсон Лоу прислал в Лонгвуд указания о новом снижении норм рациона на мясо и вино.
В городе встретился с бароном Штюрмером, с которым немного побеседовал. Ему очень хотелось повидаться с Наполеоном. Барон Штюрмер сообщил мне, что сэр Хадсон Лоу, дав полномочным представителям разрешение заходить за внутренние ворота Лонгвуда, потребовал от них, чтобы они поручились, что не будут разговаривать с Наполеоном, не получив предварительно согласия на это от него (губернатора).
23 ноября. С мыса Доброй Надежды прибыл сэр Пултни Малькольм. Наполеону очень хотелось получить от него свежие газеты. Я пытался добыть несколько экземпляров, но мне сообщили, что губернатор забрал себе все без исключения газеты.
25 ноября. Возвращаясь из города в Лонгвуд, встретил сэра Хадсона Лоу, разъезжавшего вверх и вниз по дороге. Когда я подошёл к его превосходительству, он торжествующе заявил: «Вы можете встретить вашего друга Лас-Каза, взятого под стражу». По прошествии нескольких минут я встретил графа Лас-Каза, направляющегося под охраной Причарда, губернаторского адъютанта, в коттедж «Ворота Хата». События развивались следующим образом: около трёх часов дня сэр Хадсон Лоу, в сопровождении сэра Томаса Рида, майора Горрекера и трёх драгун, приехал в Лонгвуд. Вскоре за ними в Лонгвуд последовали капитан Блэкни и глава местной полиции. Сэр Хадсон и майор Горрекер отъехали немного влево, в то время как остальные проследовали в комнату капитана Попплтона, сначала приказав команде солдат из охраны следовать за ними к дому. Сэр Томас приказал капитану Попплтону послать за графом Лас-Казом, который был у Наполеона. После того как они немного подождали, от Наполеона вышел Лас-Каз, и когда он направлялся в свою комнату, то был арестован Ридом и главой полиции, забравшими при этом одежду и личные вещи графа. Бумаги графа были запечатаны в конверт сыном Лас-Каза, который после этого под охраной проследовал в коттедж «Ворота Хата», где остался со своим отцом под охраной офицера 66-го полка, не допускавшего к ним никого, за исключением губернатора и членов губернаторского штаба. Как выяснилось, граф передал письмо, написанное на куске шёлка, Скотту, своему слуге, который с этим письмом должен был отправиться в Англию. Скотт сообщил о письме своему отцу, который и привёл его к г-ну Баркеру и от него к губернатору, который и отправил его в тюрьму, предварительно ознакомившись с письмом.
Вечером был у Наполеона, который, как оказалось, был в полном неведении относительно намерений Лас-Каза. «Я уверен, — заявил Наполеон, — что ничего существенного в письме не было, ибо Лас-Каз — честный человек и слишком предан мне, чтобы предпринять что-либо важное, не поставив меня в известность о своих планах. Вы можете положиться на то, что это письмо предназначалось для «Миледи» с жалобами на поведение губернатора и на его придирки к нам, или для его банкира, так как он располагает четырьмя или пятью тысячами фунтов в одном из лондонских банков. Эти деньги лежали в банке для моих нужд, и Лас-Каз не хотел, чтобы его письмо проходило через руки губернатора, так как никто из нас ему не доверяет.
Если бы Лас-Каз ознакомил меня со своим планом пересылки письма, то я бы остановил его; не потому, что я не одобряю его попытку предать гласности наше положение на острове, совсем наоборот; но я не одобряю метод, с помощью которого он пытался сделать это. Для меня совершенно непостижимо, как такой способный человек, как Лас-Каз, мог сделать послом раба, который не может ни читать, ни писать, направив его в качестве своего посланца в шестимесячную поездку в Англию, где он никогда не был, никого не знает, и которому, в любом случае, не разрешили бы покинуть остров. Я могу только объяснить это предположением, что тяготы обрушившихся на нас бедствий вкупе с печальной ситуацией, сложившейся с его сыном, приговорённым к смерти от неизлечимой болезни, отрицательно подействовали на его здравый смысл. Обо всей этой истории мне хотелось бы знать заранее. Я сожалею, что всё так случилось, ибо люди станут обвинять меня в том, что я был причастен к плану Лас-Каза, и будут весьма низкого мнения о моём разуме, предположив, что я дал согласие на такой легкомысленный заговор.
Я бы порекомендовал ему попросить какого-нибудь порядочного человека сделать так, чтобы в Англии узнали о нашем положении и чтобы он передал письмо принцу-регенту; но вначале попросить его дать слово сохранять в тайне обращение к нему, если он предпочтёт отказаться от данного ему поручения. Если он предаст нас, то тем хуже для него. Лас-Каз хранит у себя записи о моих кампаниях в Италии и всю официальную переписку между адмиралом, губернатором и Лонгвудом; и мне известно, что он вёл дневник, содержащий отчётность обо всём, что проходило здесь, на острове, а также много историй, связанных с моим именем. Я попросил Бертрана отправиться в «Колониальный дом», чтобы забрать все эти материалы. Это наименее интересная часть моей жизни, так как она освещает только её начало; но мне не хотелось бы, чтобы эти материалы оставались у губернатора.
Я не уверен, — продолжал Наполеон, — что в письме Лас-Каза содержится что-то существенное, в противном случае он бы познакомил меня с этим письмом; хотя я полагаю, что этот губернатор напишет в Англию об этом письме массу лжи. Однажды в Париже, после моего возвращения с Эльбы, я обнаружил в личных бумагах г-на Блакаса, которые он бросил в спешке, сбежав из Тюильри, одно письмо, написанное горничной моей сестры Полины, по-видимому, в момент приступа гнева. Полина — очень красивая и грациозная женщина. В письме горничной даётся описание её привычек, её одежды, её гардероба и всего того, что она любила; описание того, как мне нравилось доставлять ей радость; как я лично надзирал над тем, как обставляли мебелью её будуар; каким удивительным человеком был я; как однажды вечером я сильно обжёг палец и лишь облил его чернилами из бутылки, внешне не обращая внимания на боль, и многих других пустяков, возможно, достаточно правдивых. В текст этого письма г-н Блакас вставил ужасные истории, фактически делая намёки на то, что я спал с моей сестрой; и на полях письма рукой автора интерполяции было написано: «отпечатать для публикации».
26 ноября. Наполеон в ванной. Спросил меня, слышал ли я ещё чего-нибудь о Лас-Казе; признал, что очень сожалеет по поводу его потери. «Лас-Каз, — заявил Наполеон, — единственный из наших французов, кто может хорошо говорить по-английски и объяснить английский текст так, чтобы я был полностью удовлетворён. Теперь я не могу читать английскую газету. Госпожа Бертран прекрасно понимает английский язык; но вы же знаете, что даму нельзя беспокоить, Лас-Каз был необходим мне. Попросите адмирала проявить интерес к судьбе этого бедняги, который, я в этом уверен, не сказал больше того, что было в письме Монтолона. Он умрет под тяжестью всех этих бед, так как не обладает крепким физическим здоровьем, а вскоре прекратит существование его несчастный сын».
Наполеон спросил, здорова ли госпожа Бертран, и сказал, что он думает, что она подозревает, что её мать или скончалась, или очень серьёзно больна. «Эти креолки, — заметил Наполеон, — очень чувствительны. Жозефина была склонна к нервным потрясениям, когда попадала в бедственное положение. Она была действительно очаровательной женщиной — элегантной, привлекательной и приветливой. Она была самой миловидной дамой Франции. Она была богиней костюмов, законодательницей всех мод; все, что она надевала, становилось элегантным; и она была такой доброй, такой человечной — она была лучшей женщиной Франции».
Затем разговор коснулся сражения при Аустерлице. Наполеон рассказал, что накануне сражения король Пруссии подписал соглашение о коалиции против него. «Хаугвиц, — продолжал рассказывать он, — пришёл ко мне, чтобы сообщить это, и посоветовал подумать о мире. Я ответил: «Само сражение, которое приближается, решит всё. Я думаю, что я одержу в нём победу, и если это случится, то я продиктую условия мира такими, какие отвечают моим целям. Теперь же я ничего не хочу слушать». Ход сражения подтвердил мои ожидания: я одержал настолько убедительную победу, что она позволила мне диктовать те условия мира, которые меня устраивали». Я спросил его, привлёк ли он Хаугвица на свою сторону.
Наполеон ответил: «Нет, но он придерживался той точки зрения, что Пруссия никогда не должна играть роль первой скрипки в делах континента; что она была всего лишь второразрядной державой и соответственно этому и должна была вести себя. Даже если бы я проиграл сражение, то я ожидал, что Пруссия не совсем охотно присоединится к коалиции, так как, естественно, в её интересах было сохранение равенства сил в Европе, а этого бы не произошло, если бы она присоединилась к тем, кто, в случае моего поражения, стал бы намного сильнее. Кроме того, усилились бы ревность и подозрения, и союзники не стали бы доверять Пруссии, которая предавала их и раньше.
Я отдал Ганновер пруссакам с той целью, чтобы поссорить их с англичанами, вызвать войну и выгнать англичан с континента. Король Пруссии оказался достаточным болваном, чтобы поверить, что он сможет удержать для себя Ганновер и при этом по-прежнему поддерживать мирные отношения с англичанами. Подобно сумасшедшему он затем ринулся войной на меня, побуждаемый на это королевой и принцем Луи вкупе с другими молодыми людьми, которые убедили его в том, что Пруссия достаточно сильна даже без помощи России. Прошедшие две недели убедили его в обратном». Я спросил, что бы он делал, если бы король Пруссии присоединился к союзникам со своей армией до начала битвы при Аустерлице. «А, г-н доктор, тогда бы это полностью изменило положение вещей».
Он восхищался королём Саксонии, который, как он сказал, был действительно хорошим человеком; король Баварии — просто хороший человек; король Вюртемберга — человек весьма талантливый, но беспринципный и злой. «Александр и король Вюртемберга, — заявил Наполеон, — единственные монархи в Европе, обладающие способностями».
27 ноября. Наполеон очень обеспокоен тем обращением, которому подвергается Лас-Каз, а также тем, что удерживают его собственные бумаги. Он сказал, что если бы в письме Лас-Каза содержались данные о подготовке заговора, то губернатор мог бы понять это после десятиминутного внимательного прочтения письма. Также достаточно нескольких минут, чтобы увидеть, что материалы о кампаниях в Италии и другие материалы ничего изменнического не содержат. И уж всем законам противоречит то обстоятельство, что в чужих руках удерживаются материалы, принадлежащие ему (Наполеону).
«Возможно, — заявил он, — что в один прекрасный день здесь появится губернатор, который скажет, что ему намекнули о том, что в стадии обсуждения находится план заговора с целью обеспечить мой побег с острова. Какие у меня есть гарантии того, что, когда я почти завершу рукопись истории моей жизни, он не конфискует у меня все материалы? Это верно, что я могу хранить рукописи в собственной комнате и с парой пистолетов в руках я могу разделаться с первым же человеком, кто туда войдёт. Я должен сжечь всё, что написал. В этом мрачном обиталище подготовка моих рукописей скрашивала моё времяпрепровождение и, возможно, они могли бы представить интерес миру, но с этим сицилийским тюремщиком никаких гарантий не существует. Он грубо нарушает все законы и попирает порядочность, вежливость и общепринятые нормы поведения в обществе. Он приходит к нам со зверской радостью в глазах, потому что получил возможность оскорблять и мучить нас. Окружая наш дом своими подручными, он вместе с ними напоминал мне дикарей с островов в южных морях, пляшущих вокруг пленников, которых они собираются пожирать. Скажите ему, — продолжал он, — то, что я говорил о его поведении». Опасаясь, что я забуду, он во второй раз повторил свою фразу о дикарях и заставил меня произнести ее вслух после него.
Поехал в коттедж «Ворота Хата», чтобы встретиться с сэром Хадсоном Лоу, пославшим за мной драгуна. Когда я приехал, его превосходительство сообщил мне, что рукописи о кампаниях в Италии и официальные материалы будут высланы в Лонгвуд на следующий день, и попросил меня сообщить генералу Бонапарту, что все его рукописи хранятся в неприкосновенности и все личные бумаги и материалы будут возвращены; что же касается дневника Лас-Каза, то, как сказал губернатор, в отношении дневника он переговорит с графом Бертраном.
Я информировал его превосходительство о том, что Наполеон отрицает всякую возможность того, что ему что-либо было известно о задуманном плане графа Лас-Каза переправить письмо в Англию. Я добавил, что полностью уверен в том, что, пока письмо Лас-Каза не было конфисковано, Наполеон находился в полном неведении в отношении намерений Лас-Каза. Сэр Хадсон ответил, что он в этом сомневается. Губернатор просил меня передать это генералу Бонапарту. Губернатор был счастлив, что его интуиция его не подвела, когда он составлял мнение о слуге графа Лас-Каза.
После беседы с губернатором я посетил молодого Лас-Каза, который был очень плох. Всё время, пока я осматривал больного, в комнате находился сэр Томас Рид.
Когда я покидал комнату, сэр Томас сказал мне, что «старший Лас-Каз вёл себя настолько дерзко по отношению к губернатору, что последний дал указание, чтобы графу Лас-Казу было запрещено видеться с кем-либо, если при этом не присутствует кто-нибудь из губернаторского штаба».
Возвратившись в Лонгвуд, я передал Наполеону сообщение губернатора и информировал его о том, что видел часть его материалов в запечатанном конверте. Когда же я ему сказал, что губернатор сомневается в том, что Наполеон никакого отношения к делу с письмом Лас-Каза не имел, то Наполеон заявил: «Если бы я знал об этом и не принял мер, чтобы помешать этому, то я был бы хуже буйного сумасшедшего, которого надо связать. Я предполагаю, что он думает, что существует некий заговор, чтобы организовать мой побег с острова. Я могу с уверенностью сказать, что, когда я покинул Эльбу с восьмьюстами человек и дошёл до Парижа, пройдя всю Францию, у меня в мыслях не было никакого плана заговора, кроме понимания чувств французской нации».
Затем Наполеон послал за Сен-Дени, который делал копию экземпляра дневника Лас-Каза, и спросил его, что это был за дневник. Сен-Дени ответил, что это был дневник, в котором записывалось всё интересное, что происходило со дня вступления на борт корабля «Беллерофонт»; в дневник записывались разные истории о различных лицах, о сэре Джордже Кокбэрне и других. «Как он характеризовался?» — спросил Наполеон. «Так себе, сир». — «Было написано, что я называл его акулой?» — «Да, сир». — «А что было написано о сэре Джордже Бингеме?» — «Только хорошее, и о полковнике Уилксе тоже». — «Было ли написано что-либо компрометирующее о ком-либо?» (названы три или четыре имени) — «Нет, сир». — «Что-нибудь об адмирале Малькольме?» — «Да, сир». — «Говорилось ли там, что я заявил: «Посмотрите на лицо истинного англичанина?» — «Да, сир, он очень хорошо характеризовался». — «Что-нибудь о губернаторе?» — «Очень много, сир», — ответил Сен-Дени, не в силах скрыть улыбку. «Написано ли там, что я сказал: «Это отвратительный человек и его лицо — самое отвратительное из всех, которые я когда-либо видел?» Сен-Дени ответил утвердительно, но добавил, что выражения императора часто смягчались. Наполеон спросил, описана ли в дневнике история с чашкой кофе для губернатора? Сен-Дени ответил, что не помнит этого. «Записано ли в дневнике, что я называл его сицилийским тюремщиком?» — «Да, сир». — «Это его настоящее имя», — заявил император.
Наполеон заговорил о своём брате Жозефе, которого он характеризовал как исключительно выдающуюся личность. «Его добродетели и разнообразие талантов свойственны человеку, которому по сердцу ближе личные проблемы; и именно для них природа и создала его: он слишком добр для того, чтобы стать великим человеком. У него отсутствуют амбиции. Мы с ним очень похожи, но его внешность более привлекательна, чем моя. Он чрезвычайно начитанный человек». Я обратил внимание на то, что каждый раз, когда речь заходила о Жозефе, Наполеон говорил о нём с нежным чувством.
29 ноября. Несколько дней я чувствовал себя плохо из-за болезни печени. Эта болезнь чрезвычайно распространена на острове и часто заканчивается летальным исходом. Обнаружив, что ее симптомы в значительной степени обострились в результате частых поездок, которые я был вынужден совершать в город и в «Колониальный дом», я счёл необходимым обратиться к д-ру МакЛину из 53-го пехотного полка с просьбой обильно пустить мне кровь. В самом конце процедуры в мою комнату вошёл сэр Хадсон Лоу. Я информировал его о том, что заявил Наполеон, а именно: «Какие я могу иметь гарантии того, что в один прекрасный день (когда я почти завершу рукопись истории моей жизни) здесь не появится губернатор и под каким-нибудь предлогом не конфискует ее у меня?» Сэр Хадсон ответил: «Его хорошее поведение и является упомянутой гарантией!»
Вскоре после этого я встретился с Наполеоном в его комнате. Он был весьма доволен тем, что получил свою рукопись о кампаниях в Италии, и добавил при этом, что потребует возвращения и других бумаг. «Этот губернатор, — сказал он, — если бы он обладал каким-нибудь тактом, не стал бы читать работу, в которой его поведение представлено в истинном свете. Его должно было мало обрадовать сравнения, проведённые между ним и Кокбэрном, особенно тогда, когда упоминается о том, что я заявил, что адмирал был грубым человеком, но неспособным на подлый поступок; но его преемник способен на всё. Однако я доволен, что он прочитал это, так как он будет знать наше действительное мнение о нём».
Пока он говорил всё это, моё зрение потеряло ясность, всё стало плыть перед глазами, и я упал на пол в обморочном состоянии. Когда я пришёл в чувство и открыл глаза, то никогда не забуду того, что предстало перед моим взором: это было лицо Наполеона, склонившегося надо мной и рассматривающего меня с выражением большой озабоченности и тревоги.
Одной рукой он расстёгивал воротник моей рубашки, а другой подносил к моим ноздрям флакон с уксусом. Он снял с меня галстук и облил моё лицо одеколоном. «Когда я увидел вас падающим на пол, — сказал он, — то сначала подумал, что вы поскользнулись; но, увидев, что вы лежите без движения, предположил, что вас хватил апоплексический удар; однако заметив, что ваше лицо покрылось смертельной бледностью, неподвижные губы побелели, дыхание практически не ощущалось, а щёки опали, я тут же пришёл к заключению, что это глубокий обморок, или ваша душа покинула этот мир».
В этот момент в комнату вошёл Маршан, которому Наполеон приказал дать мне воды, настоянной на цветках апельсинового дерева, которая была любимым лекарственным средством Наполеона. Когда он увидел меня падавшим на пол, то в спешке порвал шнурок от колокольчика. Он рассказал мне, что приподнял меня с пола, усадил в кресло, сорвал с шеи галстук, опрыскал лицо одеколоном и водой и спросил меня, действовал ли он правильно. Я подтвердил, что он сделал всё, как нужно, как врач, который бы поступил именно так при подобных обстоятельствах; единственным исключением было то, что вместо того, чтобы оставить меня в положении лёжа, он усадил меня в кресло. Когда я покидал комнату, то услыхал, как он полушёпотом приказал Маршану последовать за мной, опасаясь, что со мной произойдёт новый приступ.
1 декабря. Наполеон, осведомившись о состоянии моего здоровья и о воздействии на меня ртути, сказал, что он хотел бы, чтобы Лас-Каз покинул остров, так как его пребывание на острове Святой Елены в течение трех или четырех месяцев не принесет никому никакой пользы. «Следующим, — заявил он, — кого вышлют с острова под каким-нибудь предлогом, будет Монтолон, так как они видят, что он является самым полезным для меня другом, который всегда старается утешить меня и предвосхитить мои желания. Они более несчастливы, чем я. Я никого не вижу; они же служат объектом ежедневных оскорблений и унижений. Они не могут говорить, они не могут писать, они не могут выходить из дома без того, чтобы постоянно не подчиняться унизительным ограничениям.
Я сожалею, что два месяца назад они все не уехали. У меня достаточно сил, чтобы одному противостоять всей этой тирании. Держать их здесь ещё несколько месяцев означает лишь одно: продлить их агонию. После того как они будут высланы, вслед за ними вышлют и вас, и тогда злодеяние будет завершено. Они подвержены любому капризу, который по своему выбору навязывает им деспотичная власть, а они при этом не защищены никакими законами. Он в одном лице тюремщик, губернатор, обвинитель, судья, а иногда и палач; так было, например, когда он схватил этого уроженца Ост-Индии, рекомендованного в качестве хорошего слуги генералу Монтолону этим храбрым человеком, полковником Скелтоном. Губернатор появился здесь и собственными руками схватил этого слугу под моими окнами. Ему больше подходит профессия полицейского агента, чем роль представителя великой страны. Положение солдата лучше, чем их положение, поскольку если ему предъявлено обвинение, то его должны судить в соответствии с существующими правовыми нормами, прежде чем он может быть наказан. В самой худшей подземной тюрьме Англии заключённому не отказывают в газетах и книгах.
Вместо того чтобы делать нас предметом каприза одного лица, — добавил Наполеон, — следовало образовать совет в составе адмирала, сэра Джорджа Бингема и двух членов совета для того, чтобы обсуждать и принимать необходимые меры в отношении нас».
3 декабря. Наполеон послал за мной в час дня. Увидел его в постели, страдающего от головной боли и общего плохого самочувствия, которому предшествовал озноб. Ночью его немного лихорадило. Я порекомендовал ему некоторые лекарственные средства и довольно настойчиво указал на необходимость следования моим советам, особенно по части прогулок вне дома, а также высказал свою твёрдую уверенность в том, что в противном случае его вскоре будет ожидать весьма тревожный приступ болезни. «И тем лучше, — ответил Наполеон, — так быстрее всё закончится».
4 декабря. Написал сэру Хадсону Лоу отчёт о состоянии здоровья Наполеона и о советах, которые я дал ему. Наполеону стало немного лучше. Обратил внимание на то, что Наполеон не в состоянии следовать данным мною рекомендациям совершать прогулки; во-первых, учитывая имеющиеся ограничения и, во-вторых, из-за неистового ветра. Когда же ветер утихает, то отсутствие тени в Лонгвуде заставляет его проводить всё своё время в четырёх стенах своей комнаты.
В Лонгвуд приехал сэр Хадсон Лоу и заявил мне, что генерал Бонапарт взял на вооружение очень плохую манеру поведения, по существу объявив ему войну, когда он (сэр Хадсон) — единственный человек, который мог оказать ему услугу и сделать условия его жизни более комфортабельными. Как заявил сэр Хадсон, граф Лас-Каз значительно изменил свое мнение о нём после их взаимных общений и более не считает губернатора деспотическим тираном, который делал всё, чтобы досаждать французам. В беседе с губернатором граф высказался об изменении своего мнения по отношению к нему и признался, что они (французы) всё представляли генералу Бонапарту в «кровавом свете»[9]. Губернатор сказал, что мне бы следовало попытаться избавить генерала Бонапарта от ошибочного мнения о нём, в отношении которого он жестоко заблуждается.
Затем он спросил меня, не высказывал ли я когда-нибудь мысль генералу Бонапарту о том, что французы, приехавшие вместе с ним на остров, хотели только одного, а именно: сделать его своим орудием, чтобы возвеличить себя, не обращая внимания на принимаемые ими для этого средства. Я ответил, что, конечно, я никогда ничего подобного ему не говорил, но что я всегда прилагал усилия, чтобы вывести его из заблуждения всякий раз, когда я понимал, что его неправильно информировали. Сэр Хадсон заявил, что министры обычно рассматривают меня в какой-то степени ответственным за то, чтобы генерал Бонапарт был правильно обо всём информирован, и за то, чтобы не было допущено никаких ложных приукрашиваний, искажений и злонамеренных умыслов в отношении того, что было сделано.
Затем его превосходительство заметил, что «генерал Бонапарт постоянно занимается самоограничением, не выходя из своей комнаты», и спросил, что бы, по моему мнению, заставило его выйти наружу? Я ответил: «Расширение границ его прогулочной зоны, упразднение некоторых ограничений и предоставление ему дома на другой стороне острова». Я добавил, что он часто жалуется, что не может прогуливаться в Лонгвуде, не страдая при этом от головной боли из-за жгучих солнечных лучей, так как в Лонгвуде невозможно спрятаться в тень от них; если же они ослабевают, то его щёки становятся воспалёнными. К тому же он простужается от неистового ветра, который продувает насквозь всё плато Лонгвуда, не имеющее укрытия. Я обратил внимание губернатора также на то, что норма отпускаемых продуктов совершенно недостаточна, в связи с чем французы ежедневно тратят семь или восемь фунтов стерлингов на необходимые им продукты, которые я и перечислил.
Сэр Хадсон Лоу ответил в связи с моим последним замечанием, что он, как известно, превысил наполовину сумму, разрешённую министрами, которые несут ответственность перед парламентом за то, чтобы расходы на содержание Лонгвуда не превышали восьми тысяч фунтов стерлингов ежегодно, и что, возможно, он (сэр Хадсон) будет вынужден в дальнейшем оплачивать избыточные расходы Лонгвуда из собственной заработной платы. Далее губернатор заявил, что полученные им инструкции были намного строже, чем те, которые в своё время получил его предшественник. Но, к сожалению, генерал Бонапарт думает, что он (сэр Хадсон) приехал сюда снабжённый более терпимыми инструкциями, чем те, которые имел адмирал: на самом деле всё обстоит как раз наоборот.
Губернатор пожаловался, что все его действия были неправильно истолкованы и искажены, а также использованы для злонамеренных умыслов. Он заверил меня в том, что британское правительство не имело желания подвергать лишениям существование генерала Бонапарта или, более того, предавать его мучениям. И дело совсем не в том, что оно опасается его самого (Бонапарта), но в том, что невоздержанные и нелояльные к своим правительствам люди в Европе могли бы использовать его имя и влияние для того, чтобы стимулировать мятежи и волнения во Франции и в других странах в целях собственного возвеличивания, а в ином случае для решения поставленных перед собой задач. Губернатор также сообщил, что с Лас-Казом очень хорошо обращаются и ему ничего не требуется. Губернатор пожелал, чтобы то, что он сказал мне, я сообщил генералу Бонапарту.
Часть высказываний губернатора я сообщил Наполеону. В связи с этим он ответил мне: «Я не верю, что он действует в соответствии с полученными инструкциями; если же это так, то он обесчестил себя, согласившись выполнять позорное поручение. Правительство, находящееся в двух тысячах лье вдали и не сведущее в отношении местонахождения острова, никогда не может давать указания в деталях; оно может давать только общие приказы, предоставив их выполнение на усмотрение местным властям. Британское правительство только предписало ему принять все меры, которые он посчитает необходимыми, чтобы предотвратить мой побег. Вместо этого со мной обращаются самым постыдным образом, недостойным человечества. Понятно, когда просто убивают человека, а затем хоронят его, но эта медленная пытка, это постепенное умерщвление человека, гораздо менее гуманно, чем если бы они приказали расстрелять меня сразу. Я часто слышал, — продолжал Наполеон, — о тирании и гнете, практикуемых в ваших колониях; но я никогда не думал, что может существовать подобное нарушение закона и справедливости, которое практикуется здесь. Из того, что я видел в вас, в англичанах, я думаю, что на земле нет более порабощённой нации, чем ваша; как я говорил полковнику Уилксу, бывшему губернатору острова…»
В этом месте монолога Наполеона я прервал его и попросил не составлять себе мнение об английской нации, взяв в качестве примера маленькую колонию, оказавшуюся в специфическом положении и подчиняющуюся военным законам. Для того, чтобы правильно судить об Англии, необходимо быть там, в Англии, и именно там он бы увидел, как мало волнуют человека в коричневом или чёрном пальто его собственные министры. «Так же говорил и старый полковник, — возразил Наполеон, — но я только говорю о вас, об англичанах, так как я вижу вас, и я нахожу вас самыми угнетёнными рабами на земле, трясущимися от страха при виде этого губернатора. Вот вам к примеру сэр Джордж Бингем, весьма порядочный человек, тем не менее он настолько запуган, что не придёт повидаться со мной из-за опасения, что может нанести обиду губернатору; другие же офицеры, как только видят нас, тут же бросаются прочь».
Я возразил Наполеону, заявив, что сэр Джордж Бингем не приходит к нему не из-за страха, а из-за свойственного ему чувства такта, что же касается других офицеров, то они должны выполнять приказы, которые получают. Наполеон ответил: «Если бы они были французскими офицерами, то они бы не побоялись высказать свою точку зрения по поводу варварского обращения, которое здесь происходит, и французский генерал, второй по старшинству, он же заместитель командующего, если бы он видел, что его страна подвергается бесчестью, как ваша, то он бы от своего имени направил письменную жалобу своему правительству. Что касается меня, — продолжал Наполеон, — то я бы никогда не стал жаловаться, если бы не знал, что по требованию страны ведётся расследование. Ваши министры обычно говорят, «он никогда не жалуется и, следовательно, он сознаёт, что с ним обходятся хорошо, и поэтому у него нет оснований для жалоб». Иначе говоря, я считаю, что для меня было бы унизительным произнести хотя бы одно слово в свою защиту; хотя у меня вызывает сильнейшее отвращение поведение этого тюремщика, я бы с большим удовольствием узнал, что получен приказ расстрелять меня — я бы чтил это как благословение».
Я сообщил Наполеону, что сэр Хадсон Лоу признался, что он очень хочет решить проблему размещения Наполеона и устроить все дела с ним мирным путём. Наполеон ответил: «Если он хочет всё устроить мирным путём, то пусть решает все дела так, как это было во времена адмирала Кокбэрна. Пусть никому не будет разрешено появляться здесь, чтобы увидеть меня, без письма от Бертрана. Если он не хочет предоставить Бертрану право выдавать людям пропуска в Лонгвуд, то пусть он сам составит список тех лиц на острове, которым он разрешает приходить ко мне с визитом, и направит этот список Бертрану, предоставив ему право давать этим лицам по списку разрешение навещать меня и писать им. Когда же на остров прибывают чужестранцы, то путь он таким же образом составит список подобных лиц с разрешением навещать нас, и во время их пребывания на острове пусть он разрешит им приходить ко мне с пропуском от Бертрана. Возможно, я бы согласился встретиться с небольшим числом подобных лиц, так как трудно различить между ними тех, кто приедет посмотреть на меня как на дикого кабана, и тех, кто руководствуется мотивами уважения ко мне; но всё же я хотел бы иметь право решать, кого я хочу видеть и кого не хочу.
Пусть он устроит всё так, как ему нравится; в его руках власть, а в моих — никакой; я — не губернатор, у меня нет участков земли, чтобы раздавать их. Пусть он отменит свои запрещения, в соответствии с которыми я не должен покидать верхнюю дорогу или заводить разговор с дамой, если встречу последнюю во время прогулки. Короче говоря, пусть он ведет себя хорошо по отношению ко мне. Если он не считает нужным обращаться со мной, как с человеком, который сыграл такую роль в мире, как я, то пусть он не обращается со мной хуже, чем с каторжником на галерах или с осуждённым преступником, так как им не запрещается говорить. Пусть он сделает всё это, и тогда я скажу, что вначале он вёл себя необдуманно, опасаясь того, что я совершу побег с острова, но когда он увидел, что совершал ошибку, то не постыдился изменить своё обращение со мной. Тогда я скажу, что у меня сложилось поспешное мнение о нём, что я ошибался.
Вы — дитя, доктор. Вы слишком хорошо относитесь к человечеству. Этот человек неискренен. Я думаю, что мнение, которое я сразу же составил о нём, правильное. Он — человек, чья природная безнравственность возрастает по мере усиления присущей ему подозрительности и страха перед возложенной на него ответственностью за сложившуюся ситуацию. Он — хитрый и мерзкий человек, абсолютно недостойный своей должности. Я бы поставил на карту свою жизнь, что если бы я пригласил сэра Джорджа Бингема или адмирала совершить со мной прогулку верхом, то прежде чем я проехался бы с одним или другим раза три, этот губернатор довёл бы до их сведения порочащие меня измышления, которые привели бы к тому, что я почувствовал себя оскорблённым из-за их отказа сопровождать меня во время этих прогулок. Он заявляет, что с Лас-Казом хорошо обращаются и что он ничего не хочет, потому что он не доводит его до состояния голода. Он действительно гнусный человек.
В его лице его собственный род полностью деградирует. Он не обращает никакого внимания на нравственные потребности, которые отличают человека от животного; его интересуют только физические и вульгарные потребности. Так же, если бы Лас-Каз был лошадью или ослом, то пучка сена было бы достаточно для того, чтобы сказать, что он счастлив: поскольку его живот набит, то поэтому все его потребности удовлетворены».
5 декабря. Имел продолжительную беседу с императором, когда он принимал ванну. Спросил его мнение об императоре Александре: «Этот человек чрезвычайно фальшив, — ответил Наполеон. — Он — единственный из трёх (Александр, Франц и король Пруссии), кто обладает каким-то талантом. Он умеет внушать доверие, большой лицемер, очень амбициозный человек, который стремится к тому, чтобы стать популярным. Его слабость заключается в том, что он уверовал себя, будто он искусен в военном деле. Ничто так ему не нравится, как получить комплименты в связи с его военными успехами, хотя всё, что исходило непосредственно от него в области военных операций, было неразумно и абсурдно.
В Тильзите Александр и король Пруссии, бывало, часто были заняты тем, что изобретали форму для драгун; проводили время в спорах о том, на какую пуговицу следует прикреплять кресты орденов, а также о другой чепухе. Они воображали себя равными с лучшими генералами Европы, потому что знали, сколько рядов пуговиц должно быть на кителе драгуна. Я едва удерживался от смеха, когда слышал, как они обсуждали всю эту чепуху с такой важностью и серьёзностью, словно планировали предстоящее сражение между двумястами тысячами солдат. Однако я поощрял их в их спорах, так как видел, что это их слабое место. Мы каждый день совершали вместе прогулки верхом. Король Пруссии был глупцом и наводил на нас такую скуку, что Александр и я часто галопом устремлялись прочь, чтобы отделаться от него».
Потом Наполеон рассказал мне о некоторых событиях своей жизни, связанных с начальным периодом военной карьеры. После окончания Бриеннского военного училища его в возрасте пятнадцати лет отправили в Парижскую военную школу, «где после вступительных экзаменов, на которых выяснилось, что я дал лучшие ответы по математике, меня определили заниматься на отделении артиллерии. После революции примерно одна треть артиллерийских офицеров эмигрировала, и я стал командиром батальона, принимавшего участие в осаде Тулона. На эту должность меня предложили сами артиллерийские офицеры, как обладающего наибольшими познаниями в артиллерийском деле. Во время осады Тулона я командовал артиллерией, руководил военными операциями против занявших город англичан и, как ранее рассказывал вам, взял в плен О’Хара. После осады Тулона я был назначен начальником артиллерии армии в Италии, и благодаря моим планам в Пьемонте и в Италии были захвачены многие важные крепости. Перед возвращением в Париж я был произведён в генералы и мне предложили командовать армией в Вандее, но я от этого предложения отказался, заявив, что эта должность подходит только жандармскому генералу. 13 вандемьера я командовал армией Конвента в Париже против мятежников, которых разгромил после скоротечного сражения.
Затем меня назначили командующим армией в Италии, где я добился славы. Ничего не было более простого, чем стремительный рост моей военной карьеры. Мое возвышение не было результатом интриги или преступления. Оно обязано специфическим обстоятельствам времени, а также тому, что я успешно сражался против врагов моей страны. Самым необычным и, я думаю, не имеющим аналогов в истории было то, что я, будучи рядовым членом общества, поднялся до удивительных высот власти, которой обладал, не совершив при этом ни единого преступления, чтобы получить её. Если бы я оказался на смертном одре, я мог бы сделать то же самое заявление».
Я спросил, правда ли, что он был обязан Баррасу за назначение в Тулон, а также то, что он когда-либо предлагал свои услуги англичанам. «И то, и другое — ложь, — ответил Наполеон. — Я познакомился с Баррасом только после освобождения Тулона. Назначению в Тулон я обязан главным образом Гаспарэну, депутату от Оранжа. Я никогда в жизни не предлагал услуг Англии и никогда не имел подобных намерений. Также я никогда не рассматривал возможность направиться в Константинополь: все эти пересуды — сплошные выдумки. Некоторое время я провел с Паоли на Корсике. Он очень симпатизировал мне, и я был к нему очень привязан. Паоли поддерживал идеи английской фракции, а я — французской. Вследствие этого большая часть моей семьи была вынуждена покинуть Корсику. Паоли часто похлопывал по моей голове, приговаривая: «Ты один из людей Плутарха». Он пророчествовал, что меня ждёт необычная судьба».
О генерале Дюгомьере Наполеон говорил как о личном друге, причём самым восторженным образом, характеризуя его как смелого и отважного офицера, достаточно самостоятельно мыслящего, чтобы привести в исполнение план, предложенный им (Наполеоном) вопреки тем планам, которые отрабатывались Комитетом общественной безопасности.
Он коснулся военной экспедиции в Копенгаген. «Эта экспедиция, — стал рассказывать Наполеон, — показала, на какие активные действия способны ваши министры: но, не говоря уже о нарушении законов наций, которое вы совершили, эта экспедиция была не чем иным, как элементарным разбоем. Я посчитал, что она нанесла вред вашим интересам, так как превратила мужественную датскую нацию в непримиримого врага Англии и практически на три года закрыла для вас север Европы. Когда я услышал об этом, то это меня обрадовало, поскольку эта экспедиция непоправимо поссорила Англию с северными странами. То, что датчане смогли предоставить мне флотилию из шестнадцати кораблей, не сыграло какую-нибудь заметную роль. У меня было более, чем нужно, кораблей, и я нуждался только в матросах, которых вы не взяли, но которых мне потом удалось получить; в то же время этой экспедицией ваши министры подтвердили свой вероломный характер и доказали, что с такими людьми, как они, не действуют ни договорённости, ни законы.
Во время войны с вами, — продолжал Наполеон, — всю разведывательную информацию из Англии я получал, прибегая к услугам контрабандистов. Они ужасные люди и ради денег готовы проявить мужество и способности, чтобы сделать всё, что угодно. Сначала им предоставили часть Дюнкерка, пределами которой они были ограничены; но так как, в конце концов, они стали выходить за эти пределы, позволять себе необузданное поведение и оскорблять всех подряд, то я приказал подготовить для них небольшой лагерь в Грейвлайне, который им не разрешалось покидать. Одно время в Дюнкерке их было свыше пятисот человек. С их помощью я получал любую информацию, которая мне была нужна. Они привозили газеты и послания от шпионов, которых мы имели в Лондоне. Эти контрабандисты забирали с собой наших шпионов из Франции, высаживались вместе с ними в Англии, несколько дней содержали их в своих домах, затем вывозили их в разные места страны, а потом, когда шпионам надо было возвращаться, привозили их обратно во Францию. Полиция имела на денежном содержании нескольких французских эмигрантов, которые постоянно передавали информацию о деятельности Вандейской партии и других в то время, когда они готовились совершить на меня покушение. Каждый их шаг был известен.
Кроме того, на денежном содержании полиции было много английских шпионов, некоторые из них были истинными мастерами своего дела. Среди них было немало и дам. Так, например, была одна очень высокопоставленная дама, которая снабжала нас весьма значительной информацией и которой иногда выплачивали вплоть до трёх тысяч фунтов стерлингов в месяц. «Они, — продолжал Наполеон, — возвращались в лодках не шире, чем эта ванна. Было просто удивительно наблюдать за тем, как они с вызывающим видом проплывали мимо ваших кораблей, вооружённых семьюдесятью пятью пушками».
Я обратил его внимание на то, что они были шпионами-двойниками и что они собранную во Франции информацию передавали британскому правительству. «Это вполне вероятно, — согласился Наполеон, — они привозили вам газеты; но я думаю, что как шпионы они вам не передавали слишком много разведывательной информации. Они — необыкновенные люди, наносившие громадный вред вашему правительству. Ежегодно они вывозили из Франции шёлка и бренди на сорок или пятьдесят миллионов. Они помогали французским пленным бежать из Англии. Родственники французов, находившихся в плену в вашей стране, обычно ездили в Дюнкерк, чтобы договориться с контрабандистами о сделке по вызволению из Англии во Францию определённого пленника. Им только требовались имя, возраст и личный опознавательный предмет или знак, благодаря которому пленник мог бы довериться контрабандисту. Обычно по прошествии небольшого времени они выполняли условия сделки; что касается таких людей, как они, то их в немалой степени отличал честный подход к решению специфических дел.
Несколько раз они предлагали привести с собой за определённую сумму денег Людовика и других Бурбонов; но они хотели поставить условие, что если они столкнутся с непредвиденными обстоятельствами или что-то помешает им выполнить задуманное, то им может быть разрешено убить всех захваченных Бурбонов. На это я бы не согласился. Кроме того, я слишком презирал Бурбонов и не опасался их: и действительно к тому времени на них не более обращали внимание во Франции, чем на Стюартов в Англии. Они также предлагали привести Дюмурьера, Сарразэна и других, которых, как они думали, я ненавидел, но я слишком презирал их, чтобы замышлять против них какие-нибудь неприятные вещи».
Затем мы перешли к обсуждению моего сообщения о том, что Лефевр Денуетт приехал в Нью-Йорк к Жозефу, брату Наполеона. Когда я спросил, не нарушил ли Лефевр своего обязательства не участвовать в военных действиях, данное в Англии, будучи военнопленным, Наполеон ответил, что Лефевр нарушил это обязательство, после чего заявил: «Много говорилось о том, что французские офицеры поступали на военную службу, нарушив тем самым данное ими в Англии обязательство военнопленного. Фактически дело обстоит таким образом, что англичане были сами первыми нарушителями данного ими обязательства, когда двенадцать из них сбежали из Франции. После этого я предложил вашим министрам, чтобы оба правительства на основе взаимности выслали обратно каждого военнопленного, независимо от звания, нарушившего данное им обязательство и сбежавшего из плена. Ваши министры отказались принять моё предложение, и я потерял интерес к этой проблеме. Я не принимал в императорском дворе тех, кто сбежал из плена. После отказа ваших министров я не поддерживал их, но и не мешал им. Ваши министры подняли большой шум по поводу французских офицеров, нарушивших свои обязательства военнопленных и после побега из Англии вновь служивших в моих армиях, хотя ваши министры отказались пойти на единственную меру, которая могла положить конец этому, а именно: обязывающую обе стороны немедленно отправлять обратно сбежавших из плена офицеров, нарушивших свои обязательства. И после всего этого ваши министры имели наглость приписать мне своё отвратительное поведение!»
Я спросил Наполеона, действительно ли некий корсиканец по имени Массериа был однажды послан к нему нашим правительством с некоторыми предложениями. Наполеон ответил: «Массериа? Да, я хорошо помню, что его привели ко мне, когда я был первым консулом. Мне представили его, соблюдая таинственность и под большим секретом, в моей комнате, когда я принимал ванну, как сейчас. Помню, как он начал говорить о каких-то политических проблемах и делать намёки о мирном договоре, но я остановил его, так как о том, что он направляется ко мне с какой-то миссией, было опубликовано в английских газетах, что мне не понравилось. Кроме того, Массериа хотя и был смелым человеком, но в то же время был и большим болтуном. Думаю, его послал сам король Георг. Массериа был республиканцем, он утверждал, что смерть Карла Первого была справедливой и необходимой».
В Лонгвуд приехала госпожа Лоу и впервые нанесла визиты графиням Бертран и Монтолон.
6 декабря. Наполеон сказал мне, что вчерашний визит госпожи Лоу в Лонгвуд представляется ему хитроумной выдумкой её супруга для того, чтобы втереть всем очки; чтобы заставить людей поверить, что, несмотря на арест Лас-Каза, губернатор хорошо относится к Лонгвуду и только выполнил свой долг; и что нет никаких оснований для слухов о плохом обращении с обитателями Лонгвуда.
Я возразил Наполеону, сказав, что госпожа Лоу всегда имела желание навестить графинь Бертран и Монтолон и воспользовалась первой же представившейся возможностью, появившейся после того, как она разрешилась от бремени. Наполеон ответил: «Я далёк от мысли, что она участвует в разработке интриг её супруга, но она выбрала для визита в Лонгвуд неудачное время. Он посылает её сюда в то время, когда незаконно содержит Лас-Каза под арестом и варварски обращается с ним. Это или хитроумная выдумка её супруга, чтобы обмануть весь мир, или же он решил поиздеваться над нашими бедами».
Я предположил, что, вероятно, — это предварительный шаг губернатора к примирению. «Нет, — возразил Наполеон, — этого не может быть. Если он в самом деле хочет примирения, то первым шагом к нему было бы устранение некоторых его бесполезных и жестоких ограничений. Вчера, после того как супруга губернатора уехала из Лонгвуда, госпожа Бертран с семьёй вышла погулять. Вернувшись, они были остановлены и практически арестованы часовыми, которые отказались впустить их, потому что было шесть часов вечера. Итак, во имя всего святого, если он имел желание примириться, то стал бы он продолжать запрещать нам прогуливаться в единственное время дня, приемлемое в эту пору года. Откровенно передайте ему, — продолжал Наполеон, — мои высказывания по этому поводу, если он спросит вас, что именно я думаю об этом визите».
7 декабря. В письменном виде передал сэру Хадсону Лоу заявление Наполеона, сообщённое мне в беседе с ним 4 декабря, о том, что было бы наилучшим способом для достижения примирения.
Имел с Наполеоном продолжительный разговор об анатомии человеческого тела. Он пожелал посмотреть несколько анатомических иллюстраций на отдельных листах. Во время осмотра листов я давал Наполеону пояснения. Он сказал мне, что одно время он пытался изучать анатомию, но у него вызвали отвращение вид и запах вскрытого трупа. Я объяснил ему, что иллюстрированные листы служат только для того, чтобы напомнить изучающему анатомию то, что он уже узнал во время действительного препарирования трупа; поэтому при изучении анатомии иллюстрированные листы никогда не могут полностью заменить препарирование. С этим Наполеон полностью согласился и добавил, что он оказывал большую поддержку училищам анатомии и хирургии и предоставлял льготы студентам медицинских учебных заведений для того, чтобы они овладевали своей профессией, не расходуя на это значительные средства.
Затем я выслушал его точку зрения о некоторых личностях, проявивших себя во время революции. «Робеспьер, — заявил он, — хотя и был кровожадным чудовищем, но всё же не до такой степени плохим человеком, как Коллот д’Эрбуа, Биллод де Варенн, Эбер, Фукье Тинвиль и многие другие. Под конец Робеспьер стремился быть более умеренным, и незадолго до своей кончины заявил, что устал от казней, и предложил умеренность в расправах с противниками революции. Когда Эбер обвинил королеву в том, что её существование противоречит самой природе, то Робеспьер предложил Эбера подвергнуть осуждению, предположив, что, выступая с подобным невероятным обвинением, Эбер намеренно стремится вызвать чувство симпатии народа к королеве, в результате чего народ может восстать и освободить её.
С самого начала революции перед глазами Людовика постоянно маячила жизнь и судьба Карла Первого. Пример Карла, который дошёл до крайности в своих отношениях с парламентом и в итоге потерял голову, во многих случаях мешал Людовику активно защищаться против революционеров, что он и должен был делать. Когда его привлекли к суду, ему следовало просто сказать, что по законам он ничего дурного не мог совершить и что его особа священна. То же самое следовало сделать и королеве. Это бы не повлияло на то, чтобы спасти их жизнь, но они бы умерли с большим достоинством. Робеспьер придерживался того мнения, что короля должны были казнить тайно.
«Какая польза, — говорил Робеспьер, — от всей этой пародии на соблюдение формальностей, когда вы идете на суд готовые приговорить его к смерти, независимо от того, заслуживает он этого или нет». Королева, — добавил Наполеон, — отправилась на эшафот с некоторым чувством радости; и действительно, для неё было облегчением расстаться с жизнью, в которой с ней обращались с таким отвратительным варварством. Если бы я, — продолжал Наполеон, — был на четыре или пять лет старше, то не сомневаюсь, что попал бы на гильотину вместе со многими другими».
10 декабря. В Лонгвуде возникла большая проблема со снабжением водой. Сэр Хадсон Лоу распорядился, чтобы за водой из Лонгвуда ездили в коттедж «Ворота Хата», вместо того чтобы забирать воду из цистерн, предназначенных для пополнения запасов воды в домашнем хозяйстве Лонгвуда. Вода в цистернах грязная, зелёного цвета и с тошнотворным запахом. В Дедвуде гораздо проще раздобыть бутылку вина, чем бутылку воды. Солдат 53-го пехотного полка ежедневно заняты тем, что перекатывают бочки с водой в свой лагерь. Это положение со снабжением воды напомнило мне мои давние времена пребывания в Египте, где мы были вынуждены покупать отвратительную воду по непомерным ценам.
Из Лонгвуда уволен мулат Чарльз, работавший слугой. Указание о том, чтобы его отправили из Лонгвуда домой, было дано сэром Хадсоном Лоу. Его превосходительство подверг Чарльза длительному допросу о том, что он видел и слышал в течение всего времени, проведённого в Лонгвуде. Дежурный офицер в Лонгвуде направил губернатору письменное заявление с просьбой предоставить повозку для доставки воды в Лонгвуд, так как вода в цистернах на исходе и плохого качества.
Наполеон пребывает в плохом настроении. Он раздражён тем, что сэр Хадсон Лоу вместо всех материалов о военных кампаниях в Италии вернул только три или четыре главы. Наполеон попросил меня сообщить сэру Хадсону Лоу, что он предполагает, что губернатор копирует его материалы и как только закончит это, тогда вернёт их.
11 декабря. Отправился в «Колониальный дом», где ознакомил сэра Хадсона Лоу с устным заявлением Наполеона. Его превосходительство был весьма разгневан этим заявлением, сказав, что если генерал Бонапарт упорствует в своем убеждении, что его материалы не возвращаются из-за того, что их копируют, и это после заверений в обратном, которые вчера сделал молодой Лас-Каз, то он (сэр Хадсон) считает его (Наполеона) недостойным того, чтобы обращаться с ним как с благородным человеком, и не заслуживающим надлежащего уважения одного джентльмена к другому. Эту фразу губернатор не только повторил дважды, но и обязал меня записать её в мою записную книжку. Он попросил меня, чтобы я в разговоре с генералом Бонапартом ни в коем случае не опускал эту фразу. Однако, после того как он несколько поостыл, его превосходительство аннулировал свои указания и вместо них попросил меня передать Наполеону свои объяснения по затронутому вопросу, а также приказал мне стереть в моей записной книжке допущенные им оскорбительные выражения.
Затем он пригласил меня в библиотеку, где, прохаживаясь, сказал: «В связи с ответом, который я написал генералу Бонапарту, ему не разрешается объезжать весь остров. Если бы в намерения министров входило только предотвращение его побега с острова, то губернатор Ост-Индийской компании реагировал бы на это так же, как и любой другой человек; но в виду имеются и другие задачи, включая материальные, которые губернатор, направленный сюда, обязан решать. Существуют весьма весомые причины, не позволяющие ему свободно общаться с местным населением. Каждый может обеспечить его безопасность, расставив около него часовых, но нам предстоит сделать намного больше». Когда я собирался покинуть библиотеку, губернатор, попросив меня вернуться к нему, сказал: «Передайте генералу Бонапарту, что ему очень повезло, что губернатор, присматривающий за ним, добрый человек. Другие на моём месте, имея в своём распоряжении полученные инструкции, приковали бы его к цепям за его поведение». Губернатор закончил беседу со мной тем, что попросил меня постараться представить Наполеону сэра Томаса Стрейнджа.
12 декабря. Передал Наполеону в наименее неприятной форме послание сэра Хадсона Лоу в соответствии с поручением последнего. Подтвердил заверение губернатора в том, что материалы Наполеона сохранялись в неприкосновенном виде, что было подтверждено письмом Эмануэля Лас-Каза, сопровождавшего посыльного с возвращёнными Наполеону материалами и подтвердившего, что неприкосновенность материалов соблюдалась. Сообщил Наполеону, что, как сказал мне сэр Хадсон Лоу, во время рассмотрения материалов, проходившего всегда в присутствии Лас-Каза, как только последний указывал на материалы, принадлежавшие ему (Наполеону), то они немедленно откладывались в сторону без какого-либо дополнительного изучения. Когда же рассмотрение всех материалов было завершено, они были опечатаны печатью Лас-Каза и более не вскрывались в отсутствие последнего.
Сообщил Наполеону, что сэр Хадсон заявил, что, далеко не побуждаемый чувством злобы или мщения, он написал письмо кабинету министров с предложением об улучшении условий содержания Наполеона на острове. Наполеон ответил, что он этому не верит.
«Что же касается его инструкций, — продолжал Наполеон, — то я не сомневаюсь в том, что если он не получал письменных указаний, то у него есть устные распоряжения…»
Затем я заговорил с ним о сэре Томасе Стрейндже. Я сообщил Наполеону, что сэр Томас Стрейндж, который был главным судьёй в Ост-Индии, очень хотел бы выразить ему своё уважение и что его намерение нанести визит в Лонгвуд не продиктовано обывательским любопытством, но является признаком того внимания, которое каждый обязан проявить по отношению к столь великому человеку, занимавшему такое высокое общественное положение в мире. Наполеон ответил: «Я не буду встречаться с человеком, который сначала не обратится к Бертрану. Тех лиц, которых будет направлять ко мне губернатор, я не буду принимать, так как в этом случае создастся видимость того, что я подчиняюсь его командам».
В этот момент в комнату вошёл граф Бертран и сообщил, что губернатор находится в Лонгвуде и хочет видеть меня. Наполеон, обращаясь ко мне, сказал: «Если он задаст вам какие-нибудь вопросы о моих намерениях, то передайте ему, что я собираюсь написать протест принцу-регенту по поводу его (губернатора) варварского поведения. Он содержит Лас-Каза под охраной, не имея для этого никаких оснований, и тем самым совершает незаконные действия. Лас-Каза следует вернуть обратно сюда, в Лонгвуд, или выслать с острова или отдать под суд. Если он намерен устранить разногласия, о чём он сообщал вам, то пусть он изменит своё поведение и восстановит тот порядок нашего пребывания здесь, который существовал во времена адмирала Кокбэрна. Что же касается визита судьи, которого он хочет направить ко мне, то передайте ему, что люди, находящиеся в гробнице, не принимают визиты, ибо он (губернатор) буквально замуровал меня в гробницу. Кроме того, в соответствии с его инструкциями, если судья не говорит по-французски, то я не могу привлечь одного из моих офицеров переводить нашу беседу, так как он запретил чужестранцам, которые могут посетить меня, разговаривать или общаться с кем-либо из моей свиты, и, более того, я потерял Лас-Каза».
Граф Бертран попросил меня сказать губернатору, что, если он (граф Бертран) увидится с сэром Томасом Стрейнджем, то он будет обязан показать ему те части губернаторских ограничений, подписанных самим губернатором, в которых он запрещает лицам, имеющих пропуск для встречи с императором, общаться со всеми членами свиты и обслуживающего персонала императора, пока они не получат на это специального разрешения.
Информировал сэра Хадсона Лоу обо всём, о чём меня просили. В связи с этим губернатор заявил, что он об этом поставит в известность лорда Батхерста. Затем он сказал, «что граф Лас-Каз последовал за генералом Бонапартом на остров Святой Елены не в силу своей привязанности к нему, но всего лишь для того, чтобы иметь возможность получать от него материалы и потом опубликовать книгу о его жизни; что генерал Бонапарт не ведает о том, что именно написал Лас-Каз, и о том, какого рода высказывания он позволял себе делать о нём; что Лас-Каз уже собрал весьма курьёзные материалы для описания истории его жизни; что министры опасаются, что некоторые невоздержанные, склонные к интриганству личности во Франции или на континенте попытаются вызвать беспорядки и новые войны в Европе, используя его (Наполеона) имя для того, чтобы добиться достижения своих целей; что генералу Бонапарту повезло, что он имеет дело с таким хорошим человеком, как он, губернатор, и т. д.»
Он вновь повторил, что не может раскрывать суть полученных им указаний, так как перед ним поставлено важное задание, которое он должен выполнить, но это задание не связано с содержанием генерала Бонапарта под арестом. После краткого разговоры на все те же темы, губернатор заявил, что он завтра даст разрешение сэру Томасу Стрейнджу и его семье встретиться с Бертраном или с кем-либо из свиты Наполеона.
Беседовал с сэром Томасом Ридом, которому сообщил об ответе Наполеона относительно интервью, которое губернатор хотел получить для сэра Томаса Стрейнджа. Сэр Томас ответил: «Если бы я был губернатором, то чёрт бы меня взял, если бы я не заставил его почувствовать, что он является узником». В связи с этим я заметил: «Пожалуй, большего вреда, чем вы уже нанесли ему, вы не можете ему нанести, разве что посадить его на цепь». — «О, — ответил Рид, — если он не станет подчиняться тому, чего я хочу, то пусть чёрт меня поберёт, если я не отберу у него книги, что я и посоветую губернатору сделать. Он — чёртов бандит и арестант, и губернатор волен обращаться с ним, как он пожелает, и никто не смеет мешать ему выполнять свой долг».
Рассказал Наполеону всё, что его превосходительство просил меня сообщить ему. Наполеон заявил, что единственный способ помешать народу использовать его имя, чтобы поднять мятеж, заключается в его казни. «Это, — заявил он, — единственный эффективный способ, и чем скорее, тем лучше. Только мёртвые не возвращаются.
Всё, что он говорит, — продолжал он, — направлено на обман судьи для того, чтобы тот мог сказать, приехав в Англию, что это мое желание — никого не принимать. Губернатор скверный человек, наделённый всей сицилийской хитростью».
13 декабря. Граф Бертран вручил капитану Попплтону опечатанное письмо Наполеона Лас-Казу с целью передачи письма графу Лас-Казу через губернатора. В шесть часов вечера драгун привёз два письма от сэра Хадсона Лоу графу Бертрану. В одном конверте вместе с возвращаемым письмом Наполеона графу Лас-Казу содержалась записка губернатора, сообщавшего, что прилагаемое письмо возвращается, так как оно оказалось опечатанным. Губернатор добавил, что он не будет передавать никаких опечатанных писем; но, даже если бы оно не было опечатанным, вопрос о том, будет оно передано или нет, решался бы в зависимости от его содержания, так как он (губернатор) не желает, чтобы поддерживалась какая-либо связь между Лонгвудом и графом Лас-Казом. В другом письме губернатор уведомлял графа Бертрана о том, что, возможно, он не станет предпринимать каких-либо шагов в отношении Лас-Каза, пока не получит от британского правительства соответствующих разъяснений.
Виделся с Наполеоном, который заявил, что считает, что ничего хорошего от губернатора ждать нельзя, поскольку у него скверные лимфы. «Ему следует, — продолжал Наполеон, — приложить несколько больших нарывных пластырей, чтобы избавиться хотя бы от части этих скверных лимф».
Наполеон завёл разговор о возможности революции во Франции: «Прежде, чем истекут двадцать лет, когда я уже умру и буду похоронен, — заявил он, — вы будете свидетелем новой революции во Франции. Невозможно, чтобы двадцать девять миллионов французов могли жить, смирившись с игом монархов, навязанных им иностранцами, против которых они сражались и проливали кровь почти тридцать лет. Разве вы может порицать французов за то, что они не хотят подчиняться игу таких животных, как Моншеню?
Вы, в Англии, любите проводить сравнение между восстановлением власти Карла Второго и реставрацией Людовика, но в них нет ни малейшего сходства. Карл был призван английской нацией на трон, который его преемник впоследствии потерял из-за той же нации; но что касается Бурбонов, то вы не отыщете и одной деревни во Франции, не потерявшей цвет своей молодёжи, пытавшейся воспрепятствовать их возвращению. Чувства французского народа можно сформулировать следующим образом: «Мы не возвращали этих негодяев; нет, те, кто разорил нашу страну, сжёг наши дома и насиловал наших жён и наших дочерей, силой посадили их на трон».
Я задал Наполеону несколько вопросов относительно доли участия Моро и Жоржа в заговоре против него. «Моро, — пояснил Наполеон, — признался своему адвокату, что он виделся и разговаривал с Жоржем и Пишегрю и что во время суда он намерен признать это. Однако адвокат отговорил его от этого, заявив, что если он признается, что виделся с Жоржем, то ничто не сможет спасти его от смертного приговора. Моро в беседе с другими двумя заговорщиками настаивал на том, что следует прежде всего убить меня; что когда меня уберут, он получит огромную власть и влияние над армией, но до тех пор, пока я буду жив, он ничего сделать не сможет. Когда его арестовали, то вручили ему документ обвинительного акта, который констатировал, что он совершил преступление, организовав заговор против жизни первого консула и безопасности республики в соучастии с Пишегрю и Жоржем. Прочитав имена этих двух, он уронил документ и потерял сознание.
«В битве при Дрездене, — продолжал рассказывать Наполеон, — я приказал атаковать войска союзников, находившиеся по обеим флангам моей армии. В то время как проводилась эта операция, центральная группировка моей армии оставалась на месте. На расстоянии примерно в 500 ярдов я заметил группу всадников, собравшихся вместе. Сделав вывод, что они пытаются проследить манёвры моей армии, я принял решение нарушить их планы и вызвал артиллерийского капитана, командовавшего батареей из восемнадцати или двадцати пушек: «Немедленно обстреляйте эту группу людей; возможно, среди них есть несколько младших генералов». Приказ был выполнен незамедлительно. Одно из пушечных ядер попало в Моро, оторвало обе его ноги и пронзило насквозь его лошадь. Я думаю, те, кто стояли рядом с ним, были убиты или ранены. Минутой раньше с ним беседовал Александр. Ноги Моро были ампутированы недалеко от места его ранения. Одна из его ног, обутая в сапог, которую хирург бросил на землю, была принесена королю Саксонии крестьянином, который сказал, что какой-то высокопоставленный офицер был ранен пушечным ядром. Король, поняв, что имя раненого офицера может быть выяснено благодаря сапогу, послал сапог мне. Сапог осмотрели в моём штабе, но всё, что можно было установить, это что сапог не был английского или французского производства. На следующий день нам сообщили, что это была нога Моро.
Ничего удивительного не было в том, — продолжал Наполеон, — что через некоторое время я приказал во время военной операции тому же артиллерийскому офицеру с теми же пушками и при схожих обстоятельствах дать залп одновременно из восемнадцати или двадцати пушек в группу офицеров, собравшихся вместе. В результате генерал Сен-Прист, ещё один француз, предатель, но человек не без таланта, занимавший командную должность в русской армии, был убит вместе со многими другими. Ничто, — продолжал император, — не является более губительным, чем одновременный залп из дюжины и более пушек в группу противника. От выстрела одной или двух пушек можно спастись, но от одновременного залпа нескольких пушек это почти невозможно.
После Эслинга, когда я приказал моей армии занять остров Лобау, в течение нескольких недель было достигнуто соглашение о прекращении огня по общему и молчаливому одобрению солдат с обеих сторон, но без участия генералов. Это прекращение огня не принесло какой-либо пользы и привело только к гибели нескольких несчастных часовых. Ежедневно я разъезжал по позициям, занятым моей армией, то в одном, то в другом направлении. Однако однажды, совершая верховую рекогносцировку местности вместе с Удино, я на минуту остановился на самом краю острова, на том месте, которое находилось на расстоянии почти ста пятидесяти метров от противоположного берега, где были позиции врага. Нас заметили и, узнав меня благодаря моей шляпе и серой шинели, навели на нас пушку с трёхфунтовым ядром. Ядро пролетело между мной и Удино в непосредственной близости от нас. Мы пришпорили наших лошадей и поспешили уехать прочь. При существовавших обстоятельствах проявление боевой активности было немногим лучше, чем элементарное убийство, но, если бы они произвели одновременный залп из дюжины пушек, они убили бы нас».
Граф Бертран вернул капитану Попплтону письмо Наполеона, на глазах капитана сломал печать на письме и заявил, что теперь оно может в таком виде быть отправлено сэру Хадсону Лоу.
Адмирал прислал в Лонгвуд немного апельсинов.
14 декабря. Наполеон чувствует себя очень нездоровым. Очень тяжело перенёс ночь. Когда в одиннадцать часов вечера пришёл в его комнату, то увидел его лежащим в постели. «Доктор, — сообщил он мне, — прошедшей ночью у меня был нервный приступ, я находился в тревожном состоянии и провёл бессонную ночь. У меня сильно болела голова, и помимо моей воли я находился в состоянии постоянного возбуждения. В какие-то моменты я терял сознание. Я поистине думал и надеялся, что наступит более сильный приступ, который сведёт меня в могилу до наступления утра. Мне казалось, что на меня словно надвигается апоплексический удар. Я почувствовал головокружение, тяжесть в голове (словно она была перенасыщена кровью) и желание встать во весь рост. Я ощущал жар в голове и вызвал своих слуг, чтобы они стали лить на мою голову холодную воду. Сначала они даже не поняли, зачем мне это требуется. Потом, когда они начали лить на меня воду, то она мне показалась горячей и пахнущей серой, хотя на самом деле она была холодной».
Выслушав его, я обратил внимание на то, что у него обильно выступает пот. Я порекомендовал ему принять меры, чтобы способствовать потоотделению. К этому времени его головная боль значительно уменьшилась. После того как я порекомендовал ему всё, что считал необходимым и полезным, он сказал: «Кое-кто живёт слишком долго». Затем он заговорил о похоронных обрядах и добавил, что, когда умрёт, то хотел бы, чтобы его тело предали огню. «Это самый лучший способ, — заявил он, — так как тогда труп не принесёт каких-либо неудобств, а что касается воскрешения, то это должно быть совершено чудом, и тому, кто властен совершить подобное чудо, будет легко воссоединить останки тела и составить вновь из пепла тело умершего».
15 декабря. Имел продолжительную беседу с сэром Хадсоном Лоу о делах Лонгвуда и о состоянии здоровья Наполеона. Его превосходительство заявил, что он полагает, что именно граф Бертран сообщил графу Лас-Казу, что он (сэр Хадсон) вышлет его с острова, если он будет настойчиво продолжать писать письма с дальнейшими клеветническими суждениями по поводу того, как плохо обращаются с генералом Бонапартом. Он потребует, чтобы он (Бертран) понёс ответственность за последствия своего поступка. Губернатор также заявил, что, поскольку речь зашла об ограничениях, на которые поступают так много жалоб, то в действительности всё в дело в том, что существует несколько отличный подход к их толкованию; так, что касается запрещения вести беседу с местными жителями, на которое жалуется генерал Бонапарт, то это был не приказ, но всего лишь просьба.
Губернатор также добавил, что Лас-Каз попытался отправить секретное послание с обвинениями против него, что равносильно удару ножа в спину человека, и что французы должны понимать, что они писали ложь, так как в противном случае они бы не боялись писать письма в Англию, используя его посредничество, поскольку он сам предлагал направлять письма через него. В своём разговоре с Бертраном он всего лишь упомянул, что в соответствии с имеющимися у него инструкциями ему следовало бы выслать Лас-Каза с острова вследствие писем, которые тот написал. Инструкции, полученные им, объяснил губернатор, были такого рода, что невозможно провести различие между пунктами, указывающими на необходимость относиться к генералу Бонапарту с большой снисходительностью, и пунктами, предусматривавшими правила и ограничения, несовместимые с первыми. Он в связи с этим запросил в своём письме министрам дальнейших разъяснений, а также рекомендовал уменьшение существующих ограничений.
16 декабря. Виделся с Наполеоном, которому сообщил то, о чём просил губернатор. Наполеон заметил по этому поводу: «Он вернул письмо с жалобами, посланное ему Монтолоном, отказавшись переправить письмо далее, в Англию; он сообщил Бертрану, что он откажется принимать письма, в которых я не именован так, как желает его правительство; и он прислал через своего начальника штаба меморандум с угрозой высылки с острова всех тех, кто осудит деятельность его и его правительства; вне зависимости от того, что именно он дал понять Бертрану, Лас-Каз, если будет продолжать жаловаться, будет выслан с острова Святой Елены. В указаниях, подобным тем, которые он получает, всегда должны быть очевидные противоречия и предоставленные на усмотрение большие полномочия; но он всё интерпретирует в наихудшем варианте и там, где есть возможность ужесточить исполнение любого указания инструкций, которое с таким же успехом можно и смягчить, он наверняка предпочтёт выбрать первое. Вот уж действительно человек, которым вместо души правит одна злоба. Он, возможно, уже видит, что зашёл слишком далеко, и теперь хочет одиозность своих действий приписать своему правительству».
18 декабря. Вместе с г-ном Бакстером навестил графа Лас-Каза и его сына. Граф сообщил мне, что губернатор разрешил ему вернуться, при определённых условиях, в Лонгвуд, но он до конца не решил, что он должен делать. Молодой Лас-Каз рассказал, что его отец опасается, что в случае его возвращения в Лонгвуд там будут относиться к нему с пренебрежением в связи с той постыдной манерой, которая сопутствовала его аресту, и с той грубостью, с которой губернаторская полиция конвоировала графа из Лонгвуда.
Возвратившись в Лонгвуд, сообщил Наполеону, что губернатор предложил Лас-Казу вернуться из «Колониального дома» в Лонгвуд. Обсудив эту новость, Наполеон заявил, что он по этому поводу ничего Лас-Казу советовать не будет. Если он вернётся в Лонгвуд, то Наполеон с радостью примет его; если он уедет с острова, то и это Наполеон воспримет с радостью; но в последнем случае Наполеон хотел бы ещё раз повидаться с ним. Он добавил, что с тех пор, как арестовали Лас-Каза, он приказал всем своим генералам покинуть остров: он будет чувствовать себя более независимым после их отъезда, так как тогда он не будет мучиться, опасаясь, что их страдания вследствие жестокого к нему отношения со стороны губернатора подтолкнут их к желанию отомстить последнему за него. «Я, — продолжал Наполеон, — не боюсь, что меня вышлют с острова».
Виделся с сэром Хадсоном Лоу, который заявил, что за исключением некоторых необходимых ограничений, он получил указание от правительства относиться к генералу Бонапарту с наибольшей снисходительностью, что он, как он считает, и делал. То, что были введены некоторые ограничения, так в этом генерал Бонапарт сам виноват, а также Лас-Каз. Он (губернатор) был очень снисходителен! Именно это он просил сообщить Наполеону. Вскоре после этого он заявил, что если граф Бертран показал его (сэра Хадсона) список ограничений сэру Томасу Стрейнджу, то он, губернатор, санкционирует высылку графа Бертрана с острова. Почти не переводя дыхания, он тут же спросил: не будет ли полезным привлечение сэра Джорджа Бингема в качестве посредника. Я ответил, что, возможно, оно и будет полезным, но поскольку сэр Джордж Бингем не говорит по-французски достаточно бегло, чтобы вступать в длительные дискуссии или рассуждения, то я придерживаюсь того мнения, что адмирал сэр Пультни Малькольм был бы гораздо лучшим посредником.
Сообщил Наполеону всё то, о чём просил сэр Хадсон Лоу. «Доктор, — заявил Наполеон, — когда этот человек имеет наглость сказать вам, человеку, который знает обо всём, что было сделано, что он относится ко мне снисходительно, то у меня нет необходимости говорить вам о том, о чём он пишет своему правительству».
Наполеон рассказал мне, что прошлой ночью у него был новый приступ, подобный тому, который случился 13 декабря, но на этот раз более сильный. «Сен-Дени, — сообщил он, — испугавшись, плеснул мне в лицо одеколон, приняв его за воду. Капли одеколона, попав мне в глаза, вызвали у меня нестерпимую боль и, несомненно, привели меня в чувство».
Сообщил Наполеону о том, что сэр Хадсон Лоу сказал по поводу посредничества сэра Джорджа Бингема. Наполеон ответил: «Возможно, это принесло бы некоторую пользу; но всё, что он должен сделать, так это не вести себя более как тюремщик, но просто стать джентльменом. Если кому-либо предстоит взять на себя обязанности посредника, то наиболее подходящим для этой роли был бы адмирал, ибо он независим от сэра Хадсона Лоу и к тому же является человеком, с кем я могу рассуждать и спорить. Но, — продолжал Наполеон, — этот губернатор — человек, которому нельзя верить. Когда ваш кабинет министров проявляет неискренность, стремится хитрить и ничего хорошего не намерен предпринимать, то в качестве посла или губернатора направляет такого повесу, как Дрейк, или такого человека, как Хадсон Лоу; когда же дело обстоит по-другому и ваш кабинет министров желает достичь примирения или относится к кому-либо с должным уважение, то к работе привлекается такой человек, как лорд Корнуолисс. Если бы Корнуолис был здесь, то он был бы более полезен, чем все ограничения, которые можно представить».
Далее Наполеон заявил, что считает, что для Лас-Каза было бы лучше вернуться в Лонгвуд, чем оставаться на острове в изоляции от всех французов или быть отправленным на мыс Доброй Надежды. Наполеон сказал, что я могу доложить губернатору то, что он сейчас сказал мне.
23 декабря. Сэр Хадсон Лоу находится в Лонгвуде; доложил ему то, что Наполеон сказал о Лас-Казе. Губернатор сообщил мне, что Лас-Каз хочет поставить условия до того, как вернётся в Лонгвуд. Сэр Хадсон попросил меня поехать в коттедж «Ворота Хата» и передать Лас-Казу то, о чём говорил генерал Бонапарт, но при разговоре с Лас-Казом не касаться каких-либо других тем. Я упомянул его превосходительству об обмороке, который случился с Наполеоном. «Было бы хорошо, — заявил сэр Хадсон Лоу, — если бы он провёл несколько ночей, подвергаясь приступам подобного рода». Я возразил ему, заявив, что вполне вероятно, что с ним может случиться апоплексический удар, который покончит с ним, и что, продолжая вести подобный образ жизни, он не сможет сохранить своё здоровье. Сэр Хадсон спросил меня, что может заставить его начать совершать прогулки. Я ответил, что для этого необходимо смягчить ограничения и снять те, на которые он особенно жалуется. Сэр Хадсон Лоу напомнил об опасности предоставлении свободы человеку, который уже принёс столько бед. Он попросил меня написать заключение о состоянии здоровья молодого Лас-Каза. Я ответил, что собираюсь нанести ему визит вместе с г-ном Бакстером. Его превосходительство объявил, что отправляется к графу Бертрану, чтобы поговорить с ним о жалобах французов.
Вернувшись от молодого Лас-Каза, я встретил сэра Хадсона Лоу, пребывавшего, судя по его виду, в весьма дурном настроении. Губернатор заявил, что какое-то время граф Бертран рассуждал достаточно резонно, но затем безрассудно принялся говорить о «нашей ситуации», словно то, что стало с графом Бертраном, имеет какое-нибудь последствие для Англии или для Европы; словно здесь присматривают не только за одним Бонапартом. Губернатор раздражённо заявил, что он не знает, чего это ради граф Бертран должен связывать свою «ситуацию» с положением Бонапарта.
Затем я виделся с Наполеоном. «Этот губернатор, — рассказал он, — встречался с Бертраном и высказал ряд предложений, но в такой туманной и загадочной форме, что невозможно было понять, что именно он имел в виду. Всё, о чём он говорит, лишено какой-либо ясности; и когда он неохотно говорит правду, то она вся окутана уловками и оговорками. Он вёл долгие переговоры о Лас-Казе, которые закончил тем, что утверждал, что Лас-Каз не был в тюрьме и никогда там не находился! Это человек, всё существо которого пронизано глупостью и ложью, слегка сдобренной хитростью. Может ли Лас-Каз выходить наружу из дома? Может ли видеться с кем-либо, будь то француз или англичанин, не считая его тюремщиков? Визиты врача в счёт не идут. Может ли он посылать или получать письма, которые не проходят в скрытом виде через руки его тюремщиков? В самом деле, — продолжал Наполеон, — я не знаю, что именно этот человек подразумевает под словами «находиться в тюрьме».
Какой же я был глупец, когда отдался вам в руки, — продолжал он, — у меня было ошибочное представление о вашем национальном характере. Я сам себе создал этакое романтическое представление об англичанах. К этому ещё добавился элемент гордости. Я считал ниже своего достоинства сдаться любому из тех монархов, чьи страны я завоевал и в чьи столицы входил с триумфом; и я решил довериться вам, кого я никогда не побеждал. Я сурово наказан за то хорошее мнение, которое имел о вас, и за то, что полагался на вас, вместо того чтобы сдаться моему тестю или императору Александру, любой из которых относился бы ко мне с величайшим уважением».
Я предположил, что, вполне возможно, Александр мог послать его в Сибирь. «Ничего подобного, — возразил Наполеон, — отложив в сторону другие мотивы, Александр, исходя из политических побуждений и из желания стать популярным, относился бы ко мне как к королю, отдав в моё распоряжение целые дворцы. Кроме того, Александр в своей сущности — щедрый человек, и ему доставляло бы удовольствие принимать меня по-царски; и мой тесть, хотя ему явно недостает ума, всё же он человек религиозный и не способен пойти на преступление или на применение жестоких мер, таких, какие практикуются здесь».
Вместе с г-ном Бакстером я нанёс визит Лас-Казу и его сыну. После этого визита я написал сэру Хадсону Лоу заключение о состоянии здоровья молодого Лас-Каза, закончив его рекомендацией отправить его в Европу для восстановления здоровья. Г-н Бакстер также написал заключение, подобному моему, а также заключение о состоянии здоровья самого графа Лас-Каза, в котором он утверждает, что вследствие того, что у него наблюдается расстройство пищеварения, возможно, смена тропического климата на холодный пошла бы ему на пользу, и что ему предпочтителен климат Европы.
25 декабря. Наполеон пребывает в хорошем настроении. Задавал много вопросов на английском языке, хотя он и произносит слова на французский лад, тем не менее он правильно подбирает их и применяет их в должном значении.
26 декабря. За мной послал сэр Хадсон Лоу. Нашёл его в городе. Он сделал мне замечание по поводу того, что моё заключение о состоянии здоровья молодого Лас-Каза имеет слишком большую политическую окраску: моё мнение должно относиться к тому, что может случится, если он останется в Лонгвуде, а также в заключении просматривается слишком много доброго чувства по отношению к «тем» людям. Я ответил губернатору, что я не мог отделить мою точку зрения от причины его заболевания и что он (губернатор) сам говорил, что если состояние здоровья сына Лас-Каза требует его отправки в Европу, то он (губернатор) не будет препятствовать этому. Сэр Хадсон ответил, что, конечно, он говорил, что если подобная мера абсолютно необходима, то он не будет ей препятствовать.
Затем он заговорил об ограничениях и показал мне письмо, которое, как он сказал, он намерен направить Бертрану. Губернатор попросил меня высказать моё мнение по поводу содержания этого письма. Прочитав письмо, я заявил его превосходительству, что, как я думаю, оно рассчитано на то, чтобы вызвать резкие замечания со стороны Наполеона; поскольку на самом деле оно оставляет нерешенные проблемы почти в том же состоянии, в каком они пребывали раньше, лишь номинально отменив некоторые ограничения. После недолгого раздумья его превосходительство, видимо, пришёл к такому же мнению, заявив, что он вновь вернётся к рассмотрению данного вопроса. В то же время он поручил мне сообщить генералу Бонапарту о том, что будут отменены несколько ограничений, особенно те, которые относятся к его беседам с посторонними лицами; помимо этого, границы Лонгвуда будут расширены и людям будет разрешено свободно посещать его, почти так же, как и во времена адмирала.
Информировал Наполеона о содержании моей беседы с губернатором. Наполеон заявил, что он хочет, чтобы условия его содержания на острове были почти такими же, как и при адмирале, и не более. Наполеон считает правильным и справедливым, если губернатор полагает, что он не должен разрешать посещение Лонгвуда первому попавшемуся на глаза жителю острова или какому-то пассажиру с корабля, бросившего якорь в гавани острова, или группе таких пассажиров или местных жителей; но в то же время он (Наполеон) считает, что большинству уважаемых пассажиров и местных жителей следует разрешать навещать его, а не одному или двум гостям, которых кто-то из губернаторского штаба или сам губернатор выберет по своему усмотрению и направит в Лонгвуд, подобно тому, как надсмотрщик, охраняющий каторжников на галерах, позволяет любопытствующему путешественнику посетить галеру, чтобы собственными глазами узреть знаменитых преступников.
«Если, — продолжал Наполеон, — я встретил человека, с которым мне интересно разговаривать (как, например, адмирал), то мне захочется встретиться с ним снова и, возможно, пригласить его к себе на обед или на завтрак, как это делалось до приезда на остров этого губернатора; поэтому мне хотелось бы, чтобы сначала губернатор послал Бертрану список тех лиц, которым он разрешает наносить нам визит; и после этого Бертран должен иметь право приглашать в Лонгвуд любого из перечисленных в списке губернатора. Я никогда не приму кого-нибудь с пропуском на руках, в котором будет указан день визита, что равносильно тому, чтобы сказать, мол, появляйся именно в этот день и показывай себя.
Я также хочу, чтобы было чётко определено наше положение на острове с тем, чтобы мои люди не подвергались оскорблениям, которые они все терпят или от того, что их держат в полном неведении относительно ограничений, вводимых губернатором, или от того, что часовые неправильно понимают полученные ими указания, или от отданных приказов, предоставляющих часовому возможность действовать по собственному усмотрению, тем самым превращая его в произвольного судью. Мелочные придирки по пустякам и унижения, которые он нас заставляет испытывать, гораздо хуже, чем предъявление серьёзных претензий.
Я готов, — продолжал он, — выслушать предложения о мерах примирения, хотя и не требую их. Но у него нет ни сердца, ни чувств. Он считает, что человек — это та же лошадь, дай ему пучок сена и крышу над головой, и больше ничего не надо для счастья. Его политика сродни политике мелких итальянских государств: писать справедливые законы и обещать, не скупясь, предоставлять видимую свободу, но затем, действуя вкрадчиво, изменять всё и вся. Его политика — это политика вкрадчивых действий».
Я спросил Наполеона, если губернатор даст согласие, а адмирал не будет возражать, то проведёт ли он переговоры с этим офицером на предмет выступления последнего в качестве посредника для того, чтобы найти пути для компромиссных решений. Наполеон ответил: «Охотно. С огромным удовольствием я рассмотрю этот вопрос лично с адмиралом, и я думаю, что мы сможем решить эту проблему за полчаса. Завтра я дам вам знать, отношусь ли я положительно к вопросу о посредничестве. Если да, то вы отправитесь к губернатору и предложите ему это».
Граф Бертран направил письмо сэру Хадсону Лоу с просьбой о том, чтобы граф Лас-Каз смог получить разрешение на посещение Лонгвуда до выезда с острова, чтобы попрощаться с императором.
27 декабря. Передал Наполеону несколько газет. Просматривая их, он обратил внимание на статью о Поццо ди Борго. «Во время революции, — сообщил Наполеон, — Поццо ди Борго был депутатом законодательного органа. Он — способный человек, интриган и хорошо знает Францию. Пока он там остаётся в качестве посла, Александр не будет уверен, что Людовик прочно сидит на троне. Когда вы увидите, что на пост посла назначен русский, то тогда вы можете сделать вывод, что Александр думает, что Бурбоны, по всей вероятности, будут продолжать править Францией».
Затем Наполеон попросил меня отправиться к губернатору и сообщить ему, «что если он желает прийти к полюбовному урегулированию проблем, то он (Наполеон) считает, что лучшим средством для этого было бы поручить адмиралу выступать в качестве посредника. Если это будет сделано, то он не сомневается в том, что проблемы могут быть урегулированы. Он сам этого хочет, поскольку ему не нравится жаловаться. Единственно, чего он хочет, так это просто жить, или, другими словами, он хочет, чтобы ограничения перестали быть причиной того, чтобы побуждать человека желать смерти. Поэтому он дал указание Бертрану прекратить подготовку письма с жалобой, которое он намеревался направить лорду Каслри для принца-регента; и что он действительно хочет, чтобы наступило примирение».
Отправился в город, чтобы передать на словах вышеупомянутое послание. Выяснилось, что незадолго до моего прихода в губернаторскую штаб-квартиру губернатор выехал из города. Сообщил о цели моей миссии сэру Томасу Риду, который предупредил меня, что ему известно, что губернатор никогда не согласится на то, чтобы разрешить адмиралу выступать в роли посредника. Так что, по мнению сэра Томаса Рида, бесполезно даже обращаться к губернатору по этому вопросу. Я возразил ему, заявив, что поскольку мне было поручено передать губернатору соответствующее послание, то я обязан сделать это, тем более что оно может принести положительный результат.
Отправился в «Колониальный дом» и передал на словах губернатору послание. Он заявил, что он бы принял предложение, но предварительно он должен решить одну весьма деликатную проблему, которая может стать препятствием для любой намеченной договорённости. Дело в том, что генерал Бонапарт попросил встречи с графом Лас-Казом перед его отъездом с острова, что расходится с важной целью, которую он (губернатор) поставил перед собой месяц назад, а именно: отменой любой связи между Лонгвудом и Лас-Казом.
Генерал Бонапарт может передать Лас-Казу важные и опасные сообщения, чтобы избежать этого, он предложит офицеру из губернаторского штаба присутствовать во время запрашиваемой беседы между генералом Бонапартом и Лас-Казом, что, по всей вероятности, может вызвать гнев генерала Бонапарта.
Затем он на листке бумаги написал следующие фразы, которые попросил меня скопировать: «Губернатор остаётся в неведении относительно того, что он когда-либо преднамеренно предоставил генералу Бонапарту какую-либо обоснованную причину для обиды или ссоры. Он с болью в сердце наблюдал за тем, как возникают недоразумения по тем вопросам, при решении которых его долг не позволяет ему отклоняться от единственно правильного пути, и это как раз те самые недоразумения, которые можно было бы устранить простым объяснением.
Губернатор вполне готов и, более того, желает воспользоваться любым средством, с помощью которого, по мнению генерала Бонапарта, можно было бы устранить подобные недоразумения».
После этого сэр Хадсон вручил мне большой пакет для графа Бертрана, в котором содержался ответ губернатора на просьбу о встрече Наполеона с Лас-Казом и, кроме того, объяснения, относящиеся к ограничениям. Некоторые из них, по словам губернатора, он хочет, чтобы были изменены; например, 5-й параграф ограничений, доведённый до сведения французов в октябре, означал всего лишь вежливую просьбу к генералу Бонапарту не подвергать себя вмешательству сопровождающего его офицера в том случае, когда генерал Бонапарт вступает в продолжительный разговор с лицами, не получившими разрешения губернатора на беседу с ним. Губернатор добавил, что он побеседует с адмиралом до того, как последний отправится на встречу с Наполеоном для обсуждения проблемы посредничества.
28 декабря. Наполеон испытывает недомогание. Он провёл неспокойную ночь и очень страдает от головной боли. Был у него в три часа дня, когда он всё ещё находился в постели, страдая от сильной головной боли. Он никого не принимал. Информировал его о том, что именно сэр Хадсон Лоу заявил о предполагаемом посредничестве. Мне не хотелось передавать Наполеону, что его превосходительство сказал о его желании повидаться с Лас-Казом, так как я посчитал, что мнение губернатора по этому вопросу обострит головную боль и послужит препятствием для столь желаемого примирения. Когда я находился в его спальне, вошёл Маршан и сообщил, что ванна, которую он заказал, не может быть готовой ввиду полного отсутствия воды в Лонгвуде. Тем не менее Наполеон выглядел достаточно довольным, лишь выразив опасение, что если сэр Пультни посетит его сегодня, то его недомогание может воспрепятствовать встрече и беседе с ним. Поэтому он попросил меня сообщить графу Бертрану, чтобы тот, в случае если приедет адмирал, пригласил его к себе домой, показал все необходимые бумаги и обговорил назревшие проблемы; при этом Наполеон добавил, что если он почувствует себя лучше, то пошлёт за ним, а если нет, то назначит для встречи следующий день.
Затем я виделся с графом Бертраном, который попросил меня объяснить значение того места в письме его превосходительства, где он пытался представить запрещение Наполеону разговаривать с незнакомцами как пример вежливости. Не будучи обученным выступать в роли специального адвоката, я несколько растерялся для того, чтобы дать какое-либо объяснение, достаточное для установления смысла губернаторской доктрины.
Сэр Пультни и госпожа Малькольм приехали в Лонгвуд и нанесли визит графам и графиням Бертран и Монтолон. Губернатор пока ещё не обращался к сэру Пультни, который, узнав о предложении быть посредником, выразил горячее желание что-либо сделать для того, чтобы улучшить отношения между Наполеоном и губернатором. Он добавил, что если ему предоставят возможность решить возникшую проблему, то он в кратчайшее время смог бы всё уладить к обоюдному согласию. Тем не менее он дал понять, что до тех пор, пока губернатор не даст ему соответствующее поручение, он по данному вопросу не станет беседовать ни с Наполеоном, ни с кем-либо из его свиты.
Вечером вместе с маршалом Бертраном встретились с Наполеоном в его спальне. Перед ним лежал пакет с письмами, который я привёз от губернатора. Наполеону только что сообщили об ответе губернатора на его просьбу о разрешении повидаться с графом Лас-Казом перед выездом последнего с острова. Наполеон заявил, что «преступники, приговорённые к смертной казни и идущие на эшафот, получают разрешение попрощаться со своими друзьями без требования, что на этой прощальной встрече должен присутствовать кто-то третий».
Наполеон был очень недоволен ответом губернатора и в сильных выражениях заявил о своём возмущении подобным варварским поведением. Он затем попросил меня повторить ответ губернатора на переданную мною просьбу, что я и сделал на английском языке с переводом на французский, а также я повторил Наполеону то, что губернатор сказал мне относительно Лас-Каза. Когда Наполеон услыхал слова губернатора: «его долг не позволяет ему», «недоразумения» и т. д., то он воскликнул: «Опять придирки! Это тот самый язык, которым он всегда пользуется. Это же настоящее оскорбление человеческому разуму. Едва ли можно ошибиться в его намерениях. Они не что иное, как нагромождение всякого рода бесполезных придирок ко мне. Не думаю, что он позволит адмиралу выступать в роли посредника. Уверяю вас, что вся эта история всего лишь ловкая проделка с его стороны и он никогда не допустит благополучного завершения дела о посредничестве».
Затем Наполеон продиктовал графу Бертрану несколько строк с выражением протеста против поведения губернатора и попросил графа переписать письмо начисто в соседней комнате. Он обратился ко мне с просьбой передать на словах губернатору те замечания, которые он высказал по поводу его поведения, и заявил, что он надеется, что адмирал не приступит к выполнению своих возможных обязанностей в качестве посредника, пока сам полностью не вникнет в суть дела, чтобы не позволить себе стать послушной игрушкой в руках губернатора, который, возможно, будет вовсю пичкать его всякой ложью. Мне будет очень жаль, — продолжал он, — если адмирал предпримет что-либо, что окончится для него неудачей, ибо я питаю к нему глубокое уважение».
29 декабря. В восемь часов утро привезли письмо от сэра Хадсона Лоу графу Бертрану. Встретился с Наполеоном в два часа дня. Он сообщил мне, что поскольку несколько дней назад губернатор выразил пожелание ознакомиться с жалобами французов, то он поручил Бертрану направить губернатору копию списка ограничений для французов с рядом замечаний его (Наполеона) с тем, чтобы губернатор мог обдумать их и принять во внимание. Наполеон также попросил написать на обратной стороне меморандума губернатора, в котором он высказал своё мнение об отношениях с французами, следующие замечания:
«1. Та линия поведения, которой следовали по отношению к обитателям Лонгвуда в течение шести месяцев, не может быть оправдана некоторыми отдельными, отрывочными фразами, взятыми из переписки с лондонским министром. Продолжительная и обширная переписка с министром представляет собой арсенал, оснащённый всеми видами оружия.
2. Последние предписания будут рассматриваться в заливе Ботаники как оскорбительные и жестокие; что бы там о них ни говорилось, но они должны противоречить воле английского правительства, одобрившего предписания, которые оставались в силе до августа сего года.
3. Все замечания, приведённые графами Бертраном и Монтолоном, оказались бесполезными. Свободная дискуссия по этому вопросу оказалась под угрозой запрета».
Эти замечания на обратной стороне губернаторского меморандума Наполеон поручил мне передать сэру Хадсону Лоу.
«Чего он может опасаться? — спросил Наполеон. — Что я попрошу Лас-Каза написать моей жене? Он сделает это и без моего поручения. Что я поведаю ему о своём настроении и намерениях? Лас-Каз уже всё знает о них. Неужели губернатор думает, что вся Европа — это пороховая бочка, а сам Лас-Каз — искра, готовая взорвать её?»
От сэра Хадсона капитану Попплтону было прислано письмо с пометкой «срочно», предназначенное для графа Бертрана. В письме сообщалось, что «с учетом обстоятельств, при которых граф Лас-Каз был вывезен из Лонгвуда, губернатор не мог разрешить Лас-Казу попрощаться с генералом Бонапартом» и т. д. Вскоре граф Бертран и барон Гурго отправились в город в сопровождении капитана Попплтона, чтобы увидеться и попрощаться с графом Лас-Казом. Трудно привести в соответствие проявленное к ним отношение в городе с теми мерами, которые практикуются сэром Хадсоном Лоу, и с той важностью, которую губернатор придает проблеме «полного прекращения» всякой связи с Лонгвудом.
Во время завтрака французы были предоставлены самим себе, за исключением капитана Попплтона, который с трудом понимает французский язык или вообще его не понимает, когда на нём говорят бегло, как это обычно делают французы, общаясь между собой. В течение нескольких часов они оставались вместе в большой комнате, размером примерно пятьдесят футов на двадцать, прохаживаясь вдоль одной стороны, в то время как полковник Виньярд и майор Горрекер, которые были обязаны следить за ними, оставались на противоположной стороне; таким образом в действительности Лас-Казу с таким же успехом можно было разрешить приехать в Лонгвуд, и следовательно, отказ графу Лас-Казу приехать в Лонгвуд, что рассматривалось как оскорбление, относился полностью на счёт Наполеона.
Примерно в три часа дня Лас-Каз и его сын вступили на борт военного сторожевого корабля «Грифон», находившегося под командованием капитана Райта и направлявшегося в сторону мыса Доброй Надежды. К гавани его сопровождали сэр Хадсон Лоу, сэр Томас Рид и другие лица. Его дневник и личные бумаги, за исключением тех, которые не представляли какого-либо интереса, были удержаны губернатором. Накануне своего отъезда с острова он перевёл 4000 фунтов стерлингов (находившихся на хранении банкира в Лондоне) на счёт Наполеона.
На улице города я встретил проезжавшего на лошади сэра Хадсона Лоу. Поравнявшись со мной, он крикнул: «Ваши переговоры провалились».
Утром для продажи в городе Киприани привёз столовое серебро на сумму примерно в пятьсот фунтов стерлингов. Когда сэр Хадсон Лоу увидел столовое серебро, он послал за Киприани, от которого потребовал ответа, каким образом французы смогут потратить такую большую сумму денег? Киприани (хитрец, умный корсиканец) ответил: «Купив еду». Его превосходительство, изобразив на лице чувство удивления, спросил: «А что, разве вам не хватает пищи?» — «Ежедневно, в течение нескольких месяцев, мы закупаем много домашней птицы, масла, хлеба, мяса и различных других продуктов; и я должен поблагодарить начальника вашего штаба, полковника Рида, за то, что он по своей доброте не только обеспечивает меня многими продуктами, которые я хочу купить, но и за то, что он присматривает за тем, чтобы меня не обсчитывали, когда я плачу за эти продукты».
Вначале сэр Хадсон пришёл в замешательство от такого ответа; но потом, вновь изобразив на лице удивление, спросил: «А зачем вы покупаете так много масла и так много домашней птицы?» — «Потому, — ответил Киприани, — что норма выдаваемых по указанию вашего превосходительства продуктов недостаточна для того, чтобы мы оставались сытыми. Вы урезали наполовину ту норму продуктов, которую нам разрешал адмирал». Киприани затем представил губернатору детальный подсчёт необходимого для французов количества продуктов; он объяснил губернатору разницу между французским и английским образами жизни и убедительно представил расчёт по каждому продукту. Сэр Хадсон признал, что схема нормирования продуктов была составлена наспех, что он лично займётся этим делом и постарается повысить количество предметов потребления, особенно тех, в которых более всего нуждаются французы; и что с привозом очередной партии потребительских продуктов из Англии произойдет изменение к лучшему.
31 декабря. Сэр Хадсон Лоу послал за мной в шесть часов утра. Вскоре после моего прибытия он отозвал меня в отдельную комнату и в очень торжественной форме объявил, что послал за мной в связи с весьма чрезвычайным обстоятельством: вчера вечером барон Штюрмер направил записку майору Горрекеру, в которой утверждал, что некоторое время тому назад у генерала Бонапарта был обморочный приступ, сопровождаемый лихорадочным состоянием. При этом барон Штюрмер в деталях привёл тот факт, когда в лицо генерала Бонапарта плеснули целый флакон одеколона, а также описал и некоторые другие обстоятельства приступа. Барон Штюрмер хотел бы знать, действительно ли всё это было именно так, поскольку о подобных фактах было бы неплохо информировать его императорский двор.
Его превосходительство заявил, что он был очень удивлён тем, что барон Штюрмер каким-то образом мог узнать, что у генерала Бонапарта был приступ с сопутствующими тому обстоятельствами. Губернатор спросил меня, кому я об этом рассказал.
Я ответил: «Никому об этом я не сообщал, но лишь информировал вас, ваш штаб, возможно, адмирала, а также Бакстера, с которым я профессионально консультировался. Более того, в записке барона Штюрмера содержится много искажений истины, кроме того, все обитатели Лонгвуда знали, что Наполеон перенёс обморочный приступ в ту самую ночь, которую упомянул барон Штюрмер, так же как и обстоятельства, сопровождавшие приступ». После моего объяснения его превосходительство напомнил мне о необходимости соблюдать секретность и попросил написать отчёт обо всём этом деле на тот случай, если слухи о приступе генерала Бонапарта дойдут до заграницы, и тогда он сможет возразить любому неправильному отчёту о нём. Губернатор предположил, что это адмирал довёл до сведения Моншеню и Штюрмера о случившемся приступе генерала Бонапарта.
В городе виделся с адмиралом, который подтвердил, что я ничего ему не говорил о приступе, так же как и он ничего не сообщал об этом Моншеню и Штюрмеру, но что половине города было известно об этом. Я сам убедился в правоте слов адмирала, когда до отъезда из города в Лонгвуд различные лица задавали мне массу вопросов о приступе, случившемся с Наполеоном.
Вернувшись в Лонгвуд, я встретился с Наполеоном. «По правде говоря, — сказал он, смеясь, — ваш губернатор — настоящая скотина, не обладающая здравым смыслом. Его поведение в течение последних нескольких дней доказало его полную неспособность более чем когда-либо. Он примчался сюда с целой армией своих штабных работников, словно собирался взять город штурмом, схватил Лас-Каза, потащил его прочь из Лонгвуда, втайне держал его в течение нескольких недель, затем предлагал ему вернуться назад в Лонгвуд. Лас-Каз полон решимости покинуть остров. Этот губернатор в самой жестокой форме отказал ему в просьбе попрощаться со мной, хотя в то же время разрешил вернуться в Лонгвуд, пока не получит соответствующего разъяснения из Англии; и, в довершение всего, он разрешил Бертрану и Гурго отправиться в город и часами разговаривать с Лас-Казом. Бертран рассказал мне, что он и Гурго имели любую возможность для свободного общения с Лас-Казом и для передачи ему моих пожеланий, а также для вручения ему писем.
А! — продолжал Наполеон, — если бы все в Англии были такими, как он, то я не был бы здесь. До чего же он скудоумная личность, до чего же он жалок. У него есть некая хитринка в характере, но в нём полностью отсутствуют прямота и постоянство. Вчера он беседовал с Киприани, делая при этом вид, что ему неизвестно, что нам не хватает провизии (хотя его личный советник Рид помогал Киприани покупать хлеб и соль для нас в течение нескольких месяцев), и высказал озабоченность по поводу того, что мы разбивали наше столовое серебро. В самом деле, печально, что великая нация представлена таким человеком».
1 января 1817 года. Виделся с Наполеоном в гостиной комнате. Пожелал ему счастливого Нового года. Он заявил, что надеется на то, что в предстоящем году его можно будет видеть в гораздо лучшей обстановке. Он добавил, смеясь: «Возможно, я буду мёртвым, что будет ещё лучше. Хуже, чем сейчас, представить себе нельзя». Наполеон был в очень хорошем настроении, говорил об охоте на оленя и на дикого кабана. Показал мне шрам от раны на безымянном пальце, которую он получил от дикого кабана во время охоты в сопровождении герцога Далмации. В это время в комнату вошёл граф Монтолон, которому Наполеон что-то прошептал; после этого граф вышел и вскоре вернулся в гостиную комнату со шкатулкой для нюхательного табака, которую он передал императору. Наполеон собственноручно вручил мне шкатулку, сказав при этом: «Это, доктор, для вас подарок, который я вручаю вам за то внимание, которое вы оказывали мне во время моей болезни». Нет необходимости в том, чтобы сказать, что подарок из рук такого человека был получен мною с чувством гордости. Я, насколько мог, попытался выразить чувства благодарности и признательности, которые, овладели всем моим существом.
Наполеон также преподнёс графиням Бертран и Монтолон элегантные подарки, представлявшие собой совершенно уникальные фарфоровые изделия, перевязанные красивым крепом, в своё время подаренные ему городом Парижем. Граф Бертран получил в подарок набор шахматных фигур, а граф Монтолон — серебряный дорожный саквояж. Все дети также получили от Наполеона элегантные подарки.
Погода была настолько плохой и такой туманной, что нельзя было разглядеть знаков с сигнального устройства в Дедвуде.
3 января. Всю ночь Наполеон чувствовал себя больным; но затем ему стало лучше, и к нему вернулось хорошее настроение.
5 января. Сэр Хадсон Лоу в Лонгвуде. Имел с ним продолжительный разговор относительно правил ограничений. Его превосходительство заявил, что он не возражает против того, чтобы разрешить генералу Бонапарту совершать прогулки верхом слева от коттеджа «Ворота Хата» в направлении к дому мисс Мейсон, но ему не хотелось бы давать такое же разрешение членам свиты Наполеона. Я возразил губернатору, сказав, что было бы трудно осуществить подобное разграничение, поскольку Наполеон никогда не совершает верховых прогулок без сопровождения двух или трёх членов своей свиты. Сэр Хадсон Лоу пояснил, что он не возражает против того, чтобы свита Наполеона ездила в указанном направлении, но только тогда, когда сопровождает его, но он не даст разрешения членам свиты Наполеона ездить в тех местах без него.
Затем губернатор попросил меня сообщить генералу Бонапарту, что он может ездить в указанном направлении, когда бы он этого ни захотел. При этом во время его верховых прогулок никаких препятствий ему чиниться не будет. Я заметил, что было бы неплохо, если бы он ознакомил графа Бертрана с этими новыми правилами, а также поставил бы в известность об этих правилах и часового у коттеджа «Ворота Хата», поскольку в противном случае часовой остановит его, если он попытается воспользоваться разрешением его превосходительства. Сэр Хадсон Лоу ответил, что у часового нет указаний останавливать его. Я напомнил губернатору, что часовые несколько раз останавливали генералов Монтолона и Гурго, когда они подъезжали к дому сбора по тревоге 53-го пехотного полка, хотя это место находится в пределах разрешённой для французов зоны передвижения. Губернатор ответил мне, что это, должно быть, была ошибка, так как часовые не имели приказа останавливать их. Я же сказал, что я сам был дважды остановлен часовыми в этом месте.
«Как это могло быть, — удивился сэр Хадсон, — ведь часовые имели указание останавливать только французов?» Я ответил, что, как заявил часовой, он имел приказ останавливать всех подозрительных людей, и что, подумав, что я один из таких людей, он решил остановить меня, за что я не мог винить его. Его превосходительство рассмеялся, выслушав мой рассказ, и заявил, что он не расширит зону передвижения для французов, поскольку её границы зафиксированы, но что он даст разрешение генералу Бонапарту расширить пределы его верховых прогулок в различных направлениях. Губернатор поручил мне сообщить Наполеону, «что он может разъезжать в пределах старых границ зоны безо всякого сопровождения и при этом ему не будут чиниться какие-либо препятствия».
Вскоре после этого я встретился с Наполеоном, которому передал устное послание его превосходительства. Наполеон спросил меня, размещены ли пикеты на холмах, как это было раньше, когда он обычно ездил в том направлении. Я ответил, что я не замечал их. Наполеон взял свою подзорную трубу и в течение минуты осматривал указанное место.
Во время моей беседы с Наполеоном слуга доложил о приходе генерала Гурго. Войдя в комнату, он доложил Наполеону информацию, которая весьма противоречила содержанию устного послания губернатора. Как выяснилось, совершая верховую прогулку, не выезжая за границы отведённой для французов зоны передвижения, около пяти часов дня он был остановлен часовым у коттеджа «Ворота Хата» и задержан до тех пор, пока его не освободил сержант, командовавший постом охраны. Генерал Гурго добавил, что почти всякий раз, когда он отправлялся на прогулку, с ним случалась подобная же история. И каждый раз часовые старались снять с себя всю ответственность.
6 января. Сообщил сэру Хадсону Лоу о случившемся с генералом Гурго и передал ему письмо от капитана Попплтона по этому вопросу. Его превосходительство отрицал, что часовые когда-либо получали новые указания.
При расследовании инцидента у коттеджа «Ворота Хата» сержант, командовавший постом охраны, показал клочок бумаги, на котором были написаны указания часовым, а именно: «никому из французов, даже самому Бонапарту, не разрешается проходить мимо этого поста без сопровождения британского офицера». Сержант также сообщил, что в самом деле было довольно печально, что сам сэр Хадсон Лоу часто отдавал устные приказы не только сержантам сторожевого поста, но иногда и самим часовым. Подчас эти приказы записывались, но иногда и нет.
7 января. Наполеон не ложился спать до трёх часов утра. Вплоть до этого часа он диктовал и писал сам. Встал с постели в пять часов утра и принял теплую ванну. Ничего не ел до семи часов вечера и лёг спать через час.
10 января. В Лонгвуд приехал сэр Пультни Малькольм в сопровождении капитанов Мейнеля и Вочоупа. Во время встречи Наполеон поделился с адмиралом историями из своей жизни.
Я отправился в город и обратился с просьбой к сэру Томасу Риду разрешить французам купить двух коров, чтобы обитатели Лонгвуда хотя бы немного получали хорошее молоко.
12 января. Посетил Наполеона в его спальной комнате. Передал ему газету от 3 октября 1816 года. Спросил Наполеона, разве он не был худым, когда находился в Египте. Он ответил, что действительно в то время он был очень худым, хотя обладал сильным и крепким телосложением. Он смог выдерживать то, что привело бы к гибели большинство других людей. После того, как ему исполнилось тридцать шесть лет, он стал полнеть. Он рассказал мне, что ему часто приходилось трудиться, занимаясь государственными делами, в течение пятнадцати часов без минуты отдыха и не принимая никакой пищи. Однажды он продолжал работать подряд в течение трех дней и ночей, ни разу не сомкнув глаз для сна.
13 января. Навёл справки у поставщика, предоставлялся ли Лонгвуду кредит в течение недели на какие-либо продукты, разрешённые правительством, который не был израсходован, и, в таком случае, можно ли получить разрешение на непотраченную сумму, чтобы докупить продукты, которых не хватает в Лонгвуде; а также в случае накопления сбережений за счёт неиспользованных продуктов следует ли возвращать эти сбережения правительству. В ответ на мой запрос получил следующее разъяснение: «Сбережения, образовавшиеся в результате экономного расходования разрешённых французам английских кондитерских изделий, могут быть использованы для увеличения количества овощей, разрешённых французам; но любые другие сбережения должны быть записаны в счёт правительства, а не французов».
Еще несколько недель тому назад сбережения от закупок любого вида провизии не разрешалось использовать для оплаты продуктов, которых могло не хватать; но после сделанных мною заявлений о дефиците овощей во время болезни Наполеона сэр Хадсон Лоу распорядился, чтобы деньги, не потраченные на кондитерские изделия[10], могли быть использованы для покупки других продуктов. Однако поставщики получили строгий выговор в письме от майора Горрекера за то, что они за счёт стоимости разрешённых французам фруктов (не доставленных в то время на остров) увеличили количество проданных им овощей. В письме майор Горрекер строго предупредил поставщиков никогда более не повторять подобную практику.
14 января. Выяснял у майора Харрисона, возглавлявшего сторожевой посту коттеджа «Ворота Хата», были ли внесены изменения в приказ, позволявшем Наполеону теперь проезжать пикет у этих ворот и объезжать дом мисс Мейсон и горную цепь Вуди Рейндж без сопровождения британского офицера. Майор Харрисон ответил, что никаких изменений в приказ на этот счёт внесено не было, и что если Наполеон попытается проехать мимо указанного пикета, то он будет остановлен часовыми. Майор Харрисон добавил, что вчера генерал Гурго задавал ему тот же самый вопрос, на который майор дал аналогичный ответ.
15 января. Посетил Наполеона, когда он принимал ванну. Он находился в плохом настроении. Высказал ряд замечаний по поводу того, что губернатор не держит своего слова относительно предполагаемого посредничества с помощью услуг адмирала.
17 января. В половине пятого утра госпожа Бертран родила прекрасного мальчика. Её роды сопровождались опасными болезненными симптомами.
Приехавший в Лонгвуд сэр Хадсон Лоу спросил меня: «Говорил ли Наполеон что-либо по поводу адмирала после того, как последний встречался со мной?» Я ответил, что Наполеон выглядел «весьма удивлённым по поводу того, что он (губернатор) не принял мер для реализации предложения о посредничестве адмирала». Сэр Хадсон Лоу заявил, «что он считает, что переговоры по этому поводу прекращены по вине генерала Бонапарта, который направил ему ряд критических замечаний в связи с введением в октябре прошлого года ряда ограничений. Эти замечания были написаны в оскорбительной манере и содержали ложные сведения; а также из-за характера ремарок, написанных на оборотной стороне ответа губернатора по поводу упомянутого предложения. Он (губернатор) так и не понял, предназначались ли эти критические замечания для того, чтобы он их внимательно рассмотрел, или для того, чтобы они были отосланы в Англию. Частое употребление слова «император» в критических замечаниях, написанных графом Бертраном, уже достаточный повод для того, чтобы прервать всякие переговоры».
Я ответил, что критические замечания были отправлены Наполеоном лишь для личного рассмотрения их его превосходительством. Тогда его превосходительство принялся вовсю поносить графа Лас-Каза, которого он обвинил в том, что «тот был причиной крупной ссоры между Бонапартом и им, губернатором, что Лас-Каз утверждал в своём дневнике, что Бонапарт заявлял, что ему противен сам вид британской военной формы и он питает отвращение к британским офицерам; что я при первой возможности должен рассказать Наполеону обо всём этом и добавить, что «я слышал от него (от губернатора), что он сказал, что не верит, что Наполеон когда-либо говорил подобные вещи».
Затем сэр Хадсон спросил меня: «сообщил ли я генералу Бонапарту о том, что он может свободно объезжать дом мисс Мейсон и горную цепь Вуди Рейндж без сопровождения британского офицера?» Я ответил, что да, сообщил, но что майор Харрисон утверждает обратное и генералу Гурго, и мне. Его превосходительство заявил, что с того времени разрешение уже было дано, о чём бы он хотел, чтобы я информировал генерала Бонапарта, а также о причинах, побудивших его (губернатора) прекратить переговоры о предполагаемом посредничестве. Губернатор также заявил, «что он ежедневно ожидает хороших новостей из Англии для французов и надеется, что ему будет разрешено английским правительством улучшить условия их проживания на острове».
Однако вечером его превосходительство изменил своё решение и дал мне указание «не сообщать генералу Бонапарту что-либо по поводу его прогулок верхом слева от коттеджа «Ворота Хата», но информировать его обо всём остальном, о чём он говорил мне».
18 января. Наполеон послал за мной. Он пожаловался на сильную головную боль, а также расспросил о состоянии здоровья госпожи Бертран, которое, судя по всему, его очень беспокоило. Я информировал его о действительной причине появившихся неприятных симптомах.
Ознакомил Наполеона с устным посланием губернатора, которое он вчера поручил мне передать ему, в том числе о причинах прекращения переговоров о предполагаемом посредничестве и о других вопросах. Наполеон ответил: «У меня никогда не было намерений прекращать переговоры. Критические замечания были направлены ему потому, что он сам просил их, так как хотел знать, на что мы жалуемся. Они никогда не означали отказа от переговоров и не предназначались для направления их в Англию, так как они являлись лишь копией того, что я однажды намерен был отправить. Я хотел, — продолжал он, — чтобы адмирал присутствовал при принятии любых соглашений, чтобы я смог потом пригласить его как человека чести и как англичанина, чтобы губернатор не смог изменить свои приказы и указания, впоследствии отрицая всё то, что было принято, а потом заявить, что он ничего не менял. Но этот губернатор никогда и не думал приглашать адмирала для переговоров. Все это было простой проделкой. Этому человеку нельзя верить». Я сказал Наполеону, что губернатор сообщил мне о том, что он написал в Англию и теперь ежедневно ждет указаний от правительства об улучшении условий его (Наполеона) жизни.
«Ничего подобного он никогда не писал, — возразил Наполеон, — он понимает, что зашел слишком далеко, и теперь ждет прибытия какого-нибудь корабля из Англии для того, чтобы переложить на плечи министров все бремя и весь позор его ограничений для нас и заявить, что он, видите ли, просил улучшить наше положение, но министры не согласились с его просьбой. Министры всего лишь дали ему указания принять все меры предосторожности, чтобы помешать мне сбежать с острова; все остальное предоставлено ему совершать на его усмотрение. Он обращается с нами так, словно имеет дело с простыми крестьянами или с бедными простодушными созданиями, которых он мог бы одурачивать своими примитивными махинациями».
С мыса Доброй Надежды прибыл корабль «Адамант». Госпожа Малькольм прислала Наполеону в подарок фрукты. Я отправился в город и по возвращении передал ему несколько добытых в городе газет. Помогал ему в переводе некоторых статей из газет. Пересказал ему забавную историю о его сыне, которую я слышал в городе. Это история, судя по всему, очень позабавила его, он много смеялся и пришел в хорошее расположение духа. Заставил меня повторить эту историю; спросил меня о Марии Луизе и попросил стараться просматривать все газеты, которые привозят на остров корабли, для того, чтобы если я не смогу одалживать их, то хотя бы буду в состоянии сообщать ему обо всем, что относится к его супруге и сыну. «Ибо, — добавил он, — одна из причин того, что губернатор не присылает мне регулярно все номера газет, заключается в том, чтобы помешать мне читать какую-нибудь статью, которая, как он думает, доставит мне удовольствие, особенно содержащую хотя бы небольшие сведения о моем сыне и моей жене».
19 января. За мной послал сэр Хадсон Лоу. Я приехал в «Колониальный дом». Сообщил ему ответ Наполеона на его устное послание, которое он поручил мне передать Наполеону 17 января. Я постарался опустить все оскорбительные эпитеты и тем самым смягчил резкую форму ответа Наполеона. Сэр Хадсон заявил, «что он никогда не просил от него замечаний о введённых ограничениях, а просил сообщить ему их жалобы, и он рад узнать, что они не намеревались прекращать переговоры, посылая ему упомянутые замечания».
Однако немного позже его превосходительство начал гневаться и заявил, «что человек, давший указание написать замечания подобным языком и к тому же содержавшие ложь, не мог руководствоваться какими-либо мотивами, ведущими к примирению, и поэтому он (губернатор) не обязан предпринимать позитивные шаги в данной проблеме. Он думает, что предложение этого человека о привлечении к переговорам другого посредника не может иметь иной цели, как попытаться добиться уступок или извинения; если точка зрения генерала Бонапарта именно такова, то он (сэр Хадсон) будет считать, что было бы полезным привлечь посредника для указанной цели и не для какой-либо другой».
Затем губернатор спросил меня, «действительно ли у генерала Бонапарта именно такие намерения?» Я сообщил его превосходительству, что я могу заверить его в том, что у Наполеона нет подобных намерений и никогда не было. После резких утверждений по поводу мотивов Наполеона сэр Хадсон вскочил со стула, ушёл в другую комнату и затем вернулся с томом «Квотерли Ревью», содержащим статью о книге Миота о Египте. Дав мне книгу, губернатор с торжествующим смехом указал мне на следующий абзац, который он попросил меня прочитать вслух. «Он (Бонапарт) достаточно хороню понимает человечество, чтобы уметь поразить слабого, одурачить тщеславного, держать в благоговейном страхе робкого и превращать плохого человека в слепое орудие в его руках. Но превыше всего этого Бонапарт — чрезвычайно жестокий и невежественный человек. Он ничего не знает и ничего не может понять о силе патриотизма, энтузиазме добродетели и о стойкости долга». Все время, когда я читал этот отрывок из статьи, его превосходительство не отказывал себе в удовольствии взрываться смехом. После этого он заставил меня прочитать определение слова «характер» в известной работе Вольтера (как я думаю), о значении которого, как заявил губернатор, генерал Бонапарт, должно быть, находится в полном неведении, ибо в противном случае он бы не любил так часто употреблять это слово.
Затем сэр Хадсон Лоу заявил, что генералу Бонапарту следовало бы принять у себя адмирала. Я высказался в том смысле, что сэр Пультни Малькольм не возьмётся за выполнение подобной миссии до тех пор, пока сначала не переговорит с ним (сэром Хадсоном) и не получит от него санкцию на выполнение этой миссии. Поскольку сейчас жалобы французов находятся в распоряжении его превосходительства, то он может сообщить адмиралу, до какой степени он может согласиться на их требования; и тогда адмирал будет знать, как ему действовать и какие ему давать ответы. Сэр Хадсон вновь вернулся к обсуждению тональности Наполеона в замечаниях по поводу введённых губернатором ограничений, и после довольно продолжительной дискуссии по этому вопросу он поручил мне передать ему своё устное послание, аналогичное тому, которое он передавал мне 17 января, добавив при этом, «что в своё время он (Наполеон) предвидел, что просьба увидеться с Лас-Казом, которую он (губернатор) не мог удовлетворить, вероятно, послужит причиной для прекращения переговоров о предполагаемом примирении».
Затем губернатор заявил мне, что я могу позаимствовать из библиотеки любую книгу, которая мне приглянется, за исключением книг, чрезмерно восхваляющих Бонапарта. Вскоре после этого он вручил мне клеветническую книгу Пилле об Англии, книгу Миота «Экспедиция в Египет», «Секретные амурные похождения Наполеона» и т. п. Я спросил губернатора, могу ли я одолжить книгу Пилле Наполеону. Губернатор ответил «да» и попросил сказать Наполеону, что Пилле столько знает об Англии, как и Лас-Каз. Затем его превосходительство взял с полки книжного шкафа книгу под названием «Знаменитые самозванцы, или Истории многих жалких негодяев низкого рождения из всех стран, которые узурпировали престол императора, короля или принца», вложил книгу в мои руки и с многозначительной ухмылкой сказал: «Неплохо бы взять и это генералу Бонапарту. Возможно, он найдёт в этой книге описание некоторых личностей, которые напомнят ему о самом себе».
21 января. Вечером был у Наполеона. Отдал ему клеветническую книгу Пилле, упомянув при этом, что в ней содержится ряд лживых утверждений, в том числе о практике кровосмешения, которая, как заявляет негодяй, написавший эту книгу, распространена в Англии. Наполеон выглядел удивленным и шокированным, услышав об этом, и заявил, что зло, творимое дурным человеком, часто наказывает его самого. Когда я упомянул о том, что Пилле утверждал, что французские морские офицеры более искусны, чем английские, и лучше них маневрируют в море, Наполеон в связи с этим презрительно усмехнулся и заметил, что «вот уж действительно они доказали это результатом своих морских операций».
Затем я сообщил ему, что у меня есть книга под названием «Амурные секреты Наполеона Бонапарта», но что она переполнена глупостями. Наполеон рассмеялся и попросил меня принести её ему. «По крайней мере она меня развеселит», — заявил он. В соответствии с его просьбой я принёс ему эту книгу.
В этот момент кто-то вошёл в комнату, и, обращаясь к вошедшему, Наполеон воскликнул: «О, прекрасно, вот вам мои амурные секреты». Затем он быстро перелистал страницы книги, прочитал некоторые отрывки из неё, смеясь от всего сердца, и, наконец, заявил, что это чудовищно глупая книжка: её авторы даже не представили его в качестве безнравственного человека. Внимательно прочитав ту часть книги, которая прошла мимо моего внимания, он захлопнул её и, вернув мне, сказал, что во всех описанных историях нет ни единого слова правды — даже имена большинства упомянутых в книге женщин ему неизвестны.
До самого позднего вечера Наполеон сидел, читая книгу Пилле. Мне потом рассказали, что при чтении этой книги было слышно, как его охватывали приступы безудержного смеха.
22 января. Большую часть дня Наполеон посвящал тому, что диктовал свои мемуары графам Бертрану и Монтолону в бильярдной комнате, которую он превратил в рабочий кабинет. Иногда он забавлялся тем, что собирал вместе бильярдные шары и пытался закатить их один за другим в противоположную лузу.
Сэр Хадсон Лоу прислал мне немного кофе для Наполеона. Как заявил губернатор, это кофе очень хорошего качества и он его настоятельно рекомендовал пить.
23 января. Наполеон находился в хорошем расположении духа. Говорил о книге Пилле. Заметил, что он не припоминает подобного имени. «Возможно, — предположил он, — Пилле из тех людей, с которыми вы сурово обращались на ваших кораблях, приспособленных для тюрем (понтоны), и он писал книгу, пребывая в плохом настроении и испытывая огромное чувство злобы против англичан, что совершенно очевидно выражено в его работе. В книге, — продолжал он, — есть только одно утверждение, которое я считаю правильным, а именно то, что касается обращения с заключёнными в понтонах. Со стороны вашего правительства это просто варварство — заточать большое число бедняг солдат, не привыкших к морю, в трюмы кораблей каждую ночь на много часов без свежего воздуха. Есть нечто отвратительное, — продолжал он, — в обращении с заключёнными в Англии. Сама идея загонять их на борт кораблей и держать там в течение нескольких лет представляет нечто ужасное. Даже ваши моряки спешат наслаждаться радостями жизни на берегу всякий раз, когда они могут это сделать.
Ничто так не настраивает страны континента против вас, как ваше обращение с пленниками из этих стран. Ибо ваши министры кучами сваливают в трюмы кораблей не только пленных французов, но также военнопленных из всех других стран, находящихся с вами в состоянии войны. Я получал так много жалоб на варварское обращение с пленными в ваших понтонах, обращение, столь отличное от того, что практиковалось во Франции в отношении пленных англичан, что я отдал распоряжение, чтобы все английские военнопленные также помещались в кораблях-тюрьмах, то есть в понтонах, которые были приспособлены для этой цели, а также, чтобы с ними обращались таким же образом, как обращались с пленными французами в Англии. Если бы я оставался во Франции, то моё распоряжение было бы принято к исполнению и привело бы к необходимому результату, ибо я предоставил бы всем военнопленным англичанам полную свободу и все условия для выражения их жалоб на подобное заключение, и тогда бы ваши министры вопреки своей воле были бы вынуждены убрать французов из понтонов для того, чтобы подобная мера была принята по отношению к англичанам во Франции».
Я возразил Наполеону, сказав, что обращение с французскими военнопленными в Англии не такое уж плохое, как это утверждается многими, особенно в книге Пилле. Наполеон ответил: «Я не сомневаюсь в том, что подобные утверждения преувеличены; но, тем не менее, с ними обращаются самым варварским и жестоким образом. Само помещение солдат в трюмы кораблей является по своей сути жестокостью. Сейчас во Франции со всеми англичанами обращаются хорошо: по крайней мере мои намерения по отношению к ним были самыми доброжелательными. Несомненно, случаи злоупотребления имели место, как всегда бывает при подобных обстоятельствах, но моей вины в этом не было. Всякий раз, когда о них мне становилось известно, я наказывал виновных. Был такой Вирой; как только я узнал о его грабежах, я сразу же отдал приказ отдать его под суд, и я бы добился, чтобы его повесили, если бы он, страшась неминуемой кары, не застрелился. Многие другие, подобные ему, делали то же самое. Невозможно себе представить, чтобы любое другое правительство могло дать более снисходительные указания об обращении с военнопленными, чем те, которые давал я; но всё же я не мог помешать отдельным случаям злоупотреблений. Я всегда наказывал их виновников, когда узнавал о них. Пусть попросят тысячи английских военнопленных, находившихся во Франции, честно сказать о том, как с ними обращались. Некоторые из них сейчас находятся на этом острове. Когда они делали попытку сбежать и их ловили, то действительно они подвергались строгому тюремному заключению; но с ними никогда так варварски не обращались, как обращались с моими солдатами, попавшими в плен, в ваших понтонах.
Ваши министры много шумели по поводу того, что я брал вновь на военную службу бывших французских военнопленных, нарушивших слово и сбежавших из Англии. Но английские военнопленные первыми дали пример того, как они, сбежав из Франции, потом получали от ваших министров санкции на продолжение воинской службы. В порядке ответной меры я, конечно, делал то же самое. Я опубликовал имена нескольких англичан, нарушивших слово чести до того, как это же сделали французы, и которых потом ваши министры вновь привлекли к воинской службе; мало того, я пошёл на большее, я предложил вашим министрам выслать обратно в Англию всех бывших французских военнопленных, нарушивших слово чести с начала войны при условии, что таким же образом во Францию будут высланы все бывшие английские военнопленные, также нарушившие своё слово чести. Ваши министры, однако, отказались принять моё предложение.
Что ещё я мог сделать? Ваши министры подняли большой шум об английских путешественниках, которых я задержал во Франции; хотя они сами первыми подали пример, захватив все французские корабли с их экипажами и пассажирами на борту всюду, где это было возможно, или в гаванях или в море, причём ещё до объявления войны и до того, как я стал задерживать англичан во Франции. Я сказал тогда: если вы задерживаете моих путешественников в море, где вы творите всё, что вам заблагорассудится, то я буду задерживать ваших на суше, где я не слабее вас. Но после этого я предложил освободить всех англичан, которых я задержал во Франции ещё до объявления войны, при условии, что вы также освободите французов и их собственность. Ваши министры отказались».
В ответ я сделал ряд замечаний, касающихся клеветнических заявлений Пилле о повсеместной в Англии развращённости, которая якобы распространена среди английских женщин, и о ужасных утверждениях, которые он привёл далее в своей книге. Я уверял Наполеона, что ни в одной другой стране не существует меньше оснований для предположений о том, что порочные связи распространены между близкими родственниками; потому что ни в одной другой стране нельзя найти более деликатных и более безупречных в своём поведении женщин. Я сказал императору, что, вполне очевидно, Пилле вращался в самых низких кругах английского общества, судя хотя бы по его утверждениям о значении слова «возлюбленные», которое обычно употребляется только в среде горничных, дочерей мелких торговцев и других женщин подобного сословия, хотя Пилле имел наглость заявлять, что подобный термин употребляется фамильярным образом среди юных дам, представляющих самые уважаемые круги английского общества.
«По-видимому, это так и есть, — согласился Наполеон, — я полагаю, что он никогда не видел ни одной английской женщины на борту своего корабля, за исключением проституток самого низкого пошиба. Он действительно, — продолжал Наполеон, — имел прекрасную возможность изучать манеры и привычки англичан, будучи заключённым на борту английского понтона в течение семи или восьми лет. Он сам себе напортил, ибо в некоторых местах книги он нагромоздил столько лжи и столько ужасных вещей об англичанах, что уже нельзя верить и той правде, которую он приводит в других местах. Его книга сродни тем, в которых меня изображают в виде чудовища, получающего удовольствие от кровопролития, преступлений и зверств; как, например, чтобы удовлетворить кровожадные наклонности, я приказывал мчать мою карету по телам убитых и раненных в сражениях. В действительности его книга, написанная подобным образом и в подобной манере, губит весь замысел издателя. Мне в самом деле доставляло удовольствие видеть эти ужасные книги, поскольку я знал, что ни один разумный человек не поверит им. Но мне приходилось опасаться тех книг, которые были написаны с видимой сдержанностью и беспристрастностью».
Затем я спросил императора, читал ли он когда-либо книгу Миота о военной экспедиции в Египет. «Что, этого интенданта? — переспросил он. — Кажется, Лас-Каз давал мне экземпляр этой книги. Она опубликована ещё в моё время». Он попросил меня принести ему ту, которая была у меня, чтобы он смог сравнить обе книги. «Миот — типичный шалопай, которого вместе с его братом я вытащил из грязи. Он был человеком, который всегда чего-то боялся. Так что он там пишет о деле с отравлением и расстрелом у Яффы?» Я пояснил, что в отношении дела с отравлением Миот заявлял, что он ничего нового добавить об этом деле не мог, кроме того, что таково было общепринятое мнение; но что он совершенно уверен в том, что Наполеон спустя несколько дней после взятия Яффы приказал расстрелять более трёх тысяч турок.
Наполеон ответил: «Это неверно, что было так много. Я приказал расстрелять примерно до тысячи двухсот турок, что и было сделано. Причиной моего решения стало то обстоятельство, что в рядах гарнизона Яффы были обнаружены турецкие солдаты и офицеры, которые незадолго до этого попали в плен в сражении при Эль-Арише и которых я отпустил в Багдад, взяв с них слово вновь не воевать против меня в течение года. Я приказал одной дивизии моей армии эскортировать их на пути в Багдад на протяжении двенадцати лье. Но эти турки, вместо того чтобы проследовать в Багдад, ринулись в Яффу, защищали её до последнего и в итоге стоили мне немалой потери смелых солдат, чтобы взять штурмом крепость. Жизнь моих смельчаков сохранилась бы, если бы не эти турки, которые усилили гарнизон Яффы. Более того, прежде чем атаковать город, я послал к ним парламентёра с флагом, предлагая перемирие. Но вскоре над стеной крепости мы увидели голову парламентёра, насаженную на шест. Тогда же, если бы я вновь сохранил им жизнь и отпустил их, взяв с них слово, они бы прямёхонько отправились в Сен-Жан д’ Акр, где сыграли бы со мной такую же штуку, которую они проделали в Яффе.
Сохраняя жизнь моих солдат, поскольку каждый генерал обязан считать себя их отцом, а их — его детьми, я не мог позволить туркам вновь обмануть меня. Нельзя было оставлять под охраной этих турок, выделив для этого часть моей армии, уже малочисленной, да ещё в связи с тем, что я более не верил этим негодяям. Фактически, если бы я действовал по-другому, я бы, вероятно, вызвал гибель всей моей армии. Поэтому, используя правила ведения войны, которые разрешают приговаривать к смертной казни военнопленных, взятых в плен при подобных обстоятельствах, и вне зависимости от права, полученного мною вследствие занятия города штурмом при отчаянном сопротивлении со стороны турок, я приказал, чтобы пленные, взятые в Эль-Арише, которые вопреки своей капитуляции подняли оружие против меня, были расстреляны. Остальным, число которых было значительным, была дарована жизнь. Я бы, — продолжал он, — и завтра поступил точно так же, так же поступил бы Веллингтон или другой генерал, командовавший армией при аналогичных обстоятельствах.
Прежде чем покинуть Яффу, — продолжал свой рассказ Наполеон, — и после того как большое число больных и раненых было принято на борт кораблей, я узнал, что в госпитале находятся солдаты, столь опасно больные, что их нельзя сдвигать с места. Я немедленно приказал всем шефам медицинской службы проконсультироваться вместе, что следует делать в этом случае, и своё мнение доложить мне. В соответствии с моим приказом они встретились и выяснили, что семь или восемь солдат настолько больны, что, по их мнению, никаких шансов на выживание у этих больных нет, и они не проживут более двадцати четырёх или двадцати шести часов; более того, пораженные чумой, они могут распространить эту болезнь. Некоторые из них, сохранявшие сознание, понимая, что их покинут, страстно умоляли, чтобы их предали смерти.
Ларрей придерживался того мнения, что их выздоровление невозможно и эти бедняги не смогут долго просуществовать; но, поскольку они ещё могут оставаться живыми, когда в город вступят турецкие войска, которые привыкли причинять жестокие мучения своим пленникам, Ларрей считал, что было бы актом милосердия пойти навстречу пожеланиям этих бедняг и на несколько часов сократить их жизнь. Деженетт не поддержал это предложение, заявив, что в соответствии с его профессией он должен лечить больных, а не умерщвлять их. Немедленно после совещания врачей ко мне пришёл Ларрей и информировал меня о сложившихся обстоятельствах, а также о мнении Деженетта, добавив при этом, что, возможно, Деженетт прав.
«Но, — продолжал Ларрей, — те солдаты не смогут прожить дольше, чем несколько часов, от силы двадцать четыре или двадцать шесть часов; и если вы оставите кавалерийский арьергард, чтобы защитить больных от передовых отрядов турок, то этого будет достаточно». Соответственно я приказал кавалерийскому отряду до пятисот всадников остаться в городе и не покидать госпиталь до тех пор, пока не умрут все больные солдаты. Кавалеристы остались и потом доложили мне, что все больные скончались до того, как кавалерийский отряд покинул город. Но со временем я слышал, что Сидней Смит обнаружил, когда вошёл в город, одного или двух солдат живыми.
Такова правда всего этого дела. Смею сказать, что теперь Вилсон знает сам, что он ошибался. Сидней Смит никогда не утверждал подобного. Не сомневаюсь, что вся эта история с отравлением возникла в связи с тем, что Деженетт, бывший словоохотливым человеком, что-то сказал, а это что-то потом было неправильно понято и не совсем верно повторялось. Деженетт, — продолжал Наполеон, — был хорошим человеком, и, несмотря на то, что он поднял шумиху вокруг этой истории, я не обиделся и уже потом держал его при себе во время различных военных кампаний. Не думаю, что это было бы преступлением, если бы больным солдатам дали опиум, наоборот, я считаю, что это было бы актом милосердия. Было бы жестокостью оставить несчастных, у которых не было никакой возможности выжить, только ради того, чтобы они могли подвергнуться жестокой резне со стороны турок, что было в обычае последних.
Генерал обязан поступать со своими солдатами точно так же, как он сам бы хотел, чтобы поступили с ним. Любой здравомыслящий человек, оказавшийся в аналогичной ситуации, предпочтёт принять лёгкую смерть на несколько часов раньше того, чем умереть от пыток этих варваров. Вам приходилось бывать среди турок, и вы знаете, что они за люди. Я прошу вас теперь поставить себя на место тех больных солдат, и тогда пусть вас спросят, что вы предпочитаете: остаться в живых на несколько часов, чтобы подвергнуться пыткам этих злодеев, или принять опиум?» Я ответил: «Вне всяких сомнений, я бы предпочёл последнее». «Конечно, так поступил бы любой человек, — подтвердил Наполеон, — если бы мой собственный сын (а я люблю моего так же, как каждый отец любит своего ребёнка) оказался в подобном положении, то я бы посоветовал и ему дать опиум; и, если бы это случилось со мной, то я бы настаивал, чтобы меня отравили, если бы я находился в сознании и у меня было достаточно сил, чтобы требовать это. Но, однако, ситуация сложилась тогда не такой уж напряжённой, чтобы помешать мне оставить команду кавалеристов для защиты больных, что и было сделано.
Если бы я посчитал, что такая мера, как выдача опиума больным, крайне необходима, то я бы созвал военный совет, заявил на нём о необходимости применения опиума и в приказе о действиях на предстоящий день опубликовал своё решение. Оно не было бы ни для кого секретом. Неужели вы думаете, что мои войска сражались бы ради меня с невиданным доселе энтузиазмом и с чувством искренней привязанности, если бы я был способен на то, чтобы тайно отравлять моих солдат (так как осуществление необходимых мер втайне приобретает видимость совершения преступления), или на такое варварство, как езда в карете по трупам и раненым, всё ещё истекающим кровью после сражения? Нет, нет, мне бы никогда не пришлось повторить этакое во второй раз. Непременно нашёлся бы кто-нибудь, кто застрелил меня, когда я проезжал мимо него в карете. Даже кто-нибудь из раненых, у кого осталось достаточно сил, чтобы нажать на курок, обязательно пристрелил бы меня.
В моей политической карьере, — продолжал Наполеон, — я никогда не совершал преступления. В мой последний час я могу заявить об этом. Если бы я так поступал, то меня бы сейчас здесь не было. Мне бы следовало уничтожить Бурбонов. Мне оставалось только дать согласие на это, и они бы прекратили своё существование.
Меня обвиняли в том, что я совершал такие ненужные преступления, как расстрел по моему приказу Пишегрю, Райта и других. Не желая смерти Райта, я хотел предать гласности его свидетельские показания о том, что Питт приказал убийцам высадиться на берег Франции, чтобы преднамеренно и сознательно убить меня. Райт покончил с собой, вероятно, потому, что не мог компрометировать своё правительство. Какими мотивами я мог руководствоваться, убивая Пишегрю? Это был человек, который был виновен вне всяких сомнений, его вина была очевидна, веские доказательства против него были налицо. Все улики были против него. Его осуждение было несомненным. Возможно, мне следовало помиловать его. Если бы Моро в самом деле был приговорён к смертной казни, то тогда люди могли бы сказать, что именно я был причиной его казни, и они, очевидно, были бы совершенно правы, ибо Моро был единственным человеком, которого по веским причинам я мог опасаться; и с тех пор его считают невиновным. Он, как и я, не происходил из знатного рода; Пишегрю был аристократом, он находился на содержании Англии, его смерть была неизбежной».
Тут же я спросил Наполеона, правда ли, что Талейран держал у себя письмо, написанное ему герцогом Энгиенским, и предал это письмо гласности только через два дня после казни герцога? На этот вопрос Наполеон ответил следующим образом: «Это действительно было именно так: герцог написал письмо, предлагая свои услуги и попросив у меня армию под его командование. Но этот негодяй Талейран поставил меня в известность об этом письме только через два дня после казни герцога». Я заявил, что Талейран таким образом фактически виновен в смерти герцога. «Талейран, — ответил Наполеон, — это — бездельник, способный на любое преступление. Я приказал арестовать герцога Энгиенского вследствие того, что Бурбоны высадили на берег Франции убийц, чтобы убить меня. Я принял решение дать им знать, что платой за их попытки убить меня будет кровь одного из их принцев. Герцог Энгиенский соответственно был предан суду за то, что поднял оружие против республики, он был признан виновным и расстрелян в силу существовавших законов, предусматривавших смертную казнь за подобное преступление.
Обо всём, что касается Франции, — добавил Наполеон, — вы никогда не услышите правды из уст ваших министров. Ваш великий лорд Чатем сказал о вашей стране: «Если бы мы честно и справедливо вели себя с Францией, то Англия не просуществовала бы и суток».
После этого разговора я информировал императора об устном послании, которое сэр Хадсон Лоу поручил мне передать ему. Наполеон ответил мне: «Я безусловно был очень огорчён отказом Лас-Казу приехать ко мне, поскольку этот отказ явился совсем ненужной жестокостью, досадной глупостью, особенно принимая во внимание тот факт, что губернатор разрешил французским генералам отправиться в город и беседовать с Лас-Казом столько времени, сколько им хотелось; и могу сказать при этом, что они могли беседовать без свидетелей; но я никогда не был намерен отказываться от примирения, совсем напротив.
Касаясь наших замечаний по поводу введённых им ограничений, могу сказать, что в последнем письме губернатора Бертрану он упомянул о том, что хотел бы ознакомиться с любыми нашими замечаниями, вследствие чего те замечания и были направлены ему. Но он же никогда не имел намерений воспользоваться посредничеством адмирала! Что можно ожидать от человека, который даёт лживые указания?! От человека, который говорит вам, что давал часовым и постам охраны указания, которые, как утверждают последние, они никогда не получали; который говорит, что мы свободно можем передвигаться в определённых направлениях, и в то же время отдаёт приказы часовым останавливать все подозрительные личности. Но, помилуйте во имя всего святого, кто может быть более подозрителен для английского часового, чем француз, и прежде всего я сам? Они здесь занимаются только тем, что караулят нас; и если часовой выполняет свою единственную обязанность, то он, безусловно, будет останавливать каждого француза, которого увидит».
Я не мог удержаться, чтобы не рассмеяться от всего сердца при виде императора, горячо спорившего с самим собой, повторяя при этом: «Ну что же это за негодная личность, которому абсолютно нельзя верить!»
После своего монолога он попросил меня попытаться достать ему каталог публичной библиотеки Джеймстауна и принести всё, что относится к Египту и к военным кампаниям там.
Виделся в городе с сэром Хадсоном Лоу, которому повторил ответ Наполеона. Когда я подошёл к пересказу той части ответа Наполеона, в которой он утверждает, что губернатор в своём последнем письме к Бертрану заявлял, что будет рад любым замечаниям к введённым им ограничениям, сэр Хадсон прервал меня, сказав: «А, это касается того, что я буду рад вести разговор об объяснениях ограничений. Да, я помню об этом». Но, судя по всему, губернатору не хотелось продолжать говорить на эту тему, и он вместо этого просто заявил, что ответ генерала Бонапарта, видимо, не претерпел никаких изменений по сравнению с его предыдущим ответом, и попросил меня передать Наполеону, что Лас-Каз так же знает мало об Англии, как и Пилле.
26 января. Наполеон вышел из дома (впервые после 20 ноября прошлого года!), чтобы нанести визит графине Бертран, которую он от души поздравил с рождением её прекрасного ребёнка. «Сир, — заявила графиня, — я имею честь представить вашему величеству первого француза, который со времени вашего прибытия на остров появился в Лонгвуде без разрешения лорда Батхерста».
27 января. Посетил Наполеона, когда он принимал ванну. Он пожаловался на головную боль и потерю сна. Его состояние я объяснил тем, что он не совершает прогулок на свежем воздухе. Я самым настоятельным образом рекомендовал ему возобновить эти прогулки. Наполеон признал справедливость моих советов, но, по-видимому, не настроен следовать им.
Сообщил Наполеону, что у меня есть книга, повествующая об обществе «Филадельфи», которое было создано против него, и выразил удивление, что он никогда не попадал в руки каких-либо заговорщиков. Он пояснил: «Никто не знал, что я намерен делать или куда я направляюсь, за пять минут до того, как я собирался это сделать. По этой причине мне удавалось сбивать заговорщиков с толку, и они пребывали в полном неведении относительного того, где же им устроить мне ловушку. Вскоре после того как я был назначен консулом, против меня организовали заговор. В состав 50 заговорщиков входили люди, большинство которых когда-то были мне очень преданы. Это были армейские офицеры, учёные, художники и скульптуры. Они были стойкими республиканцами, их умы были возбуждены: каждый воображал себя Брутом, а меня тираном и новым Цезарем. В их число входил некто Арена, мой земляк, республиканец, человек, который ранее был очень предан мне; но, считая меня тираном, он был полон решимости разделаться со мной, воображая, что тем самым окажет великую услугу Франции.
Среди них также был некто Кераччи, ещё один корсиканец и он же знаменитый скульптор, который, когда я был в Милане, изваял мою статую. Он также был очень предан мне, но, являясь фанатичным республиканцем, решил убить меня. С этой целью он приехал в Париж и просил у меня разрешения изваять другую мою статую, утверждая, что первая изваяна недостаточно хорошо для такого великого человека, как я. Хотя я тогда ничего не знал об организованном против меня заговоре, я отказал ему в его просьбе, так как мне не нравилось тратить усилия на то, чтобы в течение нескольких дней сидеть неподвижно два, а то и три часа. Это спасло мне жизнь, поскольку он намерен был заколоть меня кинжалом, когда я должен был позировать.
Тем временем они разработали свой план. Среди заговорщиков был один капитан, бывший моим большим поклонником. Этот человек согласился с остальными заговорщиками, что необходимо свергнуть тирана, но он был против того, чтобы убивать меня, хотя во всём остальном разделял позицию заговорщиков. Они же, однако, придерживались иной точки зрения, настаивая на том, что совершенно необходимо убить меня, так как это единственное средство предотвратить порабощение Франции. Они считали, что, пока я буду жив, у свободы нет никакого шанса. Этот капитан, поняв, что они твёрдо решили пролить мою кровь, несмотря на все его аргументы и настойчивые просьбы не делать этого, передал информацию об их именах и планах. Они предполагали убить меня в тот вечер, когда я буду возвращаться после представления в театре вдоль коридора. Всё было согласовано с полицией — в тот же вечер я отправился в театр и действительно проходил в коридоре мимо заговорщиков. Некоторых из них я знал лично. Они были вооружены кинжалами, спрятанными под плащами, и готовились убить меня, когда я собирался покинуть театр. Вскоре после моего приезда в театр полиция схватила всех заговорщиков. Во Франции человек не может быть обвинён в соучастии заговора ради убийства, если на нём не будет обнаружено орудие убийства. Потом уже заговорщиков судили, и некоторые из них были казнены».
Я задал Наполеону несколько вопросов о деле с адской машиной. Наполеон рассказал следующее. «Это случилось в самый разгар рождественских праздников. Было приложено немало сил, чтобы вынудить меня поехать в оперу. В течение всего дня я был очень занят важными делами и вечером чувствовал себя уставшим и сонным. Я прилёг на диван в одной из комнат Жозефины и тут же заснул. Вскоре ко мне спустилась Жозефина и, разбудив меня, стала настаивать, чтобы я поехал в театр. Она была прекрасной женщиной и уговаривала меня делать всё, чтобы я снискал расположение людей. Вы же знаете, что когда женщины что-то вобьют себе в голову, то не отступятся, пока не добьются своего, и вы должны уступить им. Ну ладно, я встал с дивана, вопреки моему желанию, и отправился в карету в сопровождении Ласне и Бессьера. Я чувствовал себя настолько сонным, что заснул в карете. Я спал, когда раздался взрыв, и, проснувшись, помню, пребывал в таком состоянии, словно чувствовал, что карета оторвалась от земли и пробивается сквозь массу воды.
Это покушение на меня было спланировано Сен-Режаном и Имоланом, религиозным фанатиком, который после неудачи с покушением уехал в Америку и стал там священником, и другими. Эта группа заговорщиков во главе с Сен-Режаном использовала для покушения повозку и бочку, подобную той, которая снабжает водой улицы Парижа, но с той разницей, что бочку поставили на перекрёстке улиц. Бочку они наполнили порохом и поставили её рядом с поворотом улицы, по которой я должен был проехать. Меня спасло то, что карета Жозефины внешне была очень похожа на мою, и обе наши кареты сопровождала охрана по пятнадцать человек. Имолан не знал, в какой именно карете я нахожусь, и вообще не был уверен в том, что я еду в этих каретах. Для того чтобы определить это, он подошёл к карете, чтобы взглянуть внутрь и убедиться в моём присутствии. Один из моих охранников, высокого роста сильный парень, рассерженный тем, что какой-то человек преградил путь карете и заглядывает внутрь, быстро подъехал к нему и дал ему пинка под зад, воскликнув: «Прочь с дороги, шпак!»[11] От удара Имолан упал на землю. Но до того как он смог подняться, карета уже успела немного проехать вперёд.
Имолан, как я полагаю, растерявшийся от того, что оказался на земле после удара и находившийся в состоянии нервного напряжения в минуту, когда ему предстояло совершить покушение, не понял, что карета уже проехала намеченное им место. Он побежал к повозке и привёл в действие свою адскую машину в тот момент, когда одна карета уже проехала место взрыва, а другая — ещё не доехала. От взрыва погибла лошадь под одним из моих охранников и один кучер был ранен. Кроме того, в результате взрыва было разрушено несколько домов и убиты и ранены около сорока или пятидесяти зевак, собравшихся поглазеть, как я проезжаю в карете.
Полиция собрала остатки повозки и адской машины и пригласила наиболее квалифицированных рабочих осмотреть собранное. Несколько рабочих опознали эти остатки адской машины. Один из них сказал, что он сделал это, другой заявил, что сделал то, и все согласились, что адская машина была продана двум незнакомцам, которые, судя по их акценту, были выходцами из Нижней Бретани; но сверх этого ничего другого выяснено не было. Вскоре после этого события кучера шести местных наёмных экипажей дали в ресторане на Елисейских Полях обед в честь Сезара, моего кучера, считая, что он спас мою жизнь благодаря своему искусству и расторопности в момент взрыва адской машины. Но это было не так, ибо в тот момент мой кучер был пьян. Мою жизнь спас охранник, пинком сапога сбивший Имолана на землю. Возможно, что мой кучер также мог быть причастен к моему спасению благодаря тому, что неистово погнал лошадей за угол улицы, так как был пьян, и в этот момент ему было море по колено. Он находился уже настолько далеко от места происшествия, что посчитал, что взрыв — это салют в честь моего визита в театр. На этом обеде все гости не стеснялись хватить лишнего, выпивая одну бутылку за другой за здоровье Сезара. Один из них, основательно опьянев, заявил: «Сезар, я знаю людей, которые недавно пытались взорвать первого консула. На такой-то улице и около такого-то дома (называя их) я видел в тот день повозку, напоминавшую повозку с бочкой воды, выезжавшую из переулка. Повозка привлекла моё внимание, так как такой же мне ранее видеть не приходилось. Я стал приглядываться к людям и к лошади и смогу их опознать».
После этого рассказа немедленно послали за министром полиции. Рассказчика допросили и доставили его к дому, который он упомянул. В доме нашли мерку, с помощью которой заговорщики засыпали порох в бочку. На мерке ещё оставались прилипшие к ней частицы пороха. Такие же частицы были найдены рассыпанными вокруг. Допрошенный хозяин дома сообщил, что у него некоторое время проживали какие-то люди, которых он принял за контрабандистов; в тот день, о котором шла речь, они ушли с повозкой, в которой, как считал хозяин дома, были спрятаны контрабандные товары. Он добавил, что они были выходцами из Нижней Бретани и один из них имел вид главаря. Получив описание этих личностей, полиция принялась искать их, и вскоре Сен-Режан и Карбон были схвачены, преданы суду и расстреляны. Ранее по чистой случайности инспектор полиции обратил внимание на повозку, стоявшую в течение долгого времени на углу улицы, и приказал водителю повозки уехать прочь; но возчик в своё оправдание заявил, что здесь очень много свободного места. Тогда инспектор полиции, увидев, что перед ним стоит, как он посчитал, всего лишь повозка для перевозки воды, решил, что ничего дурного в том, если эта повозка останется на прежнем месте, не будет.
В Шенбрунне, — продолжал император, — я чудом избежал гибели. Вскоре после взятия Вены я устроил смотр моим войскам в Шенбрунне. Молодой человек лет восемнадцати попросил, чтобы его представили мне. В какой-то момент он так близко подошёл ко мне, что мог дотронуться до меня. Он заявил, что хочет поговорить со мной. Бертье, чтобы меня не беспокоили во время смотра, оттолкнул молодого человека в сторону, сказав ему: «Если вы хотите что-то сообщить императору, то сейчас этого сделать нельзя». Затем он подозвал Раппа, немца по национальности, и сказал ему: «Вот тот молодой человек хочет поговорить с императором, выясните, чего он хочет, и не допускайте, чтобы он беспокоил императора». После этого он подозвал молодого человека и сказал ему, что Рапп говорит по-немецки и сможет ответить ему.
Рапп подошёл к молодому человеку и спросил его, чего он хочет. Тот ответил, что он хочет вручить императору меморандум. Рапп пояснил ему, что в настоящий момент император занят и не сможет поговорить с ним. Молодой человек всё это время прижимал руку к груди, словно за пазухой у него была бумага, которую он хотел вручить мне. Рапп, будучи человеком вспыльчивым, увидев, что молодой человек, несмотря на то, что ему отказано в его просьбе, продолжает настаивать на том, чтобы встретиться со мной, и стремится протолкнуться ко мне, подошёл к нему и ударом кулака сбил его на землю, а затем отшвырнул в сторону. Тем не менее он появился вновь в тот момент, когда войска строевым маршем проходили передо мной. Рапп, не спускавший с него глаз, приказал охране схватить его и держать под арестом до окончания смотра, а затем привести к нему. Охранники, заметив, что он всё время держит правую руку на груди, заставили его опустить руку и осмотрели его. Под его плащом они нашли длинный нож. Когда его спросили, что он собирался делать с этим ножом, молодой человек, не задумываясь, сразу же ответил: «Убить императора».
Через некоторое время его привели ко мне. Я спросил его, чего он хочет. Он ответил: «Убить вас». Я задал ему вопрос: чего же такого я ему сделал, чтобы заставить его захотеть отобрать у меня жизнь? Он ответил, что я нанёс огромный вред его стране, что я опустошил и превратил в руины его страну, против которой я развязал войну. Я спросил его, почему же тогда он вместо меня не убил императора Австрии, ибо именно последний развязал войну между нашими двумя странами? Он ответил: «О, так ведь он — сущий болван, и если бы его убили, то на трон вместо него посадили точно такого же болвана, но если бы убили вас, то было бы нелегко найти такого же, как вы». Молодой человек заявил, что его призвал Бог, чтобы убить меня, и процитировал Иуду и Олоферна. Много рассуждал о религии и представлял себе, что он новый Иуда, а я — Олоферн. Он ссылался на тексты Библии, которые, как он полагал, соответствуют его планам. Он был сыном протестантского священника в Эрфурте. Он не посвятил отца в свои планы и покинул дом без гроша в кармане. Как я понял, он продал свои часы, чтобы купить нож, которым был намерен убить меня. Он заявил, что положился на Бога, который поможет ему найти способ осуществить задуманный план.
Я вызвал Корвисара и попросил его пощупать пульс молодого человека и выяснить, не сумасшедший ли он. Корвисар пощупал его пульс и определил, что тот у него нормальный и у него нет никаких признаков возбуждения. Я приказал, чтобы молодого человека увели, заперли в отдельной комнате под присмотром жандарма, не давали ему ничего есть в течение суток, но разрешили пить холодную воду столько, сколько он пожелает. Я хотел дать ему время, чтобы он остыл и поразмышлял наедине с собой, а затем освидетельствовать его на пустой желудок и тогда, когда он не будет подвержен влиянию чего-то такого, что могло бы возбудить его и разжечь его фантазию.
По прошествии суток я вызвал его и спросил: «Если бы я помиловал вас, вы бы попытались вновь убить меня?» Прежде чем ответить, он довольно долго колебался и, наконец, с большим трудом выдавил из себя признание, что не повторил бы попытку покушения на меня, так как, по-видимому, в намерения Бога не входило, чтобы я был убит, ибо в противном случае Бог разрешил бы ему сделать это во время первой попытки. Я приказал увести его. Сначала я намерен был помиловать его, но потом я представил себе, что его колебания после суточного голодания были явным знаком того, что его намерения были дурными и что по-прежнему он склонен к тому, чтобы попытаться убить меня.
Я понял, что он — исступлённый фанатик и его действия подадут очень плохой пример. Ничего не может быть более опасного, — продолжал Наполеон, — чем все эти религиозные фанатики. Их целью всегда являются или Бог, или король. Молодой человек был предоставлен своей судьбе.
В другой раз, — продолжал император, — я получил от короля Саксонии письмо, в котором содержалась информация о том, что некий человек собирается в определённый день выехать из Штутгарта в Париж, куда он приедет в указанный день, и что этот человек намерен убить меня. В письме было дано подробное описание этой личности. Полиция приняла необходимые меры; и в указанный день он действительно появился в Париже. Полиция устроила за ним слежку. Видели, как он вошёл в церковь, в которую я приехал по случаю одного из праздников. Он был арестован и допрошен. Он признался в своих намерениях и рассказал, что, когда прихожане склонили колени при вознесении даров, он увидел меня рассматривающего хорошеньких женщин; сначала он хотел подойти ко мне поближе и выстрелить в меня (в действительности, в ту минуту он подошёл довольно близко ко мне), но немного подумав, решил, что он может и промахнуться, и поэтому лучше будет, если он ударит меня ножом, который он принёс с собой для этой цели. Мне не хотелось предавать его смертной казни и поэтому я приказал отправить его в тюрьму.
Когда я более не находился у власти во Франции, то этот человек, который провёл в тюрьме семь месяцев, где с ним плохо обращались, вышел на свободу. Вскоре после этого он заявил, что в его планы более не входит покушение на мою жизнь, но что он убьёт короля Пруссии за то, что тот плохо обращается с саксонцами и с Саксонией. Вернувшись во Францию с острова Эльба, я должен был присутствовать при открытии законодательной ассамблеи, которое предстояло провести с большой пышностью. Когда я выходил на трибуну, чтобы открыть ассамблею, тот же самый человек, который пробрался в здание ассамблеи, случайно упал на пол, и при его падении в его кармане взорвался некий пакет с какими-то химическим средствами. От этого взрыва он был серьёзно ранен. Какие были у него намерения в этот раз, так и не удалось установить. Но взрыв вызвал большое смятение среди собравшихся на открытие ассамблеи, и этого человека арестовали. Я потом слышал, что он покончил с собой, бросившись в Сену».
Затем я спросил Наполеона, действительно ли он имел намерение осуществить вторжение в Англию, и если так, то каковы были его планы. Наполеон ответил: «Я бы сам встал во главе вторжения. Я отдал приказ двум флотилиям проследовать в Вест-Индию. Вместо того чтобы оставаться там, им следовало всего лишь продемонстрировать своё присутствие среди островов и направиться прямо в Европу, снять блокаду с Феррола, забрать оттуда корабли, проследовать в Брест, где в строю находилась флотилия примерно в сорок кораблей, объединиться с этой флотилией и вместе отплыть в Английский канал. Там наш объединённый флот не встретил бы серьёзного сопротивления и очистил бы канал от всех английских военных кораблей. Благодаря искусно подготовленным ложным разведывательным данным я рассчитывал на то, что вы направите свои эскадры в Ост-Индию и в Вест-Индию, а также в Средиземное море в поисках моих флотилий.
До того как английские корабли могли бы вернуться, я бы уже установил контроль над Английским каналом на срок до двух месяцев, ибо в моём распоряжении я должен был иметь около семидесяти кораблей в строю, не считая фрегатов. Я бы ускорил рейд моей флотилии с двумястами тысячами солдат к английским берегам, высадил свою армию, по возможности, у самого Чатема, и направился в Лондон, куда, в соответствии с моими расчётами, я должен был прибыть через четыре дня после высадки на берег. Я бы провозгласил в Англии республику (тогда я был первым консулом), упразднение аристократии и палаты пэров, распределил собственность последних, оказавших мне сопротивление, среди моих сторонников. Я также провозгласил бы свободу, равенство и суверенитет для народа. Я бы разрешил сохранить палату общин, но ввёл бы значительные реформы. Я бы опубликовал воззвание, объявив, что мы пришли в качестве друзей англичан для того, чтобы освободить страну от коррумпированной и преступной аристократии и восстановить народную форму правительства, демократию. Все эти мои меры были бы подтверждены поведением моей армии, ибо я не позволил бы ни малейшего нарушения закона со стороны моих войск. Мародерство, жестокое обращение с местным населением и даже малейшее несоблюдение моих приказов явилось бы немедленной причиной смертной казни виновников. Я полагаю, — продолжал Наполеон, — что моими обещаниями вкупе с тем, что я сумел бы достигнуть на деле, я бы завоевал поддержку большинства английского народа. В большом городе, подобном Лондону, где так много всякого сброда и так много недружелюбных людей, ко мне присоединилась бы внушительная часть общества. В то же самое время я бы вызвал восстание в Ирландии».
Я возразил Наполеону, заявив, что его армия была бы постепенно разбита, что в самое кратчайшее время против него выступил бы миллион вооружённых людей, и, более того, англичане скорее бы сожгли Лондон, чем стали страдать от мысли, что их город попал в его руки. «Нет, нет, — ответил Наполеон, — я не верю этому. Вы слишком богаты и вы слишком любите деньги. Ваша нация не совсем готова к тому, чтобы сжечь свою столицу. Как часто парижане клялись, что они скорее похоронят себя под руинами своей столицы, чем будут страдать от мысли, что она попадёт в руки врагов Франции, и, тем не менее, она дважды была захвачена неприятельскими войсками. Нет, господин доктор, ничего нельзя предугадать, что может случиться. Ни Питт, ни вы, ни я, никто из нас не смог бы предсказать, каков будет результат. Надежда на улучшение жизни и раздел собственности прекрасно бы воздействовали на сброд, особенно такой, как в Лондоне. Во всех богатых странах сброд почти одинаков. Я бы выступил с такими обещаниями, которые возымели бы сильный эффект. Какое сопротивление моей армии могла бы оказать недисциплинированная армия в стране, подобно Англии, изобилуемой равнинами? Я учитывал все, что вы мне сказали, но я рассчитывал на желаемый результат благодаря тому, что я бы овладел великой и богатой столицей, её банками и всем вашим богатством. Я ожидал, что в течение двух месяцев я буду осуществлять контроль над Английским каналом, благодаря чему я бы имел бесперебойное пополнение войск; и когда ваш флот вернулся бы, то обнаружил, что его столица находится в руках врага, а мои армии полностью овладели его страной.
Я бы запретил телесные наказания на флоте и пообещал вашим морякам буквально всё; это произвело бы на них большое впечатление. Воззвания, декларирующие, что мы пришли только в качестве друзей, чтобы освободить англичан от отвратительной и деспотической аристократии, чьей целью было постоянно держать страну в состоянии войны для того, чтобы обогащаться самим и обогащать свои семьи за счёт народной крови, вкупе с провозглашением республики, с запретом монархического государства и знати; декларация о конфискации собственности последних, в случае если они будут оказывать сопротивление, и её раздел между сторонниками революции со всеобщим уравнением прав на собственность, — всё это привело бы к моей поддержке не только со стороны сброда, но и со стороны многих недовольных в королевстве».
Я взял на себя смелость заявить, что на основании положения во Франции, которая недавно перенесла революцию, можно сказать, что среди французов наблюдается большое разделение во мнениях и, соответственно, в стране не так силён национальный дух, какой можно обнаружить среди англичан. Судя по последним частым злоключениям во Франции, французский народ относится к смене правительства с меньшим интересом, чем в сходной ситуации проявили бы себя англичане. Если англичане и не стали бы сжигать свою столицу, как это сделали русские, то они бы, по всей вероятности, защищали её улицу за улицей, и французская армия встретила бы свою судьбу там точно так же, как британская армия встретила свою в Росетте и в Буэнос-Айресе.
«Думаю, — согласился император, — что в Англии национальный дух более силен, чем во Франции, но всё же я не считаю, что вы способны на то, чтобы сжечь собственную столицу. Если же, в самом деле, вас бы предупредили за несколько недель, чтобы дать возможность увезти ваши богатства, то тогда, возможно, вы и пошли бы на то, чтобы поджечь город; но вы должны принять во внимание то обстоятельство, что у вас не было бы достаточно времени, чтобы организовать план действий. Кроме того, Москва была построена из дерева, и не местные жители подожгли ее. У них также было время, чтобы ко всему подготовиться. Что же касается защиты вашей столицы, то я бы не стал вести себя до такой степени зверски, как вы вели себя в Росетте, это во-первых; ибо, прежде чем у вас появилось бы время для организации обороны, я уже должен был быть у ваших дверей, и возникший мгновенно страх перед такой армией, какая была у меня, парализовал бы ваши усилия. Скажу вам, синьор доктор, — продолжал император, — что можно привести массу доводов и с той, и с другой стороны. Когда столица, ваша столица, — повторил он, — оказалась бы в моих руках, то это произвело бы потрясающий эффект.
После Амьенского мирного договора, — заявил Наполеон, — я бы также мог достичь хороших отношений с Англией. Что бы там ни говорили ваши министры, я всегда был готов заключить мир на условиях, в равной степени выгодных для обеих сторон. Я предложил заключить коммерческий договор, в соответствии с которым за товары, произведённые в Англии или в её колониях, Франция должна была заплатить миллион франков, а Англия, в свою очередь, должна была на эту же сумму закупить французские товары. Ваши министры в самой резкой форме отвергли мое предложение, посчитав его гнусным. Я бы пошёл и на заключение справедливого мира и на его поддержание, но ваши министры всегда отказывались заключить его на условиях, выгодных для обеих сторон, а затем хотели убедить весь мир, что именно я был нарушителем Амьенского мирного договора».
Я спросил Наполеона, кто были те люди, которые наняли изобретателей адской машины. «Не вызывает никаких сомнений в том, — ответил Наполеон, — что они были наняты графом д’Артуа и посланы на английские деньги и на английских кораблях Питтом. Хотя ваши министры фактически не подстрекали исполнителей злодеяния, но они знали, что те люди собирались сделать, и снабжали их средствами для этого. Я не думаю, — продолжал он, — что к этому был причастен Людовик».
Я осмелился спросить Наполеона, не ставил ли он своею целью стать властелином всего мира. «О нет, — ответил он, — я намерен был сделать Францию самой великой страной во всём мире, но я не ставил перед собой цель стать властелином мира. Например, у меня не было намерения расширять территорию Франции за пределы Альп. У меня была идея, когда у меня будет второй сын, а у меня были основания надеяться на это, сделать его королём Италии с Римом в качестве её столицы, объединив всю Италию, Неаполь и Сицилию в единое королевство, убрав Мюрата из Неаполя». Я спросил его, предоставил бы он Мюрату другое королевство. «О, это было бы, — ответил Наполеон, — легко устроить.
Если бы я, — заявил Наполеон, — властвовал в Англии, то я бы придумал несколько способов выплаты национального долга. С этой целью я бы присвоил все церковные средства, исключая десятую часть их доходов (кроме тех церковных приходов, чьи доходы были умеренными), таким образом, чтобы жалованье верхушки духовенства не превышало бы восьмисот или тысячи в год. Что собираются делать те священники с такими чрезмерными доходами? Они должны следовать указаниям Иисуса Христа, который предписывал, что они, будучи пастырями народа, должны показывать пример умеренности, человечности, добродетели и бедности, вместо того чтобы купаться в роскоши, богатстве и пребывать в праздности. До революции в Камбрэ две трети всех земель принадлежало церкви, а в большинстве других провинций Франции — одна четверть земель. С этой же целью я бы упразднил все синекуры, исключая те, которыми пользуются люди, оказывающие наиболее выдающиеся услуги государству; и даже им было бы поручено какое-нибудь дело, которым они обязаны были заниматься. Если бы вы эмансипировали католиков, то они бы с готовностью выплатили громадные суммы для того, чтобы ликвидировать национальный долг.
Не могу понять, — продолжал Наполеон, — почему ваши министры не эмансипировали их? В то время, когда все нации освобождаются от ограниченности и нетерпимости, вы сохраняете ваши постыдные законы, которые соответствуют временам двухвековой или даже трёхвековой давности. Если бы католический вопрос впервые подвергся серьёзному рассмотрению, то я бы дал пятьдесят миллионов, чтобы он не был разрешен: ибо его решение полностью разрушило бы мои планы в отношении Ирландии; так как католики, если бы вы эмансипировали их, стали бы такими же лояльными поданными, как и протестанты. Я бы, — продолжал Наполеон, — ввёл пятидесятипроцентный налог на прогульщиков и, возможно, понизил бы процентный доход на долг».
Я высказал ряд замечаний по поводу нетерпимости, которая проявлялась в некоторых случаях католиками.
«Как только вы избавите ваших католических собратьев от невозможности подняться выше определённого уровня, предоставите им возможность стать членами парламента и прекратите гонения на них, — ответил Наполеон, — вы обнаружите, что они более не будут нетерпимыми и фанатичными. Фанатизм — всегда дитя гонения. Эта нетерпимость, на которую вы жалуетесь, также является результатом ваших деспотических законов. Как только вы их отмените и сравняете права католиков с правами протестантов, вы через несколько лет обнаружите, что дух нетерпимости исчез. Делайте так, как я поступил во Франции с протестантами.
Пару дней тому назад, — продолжал император, — я обратил внимание на одно сообщение в газете, которому я не могу поверить, а именно о том, что во Франции обсуждается проект о заключении контракта с одной английской компанией о поставке железных труб для того, чтобы снабжать Париж водой. Этот проект получил одобрение французского правительства. Даже при том, что Бурбоны, насколько я их знаю, — сущие дураки, всё же эта информация, как мне представляется, не заслуживает доверия, поскольку во Франции есть тысячи и тысячи фабрикантов, способных самим выполнить этот проект. Столь непопулярный и столь пагубный по своей сути, этот проект мог быть придуман только безумцами. Пожалуй, этот проект может вызвать гнев и ненависть всей страны против Бурбонов в большей степени, чем любой план, который смогут предложить их заклятые враги, и может привести к их собственному падению и их высылке из Франции уже в третий раз. Если этот проект будет осуществлен и не приведёт к самым пагубным последствиям для Бурбонов, — с горячностью заявил Наполеон, — то считайте меня болваном и можете сказать, что я всегда был таковым. Пятьдесят лет назад подобная история вызвала бы страшные волнения во Франции».
30 января. Виделся с Наполеоном в бильярдной комнате. После высказываний в адрес губернатора по поводу лицемерия последнего Наполеон поручил мне довести до его сведения следующее послание: «Сообщите ему, что вследствие его поведения, которое заключалось в том, что он вначале согласился с предлагаемым посредничеством адмирала, но впоследствии ничего не предпринял, чтобы осуществить на практике это предложение, я считаю его человеком, которому нельзя верить. Он нарушил данное слово, это то, что не позволяли себе даже разбойники и бедуинские арабы, но не агенты британских министров. Передайте ему, что когда человек не держит своего слова, то он теряет всё, что отличает разумное существо от животного. Скажите ему, что он утратил это различие и я ставлю его ниже отпетого разбойника, промышляющего в пустыне. Вне зависимости от его поведения в отношении адмирала, — продолжал Наполеон, — он также нарушил своё слово относительно границ зоны нашего передвижения. Он поручил вам информировать меня о том, что нам разрешается совершать прогулки верхом в пределах старых границ и он специально назвал дорожку к дому мисс Мейсон якобы не подпадающую теперь под ограничения. Но вот всего лишь несколько дней тому назад Гурго поехал к коттеджу «Ворота Хата» и спросил там майора на сторожевом посту о снятии ограничений. Майор же ответил ему, что Гурго не может проехать пост и что губернатор никаких указаний об отмене данного ограничения не давал».
В связи с этим заявлением Наполеона я сообщил ему, «что с того времени, на которое он ссылается, сэр Хадсон Лоу дал указания разрешить ему (Наполеону) и всем членам его свиты проезжать по дороге, ведущей к дому мисс Мейсон, но члены его свиты не могут пользоваться этой дорогой, если они не сопровождают его (Наполеона)». Наполеон ответил, «что тогда эти указания не являются справедливыми и что давать подобные указания не входит в его компетенцию. Ибо, в соответствии с документом, который подписали его генералы по приказу правительства губернатора, они обязаны следовать тем ограничениям, которые предписаны мне, и не более. Поскольку данное ограничение мне не предписано, то, соответственно, оно их не касается и поэтому является незаконным».
В дополнение ко всему сказанному Наполеон поручил мне заявить, что он заранее предвидел, что согласие губернатора с предложением о посредничестве адмирала являлось лишь уловкой для того, чтобы выиграть время и помешать направлению жалобы французов в Англию с фрегатом «Оронтес». Ведь вследствие того, что сэр Хадсон Лоу принял предложение о посредничестве адмирала, граф Бертран прекратил писать жалобу французов, которую предполагалось направить принцу-регенту и правительству Англии. И хотя эта жалоба и не могла повлиять на принятие положительного решения о восстановлении прав французов, но всё же она бы доставила моральное удовлетворение от знания того, что нынешнее жестокое обращение с ним (Наполеоном) является результатом мер, принятых по приказу британского правительства, а не по указанию заурядного чиновника.
Отправился в город, чтобы передать губернатору это послание. Приехав в город, выяснил, что сэр Хадсон Лоу выехал из него. Посчитав, что Наполеон может передумать, а также узнав, что в гавань Джеймстауна прибыл корабль «Джулия» с новостями из Англии, я решил не ехать в «Колониальный дом». Получил несколько газет и вернулся в Лонгвуд. Нашёл Наполеона, принимавшего тёплую ванну. У него опухли ноги. В ответ на мою рекомендацию совершить верховую прогулку Наполеон заявил, что у него была идея попросить адмирала проехаться вместе с ним, но он опасается, что это может вызвать неприятности у адмирала в его отношениях с губернатором.
В одной из газет было опубликовано сообщение о том, что брату Наполеона Жозефу была предложена верховная власть в испанской Южной Америке. «Жозеф, — сказал Наполеон, — очень талантливый и умный человек, но для того чтобы быть королём, он слишком добр и слишком любит искусство и литературу. Однако он принёс бы большую пользу Англии, так как в ваших руках оказалась бы вся торговля с испанской Америкой. В силу очевидных причин Жозеф не станет и действительно не сможет торговать ни с Францией, ни с Испанией; а Южная Америка не сможет существовать без импорта большого количества европейских товаров. Получив меня в ваши руки, вы бы всегда смогли добиться выгодных условий в переговорах с Жозефом, который искренне любит меня и готов все для меня сделать».
31 января. Отправился в «Колониальный дом» и в самой умеренной, насколько это позволяли обстоятельства, тональности поставил сэра Хадсона Лоу в известность о послании Наполеона. Его превосходительство ответил, что ему безразлично, какие именно жалобы генерал Бонапарт отправил в Англию, и что он уже сам послал свои замечания к имеющимся ограничениям. Он не возражает, чтобы адмирал был принят Наполеоном для обсуждения известного вопроса, но что он (губернатор) ожидает, что адмирал сначала придёт к нему и решит с ним возникшую проблему. Я напомнил губернатору, что сэр Пультни Малькольм, конечно, не примет на себя обязательство стать посредником до тех пор, пока он сначала не переговорит об этом с ним (с сэром Хадсоном) и не получит от него соответствующие санкции. Я подсказал губернатору, что ещё в самом первом предложении, которое было сделано в отношении посредничества адмирала, было оговорено, что это посредничество должно быть санкционировано губернатором. Сэр Хадсон Лоу отрицал, что такая оговорка имела место. Я попросил губернатора проверить моё заявление, сверившись с моим письмом по данному вопросу. Когда принесли моё письмо, сэр Хадсон Лоу, прочитав его, с недовольным видом признал, что я был прав. Я затем напомнил губернатору, что он также сказал, когда его ознакомили с предложением, что он сам переговорит с адмиралом об этом предложении до того, как адмирал предпримет какие-либо шаги для организации посредничества между ним и Наполеоном.
Сначала губернатор отрицал и это моё заявление, но после продолжительной дискуссии решил дать следующий ответ: «Губернатор в настоящее время готовит ответ на замечания графа Бертрана. Когда губернатор закончит эту работу, он направит соответствующее письмо графу Бертрану, и тогда, если потребуются ещё какие-либо договорённости, губернатор не будет возражать против того, чтобы разрешить адмиралу или любому другому лицу, которое генерал Бонапарт может посчитать подходящим для этой цели, действовать в качестве посредника; хотя само посредничество любого лица не будет иметь абсолютно никакого влияния на то, чтобы вынудить губернатора разрешать ему сделать что-либо в большей или меньшей степени, чем то, что он бы делал по собственной воле и по собственному суждению. Ожидание рекомендаций из Англии были причиной задержки принятия решения о поручении адмиралу взять на себя роль посредника».
Сэр Хадсон поручил мне показать этот его ответ Наполеону и в то же время вручил мне копию его собственного ответа на первоначальное предложение о посредничестве с замечаниями Наполеона на оборотной стороне. Губернатор попросил меня обратить внимание на одно из замечаний Наполеона, которое, наряду с его специфическим характером, следует объяснить генералу Бонапарту, что «оно в своей сущности заставляло верить в то, что генерал Бонапарт был намерен отказаться от посредничества адмирала».
После этого я повторил сэру Хадсону Лоу заявление, сделанное Наполеоном, по поводу незаконности попыток губернатора подвергнуть лиц из его свиты бо́льшим ограничениям, чем те, которые были навязаны самому Наполеону; я также повторил то, что Наполеон сказал об инциденте с генералом Гурго. На это сэр Хадсон ответил, «что, будучи губернатором, он властен не только делать одолжение, но и отказывать в этом тогда, когда ему это заблагорассудится. Если он сделал в чём-то уступку генералу Бонапарту, то это не значит, что он обязан делать то же самое в отношении остальных лиц: члены свиты генерала Бонапарта свободны в своём желании покинуть остров тогда, когда они этого захотят, если им не нравится, как с ними здесь обращаются, и т. д.»
Губернатор также попросил меня повторить генералу Бонапарту, что запрещение разговаривать с посторонними лицами было актом вежливости и дружелюбной формой предупреждения. Я обратил внимание губернатора на то, что не думаю, что Наполеон воспользуется любым видом снисхождения к нему до тех пор, пока то же самое не будет оказано всем остальным французам. Его превосходительство ответил, «что он не может даже подумать о том, чтобы разрешить офицерам генерала Бонапарта слоняться по всему острову, рассказывая неправду о нём (о сэре Хадсоне), как это делали Лас-Каз и Монтолон. Для генерала Бонапарта было бы лучше, если бы при нём не было таких лжецов, как Монтолон, и таких хныкающих сукиных сынов, как Бертран».
Я сказал, что Наполеон также обратил внимание на то обстоятельство, что не представляется возможным, чтобы все ограничения могли быть введены согласно специфическим инструкциям министров, поскольку губернатор в силу данной ему власти сам отменил некоторые из них, что если бы они были введены по приказу министров, то он, губернатор, не посмел бы пойти на это, не получив сначала их разрешения, для чего ещё не было достаточно времени. Его превосходительство, видимо, был застигнут врасплох, так как он не задумываясь ответил: «Ограничения не были введены по приказу министров; ни мне, ни сэру Джорджу Кокбэрну не были даны указания в деталях. На самом деле всё полностью оставляется лишь на мое суждение, я могу принимать меры, которые сочту необходимыми, и фактически я могу решать всё так, как мне заблагорассудится. Я имею приказ проявлять особую осторожность, чтобы он не сбежал с острова, а также препятствовать любого рода переписке с ним, за исключением той, которая проходит через мои руки. Всё остальное оставлено на моё усмотрение».
1 февраля. Информировал Наполеона о том, что мне было поручено сэром Хадсоном Лоу. Показал Наполеону ответ его превосходительства на предложение о посредничестве с замечаниями Наполеона на оборотной стороне.
«Я утверждаю и буду продолжать утверждать, — ответил император, — что его последние ограничения даже хуже, чем те, которые действуют в Ботани Бей, потому что даже там не делается попыток запрещать людям говорить. Совершенно бесполезно для него пытаться убедить нас в том, что с нами хорошо обращаются. Мы — не простофили и не простой народ. Нет ни одного свободнорождённого человека, чьи волосы не встали бы дыбом, прочитав подобный гнусный документ, запрещающий разговаривать. Его утверждение о том, что это запрещение является актом вежливости, есть не что иное, как явное издевательство, и только добавляет к оскорблению насмешку. Я прекрасно понимаю, что если он действительно намерен в чём-то оказать снисхождение, то в его власти сделать это без всякого посредника. Он проявил присущий ему признак слабоумия, когда он принял предложение о посредничестве только для того, чтобы, однажды приняв его, потом не сдерживать своего слова. Иногда я думаю, что он просто палач, который приехал сюда, чтобы подвергнуть меня смертной казни; но, скорее всего, он — просто ни к чему не способный человек, не имеющий сердца и не понимающий своих обязанностей».
Несколько дней назад граф Бертран передал запечатанное письмо капитану Попплтону, адресованное сэру Томасу Риду. Так как капитану Попплтону было приказано направлять все запечатанные письма губернатору, то он и направил его в «Колониальный дом», где оно было распечатано сэром Хадсоном Лоу, обнаружившим, что в конверте находилось открытое письмо, адресованное отцу Бертрана и сообщавшее о родах графини Бертран. К письму была приложена записка сэру Томасу, содержавшая просьбу отправить письмо в Европу по обычным каналам. В письме были слова, «мы пишем» г-ну де ла Туш и т. д., «сообщить следующую информацию» и т. д. Сэр Хадсон Лоу понял эти слова так, что они уже «ранее писали», и немедленно послал графу Бертрану письмо с выговором, которое спешным образом было переслано в Лонгвуд с дежурным драгуном.
Встретил сэра Хадсона Лоу на холме над коттеджем «Ворота Хата». Сообщил ему об ответе Наполеона. Его превосходительство повторил, что запрещение разговаривать, на которое так много жаловались французы, не являлось приказом, но скорее просьбой и примером заботы со стороны его (сэра Хадсона) для того, чтобы воспрепятствовать необходимости вмешательства британского офицера, которая бы возникла в противном случае.
«Вы сообщили ему об этом?» — спросил сэр Хадсон Лоу. Я ответил, что да, сообщил. «Хорошо, ну и что же он на это ответил?» Я процитировал ответ Наполеона, содержание которого явно не понравилось губернатору. Я соответственно информировал губернатора о том, что снабжение Лонгвуда водой настолько недостаточно, что иногда нельзя в полной мере наполнить ванну для Наполеона, и что получение необходимого количества воды в Лонгвуде стало вообще большой проблемой. В ответ сэр Хадсон Лоу заявил, «что он не знает, с какой стати генералу Бонапарту надо так части и так долго томиться в горячей воде в то время, как 53-й пехотный полк не может в достаточной мере получить для себя воды, чтобы готовить еду».
2 февраля. Наполеон принимает ванну. «Этот губернатор, — заявил он, — два или три дня тому назад прислал письмо Бертрану, которое убеждает меня в том, что этот человек представляет собой редкую смесь тупоумия и наивной хитрости, но среди всех качеств у него всё же превалирует неспособность к чему-либо. Он написал Бертрану письмо в таком тоне, как будто писал ребёнку восьми или десяти лет от роду, потребовав, что если тот направляет письма в Европу, пользуясь иными каналами, минуя его (губернатора), то он обязан сообщать ему, какими именно. Он же не понимает французского языка. Французскому языку свойственна изысканность, а именно, когда вы пишете предложение в настоящем времени, например «я пишу», то это означает, что вы определённым образом намерены написать, но ещё не написали. Это изысканная форма использования настоящего времени вместо будущего. Если бы Бертран написал слова «я написал», то это действительно означало бы, что он ранее писал; но «я пинту» означает твердое намерение и решимость сделать то, что ещё не сделано. Можно было бы извинить губернатора за то, что ему незнакома изысканность чужого для него языка, если бы он не осмелился делать замечания по поводу его использования. В этой ситуации ему следовало бы пойти по стопам духовника, забыв о содержании письма после того, как он внимательно ознакомился с ним».
3 февраля. Беседовал с Наполеоном по поводу попытки губернатора запретить ему разговаривать с посторонними лицами. «В соответствии с законом этот губернатор не имеет права навязывать мне какие-либо ограничения. Билль, какой бы он ни был незаконный и несправедливый, говорит, что я обязан подчиняться тем ограничениям, которые министры считают подходящими и необходимыми, но он не говорит о том, что они полномочны передавать это право какому-нибудь другому лицу. Поэтому любое ограничение, навязанное мне, должно быть подписано не только министром, но и, собственно говоря, всем кабинетом министров.
Возможно, — продолжал Наполеон, — что частично его плохое обращение со мной обязано его тупоумию и его страху, что я смогу сбежать с этого острова, ибо он человек, у которого отсутствуют моральные устои. Это человек, у которого наивная хитрость сочетается со сверхмерным тупоумием. Его назначение на должность губернатора этого острова наносит вред его стране, а также является унижением и оскорблением для императора Австрии, для императора России и для всех тех монархов, которых я побеждал и с которыми имел дело.
Во время встречи 31 января с сэром Пультни Малькольмом и его супругой я сказал госпоже Малькольм, — продолжал Наполеон, — что я с большим уважением относился к вашей стране и продемонстрировал, как высоко я оценивал честь Англии, когда отдал себя в её руки после столь долгих лет войны, сделав предпочтение в её пользу, а не в пользу моего тестя, императора Австрии, и не в пользу моего старого друга, императора Александра. Я также сказал ей, что если бы я остался во Франции, то англичане были бы моими лучшими друзьями. Объединившись, мы бы покорили весь мир. Доверие, которое я питал к англичанам, свидетельствует о моём высоком мнении о них и о тех шагах в мировой политике, которые бы я предпринял, если бы моим другом стала такая страна: и мои шаги увенчались бы успехом. Я бы пожертвовал всем, чтобы добиться дружбы с английским народом. Англия — это единственная страна, которую я высоко чтил. Что же касается русских, австрийцев и других наций, — заявил Наполеон с презрительным выражением лица, — то к ним я не чувствовал уважения.
Теперь я сожалею, что придерживался ошибочного мнения. Ибо если бы я сдался императору Австрии, то он, хотя он мог не соглашаться со мной по политическим вопросам и считал необходимым лишить меня трона, встретил бы меня как близкого друга и относился бы ко мне со всей сердечностью. Точно так же поступил бы мой старый друг император России. Обо всём этом я и сообщил госпоже Малькольм; а также о том, что отношение калабрийцев к Мюрату было с их стороны проявлением настоящей гуманности по сравнению с тем, что приходится испытывать мне здесь, поскольку калабрийцы вскоре положили конец страданиям Мюрата, но здесь они медленно убивают меня мелкими уколами шпилек.
Думаю, что ваша страна едва ли будет испытывать малейшее чувство благодарности к этому губернатору за то, что он покрыл её позором, который навсегда будет запечатлен в мировой истории. Ибо вы — гордый народ; честь вашей страны для вас в душе стоит превыше, чем ваши деньги. Свидетельством этого служат те тысячи, которые ваши милорды разбрасывают направо и налево во Франции и в других странах континента, чтобы возвысить и прославить английское имя. Многие представители вашей аристократии и других сословий пожертвовали бы тысячами, чтобы стереть клеймо позора, которым этот глупец покрыл вашу страну».
6 февраля. Сэр Хадсон Лоу провёл со мной длительную беседу в отношении Наполеона. Смысл его слов заключался в том, что если он восстановит старые границы зоны передвижения французов, то Наполеон не должен посещать дома, находящиеся в этой зоне. Я доложил губернатору о том настроении, в котором вчера пребывал Наполеон. Его превосходительство заявил, что существует большая разница между границами для верховых прогулок и правилами, ограничивающими переписку и поддержание связи французов с внешним миром; если он (губернатор) расширит границы передвижения, то это не означает отмену ограничений, запрещавших посещение домов в зоне передвижения Наполеона без сопровождения британского офицера.
Я напомнил губернатору о том, что внутри границ зоны Вуди Рейндж есть только четыре дома. Сэр Хадсон заявил, что, возможно, эту проблему можно будет решить: он передаст генералу Бонапарту список тех домов, в которые ему будет разрешено входить. Я информировал губернатора о том, что Наполеон заявил, что, если бы он задумал завести интригу или организовать тайный заговор с полномочными представителями союзнических стран или с кем-либо ещё, он мог бы легко это осуществить, уведомив их о встрече с ним в пределах зоны передвижения французов; но что он (Наполеон) никогда не станет делать что-либо, имеющее видимость интриги или тайного заговора. Сэр Хадсон возразил мне, сказав, что «генерал Бонапарт никогда не мог обойтись без интриг и никогда не сможет». Затем губернатор поручил мне сообщить Наполеону, что он ежедневно ожидает прибытия корабля с новыми указаниями и с разрешением расширить границы зоны передвижения французов, что он не будет возражать против того, чтобы разрешить генералу Бонапарту заходить в некоторые дома, которые он (сэр Хадсон) укажет в специальном списке, направленном графу Бертрану.
7 февраля. Сообщил Наполеону об идеях сэра Хадсона Лоу. «Если бы он предоставил в моё распоряжение весь остров при условии, что я дам слово не делать попытки побега, — заявил Наполеон, — то я бы отказался от этого, так как это бы означало, что я признаю себя пленником, хотя в то же время я бы не собирался бежать. Я привезен сюда силой и не по праву. Если бы меня взяли в плен в сражении при Ватерлоо, то, возможно, я бы подчинился силе, хотя даже в этом случае это противоречило бы закону наций, так как состояния войны сейчас нет. Если бы они дали мне разрешение поселиться в Англии на аналогичных условиях, то я бы отказался от этого. Я не понимаю, что он имел в виду, говоря о переписке. Чего он боится? Может быть, полномочных представителей союзнических стран? Адмирал никогда не боялся того, что о его поведении будет напечатано в газетах. Я надеюсь, — продолжал Наполеон, — что вы сказали ему, что он не имеет права навязывать мне любые ограничения, ели они не подписаны министрами».
Я ответил Наполеону, что об этом я уже говорил губернатору, но тот заявил, что в его власти вводить любые ограничения, которые он посчитает необходимыми.
«Согласно принятому парламентом биллю, — возразил Наполеон, — он не имеет такого права. По закону силы он может делать всё, что ему вздумается, так же, как английский парламент легализовал противозаконность, санкционировав изгнание человека вопреки законам наций, честности и своей собственной чести. Но даже несмотря на это не разрешается передавать полномочия».
Сделав несколько других замечаний по поводу идей сэра Хадсона Лоу, Наполеон попросил меня сообщить губернатору, «что, если он (губернатор) направит список домов для посещения графу Бертрану или сообщит ему, что в пределах зоны передвижения французов есть два или три дома, посещение которых, по мнению губернатора, будет нежелательным, то я откажусь от посещения любого из них, так же как и домов полномочных представителей союзнических держав. Если он установит именно такой порядок, то он будет понятен, но если он пришлёт список всех домов для посещения на острове, за исключением одного, и при этом оговорит, что я могу посещать все дома, кроме этого одного, то тогда это будет для меня неприемлемо. Тогда как, с другой стороны, если он составит список, перечислив все дома на острове, не упомянув при этом ещё один дом, и заявит, что он не желает, чтобы я посещал дома, внесённые в его список, но не сделает каких-либо замечаний по поводу дома, не упомянутого в его списке, то я скорее соглашусь с этими условиями, чем с предыдущими, хотя я смогу посещать только один дом, тогда как в первом случае я мог бы посещать все дома, кроме одного. Согласившись с тем условием, что я смогу посещать все дома, кроме одного, я в этом случае буду выглядеть так, словно я смогу посещать дома в соответствии с его разрешением, в то время как в последнем случае мне даётся свободный выбор, вследствие того что в списке не упомянут один дом и мне предоставляется возможность действовать по моему усмотрению, а именно: посещать этот единственный дом или нет. То есть посещение этого дома словно будет зависеть от моей доброй воли. Сообщите ему обо всём этом, — продолжал Наполеон, — хотя я уверен в том, что это его очередной трюк, который ни к чему не приведёт.
Думаю, — добавил Наполеон, — что англичане так плохо обращаются со мной благодаря моей счастливой звезде, точнее, её ничтожным остаткам. По меньшей мере, этот человек, которого они прислали сюда губернатором, поэтому и ведёт себя подобным образом. По крайней мере последующие поколения отомстят за меня».
Последние дни поставляемое в Лонгвуд мясо было такого плохого качества, что дежурный офицер посчитал своим долгом вернуть это мясо, сопроводив его запиской с официальной жалобой.
8 февраля. Отправился в «Колониальный дом» и передал сэру Хадсону Лоу суть вышеприведённой беседы с Наполеоном. Его превосходительство ответил, что в соответствии с предложенной договорённостью основные затруднения были преодолены и что он об этом будет говорить с графом Бертраном.
10 февраля. Информировал Наполеона о том, что я сообщил о его пожеланиях сэру Хадсону Лоу, который пообещал переговорить с графом Бертраном на эту тему. Наполеон ответил: «Вы можете быть уверены в том, что их разговор ни к чему не приведёт. Губернатор сообщал вам обо всём этом лишь для того, чтобы вновь обмануть вас. Он поведёт себя точно так же, как и во время решения проблемы посредничества адмирала.
Гурго, — добавил Наполеон, — останавливают у коттеджа «Ворота Хата» каждый день. Часовой кричит: «Стой!», затем из помещения сторожевого поста выходит сержант и после краткой совместной консультации говорит: «Проезжайте!»
Затем Наполеон заговорил об Александрии.
«Ваши министры, — заявил он, — поступили весьма неблагоразумно, не сохранив в своих руках Александрию. Ибо если бы тогда удержали у себя Александрию, то сейчас на её захват не смотрели бы как на грабёж за давностью времени, и она бы оставалась у вас тихо и спокойно. Пяти тысяч солдат было бы достаточно, чтобы укомплектовать гарнизон для её защиты, и все затраты на него окупились бы активной торговлей, которую вы бы имели в Египте. Вы могли бы запретить ввоз в Египет любой продукции, кроме английской, и, соответственно, вам бы досталась вся торговля Египта, так как в стране нет другого морского порта. С моей точки зрения, это приобретение для вас было бы более предпочтительным, чем Гибралтар или Мальта. Как только Египет станет собственностью французов, англичане могут тогда сказать «Прощай, Индия!» Это был один из моих великих проектов, осуществление которых было моей целью. Я знаю, почему вы не очень высоко ценили Гибралтар: там плохая гавань и сам Гибралтар стоил громадных денег. Из Гибралтара вы не можете помешать проходу флотилии в Средиземное море. Когда я был монархом Франции, меня больше устраивало то, что Гибралтар находился в ваших руках, а не в испанских; потому что владение вами Гибралтаром всегда питало ненависть испанцев против вас».
Я заметил, что, как сообщалось, он был намерен организовать осаду Гибралтара и с этой целью направил большую армию в Испанию; хотя другие говорили, что целью Наполеона было просто закрепиться в Испании, сделав её плацдармом для своих войск. Наполеон рассмеялся и сказал: «Это правда, Турция, — добавил он, — должна была вскоре пасть, и нельзя было подвергнуть её разделу без того, чтобы не выделить для Франции какую-нибудь её часть, которая должна была быть Египтом. Но если бы вы удержали в своих руках Александрию, то вы бы помешали Франции овладеть Египтом и, в конечном счёте, захватить Индию, которая бы безусловно последовала за Египтом».
12 февраля. Нашёл сэра Хадсона Лоу, сидевшего в отдельной комнате с сэром Томасом Ридом. Потом беседовал с губернатором в библиотеке о предложении, сделанном ему 8 февраля. Его превосходительство, однако, никак не мог понять, почему посещение только тех домов, разрешённых им, и отказ от посещения домов, отмеченных в его списке как нежелательные, не было в точности тем же самым, что посещение домов, упомянутых в списке. В итоге губернатор, находясь в явно испорченном настроении, заявил, что генерал Бонапарт что-то замыслил во всём этом деле с посещениями домов, и поэтому он вообще не даст никакого своего согласия на посещение домов. Я обратил внимание губернатора на то, что довольно прискорбно, что он просил меня давать какие-нибудь предложения по любому вопросу только для того, чтобы они могли послужить основанием для нового обвинения в обмане. Вместо ответа на мою реплику его превосходительство попросил меня сказать генералу Бонапарту (а это он частенько проделывал и раньше при аналогичных обстоятельствах), что генерал Бонапарт может считать, что ему очень повезло, ибо ему приходится иметь дело с таким хорошим человеком, как он (губернатор), и т. д.
Вечером Наполеон дал мне указание, чтобы в будущем я более не приносил ему какие-либо послания или предложения от сэра Хадсона Лоу, не спросив вначале последнего о том, каков будет результат этих посланий и предложений, при том условии, если он (Наполеон) согласится с ними. «Он — лгун, — заявил Наполеон, — он — человек, говорящий намёками и обожающий инсинуации, как и мелкие тираны Италии, который ничего общего не имеет с истинным англичанином и который объят страстью мучить людей и придираться к ним».
10 февраля сэру Хадсону Лоу было направлено заявление с просьбой разрешить Киприани отправиться (под охраной солдата) в долину для того, чтобы закупить у фермеров овец и овощей, поскольку мясо, присылаемое правительством в Лонгвуд, несъедобно. Сэр Хадсон Лоу отказал в этой просьбе. Ежедневный рацион мяса, овощей, вина и других продуктов для обитателей Лонгвуда поставлялся в Лонгвуд в повозках под жгучими лучами солнца. Уже в дороге многие продукты оказывались непригодными для использования.
14 февраля. Во время завтрака с Наполеоном разговор коснулся России. «Если бы император Павел был жив, — заявил Наполеон, — то мир с Англией был бы достигнут в самое короткое время, так как долго сражаться с объединёнными силами северных держав было бы невозможно. Я писал Павлу, предлагая продолжать строить корабли и попытаться объединить север против Англии; не затем, чтобы вновь сражаться на море, так как англичане добились бы в сражениях успеха, а для того, чтобы Англия постепенно истощала свои силы и во что бы то ни стало направила в Средиземное море большую флотилию».
Далее разговор зашёл о том, как министры Англии обращаются с ним. Наполеон сказал, что они относятся к нему намного хуже, чем к императрице Марии.
«С Марией, — заявил Наполеон, — обращались гораздо лучше. Ей разрешали писать кому угодно, лишь бы у неё было желание. Она содержалась в Англии, что само по себе значило многое. По-видимому, она скорее всего подвергалась гонениям из-за её религиозной принадлежности, а не в силу каких-либо иных причин». Я возразил, сказав, что Мария обвинялась в том, что была сообщницей в убийстве своего мужа. Наполеон, согласившись с этим, сказал:
«В этом нет ни малейших сомнений. Потом она даже вышла замуж за убийцу своего мужа.
Александр содержит на службе убийц своего отца. Один из них, а именно О., сейчас является его адъютантом. Однако я должен признать, что в Тильзите он обратил моё внимание на то, что меня заинтересовал Б., и спросил меня: почему? Я ответил: потому что он — ваш генерал. «Между прочим, — сказал Александр, — он — гнусный мерзавец. Это он убил моего отца, и только политике я обязан тем, что держу его на службе, хотя и желаю ему смерти и вскоре прогоню его с глаз долой за его дела».
Павел, — продолжал Наполеон, — был убит Буксгевденом, О., Паленом и другими. У дверей спальни Павла на часах стоял верный ему казак.
Заговорщики подошли к двери и потребовали, чтобы часовой впустил их в спальню. Пален сказал казаку, кто он такой и что он хотел бы видеть императора по неотложному делу. Верный императору казак отказался пустить заговорщиков. Они напали на казака и после отчаянного сопротивления со стороны последнего изрубили его на куски. Павел, лежавший в постели, услышав шум, вскочил и попытался убежать в апартаменты императрицы. К несчастью для него, находившийся во власти подозрений, он за день или два до этих событий приказал запереть двери, ведущие в комнаты императрицы. Тогда он вернулся в свою спальную комнату и спрятался в стенном шкафу. Тем временем заговорщики, сломав двери, ворвались в спальню императора и, подбежав к постели, обнаружили, что в ней никого нет. «Мы погибли, — вскричали заговорщики, — он сбежал». Пален, больше других сохранявший хладнокровие, подошёл к постели и, сунув руки под простыни, заявил: «Гнёздышко — тёплое, птичка не могла улететь далеко». Тогда заговорщики стали обследовать комнату и в конце концов вытащили Павла из его убежища. Они представили Павлу лист бумаги с подготовленным текстом о его отречении от трона, потребовав, чтобы он подписал этот документ. Сначала Павел отказался его подписывать, но потом сказал, что подпишет, если заговорщики отпустят его. Тогда они схватили его и сбили с ног, пытаясь задушить. Павел оказал отчаянное сопротивление, и Буксгевден, опасаясь, что на помощь Павлу могут прийти, решил покончить с ним, с силой ударив каблуком сапога в глаза Павла и тем самым выбив у него мозги, в то время как остальные заговорщики держали Павла прижатым к полу. Павел в пылу борьбы за свою жизнь в какой-то момент зубами впился в каблук Буксгевдена и откусил от каблука кусочек кожи».
Я спросил Наполеона, как он считает, был ли император Павел сумасшедшим. «Под конец своей жизни, — ответил Наполеон, — думаю, что да, был. В начале своего царствования он был сильно предубеждён против революции и ко всем, кто имел отношение к ней; но по прошествии времени я нашёл его благоразумным и полностью изменил мнение о нём. Если бы Павел был жив, то к настоящему времени вы бы уже потеряли Индию. Между Павлом и мною была достигнута договорённость об осуществлении вторжения в Индию. Я разработал план вторжения. Мне предстояло выделить для вторжения армию в тридцать тысяч отборных солдат. Павел должен был направить для вторжения такое же количество лучших своих солдат и сорок тысяч казаков. Я должен был субсидировать десять миллионов для покупки верблюдов и других необходимых вещей, чтобы пересечь пустыню.
Мы с Павлом должны были обратиться к королю Пруссии с просьбой обеспечить марш моих войск через его владения, которая была бы немедленно удовлетворена. В то же время я должен был запросить короля Персии о возможности использования его территории для прохода моих войск к границам Индии. Такая возможность также была бы мне предоставлена, хотя переговоры об этом ещё не были полностью завершены, но в их успехе у меня не было сомнений, так как персы были заинтересованы в получении выгоды от этого. Моим войскам предстояло направиться в Варшаву, где они соединились бы с русскими и с казаками, и далее мы бы совершили совместный марш к Каспийскому морю и там или продолжили путь морем, посадив войска на корабли, или проследовали к границам Индии по земле, в зависимости от обстоятельств. Я опередил вас, направив посла в Персию, чтобы провести там выгодные для персов переговоры. С того времени ваши министры наделали достаточно глупостей, позволив России получить четыре провинции, которые увеличили её территорию уже за горами Кавказа. В первой же войне, которую вы начнёте с русскими, они отберут у вас Индию».
Я затем спросил Наполеона, правда ли, что Александр хотел захватить Турцию. Наполеон ответил: «Все его мысли были направлены на то, чтобы покорить Турцию. Мы много дискутировали по этому поводу; вначале я благосклонно относился к его предложениям, поскольку считал, что мир с облегчением вздохнёт, когда эти животные, турки, будут изгнаны из Европы.
Но когда я поразмышлял о последствиях этой перекройки карты Европы, то понял, что тогда необычайно возрастёт мощь России, учитывая то количество греков, проживающих на территории Турции, которые, естественно, присоединятся к русским. Поэтому я отказался дать согласие на это, особенно ещё и в связи с тем, что Александр хотел получить Константинополь, чего позволить я не мог, так как в этом случае было бы нарушено равновесие сил в Европе.
Я пришёл к мысли, что если Франция овладеет Египтом, Сирией и островами в Средиземном море, то это будет ничто по сравнению с тем, что получит Россия. Я посчитал, что варвары с севера уже и так очень сильны, и, вероятно, с течением времени они овладеют всей Европой, что, как я думаю сейчас, и случится. Австрия уже дрожит от страха, Россия и Пруссия объединились, Австрия рушится, и Англия не может помешать этому. Франция под пятой нынешней королевской семьи ничего из себя не представляет, а австрийцы настолько трусливы, что их легко можно будет сломить. Это страна, которой можно управлять ударами кнута. Они не смогут оказать никакого сопротивления русским, которые храбры и настойчивы.
Россия — наиболее грозная страна в Европе, потому что она никогда не может разоружиться. В России мужик, став однажды солдатом, навсегда остаётся им. Русские — это те же варвары, которые, можно сказать, не имеют родной страны, и для которых любая страна лучше той, в которой они родились. Когда казаки вступили во Францию, то для них было всё равно, каких женщин они насиловали, старых или молодых — все французские женщины были для них на одно лицо, так как любая из них была для них предпочтительней, чем те, которых они оставили в своей стране. Более того, русские — бедны, и им необходимо завоёвывать новые территории. Когда я умру и отправлюсь на тот свет, то меня будут вспоминать с уважением и глубоко чтить за то, что я предвидел и пытался остановить то, что пока ещё только произойдёт. Меня будут глубоко почитать тогда, когда варвары севера станут обладать Европой, чего не случилось бы, если бы не вы, синьоры англичане».
Наполеон выразил большое беспокойство в отношении графа Монтолона, так как губернатор позволил себе намекнуть, что сейчас рассматривается вопрос о высылке Монтолона с острова. «Я буду остро чувствовать, — продолжал Наполеон, — потерю Монтолона; так как, независимо от того, что он мне глубоко предан, он для меня очень полезен. Я знаю, что он будет очень опечален тем, что ему придётся покинуть меня, хотя, по правде, для него было бы хорошо, если он будет выслан с этого пустынного места и возвращён к своим близким друзьям, поскольку он не объявлен вне закона на родине и ему нечего опасаться во Франции. Более того, поскольку по своему происхождению он принадлежит к знатной семье, то он, если пожелает, сможет легко добиться расположения Бурбонов».
Я сопровождал графиню Монтолон, наносившую визит госпоже Лоу в «Колониальный дом». Там встретил сэра Хадсона, который заявил, что «у него нет никакого доверия к заверениям генерала Бонапарта и что он решил, что генерал Бонапарт не должен посещать какой-либо дом на острове без сопровождения британского офицера». Затем мне пришлось дискутировать с его превосходительством по поводу пропусков, которые он ранее выдавал лицам, желавшим нанести визит Наполеону в Лонгвуде. Сэр Хадсон Лоу пытался убедить меня в том, что он никогда не выдавал пропуск только на один определённый день[12], и что майор Горрекер может подтвердить правдивость его слов. Я обратил внимание губернатора на то, что несколько лиц, которым он выдал пропуска, показывали их графу Бертрану в коттедже «Ворота Хата», обращая его внимание на то, что в пропуске значился один определённый день визита и в связи с этим они просили Бертрана приложить усилия, чтобы побудить Наполеона встретиться с гостями, поскольку их пропуска подлежат аннулированию после дня, указанного в пропуске. Сэр Хадсон сердито ответил мне, что «они были лжецами».
Когда я покидал «Колониальный дом», сэр Хадсон Лоу сказал мне, что я могу захватить с собой несколько номеров газеты «Смесь» в Лонгвуд и показать их генералу Бонапарту.
Возвратившись в Лонгвуд, я сообщил Наполеону, что получил несколько номеров периодической газеты «Смесь», которая, добавил я, чрезвычайно оскорбительно относится к нему. Наполеон рассмеялся и сказал: «Дети обращают внимание только на брань». И затем попросил принести ему номера этой газеты. Когда он увидел газеты, то воскликнул: «А! Пеллетье. Он клеветал на меня все эти двадцать лет. Но я очень рад получить эти номера».
17 февраля. Наполеон сообщил мне, что он нашёл газету Пеллетье «Смесь» очень интересной, хотя в ней содержится много лжи и глупостей. «Я прочитал опубликованный в ней отчёт о битве при Ватерлоо, который близок к истине. Я раздумывал о том, кто мог быть его автором. Это, должно быть, кто-то из моих приближённых. Если бы не эта глупость Груши, — добавил Наполеон, — я бы добился победы в тот день».
Я спросил его, не считает ли он, что Груши намеренно предал его. «Нет, нет, — возразил Наполеон, — но в нём не хватало энергии. Кроме того, среди штабистов находился предатель. Думаю, что кто-то из штабных офицеров, которого я направил к Груши, предал меня и перешёл на сторону врага. Однако в этом я не совсем уверен, так как с тех пор никогда не видел Груши».
Я задал вопрос Наполеону, не считает ли он, что маршал Сульт действовал в его интересах. Наполеон ответил: «Конечно, именно так я и считал. Но Сульт не предавал Людовика, как предполагалось, он также не был причастен к моему возвращению с Эльбы и к высадке на берег Франции. В течение нескольких дней Сульт считал меня сумасшедшим и что я обязательно погибну. Несмотря на это, всё складывалось настолько против Сульта, и его действия, против его воли, настолько благоприятствовали моим планам, что если бы я был в составе судебного жюри и в полном неведении в отношении всего, что было мне известно, то я бы признал его виновным в предательстве Людовика.
Но на самом деле он не причастен к этому, хотя Ней в свою защиту заявлял, что я якобы говорил ему об этом. Что касается воззвания, о котором Ней сказал, что я посылал воззвание ему, то это неправда. Я ничего ему не направлял, кроме приказов. Будь это в моих силах, я бы запретил распространение воззваний, так как это недостойно меня. Нею не хватало образования, и он не мог опубликовывать воззвание, а стал бы действовать именно так, как действовал. Ибо когда он обещал королю привезти меня в Париж в железной клетке, он был искренен. Он в самом деле верил в то, что говорил, и оставался таким же и изменил свою позицию лишь за два дня до того, как перешёл на мою сторону. Ему нужно было последовать примеру Удино, который спросил у своих войск, можно ли полагаться на них, на что получил единогласный ответ: «Мы не будем сражаться против императора и не будем сражаться за Бурбонов». Он не мог помешать войскам и крестьянам присоединиться ко мне, но он зашёл слишком далеко.
Мутон Дюверне, — сказал Наполеон, — пострадал совершенно несправедливо; по крайней мере, принимая во внимание все сложившиеся обстоятельства, он не более, чем кто-либо другой, заслуживал наказания. Он в течение двух дней сдерживал наступление моей маленькой армии на её флангах и действовал полностью в интересах короля. Но все, без исключения, переходили на мою сторону. Энтузиазм народа был удивителен. Я мог бы войти в Париж во главе армии в четыреста тысяч человек, если бы пожелал. Но самое удивительное было в том, и я думаю, что подобного этому не было в истории, что мои планы были осуществлены без помощи какого-либо заговора. Никакого заговора не было, так же как и не было никакого тайного сговора с генералами во Франции. Ни один из них не знал о моих намерениях. Мои открытые воззвания к солдатам и народу Франции — вот вам и весь мой тайный заговор. Благодаря им я смог добиться всего. Это благодаря им я вёл за собой всю страну. Даже Массена не знал о моих планах. Когда ему сообщили о том, что я высадился на берег Франции с несколькими сотнями людей, он не поверил этому и заявил, что этого не могло быть, считая, что если я замыслил подобное, то должен был заранее ознакомить его с моими планами. Бурбоны хотели представить всё дело так, что будто в армии существовал заговор.
Именно по этой причине Бурбоны приказали расстрелять Мутона Дюверне, Нея и других, потому что то, что я сотворил без какого-либо заговора, без применения силы, но в соответствии со всеобщим пожеланием страны, обернулось для них несмываемым позором.
Ещё никогда не было короля, — продолжал Наполеон, — который был бы действительно настоящим монархом для своего народа, таким, каким был я. Если бы я не обладал ни малейшим талантом, и то мне было бы легче управлять Францией, чем Людовику и Бурбонам, наделённым громадными способностями. Вся французская нация ненавидела старую аристократию и священников. Корни моего происхождения не ведут к древней знати. Я никогда особо не поощрял священников. Французской нации более всего присущи тщеславие, легкость характера, чувство независимости и своенравие, и всё это с непреодолимой страстью к славе. Французы скорее откажутся от хлеба, чем от славы. И их поведёт за собой воззвание с призывом к славе. В отличие от Англии, где пламенные речи представителей двух или трёх знатных семей могут взбудоражить население целого графства, и потом оно покорно будет разделять их точку зрения, французов следует долго и терпеливо обхаживать.
Как-то группа молодых и невежественных крестьян, — продолжал Наполеон, — родившихся уже после революции, беседовали с пожилыми и более осведомлёнными людьми о Бурбонах. «Кто такие Бурбоны? — спросил один из крестьян. — На кого они похожи?» — «Ба! Да они ведь похожи на тот старый разрушенный замок, который вы видите неподалёку от вашей деревни: как и тот замок, время их давно прошло, они уже отжили свой век».
Бурбонам придётся признать, — добавил Наполеон, — что проявляемая ими чрезмерная благосклонность к маршалам и генералам не принесёт им никаких выгод. Они должны проявлять благосклонность по отношению к народу.
Именно к народу они должны обратить своё внимание. Если они не примут мер, чтобы приобрести популярность у народа, то в дальнейшем вы будете свидетелем колоссального социального взрыва во Франции. Страна никогда не вынесет того, чтобы жить униженной и оскорблённой, как в настоящее время. Когда я услышу, что страна способна жить, обходясь без хлеба, тогда я поверю, что французам предстоит бесславное существование.
В битве при Ватерлоо ни один солдат не предал меня. Если и была тогда измена в рядах французской армии, то она существовала среди генералов, но не в среде солдат или офицеров полкового уровня; эти последние знали о чувствах каждого в их среде и очищали её от любого, подозреваемого в измене.
Ваша страна во всех своих действиях, — продолжал Наполеон, — руководствуется главным образом выгодой. С тех пор как я попал в ваши руки, я понял, что у вашей страны не больше свободы, чем в других странах. Я дорого заплатил за то романтическое мнение, которое в своё время составил о вас».
В этом месте разговора я повторил всё то, что говорил в аналогичных случаях. Наполеон покачал с сомнением головой и ответил: «Я припоминаю, как Паоли, который был большим другом вашей страны и почти англичанином, заявил, услыхав, что англичан превозносят до небес, называя их самой благородной, самой либеральной и самой беспристрастной нацией на земле: «Мягко говоря, вы зашли слишком далеко; англичане не такие уж благородные и не такие уж беспристрастные люди, как вы их себе представляете; они очень эгоистичны; они — нация купцов, которые в целом стремятся поставить своею целью только выгоду. Всякий раз, когда они что-либо делают, они всегда подсчитывают, какую выгоду получат в результате. Они самый расчётливый народ в мире». И всё это говорил Паоли, но в то же время не без того, чтобы не отдать должное хорошим национальным качествам, которыми вы в самом деле обладаете. Вот сейчас я верю, что Паоли был прав».
Затем Наполеон высказал ряд замечаний о ситуации в Лонгвуде, выразив удивление, что никому из местных жителей не пришло в голову заключить контракт на сооружение устройства для постоянного снабжения водой Лонгвуда и лагеря 53-го пехотного полка; оговорив при этом, что ему будет разрешено разбить сад в долине, посредством которого будут в избытке выращиваться овощи для продажи по низкой цене не только Лонгвуду и лагерю, но также и приходящим в гавань острова кораблям. «Здесь, в Лонгвуде, — продолжал он, — если бы вода подавалась по трубопроводу, то Новерраз с помощью двух или трёх китайцев вырастил бы достаточно овощей, в которых мы так нуждаемся. Насколько было бы предпочтительнее распорядиться общественными деньгами на поставку воды по трубопроводу этим беднягам солдатам в лагере, чем рыть канавы и рвы и воздвигать фортификационные сооружения вокруг нашего дома, как будто его вот-вот собирается атаковать целая армия. Человеку, который абсолютно не заботится о своих солдатах, никогда не следует доверять командование над ними. Солдат главным образом нуждается в воде».
Сегодня сэр Томас Рид довольно долго разглагольствовал по поводу того, что «было бы ошибочно разрешать передавать Бонапарту любые газеты до того, как они предварительно не будут просмотрены губернатором».
18 февраля. Виделся с сэром Хадсоном Лоу в «Колониальном доме». Он был занят тем, что просматривал газеты, предназначенные для отправки в Лонгвуд. Несколько газет он отложил в сторону, так как, по его мнению, они не годятся для того, чтобы их посылали Наполеону. В то же время губернатор заявил мне, «что, хоть это, однако, и может показаться странным, но генералу Бонапарту следует быть благодарным ему за то, что газеты не посылаются ему безо всякого разбора, ибо внимательное чтение статей, написанных в благосклонном в отношении него тоне, может вызвать надежды, которые, когда они в конечном счёте не реализуются, способны привести его в отчаяние; что, более того, британское правительство полагает, что не следует ему знать всё, что появляется в газетах».
19 февраля. Сэр Томас Рид усиленно занят распространением слухов в городе о том, что «генерал Бонапарт пребывает в мрачном настроении и никого не хочет видеть; что губернатор слишком хорошо к нему относится и что злодея следует заковать в цепи».
21 февраля. С транспортным кораблём «Давид» пришли новости о том, что на мыс Доброй Надежды прибыл корабль «Адольфус», в основном нагруженный железными перилами, чтобы окружить ими дом Наполеона. Заказ на перила был послан в Англию губернатором.
В Лонгвуд приехал сэр Хадсон Лоу. Он освидетельствовал ход работ по строительству конюшни и устроил смотр часовым, расставленным на местах по его приказу. После этого он завёл со мной долгий разговор об ограничениях и границах зоны, который ни к чему не привёл.
После того как я напомнил губернатору о том, что я в некоторой степени несу ответственность перед министрами за любые неблагоприятные впечатления, которые могут возникнуть у Наполеона по поводу обращения с ним на острове, его превосходительство принялся, как обычно, выспрашивать у меня подробности моих разговоров с Наполеоном. Я в мягкой форме обратил внимание губернатора на специфическую сложность моего положения и на существующую неуместность и, более того, на невозможность раскрытия всей той информации, которого он требует от меня. В ответ на мой демарш сэр Хадсон заявил, что он понимает специфическую сложность моего положения, но в то же время мне следует предоставлять ему, и только ему, полнейшую и подробнейшую информацию о том, что и как говорит генерал Бонапарт, особенно об используемых им оскорбительных эпитетах. Ему необходимо знать всё, что происходит в Лонгвуде.
А я, будучи человеком, который так много и часто общается с генералом Бонапартом, по мнению губернатора, менее подвержен влиянию Наполеона, чем могли бы быть подвержены девяносто девять человек из ста. Моё положение представляет собой огромную важность и оно именно таково, используя которое я могу оказать большие услуги. Абсолютное молчание в беседах с кем-либо, за исключением его, губернатора, относительно того, что происходит в Лонгвуде, является настоятельной необходимостью и, более того, основным требованием в моей службе.
Затем его превосходительство сообщил мне (для того, как он сказал, чтобы продемонстрировать то высокое мнение, которое он имеет в отношении меня), что «он безо всяких колебаний готов информировать меня о том, что за деятельностью полномочных представителей союзнических держав следует присматривать с большим недоверием; что они в действительности шпионят за всем и всеми и только хотят что-нибудь вытянуть из меня, чтобы сообщить об этом своим императорским дворам; что мне нужно стараться вести себя с ними очень осторожно, так как, по всей вероятности, они сообщают своим хозяевам всё то, что я рассказываю им, как это они уже сделали, передав ему (губернатору) суть моей беседы с ними; в качестве доказательства этого губернатор напомнил мне о разговоре, который я имел с бароном Штюрмером в «Колониальном доме» 21 октября 1816 года, добавив при этом, что он удовлетворён тем, что я был осторожен в своих ремарках. Губернатор также заявил, что он написал письмо лорду Батхерсту, в котором очень благожелательно отозвался обо мне и внёс предложение о повышении моего жалованья до 500 фунтов стерлингов ежегодно».
После этого его превосходительство известил меня о том, что он получил письмо от молодого Лас-Каза, адресованное мне, которое перешлёт мне.
В тот же вечер я получил вышеупомянутое письмо в пакете, содержавшем также письмо генералу Гурго от его матери. В сопроводительной записке, вложенной в пакет, сэр Хадсон Лоу поручил мне передать это письмо генералу Гурго.
28 февраля. Наполеон провёл почти бессонную ночь. Встал с постели в пять утра и отправился в бильярдную комнату. Обнаружил его лежащим на диване. Выглядел он мрачным, пребывая в дурном настроении. Поздоровался со мной слабым голосом. Передал ему экземпляр портсмутской газеты от 18 ноября прошлого года. Прочитал в газете статью с замечаниями по поводу вероятного вреда, который будет нанесён интересам Франции свадьбой императора Австрии и принцессы Баварии, и с выводами о том, что он, Наполеон, воспрепятствовал бы этому брачному союзу даже тогда, когда при нём Франция была в расцвете сил. Наполеон подтвердил: «Это верно, я опасался последствий союза между двумя царствовавшими домами. Именно это сейчас этот союз и демонстрирует. Находясь под властью Бурбонов, Франция никогда не будет в рядах крупнейших держав. Теперь её нечего опасаться, она всегда будет слабой державой, пока во главе её этот королевский дом глупцов».
Коснувшись вопроса бедственного положения Англии в области торговли, Наполеон заявил, что лорд Каслри заслужил порицание со стороны английской нации за то малое внимание, которое он уделял её интересам во время всеобщего мира. «Несчастья, которые выпали на мою долю, — заявил Наполеон, — предоставили Англии возможность занять такое доминирующее положение, что её любое требование было бы немедленно удовлетворено; и это вне зависимости от права, которое она должна была потребовать, на возмещение понесённых ею колоссальных расходов. Для Англии представилась сама по себе благоприятная возможность, которая, вероятно, никогда не повторится вновь, полностью возродиться и выйти из затруднительного положения в течение нескольких лет и освободиться от непомерной тяжести национального долга. Если бы Каслри на самом деле был внимателен к интересам собственной страны, он бы в начальный период всеобщего мира обязан был воспользоваться представившейся ему единственной возможностью для обеспечения таких торговых преимуществ для Англии, которые бы освободили её от всех неприятностей. Но вместо этого он всего лишь принялся наносить визиты вежливости королям и императорам, которые удовлетворяли его тщеславие тем, что благосклонно замечали его; делая это, они хорошо понимали, что он предаёт забвению интересы собственной страны, и соответственно извлекали выгоду для своих интересов. Он был полностью одурачен и ещё будет проклят своей страной.
Сейчас я не вижу иного пути, — продолжал Наполеон, — для того, чтобы выйти из затруднительного положения, кроме как понизив процентный доход национального долга, конфисковав большую часть доходов духовенства, всех синекур, значительно сократив армию и создав всеобщую систему сокращений. Пусть те, кто жалует священников, и платят им. Ваш фонд погашения является сплошным надувательством. Введите тяжёлые налоги на прогульщиков. Сейчас для вас слишком поздно заниматься договоренностью о торговых соглашениях. То, что тогда считалось единственно правильным и разумным, сейчас будет рассматриваться в совершенно ином свете. Благоприятные возможности для вашей страны теперь ушли, и она обязана глупостям ваших министров за все те бедствия, которые обрушились на неё и которые объясняются только их нерадивостью.
Насколько я понимаю, — сказал Наполеон, — ботаник[13] вот-вот уедет, так и не повидав меня. Даже в самых варварских странах заключённому, приговорённому к смертной казни, не запрещается получить утешение от разговора с человеком, который недавно виделся с его женой и сыном. Даже в этом худшем из всех судов, в революционном трибунале Франции, подобный случай варварства и бездушия никогда не был известен; а ваша страна, которая так много кричит о своём великодушии, позволяет подобное обращение с людьми. Мне сообщили, что этот ботаник подал заявление с просьбой о том, чтобы повидаться со мной. Но ему в этой просьбе отказали. В моём письме Лас-Казу, которое было прочитано губернатором, я выразил недовольство этим огорчившим меня фактом и поэтому я написал заявление о встрече с ним. Если бы я попросил об этом в какой-нибудь другой форме, то я бы подвергся оскорбительному отказу со стороны этого палача. Это же верх жестокости. Он должен быть в самом деле настоящим варваром, который отказал мужу и отцу в утешении побеседовать с человеком, который недавно видел, разговаривал и дотрагивался до его жены и до его сына (в этот момент голос Наполеона дрогнул); от чьих объятий он навсегда отлучён жестокой политикой нескольких человек. Каннибалы Южных морей никогда бы не сделали этого. Прежде чем поглотить своих жертв, они бы позволили им в последний раз утешиться тем, чтобы повидались и поговорили друг с другом. Жестокости, которые практикуются здесь, были бы отвергнуты каннибалами».
Весьма возбуждённый Наполеон в эти минуты принялся ходить взад и вперёд. Затем он вновь продолжил разговор: «Вы же видите, каким образом он пытается внушить пассажирам, направляющимся в Англию, что он — сплошная доброта по отношению ко мне и что это моя вина, что я не хочу принимать незнакомцев; что он настолько добр ко мне, что даже готов направить собственного адъютанта, чтобы содействовать визитёрам в посещении меня, хотя он прекрасно знает, что в этом случае присутствие его адъютанта будет достаточным для того, чтобы я не принял визитёра. Сейчас он поставил перед собой цель убедить общественность, что мне противен сам вид англичанина. Именно по этой причине он просил вас сообщить мне, что Лас-Каз вынудил меня сказать, что мне омерзителен сам вид английской военной формы».
Я сказал, что сэр Хадсон Лоу также сообщил мне, что, как он думает, всё это было выдумкой самого Лас-Каза. «Это выдумка самого губернатора, — возразил император, — для того, чтобы обмануть вас. Если бы я ненавидел англичан, разве я бы отдался им в руки, вместо того чтобы отправиться к императору России или Австрии? Разве возможно, чтобы я смог предоставить большее доказательство своего уважения к стране, чем то, которое я предоставил англичанам — к большому моему сожалению?»
После этих слов Наполеон открыл двери, вызвал Сен-Дени и в моём присутствии спросил его, утверждалось ли в дневнике Лас-Каза то, что он (Наполеон) когда-либо заявлял, что ненавидит даже сам вид английской военной формы, или ненавидит англичан, или говорил что-либо подобное, или имел это в виду? Сен-Дени ответил, что ничего подобного в дневнике Лас-Каза не содержалось. «Ну вот, — заявил Наполеон, — если бы Лас-Каз утверждал что-либо подобное, то это было бы отражено в его дневнике. Человек, мучающий меня в тех условиях, в которые меня поставили, от природы должен быть безнравственным существом. Здесь у него ничего нет, — продолжал Наполеон, положив руку на грудь, — а когда здесь ничего нет, то голова должна быть скверной: он — человек, совершенно непригодный для того, чтобы командовать или действовать самостоятельно.
Сама природа создаёт людей, предназначенных только для того, чтобы они всегда оставались в положении подчинённого. Таков был Бертье. Лучшего начальника генерального штаба в мире не было; но поставьте его на другую должность, то выяснится, что он непригоден для того, чтобы командовать и пятьюстами солдатами. Хороший писака, подобно этому человеку, отличный канцелярист. Вы можете видеть сами, до какой степени он не годится для того, чтобы командовать, когда он позволяет себе водить себя за нос таким ничтожным негодяям, как этот полковник Рид.
Вы когда-нибудь читали «Жиль Бласа»? Я ответил, что читал. «Эта вечная усмешка на губах Рида, — продолжал Наполеон, — неестественна и напоминает мне Амброза де Ламела. Подобно усмешке на губах Ламелы, идущего в церковь и по пути туда замышляющего, как ограбить своего хозяина, усмешка Рида маскирует его истинные намерения. Мне рассказали, — продолжал он, — что семью Балькумов расспрашивали и подвергали перекрёстному допросу губернатор и его личный советник Рид, о том, что они слышали и видели в Лонгвуде, но на это отец семейства ответил, что его дочери приходили сюда для того, чтобы иметь честь нанести нам визит, а не для того, чтобы быть шпионами».
1 марта. Наполеон беседовал со мной о железных перилах, которые, как говорят, везут на корабле «Адольфус». Я объяснил ему, что это обычное явление в Англии, когда джентльмены ставят железные перила вокруг своих загородных домов. Моё объяснение Наполеон выслушал с довольно скептическим выражением лица.
2 марта. Виделся с Наполеоном, лежащим на диване в своей комнате. Он был в довольно плохом настроении, выглядел бледным и жаловался на диарею. Из всех предложенных мною лекарственных средств он согласился только на разбавленный куриный бульон и на ячменный отвар.
Во время последовавшего разговора Наполеон обратил внимание на то, что в режиме правления Бурбонов он заметил изменения в лучшую сторону, так, вместо того чтобы привлекать к работе представителей клики, придерживающейся крайних взглядов, и других сомнительных личностей, Бурбоны начали назначать на ответственные посты людей, которые ранее работали под руководством Наполеона и которые заслужили доверие страны. Среди таких людей Наполеон упомянул Моле.
Спросил Наполеона, правильны ли были утверждения «Обсервера» о поведении Кларка по отношению к Карно, в результате которого последний был лишен пенсии, и о характере действий Кларка в этой истории, сообщённых «Обсервером». Наполеон ответил: «Всё абсолютно верно. Но я был удивлён тем чрезмерным вниманием, которое газеты уделили Кларку, который не стоит того, чтобы о нём так много говорили». Я спросил Наполеона, какого он мнения о Кларке. Наполеон ответил: «Он не тот человек, которого природа наделила талантом, но он усерден и полезен в канцелярии. Более того, он неподкупен и экономен в расходовании общественных денег, которые никогда не присваивал для собственного кармана. Он — прекрасный редактор, но он не солдат. Я не думаю, что он когда-либо в своей жизни был свидетелем выстрела. Он ослеплён своей аристократичностью. Он воображает, что ведёт свой род от древних королей Шотландии или Ирландии, и постоянно похваляется своим благородным происхождением. Он отличный клерк. Я направил его послом во Флоренцию, где он только и занимался тем, что рылся в затхлых местных архивах в поиске доказательств аристократичности моей семьи, ибо, вы должны об этом знать, она родом из Флоренции. Он докучал меня письмами по этому вопросу, которые вынудили меня написать ему, чтобы он занимался теми делами, ради которых он был направлен во Флоренцию, и не забивал ни мою, ни свою голову разной чепухой об аристократичности, а также о том, что я самый выдающийся человек в моей семье. Несмотря на моё письмо, он по-прежнему продолжал свои расследования. Когда я вернулся во Францию с Эльбы, он предложил мне свои услуги, но я поставил его в известность о том, что не принимаю к себе на работу разных предателей, и приказал ему оставаться в его поместье».
Я спросил Наполеона, как он считает, стал бы Кларк верно служить ему. «Да, — ответил император, — до тех пор, пока я оставался бы на вершине власти. Всё это время он был бы мне верен, подобно многим другим». Я поинтересовался: правда ли, что он написал письмо, приписываемое именно ему, в котором сообщал Кларку о смерти его племянника? Наполеон ответил: да, он писал такое письмо, и что его племянника звали Эллиотом.
Я отметил, что его предки были знатными людьми. Наполеон подтвердил, что они были сенаторами Флоренции.
Наполеон затем заявил: «В газетах используют моё имя для самых разнообразных целей и пишут всё, что соответствуют их взглядам. Лорд Каслри, вернувшись в Ирландию, публично отстаивал ложь, касавшуюся моих намерений в отношении Англии, и со времени моего прибытия на этот остров он вкладывал в мои уста выражения, которыми я никогда не пользовался». Я предположил, что, по всей вероятности, лорд Каслри просто повторил то, что ему сказали. Наполеон не стал возражать: «Может быть и так, но ваши министры, не задумываясь, охотно прибегают ко лжи, когда они считают, что она поможет им достичь поставленной цели. Всегда, — продолжал он, — постыдно и гнусно клеветать на человека, попавшего в беду, и вдвойне позорно, когда он подвластен вам и когда вы вешаете на его рот замок, чтобы он не смог ответить вам на клевету».
3 марта. Навестил Наполеона в тот момент, когда он одевался. Ни на что не стал жаловаться. Пребывал в очень хорошем настроении. Смеялся и расспрашивал меня о молодых девушках. Просил меня поделиться о всех слухах, циркулировавших в городе. Впервые за долгий период времени находился в прекрасном состоянии духа.
В последовавшей беседе вновь коснулся заявления губернатора о том, что граф Лас-Каз в своём дневнике приписывал Наполеону слова о том отвращении, которое у него вызывает вид английской военной формы, и о том, что граф Лас-Каз старался его заставить ненавидеть англичан.
«Не могу понять, — рассуждал Наполеон, — какую цель мог преследовать Лас-Каз подобным поступком? Что именно он смог бы добиться этим? Напротив, Лас-Каз всегда хорошо отзывался об англичанах, заявляя, что, прожив среди них десять лет, он чувствовал к себе только хорошее отношение. Это всё — выдумка этого человека, всё существо которого насквозь пропитано ложью. Конечно, я говорил, что мне неприятно видеть офицеров в форме, не отступающих от меня ни на шаг и внимательно присматривающих за мной, потому что их военная форма напоминает мне о том, что меня считают пленником, а это вызывает у меня неприятные мысли. Если бы даже вы посчитали нужным ежедневно являться в военной форме в мою комнату, то я бы принимал вас за жандарма. Но у этого человека полностью отсутствует мораль. Адмирал немедленно осознал всю деликатность подобной ситуации, когда ему намекнули о её двусмысленности».
Затем Наполеон задал мне несколько вопросов, касавшихся медицины, пошёл в бильярдную комнату, заказал бутылку портера, взял бокал с вином, попросил меня взять другой и сказал по-английски: «За ваше здоровье!» Расспрашивал меня о портере и был очень удивлён его дешевизной в Англии. Расхаживая по комнате, он спросил меня: «До того, как вы стали моим врачом, какого мнения вы были обо мне? Что вы думали о моём характере и о том, на что я способен? Прошу вас откровенно ответить на мои вопросы».
Я ответил Наполеону: «Я считал вас человеком, чьи изумительные таланты были сравнимы только с его безмерной амбициозностью, и хотя я не верил и одной десятой доле той клеветы, которую читал про вас, но всё же я считал, что вы, не задумываясь, совершите преступление, когда посчитаете, что оно необходимо, или подумаете, что оно может быть полезным для вас». — «Это как раз тот самый ответ, которого я и ожидал, — заявил Наполеон, — и, возможного, такого же мнения придерживаются лорд Холланд и даже немало французов. Я достиг слишком большой славы и поднялся на самую вершину власти, чтобы не вызывать зависти и ревности человечества. Обычно про меня говорят: «Да, это правда, что он достиг пика славы, но для этого он совершил много преступлений». В действительности же я не только не совершил ни одного преступления, но я даже никогда и не помышлял совершить его.
Я всегда опирался на мнение народа и шагал в ногу с совершавшимися событиями. Я всегда придавал мало значения мнению отдельных личностей, но мнение общественности значило для меня очень много; тогда какую пользу я мог бы извлечь из преступления? По своему характеру я — большой фаталист.
Я всегда мысленно согласовывал свои действия с мнением пяти или шести миллионов человек; тогда зачем мне нужно было совершать преступление?
Несмотря на всю клевету, — продолжал Наполеон, — у меня нет опасений в отношении моей славы. Потомки оценят меня по всей справедливости. Вся правда обо мне будет известна, и всё, что я сделал хорошего, сравнят со всеми ошибками, которые я совершил. Меня не беспокоит конечный результат этого сравнения. Если бы моя жизнь до конца была успешной, то я бы умер с репутацией величайшего человека, который когда-либо существовал. И хотя меня постигла неудача, всё же меня будут считать экстраординарной личностью: мой взлёт на вершину власти не имеет равного себе в истории, потому что он не сопровождался преступлением. Я сражался в пятидесяти генеральных сражениях, в которых почти всегда побеждал. Я создал и осуществил на практике свод законов, который будет нести моё имя на много поколений вперёд. Будучи абсолютно никем, я стал самым могущественным монархом мира. Европа была у моих ног. Моя амбициозность была велика, это я признаю, но ей было присуще хладнокровие и её причиной были великие события и мнение масс. Я всегда придерживался того мнения, что верховная власть исходит от народа. И действительно имперское правительство является видом республики. Призванный возглавить его по зову народа, я придерживался того принципа, что карьера открыта для талантливых людей, вне зависимости от различий в рождении или в имущественном положении. И эта система равенства как раз и является той причиной, в силу которой ваши олигархи так меня ненавидят.
Если бы когда-либо, — продолжал Наполеон, — политическая система разрешила человеку совершать преступления и убивать других людей, то она бы разрешила мне приговорить к смерти Фердинанда и других Бурбонов из его семьи, когда они находились во Франции.
Если бы я был человеком, привыкшим совершать преступления, разве я бы не осуществил то единственное преступление, которое было столь выгодно для меня? Фердинанд и его семья были бы раз и навсегда убраны с моей дороги, испанцы потеряли бы всякий интерес к тому, чтобы сражаться со мной, и полностью подчинились мне. Нет, если бы я был склонен к тому, чтобы совершать преступления, то меня здесь не было бы. Разве французские Бурбоны существовали бы сейчас, если бы я дал согласие на их убийство? Я не только отказался дать своё согласие на это, но я весьма решительно запретил пытаться сделать это каким-либо образом.
Мои дела будут судить грядущие поколения, — добавил Наполеон, — не по тому, что пишут обо мне «Квотерли Ревью» и Пишон, или по тому, что я сам смогу написать о себе; это будет суждение многих миллионов людей, для которых я был их правителем.
Те, — продолжал Наполеон, — кто согласился на объединение Польши с Россией, будут прокляты грядущими поколениями, в то время как моё имя будет произноситься с уважением, когда прекрасные южные страны Европы станут жертвами варваров с севера. Возможно, моей самой большой ошибкой было то, что я не лишил короля Пруссии его трона, что я мог легко сделать. После Фридланда мне следовало отобрать у Пруссии Силезию и передать эти провинции Саксонии, так как король Пруссии и пруссаки были слишком унижены для того, чтобы не попытаться взять реванш при первой возможности. Если бы я сделал это, вручил им свободную конституцию и освободил крестьян от феодального рабства, то они были бы полностью удовлетворены».
После нашего разговора Наполеон отправился к графу Бертрану. В течение двух или трёх дней он чаще совершал прогулки на воздухе, чем ранее.
4 марта. Встретился с Наполеоном в бильярдной комнате. Он пребывал исключительно в превосходном состоянии духа. Возвратил мне «Смесь» за 1816 год и попросил попытаться достать номера за 1815 год.
Отвечая на мой вопрос о П., Наполеон сказал, что П. — шалопай, готовый писать для любого, кто будет платить ему. «Он предлагал мне изменить свой стиль и писать для меня таким образом, чтобы британское правительство не догадалось, что его работа оплачивалась мною. В частности, однажды он направил в полицию копию книги, написанной против меня, предложив, что она не будет напечатана при условии, что ему будет выдана определённая сумма денег. Мне доложили о предложенной сделке. Я приказал полиции ответить, что, если он оплатит расходы по изданию книги, то она для него будет опубликована в Париже. Когда я обладал властью, не он один предлагал мне подобные сделки. Некоторые издатели английских газет также предлагали мне подобное, заявляя, что могли бы оказывать мне существенные услуги. Тогда я не придавал достаточного значения их предложениям и отказывал им. По-иному вели себя Бурбоны. В 1814 году издателю газеты «Таймс» платили около трёх тысяч фунтов стерлингов в вашей валюте, помимо того, что Париж закупал дополнительно большое количество экземпляров газеты.
Ранее я рассказывал вам, что когда я вернулся с острова Эльба, то среди бумаг Блакаса обнаружил расписку этого издателя. Не знаю, находится ли он на денежном содержании Бурбонов в настоящее время. В том году в Лондоне также печаталось очень много памфлетов против Бурбонов. Экземпляры каждого памфлета направлялись им с угрозой их публикации, если их авторам не будут платить деньги. Бурбоны были ими очень напуганы и с большим рвением закупали памфлеты. В частности, был издан один памфлет, содержавший ужасную клевету о покойной королеве Франции. Для того чтобы предотвратить публикацию памфлета, Бурбонам пришлось уплатить большую сумму денег.
Когда я был на троне, — продолжал Наполеон, — тридцать клерков были заняты тем, что переводили английские газеты и выдержки из достойных внимания английских книг. Из газет извлекалась информация, представлявшаяся значимой, и ежедневно докладывалась мне. Но эта работа никогда не делалась в моём присутствии, и я никогда не старался, как утверждалось, подстёгивать переводчика в его работе. В то время я даже не знал значения английского определённого артикля. И в самом деле, для меня не было достаточно важным учить английский язык только для того, чтобы читать газеты, особенно учитывая то обстоятельство, что ко мне постоянно поступали письма и разведывательная информация от моих шпионов в Англии. Газеты, однако, подкрепляли их информацию относительно передвижения войск, сбора и отправки на кораблях военнослужащих и о других мероприятиях правительства».
Губернатор в Лонгвуде. Объяснил свои намерения огородить железными перилами дом, двери которого, как он заявил, будут по его указанию запираться в семь или в восемь часов вечера, после чего ключи будут отсылаться в «Колониальный дом», где будут оставаться до рассвета следующего утра.
5 марта. Транспортный корабль «Черепаха» под командованием капитана Кука прибыл непосредственно из Англии, откуда он отплыл 18 декабря 1816 года. Я направился в город, где мне рассказали, что Уорден опубликовал книгу о Наполеоне, которая вызвала неподдельный интерес и, предположительно, характеризовала его в благоприятном свете. Получил несколько газет с выдержками из этой книги.
Вернувшись в Лонгвуд, нашёл Наполеона, находившегося в прямо противоположном настроении по сравнению со вчерашним днём. Он полулежал на диване с задумчивым видом, подперев голову рукой. Выглядел меланхоличным. На нём был утренний халат, его голова была обвязана большим головным платком. Щёки были не побриты. Мрачным тоном он спросил: «Что нового?», а также поинтересовался, прибыл ли корабль из Англии. Я ответил, что корабль прибыл. После того как я пересказал ему то, что слышал и что, по моему мнению, было наиболее интересным, я сообщил, что Уорден опубликовал о нём книгу, которая вызвала большой интерес. Услыхав имя Уордена, Наполеон поднял голову и спросил: «Что? Тот самый Уорден с «Нортумберлэнда?» Я дал утвердительный ответ. «Какого рода эта книга? Она за меня или против меня? Хорошо ли она написана? Какую тему она затрагивает?» Я ответил, что в книге даётся описание того, что происходило на борту «Нортумберлэнда» и здесь, на острове Святой Елены; что в книге даётся благожелательный портрет Наполеона, в ней содержится много любопытных высказываний, а также ряд опровержений выдвинутых против него обвинений. Автор книги даёт объяснение причин дела герцога Энгиенского, в целом книга хорошо написана и т. д.
«Вы видели книгу?» Я ответил, что не видел. «Тогда каким образом вам стало известно, что она благожелательна по отношению ко мне и хорошо написана?» Я ответил, что читал некоторые выдержки из книги в газетах, которые отдал ему. Наполеон приподнялся с дивана, сел и стал читать газеты, иногда обращаясь ко мне с просьбой объяснить ему некоторые места в тексте, заявив затем, что изложенные в книге факты соответствуют истине. Он поинтересовался, что именно Уорден написал о деле герцога Энгиенского. Я ответил, что Уорден утверждает, что Талейран утаивал у себя письмо от герцога в течение значительного времени после казни последнего, и что Уорден приписывает причину смерти герцога Талейрану. «В этом нет никаких сомнений», — согласился Наполеон.
Затем Наполеон поинтересовался, как книга Уордена была воспринята в Англии. Я ответил: «Я слышал, что книга была воспринята очень хорошо». Наполеон спросил, были ли министры довольны этой книгой. Я ответил, «что они пока ещё не проявили к ней какого-либо значимого интереса или неудовольствия, поскольку Уорден недавно получил назначение служить на корабле». — «Я полагаю, — заявил Наполеон, — что он написал книгу, чтобы доставить удовольствие министрам». Я ответил, что из того, что мне удалось выяснить, Уорден стремился писать только правду.
Потом я помогал ему в чтении некоторых отрывков из книги, напечатанных в «Обсервере». Наполеон подтвердил правильность изложенного материала. Он трижды с моей помощью внимательно прочитал статью, которая описывала, как императрица Мария Луиза упала с лошади в реку По и как с большим трудом удалось спасти её от гибели в водной стремнине. Наполеон выглядел очень взволнованным после прочтения этой статьи.
Далее наша беседа коснулась напряжённого положения в Англии и нищеты простого народа в этой стране. «Ваши министры, — заявил Наполеон, — несут ответственность за страдания и нищету английского народа, так как они пренебрегли возможностью воспользоваться сложившимися для Англии благоприятными обстоятельствами и обеспечить страну огромными торговыми преимуществами. Вследствие моих неудач в России Англии сопутствовали небывалые в истории мира успехи, и, в силу сложившихся обстоятельств, она получила возможность стать самой процветающей и самой могущественной страной в мире. Я всегда считал, что Англию подстерегает опасность оказаться в неестественном состоянии перенапряжения и что, если не возникнут какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, чтобы прийти ей на помощь, она должна пасть под тяжестью созданной ею самой напряжённости и под бременем налогообложений.
Возможность стать страной процветания оказалась вполне реальной, но ваши министры, словно последние глупцы, не воспользовались представившейся возможностью, отдав предпочтение политике нанесения государственных визитов королям Европы, чтобы способствовать реализации внутренних интересов этих стран. Каждому монарху или министру следует в первую очередь, отставив в сторону все другие соображения, заботиться об интересах и благосостоянии собственной страны. Им никогда не следует проходить мимо преимуществ, созданных в силу существующих обстоятельств, чтобы максимально использовать их, особенно когда это можно сделать посредством выгодного соглашения. Те, кто пренебрегают этим, являются предателями собственной страны. Вы уже стали заложниками ненависти всех наций, вследствие ваших морских законов и установленного вами морского права, а также в связи с вашими претензиями быть владычицей морей, которые, как вы утверждаете, принадлежат вам по праву. Тогда почему бы вам не воспользоваться этим? Вы совершили самую невыгодную сделку: вы заслужили ненависть всех наций в силу ваших претензий в области морского права, не получив от него никакой выгоды. Вашим министрам совершенно незнакома ситуация, сложившаяся в вашей собственной стране.
Как мне представляется, — продолжал Наполеон, — ваши министры, безусловно, намерены превратить Англию в страну военного рабства, постепенно лишить её свободы, которая сейчас в стране превалирует, и сделать свою власть безграничной. Все эти почести, дарованные военщине, и характер некоторых других недавно предпринятых шагов являются подготовительными мерами на пути к поставленной вашими министрами цели. Я могу понять эту цель. Если необходимо, другие монархи Европы, вероятно, окажут вам помощь. Но эти монархи испытывают к вам ревность, и они не могут смириться с мыслью, что Англия должна быть единственной свободной страной в Европе. Они все помогут вам опуститься на самое дно».
Я заявил, что англичане никогда не подчинятся тому, чтобы стать страной рабов. Наполеон на это ответил: «Существуют все основания полагать, что такая попытка будет сделана».
Губернатор прислал несколько разрозненных номеров «Таймс» и с ними письма. Генерал Гурго получил письмо от своей сестры, которая сообщила ему, что сэр Джордж Кокбэрн дважды наносил визит его матери в Париже. Этот знак внимания со стороны адмирала просто привёл в восторг генерала Гурго. Граф и графиня Бертран пребывали буквально в экстазе, поскольку в том же письме сообщалось, что госпожа Диллон, мать графини, чувствует себя хорошо. Хотя я уже в течение многих лет находился в положении странника, но я никогда раньше не был свидетелем такого удовлетворения и такого чувства утешения, которые способно предоставить письмо от находившихся вдалеке родственников и друзей тем, кто разлучён со своим домом. По выражению радости на лицах обитателей Лонгвуда было легко отличить тех, кто получил известия от своих родных, от тех, кто не получил. Необходимости в том, чтобы задавать какие-либо вопросы, не было. Одна строчка письма из Европы в Лонгвуд была дороже любого сокровища.
6 мая. Адмирал через губернатора прислал Наполеону несколько французских газет. Наполеону очень хотелось получить новые сведения о Марии Луизе. Инцидент с ней на реке По, о котором он узнал вчера из газет, по-видимому, вызвал у него опасения за её безопасность. Эти опасения не уменьшились, когда он понял, что губернатор прислал ему разрозненные номера газет. Уже потом, после прочтения статьи во французских газетах о том, что было решено отказаться от проекта снабжения Парижа водой с помощью английской компании, в беседе со мной Наполеон воскликнул: «Разве я не говорил вам о том, что народ Франции не потерпит этого?» Я сообщил Наполеону, что губернатор послал мне книгу г-на Уордена с распоряжением передать эту книгу ему. Увидев факсимиле своего почерка, Наполеон от души рассмеялся.
Вечером Наполеон послал за мной. Он заявил, что уверен в том, что губернатор придерживает у себя некоторые письма и газеты; что у него нет сомнений в том, что сэр Хадсон Лоу сам получает полный комплект газет, но некоторые номера газет держит у себя, в соответствии со своей жестокой привычкой, потому что в этих номерах может быть напечатана статья, которая окажется приятной Наполеону. «Сначала, — заявил он, — я подумал, что, возможно, в таких номерах сообщаются плохие вести о моей жене, но после минутного раздумья я пришёл к выводу, что если бы это было так, то этот человек поспешил бы послать газету с такими новостями непосредственно мне, чтобы привести меня в отчаяние. Может быть, в газетах есть новости о моём сыне; когда вы завтра отправитесь в город, то постарайтесь найти полный комплект газет и внимательно просмотрите их. Вы за то время, пока я читаю одну статью, способны просмотреть десять статей. Постарайтесь достать побольше портсмутских газет, так как в них новости подаются в более сжатом виде и я не углубляюсь в них так, как это приходится мне делать, когда я просматриваю номер «Таймс».
10 марта. Наполеон пребывает в хорошем расположении духа. Мы побеседовали о книге Уордена. Я завёл разговор о том месте в книге, которое касается физиономии губернатора, и об ответе Уордена, что лицо госпожи Лоу ему нравится больше. Наполеон расхохотался и сказал: «Насколько я помню, такой разговор был. Но я высказался об этом в гораздо более резкой форме, чем это описано Уорденом. Моя точная характеристика физиономии губернатора приводится в дневнике Лас-Каза».
Затем я спросил его, какое мнение он составил о книге Уордена. Наполеон ответил: «В своей основе книга правдива, но он плохо понимал то, что ему говорили; в книге немало ошибок, которые возникли в связи с тем, что ему плохо объясняли: Уорден не понимает французского языка. Он не прав, когда заставляет меня говорить в той манере, к которой он сам привык. Так, вместо того, чтобы заявить, что сказанное ему передавалось с помощью переводчика, он передает весь свой рассказ так, словно я говорил с ним всё время напрямик и словно он мог понимать меня; в результате он вкладывает в мои уста выражения, недостойные меня и не в моём стиле. Любой человек, знающий меня, сразу же увидит, что это не мой стиль. В действительности, большинство того, что он услышал через переводчика, а это составляет большую часть книги, более или менее неправильно. Он пишет, что Массена брал штурмом деревню Эслинг тринадцать раз, что, если книга будет переведена на французский язык, заставит каждого французского офицера, знакомого с ходом этого сражения, рассмеяться, так как Массена в течение всей этой акции именно в этом месте сражения не был. То, что он пишет о пленниках, взятых у Яффы, также неправильно, так как их сопровождали на протяжении двенадцати лье в направлении Багдада, а не в направлении Назарета. Около Алжира находились мавры, а не коренные жители страны, которую он упоминает. Он неправ, когда заявляет, что я предложил дать больным солдатам опиум, я не предлагал этого. Вначале это предлагалось военными врачами. Он ошибается, когда объясняет причину, в силу которой я хотел, чтобы Райт оставался живым. Главной причиной этого, и это можно доказать, как я вам уже рассказывал, было то, что, в соответствии с показаниями Райта, именно NN дал указание убийцам, нанятым графом д’ Артуа, высадиться на берег Франции, чтобы убить меня. Причина моего отношения к Райту была вызвана его собственными показаниями на суде в присутствии послов дружественных мне держав. Сейчас смерти Райта придаётся некоторый ореол. Он же предпочёл покончить свою жизнь самоубийством, чтобы не скомпрометировать своё правительство.
Герцог Энгиенский должен был приехать в Париж, чтобы оказать помощь убийцам. Герцог де Берри также должен был высадиться в определённом месте в Пикардии для того, чтобы поднять восстание и организовать убийства. Я получил информацию об этом, и в то место был направлен Савари, чтобы арестовать де Берри. Если бы его схватили, его бы немедленно расстреляли. Он был на борту английского корабля, который близко подошёл к берегу, но определённый сигнал, о котором заранее была договорённость, не был подан из Бевиля. Де Берри испугался, и корабль с ним отплыл от берега. Место, где они должны были высадиться, называлось «Скалы Бевиля», около Дьеппа у крутого обрыва, на верх которого люди были вынуждены взбираться с помощью канатов. Это место ими было выбрано с учётом того, что им, вероятнее всего, не могли помешать офицеры таможни.
Граф д’ Артуа и герцог де Берри всегда старались добиться моего убийства. Думаю, что Людовик не был причастен к этому. Они думали, как я полагаю, что свободны совершать попытки убить меня столько раз, сколько им вздумается, и причём безнаказанно. Будучи главой французского правительства, в соответствии с законами политики и законами природы, я должен был иметь все основания для того, чтобы добиваться в ответ устранения своих врагов: и это для меня не представляло никакого труда.
Вскоре после Маренго, — продолжал Наполеон, — Людовик написал мне письмо, которое мне было передано аббатом Монтескью. В письме Людовик писал, что я слишком долго решаю вопрос о его восстановлении на троне; что без него Франция не сможет чувствовать себя счастливой; так же как и слава страны не может быть полной без меня; что мы оба необходимы Франции; письмо он закончил тем, что попросил меня выбрать всё то, что я посчитаю нужным, что бы было мне пожаловано при условии, если я восстановлю его на троне. Я отправил ему очень вежливый ответ, заявив, что очень сочувствую всем его невзгодам и бедам его семьи и готов сделать всё возможное, чтобы облегчить его положение, и что я заинтересован в том, чтобы обеспечить его и его семью соответствующим доходом, но что он может отказаться от мысли когда-либо вернуться во Францию в качестве монарха, так как это невозможно будет осуществить без того, чтобы не перешагнуть через тела пятисот тысяч французов.
Уорден был неправильно информирован о том, что Маре был причастен к моему возвращению во Францию. Он ничего об этом не знал и подобное заявление могло нанести вред его положению во Франции. Уорден также действовал неосмотрительно, когда утверждал, что решение проблем находится в компетенции графа и графини Бертран, так как они в результате подобного заявления могут нажить себе много врагов. Уордену следовало просто сказать: «Мне рассказывали в Лонгвуде». Что же касается его утверждения, что информация исходила от меня, то мне это безразлично, поскольку я никого не боюсь, но Уордену следовало быть более осторожным, говоря о других.
Уорден, — добавил Наполеон, — руководствовался добрыми побуждениями, и в своей основе его книга правдива; но о многих обстоятельствах сообщается неправильно вследствие неверного понимания дел и их плохого толкования. Гурго вчера был очень рассержен тем, что сказано в книге о нём. Я сказал ему, что он должен следовать моему примеру, наблюдая за тем, с каким спокойствием я отношусь к разной клевете в мой адрес, которой переполнена пресса. Они меня превратили в отравителя, в убийцу, в насильника, в чудовище, которое повинно в кровосмешении и во всех ужасающих преступлениях. Ему следует относиться к подобным вещам скептически и хранить молчание.
По некоторым заметкам в «Таймс», — продолжал Наполеон, — я сужу о том, что «Морнинг Кроникл» относится ко мне благожелательно. Что может быть плохого в том, чтобы разрешить мне посмотреть эту газету? Позволить мне прочитать что-нибудь положительное в мой адрес? Теперь мне редко приходится видеть что-либо подобное, но это же жестоко, когда меня лишают столь незначительного утешения в жизни.
Вы помните, я уже говорил вам, что англичане изменят своё мнение обо мне и что благодаря интенсивному общению с французами и итальянцами, они скоро поймут, что я не ужасное существо, которым они прежде считали меня. Английские путешественники, вернувшись из стран, бывших под моей властью, будут испытывать ко мне совсем иные чувства, чем те, с которыми они покидали Англию. Этот процесс начинает набирать ход, и с каждым днём он всё более усиливается. Эти люди скажут: «Нас обманывали. На континенте мы не слышали всех этих ужасных историй. Напротив, куда бы мы ни поехали по прекрасной дороге или красивому мосту, мы спрашивали: а кто построил всё это? Ответ был один: Наполеон или Бонапарт. Они, естественно, скажут, что этот человек, по крайней мере, делал всё для поощрения искусств и наук во время своего правления и при нём принимались меры по улучшению и усилению торговли в этих странах.
Лорд Каслри, — продолжал Наполеон, — повинен в распространении гнусной клеветы, заявив, что я, якобы, утверждал с тех пор, как приехал сюда, на этот остров, что в мирное время или в состоянии войны моей целью является разрушение Англии. Это заявление — сплошная ложь, и она будет предметом моей жалобы его хозяину, принцу-регенту, и я разоблачу перед ним недостойное поведение его министра; поведение, унижающее достоинство человека».
Затем Наполеон высказался по поводу Талейрана. «Что касается Талейрана, — заявил он, — то он — мерзавец, полностью коррумпированная личность, но человек весьма умный. Он ищет любую возможность, чтобы пойти на предательство. После свадьбы принца Евгения я был вынужден освободить его от работы, учитывая жалобы против него со стороны королей Баварии и Вюртемберга. Ничего не делалось, ни одно соглашение не было заключено, никаких договорённостей о торговле не было достигнуто до тех пор, пока его не подкупали. В то время велись активные переговоры по вопросам торговли, но за то, чтобы они завершились, он потребовал колоссальные суммы. Бурбоны сделали правильно, отделавшись от него, так как он бы предал их при первой же возможности. Он бы сделал это, так как предвидел вероятность моего успеха после возвращения с Эльбы и высадки на берег Франции.
Ваши министры, — заявил Наполеон, — высылая меня на остров Святой Елены, обосновывали своё решение следующим образом. Этот Бонапарт — человек талантливый и всегда был врагом Англии. Бурбоны представляют собой группу глупцов, и для англичан будет гораздо лучше, если на троне Франции будут восседать глупцы, а не талантливые люди; ибо первые хотя и могут иметь намерение нанести как можно больше вреда Англии, но они будут лишены способностей сделать это, в отличие от последних. Мы должны делать всё в наших силах, чтобы подавлять французов, являющихся нашими естественными врагами; и в целях осуществления этого мы должны посадить на трон Франции группу дураков, которые будут заняты восстановлением старых религиозных предрассудков, невежества и суеверий в стране и, соответственно, будут ослаблять её, вместо того чтобы укреплять. Англичане поступили бы лучше, — продолжал Наполеон, — если бы оставили меня на троне. Я бы обеспечил англичан огромными торговыми преимуществами, которые Бурбоны не осмелятся предложить. Кроме того, это способствовало бы поддержанию авторитета англичан на континенте. Ибо другие державы, опасаясь меня, пошли бы на уступки, чтобы сохранять с ними хорошие отношения, понимая, что без их помощи они ничего со мной поделать не смогут; тогда как сейчас, поскольку они не боятся Бурбонов, они мало ценят дружбу с державой, к которой они испытывают ревность, и полны желания унизить её. Более того, ваши министры всегда смогли бы использовать меня в качестве средства устрашения народа Англии всякий раз, когда они захотели бы контролировать возникшую в стране напряжённую ситуацию.
Не вижу, — добавил Наполеон, — ни одного приемлемого способа выйти из бедственного положения, в котором оказались ваши фабриканты, за исключение того, чтобы постараться всеми средствами, имеющимися в вашем распоряжении, содействовать отделению испанских южно-американских колоний от метрополии. Посредством этого вы сможете получить возможность открытия весьма обширной и выгодной торговли со странами Южной Америки, которая предоставит вам огромные преимущества. Если вы не предпримите шагов в этом направлении, то американцы опередят вас. Если вы будете действовать так, как я сказал, то страны Южной Америки будут торговать только с вами. Рынок Южной Америки должен быть закрыт для Испании и Франции.
Если бы война с Англией продолжалась ещё три или четыре года, — добавил Наполеон, — то у Франции не было бы дальнейших оснований для приобретения колоний. Вследствие того, что я всеми силами поощрял и финансировал тех, кто посвящал свои химические исследования производству сахара, особенно из корнеплодов свёклы; стоимость сахара на внутреннем рынке упала до пятнадцати су за фунт, и когда процесс производства сахара был бы ещё более усовершенствован, то сахар во Франции стал бы таким же дешёвым, как если бы его импортировали из Вест-Индии».
Я обратил внимание Наполеона на то, что французам было бы трудно обойтись без кофе. «Они могли бы довольствоваться различными видами настоев из трав точно так же, как они подобными настоями заменяют себе чай, — возразил Наполеон. — Более того, было бы вполне возможно выращивать кофе в некоторых южных местах Франции и этим кофе заменять худшие сорта кофейных зерен».
В последующей беседе Наполеон подтвердил, что действительно, как об этом писалось в газетах, бельгийцы сожалели, что англичане одержали победу при Ватерлоо. «Они считали себя французами, — заявил он, — и на самом деле так оно и было. Большинство населения Бельгии любило меня и желало мне победы. Все эти истории, которые ваши министры вовсю старались распространять, относительно того, что страны, присоединённые мною к Франции, ненавидели меня и презирали мою тиранию, являются сплошной ложью. Примером того, что я сказал, являются итальянцы, пьемонтцы, бельгийцы. В будущем вы ознакомитесь с мнениями тех англичан, которые посетили континент. Вы убедитесь в том, что то, что я сейчас вам говорю, является правдой, и что миллионы людей в Европе в настоящее время оплакивают меня. Пьемонтцы предпочитали быть провинцией Франции, а не независимым королевством во главе с королём Сардинии».
12 марта. В одиннадцать часов утра посетил императора, пребывавшего в хорошем настроении. Он вновь высказал ряд замечаний относительно напряжённой обстановки в Англии. Наполеон высказал мнение, что, как он думает, принц-регент должен принять некоторые меры, чтобы успокоить народ, в частности, должен понизить налоги. «Нельзя, — заявил Наполеон, — чтобы страна в мирное время платила налоги почти в том же размере, что и во время войны, когда нет более того стимулирующего воздействия, того возбуждения умов, которые заставляют людей считать подобное опустошение их карманов абсолютно необходимым для того, чтобы воспрепятствовать поглощению их страны иностранной державой. Англия, — продолжал Наполеон, — находится в противоестественном положении, и ей следует предпринять какие-то изменения в сложившейся ситуации».
Я высказался в том смысле, что, хотя Англия сейчас переживает бедственное положение, но волнения в стране охватили низшие классы, и волнения закончатся тогда, когда несколько их зачинщиков повесят. Наполеон ответил: «Это, может быть, и так, г-н доктор, но вы должны считаться с тем, что сброд, как вы называете тех людей из низшего класса, составляет основную массу народа. Именно этот сброд, а не знать, формирует нацию. Когда придёт его день, то он более не станет сбродом. Он будет тогда называться нацией.
Если это не так, то почему некоторых из числа сброда предают смертной казни, а в целом представителей сброда называют канальями, бунтовщиками, грабителями и т. д.? Так уж устроен весь мир».
Затем я спросил Наполеона, правда ли, как об этом говорилось, что однажды он подвергся опасности быть взятым в плен казаками. «Если память мне не изменяет, — ответил Наполеон, — в сражении при Бриенне около двадцати или двадцати пяти уланов, но не казаков, обошли фланги моей армии и попытались атаковать артиллерийскую часть. День подходил к концу и уже начало темнеть. Каким-то образом они случайно наткнулись на меня и членов моего генерального штаба. Увидев нас, они порядком растерялись и не знали, что делать. Они, однако, не знали, кто был я, но и я, в свою очередь, какое-то время не отдавал себе отчёта в том, кто эти люди. Я посчитал, что это отряд из моих войск. Однако Коленкур понял, кто именно эти всадники, и крикнул мне, что мы среди врагов. В этот момент наткнувшиеся на нас уланы, видимо, настолько перепугались, что, не зная, что им делать, бросились врассыпную в разных направлениях, спасая свою жизнь. Офицеры моего штаба стали стрелять вдогонку им. Один из уланов промчался галопом так близко от меня (не узнав меня), что сильно задел своим копьём мое колено. В своей руке он держал наготове копьё, но задел им моё колено не острием, а противоположным концом. В суматохе, да ещё в наступавших вечерних сумерках, я решил, что это один из офицеров моего штаба мчался мимо меня, но, присмотревшись, понял, что это вражеский всадник. Я опустил руку, чтобы выхватить пистолет и выстрелить в улана, но тот уже умчался. Не знаю, был ли он убит или спасся. В этот день я выхватил мою шпагу из ножен, что случалось довольно редко, так как я выигрывал сражения, в которых моим главным оружием был мой глаз, а не шпага с пистолетом. Думаю, что потом этот отряд уланов был разгромлен».
Я спросил Наполеона, считал ли он, что в тот день ему грозила большая опасность. «Нет, — ответил Наполеон, — это было случайным стечением обстоятельств. В то время, когда всё это случилось, моя кавалерия находилась в другой части поля сражения. Конечно, вполне возможно, что меня могли убить, но вражеские уланы более старались поскорее убраться сами, чем пытаться убить кого-нибудь из нас».
Я спросил его, возникала ли для него когда-либо опасность быть взятым в плен казаками в то время, когда он отступал из Москвы. «Никогда, — ответил Наполеон, — при мне всегда была охрана, достаточная для того, чтобы отбить любую атаку».
13 марта. Наполеон принимает ванну. Находится в очень хорошем настроении. После разговора о том, что в последнее время было о нём опубликовано, он заявил мне: «Полагаю, что когда вы отправитесь в Англию, то и вы опубликуете обо мне книгу. Вы, безусловно, имеете больше прав на это, чем Уорден, и вы можете сказать, что о многом слышали от меня и имели со мной немало продолжительных бесед. Вы заработаете большие деньги и все вам поверят. И в самом деле, ни один французский врач не имел возможности общаться со мной столько времени, как вы. Мои встречи с ними ограничивались несколькими минутами. Мир жаждет знать все мельчайшие подробности о человеке, который стал заметной личностью: как он ест, пьёт, спит, какие у него главные привычки, как он ведёт себя. Люди хотят узнать об этом вздоре больше, чем о том, какими хорошими или плохими качествами он обладает. Для меня же достаточно, чтобы говорили правду».
14 марта. Наполеон пребывает в отличном расположении духа. Рассказал ему, что во французских газетах появилось письмо, авторство которого приписывается маркизу Моншеню. В письме утверждается, что когда маркиз прибыл на остров Святой Елены, то он (Наполеон) направил ему приглашение отобедать с ним. На это приглашение маркиз ответил, что он был послан на остров Святой Елены не для того, чтобы обедать с ним, а для того, чтобы охранять его. «Эти господа, — сказал Наполеон, — всегда остаются самими собою. Вполне вероятно, что он глуп настолько, чтобы написать подобное. Эти старые французские аристократы способны на любую глупость. Он достоин того, чтобы представлять один из древнейших дворянских родов Франции»[14].
Упомянул Наполеону о том, что в одной из газет утверждалось, что сэр Джордж Кокбэрн уехал в Париж, составив низкое мнение о его (Наполеона) способностях. Как заявил сэр Джордж Кокбэрн, с точки зрения обладания талантами, Наполеон особенно не выделяется, и его ни в коем случае не следует опасаться. Наполеон следующим образом прокомментировал высказывания сэра Джорджа Кокбэрна: «Возможно, и не без оснований, он не считает меня Богом, а также, что я наделён сверхъестественными талантами; но я рискну сказать, что он отдаёт мне должное, сказав, что некоторые таланты у меня всё же есть. Если он действительно выразил это мнение, приписываемое ему, то он делает малоудачный комплимент остальной части человечества».
Затем Наполеон попросил меня достать для него газету, которая напечатала статью, содержавшую мнение сэра Джорджа Кокбэрна о нём. Наполеон добавил, что он настолько привык читать клеветнические измышления, что почти не обращает внимания на их содержание и на ту клевету, которая публикуется в его адрес.
«Народ Англии с трудом поверит, — добавил Наполеон, — что эти клеветнические измышления, когда я их читаю, не только не вызывают у меня раздражения и чувство гнева, но, наоборот, они даже вызывают у меня приступы смеха. Из-за неистовости характера, которое приписывают мне, они считают, как я предполагаю, что я должен, ослеплённый нарастающей яростью, подвергаться приступам умопомешательства. Они горько ошибаются: клеветнические измышления вызывают у меня лишь смех. Только правда причиняет боль.
Мне хотелось бы, — продолжал он, — прочитать наиболее вопиющую клевету, опубликованную против меня в Англии, если бы я смог получить её переведённой на французский язык. Вот, например, Пеллетье, — добавил он, смеясь, — доказывает, что я сам придумал адскую машину, чтобы инсценировать покушение на самого себя».
15 марта. Сэр Хадсон Лоу дал указание капитану Попплтону, что генерал Бонапарт и любой член его свиты могут пользоваться без сопровождения британских офицеров дорогой в Вуди Рейндж и к дому мисс Мейсон, но им не разрешается съезжать с дороги, и что они могут возвращаться в Лонгвуд, достигнув конца леса, так как двое часовых в конце леса будут по-прежнему на посту. Наполеон спросил: что именно вменяется в обязанность этим часовым? Капитан Попплтон ответил: «Никого не впускать и никого не выпускать из Лонгвуда». Сэр Хадсон хочет, чтобы эти приказы часовым по-прежнему оставались в силе, добавив при этом, что он не думает, что дорога, по которой французам разрешается разъезжать, находится слишком близко от часовых для того, чтобы они задерживали французов. Губернатор также распорядился, чтобы часовые заступали на пост до захода солнца.
16 марта. Виделся с императором в гостиной. Он пребывал в исключительно хорошем настроении, часто смеялся, подшучивал надо мной по поводу моего якобы увлечения одной хорошенькой девицей и пытался говорить по-английски. Рассказал, что виделся накануне с госпожой Бингем, но она не могла говорить по-французски и «выглядела довольно сдержанной».
«Бертран, — продолжал Наполеон, — сообщил мне, что губернатор, наконец, прислал свои ответы. В них полно глупостей. Я сам не читал их, но из того, что рассказал мне Бертран, понятно, они являют собой жалкую писанину и вызывают только жалость к автору, который израсходовал так много страниц, так и не сделав никаких выводов. Он утверждает, что никогда не подписывал пропуск в Лонгвуд только на один день, когда на самом деле многие гости Лонгвуда показывали Бертрану пропуска, подписанные губернатором, действительные только в определённый день, и, соответственно, просили Бертрана уговорить меня принять их именно в этот, указанный на пропуске день, так как посетить Лонгвуд в любой другой день они уже не могли.
Затем Наполеон уделил немало времени разговору о Талейране. «Триумф Талейрана, — заявил Наполеон, — это триумф аморальности. Священник, вступивший в связь с женой другого человека и заплативший этому человеку большую сумму денег за то, чтобы она оставалась с ним. Человек, который готов продать всё, предать каждого и любую сторону. Я запретил госпоже Талейран появляться в императорском дворе, во-первых, потому, что она пользовалась сомнительной репутацией, и, во-вторых, потому, что я узнал, что некоторые генуэзские купцы заплатили ей четыреста тысяч франков в надежде получить через её мужа определённые коммерческие льготы. Она была очень красивой женщиной, англичанкой или уроженкой Ост-Индии, но набитой дурой и удивительно невежественной.
Я иногда приглашал Денона, чьи работы, я полагаю, вы читали, на завтрак со мной, так как я получал удовольствие от бесед с ним. В результате все интриганы и спекулянты обхаживали Денона с той целью, чтобы уговорить его в беседе со мной упомянуть об их проектах или просто об их существовании, думая, что даже упоминание о них таким человеком, как Денон, которого я глубоко уважал, может принести им материальную выгоду. Талейран, бывший великим спекулянтом, пригласил Денона к себе на обед. Когда он пришёл домой, то сказал жене: «Моя дорогая, я пригласил Денона пообедать с нами. Он — великий путешественник, и ты должна сказать ему что-нибудь приятное о его путешествиях, так как он может оказаться для нас полезным в наших отношениях с императором». Жена Талейрана, будучи чрезвычайно невежественной и, вероятно, ничего не читавшая о путешествиях, кроме книги о Робинзоне Крузо, решила, что Денон мог быть не кем иным, как самим Робинзоном. Желая оказаться перед ним весьма вежливой, она в присутствии большого числа приглашённых на обед стала задавать Денону различные вопросы о его слуге Пятнице! Сначала удивлённый Денон не знал, что и подумать, но, в конце концов, благодаря её вопросам, он понял, что она в самом деле вообразила, что он и есть Робинзон Крузо. Удивление Денона и гостей Талейрана не поддаётся описанию, так же как и взрывы смеха, взбудоражившего весь Париж, так как слухи об этой истории распространились по городу с быстротой огня, и даже сам Талейран был пристыжен случившемся.
Говорили, — продолжал Наполеон, — что я принял мусульманскую веру в Египте. Дело совсем не в этом. Я никогда не следовал догматам этой религии. Я никогда не молился в мечетях. Я никогда не воздерживался от вина, так же как и никогда не совершал обрезания и никогда не исповедовал это. Я лишь заявлял, что мы были друзьями мусульман и я уважал Магомета, их пророка. Это истинная правда, и я поныне уважаю его. Я хотел, чтобы имамы побудили молельщиков в мечетях молиться за меня для того, чтобы заставить народ уважать меня больше, чем это было на самом деле, и чтобы народ подчинялся мне с большей готовностью. Имамы ответили мне, что в этом вопросе существует большое препятствие, потому что их пророк в Коране внушил им, что они не должны подчиняться и уважать неверных и придерживаться с ними одних взглядов, и что я подпадаю под эту категорию. Тогда я попросил их провести со мной консультацию, чтобы выяснить, что именно необходимо сделать, чтобы стать мусульманином, так как некоторые их догмы неприемлемы для нас. Так, например, что касается обрезания, то Бог создал нас непригодными для этой процедуры. В отношении же воздержания от вина, то мы, бедняги, страдаем от холода, потому что наш народ живёт на севере и не может существовать без вина. Поэтому мы не можем согласиться с процедурой обрезания и с воздержанием от вина.
Выслушав меня, имамы посовещались между собой и примерно через три недели огласили фетву (заключение по религиозной проблеме, основанное на Коране и шариате. — Примеч. переводчика), объявив, что процедуру обрезания можно будет опустить, потому что эта процедура всего лишь обет; что же касается вина, то мусульмане могут его пить, но те, кто пьёт его, не попадёт в рай, а окажется в аду. Я ответил, что из этого ничего не получится, так как у нас нет причины стать мусульманами только ради того, чтобы оказаться в аду, к тому же у нас есть немало других путей отправиться в ад. Ладно, после совместных размышлений и споров в течение, как я думаю, трёх месяцев, они, наконец, решили, что человек может стать мусульманином и без процедуры обрезания и без воздержания от вина; но что пропорционально количеству выпитого вина необходимо совершить такое же количество добрых дел. Тогда я сообщил им, что мы все мусульмане и друзья пророка, чему они с готовностью поверили, так как французские солдаты никогда не ходили в церковь и с ними не было священников. Ибо вы должны знать, что во время революции любая религия была отлучена полностью во французской армии. Мену, — продолжал Наполеон, — действительно стал мусульманином. Именно по этой причине я оставил его в Египте».
Затем Наполеон рассказал мне о некоторых планах, над которыми он размышлял, касающихся строительства каналов в Египте как средств коммуникации. «Я намерен был осуществить строительство двух каналов, ведущих из Красного моря, один — к Нилу в район Каира, а другой — к Средиземному морю».
Я спросил Наполеона, верно ли то, что он спас жизнь Мену после событий 13 вандемьера (5 октября 1795 года). Он ответил: «Конечно, у меня был способ спасти его жизнь. Конвент приказал отдать его под суд, и он бы попал под гильотину; тогда я был главнокомандующим войсками Парижа. Я считал, что было бы очень несправедливо, если бы пострадал только Мену, в то время как три комиссара Конвента, приказы которых он выполнял, остались бы вне суда и не были бы наказаны; но не рискуя сказать открыто, что Мену следует оправдать (ибо, — продолжал Наполеон, — в те ужасные времена человек, говоривший правду, терял свою голову), я прибегнул к уловке. Я пригласил на завтрак трёх членов суда, которые судили Мену, и в разговоре затронул вопрос о Мену. Я заявил, что он действовал совершенно неправильно и заслуживает того, чтобы приговорить его к смертной казни; но что сначала следует судить и приговорить к смертной казни комиссаров Конвента, так как Мену действовал в соответствии с их приказами, и поэтому пострадать должны были все. Мои высказывания произвели желаемый эффект. Члены суда заявили: «Мы не позволим тем гражданам купаться в нашей крови в то время, когда они позволяют своим собственным комиссарам, которые гораздо больше виновны, избежать безнаказанности». Мену был немедленно объявлен невиновным».
Я затем спросил Наполеона, как он полагает, сколько человек потеряли свою жизнь в результате событий 13 вандемьера? Он ответил: «Очень немного, учитывая обстоятельства. Из числа жителей Парижа было убито около семидесяти или восьмидесяти человек; из числа защитников Конвента около тридцати человек были убиты и двести пятьдесят человек ранены. Причина того, что так мало было убитых, заключалась в том, что после первых двух залпов я приказал войскам зарядить пушки только порохом, что имело своею целью напугать парижан, посчитавших, что они понесут новые потери убитыми, как и во время первых залпов. Вначале я приказал заряжать пушки ядрами, потому что зарядить их только порохом было бы наихудшим способом утихомирить толпу, не сведущую в вопросах стрельбы из пушек. Ибо толпа, услыхав сильнейший грохот после первого залпа пушек, заряженных порохом, была бы немного напугана, но, оглянувшись вокруг и увидев, что никто не убит и не ранен, она бы собралась с духом, немедленно начала бы презирать вас, стала бы вдвойне неистовой и бросилась бы на вас, не испытывая никакого страха. И тогда было бы необходимо убить людей в десять раз больше, чем в том случае, когда вначале пушки были заряжены ядрами. Поскольку, имея дело с чернью, всё зависит от первого впечатления, которое вы произведете на неё. Если они получают сразу нехолостой залп и видят вокруг себя убитых и раненых, то их охватывает паника, они немедленно бросаются прочь и через минуту исчезают. Поэтому если вообще возникает необходимость стрелять, то вначале следует заряжать пушки ядрами. Это ошибочный пример проявления гуманности, когда вначале используется только порох, и вместо спасения жизни людей в итоге подобная гуманность приводит к ненужной потере человеческих жизней».
18 марта. Наполеон в очень хорошем настроении. Некоторое время шутил со мной по поводу Св. Патрика и старался говорить немного на английском языке, в котором он преуспел больше, чем когда-либо раньше, насколько я мог заметить. Я сказал, что отмечал различные его выражения в некоторых французских бюллетенях. Благодаря тому, что я имел честь привыкнуть к беседам с ним, то я опознал их и взял на себя смелость спросить его, не он ли сам временами писал их. Наполеон спросил меня: «Где вы видели эти выражения?» Я ответил, что у губернатора и что я особенно отметил его впечатляющие выражения в бюллетене, объявляющем о пожаре Москвы. Наполеон рассмеялся, слегка потянул меня за ухо и сказал: «Вы правы. Некоторые выражения действительно мои».
Наполеон затем заявил: «Ваши министры не смогут всегда обманывать страну. Поскольку они боятся меня и считают, что я одарённый человек и что я сделал Францию более великой, чем когда-либо раньше, то они боятся, что я могу сделать это снова, и так как всё, что выгодно для Франции, не выгодно для них, то они всеми средствами стараются предотвратить это, посадив на трон кучку глупцов, под властью которых Франция неизбежно должна завянуть. Для того, чтобы найти оправдание тому, что они заслали меня сюда, и как-то приукрасить своё поведение, они ищут все средства, чтобы очернить мой характер. Помяните меня, англичане сами будут первыми, кто оправдает меня и защитит мою репутацию от всех клеветнических измышлений, которые приписали ей их министры. Грядущие поколения отомстят за меня. Припомните мои слова и припомните также, что об этом я говорю вам уже не в первый раз.
Мне рассказали, — добавил он, — что сюда послали железные перила стоимостью в двадцать тысяч фунтов. Это деньги, выброшенные в море.
Прежде, чем эти перила установят здесь, я уже буду похоронен, ибо я уверен, что я не выдержу более двух лет подобного обращения, которому я здесь подвергаюсь.
Если бы, — продолжал Наполеон, — мои самые главные враги знали, как здесь обращаются со мной, то они бы посочувствовали мне. Миллионы в Европе будут оплакивать мою долю, когда они узнают обо всём, и они будут знать об этом, несмотря на попытки этого губернатора окутывать всё секретностью и тайной. Подобно человеку, накрывшему шляпой свечу, он мог бы скрыть свет, но сейчас его попытки скрыть истину напоминают попытки человека, который хочет затмить свет солнца, протянув шляпу навстречу его лучам. В нём ничего нет английского, ни снаружи, ни внутри. Он скверно служит своему правительству, которое стремится, чтобы как можно меньше говорили обо мне, но он прибегает к мерам, которые достигают совершенно противоположные цели».
Сэр Хадсон Лоу очень занят инспектированием работы по окапыванию рвов вокруг дома в Лонгвуде и конюшен.
19 марта. Зашёл к Наполеону, когда он принимал ванну. Он читал небольшую книжку, которая, как я понял, была «Евангелием». Я не удержался от того, чтобы не сказать ему, что многие люди не поверили бы, что он будет читать подобную книгу, так как немало людей утверждали и были уверены в этом, что он неверующий человек. Наполеон рассмеялся и ответил мне: «Тем не менее это правда. Я далёк от того, чтобы быть атеистом. Несмотря на все беззакония и мошенничества проповедников религии, которые вечно поучают верующих, что их царство находится вне этого мира, и, однако, хватают всё, что оказывается под их рукой, я, начиная с того времени, когда стал во главе правительства, делал всё в моих силах, чтобы восстановить религию. Но я хотел, чтобы она стала основой и поддержкой морали и добрых принципов, а не вершительницей человеческих законов. Человек нуждается в чём-то чудесном. Это нечто чудесное ему лучше искать в религии, а не у госпожи ле Норман[15]. Более того, религия для тех, кто верит в неё, является огромным утешением и и источником вдохновения. Ни один человек не может сказать, что именно он будет делать в последние минуты своей жизни».
Наполеон затем стал высказываться по поводу поведения губернатора, о котором он заявил, что тот абсолютно непригоден для занимаемой им должности. «Если бы он был годен для неё, — предположил Наполеон, — то он мог бы сделать ее приятной и интересной. Он мог бы проводить со мной немало времени и получать от меня огромную информацию о прошедших событиях, о которых никто так хорошо не осведомлен, как я, и которые никто не смог бы так хорошо, со знанием дела объяснить. Доктор, вы же видите, каков я на самом деле. Даже несмотря на то, что он мне совершенно неизвестен, он мог бы иметь возможность незаметно получать от меня информацию, которая была бы весьма желательной для его министров и которую, в этом я уверен, они бы сами приказали ему получать от меня. Он бы в этом случае сгорал от желания ознакомиться с ней. Если бы я на самом деле лелеял какие-нибудь намерения сбежать с этого острова, то я бы, вместо того чтобы без конца спорить с ним, обращался с ним деликатно, льстил ему, пытался подружиться, наносил визиты в «Колониальный дом», навещал его супругу и старался заставить его поверить, что я всем доволен, и тем самым полностью усыпил все его подозрения. На самом деле, он — глупец, который знает, как выводить буквы на бумаге.
Каждый человек, каким бы он ни был дураком, всё же обладает тем или иным подобием таланта: один в музыке, другой в рисовании, а этот дурак обладает талантом выводить буквы на бумаге.
Я заявил, что не могу отрицать, что сэр Хадсон Лоу по своему характеру вспыльчивый человек и позволяет страху перед возможностью его (Наполеона) побега с острова взять верх над его разумом, но что он всё же не лишён таланта. Он сам заявлял, что его положение является весьма сложным, ответственность — огромной, а приказы ему — строгими. Он просил меня сказать о том, что Лас-Каз признался, что члены свиты Наполеона заставили его смотреть на всё через кровавую дымку. «У животных тоже есть свои таланты, — возразил император, — что же касается его слов, что меня заставили смотреть на всё через кровавую дымку, то признаюсь, что где бы вы ни видели палача, там всегда видится кровь. Конечно, у Лас-Каза были все основания, чтобы чувствовать себя весьма раздражённым в отношении губернатора, и Лас-Каз немало способствовал тому, чтобы у меня сформировалось определённое мнение о губернаторе, потому что Лас-Каз — человек очень чувствительный, он остро воспринимал то дурное обращение, которое практиковалось в отношении меня и его.
Но я не нуждался в том, чтобы помогать Лас-Казу в его стараниях создать определённое мнение о губернаторе, поскольку то обращение, которому я подвергался, было вполне достаточным само по себе».
20 марта. Посетил Наполеона в его спальной комнате, когда он еще был облачён в утренний халат. Он долго говорил о ряде высказываний в книге Уордена. «Одно время, — рассказал Наполеон, — я назначил Талейрана осуществить миссию в Варшаву, чтобы найти лучший способ завершить отделение Польши от России. Я провёл с ним несколько бесед относительно этой миссии, что вызвало большое удивление у министров, так как Талейран в то время не занимал официальной должности. Поженив одного из своих родственников на герцогине Курляндской, Талейрану очень хотелось получить это назначение, которое он мог использовать для того, чтобы возродить требования семьи герцогини. Однако в Вене были раскрыты некоторые его денежные сделки, которые убедили меня в том, что он продолжает свои старые игры в продажность, и заставили меня принять решение не использовать его в намеченной миссии. Одно время я планировал сделать его кардиналом, но он на это не согласился. Госпожа Грант дважды бросалась передо мной на колени, умоляя меня разрешить ей выйти за него замуж, но я отказывал ей в её просьбе; но, благодаря горячему заступничеству Жозефины, во второй раз ей удалось добиться своего. Уже потом я запретил ей появляться в императорском дворе, когда узнал о генуэзской сделке, о которой ранее вам рассказывал. Под конец Талейран существовал, презираемый всеми.
Ней в моем присутствии в Фонтенбло, — продолжал свой рассказ Наполеон, — никогда не позволял себе говорить в заносчивом тоне, напротив, он всегда держался смиренным при мне, хотя в моё отсутствие он иногда впадал в ярость, поскольку был необразованный человек. Если бы он позволил себе неподобающий тон в разговоре со мной в Фонтенбло, то войска разорвали бы его на куски.
Лавалетт, — добавил Наполеон, — ничего не знал о моём предполагаемом возвращении с Эльбы и о том, что там замышляется. Госпожа Лавалетт была родом из семьи Богарнэ. Она была прекрасной женщиной. Луи, мой брат, влюбился в неё и хотел жениться на ней, чтобы помешать этому, я уговорил её выйти замуж за Лавалетта, к которому она испытывала благосклонность.
Когда Лавалетт был директором почтового ведомства, — продолжал Наполеон, — мне очень хотелось ознакомиться с истинными чувствами, испытываемыми в стране по отношению к моей административной деятельности. Я назначил двенадцать человек, все до одного придерживавшихся различных политических убеждений, в том числе якобинцев, роялистов, республиканцев, сторонников имперской политики и т. д., определив им каждому денежное содержание в размере тысячи франков в месяц. Они должны были направлять ежемесячные отчёты Лавалетту, в которых содержались мнения, услышанные ими, а также их собственная точка зрения о проводимых мною общественных мерах и акциях. Эти отчёты Лавалетт доставлял мне, не вскрывая их. После их прочтения я, сделав необходимые выписки, сжигал их. Вся эта операция проводилась в такой тайне, что даже мои министры ничего не знали об этом».
Наполеон добавил, что он никогда не говорил Нею о том, что он высадился на берег Франции с ведома и с поддержкой Англии; что, напротив, он всегда отрицал и порицал идею возвращения во Францию с помощью иностранных штыков и что он вернулся во Францию с единственной целью свергнуть династию, захватившую власть благодаря иностранному оружию. Единственно, чего он искал, так это поддержки французской нации. Свидетельством этого были все его воззвания к народу. Затем Наполеон поведал мне следующую историю заговора Пишегрю.
«Доктор в своей книге представил очень неточный отчёт о роли капитана Райта в заговоре против меня. В различные ночи августа, сентября и декабря 1803 года и в январе 1804 года Райт высадил на берег Франции у Бевилля Жоржа, Пишегрю, Ривьера, Костера, Сен-Виктора, Ла Хэйя, Сен-Хилэра и других. Последние четверо были сообщниками в организации неудавшейся попытки осуществить покушение на меня с помощью взрыва адской машины, а остальные были хорошо известными главарями шуанов. В течение дня они оставались на небольшой ферме, поблизости от того места, где их высадили на берег. Владелец фермы был подкуплен, чтобы помогать заговорщикам. По стране они передвигались только ночью, выдавая себя за контрабандистов, а в дневное время они прятались в жилье, которое заранее было подготовлено для них. С собой у них было много денег, и некоторое время они оставались в Париже, будучи необнаруженными, хотя у полиции имелись некоторые сведения о подготовке заговора, полученные ею от Мейе де ла Туша, которому ваши министры оплачивали его шпионские услуги. Мейе всё, что знал, докладывал французской полиции. Он имел несколько встреч с Дрейком, вашим поверенным в делах в Мюнхене, от которого он получил большую сумму денег[16].
Часть бандитов, высадившихся на берег Франции, были арестованы и подвергнуты допросу. Благодаря их ответам выяснилось, что некто по имени Мюссей, живший в Оффенбурге, проявлял большую активность вместе с герцогом Энгиенским в сотрудничестве с теми, кто был тайно высажен на берег Франции, переписываясь с ними и снабжая их деньгами; большинство из этих заговорщиков толком не могли объяснить, почему они рискнули вернуться в Париж, подвергая свои жизни непосредственной опасности, поскольку их имена не были включены в список амнистированных. Мне представили список арестованных и их ответы на допросах. Мне не терпелось ознакомиться с этими материалами, и однажды вечером, просматривая их, я обратил внимание на то, что один арестованный, значившийся в списке под именем Кверель, по своей профессии был врачом. Немедленно меня осенило, что действия этого человека были продиктованы не энтузиазмом или духом товарищества, но надеждой добиться для себя определённой выгоды. Поэтому, по сравнению с другими, от него, вероятнее всего, будет легче добиться признаний; и страх перед смертью, возможно, побудит его предать своих сообщников. Я приказал судить его в качестве шуана; и в соответствии с законами он был приговорён к смертной казни. Это не был инсценированный судебный процесс, как считал Уорден: напротив, когда его вели на расстрел, он попросил, чтобы его выслушали, и дал обещание сделать важные разоблачения. Лористон сообщил мне об этом, и Кверель был препровождён обратно в тюрьму, где он был допрошен Реалем, главным судьёй.
Кверель признался, что он прибыл из Англии и был высажен в августе 1803 года с корабля Райта вместе с Джорджем и некоторыми другими заговорщиками, что Джордж тогда находился в Париже, планируя убийство первого консула. Он также назвал дома, где он и другие заговорщики останавливались по пути в Париж. Полицейские офицеры немедленно направились во все названные им места; и в результате их расследования выяснилось, что он говорил правду и что с того времени, которое он описывал, Райт осуществил ещё две высадки подобных групп людей. Причём в последней группе должна была находиться важная персона, чьё имя заговорщики выяснить не смогли, и что вскоре они ожидают ещё один груз.
Герцог Ровиго, как я уже рассказывал вам ранее, был немедленно направлен в Бевилль с полицейской командой в надежде схватить эту группу. Эмигрант по имени Буве де Лозье, который после всего этого служил в Париже, был также арестован. Находясь в заключении в течение нескольких недель, он пришёл в отчаяние и однажды утром повесился в тюрьме. Тюремщик, услыхавший необычный шум в его камере, вошёл в неё и отрезал веревку на шее де Лозье прежде, чем тот расстался с жизнью. Когда он приходил в себя, он внезапно начал бессвязно восклицать о том, что Моро привёз с собой из Лондона Пишегрю, что Моро был предателем и убедил его в том, что вся армия на его стороне и он приведёт доказательства её развала. Бессвязная, но возбуждённая речь де Лозье вызвала тревогу. Полиция знала, что брат Пишегрю, бывший когда-то монахом, жил в Париже. Он был арестован и допрошен. Он признался, что виделся с братом день или два тому назад, и спросил, разве это преступление? Моро был немедленно арестован, а за задержание Жоржа и Пишегрю полиция назначила большие награды. Пишегрю был предан одним из своих старых друзей, который явился в полицию и предложил передать Пишегрю в руки полиции взамен немедленного вручения ему денежной награды в размере ста тысяч франков. Жоржу по-прежнему удавалось обманывать бдительность полиции. Я объявил, что город Париж находится на чрезвычайном положении. Ни одному человеку не разрешалось покидать город, за исключением дневного времени суток и только через определённые заставы, в которых в засаде находились люди, знавшие в лицо заговорщиков.
Примерно через три недели Жорж был предан и схвачен полицией после того, как он успел застрелить одного из полицейских, пытавшегося арестовать его. Соответственно, все заговорщики были схвачены. Пишегрю не отрицал, что находился на службе у Бурбонов, и вёл себя во время допроса с большой дерзостью. Впоследствии он, признав, что находится в безнадежной ситуации, покончил с собой, повесившись в тюрьме. Остальных заговорщиков предали открытому суду в мае месяце перед трибуналом департамента Сены и в присутствии всех иностранных послов в Париже. Жорж, Полиньяк, Ривьер, Костер и ещё шестнадцать или семнадцать заговорщиков были признаны виновными в тайном заговоре с целью покушения на жизнь главы руководящего органа французской нации и приговорены к смертной казни. Жорж, Костер, а также семь или восемь других заговорщиков были казнены. Ривьер был помилован, частотно благодаря просьбам Мюрата. Я также помиловал несколько заговорщиков. Моро был приговорён к двум годам тюремного заключения, которое было заменено ссылкой в Америку. Жюль де Полиньяк, доверенное лицо графа д’ Артуа и многих других, также был приговорён к тюремному заключению.
Выяснилось, — продолжал Наполеон, — благодаря признанию некоторых заговорщиков, что герцог Энгиенский был соучастником заговора и что он только ждал на границах Франции вести о моём убийстве, чтобы по получении её вступить на территорию Франции в качестве наместника короля. Разве я должен был терпеть, чтобы граф д’ Артуа направлял кучку негодяев во Францию с целью уничтожить меня и чтобы принц из дома Бурбонов с нетерпением ждал у дверей страны, которой я правил, сообщения о моём убийстве, чтобы воспользоваться этим злодеянием с выгодой для себя? В соответствии с законами природы моё решение добиваться того, чтобы он был подвергнут смертной казни, было вполне оправданным в качестве возмездия за многочисленные попытки с его стороны добиться моей смерти, которые он стремился осуществить. Я отдал приказ схватить его. Его судили и приговорили к смертной казни в соответствии с законом, принятым задолго до того, как я получил власть во Франции. Его судил военный трибунал, сформированный из числа всех полковых полковников, составлявших тогда гарнизон Парижа.
Он был обвинён в том, что поднял оружие против республики, чего он не отрицал. Стоя перед трибуналом, он вёл себя очень мужественно. Когда по дороге в Париж его привезли в Страсбург, он написал мне письмо, в котором предложил раскрыть весь заговор, если он будет помилован. В письме он заявил, что его королевская семья давно потеряла право требовать возвращения её власти, и закончил письмо обращением ко мне, предложив мне свои услуги. Это письмо было передано Талейрану, который держал его в тайне до того часа, когда герцог Энгиенский был казнен. Если бы граф д’ Артуа был на его месте, то его постигла бы та же самая судьба; и если бы я сейчас оказался перед лицом подобных обстоятельств, то я бы вёл себя точно так же, как и тогда. Так как полиция, — добавил Наполеон, — не хотела полагаться только на свидетельские показания Мейе де ла Туша, то она направила капитана Розей (в честности которого полиция была полностью уверена) к Дрейку в Мюнхен с письмом от Мейе, которое обеспечило капитану беседу с Дрейком. Результат беседы подтвердил сведения Мейе о том, что герцог Энгиенский имеет непосредственное отношение к заговору с целью покончить с первым консулом всеми возможными средствами»[17].
23 марта. Встретился с Наполеоном, полностью одетым, в бильярдной комнате. Он пребывал в хорошем настроении. Передал ему несколько клеветнических публикаций о его личности. Они все были изданы на французском языке, и среди них «Секретные мемуары. Бонапарт описывает самого себя». Эти публикации вызвали у него смех.
Затем Наполеон задал несколько вопросов о губернаторе. Я сказал, что несколько дней тому назад сэр Хадсон просил меня передать ему, что он полон желания добиться с ним примирения и считает, что Лас-Каз, Уорден, госпожа Скелтон и некоторые другие лица виновны в разжигании неприязни между ним и Наполеоном[18]. Наполеон ответил: «Он вас обманывает. Виновниками существующей неприязни были: во-первых, его скверная физиономия; затем его стремление заставить меня принимать дважды в течение суток британского офицера; далее, его письмо к Бертрану; его пожелание, чтобы я отказался от ваших, доктор О’Мира, услуг и согласился принять врача по его собственному выбору; манера, в которой он разговаривал со мной о деревянном доме; его письма с элементами деликатности, но затем сопровождаемые бесконечными придирками; и его всегдашняя привычка ставить возникшую проблему под сомнение, которую он потом интерпретирует так, чтобы она лучше отвечала его взглядам.
Судя по всему, — добавил Наполеон, — Уорден был информирован о том, что я воспользовался несколькими строками стихотворения Шекспира, чтобы бросить тень на доброе имя госпожи Монтолон. Вам хорошо известно, что я не мог раньше и не могу и сейчас процитировать стихи на английском языке. Вы также знаете, что я никогда не помышлял порицать госпожу Монтолон. Напротив, как я думаю, она обладает более твёрдым и прекрасным характером, чем большинство представительниц слабого пола».
24 марта. Наполеон пожаловался на то, что у него опухли ноги. Я порекомендовал ему самые простые средства против этого недомогания. Наполеон последовал моим советам.
Затем он рассказал мне, что вчера весь день читал «Секретные мемуары Наполеона», написанные Питоном. «Эта и другие клеветнические книги, — заявил он, — для меня сделали больше добра, чем зла во Франции, потому что они вызвали возмущение в стране против их авторов и против Бурбонов, которые оплатили их работу, тем, что представили меня чудовищем, а также той невероятной и скандальной ложью, напичканной в этих книгах, обо мне и о правительстве, которое я возглавлял. Вся эта ложь свидетельствует о том, что страна постепенно деградирует, находясь под властью Бурбонов. Даже Шатобриан принёс мне пользу своей книгой. Пишон, автор книги «Положение Франции при Бонапарте», служил консулом в Америке. Он потерял моё расположение после того, как присвоил три миллиона франков, часть которых он вынужден был возместить, так как я тщательно следил за работой консулов и других правительственных чиновников и всегда лично проверял их счета. После моего возвращения с Эльбы я направил этого Пишона, успевшего опубликовать свой клеветнический опус, в Лондон в качестве своего шпиона; по крайней мере, пока он был направлен мной, то я терпел его, потому что, хотя он был мошенником, но имел далеко не глупую голову на плечах. К тому же, учитывая характер написанных им книг, его трудно было заподозрить в шпионаже. Вы видите, до какой степени можно питать доверие к авторам клеветнических книг.
Этот человек, который в 1814 году написал обо мне такую клеветническую книгу, в 1815 году был направлен шпионом полиции той самой персоны, которую он с таким размахом оклеветал».
25 марта. Наполеон принимает ванну. Состояние его ног стало намного лучше. Он находится в хорошем расположении духа. «Господин доктор, — обратился он ко мне, — из тех книг, которые вы одолжили мне, выяснилось, что я в самом раннем возрасте отравил девочку; что я отравлял других ради удовольствия от самого процесса отравления; что я убил Дезэ, Клебера, герцога Абрантского и не знаю точно, сколько ещё других; что я отправился командовать армией в Италии, укомплектованной несколькими тысячами бывших заключённых, которые были несказанно рады видеть меня, поскольку я сам был одним из них. Удивительно, каким только вещам верят в каждой из двух противостоящих сторон, когда между ними полностью отсутствует связь. Во Франции, если дом горит дотла, то это приписывается простонародьем проделкам англичан. Все кричат вокруг: это сделал Питт, Питт. Ничто не может убедить французских каналий, что пожарище в Лионе не было подстроено англичанами. Подобным же образом вы, англичане, верите всему плохому обо мне, и эта вера всегда поощрялась вашими министрами».
В этот момент я прервал монолог Наполеона, высказав сомнение в отношении его утверждений. Возражая мне, Наполеон ответил: «Когда они снарядили корабли для высадки бандитов на берег Франции и снабдили их деньгами, поставив им цель уничтожить меня, разве они не были причастны к этому?» Я ответил, что они снарядили корабли и предоставили деньги мятежникам для того, чтобы содействовать им в совершении революции, не зная о том, что в их планы входило убийство. «Доктор, — возразил Наполеон, — вы ещё ребёнок. Они прекрасно знали, что к чему. Пятьдесят или шестьдесят бандитов, большинство из которых были известны как убийцы, не могли бы совершить революцию без моего убийства. Они одновременно опубликовали в Лондоне книгу под названием «Умерщвление — это не убийство», которая первоначально была опубликована во времена Кромвеля. Это было сделано с той целью, чтобы внушить народу мысль, что моё уничтожение не только не было бы преступлением, но достойно похвалы и награды. Конечно, Фокс придерживался противоположного мнения. Этот великий человек написал Талейрану, информируя его о том, что утром его навестил один мерзавец с предложением убить меня.
Когда я был на Эльбе, — добавил Наполеон, — мне нанёс визит один английский аристократ, католик, примерно лет тридцати, насколько мне помнится, родом из Нортумберлэнда. За несколько недель до этого он обедал с герцогом де Флёри, с которым он завёл разговор о сумме денег, положенных мне ежегодно Францией в соответствии с соглашением, подписанным министрами союзнических держав. Герцог рассмеялся прямо ему в лицо за то, что тот даже на минуту предположил, что это соглашение будет выполняться.
Герцог сказал при этом, что они не такие уж дураки. Это было одной из причин, побудивших меня покинуть Эльбу. Я не верю, что Каслри думал, что я рискну покинуть Эльбу, так как в противном случае весь остров был бы окружен фрегатами. Если бы они держали один фрегат в гавани и другой на рейде, то было бы невозможно для меня с группой моих сторонников отправиться во Франции, за исключением того, если бы я отправился туда в одиночестве, на что я бы никогда не решился. Если бы даже король Франции приказал одному фрегату с отборной командой курсировать вдоль острова, то это помешало бы мне осуществить попытку побега с Эльбы».
Я спросил его, считался ли он с возможностью того, что союзники вынашивали намерение выслать его на остров Святой Елены. «Пожалуй, да, — ответил император, — об этом много говорилось. Однако полковник Кэмпбелл отрицал это. Чтобы схватить меня, они должны были послать целую армию, ибо я мог бы выстоять несколько месяцев. Но было так много нарушений договора в Фонтенбло со стороны союзников, что это вынудило меня пойти на меры, которые я и осуществил. Независимо от того, что я вам рассказал, было обусловлено и согласовано, что всем членам моей семьи будет разрешено последовать за мной на Эльбу; но в нарушение этой договорённости моя жена и мой ребёнок были схвачены, их удерживали, и им никогда не разрешили присоединиться ко мне. Им также должны были быть пожалованы герцогства Пармы, Пьяченцы и Гуасталлы, но они были лишены этого. В соответствии с договором в Фонтенбло принц Евгений должен был получить княжество в Италии, которое ему так и не было пожаловано. Моя мать и братья должны были получить пенсии, но им также было отказано в этом. Моя личная собственность и все мои сбережения, накопленные мною на основании цивильного листа, должны были быть сохранены для меня. Вместо этого они были отобраны у Лабуйери, моего казначея, вопреки договору, и все мои требования возвратить их были отвергнуты. Личная собственность моей семьи должна была оставаться неприкосновенной — она была конфискована. Вклады, предназначенные для армии, должны были сохраняться — они были изъяты; также никогда не были выплачены пенсии в размере ста тысяч франков лицам, указанным мною. Более того, на Эльбу были подосланы наёмные убийцы, чтобы уничтожить меня. Никогда, — продолжал Наполеон, — условия договора не были так беспардонно нарушены и, фактически, открыто осмеяны, как это сделали союзники с условиями договора в Фонтенбло, и, однако, ваши министры имели наглость заявить всей вашей стране, что я был первым, кто нарушил договор в Фонтенбло».
Я заметил, что союзники обосновывали своё поведение в отношении него тем, что он ставил своей целью подчинить себе весь мир. «Нет, это не так, — возразил император, — конечно, я хотел, чтобы Франция стала наиболее могущественной страной в мире, но не более того. Я не ставил перед собой цели покорить весь мир. Я был намерен сделать Италию независимым королевством. Существуют естественные границы для Франции, которые я не хотел расширять».
Затем у нас зашёл разговор о Фердинанде, короле Испании. «Когда Фердинанд находился в Валенсии, — заявил Наполеон, — он всегда с ненавистью говорил об англичанах и заявлял, что первое, что он сделает, когда вернётся в Испанию, то восстановит инквизицию. Вы, англичане, в один прекрасный день обнаружите, что, посадив его на трон, вы нанесли себе колоссальный национальный ущерб. В то время когда он находился в Валенсии, он заявлял, что предпочитает остаться во Франции, вместо того чтобы вернуться в Испанию, и несколько раз писал мне, упрашивая предоставить ему французское гражданство и подыскать француженку, чтобы жениться на ней.
В настоящее время я обратил внимание на то обстоятельство, — добавил Наполеон, — что ваши министры и сторонники Бурбонов более не могут отрицать того факта, что я сделал немало хорошего для Франции, но при этом они стараются представить всё таким образом, что ко всему хорошему меня склоняла Жозефина. Например, они утверждают, что именно Жозефина убедила меня возвратить эмигрантов. Однако в действительности дело обстояло так, что, хотя Жозефина была одной из лучших женщин в мире, она никогда не вмешивалась в политические дела. Они ставят цель убедить весь мир, что я не способен на добрые дела. Но ваши английские путешественники добьются больших изменений в оценке моей деятельности со стороны вашей нации».
Лонгвуд посетили сэр Пултни и госпожа Малькольм, морские капитаны Стэфелл и Фестинг. Все они провели беседу с Наполеоном. Когда они покидали Лонгвуд, капитан Фестинг выразил своё удивление по поводу того, что Наполеон оказался совсем другим человеком по сравнению с тем, что ему о нем говорили. «Вместо грубого, раздражительного и надменного человека, — заявил капитан, — я встретил мягкого и обходительного человека, одного из самых приятных людей, каких мне доводилось когда-либо видеть. Я никогда не забуду его, а также то, насколько он далёк от того образа, который был ранее мне навязан».
26 марта. Наполеон много говорил о битве при Ватерлоо. «В глазах историков, — заявил он, — план сражения, составленный лордом Веллингтоном, не принесёт ему каких-нибудь лавров как полководцу. Во-первых, ему не следовало давать мне бой в то время, когда его армии не составляли единое целое. Они должны были быть объединены и собраться в одном лагере до 15 июня. Далее, выбор места для битвы был неудачным; потому что если бы он потерпел поражение, то он не смог бы отступить, так как в его тылу была только одна дорога, ведущая в лес. Он также совершил ошибку, которая могла привести к полному разгрому его армии ещё до начала всей кампании и сражения; он позволил застать себя врасплох. 15 июня я был у Шарлеруа и там разгромил пруссаков. Веллингтон ничего об этом не знал. Я опередил его на сорок восемь часов в маневрировании моих войск, и этим достиг многого; и если бы некоторые из моих генералов продемонстрировали ту решительность и тот талант, которые они проявляли в былые времена, то я бы пленил его армию, находившуюся в лагере, даже не начав какого-либо сражения. Но те генералы пали духом и вообразили себе, что всюду им противостоит армия в сто тысяч человек.
У меня самого не было достаточно времени, чтобы вникать во все детали сложившейся ситуации. Я рассчитывал застать противника врасплох и разбить его по частям. Я знал, что Бюлов должен прибыть к одиннадцати часам; но я не обращал на это особого внимания. У меня по-прежнему было восемьдесят шансов из ста в мою пользу, чтобы добиться общей победы. Несмотря на большое численное преимущество вражеских войск, противостоявших мне, я был уверен, что добьюсь победы. В моём распоряжении было семьдесят тысяч солдат, из которых пятнадцать тысяч представляли кавалерию. У меня также было двести пятьдесят пушек; но мои войска были настолько хорошо подготовлены к сражению, что я полагал, что их будет достаточно для того, чтобы сокрушить армию в сто двадцать тысяч солдат. В тот момент лорд Веллингтон имел под своим командованием около девяносто тысяч солдат и двести пятьдесят пушек; и у Бюлова было тридцать тысяч солдат, что вместе составляло вражескую армию в количестве ста двадцати тысяч солдат. Из всех этих войск противника я, однако, считался только с англичанами, которые были в состоянии сражаться с моими солдатами. Другим солдатам противника я уделял мало внимания. Думаю, что тогда было от тридцати пяти до сорока тысяч английских солдат. Вот как раз их я и считал такими же мужественными и отличными солдатами, как и мои; английская армия с недавних пор была хорошо известна на континенте; и, кроме того, вашей нации присущи мужество и энергичность. Что же касается пруссаков, бельгийцев и солдат других национальностей, то половины моих войск было бы достаточно для того, чтобы справиться с ними. Чтобы управиться с пруссаками, я оставил только тридцать четыре тысячи солдат.
Основными причинами моего поражения при Ватерлоо были следующие: во-первых, преступная медлительность Груши и пренебрежительное отношение его солдат к выполнению его приказов; затем то, что кавалерийские гренадеры и кавалерия, находившиеся под командованием генерала Гюйо, которых я держал в резерве и которые ни в коем случае не должны были покидать меня, вступили в бой, не имея на то приказа и безо всякого моего ведома; поэтому после прекращения артиллерийского огня, когда мои войска были разбиты и вперёд вышла английская кавалерия, у меня не было в резерве ни одного кавалерийского корпуса, чтобы оказать сопротивление английской коннице. В результате всего этого атака англичан прошла успешно, и для нас всё было потеряно. У меня не было средств, чтобы собраться с силами. Даже самый молодой генерал никогда бы не смог совершить ошибку, оставив армию полностью без резерва, что, однако, и произошло с моей армией при Ватерлоо, вследствие измены или чего-то ещё, я не могу сказать. Это были две основные причины моего поражения при Ватерлоо.
Если бы лорд Веллингтон окопался, — продолжал Наполеон, — я бы не стал атаковать его. Его оперативный план не свидетельствовал о нём как о талантливом генерале. Конечно, он проявил большое мужество и настойчивость; но эти его качества слегка блекнут, если вы учтёте, что у него не было средств для отступления, и если бы он попытался сделать это, то ни один солдат его армии не смог бы спастись. В первую очередь благодаря твёрдости и мужеству его войск, — ибо английские солдаты сражались с огромным мужеством и настойчивостью, — он обязан им в достижении победы, а не тому, как он вёл себя в качестве генерала; и во-вторых, победу при Ватерлоо следует отнести больше за счёт Блюхера, прибывшего вовремя на поле сражения, а не за счет Веллингтона; несмотря на то, что накануне Блюхер был разбит, он, тем не менее, сумел собрать свои войска и уже вечером вступить с ними в бой. Однако я считаю, — продолжал Наполеон, — что Веллингтон обладает характером большой твёрдости. Слава от такой победы — великая вещь; но в глазах историков военная репутация Веллингтона ничего не приобрела в результате Ватерлоо».
Затем Наполеон заговорил о клеветнических книгах о нём, которые я подобрал для него. «Пока ещё, — заявил он, — вы не снабдили меня ни одной книгой, которая была бы достойна ответа. Вы что, хотите, чтобы я сел за стол и написал ответ Гольдсмиту, Пишону или «Квотерли Ревью»? Они настолько ничтожны и настолько абсурдно фальшивы, что достойны лишь одного, а именно: чтобы на каждой их странице написать «ложь», «ложь». Единственную правду, которую я прочел в них, это та, что однажды на поле боя я встретил офицера Раппа, чьё лицо было всё в крови, и, не удержавшись, воскликнул: «О, как это прекрасно!» Это действительно так и было; но из этого они сделали преступление. Моё восхищение отвагой смелого солдата было истолковано как преступление, как доказательство того, что я упиваюсь видом крови. Но грядущие потомки отдадут мне должное, в чём мне отказано в настоящее время. Если бы я был таким тираном, таким чудовищем, то стали бы люди и армия стекаться со всех сторон, чтобы присоединиться ко мне с тем энтузиазмом, который они продемонстрировали, когда я с Эльбы высадился на берег Франции с немногочисленной группой людей? Смог бы я совершить марш в Париж и занять трон без единого выстрела? Спросите об этом у французской нации! У итальянской!
Я дважды был женат, — продолжал он, — но политические мотивы вынудили меня развестись с первой женой, которую я нежно любил. Она, бедная женщина, к счастью для неё, умерла вовремя, чтобы не стать свидетельницей последней из моих бед. Пусть спросят Марию Луизу, с какой нежностью и любовью я всегда обращался с ней. После насильственной разлуки со мной она призналась в самых трогательных выражениях, обращаясь к NN, о своём горячем желании быть вместе со мной, чтобы разделить мою ссылку, расхваливая со слезами и меня и моё отношение к ней. Разве это результат поведения безжалостного и бесчувственного тирана? Сущность человека познаётся благодаря его отношению к жене, к семье и к тем, кто работает и служит под его началом. Несомненно, в политике я совершал и малые и немалые ошибки, но преступления я никогда не совершал. Доктор Уорден в своей книге приписывает мне слова о том, что я никогда не совершал бесполезного преступления, что равнозначно тому, что я без колебаний совершал преступление, когда добивался какой-нибудь цели, что я безоговорочно отрицаю. Я никогда не хотел добиваться чего-либо, за исключением славы и благосостояния для Франции. Все мои способности были посвящены достижению этой цели, но я никогда не шел на преступление или убийство, чтобы приблизиться к ней.
Герцога Энгиенского, который, пребывая на самой границе с моими территориями, был замешан в заговоре с целью моего физического уничтожения, я приказал захватить и предать суду, приговорившему его к смертной казни. Он предстал перед объективным судом. Пусть ваши министры и Бурбоны делают всё в их силах, чтобы оклеветать меня, но правда всё равно восторжествует. Ложь проходит, правда остаётся. Пусть они прибегают к нечестным приёмам, подобно лорду Каслри, который, не довольствуясь тем, что заслал меня сюда, снизошёл до такой низости, как приписать мне такие слова, которые наилучшим способом отражают его точку зрения. Этот человек — гнусная личность. Возможно, они хотят немного продлить мою жизнь, не желая мне скорой смерти, чтобы заставить меня говорить то, что послужит их целям.
У меня никогда не было намерения уничтожить Англию. Мы были врагами, и я делал всё в моих силах, чтобы в конфликте с ней взять верх. Англия делала то же самое. После Амьенского договора я бы всегда поддерживал мирные отношения с Англией, исходя из того, что обе страны должны придерживаться равных условий в торговле друг с другом».
Я упомянул, что, насколько я понял его, он однажды высказал мне свою мысль о том, что у него были намерения объединить Англию с Францией, если бы он почувствовал себя достаточно сильным для этого. Наполеон ответил: «Я сказал, что не могу объединить столь несхожие друг с другом две нации. Я был намерен, если бы мне удалось осуществить план вторжения в Англию с моря, упразднить монархию и установить республику вместо олигархии, которая правит вашей страной. Я бы отделил Ирландию от Англии; Ирландию я бы сделал независимой республикой. Нет, нет; я бы предоставил их самим себе после того, как посеял зёрна республиканизма в их нравственном восприятии мира».
Я затем сообщил императору, что на остров Святой Елены ожидается через несколько дней прибытие лорда Амхерста (бывшего британского посла в Китае). Наполеон заявил, что, по его мнению, английские министры поступили неправильно, не дав ему указаний подчиняться обычаям страны, куда он был направлен, в противном случае его вообще не следовало туда посылать. Я высказался в том смысле, что англичане посчитали бы унизительным для своей нации, если бы лорд Амхерст согласился раболепствовать перед местными обычаями; что если бы в этом вопросе была бы допущена уступка, то китайцы, вероятно, не удовлетворились бы только этим и потребовали соблюдения точно такого же церемониала, на котором настаивали японцы и с которым так позорно согласились голландцы. Но лорд Амхерст был готов оказывать такое же уважение китайскому императору, которое он оказывал собственному королю.
Наполеон ответил: «Это совершенно разные вещи. Одно дело, когда первые люди страны всего лишь придерживаются правил этикета и церемониала по отношению к своему монарху, но другое дело, когда от чужеземцев, и только от чужеземцев, требуют согласия на их национальное унижение. С моей точки зрения, каков бы ни был обычай страны, которому следуют её первые люди по отношению к своему монарху, этот обычай не может унизить иностранцев, если они также следует ему. Различные страны придерживаются различных обычаев. В Англии в королевском дворе вы целуете руку короля. Подобная вещь во Франции считалась бы нелепой, и персона, которая сделала это, подверглась бы общественному осуждению; но, тем не менее, французский посол, поцеловав руку английскому королю во время приема в королевском дворце, не стал бы рассматриваться как личность, унизившая самого себя. В Англии несколько сот лет назад короля обслуживали, преклонив перед ним колено; подобная церемония существует и сейчас в Испании. В Италии вы целуете пальцы ноги папы римского, тем не менее, это не считается унижением человеческого достоинства.
Человек, который направляется в чужую страну, должен вести себя в соответствии с принятым там церемониалом. Для лорда Амхерста не было бы никакого унижения, если бы он подчинялся подобным церемониалам в отношении императора Китая, как это делают высокопоставленные мандарины этой империи. Вы говорите, что лорд Амхерст был готов оказывать китайскому императору такое же уважение, которое он проявляет по отношению к собственному королю. Вы не имеете права посылать в Китай человека, который сказал бы китайцам, что они должны следовать определённым церемониям только потому, что они практикуются в Англии. Давайте предположим, в качестве примера, что, вместо поцелуя королевской руки, в Англии существует обычай, в соответствии с которым лица, представляемые королю, должны целовать его задницу; так что же тогда, император Китая должен спустить свои брюки только потому, что такова практика в Англии».
Все эти высказывания Наполеон сопровождал соответствующей мимикой и многозначительными жестами в такой степени, что в какие-то минуты я не мог удержаться от смеха, к которому от всей души присоединялся и император.
«Если бы я, — продолжал Наполеон, — направил посла в Китай, то я бы дал ему указание ознакомиться со всеми деталями церемониала, с которым выступают перед императором высокопоставленные мандарины; и, если потребуется, самому делать то же самое, но не больше. А теперь, возможно, вы потеряете дружбу со страной и огромные торговые преимущества, и всё это только из-за такой никчёмной чепухи».
Я возразил Наполеону, заявив, что мы легко могли бы заставить китайцев предоставить нам выгодные условия торговли с ними с помощью нескольких военных кораблей; что, например, мы могли бы полностью лишить их поставок соли, расположив надлежащим образом несколько крейсеров на рейде китайских портов. Наполеон в связи с этим заявил: «Это было бы самим худшим из того, что вы сделали на протяжении многих лет, а именно: начать войну с огромной империей, с такой, как Китай с его колоссальными ресурсами. Несомненно, вначале вы добьётесь успеха, захватите все их корабли и разрушите всю торговлю; но вы же пробудите в них понимание собственной силы. Они будут вынуждены принять меры, чтобы защитить себя против вас; они разберутся во всём и скажут: мы должны пытаться быть равными с этой страной. Почему мы должны терпеть, чтобы народ, живущий так далеко от нас, делал всё, что он хочет, с нами? Мы должны построить корабли, поставить на них пушки, мы должны стремиться быть равными с ними. Они получат, — продолжал император, — оружейных техников и кораблестроителей из Франции и из Америки и даже из Лондона; они построят свой флот и со временем они разобьют вас».
Я сообщил, что, по всей вероятности, ему представят лорда Амхерста. Наполеон ответил: «Если лорд будет представлен мне губернатором или если последний пришлёт с лордом одного из своих подчинённых, то я не приму лорда; если же он придёт с адмиралом, то я приму его. Я также не приму нового адмирала, если он будет представлен губернатором. В своём последнем письме он оскорбил нас. Он пишет, что мы можем объезжать поместье и дом мисс Мейсон, но мы не должны съезжать с главной дороги[19]. Где же находится эта главная дорога? Я никогда не мог её обнаружить. Если я буду вынужден сойти с тропы в сторону на несколько ярдов, в случае любой необходимости, то я окажусь мишенью для часового. Адмирал, бывший здесь в последний раз, выступал в роли адвоката губернатора, обратившись ко мне с просьбой принять его вместе с лордом Амхерстом. Я бы не принял собственного сына, если бы его представил мне губернатор!»
27 марта. Посетил Наполеона, принимавшего в этот момент ванну. Он рассказал мне, как довольно долго он сумел держать в тайне от его солдат в Египте, что в армию проникла чума. «Я однажды, — сказал он, — в госпитале дотронулся до солдата, заражённого чумой для того, чтобы убедить войска, что поразившая их болезнь не была чумой; и мне думается, что в течение пятнадцати дней мне удавалось убедить их в том, что у них была лихорадка с бубонами. Я редко посещал госпитали, — продолжал он, — так как острая чувствительность моего носа была такова, что от запаха в госпитале меня всегда очень тошнило. В связи с этим Корвисар и мои другие врачи не советовали мне посещать госпитали. Даже во время моих кампаний в Европе я редко посещал их».
29 марта. Наполеон вновь заговорил о лорде Амхерсте, обратив внимание на то, что для китайского посла в Лондоне, если бы таковой был, было бы оскорблением просить его следовать тому церемониалу, который требуется от английского посла в Пекине, поскольку подобный церемониал не соответствует обычаям, существующим в стране его пребывания. «Например, — пояснил Наполеон, — если бы у английского посла потребовали поцеловать руку короля Франции, то это было бы оскорблением для посла, поскольку подобная деталь церемониала не является обычной во Франции, хотя французский посол в Лондоне делает это. Точно так же просить китайского мандарина целовать портрет короля Георга было бы глупостью и оскорблением для Китая: поскольку это не является обычаем в этой стране. Посол направляется в чужую страну для решения деловых вопросов, а не для демонстрации правил этикета и церемониала страны, которую он представляет. Он входит в число первых лиц страны его пребывания и он должен приспосабливаться к её обычаям. Если же от него потребуют совершить нечто сверх этого, то тогда действительно ему следует не давать на это своего согласия».
2 апреля. Встретился с Наполеоном, находившимся в сносном настроении. Спросил его, правда ли, что он был вынужден покинуть Египет после того, как получил конфиденциальную информацию, что директорат замышлял убить его в этой стране. «Нет, — ответил Наполеон, — я никогда не слышал об этом; так же как и директорат не имел подобных намерений. Конечно, они относились ко мне с ревностью, но такой идеи у них не было. И в той ситуации, которая тогда сложилась во Франции, я не думаю, что они хотели бы этого. Я вернулся из Египта потому, что моё присутствие во Франции было необходимо для республики, а также потому, что первая цель моей военной экспедиции была достигнута в результате покорения Египта». Я спросил, исходил ли план операции от него или в его составлении принимал участие директорат. «И так и эдак, — ответил Наполеон, — мы оба думали об этом в одно и то же время».
Вчера госпожу Бертран посетил г-н Черчилль с юными дочерьми с целью получить возможность побеседовать с Наполеоном. Семья г-на Черчилля прибыла на остров из Индии. Губернатор, однако, воспользовался эффективным способом помешать этой беседе, дав указание сэру Томасу Риду сопровождать гостей из Индии. Возможно, что Наполеон, весьма неравнодушный к женскому обществу, будучи информированный о том, что юные дочери г-на Черчилля прекрасно образованы и хорошо говорят по-французски, сумел бы встретиться с ними как бы случайно, если бы сэр Томас не прислушивался всё время очень внимательно к беседе семьи г-на Черчилля с госпожой Бертран.
Лонгвуд посетили г-н Кук, капитан корабля «Черепаха», и г-н Маккензи, гардемарин этого же корабля. Когда император плыл из Франции на Эльбу на борту фрегата «Отважный» под командованием капитана Ашера, то г-н Маккензи был гардемарином на борту этого корабля. Капитан Кук рассказал мне, что, прождав некоторое время в надежде увидеть Наполеона, они, наконец, заметили его прогуливающимся в саду. Наполеон, также заметив их, пригласил к себе и задал им много вопросов. Он вспомнил г-на Маккензи, отметив, что тот заметно подрос с тех пор, как он видел его в последний раз, и спросил о капитане Ашере. Император поинтересовался у капитана Кука, как долго он служил. Капитан Кук ответил: «Тридцать лет». Наполеон заметно удивился этому и спросил, в каких морских сражениях он участвовал. Среди прочих морских сражений капитан Кук упомянул Трафальгар. Наполеон поинтересовался именем корабля, на борту которого тогда служил капитан Кук, а также задал различные вопросы о морском сражении при Трафальгаре, откуда прибыл капитан Кук и закончил беседу вопросом: где он собирается обедать? Последовал ответ: «В лагере 53-го пехотного полка». — «В лагере? — переспросил Наполеон, — тогда будьте осторожны, чтобы не опьянеть».
3 апреля. Наполеон на английском языке сказал, что вчера беседовал со старым моряком. «Он выглядит, — заметил император, — очень мужественным человеком. С ним был гардемарин, который служил на фрегате под командованием капитана Ашера. На борту этого фрегата я плыл из Франции на Эльбу. Гардемарин очень вырос, — продолжал Наполеон, — но я узнал его». Я рассказал Наполеону, что гардемарин заявил, что команде фрегата «Отважный» он (Наполеон) очень понравился. «Да, — подтвердил Наполеон, — думаю, что так оно и было; я обычно прогуливался по палубе, доброжелательно разговаривал с членами команды и задавал им различные вопросы. Моя раскрепощённость в этом отношении очень удивила их, так как моё поведение с ними сильно отличалось от того, к чему они привыкли, общаясь с собственными офицерами. Вы, англичане, — аристократы. Вы соблюдаете большое расстояние между собой и народом». Я возразил, заявив, что на борту военного корабля необходимо держать матросов на большом расстоянии от офицеров, чтобы поддерживать соответствующее уважение к последним. «Я не думаю, — ответил император, — что так уж необходимо соблюдать дистанцию между моряками и офицерами в том виде, как практикуете это вы. Когда офицеры не едят и не пьют или когда они держат себя свободно с моряками, то я не вижу необходимости для того, чтобы подчёркивать какое-либо значительное различие между ними. Природа создала всех людей равными. Я всегда придерживался обычая разгуливать в среде солдат, беседовать с ними, расспрашивать их о житейских мелочах, доброжелательно говорить с ними. Как я понял, подобное поведение приносило мне большую пользу. Напротив, генералы и офицеры вели себя по отношению к солдатам свысока и держали их от себя на большом расстоянии.
Я спросил, — продолжал он, — старого моряка, где ему предстоит обедать и предупредил его, чтобы он не напивался. Он рассказал мне, что женат и у него нет детей. Я поинтересовался, что он собирается делать со своими деньгами. Он сказал, что пожертвует их госпиталю. Затем я спросил его, есть ли у него племянники и племянницы, и порекомендовал ему оставить сбережения им, а не госпиталю.
Один клеветник, — стал рассказывать император, — говорит, что я покорил Италию, имея в своём распоряжении несколько тысяч каторжников, отбывавших наказание на галерах. На самом же деле более прекрасной армии, чем та, никогда раньше не существовало. Более половины её составляли образованные люди, сыновья купцов, юристов, врачей и лучшие представители фермерства и буржуазии. Две трети из них были грамотными, умеющими писать и способными стать офицерами. В действительности, рассматривая список полка, я ломал голову над решением вопроса, кто из солдат более всего достоин поощрения или заслуживает повышения в звании: ибо все они были слишком хороши. О! — продолжал он с заметным волнением, — так все мои армии были такими же! В походе я часто обращался к солдатам, чтобы кто-нибудь из них вышел из рядов и стал писать под мою диктовку. Меня тотчас окружала дюжина солдат, полных желания стать моими писарями, так как мало было тех, кто не умел писать.
Даже если бы, — продолжал император, — французская армия представляла собой сборище бандитов, что было далеко не так, то едва ли француз сказал бы об этом. Возможно, в Англии более развито чувство патриотизма, более силён общественный дух, чем во Франции. Вы же — островитяне. Вам свойствен дух изоляционизма. И, кроме того, у вас не было совсем недавно революции, как во Франции. Для того чтобы правильно судить о двух нациях, необходимо рассматривать их непосредственно после революции. Более того, многие французы находятся на денежном содержании у ваших министров, которые указывают им, что следует писать против их собственной страны».
Наполеон затем спросил меня, является ли для нас священной великая Страстная пятница, постимся ли мы и в какой степени соблюдаем пост? Я ответил, что мы соблюдаем пост; но что протестанты редко постятся; но когда мы соблюдаем пост, то вообще воздерживаемся от пищи. Мы не считаем правильным во время поста, избегая мясо животных, в то же время объедаться палтусом или другой рыбой с нежным вкусом. «Вы правы, — заметил император, — вы абсолютно правы. Если человек постится, то он обязан воздерживаться от любой пищи, в противном случае так называемый пост не заслуживает, чтобы его так называли. Ах, до чего же в людях силён инстинкт животного, когда они считают, что воздерживаясь от мяса животных, но объедаясь рыбой, которая так нежна и приятна на вкус, они придерживаются поста. Да, человек слаб.
До моего правления, — заявил Наполеон, — французские короли клялись искоренять всех еретиков! Во время моей коронации я поклялся защищать все вероисповедания! Людовик пока ещё ни в чём не клялся, потому что не был коронован, и, по всей вероятности, из-за страха перед вами и перед пруссаками он не даст клятву искоренения; не потому, что он этого не хочет, наоборот, он бы с удовольствием дал такую клятву и принял меры для её претворения в жизнь. Ибо династия Бурбонов — наиболее нетерпимая на земле. Англичанам ещё предстоит узнать, что именно они из себя представляют».
4 апреля. Встретился с Наполеоном в бильярдной комнате. Он находился в очень хорошем настроении. Завёл разговор об Адмиралтействе Англии; спросил, кто подписывает постановление о присвоении званий морским офицерам. Был очень удивлён, когда я сообщил ему, что король никогда не подписывает подобные постановления. «Что, разве постановление о повышении Нельсона в звании не было подписано королём?» Я ответил отрицательно и пояснил, что король подписывает постановления о присвоении звания только офицерам армии и морской пехоты, но не офицерам флота. «Кто же тогда назначает руководителей Адмиралтейства?» — спросил Наполеон. Я ответил: «Монарх». «Тогда, — заявил он, — это сущая нелепость; ибо если король желает отдать команду адмиралу или повысить флотского офицера, то ему ничего не надо делать, кроме того, чтобы выразить своё пожелание руководителям Адмиралтейства, которые не посмеют отказать ему, опасаясь потерять свою должность».
В ответ я пояснил, что бывали случаи, когда монарх добивался назначения на должность адмирала и главнокомандующего морских офицеров, чьи кандидатуры не совсем совпадали с мнением Адмиралтейства; но что в этих случаях право утвердить или не утвердить назначения, сделанные монархом, оставалось за лордами Адмиралтейства, за исключением определённых вакансий, которые, в соответствии с обычаем, заполнялись в силу права выбора монарха. «Чушь, — возразил Наполеон, — если они не утвердят назначение офицера, выбранного самим монархом, то разве он оставит их на прежних должностях в Адмиралтействе? Король может повысить в звании любого офицера, который ему нравится. В его руках огромная власть, и поэтому он назначает министров и командует теми, кто руководит всем в вашей стране. Министры, за редким исключением, слишком дорожат своими креслами, чтобы пойти на риск потерять свои должности, отказавшись подчиниться желаниям монарха. Подобное случилось и со мной, когда один министр заявил мне: «Сир, я не могу согласиться с этим. Это противоречит моей точке зрения, и я скорее подам в отставку, чем соглашусь!»
В свою очередь я отметил, что было несколько случаев, когда Англия лишилась министров, подавших в отставку только потому, что они не согласились с пожеланиями короля, которые не соответствовали их принципам Да, король Англии обладает значительной властью над армией и военно-морским флотом, но на независимых лиц, не имеющих отношения к армии и флоту, особенно на карьеристов, он может влиять только в тех случаях, когда эти лица сознают правоту его мер. «И на что большее я мог рассчитывать во Франции? — спросил Наполеон. — Что я мог поделать, исключая ту категорию лиц, которых вы привели в качестве примера?»
Я осмелился возразить Наполеону, заметив, что во Франции отсутствовала и свобода речи, и свобода печати, и что человека могли бросить в тюрьму за выступление против мер, принятых правительством, и содержать в ней в течение неопределённого времени. Наполеон ответил: «Конечно, во Франции отсутствовала та свобода дискуссии, которая свойственна Англии; хотя иногда я встречал в сенате очень сильное противодействие; действительно в стране было не так уж много свободы слова и свободы печати; но что я мог поделать с банкиром или с другими независимыми лицами, которые противодействовали принимаемым мною мерам? Посадить их в тюрьму, досаждать и докучать их арестами? Они могли бы апеллировать к сенату и положиться на существующие тогда законы. Помимо того, подобное моё поведение было бы недостойным. Я не отрицаю, что старая конституция Франции была скверной и требовала значительных изменений; но, когда я вернулся с Эльбы, конституция, которую я вручил французам, была прекрасной; и действительно единственным её недостатком было то, что я оставил себе слишком мало власти и, возможно, слишком много передал её сенату. Я не мог запрятать человека в тюрьму, наложить штраф, ввести налоги или взимать их с лиц, освобождённых от воинской повинности; к тому же по конституции был введён закон о свободе печати».
Я напомнил ему, что его враги утверждали, что эта конституция была им дана Франции только на текущий момент и что когда его положение на троне станет прочным, то он вернётся к своей старой системе. «Нет, нет, — возразил император, — я бы продолжал придерживаться моей последней конституции; я был абсолютно убеждён, что старая конституция требует больших изменений. Предполагаю, что именно лорд Каслри был автором этого утверждения; но вы не должны верить лорду Каслри. Вы знаете, какой ложью он публично обливал меня с тех пор, как я оказался здесь. Я не буду удивлён, если они сфальсифицируют все официальные документы, как это они уже сделали с документами, касающимися меня и Мюрата.
Когда я вернулся с Эльбы, я нашёл машины, с помощью которых подделывались документы. Они подделали несколько государственных документов, намереваясь опубликовать их. Всей операцией по подделке государственных бумаг руководил г-н Блакас; но непосредственным исполнителем был некий священник. Раньше подобное было сделано в отношении бумаг Мюрата. Сфабрикованные бумаги были показаны некоторым англичанам. Блакас подобным образом сфабриковал письмо от горничной моей сестры Полины, содержавшее семь или восемь страниц болтовни. Он интерполировал это письмо таким образом, чтобы дать понять, что я спал с собственной сестрой! Это Блакас — безнравственный человек и к тому же болван. Он настолько низок, что оставил после себя в Париже письма, содержавшие предложения услуг тех во Франции, кто ранее предал меня.
Благодаря этим письмам я бы мог, если бы мне захотелось, казнить тысячи людей. Однако я не воспользовался ими, если не считать, что я запомнил имена.
Послушайте, нельзя привести большего доказательства глупости и предательства, чем это поведение Блакаса; в первую очередь этим письмам должна была быть обеспечена полная безопасность или их следовало просто уничтожить, ведь они компрометировали многих людей. Но г-н Блакас стремился только к тому, чтобы спасти свои деньги; и его мало заботила жизнь тех людей, с помощью которых он и его хозяин вернулись обратно в Париж. Он был тогда управляющим делами королевского двора. Ему все перепоручил Людовик, который ни к чему не был способен и главные качества которого — лицемерие и притворство. Его ноги были покрыты язвами, и чулки на его ноги натягивала герцогиня Ангулемская. Каждый день он объедался до такой степени, что ему давали Бог знает что, чтобы освободить его переполненный желудок. В одно прекрасное утро его обнаружат в постели мертвым. Вокруг него хлопочут несколько невежественных и глупых врачей. Они хотели, чтобы за ним присматривал Корвисар, но тот отказался, заявив, что в случае любого инцидента он будет обвинён в том, что способствовал его концу. Когда я вернулся в Тюильри, то обнаружил мои апартаменты отравленными запахом его ног и различных серных ванн, которые он привык принимать.
Эти Бурбоны, — продолжал Наполеон, — самое трусливое племя, которое можно себе представить; нагоните на них страх и вы сможете получить от них всё, что хотите. Когда я находился на Эльбе, скончалась актриса по имени мадемуазель Рокур. Она была очень популярна среди зрителей, и на её похороны пришло громадное число её почитателей. Когда толпа народа появилась у церкви Св. Роша, чтобы присутствовать при похоронной церемонии, то выяснилось, что двери церкви закрыты и поклонникам актрисы, пришедшим, чтобы попрощаться с её телом, было отказано в похоронной церемонии внутри церкви. Священники также не разрешили хоронить тело актрисы в освящённой земле, так как, в соответствии со старыми правилами этих священников, людям её профессии не полагалось христианское погребение.
Собравшаяся масса народа разбила двери тележками и, обнаружив, что внутри церкви отсутствует священник, чтобы провести похоронную церемонию, подняла страшный шум, и ярость людей не знала границ. Народ закричал: «Ко дворцу Тюильри, ко дворцу Тюильри! Мы посмотрим, какое право имеют эти священники отказать в погребении христианского тела». Их гнев ещё более усилился, когда они узнали, что тот самый мерзавец, куратор церкви Св. Роша, отказавший провести христианское погребение тела мадемуазель Рокур, постоянно получал подарки от неё и для себя и для бедных прихожан церкви (поскольку она была известна своей безграничной благотворительной деятельностью) и часто обедал и ужинал у неё. Более того, выяснилось, что он совершил обряд причастия для неё за несколько дней до её кончины. Возмущённый народ кричал: «Ну и негодяй этот священник, который совершил обряд причастия для женщины, но потом отказывается хоронить ее тело по-христиански. Если она достойна обряда причастия, то, конечно, она достойна и христианского погребения. Он получал от неё пожертвования, обедал у неё, а теперь отказывается хоронить её тело».
Около пятидесяти тысяч человек отправились ко дворцу Тюильри с требованием к королю восстановить справедливость. Архитектор, бывший в это время внутри дворца, рассказал мне, что он присутствовал при разговоре с Людовиком, когда ему доложили о случившемся. Не ведая о том, что у дворца собралась многочисленная толпа, Людовик заявил: «Куратор церкви прав. Эти актёры — безбожники, они отлучены от церкви и они не имеют права на христианское погребение». Через несколько минут появился страшно испуганный Блакас, который заявил, что около дворца собралось свыше семидесяти тысяч людей и он боится, что они разнесут весь дворец. Людовик, от страха почти потерявший рассудок, закричал, чтобы тотчас похоронили тело актрисы в соответствии с обрядами церкви, и поспешил послать своих приближенных, чтобы те присмотрели за незамедлительным исполнением его приказа. В течение нескольких дней он не мог прийти в себя от охватившего его страха. Те же священники пытались провести со мной эксперимент подобного рода в отношении тела скончавшейся красивой балерины, но, Бог ты мой (эмоционально воскликнул Наполеон), они же имели дело не с Людовиком! Я незамедлительно решил возникшую проблему.
Я, — продолжал Наполеон, — сделал все кладбища независимыми от священников. Я ненавидел монахов и выступал за упразднение их и хранилищ их преступлений, монастырей, где безнаказанно расцветали все виды порока. Кучка подлецов, которые вообще представляют собой позор для человеческой расы. Я бы допустил существование в стране только самого необходимого числа священников и ни в коем случае не монахов».
После этого я рассказал императору, что, как утверждалось, после того, как он сначала отказался согласиться с условиями заключения мира, предложенными союзниками в Шатильоне, он якобы направил гонца, чтобы информировать лорда Каслри, что он передумал и согласен с теми условиями, которые ему предложили; но лорд Каслри ответил: «Наполеон слишком опоздал и союзники полны решимости принять согласованные ими меры»[20]. Наполеон ответил, что это — ложь. «Я бы никогда не дал согласия на принятие условий мирного конгресса в Шатильоне, потому что я поклялся сохранить целостность империи, и никогда бы не отказался от своей клятвы. Поэтому я написал Коленкуру, что я отрекусь от престола. Я бы согласился на условия, предложенные во Франкфурте, в соответствии с которыми Рейн должен был явиться естественной границей Франции»[21].
Я взял на себя смелость заметить, что можно естественно предположить, что он не поддерживал решений Парижского договора, условия которого были ещё хуже. «Да, — ответил Наполеон, — я бы строго подчинялся решениям того договора. Сам бы я не подписался под ним; но, выяснив, что он заключён я бы подчинился его решениям и оставался бы в состоянии покоя».
В последовавшей беседе я высказал ряд малоприятных замечаний в адрес маршала Даву, спросив у Наполеона, не считался ли Даву одним из лучших его генералов. «Нет, — ответил император, — но я не считаю его тёмной личностью. Он никогда не грабил для себя. Конечно, он взимал контрибуции, но они предназначались для армии. Для армии необходимо, особенно когда она окружена, обеспечивать саму себя. Будучи одним из первых французских генералов, он ни в коем случае не являлся лучшим из них, хотя он был хорошим офицером». Я затем спросил его, кто, с его точки зрения, является лучшим генералом в настоящее время. «Трудно сказать, — ответил Наполеон, — однако, я думаю, что, возможно, Суше — лучший. Ранее был Массена, но вы можете сказать, что как генерал он кончился. Он жалуется на болезнь в груди, которая сделала его совершенно другим человеком. Суше, Клозель и Жерар, с моей точки зрения, являются лучшими французскими генералами. Трудно сказать, кто из них лучший, так как у них не было возможности быть главнокомандующим, а именно исполнение этой должности является единственным способом для определения размера талантов человека».
Наполеон также с похвалой отозвался о Сульте.
Вместе с капитаном Попплтоном, капитаном Фуллером, Импеттом и другими офицерами 53-го пехотного полка отправился на охоту на крыс в лагере полка, которая велась следующим образом. Несколько солдат, снабжённых лопатами, принялись копать вблизи рва и стены лагеря, которые были наводнены крысами. Две собаки стояли в ожидании, готовые к схваткам, а мы вооружились палками. Как только крысы почувствовали, что их обиталище пришло в движение, они устремлялись из своих нор и попытались бежать прочь. На них набросились собаки и люди, в результате чего возникла оживлённая сцена полного замешательства; крысы пытались умчаться в чужие норки, а их преследователи колотили палками как попало и, в своём желании добраться до своей жертвы, били палками по ногам других охотников. Некоторые крысы набросились на нападавших, оказывая им отчаянное сопротивление. Менее чем через полчаса было убито четырнадцать крыс.
В Лонгвуде развелось невероятное количество крыс. Мне часто приходилось видеть их, собравшихся, подобно выводку цыплят, вокруг отбросов, выброшенных из кухни. Полы и деревянные перегородки, разделявшие комнаты, были повсюду насквозь продырявлены отверстиями. Перегородки, бывшие в основном двойными, с толщиной в один дюйм каждая, предоставляли между собой пространство, достаточно большое, чтобы крыса в нём могла свободно перемещаться. Эти крысы, бегавшие вверх и вниз между перегородками, скакавшие стаями на чердаках то ли в поисках пищи, то ли в любовном веселье, создавали такой шум, что было трудно определить его источник. Ночью, разбуженный их вторжением в мою комнату, когда они бегали через мое тело, лежа в постели, я часто швырял в них сапоги и всё, что попадало под руку, что ни в коей мере не смущало их и вынуждало меня, в конце концов, вставать с постели и прогонять их прочь. Иногда вечерами мы забавлялись тем, что снимали оловянные пластинки, прибитые гвоздями над их норками, и выжидали, когда крысы выскочат наружу. Тогда слуги, вооружённые палками, и собаки набрасывались на них, заполнявших отверстия норок. Часто крысы оказывали отчаянное сопротивление и сильно кусали нападавших.
Как бы ни были хороши собаки вначале, но затем они стали проявлять равнодушие к схваткам с крысами и нежелание набрасываться на этих вредных животных; то же самое можно было сказать и о кошках. Отравление крыс было непрактичным занятием, так как жить в комнатах становилось невозможно из-за вони их гниющих тушек. И действительно, не один раз приходилось вскрывать перегородки, чтобы извлечь из расщелины сдохшую крысу, от которой исходило невыносимое зловоние.
Ужасное состояние здания, почти развалившегося, крыши[22] и потолки, в основном деревянные, покрытые толстой коричневой бумагой, смазанной смесью смолы и дёгтя, вкупе с деревянными перегородками, весьма способствовали нашествию этих мерзких рептилий. Плачевное состояние дома стало причиной ещё одного большого неудобства, так как смесь смолы и дёгтя под воздействием жгучих лучей солнца расплавлялась и стекала, оставляя за собой большое число щелей и трещин, через которые внутрь помещения проникали потоки щедрого тропического ливня. Графиня Монтолон вынуждена была неоднократно вставать ночью и передвигать свою кровать и кровати детей в разные места комнат, чтобы не промокнуть. Конструкция крыш не позволяла спасти положение, так как нескольких часов жгучих солнечных лучей было достаточно для того, чтобы возникли новые щели и трещины.
6 апреля. Наполеон в хорошем настроении. Высоко отозвался о маркизе Корнуоллисе. «Корнуоллис, — заявил он, — был честным человеком, с щедрым и искренним характером. Очень мужественный человек. Он был первым человеком, который заставил меня хорошо думать об англичанах; его честность, лояльность, прямота и благородство его чувств способствовали тому, что у меня создалось весьма положительное мнение о вас, англичанах. Я помню, как однажды Корнуоллис сказал: «У человека есть определённые качества характера, используя которые, этого человека можно подкупить. Но человека с сильным характером, известного своей искренностью и свойственной ему гордостью, а также присущим ему хладнокровием в час опасности, подкупить нельзя». Эти слова произвели на меня глубокое впечатление. Я предоставил в его распоряжение кавалерийский полк, чтобы он приятно проводил время в Амьене, когда кавалеристы совершали маневры перед ним. Я не думаю, что он обладал сверхъестественными способностями, но он был талантлив, честен и искренен. Он всегда держал данное им слово.
В Амьене текст договора был готов, и ему предстояло подписать его в отеле «Де ла Билль» в девять часов. Что-то помешало ему прибыть в отель в назначенное время; но он сообщил через гонца французским министрам, что они могут считать договор подписанным и что он подпишет его на следующий день. Вечером из Англии приехал курьер с указаниями, чтобы он отказался дать согласие на ряд статей договора и чтобы он не подписывал договор. Хотя Корнуоллис ранее не подписал договора и легко мог подчиниться полученному приказу, но он был настолько человеком чести, что заявил, что считает своё обещание подписать договор равным тому, что он уже его подписал. Он написал своему правительству, что он обещал подписать договор и что, дав однажды честное слово, он будет держать его, что если они не удовлетворены его ответом, то они могут отказаться ратифицировать договор.
Это был человек чести — истинный англичанин. Именно такой человек, как Корнуоллис, должен был быть направлен сюда вместо этой смеси лжи, подозрительности и низости характера. Я был очень опечален, когда узнал о его кончине. Некоторые члены его семьи иногда писали мне с просьбой о содействии английским пленникам во Франции, которую я всегда выполнял».
Затем Наполеон заговорил о своём решении сдаться англичанам. Он заявил: «Моё решение сдаться вам — не такой уж простой вопрос, как вам может показаться. До того, как я отправился на остров Эльба, лорд Каслри предложил мне политическое убежище в Англии, сказав, что там со мной будут очень хорошо обращаться — намного лучше, чем на Эльбе». Я сказал, что, как сообщалось, лорд Каслри утверждал, что он (Наполеон) обратился с просьбой о политическом убежище в Англии, но что эта просьба посчиталась неуместной для того, чтобы её удовлетворить. «На самом же деле, — пояснил Наполеон, — именно он первым предложил это. До того, как я отправился на Эльбу, лорд Каслри сказал Коленкуру: «Почему Наполеон раздумывает над тем, чтобы отправиться на Эльбу? Пусть он приезжает в Англию. Его с большим удовольствием примут в Лондоне, и он получит там самое лучшее, насколько это будет возможно, обращение. Однако он не должен просить разрешения приехать в Англию, так как все эти переговоры займут слишком много времени; но пусть он сдастся нам, не выдвигая никаких условий, и он будет принят нами с огромной радостью и намного лучше, чем на Эльбе». Это заявление лорда Каслри впоследствии возымело на меня большое влияние при решении вопроса об отъезде из Франции».
Когда я спросил у него, какого мнения он придерживается о бароне Штейне, Наполеон ответил: «Он — патриот своей страны, человек, обладающий талантами и трудолюбивым и активным характером». Я заметил, что я слышал, что, как утверждалось, Штейн нанёс ему больше вреда, чем Меттерних, и больше, чем любой другой человек способствовал его падению. «Ничего подобного, — возразил Наполеон. — Конечно, он был талантлив, но если бы следовали его совету, то король Пруссии погиб бы окончательно. Штейн всегда вынашивал интриги и хотел, чтобы Пруссия преждевременно объявила мне войну; это вызвало бы её гибель. Король, однако, прислушался к более умному совету и не стал объявлять мне войну до тех пор, пока не наступит более подходящее время, а именно тогда, когда случилась эта катастрофа со мной в России, которой он немедленно воспользовался».
В нашем разговоре возникла небольшая пауза. Наполеон сделал несколько шагов по комнате, потом бросил на меня взгляд и выразительным тоном сказал: «Никто, кроме меня самого, не наносил мне вреда; я был, можно сказать, сам себе врагом: мои собственные планы, эта экспедиция в Москву и та катастрофа, которая случилась там, были причиной моего падения. Однако я могу сказать, что те, кто не противостояли мне, не противоречили мне, кто с готовностью во всём соглашались со мной, полностью поддерживали моё мнение и создавали мне во всём благоприятные условия, и были моими злейшими врагами; потому что они поощряли меня заходить слишком далеко. Они были для меня бо́льшими врагами, чем те, кто плёл интриги, потому что последние не притупляли мою бдительность, а заставляли меня быть более осторожным. Я добился того, чтобы Штейна отправили прочь от королевского двора Пруссии. Однако ситуация для меня сложилась бы более благоприятно, если бы пруссаки следовали его планам, так как Пруссия была бы разгромлена раньше и я бы уничтожил её вот так (он поднял кулак и стукнул им об стол, словно пришлёпнув нагар горевшей свечи).
Я мог бы, — продолжал он, — сбросить с трона короля Пруссии или императора Австрии, использовав для этого самый пустяковый предлог, с такой же легкостью, с какой я делаю это, — тут он резко вытянул ногу, словно давая кому-то пинка. Я был тогда слишком могуществен для любого человека, кроме себя самого, и потому только я сам мог нанести себе вред».
Я спросил Наполеона, заявлял ли он когда-либо следующее о качестве характера Меттерниха: «Одна или две лжи иногда бывают необходимы, но Меттерних весь создан изо лжи. От него ничего не услышишь, кроме лжи, лжи и ещё раз лжи!» Наполеон рассмеялся и сказал: «Это правда. Всё его существо состоит только изо лжи и интриг». Я спросил: а разве Меттерних не обладал способностями? «Никакими, — ответил Наполеон, — суммируя его характер, можно сказать, что он был только интриганом и лжецом.
Лорд Уитворт, — продолжал Наполеон, — после той знаменитой беседы со мной, во время которой я ни в коей мере не проявлял несдержанность, сказал, покидая комнату, что он был очень удовлетворен нашей встречей и очень доволен тем, как я любезно принял его, и высказал надежду, что всё будет очень хорошо. Об этом он поделился с некоторыми послами других держав. Через несколько дней после этого, когда появились английские газеты с его отчётом об этой встрече, проведённой мною якобы в состоянии сильнейшего гнева, этот отчет вызвал у всех немалое удивление; особенно у тех послов, которые, встретившись вновь с лордом Уитвортом, выразили ему свой протест, заявив: «Милорд, каким образом этот отчёт может считаться правильным. Вы же помните, что вы довели до нашего сведения, что были очень рады встрече и удовлетворены оказанным вам приёмом». Лорд Уитворт, не зная, что ответить, наконец, вымолвил: «Но этот отчёт также правилен».
Ваши министры никогда не публикуют правдивые факты, — продолжал Наполеон, — если бы этот губернатор не посылал никаких других отчётов о сражениях и других событиях, кроме тех, которые публикуются в газетах, то он бы считался предателем своей страны; так как почти все они лживы, подобно тем отчётам, которые составляются вашими политическими миссиями. Лживый отчёт направляется для того, чтобы представить его широкой публике, а затем сдать в архив; но секретный отчёт, содержащий правду и составленный для ваших министров, чтобы они действовали соответствующим образом, никогда не должен появляться на свет. Таким образом ваши министры, в случае запроса, сделанного парламентом, получают в своё распоряжение кипу документов из архива, готовых для того, чтобы представить их для рассмотрения и инспекции; из этого источника делаются выводы и принимаются решения. В этом случае, хотя содержание документов далеко от правды, министров нельзя обвинить в том, что они навязывают парламенту лживые утверждения, поскольку эти утверждения основываются на документах, официально переданных им из архива, и широкая публика и парламент получают полное удовлетворение. Составляются соответствующие справки, и всё выглядит убедительным, тем не менее основа всего является лживой. Вследствие того, что я так долго противостоял вашим министрам, никто так хорошо не знает их, как я. Ваша система представляет собой комбинацию лжи и правды. Ни в одном другом кабинете министров во всём мире так активно не практикуется макиавеллизм; и это потому, что вам приходится так много чего защищать, так много важных вопросов приходится оспаривать с остальной Европой, а также ещё потому, что вы обязаны давать объяснения собственной стране».
Я упомянул Наполеону о том, что в одной из газет утверждалось, что он однажды послал корабельного плотника в Алжир или в Тунис, чтобы обучать пиратов строить корабли. Наполеон ответил: «Никогда. Возможно, что они могли заполучить корабельного мастера, но без моего согласия. Они могли достать такого специалиста в Марселе. В Константинополе, когда турки воевали с Францией, проживал некто Ле Муса, специалист по строительству кораблей. Вместо того, чтобы оказывать помощь пиратам, я предложил Англии искоренить их или, по крайней мере, обязать их жить, как живут все честные люди. Но с моим предложением ваши министры не согласились. Сильнее, чем я, никто так не презирал этих мерзавцев, этих пиратов, с которыми я обращался хуже, чем с собаками. Проводимая английскими министрами политика не предусматривала уничтожение этих варваров, в противном же случае они давно бы это сделали. Из-за того, что вы, англичане, позволили этим мерзавцам существовать и грабить, вы присвоили себе большую часть торговли Средиземного моря; поскольку Швеция, Дания, Португалия и другие страны опасались направлять туда свои корабли; и, соответственно, во время войны вы почти целиком завладели торговлей Средиземного моря. Стремление снискать расположение итальянцев к себе и одновременно отдалить их от меня и стало причиной той вашей военно-морской экспедиции в Алжир. Ибо я предоставил всем итальянским государствам право вывесить на своих кораблях французский флаг и заставил пиратских варваров уважать его; но с тех пор, как Бурбоны оседлали французский трон, эта практика прекратилась. Итальянцы были этим крайне недовольны и не стеснялись высказываться во всеуслышание, что во времена правления Наполеона они, по крайней мере, были свободны от нападений и пиратства корсаров. Та ваша военно-морская экспедиция в Алжир не заслуживает одобрения, если не считать проявленные адмиралом и его подчинёнными большое мужество и мореходное искусство. Что же касается переговоров с пиратами, то лорд Эксмут их провалил, так как ему следовало пресечь пиратство, добиться сдачи пиратского флота и обязательств со стороны корсаров более не строить военных кораблей (если только Великий Синьор не затеет войну против какой-нибудь европейской державы).
Вы говорите, что было договорено, что взятые в плен корсарами будут считаться только пленниками, а не рабами. Я очень опасаюсь, что если те варвары увидят разницу между пленником и рабом, то участь пленника будет незавидной. Ибо те мерзавцы всегда были заинтересованы сохранить жизнь своих рабов, чтобы получить за них выкуп; тогда как в отношении пленников подобных надежд у них не будет; и поэтому, дав волю своей природной жестокости и смертельной ненависти к христианам, они, по всей вероятности, будут пленников увечить и подвергать жестокой смерти. Я думаю, что ваши министры дали указание лорду Эксмуту не добиваться полного запрещения пиратства, но всего лишь несколько обуздать его, в определённой степени наказать алжирцев, добиться, чтобы они уважали ваш флаг, и вернуть расположение к вам итальянских и других государств Средиземного моря, которое вы потеряли в результате того, что так подло отдали их в руки их угнетателей. Ибо, если бы пираты были полностью ликвидированы, то все страны могли бы безопасно вести торговлю во всём бассейне Средиземного моря, что шло вразрез с вашими идеями овладеть основной долей торговли в этом море. Ваши министры не хотели, чтобы корсары были уничтожены. Вы говорите, что экспедиция лорда Эксмута прославила ваших моряков. Конечно, это была весьма доблестная операция; но вашим морякам недостает случая доблестно проявить себя в новой операции. С моей точки зрения, это была очень неразумная экспедиция. Вы подвергались риску быть разбитыми варварами и потерять два или три корабля. Даже одержав победу, вы признаете, что потеряли тысячу убитых и раненых моряков и что пять или шесть ваших кораблей получили серьёзные повреждения. Но это тот случай, когда жизни тысячи мужественных английских моряков представляют большую ценность и большее значение, чем все пиратские государства вместе взятые.
Я всегда придерживался высокого мнения о ваших моряках, — продолжал Наполеон. — Когда вместе с императрицей Марией Луизой мы возвращались из Голландии, то мы остановились отдохнуть в Гиве. Вечером начался сильнейший штормовой ветер и полил дождь, от которого уровень воды в реке Маас поднялся настолько, что мост, составленный из лодок, был унесён. Я стремился покинуть это место; и приказал всем местным лодочникам собраться, чтобы я смог переправиться через реку. Лодочники заявили, что вода поднялась настолько, что переправиться через реку будет возможно лишь через два или три дня. Я поговорил с ними и вскоре выяснил, что они были речными моряками. Затем я вспомнил, что в казармах находятся пленные англичане; я приказал, чтобы ко мне на берег реки привели самых опытных и лучших среди них моряков. Уровень воды в реке сильно поднялся, и её течение стало стремительным и опасным. Я спросил английских моряков, смогут ли они соединить вместе лодки, чтобы я смог перейти на другой берег реки. Они ответили, что это возможно, но рискованно. Я попросил их немедленно взяться за работу. Через несколько часов они успешно выполнили моё задание, которое другие негодяи объявили невозможным для выполнения; я переправился на другой берег реки ещё тогда, когда не кончился вечер. Я приказал, чтобы тем пленным английским морякам, которые выполнили эту работу, выдали денежное вознаграждение, комплект одежды и предоставили им свободу. В то время со мной был Маршан.
Когда вместе с адмиралом Ашером я высадился на Эльбе, — добавил Наполеон, — моя охрана ещё не прибыла на остров, и Ашер предоставил в моё распоряжение отряд охранников из числа моряков под командованием унтер-офицера, который постоянно оставался в Портоферрайо и в течение нескольких дней служил моим телохранителем. У меня были все основания для того, чтобы остаться довольным ими. Когда прибыла моя собственная охрана, то её гвардейцы подружились с английскими моряками и морскими пехотинцами. Их часто видели ходившими вразвалку по улицам города, подвыпившими, взявшимися за руки, поющими песни и пожимающими друг другу руки. Ваши моряки были удивлены той свободой общения, с которой я относился к ним, которая была столь отлична от аристократичного высокомерия, к которому они так привыкли. Думаю, что ни один человек на борту английского корабля не причинил бы мне никакого вреда, даже если бы это было в его власти. Когда я покинул их, я приказал выдать каждому английскому моряку по золотому наполеондору, а адмиралу Ашеру преподнёс подарок в виде коробки с моим портретом, усыпанным бриллиантами. Если бы в моём распоряжении были такие способные офицеры, как Ашер, то морские сражения между французскими кораблями и вашими закончились бы совершенно по-иному».
Я упомянул о том, что губернатор заявил, что он хотел бы переговорить с графом Бертраном относительно дорожки для верховой езды, ведущей к Вуди Рейндж. Губернатор также сказал, что если граф заверит его в том, что французы не будут заходить в некоторые дома, то проблема с дорожкой может быть решена. «Кому там принадлежат дома? — спросил Наполеон и тут же сам себе ответил. — Мисс Мейсон и другой — Легге, плотнику. Он что, беспокоится о целомудрии мисс Робинсон? Дурачьё, если бы я хотел наладить тайную переписку, то вы хорошо знаете, я мог бы организовать отправку писем в Европу ежедневно».
8 апреля. 7 апреля в Дедвуде были проведены скачки, на которых присутствовали госпожа Штюрмер, три полномочных представителя союзников и капитан Гор. Затем на скачки также пришёл генерал Гурго, который продолжительное время беседовал с бароном и баронессой Штюрмер, с графом Бальмэном и позднее с маркизом Моншеню. В течение большей части этих бесед к ним ни один из британских офицеров не прислушивался. Почти всё это время сэр Хадсон Лоу и сэр Томас Рид были просто зрителями на скачках. На них также присутствовала госпожа Лоу. Незадолго до окончания скачек полномочные представители союзников, госпожа Штюрмер и барон Гурго отправились в дом г-жи Янгхазбанд в лагере 53-го пехотного полка, где они оставались некоторое время, прежде чем кто-либо из офицеров губернатора последовал за ними в этот дом.
Я передал сэру Хадсону Лоу мнение Наполеона, которое он выразил о маркизе Корнуоллисе. В связи с этим его превосходительство заявил, что «лорд Корнуоллис был слишком честным человеком, чтобы иметь дело с Наполеоном».
Наполеон отправился в дом графа Бертрана. Из верхних окон дома он мог хорошо обозревать ход скачек. Он оставался там до самого окончания скачек, которые, судя по всему, ему очень понравились.
Сэр Томас Рид был сильно разгневан поступком г-жи Янгхазбанд, которая пригласила к себе домой полномочных представителей союзников вместе с генералом Гурго без сопровождения их британскими офицерами. Сэр Томас Рид заявил, что губернатор имел право и ему следовало выслать г-жу Янгхазбанд с острова, добавив при этом, что полномочные представители союзников сами по себе были презренными бессовестными типами, позволившими себе разговаривать с Гурго, когда его хозяин относится к ним с таким презрением.
Наполеон вышел немного прогуляться с графами Монтолоном и Бертраном. Виделся с ним в полдень. Он задал мне много вопросов о скачках, которые у него явно вызвали интерес. Наполеон высказал мнение, что Моншеню, из того, что слышал Наполеон, должно быть, был очень плохо воспитан, так как позволил себе несколько неуместных и даже непристойных выражений в присутствии госпожи Лоу в связи с тем, что ветер (бывший довольно сильным) привёл в беспорядок часть одежды госпожи Лоу. «Вообще-то говоря. — заявил Наполеон, — как известно, французы в подобных ситуациях ведут себя предельно вежливо, но из того, что я слышал, этот господин никогда не бывал в приличном обществе и в данном случае проявил себя как лейтенантишка старого режима».
15 апреля. Посетил Наполеона, который полулежал на диване. С пристрастием расспрашивал меня о состоянии здоровья госпожи Бертран, Тристана де Монтолона и маленькой Наполеонны. Двое последних были очень нездоровы, особенно Тристан, который страдал острой формой дизентерии, сопровождаемой воспалительным процессом. Я пустил ему кровь. Когда я сказал Наполеону, что эта процедура принесла ребёнку большое облегчение, Наполеон заметил: «Ах, опыт, опыт — это главное»[23].
Показал Наполеону любопытный указ, изданный императором Китая, относительно английского посла и объяснил ему суть указа. Выслушав меня, Наполеон заявил, что он по-прежнему придерживается своего мнения о том, что посол обязан следовать тому церемониалу, который практикуется главными мандаринами империи в отношении императора; что китайцы не просят нас направлять к ним послов; что направление в Китай посла является доказательством наших намерений что-то просить у Китая; поэтому мы должны подчиняться их обычаям или вообще не направлять посла.
«Я вспоминаю один разговор по этому поводу в Тильзите с императором Александром, когда мы были друг с другом очень хорошими друзьями. Он спросил моё мнение по этому вопросу и попросил совета: я дал ему именно тот совет, который дал вам. Я полностью убедил его, и он написал письму своему послу с выговором за то, что тот не следует церемониалу, который требуется.
Когда я находился в состоянии войны с Россией, — заявил Наполеон, — у меня было намерение нанести ущерб русским в их торговле с Китаем, побудив короля Персии начать войну с русскими, что мне и удалось сделать. Я надеялся вызвать отвлекающие удары с помощью татарских орд под руководством персидского правительства».
Затем я спросил Наполеона, действительно ли Талейран предлагал ему добиваться ликвидации всех Бурбонов и даже готов был предоставить свои услуги для выполнения этой цели? Наполеон ответил: «Да, это правда. Талейран предлагал это и был готов предоставить свои услуги, чтобы осуществить убийство всех Бурбонов». На мой вопрос, требовалось ли для этого сто тысяч франков, император ответил: «Гораздо больше; если мне не изменяет память, то за каждого Бурбона просили миллион франков. Но я всегда отказывался дать на это моё согласие. На это требовалось только моё согласие».
16 апреля. Наполеон сообщил мне, что в настоящее время он занят тем, что пишет материалы, военные и другие, о семилетней войне Фридриха Великого, которые, когда работа будет закончена, составят два или три тома.
В ходе нашего разговора он упомянул генерала Лаллеманда, о характере которого отозвался самым положительным образом. «Лаллеманд, — сказал он, — которого вы видели на борту «Беллерофона», привлекался мною в Акре в качестве посредника в переговорах с Сиднеем Смитом. В течение этих переговоров он проявил значительные способности и такт. После моего возвращения с Эльбы, он, как и Лабедуайер, встал на мою сторону в минуту величайшей опасности и воодушевил войска своей дивизии провести оперативный маневр первостепенной важности, который бы увенчался успехом, если бы не медлительность и нерешительность Даву и некоторых других генералов, согласившихся присоединиться к нему. Лаллеманд обладает большой решительностью, способен провести острые оперативные манёвры. Мало найдётся таких, как он, готовых осуществить рискованное мероприятие. В его душе горит священный огонь. Он командовал стрелками прикрытия в сражении при Ватерлоо и изрядно поколотил ряд ваших батальонов».
Наполеон характеризовал маршала Виктора как «дурака, не имевшего ни способностей, ни головы». Сульт — «отличный военный министр, очень хороший организатор в подготовке оперативных планов, но когда дело доходит до их исполнения, то тогда он уже не так хорош. После разгрома турок под Абукиром, — добавил Наполеон, — Сидней Смит направил своего секретаря в Александрию для ведения переговоров о перемирии. Парламентёр прибыл на борту одного из британских военных кораблей с письмами, адресованными мне. Сидней Смит также с ним направил мне несколько английских газет, содержание которых побудило меня принять решение вернуться во Францию».
21 апреля. В течение нескольких дней Наполеон пребывал в отличном настроении. В субботу, 19 апреля, капитаны кораблей Восточно-Индийской компании нанесли визит графу и графине Бертран. Затем они, а именно, капитаны Иннз, Кэмпбелл, также г-н Уэбб, встали позади дома таким образом, чтобы наверняка увидеть Наполеона, возвращавшегося от Бертранов, которых он посетил примерно в четыре часа дня. Наполеон, заметивший англичан, кивком головы подозвал их к себе и почти час разговаривал с ними, задав им много вопросов об Индии, о Восточно-Индийской компании, о лорде Мойра, об их личных доходах и т. д. Коммодору прибывших кораблей, выглядевшему очень моложаво, Наполеон в шуточной манере заметил, что тот почти ребёнок и ему, должно быть, стыдно командовать капитанами, которые намного старше его.
Я спросил императора, действительно ли он в сражении при Лоди или при Арколе схватил в руки знамя и ринулся в гущу вражеских войск. Наполеон ответил, что «в сражении при Арколе, но не при Лоди. Под Арколой я получил лёгкое ранение; но в сражении при Лоди подобного случая не было. А почему вы спрашиваете об этом? Вы считаете меня трусом?» и, сказав это, он засмеялся. Я взял на себя смелость заверить его в том, что глубоко убеждён в обратном, ибо об этом слишком хорошо известно, чтобы подвергать это сомнению; и что я задал ему этот вопрос лишь для того, чтобы не было расхождения во мнениях, возникших у нас, англичан, живущих на острове и не имеющих возможности достать какие-нибудь книги, которые бы дали нам удовлетворительный ответ на вопрос: при каком именно сражении произошёл упомянутый случай. Этот спор между нами, англичанами, как раз и подвигнул меня на то, чтобы я посмел задать ему подобный вопрос. «Такие вещи, — заявил Наполеон, улыбаясь, — не стоят того, чтобы упоминать о них».
Долго беседовал с Наполеоном о медицинских проблемах. Как оказалось, он придерживался той идеи, что в случаях, целиком относившихся к сфере деятельности врача, пациент имеет равные шансы отправиться на тот свет или в результате ошибочного диагноза, поставленного врачом, или в результате применения лекарства, воздействовавшего на пациента совсем не так, как ожидалось, и поэтому Наполеон в этих случаях полностью полагался на силы природы. Что же касалось хирургии, то Наполеон выступал в поддержку совершенно иной точки зрения, признавая большую полезность этой области медицинской науки. Я пытался убедить его в том, что в ряде заболеваний природа проявляет себя плохим целителем, и упомянул в качестве доказательства моей аргументации примеры заболеваний, протекавшие на его глазах и случившиеся с графиней Монтолон, генералом Гурго, Тристаном и другими. В их случаях, если бы они положились только на силы природы, то отправились бы в другой мир.
Я обратил внимание Наполеона на то, что в своей практике мы всегда преследуем определённую цель и никогда не прописываем больному лекарства без предварительного тщательного выяснения того, какие результаты мы можем ожидать после их применения. Однако Наполеон к моей аргументации отнёсся скептически: он был склонен считать, что если бы упомянутые лица не принимали никаких лекарственных средств и поддерживали бы строгое воздержание от всего, за исключением большого количества разжижающих снадобий, то они бы выздоровели с таким же успехом. Тем не менее, выслушав до конца все мои аргументы, он заявил: «Ну что ж, возможно, если меня когда-нибудь поразит серьёзная болезнь, я, может быть, изменю свою точку зрения, стану принимать все ваши лекарства и буду делать всё в соответствии с вашими рекомендациями. Хотелось бы мне знать, каким я буду тогда пациентом: буду ли я послушным или, наоборот, останусь при своем мнении».
В ответ на его заявление я привёл в качестве довода пример с воспалением лёгких, спросив его, считает ли он, что природа, предоставленная самой себе, будет в состоянии эффективно вылечить это заболевание. Мой вопрос, казалось, поначалу застал его врасплох, но затем он в свою очередь спросил меня о лечебных средствах, применяемых против этого заболевания. И когда я объяснил, что в этом случае в качестве последней надежды используется кровопускание, то он заявил, что «эта болезнь принадлежит не врачу, а хирургу, потому что он излечивает её с помощью ланцета». Тогда я привёл в качестве примера дизентерию и перемежающуюся лихорадку. «Те лекарства, которые дают для лечения перемежающейся лихорадки, — заявил Наполеон, — часто вызывают худшие заболевания, чем та болезнь, которую излечивают врачи. Теперь представьте себе, что один из самых опытных и квалифицированных врачей ежедневно наносит визиты сорока пациентам; но и он, из-за того, что ставит неправильный диагноз, отправляет ежемесячно на тот свет одного или двух своих больных, в провинциальных городах так называемые врачи, а попросту говоря шарлатаны, убивают половину больных из тех, кто попадает к ним в руки.
Провинциальные города в Англии, так же как и во Франции, — продолжал Наполеон, — изобилуют докторами, словно только что сошедшими с подмостков сцены, на которой даётся представление пьесы Мольера. Вы-то сами фаталист?» Я ответил Наполеону, что «во время сражения я становлюсь фаталистом». — «Почему же только во время сражения, а не всегда?» — поинтересовался Наполеон. Я ответил, что я верил, что в определённых случаях смерть станет неизбежной для человека, если он не попытается воспрепятствовать собственной судьбе, используя средства, имеющиеся в его распоряжении. Например, пояснил я, если человек во время сражения увидел пушечное ядро, летящее прямо на него, что иногда случается, то он, естественно, отступит в сторону и таким образом избежит, казалось бы, неизбежную смерть. С моей точки зрения, сказал я, данный пример применим в качестве сравнения при рассмотрении ряда случаев, связанных с определёнными заболеваниями, когда летящее пушечное ядро предстаёт перед нами в виде болезни, а наш шаг в сторону от летящего ядра — в виде исцеляющего лекарственного средства.
На это Наполеон возразил мне: «Возможно, отступив в сторону, вы можете оказаться на пути другого ядра, которое в противном случае пролетело бы мимо вас. Я помню один эпизод, о котором хочу вам рассказать, случившийся в Тулоне, когда я там командовал артиллерией. Во время осады Тулона к нам в качестве подкрепления были присланы несколько артиллеристов из Марселя. Пожалуй, из всех французов марсельцы — наименее храбрые солдаты, и, вообще говоря, во время сражения им явно не хватает смелости и активного поведения. Я обратил внимание на одного офицера из Марселя, который, как и все прибывшие оттуда, очень заботился о себе, вместо того чтобы быть примером храбрости для других. Поэтому я подозвал его к себе и сказал: «Господин офицер, пройдите вперёд и определите эффективность стрельбы ваших пушек. Вы же не знаете, насколько метко они стреляют». В это время мы обстреливали английские корабли. Я хотел, чтобы он собственными глазами убедился, поражают ли наши ядра корпуса английских кораблей. Он очень неохотно покинул своё укрытие; но всё же подошёл к тому месту, где стоял я, немного позади парапета, из-за прикрытия которого он и стал обозревать поле сражения. Однако, желая как можно больше обезопасить себя, он весь съежился и нагнулся в три погибели под парапетом, выглядывая при этом из-под моей руки. Ему не пришлось долго оставаться в таком положении, поскольку летевшее прямо в мою сторону пушечное ядро снизилось рядом со мной и, попав в незадачливого офицера, разнесло его на куски. Вот если бы этот офицер стоял во весь рост, больше пренебрегая опасностью, то он бы остался живым, так как ядро пролетело бы между нами, не причинив нам двоим никакого вреда».
После этого рассказа императора я поведал ему о случае, происшедшем на корабле «Викториус», имевшем на вооружении семьдесят четыре пушки и находившемся под командованием капитана Тальбота. Я со всеми подробностями рассказал императору об этом случае, поскольку тогда я служил на борту этого корабля. Во время морского сражения вместе с кораблём «Риволи» один моряк, слегка раненный, прополз в самую сердцевину канатов, сложенных кольцами, и устроился там таким образом, что, казалось, не было никакой возможности, чтобы вражеское пушечное ядро могло в него попасть. Несмотря на видимую безопасность места, облюбованного моряком, незадолго до окончания морского сражения вражеское пушечное ядро поразило самый низ корпуса корабля, пробило бортовой коридор, затем прошло через два или три слоя кольца канатов, метнулось вверх, ударилось об один из бимсов, поддерживавших нижнюю палубу, и, потеряв скорость, рикошетом полетело вниз, упав прямо на грудь моряка, лежавшего на спине, и убило его. Уже потом его нашли с ядром (весом в тридцать шесть фунтов), лежавшим на его груди.
«Этот случай, — заявил Наполеон, — как раз подтверждает то, что я говорю вам, а именно то, что человек не может избежать своей судьбы». Наполеона, видимо, заинтересовал мой рассказ, и он спросил, был ли убитый матросом или солдатом. Я ответил, что убитый человек был матросом.
Во время нашей беседы император завёл разговор о евнухах; превращение мужчины в евнуха было, по его мнению, чрезвычайно постыдной и ужасной практикой. «Я пресёк эту практику, — заявил он, — во всех странах, которыми правил; даже в самом Риме я запретил её под страхом смертной казни. Эта практика была полностью прекращена, и я думаю, что, хотя в настоящее время папа римский и кардиналы находятся на вершине власти, всё же постыдная практика вновь не возродится. Я вспоминаю, — добавил Наполеон, — инцидент, случившийся с одним из этих господ, который заставил меня рассмеяться от всей души. Был такой кастрат, некий Кресчентини, отличный певец, который часто пел передо мной, доставляя мне большое удовольствие. Так как я стремился поощрять достижения во всех видах науки и искусства, то я, поскольку его физическое состояние было его несчастьем и не было его виной — в связи с тем, что его искалечили в возрасте двух или трёх лет, решил пожаловать ему орден Железной Короны. Однако это мое решение вызвало большое недовольство у многих людей, которые утверждали, что человеческому существу, не являвшемуся мужчиной, не следует жаловать орден, которым награждают за проявленное мужество. Вокруг этого дела возникло много споров, в которых приняла участие и госпожа Грассини, как я предполагаю, хорошо вам известная. В то время, когда многие осуждали меня, Грассини заявила: «Я искренне считаю, что император совершил правое дело, пожаловав Кресчентини орден; я думаю, что он заслуживает его». Когда же её спросили, почему же она придерживается подобного мнения, то она ответила:
«Я считаю, что Кресчентини заслуживает этого ордена, хотя бы только из-за того, что он мужественно перенёс ранение». Эта забавная реплика вызвала всеобщий смех, и все споры моментально прекратились. Думаю, никто так не смеялся в тот раз, как я».
23 апреля. Вчера Наполеон чувствовал себя нездоровым и вновь обратился к своим лечебным средствам: диете и разжижителям. Весь день он оставался в своей спальной комнате, не прикасаясь к еде. Сообщил мне, что встал в три часа утра и весь день писал и диктовал.
Передал ему три газеты. Он повторил свои сомнения по поводу слухов о вероятности войны между Россией и Америкой, считая, что подобная война противоречит интересам и той и другой страны.
Позавчера генерал Гурго ехал по дороге к помещению метеостанции и на своём пути встретил полномочного представителя России и капитана Гора, с которыми беседовал в течение довольно продолжительного времени. Их заметил капитан Попплтон, ехавший на званый обед в «Колониальном доме». Когда его превосходительство узнал об этом, то сначала заявил, что капитану Попплтону следовало бы остаться с ними и слушать их разговор. Когда же губернатору объяснили, что капитан Попплтон не мог поступить подобным образом, так как тем самым он оскорбил бы их, поскольку генералу Гурго было известно, что капитану предстояло быть на званом обеде в «Колониальном доме», тогда его превосходительство признал, что капитан Попплтон не мог остаться со встреченной компанией.
Однако сегодня от майора Горрекера поступила записка, в которой сообщалось, что губернатор желает лично встретиться с капитаном Попплтоном и что от капитана Попплтона требуется, чтобы он представил письменное официальное заявление относительного того, чему он был свидетелем во время встречи между полномочным представителем и Гурго. В записке далее сообщалось, что губернатор сожалеет о том, что капитан Попплтон не последовал за генералом Гурго и не составил компании его спутникам во исполнение тех указаний, которые капитан Попплтон получил от губернатора во время их беседы в городе в один из предыдущих дней. Во время этой беседы губернатор заявил капитану Попплтону, что он ожидает, что капитан Попплтон всякий раз, как он заметит французов, беседующих с посторонними лицами, обязан, вроде бы случайно, составить им компанию.
Все эти меры предосторожности выглядели достаточно курьёзными, так как та же самая группа людей на последних скачках довольно долго беседовала между собой на виду у самого губернатора и членов его штаба, и никто из них не делал никаких попыток помешать их беседе.
Вечером вновь виделся с Наполеоном, который объявил, что чувствует себя вполне хорошо. Он заговорил о том времени, когда в Париже для него было привычным делом полностью посвящать себя работе. Бывало так, что временами ему приходилось одновременно диктовать четырём, а иногда даже и пяти секретарям, и всем по различным проблемам, причём каждый секретарь старался писать настолько быстро, насколько это было в его силах. Наполеон сделал ряд высказываний об императоре Австрии. Наполеон предположил, что, если бы он оказался зависимым от его власти, то с ним не обращались бы слишком хорошо и его бы ограничили в действиях и в передвижениях по стране. По мнению Наполеона, император Австрии добрый и религиозный человек, но тупица. Он человек, которому нельзя отказать в здравом смысле, но при этом он никогда сам не принимает решений, его всегда водил за нос Меттерних или кто-нибудь ещё из его окружения. Пока в его советниках числился слабый министр, то и его правительству в это время предстояло быть слабым, поскольку император Австрии полностью полагался во всём на этого министра, а сам предпочитал заниматься только ботаникой и садоводством.
24 апреля. Наполеон находился в очень хорошем настроении. Проявил большую заинтересованность к военной экспедиции Мюрата против Сицилии. Просил меня со всеми подробностями рассказать ему о силе английского войска, в то время оккупировавшего Сицилию, и выразил удивление, когда я сообщил ему, что оно состояло примерно из двадцати тысяч англичан, ганноверцев и солдат некоторых других стран Европы. Он спросил о моём мнении: смог бы Мюрат захватить Сицилию, если бы он высадил свои войска на этом острове?[24] Я ответил, что уверен в том, что Мюрат не смог бы этого сделать, так как, независимо от внушительных английских вооружённых сил, противостоящих ему, сицилийцы, в целом, ненавидели французов и объявили о том, что высадка войск Мюрата на острове привела бы к новой «Сицилийской вечерне» (восстание сицилийцев в 1282 году).
Наполеон спросил: «Какое количество войск имел в своём распоряжении Фердинанд?» Я ответил, что, возможно, пятнадцать тысяч солдат, боеспособность которых вызывала у нас большие сомнения, в результате чего их сосредоточили около Палермо, за исключением кавалерийского полка. Наполеон хотел уточнить: «Могли ли английские корабли держать под контролем весь Мессинский пролив в ту ночь, когда Мюрат был намерен высадить на берег Сицилии небольшой поисковый отряд и стоять на якоре вдоль сицилийского побережья в районе узкого участка пролива у маяка Фаро?» Я ответил, что не сомневаюсь в том, что английские корабли могли держать под контролем Мессинский пролив в ту ночь и стоять на якоре вдоль узкого участка пролива у маяка, но это было связано с риском из-за возможного сильного ветра сирокко, так как морское дно, плохое для стоянки кораблей в этом районе, не удержало бы якорей, если бы подул сирокко, и корабли могли быть выброшены на берег.
Наполеон попросил назвать имя английского адмирала, командовавшего флотилией у берегов Сицилии. «Этот глупец Мюрат, — добавил Наполеон, — лишил меня около тысячи триста солдат в результате этой дурацкой высадки отряда, совершённой им на берег Сицилии. Я не знаю, какую цель он преследовал, когда решался высадить на берег Сицилии незначительный воинский отряд». Я ответил, что, как заявлял Мюрат, он предполагал высадить всю свою армию на берег Сицилии в районе узкого участка пролива у маяка, в то время как операция с десантом этого небольшого воинского отряда должна была рассматриваться как отвлекающий манёвр. «Вы считаете, что он смог бы высадиться в ту ночь?» — спросил Наполеон. Я ответил, что он смог бы это сделать, поскольку все наши корабли были отозваны со своих мест дислокации и были размещены в гавани Мессины. В связи с этим Наполеон заявил, что «если бы я в самом деле планировал захват Сицилии Мюратом, то я бы выслал из Тулона флотилию с войском в тридцать тысяч человек для того, чтобы десантировать их около Палермо, откуда флотилия проследовала бы непосредственно к узкому участку пролива у маяка, чтобы прикрыть высадку армии Мюрата. Но, в действительности, я только был намерен использовать этих каналий под командованием Мюрата, чтобы удерживать вашу английскую армию в Сицилии не у дел, и совсем не планировал захват Сицилии, так как у Мюрата было слишком мало французских солдат, а я опасался, что ваша армия может быть использована вместо Сицилии где-нибудь в другом месте против меня»[25].
Я спросил у Наполеона, не существовало ли какого-нибудь тайного соглашения между Мюратом и английскими адмиралом и генералом о том, чтобы позволить Мюрату без помех отвести от Сицилии свои корабли с войсками. «Нет, — ответил император, — мне об этом ничего не известно. А почему вы задали мне этот вопрос?» Я пояснил, что, «поскольку отступление Мюрата из Сицилии прошло практически беспрепятственно, то я часто раздумывал над тем, что Мюрату должно быть было предложено без лишней шумихи вывести свои войска из Сицилии, при условии, что он откажется от своих планов в отношении этого острова». Наполеон, рассмеявшись, заявил, что «никакого соглашения не существовало, по крайней мере, насколько мне известно».
Наполеон заговорил о корсиканцах: от отметил, что по своей природе они смелые и мстительные люди, они могут быть вашими лучшими друзьями и самыми заклятыми врагами. «Главная национальная черта корсиканца, — добавил Наполеон, — заключается в том, что он никогда не забывает сделанное ему добро или нанесённую ему обиду. На Корсике за нанесённое малейшее оскорбление следует удар кинжалом. Соответственно, убийства там являются обычным делом. В то же время нет более благодарного народа, чем корсиканцы. Корсиканец без колебаний пожертвует своей жизнью за человека, которому он обязан за сделанное ему доброе дело».
25 апреля. Говорил с Наполеоном об инциденте, случившимся с графом Бертраном. Несколько дней тому назад он был остановлен часовым, когда направлялся в сторону коттеджа г-на Уилтона. Наполеон предположил, что у часового имелся приказ останавливать всех подозрительных лиц. Этот приказ был таким же, что и приказ, данный часовому у коттеджа «Ворота Хата». Усмехнувшись, Наполеон отметил, что единственными подозрительными лицами на острове являются французы. Я сказал Наполеону, что на острове получено сообщение об объявлении войны между Испанией и Америкой, а также между Россией и Америкой. «Между Россией и Америкой? — переспросил Наполеон. — Это просто невозможно. Если бы подобная война случилась, то я в этом мире перестал бы чему-нибудь удивляться. Что касается испанцев, то они будут разгромлены».
Я сказал, что один из больших американских фрегатов может справиться с испанским кораблём, на вооружении которого находятся семьдесят четыре пушки. Наполеон не хотел этому поверить. Тогда я рассказал ему, что во время войны Англии с Испанией один из наших фрегатов, которые были меньше, чем американские, не побоялся атаковать испанский военный корабль, имевший на вооружении семьдесят четыре пушки. Наполеон бросил на меня довольно скептический взгляд, покачал головой, рассмеялся и сказал: «Это из области обычных морских историй, доктор, никогда не было случая, чтобы фрегат одержал победу над кораблём, имевшим на вооружении семьдесят четыре пушки».
30 апреля. В течение нескольких дней Наполеон бы занят тем, что диктовал и записывал свои соображения и аналитические замечания о деятельности Фридриха Великого. Сообщил мне, что когда его работа будет завершена, то она, вероятно, может составить пять или шесть книг форматом в одну восьмую долю листа каждая и будет состоять только из замечаний и мнений по военным проблемам с многочисленными примерами, необходимыми для объяснения комментируемых военных операций. В эти дни он вставал с постели уже в три часа утра и принимался за рукописную работу. Он показал мне несколько страниц своей рукописи, которые были более разборчивыми, чем любые из тех, что мне приходилось видеть ранее. Он сказал, что прежде он иногда имел привычку писать слитно только половину или три четверти каждого слова, что не причиняло особых неудобств, так как его секретари настолько свыклись с этим, что могли читать эти слова почти с такой же лёгкостью, как если бы они были написаны отчётливо; однако никто, за исключением одного секретаря, хорошо знакомого с его манерой письма, не мог прочитать текст.
Под конец, добавил Наполеон, он стал писать немного более разборчиво, в результате чего он уже не так спешил, как раньше. Затем Наполеон обратил внимание на то, что я добился значительного прогресса в овладении французским языком с тех пор, когда он впервые увидел меня. «Хотя, — заявил он, — у вас очень плохой акцент. Некоторые англичане говорили, что я понимаю итальянский язык лучше, чем французский. Но это неверно. Хотя я говорю по-итальянски очень бегло, но не безупречно. Я не говорю на тосканском диалекте, и я не смогу написать книгу на итальянском языке, а также я никогда в жизни не отдам предпочтение итальянскому языку перед французским».
Говоря о нападках Шатобриана на него, Наполеон заметил: «Он один из тех трусливых негодяев, кто плюет на тело умершего. Подобно Питону и другим, он то насекомое, которое питается трупом, не смея подступиться к живому существу». Обговорив ряд других тем, я спросил Наполеона: была ли обеспечена его армия в достаточной мере провизией при отступлении из Москвы, и нельзя ли было при этом понести гораздо меньше потерь, чем те, которые выпали на долю французской армии? Наполеон ответил: «Нет; холодная погода истребила бы армию, даже если бы она имела достаточное количество провизии. Те, у кого была еда, умирали сотнями. Даже сами русские гибли, как мухи».
6 мая. Встретился с Наполеоном, которому передал книгу «Нравы и обычаи корсиканцев». Наполеон перелистал книгу, часто смеясь от всего сердца при чтении забавных историй. Автор книги, заявил Наполеон, полный невежда, абсолютно не знакомый со многими обстоятельствами, относящимися к истории, производительной деятельности Корсики и т. п.; он или карьерист, или человек, которому здорово досталось от корсиканцев. Многие из рассказанных им историй о совершённых убийствах соответствуют действительности, но корсиканцы не имели привычку убивать иностранцев; корсиканцам было свойственно быть самыми верными друзьями и самыми непримиримыми врагами во всём мире; те, кто поддерживал одну из противоборствующих сторон, всегда оставались ей верны. «Даже я, — продолжал Наполеон, — находясь на вершине власти, никогда не мог заставить членов английской партии Корсики изменить свою точку зрения, хотя я и предлагал им всем поступить на мою службу.
На днях, — продолжал Наполеон, — у меня был долгий разговор с адмиралом. Он хвалил губернатора; сказал, что я ошибаюсь в нём, что он чрезвычайно информированный человек и по существу у него доброе сердце. Адмирал очень хотел, чтобы я встретился с губернатором, используя ту возможность, которая вскоре представится в результате приезда посла. Губернатор тогда предложит, чтобы мы могли встретиться так, словно между нами ранее ничего не произошло. Я сказал адмиралу, что он не знает губернатора, что до тех пор, пока он не изменит своего поведения, я не встречусь с ним, если только меня насильно не приведут к нему. Я сказал, что губернатор мог бы, не вступая в какие-либо дискуссии, изменить введенные им ограничения и обращаться со мной так же, как я сам обращался бы с человеком, попавшим в аналогичное положение. Одним словом, пусть он вернётся к установленному до его приезда порядку или почти к тому порядку; но и в этом случае не будет никакого смысла в проведении нашей встречи.
Я пожаловался адмиралу на жестокое обращение со мной. Я сказал, что надеялся, что принц-регент узнает о том обращении, которому я здесь подвергаюсь. Адмирал заявил, что если я считаю себя оскорблённым, то мне следует жаловаться или принцу-регенту, или министрам. Я думаю, что для меня было бы унижением жаловаться министрам, которые так плохо обращались со мной и которые поступали со мной так, как поступают с человеком, когда его ненавидят. Адмирал старался оправдать губернатора, заявив, что ему было известно о намерении английского правительства обращаться со мной хорошо, и, возможно, произошла какая-то ошибка, которая будет исправлена. Я сказал адмиралу, что вы, англичане, — большие эгоисты, весьма склонные к тому, чтобы прощать, а также хвалить свою страну и самих себя; но что касается иностранцев, то всё, что бы ни делалось в отношении них — оправданно.
Я заявил адмиралу, — продолжал Наполеон, — что вы, англичане, были первыми, кто нарушил Амьенский мир; что ваши министры громогласно хвастались тем, что не признают меня как императора. Но вместе с тем настолько сознавали сами, что нарушили договор, заключённый в Амьене, что через посредство лорда Уитворта предлагали тридцать тысяч франков и, по мере имеющихся у них возможностей, свою помощь, чтобы сделать меня королём Франции, если я соглашусь с захватом Мальты англичанами».
Я позволил себе смелость спросить императора, кому именно было сделано это предложение. «Господину Малуе, который недавно был министром у Людовика, — ответил император. — Мой ответ на это предложение был таков: «Скажите лорду Уитворту, что я ничего не буду одалживать у иностранцев и не собираюсь воспользоваться их вмешательством. Если французская нация сама не сделает меня королём, то я никогда не использую иностранное влияние, чтобы стать им».
Адмирал, — продолжал Наполеон, — прекрасно знаком с историей последних лет; он — истинный англичанин, всегда готовый постоять за свою страну в силу своих возможностей; но, тем не менее, в разговоре со мной он не смог опровергнуть ряд моих утверждений, поскольку они являлись неоспоримыми фактами. Он часто возвращался к вопросу о предлагаемой моей встрече с послом Англии в Китае. Адмирал очень хотел, чтобы такая встреча произошла. Я уверен, что из этого ничего хорошего не получится. Я хочу, — добавил он, — чтобы он знал моё мнение по этим вопросам».
Я отметил, что, возможно, его отказ встретиться с послом может быть рассмотрен как оскорбление британского правительства и страны, которую представляет этот посол. Наполеон ответил: «Причина моего отказа не может допустить подобного толкования. Этот человек не направлен в качестве посла на остров Святой Елены. Он направлен послом к императору Китая, и на острове Святой Елены он может появиться только в качестве частного лица. Соответственно, нет никакой необходимости в том, чтобы он был представлен мне губернатором. Если он хочет повидаться со мной, то пусть он направится к Бертрану. Вот тогда мы и рассмотрим вопрос о встрече с ним. Однако, я полагаю, что и для меня и для него будет лучше, если наша встреча не состоится. Ибо если я приму его, то я должен принять вид бодрого, неунывающего человека и прикрывать своё лицо маской из улыбок. Не в моих правилах принимать посетителей в ином виде. Затем или я должен буду заставить себя обратиться к незнакомцу с жалобами на варварское обращение, которому я здесь подвергаюсь, что унизило бы достоинство и личность человека, подобного мне. Или же я должен буду предоставить возможность этому губернатору наполнить голову посла ложью и заставить его заявить, что со мной настолько хорошо обращаются, что я ни на что не жаловался, что я ничего не хочу и что мне оказываются всевозможные знаки уважения. После чего подобное заявление посла даст право губернатору написать в Лондон отчёт, весь пропитанный ложью, в доказательство которой он приведёт слова посла. Таким образом, всё это поставит передо мной затруднительную дилемму, именно ту, которую мне было бы лучше всего избежать».
Наполеон с большим сочувствием расспрашивал о состоянии здоровья капитана Мейнеля, который был очень опасно болен. Заболевшему генералу Монтолону стало гораздо лучше.
Я показал Наполеону номер газеты «Морская хроника», опубликовавшей большую статью о смерти капитана Райта. «Ни один человек, — заявил Наполеон, — не утверждал с уверенностью, что он видел, как его убивали. Главный свидетель, дающий показания об этом, был одним из тех, кто сам находился в тюрьме. Пусть его спросят, за какое преступление его бросили в тюрьму. Тюрьма — это не место для честных людей и для тех, на чьи показания можно полагаться. Если бы я действовал подобающим образом, то я бы приказал отдать Райта под суд военного трибунала как шпиона, которого бы расстреляли в течение двадцати четырёх часов, на что я, в соответствии с законами военного времени, имел полное право. Что бы сделали ваши министры и даже ваш парламент с французским капитаном, который, как выяснилось бы, высаживал на берег Англии наёмных убийц, чтобы лишить жизни короля Георга? Если бы я, в отместку тем наёмным убийцам, переправленным во Францию, чтобы убить меня, направил в Англию других наёмных убийц, чтобы они лишили жизни NN и принцев семьи Бурбонов, то как бы поступили с капитаном корабля, высадившим этих убийц на берег Англии, если бы этого капитана схватили? Ваши министры не обошлись бы с ним так снисходительно, как я обошёлся с Райтом. Они бы его судили и немедленно казнили».
7 мая. В беседе со мной Наполеон проявил большое внимание к состоянию здоровья капитана Мейнеля, чья кончина, по словам Наполеона, глубоко опечалила бы его, так как он считал капитана Мейнеля весьма смелым человеком.
«Отвратительным поступком ваших министров, — заявил Наполеон, — было их решение отделаться от нескольких сотен раненых и искалеченных солдат, которые родились в странах, находившихся под моим правлением. Эти солдаты были ранены, сражаясь на вашей стороне против меня на берегу Голландии. В этой стране они несут ответственность перед её законами. Их должны были судить и расстрелять в течение двадцати четырёх часов за то, что они подняли оружие против собственной страны. Когда мне сообщили об этом и представили письменное ходатайство о предании их суду, то я заявил: «Отпустите их. Пусть они селятся на земле своей страны в том количестве, в каком им захочется. Они расскажут, как с ними обращались, когда они сражались на стороне Англии. Их рассказы отобьют охоту у других солдат моих войск дезертировать и переходить на сторону англичан». Не говоря уже о бесчеловечности поступка, совершённого вашими министрами, — заявил Наполеон, вскинув руки от волнения, — они проявили себя как очень плохие политики, так как эти искалеченные бедняги повсюду рассказывали, что с ними произошло. Что касается меня, то я приказал опубликовать в газете «Монитор» имена многих из них, страны, в которых они были ранены, а также другие данные о них».
11 мая. Сообщил сэру Хадсону Лоу о высказываниях Наполеона относительно ограничений, о полномочных представителях и т. д. Его превосходительство спросил, почему я не сообщил ему обо всём этом раньше?
Я ответил ему, что не сделал этого потому, что беседа с Наполеоном произошла только вчера и, поскольку сообщения подобного рода я неоднократно передавал его превосходительству ранее, то я посчитал, что вчерашние высказывания Наполеона не являются важными. Губернатор заявил, что эти высказывания представляют большую важность, так как они сделаны после того, как он направил свой ответ на замечания французов относительно введённых им ограничений. Губернатор затем заявил, что основная причина всех затруднений, из-за которых ему пришлось вступить в перепалку с французами, возникла из-за поведения сэра Джорджа Кокбэрна. Как выяснилось, сэр Джордж Кокбэрн, превысив свои полномочия и действуя вне полученных им инструкций, позволил себе предоставить французам чрезмерные поблажки. Не имея на то никакого права, он намного расширил границы зоны передвижения французов на острове без сопровождения британского офицера. Сэр Джордж Кокбэрн не только не имел подобного права, но и действовал вопреки инструкциям. Когда его превосходительство прибыл на остров Святой Елены, то он был очень удивлён поведением сэра Джорджа Кокбэрна. Затем губернатор некоторое время посвятил обсуждению письма, написанного госпожой Бертран маркизу Моншеню. Губернатор, видимо, посчитал это письмо ужасным проступком со стороны госпожи Бертран. Я пояснил губернатору, что, как заявит граф Бертран, когда было написано это письмо, не существовало никаких запрещений переписки с лицами, поселившимися на постоянное жительство на острове. Маркиз Моншеню принадлежал к числу этих лиц. С того времени, когда госпожа Бертран написала это письмо, она получила шесть запечатанных писем, среди которых было письмо и от сэра Джорджа Бингэма. Его превосходительство был явно недоволен этим заявлением графа Бертрана.
12 мая. Наполеон принимал ванну. Заговорил о губернаторе. «Если бы, — сказал он, — губернатор, приехав сюда, заявил Бертрану, что, в соответствии с приказами, полученными им от его правительства, он будет вынужден ввести новые ограничения, и при этом он объяснил бы их суть и дал бы указание, что в будущем мы должны будем подчиняться им, вместо того чтобы вести себя неискренне и все делать тайком, я бы сказал, что это человек, который выполняет свой долг ясно и открыто, не прибегая к обману и к увёрткам. Необходимо, чтобы в этом мире существовали люди таких профессий, как тюремщики, уборщики мусора, мясники и палачи; но, тем не менее, мало кому нравится заниматься подобной работой. Если бы меня посадили в лондонскую башню, то вполне возможно, что у меня сложилось бы хорошее мнение о местном тюремщике, исходя из того, что он прекрасно выполняет свой долг; но я бы не примирился с его положением и не сделал бы его своим собеседником. Капитан NN сказал госпоже Бертран, что во всех британских доминионах худшего человека, чем этот тюремщик, нельзя было выбрать на должность губернатора; и что довольно скоро мы в этом убедимся. В действительности, он описал его именно таким, каким мы его нашли. Но поскольку мы думали, что он желает склонить госпожу Бертран к тому, чтобы она покинула остров вместе со своей семьёй, то мы высказали предположение, что он преувеличивает недостатки этого человека, хотя мы ясно видели, что капитан NN был близок к истине».
После недолгого разговора на эту же тему Наполеон рассказал: «Когда я был на острове Эльба, принцесса Уэльская прислала мне сообщение о своём намерении посетить меня. Однако я, в её же интересах, послал ей ответ с просьбой отложить её визит на более поздний срок, в зависимости от того, как сложатся мои дела. В моём ответе я добавил, что по прошествии нескольких месяцев я буду иметь удовольствие принять её. Я знал, что в то время мой ответ не мог обидеть принцессу, и поэтому я отложил её визит. Удивителен был сам факт, что она хотела навестить меня, ибо у неё не было причины, чтобы быть расположенной ко мне. Её отец и брат были убиты, сражаясь против меня. Впоследствии она встретилась с Марией Луизой, и, я полагаю, они стали большими друзьями.
Принц Леопольд, — продолжал Наполеон, — в то время, когда он находился в Париже, был одним из самых красивых и блестящих молодых людей в городе. На маскараде, устроенном королевой Неаполя, Леопольд привлёк всеобщее внимание своей элегантностью. Принцесса Шарлотта была явно неравнодушна к нему. Он чуть было не стал одним из моих адъютантов.
Он был очень заинтересован в этом и даже написал соответствующее заявление. Но, в результате ряда обстоятельств, из этого ничего не получилось, причём, к счастью для него, так как если бы он стал моим адъютантом, то тогда бы на него не пал выбор стать будущим королём Англии. Большинство молодых принцев Германии, — продолжал он, — домогались возможности стать моими адъютантами. Леопольду тогда было восемнадцать или девятнадцать лет».
14 мая. Наполеон находился в прекрасном настроении. Спросил меня, почему вчера я обедал в столовой лагеря 53-го пехотного полка. Я ответил: «Это потому, что в Лонгвуде нечего было есть». Он от всего сердца рассмеялся и сказал мне: «О это, конечно, самая веская причина в мире».
Затем он некоторое время говорил о Моро. Он заявил, что Моро ни в коем случае не был человеком, обладавшим исключительными способностями, как полагали англичане. По мнению Наполеона, Моро был неплохим генералом для командования дивизии, но совершенно не подходил по своим данным для командования большой армией. «Моро был смелым человеком, — высказался Наполеон, — но ленивым и бонвиваном. В своей штаб-квартире он ничего не делал, за исключением того, что сидел, развалясь на диване, или ходил по комнате с курительной трубкой во рту. Его редко можно было застать читающим книгу. По своей природе он обладал хорошим характером, но он находился под большим влиянием своей жены и своей тёщи, которые составляли пару больших интриганок. Я рекомендовал Моро жениться на его будущей супруге по настоянию Жозефины, которая любила её, потому что та была креолкой. Моро сильно упал в глазах общественности вследствие своего поведения по отношению к Пишегрю.
После Леобена сенат Венеции поступил достаточно глупо, подняв мятеж против французских армий, так как для этого у него не было достаточных сил и он не мог надеяться на соответствующую помощь со стороны других держав, обещавшую малейшую надежду на успех. В результате всего этого я приказал французским войскам оккупировать Венецию. Там в это время находился агент Бурбонов, граф д’Энтрегю, о котором, я полагаю, вы слышали в Англии. Опасаясь последствий, он сбежал из Венеции, но на пути в Вену у реки Брента (я думаю, что об этом он сказал сам) был арестован со всеми своими бумагами Бернадотом. Как только была установлена его личность, так сразу же его направили ко мне, поскольку его посчитали важной персоной. Среди его бумаг мы обнаружили документы с его планами и переписку Пишегрю с Бурбонами. Я немедленно приказал Бертье и двум другим офицерам заверить все эти бумаги, опечатать их и направить в Париж, в Директорию, так как они имели величайшее значение. Затем я лично допросил д’Энтрегю, который, поняв, что содержание его бумаг стало известно, решил, что нет никакой пользы в том, чтобы далее пытаться что-либо утаивать и, соответственно, во всём признался. Он даже рассказал мне больше того, чего я мог ожидать. Он посвятил меня в секретные планы Бурбонов, не опустив и имен их английских приверженцев. В действительности информация, которую я получил от него, была столь полной и столь важной, что она помогла мне решить, как мне действовать в данный момент. Она стала главной причиной мер, которые я затем предпринял, и написания воззвания, с которым я обратился к армии. В нём я предупредил солдат армии, что, если это будет необходимо, им придётся совершить переход через горы и вновь вступить на землю своей родной страны, чтобы разгромить предателей, которые замышляют заговор против существования республики.
В то время Пишегрю был главой законодательной власти. Граф д’Энтрегю оказался столь общительным собеседником, что я самым искренним образом чувствовал себя обязанным ему, и даже могу сказать, что он почти покорил моё сердце. Он был человеком, обладавшим способностями и острым умом. С ним было приятно вести беседу, хотя впоследствии он оказался негодяем. Вместо того чтобы содержать его в заключении, я разрешил ему свободно гулять в Милане повсюду, где ему вздумается, всячески потворствовал ему и даже не выставил за ним слежку. По прошествии нескольких дней я получил указания от Директории добиться того, чтобы его расстреляли или, что было в те времена одним и тем же, отдали под суд военного трибунала, приговор которого подлежал немедленному исполнению. Я написал Директории, что он представил весьма полезную информацию и не заслужил столь неожиданного поворота в судьбе. И, наконец, что я не могу выполнить указания Директории, если же Директория настаивает на его расстреле, то она должна сделать это сама.
Вскоре после этого д’Энтрегю сбежал в Швейцарию, где этот мерзавец имел наглость написать клеветническое заявление, в котором он обвинил меня в том, что я обращался с ним самым жестоким образом и даже заковывал его в цепи. На самом же деле я предоставил ему столь большую свободу пребывания в Милане, что его побег был обнаружен лишь по прошествии нескольких дней после того, как он оттуда исчез. И только потом, благодаря сообщению швейцарских газет о прибытии в эту страну графа д’Энтрегю, что поначалу считалось невозможным, это сообщение подтвердилось в результате того, что в Швейцарию были направлены люди для проверки его квартиры. Подобное поведение д’Энтрегю вызвало большое возмущение всех тех, кто были свидетелями того снисходительного отношения, которое я проявлял к нему. В их числе было несколько послов и дипломатов, которые настолько почувствовали себя оскорбленными, что собрались вместе и подписали заявление, отвергавшее эти обвинения д’Энтрегю. Вследствие информации, полученной от д’Энтрегю, Пишегрю был сослан в Кайенну.
Сразу же после захвата д’Энтрегю ко мне явился Дезэ. Обсуждая с ним события, связанные с Пишегрю, я высказал замечание о том, что нас очень сильно обманули, а затем выразил своё удивление по поводу того, что его измена не была обнаружена ранее. «Но почему же, — возразил Дезэ, — мы знали об этом ещё три месяца тому назад». — «Как это могло быть возможным?» — спросил я. Тогда Дезэ рассказал мне о том, как повёл себя Моро, вместе с которым в то время находился Дезэ, когда в багаже австрийского генерала Клингина была обнаружена деловая переписка Пишегрю. В ней сообщались детальные планы мероприятий в пользу Бурбонов, а также приводились данные о ложных манёврах, которые Пишегрю собирался осуществить на практике. Я спросил Дезэ, сообщалось ли обо всём этом Директории. Дезэ ответил, что нет, не сообщалось, так как Моро не хотел погубить Пишегрю. Моро попросил Дезэ, чтобы тот ничего по этому поводу не говорил. Я заявил Дезэ, что он действовал совершенно неправильно; что ему следовало немедленно отправить все бумаги Пишегрю Директории подобно тому, как поступил я; что в действительности это было молчаливым согласием с планом уничтожения его родной страны.
Как только Моро стало известно, что Пишегрю разоблачён, он объявил в армии, что Пишегрю — предатель. Одновременно он направил Директории документы, содержавшие доказательства предательства Пишегрю. Эти документы Моро прятал у себя в течение нескольких месяцев и позволил Пишегрю быть избранным в качестве главы законодательной власти; хотя он знал, что Пишегрю замышляет уничтожение республики. На этот раз Моро был обвинён, и справедливо, в двойном предательстве. «Ты сначала, — говорилось в обвинительном документе, — предал свою страну, сокрыв измену Пишегрю, и впоследствии ты бесполезно предал своего друга, раскрыв ему то, что ты обязан был сделать известным раньше». Моро никогда вновь не вернул к себе уважения со стороны общественности».
Я напомнил Наполеону эпизод, связанный с отступлением войск под командованием Моро, и спросил: разве Моро не проявил большие военные способности в этом эпизоде? «Это отступление, — ответил император, — было величайшей военной ошибкой Моро, которую он когда-либо совершал. Если бы он, вместо отступления, сделал обход и маршем вышел в тыл принца Карла, то он бы уничтожил австрийскую армию или взял её в плен. Директория относилась ко мне с ревностью и хотела, по возможности, поделить поровну военную славу. Поскольку члены Директории не могли похвалить Моро за одержанную им победу, то они похвалили его за проведённое отступление, которое они постарались превознести в самых восторженных выражениях. Хотя даже австрийские генералы порицали Моро за эту военную операцию. В будущем, — продолжал Наполеон, — вы, вероятно, сможете получить возможность ознакомиться с мнением по этому вопросу французских генералов, которые были непосредственными свидетелями отступления войск Моро, и вы убедитесь в том, что оно полностью совпадает с моим мнением. Моро вместо похвалы за эту военную операцию заслужил самое нелицеприятное осуждение и несмываемый позор. Как генерал Пишегрю был гораздо более талантлив, чем Моро.
Моро высмеивал идею образования Почётного легиона. Когда он от кого-то услыхал, что предполагается награждать орденом Почётного легиона также и тех, кто отличился в области науки, а не только тех, кто совершил ратный подвиг, он насмешливо заявил: «Ну что ж, тогда я представлю моего повара к званию командора ордена, так как его таланты в области поварской науки не поддаются описанию».
Во время этой беседы я упомянул о том, что в отношении Бернадота существовали сильные подозрения в том, что он весьма неравнодушен к общему делу союзных держав, если он и не вёл двойную игру. Его называли Шарлем Жаном Шарлатаном, предполагая, что он, скорее всего, встанет на сторону Наполеона в том случае, если случится малоприятный поворот в положении союзников. В связи с этим Наполеон заявил: «Вероятно, его называли Шарлатаном потому, что он, будучи гасконцем, слегка склонен к хвастовству. Что же касается того, что он встанет на мою сторону, если бы мне сопутствовал успех, то он бы поступил так же, как и все остальные. Саксонцы, вюртембержцы, баварцы и все те, кто покинул меня, когда меня преследовали неудачи, вновь пришли бы ко мне в случае моего успеха. После Дрездена император Австрии упал передо мной на колени[26], называя меня своим дорогим сыном, и просил ради его очень дорогой, дорогой дочери, на которой я женился, не губить его совсем, но примириться с ним. Если бы не дезертирство саксонцев с их артиллерией, я должен был одержать победу при Лейпциге, и тогда бы союзники оказались в совершенно ином положении».
16 мая. Наполеон в своей спальне. Погрузив ноги в ведро с горячей водой, он пожаловался на головную боль. Поначалу он находился в подавленном состоянии. Но затем стал более оживлённым и общительным. Он заговорил о Египте и задал много вопросов. В том числе он спросил, мог ли трёхпалубный корабль войти в гавань Александрии без того, чтобы его предварительно не облегчили. Я ответил: думаю, что мог, а если нет, то его можно было до входа в гавань облегчить, сбросив излишек воды. (Когда я был в Александрии, то видел, как в гавань входили «Тигр» и «Канопус». Это были корабли высшего класса, снаряжённые 80 пушками. Они были в состоянии набирать воду в таком же количестве, как и трёхпалубные корабли.)
Наполеон рассказал, как он из Каира в Александрию послал офицера по имени Жюльен с категорическим приказом, не подлежащим отмене, командующему французской флотилии Брюйе войти в гавань Александрии, но, к сожалению, Жюльен по пути был убит арабами. «В честь его я назвал форт, который я построил в Розетте». Наполеон спросил меня, знал ли я этот форт. Я ответил утвердительно. «Просто удивительно, — продолжал он, — как Брюйе мог раздумывать о том, чтобы поставить на якорь французскую флотилию в гавани Александрии, не предусмотрев заранее укрепление острова двадцатью или тридцатью пушками и вывод венецианского корабля, оснащённого шестьюдесятью четырьмя пушками, и нескольких фрегатов из порта Александрии. В разговоре, который я имел несколькими неделями ранее с Брюйе на борту корабля «Ориент», он сам доказывал мне, что французской флотилии никогда не следует вставать на якорь в гавани Александрии. Однако, если ей, в крайнем случае, всё же придется сделать это, то ей всегда будет грозить разгром, учитывая ту легкость, с которой атакующим её кораблям удалось бы закрепиться на выгодной для них позиции. Исходя из этого, фактически существовал приказ (от имени Брюйе или от кого-то ещё, я не знаю), запрещавший стоянку французской флотилии на якоре в гавани Александрии. Несмотря на всё это, Брюйе сам принял решение о такой стоянке.
Брюйе, — продолжал Наполеон, — всегда считал, что, если бы Нельсон атаковал его, то сделал бы это в направлении правого фланга французской флотилии. Брюйе полагал, что его левый фланг оставался неуязвимым, прикрытый островом, и поэтому готовился к атаке Нельсона соответствующим образом. Я пытался убедить его, что пара кораблей французской флотилии на его левом фланге может быть легко захвачена превосходящими силами противника, и через образовавшееся незащищённое пространство флотилия врага без помех войдёт в гавань Александрии».
Я возразил ему, сказав, что, если бы Брюйе сбросил якоря с носа и кормы каждого корабля флотилии, то он мог бы поставить их гораздо ближе к берегу.
В этом случае он не позволил бы кораблям разворачиваться на якоре и, соответственно, не оставил бы места Нельсону для прохода его кораблям между французской флотилией и берегом. Мнение Наполеона, видимо, совпало с моим мнением, и он заявил, что попросит адмирала высказать его точку зрения по этому вопросу. Наполеон добавил, что накануне отъезда Жюльена он направил приказ Брюйе о том, чтобы тот не покидал берег Египта, пока не убедится в физической невозможности для флотилии войти в гавань Александрии. Если это будет возможно, то Брюйе было приказано войти в гавань; если же нет, то проследовать вместе со всей его флотилией в Корфу.
«И вот оказалось, — продолжал он, — что Брюйе так до конца и не убедился, может ли он или нет войти в гавань Александрии. Хотя, с другой стороны, Барре утверждал, что это вполне осуществимо, в чём я также был убеждён. Считая, что он не вправе покидать берега Египта, Брюйе в то же время боялся входить со своей флотилией в гавань Александрии, думая, что это будет рискованно до тех пор, пока он не получит заверения в том, что мы полностью овладели страной. За сутки до того, как он был атакован Нельсоном, он не знал о моём успехе в сражении при Каире. Не приняв никакого решения, он продолжал колебаться и упустил время для того, чтобы обезопасить себя. Более того, он никак не ожидал, что Нельсон атакует его малыми силами. Если бы Брюйе вывел свои фрегаты из гавани и хорошо укрепил остров, Нельсон никогда бы не стал атаковать его, а если бы атаковал, то был бы разбит.
С большим трудом я заставил Брюйе отплыть из Тулона. Подняв паруса, Брюйе хотел послать четыре корабля, чтобы атаковать Нельсона, который в это время залёг в ***, занимаясь ремонтом трёх суден со снятыми мачтами. Я не мог позволить делать это, так как успех всего задуманного предприятия представлял слишком большую важность, чтобы позволить затее по захвату двух или трёх кораблей конкурировать с этим предприятием. Затем Брюйе захотел разделить флотилию, но и это я не разрешил ему. Брюйе, бесспорно, обладал способностями. Он был сторонником принятия решительных мер, которые позволяют человеку использовать возможность, представившуюся в данный момент. Я полагаю, что это качество является весьма существенным для характера генерала или адмирала. Вероятно, из-за недостатка опыта Брюйе не обладал уверенностью при реализации собственных способностей и задуманных им планов. Если природа не создаёт человека такого особого склада, чтобы он имел возможность одновременно и поразмыслить и принять решение, то ничто не сможет предоставить ему эту возможность, кроме опыта. Я сам командовал армией, когда мне было двадцать два года, но природа создала меня отличным от многих других. Если бы Нельсон перехватил флотилию Брюйе на пути в Египет, то я даже не представляю себе, что бы тогда произошло, так как на каждом линейном корабле я разместил от трёхсот до четырёхсот опытных солдат. Они ежедневно обучались стрельбе из пушек. Я отдал приказ, чтобы каждый наш корабль вступил в бой с одним из ваших кораблей. Ваши корабли были небольшими и, как я считал, не были укомплектованы многочисленными командами. Я отдал этот приказ, чтобы лишить вас преимуществ, которые вы имели, благодаря вашему исключительному искусству маневрировать».
После этого монолога Наполеона между нами возникла дискуссия о сравнительных достоинствах английских и французских моряков. Я настаивал на том, что английские матросы сражались с большей уверенностью; что, если во время сражения английский корабль получал какое-нибудь повреждение, то его матросы устраняли его гораздо быстрее, чем в аналогичном случае французские моряки. Я также утверждал, что английские моряки способны сражаться дольше, чем французские. Наполеон заявил, что он согласен со всем, что я сказал, кроме моего последнего утверждения. «Синьор доктор, — заявил он, — французские моряки более храбрые, чем английские. Французские солдаты испытывали большое чувство презрения к английским войскам в начале войны, вызванное, возможно, провалом военных экспедиций, проводившихся под командованием герцога Йоркского, явным отсутствием должной бдительности у английских передовых постов и военными неудачами, выпадавшими на долю ваших армий. Презирая тогда ваши войска, французские солдаты явно совершали глупость, ибо англичане были хорошо известны как мужественный народ. Вероятно, именно из-за такого ошибочного мнения о ваших солдатах Ренье был разбит генералом Стюартом: так как французы вообразили, что вы без оглядки побежите прочь с поля боя и будете вышвырнуты в море. Ренье был человеком не без способностей, но он был более годен для того, чтобы давать советы армии в двадцать или в тридцать тысяч солдат, чем командовать армией, состоявшей из пяти или шести тысяч человек. Ваши войска в тот день почти сплошь состояли из англичан, а армию Ренье составляли главным образом поляки. Даже трудно себе представить, сколь низкого мнения французские солдаты придерживались о ваших солдатах до тех пор, пока им не преподали хороший урок. О ваших моряках французские матросы всегда говорили с большим уважением, хотя они были готовы согласиться с тем, что английские моряки более опытные и более проворные, но не более храбрые, чем они сами.
Когда, — продолжал Наполеон, — я был в Тильзите с императором Александром и с королём Пруссии, я абсолютно ничего не знал об их познаниях в области военного искусства. Эти два монарха, особенно король Пруссии, были полностью в курсе дела относительно всего того, что касается количества пуговиц, которым следует быть спереди и сзади кителя, и каким образом должны быть скроены его поля. Ни один портной в армии не знал лучше, чем король Фридрих, какое количество ткани требуется для пошива кителя. Фактически, — продолжал, смеясь, Наполеон, — я был ничто по сравнению с ними. Они без конца мучили меня вопросами относительно портняжного дела.
В этих делах я был полной невеждой, но, чтобы не обидеть их, отвечал с таким серьёзным видом, словно судьба армии зависела от покроя кителя. Когда я наносил визит королю Пруссии, то обнаружил, что у него, вместо библиотеки, имеется большой зал, подобно арсеналу, заполненный полками и вешалками для пятидесяти или шестидесяти кителей различного кроя. Каждый день он менял мундиры, появляясь всегда в новом. Он был человеком высокого роста с бесстрастным выражением лица. Глядя на него, можно было представить себе образ Дон Кихота. Он придавал гораздо большее значение покрою мундира драгуна или гусара, чем необходимости спасения королевства. В сражении при Йене его армия выполняла самые красочные и самые эффектные, насколько это было возможно, манёвры, но я вскоре положил конец всей этой чепухе и наглядно преподал ему урок, объяснив, что одно дело — воевать, а совсем другое — выполнять блестящие манёвры и носить роскошные мундиры. Если бы, — добавил он, — французской армией командовал портной, то, конечно, в тот день король Пруссии одержал бы победу, учитывая его исключительные познания в портняжном искусстве, но поскольку победы больше зависят от искусства генерала, чем от искусства портного, то он, как и ожидалось, сражение проиграл».
Затем император обратил внимание на то, что мы, англичане, позволяем нашим армиям брать с собой слишком много багажа и слишком много женщин. «Женщины, если они безнравственны, — заявил он, — гораздо хуже мужчин и в большей степени готовы совершать преступления. Слабый пол, деградируя, падает в глазах общественности ниже, чем сильный пол при схожих обстоятельствах. Женщины всегда намного лучше или намного хуже мужчин. Доказательством этого служат женщины Парижа из народа во время революции.
Когда я командовал войсками у перевала Танда, в горном и труднопроходимом районе, то для того чтобы добраться до перевала, солдатам армии необходимо было проходить по узкому мосту. Я распорядился, чтобы ни одна женщина не сопровождала солдат, так как их служба была наитруднейшей и требовала от них постоянного пребывания в боевой готовности. Для того чтобы выполнялся мой приказ, я поставил на мосту двух капитанов, получивших инструкции не разрешать ни одной женщине, под страхом смертной казни, проходить по этому мосту. Я сам отправился к мосту, чтобы убедиться в том, что мои распоряжения выполняются. Перед входом на мост я обнаружил толпу собравшихся женщин. Как только они опознали меня, так сразу же стали поносить меня, выкрикивая: «О, вот он, маленький капрал, это именно ты дал приказ не пропускать нас через мост». Тогда в армии мне дали прозвище маленький капрал. Возвращаясь, я, проехав несколько миль, с огромным изумлением увидел вместе с солдатами моих войск значительное число женщин. Я немедленно приказал арестовать двух капитанов и привести их ко мне, собираясь тут же предать их суду. Они выразили мне свой протест, заявив о своей невиновности. Они утверждали, что ни одна женщина не проходила по мосту. Я потребовал, чтобы ко мне привели некоторых из этих дам. Благодаря их собственному признанию я с удивлением узнал, что они, выбросив из бочек провизию, предназначенную для обеспечения армии, спрятались в эти бочки и незамеченными переправились через мост».
18 мая. В Лонгвуд пришёл майор Ферцен. Когда его спросили, почему он, хотя бы изредка, не наносил визита семье Бертрана, то он ответил, что губернатор выразил пожелание, чтобы не было никаких контактов, за исключением общепринятых приветствий, между офицерами 53-го пехотного полка и лицами, содержащимися под стражей на острове Святой Елены. Он признал, что настороженное и непостижимое по своей сути отношение к французам скорее всего продиктовано стремлением вызвать взаимное подозрение, но он заверил, что в 53-м полку никаких убийц не обнаружено.
22 мая. Наполеон принимал ванну. Пожаловался на головную боль. Завёл разговор о Моншеню, который, как заявил Наполеон, «полностью оправдывает мнение англичан о французах, а именно, как о нации учителей танцев. Это мнение англичан должно было ещё более укрепиться во время революции, когда англичане имели возможность насмотреться на кучку тщеславных шутов, выгнанных из собственной родины за высокомерие и деспотизм, среди прибывших в их страну французов. Подобное представление о французах, — добавил Наполеон, — настолько сильно укрепилось в умах англичан, что когда я послал Дюрока послом в Петербург, то лорд Сент-Элен, английский посол в России, из любопытства вознамерился воочию убедиться в том, что из себя представлял Дюрок. Когда Дюрок прибыл в столицу России, лорд Сент-Элен получил возможность близко понаблюдать за ним. Когда же потом его попросили высказать его мнение о Дюроке, то он ответил: «Признаюсь, по меньшей мере, он не напоминает танцора». Тем самым он признался, что Дюрок был единственным из встреченных им французов, который не имел вид учителя танцев. Этому я могу с готовностью поверить, так как до того времени он, вероятно, не видел других французов, помимо дураков, подобных Моншеню, которыми кишела Англия. Поистине, это уже слишком, посылать такого дурака сюда, в колонию соперничающей страны для того, чтобы по собственной воле предоставить на всеобщее обозрение объект искреннего презрения и поддержать англичан в их старых предвзятых мнениях. Разве Моншеню, — спросил меня Наполеон, — не подтверждает то мнение, которое вы ранее составили о французской нации?»
После приёма ванны Наполеон заговорил о России. Он заявил, что европейским странам ещё предстоит убедиться в том, что он придерживался наилучшего возможного политического курса в то время, когда он был намерен восстановить королевство Польши, что было бы единственным эффективным способом приостановить возраставшую мощь России. Такое королевство стало бы барьером, преградой для этой грозной империи, которой, вероятнее всего, ещё предстоит подчинить себе Европу. «Я не думаю, — заявил Наполеон, — что доживу до того времени, когда буду свидетелем этого, но вы, возможно, доживете. Вы находитесь в расцвете ваших лет, и можно полагать, что проживёте ещё не менее лет тридцати пяти. Я думаю, что вы будете свидетелем того, что русские или вторгнутся и захватят Индию, или войдут в Европу с армией в составе четырёхсот тысяч казаков и других жителей своих пустынь, а также двухсот тысяч исконных русских. Когда Павла охватила безудержная ярость против вас, англичан, он запросил у меня план вторжения в Индию. Я направил ему такой план с подробными инструкциями. (В этом месте рассказа Наполеон показал мне на карте маршруты движения войск и различные пункты сбора армии, откуда она должна была проследовать дальше.)
Из порта на Каспийском море он должен был проследовать маршем в направлении Индии. Россия, — продолжал Наполеон, — должна или пасть, или возвеличиться. Вполне естественно предположить, что произойдёт именно последнее. Благодаря вторжению в другие страны Россия имеет в виду достижение следующих целей: повышение цивилизации и наведение глянца на стране, стараясь тереться о другие державы (буквальный перевод слов Наполеона), приобретение денег и установление дружеских отношений с жителями пустынь, с которыми Россия в недавние времена находилась в состоянии войны. Казаки, калмыки и другие варварские народности, сопровождавшие русских во Францию и другие страны Европы, однажды почувствовав вкус к предметам роскоши этих стран, вернутся в свои пустыни, хорошо запомнив те места, где они обладали такими красивыми женщинами и так прекрасно жили. Они не только не смогут более переносить прежний образ жизни в своих собственных варварских и бесплодных краях, но и поделятся со своими соседями желанием завоевать эти восхитительные страны.
По всей вероятности, Александр будет обязан или отобрать у вас Индию для того, чтобы заполучить богатства и обеспечить работой своих варваров и таким образом предотвратить революцию в России. Или он будет должен осуществить вторжение в Европу во главе нескольких сот тысяч этих варваров, оседлавших лошадей, и двухсот тысяч пехоты, забирая себе всё, что окажется у него под рукой. То, что я говорю вам, подтверждается историей всех эпох, в течение которых неизменно отмечалось, что всякий раз, когда варвары, однажды почувствовав вкус жизни в южных странах Европы, всегда туда возвращались, чтобы пытаться осуществить новые завоевания и опустошения и, в конце концов, добиться своей цели стать полными хозяевами завоёванной страны. Для человека естественно желать улучшения своих жизненных условий.
Те канальи, когда они будут сравнивать свою жизнь в их пустынях с условиями жизни в прекрасных провинциях, покинутых ими, всегда будут испытывать непреодолимое желание овладеть ими, прекрасно понимая также, что ни одна страна не станет наносить им ответный удар или пытаться отобрать у них их пустынные земли. Те канальи, — продолжал Наполеон, — обладают всем необходимым для покорения чужих наций. Они — народ смелый, активный, терпеливо выносящий любую усталость и плохие условия жизни, бедный и жаждущий обогащения. Однако я думаю, что всё зависит от Польши. Если Александру удастся присоединить Польшу к России, другими словами, удастся примирить поляков с русским правительством, а не всего лишь подчинить себе Польшу, то он сделает огромный шаг по пути к покорению Индии. Я придерживаюсь того мнения, что он попытается осуществить или первый или второй из своих проектов, о которых я говорил, и я думаю, что последний его проект будет более всего вероятным».
Я обратил внимание Наполеона на то, что препятствием для осуществления Александром его проектов будут большие расстояния и что у русских нет достаточно денег для финансирования подобных планов. «Расстояния не являются препятствием для русских, — возразил император, — необходимый провиант может легко доставляться верблюдами, и казаки всегда обеспечат их достаток. Деньги они найдут там, куда они прибудут. Надежда завоевать чужую страну немедленно объединит армии казаков и калмыков безо всяких затрат. Пообещайте им в качестве приманки грабёж нескольких богатых городов, и они тысячами будут стекаться под их знамёна. Европе, — продолжал он, — и особенно Англии, следует предотвратить союз Польши с Россией.
Если бы моя военная экспедиция в Россию закончилась успешно, — добавил Наполеон, — то я бы вынудил Александра вступить в континентальную систему против Англии и тем самым заставил бы Англию пойти на заключение мира. Я бы также тогда сделал Польшу независимым королевством».
Я спросил, какого рода условия мира он бы предложил нам. «Очень хорошие условия, — ответил он, — я бы только настоял на том, чтобы вы прекратили ваши безобразия в море». Я спросил, оставил бы он нам Мальту. На этот вопрос он ответил утвердительно, добавив, что устал от войны и что он хорошо адаптирован к жизни, как в условиях мира, так и в условиях войны. После заключения мира он бы занялся улучшением и украшением облика Франции, воспитанием своего сына и описанием истории своей жизни. «По крайней мере, — заявил он, — союзные державы не могут в будущем отобрать у меня грандиозные общественные работы, которые я осуществил, дороги, которые я проложил через Альпы и моря, которые я соединил. Они не могут улучшить то, что было сделано мною ранее. Они не смогут отобрать у меня кодекс законов, который я составил и который достанется грядущему поколению. Слава Богу, всего этого они не смогут лишить меня».
Я сказал, что я занимался поиском числа кораблей, захваченных англичанами до выхода в свет его прокламации о задержании англичан во Франции. Я смог только выяснить, что были захвачены два морских охотника в заливе Квиберон. «Два морских охотника! — воскликнул Наполеон. — А куда же подевалась собственность на сумму в семьдесят миллионов и, как я полагаю, свыше двухсот захваченных кораблей до того, как я подписал прокламацию. Но это пример того, что всегда делает Англия. Во время войны 1773 года вы, англичане, делали то же самое, объясняя это тем, что вы всегда поступали именно таким образом. Главная причина спора между вами и нами заключалась в том, что я не позволял вам делать то, что вам нравилось делать в море. Или, по меньшей мере, если это так, то в том, что я вёл себя на земле так, как мне хотелось. Одним словом, я не хотел, чтобы вы диктовали мне свои законы, но скорее хотел диктовать свои законы вам. Вероятно, в этом я зашёл слишком далеко. Человек склонен совершать ошибки. Когда вы устроили блокаду Франции, то я сделал то же самое в отношении Англии. И с моей стороны это не было бумажной блокадой, так как я заставил вас направлять товары кружным путём через Балтийское море и оккупировать небольшой остров в Северном море, чтобы провозить их контрабандой. Вы заявили, что вы лишите меня морей, а я заявил, что я не допущу вас к земле континента. Ваши усилия увенчались успехом; но, если бы не случайные обстоятельства, то вы бы его не добились. В результате вашей стране не стало лучше, из-за глупости ваших министров, которые возвеличили Россию, вместо того чтобы возвеличить свою собственную страну.
Если бы, — продолжал Наполеон, — лорд Каслри предложил мне вновь трон Франции на тех же условиях, на которых Людовик занял его, то я бы предпочёл остаться там, где я нахожусь сейчас. Нет более жалкого человека, чем Людовик. Он навязан стране в качестве короля, и, вместо того чтобы разрешить ему снискать расположение народа, союзники заставляют его осуществлять меры, которые должны усилить ненависть к нему. Королевское достоинство деградируется, благодаря тем мерам, которые союзники заставляют его принимать. Оно видится столь гнусным и столь достойным презрения, что в таком состоянии оно бросает тень на сам трон Англии. Вместо того чтобы сделать его достойным уважения, оно покрыто грязью.
Французская нация, — продолжал Наполеон, — никогда по своей воле не согласится принять Бурбонов в качестве королей, потому что этого желают союзники. Она хотела бы видеть меня в качестве короля, потому что союзники не хотят этого. Но, поскольку подобная возможность для меня исключена, то французы желают видеть на троне человека, которого бы они выбрали сами, но которому ни враги, ни иностранные державы не стали бы мешать. Спросите себя: вы, англичане, какие бы вы испытывали чувства в подобном случае? Желание ваших министров восстановить деспотическую власть и религиозные предрассудки во Франции не может быть приемлемым для англичан.
Свободный народ, если только в его характере действительно не преобладает желание уничижаться или наносить обиду другим народам, не может иметь желания видеть порабощённой другую страну. Подвергаемый дурному обращению и лишённый всего, что дорого моему сердцу, — добавил Наполеон, — я предпочитаю мое временное жилище на этой ужасной скале пребыванию на троне Франции, подобно Людовику, так как я знаю, что грядущие поколения по достоинству оценят меня. Ещё один год или ещё два года, вероятно, завершат мою жизненную карьеру в этом мире, но то, что я совершил, никогда не канет в вечность. Спустя тысячу лет моё имя будет упоминаться с уважением, в то время как имена моих угнетателей будут неизвестны, а если их и будут вспоминать, то только с позором.
Я склонен к тому, — продолжал Наполеон, — чтобы выразить большое сомнение по поводу того, что сказано о Кромвеле. Повсеместно утверждалось, что он всегда носил на себе панцирь и постоянно менял места своих жилищ, опасаясь покушения на свою жизнь. В настоящее время и то и другое утверждение делается и в мой адрес, но я знаю, что оба они являются ложью.
Поведение вашего правительства, которое пытается подавить свободу и поработить англичан, удивляет меня, — продолжал Наполеон. — Что касается России, Пруссии и Австрии, когда они борются против свободы, то у меня это не вызывает удивления, так как они не заслуживают имени либеральных или свободных стран. В этих странах воля монарха всегда была законом, рабы должны подчиняться. Но меня удивляет то, что и Англия вынуждена поступать подобным образом. Если только, как я говорил вам во время наших предыдущих бесед, политические мотивы, зависть и желание унижать тех, кто обогащается за счёт торговли, не возобладали в душе вашего принца-регента и не распространены в среде вашей олигархии».
23 мая. Я получил сообщение о том, что губернатор ждёт меня в «Колониальном доме». Я обнаружил его вместе с сэром Томасом Ридом в библиотеке дома. Его превосходительство заявил, что позавчера г-н Коул, почтмейстер, получил несколько газет, отмеченных более поздними датами, чем те, которые находятся в его распоряжении. Некоторые из этих газет были выданы мне в прямом нарушении акта парламента. Этот акт решительно запрещал любой контакт, устный или письменный, с генералом Бонапартом без его (губернатора) ведома. Это запрещение распространялось также на лиц из свиты генерала Бонапарта, на лиц из его обслуживающего персонала и на лиц из его окружения. Поэтому губернатор хотел бы знать непосредственно из моих уст: выдавал ли именно я эти газеты или какие-либо другие генералу Бонапарту? Я ответил, что я неоднократно выдавал Наполеону эти газеты и многие другие, так как я имел обыкновение постоянно выдавать ему газеты, с тех пор как я нахожусь на острове. Что сэр Джордж Кокбэрн не раз давал мне газеты для Лонгвуда, сам даже не прочитав их.
В связи с этим сэр Хадсон Лоу заметил, что это было нарушением парламентского акта. Я ответил, что я не подпадаю под решения парламентского акта, поскольку, согласившись стать врачом Наполеона, я поставил специальное условие, что не должен рассматриваться как один из французов и немедленно подам в отставку, если на меня будут распространяться навязанные им ограничения. Его превосходительство заявил, что он хотел бы, чтобы я понял, что в будущем я не должен передавать генералу Бонапарту какие-либо газеты или передавать ему какую-либо устную информацию — новости или сведения из газет — без получения на то предварительной санкции губернатора. Я заявил, что в этом случае я окажусь в затруднительном положении и не буду знать, как мне поступать, ибо после прибытия любого корабля на остров Святой Елены Наполеон всякий раз спрашивает, а есть ли какие-нибудь новости. Вероятно, что я не смогу делать вид, что я ни о чём не осведомлён. Его превосходительство заявил, что как только прибудет какой-нибудь корабль, то капитану Попплтону и мне не следует покидать Лонгвуд до тех пор, пока вся полученная с корабля информация и все новости не станут известны ему (губернатору), и тогда я смогу получить от него любые новости, которые окажутся подходящими для передачи генералу Бонапарту. Я ответил, что я, подвергнутый такому ограничению, не останусь даже на час выполнять возложенные на меня профессиональные обязанности.
Его превосходительство заявил, что несколько месяцев назад я передал генералу Бонапарту информацию величайшей важности до того, как он (губернатор) сам узнал о ней. Эта информация касалась роспуска палаты депутатов во Франции. Губернатор далее сказал, что я сам сообщил ему, что я информировал об этом генерала Бонапарта. В связи с этим его превосходительство спросил меня, передал ли я эту разведывательную информацию генералу Бонапарту устно или использовал для этого газету. И, если это было так, то не получал ли я эту газету из рук сэра Пултни Малькольма.
Я ответил, что по прошествии столь длительного времени я не могу припомнить, передал ли я эту информацию устно или посредством газеты; что, возможно, скорее всего я сообщил её устно, а затем газету отдал Наполеону, и что я не помню, от кого я получил эту газету. Его превосходительство возразил, что человек, обладающий столь хорошей памятью, как у меня, не может делать вид, что он ничего не помнит. Учитывая это, губернатор повторил свой вопрос. Я ответил, что пустяки не задерживаются долго в моей памяти. Губернатор возразил мне, сказав, что довольно странно, что я не мог вспомнить, что та газета была передана мне адмиралом, и с ухмылкой спросил: «Разве та газета не была шотландской газетой?»
Я ответил, что я никогда не видел в Лонгвуде шотландскую газету. Я объяснил, что сэр Пултни Малькольм часто отбирал для меня две или три старые газеты, а самые последние отсылал ему (сэру Хадсону). Затем его превосходительство спросил, отдавал ли адмирал мне газеты только для моего пользования и знал ли он о том, что газеты будут переданы генералу Бонапарту для просмотра. Я ответил: «для моего пользования, и я не знаю, был ли он осведомлён о том, как я их использовал». Сэр Хадсон заявил, что «это очень странно, что я не могу сказать, был ли адмирал осведомлён об этом. В соответствии с указанием, подписанным министрами его величества, никто, кроме губернатора, не имеет права поддерживать какую бы то ни было связь в любом её виде с генералом Бонапартом». Отвечая губернатору, я сообщил, что сэр Джордж Кокбэрн никогда не считал необходимым оставлять Наполеона без газет; что единственные инструкции, которые он мне дал по затронутому вопросу, касались того, что было бы лучше не показывать Наполеону нечто такое, что лично очень сильно оскорбило бы его. В последовавшем довольно продолжительном разговоре губернатор часто вновь возвращался к теме шотландской газеты.
24 мая. Нашёл Наполеона в его спальной комнате, страдающего от головной боли. Рекомендовал ему использовать холодный компресс для лба и для висков. Он сразу же последовал моему совету, и вскоре ему стало лучше.
В ходе последовавшего разговора он сказал, что среди опубликованных клеветнических статей, которые прошлись на его счёт, существовало большое разногласие. Некоторые статьи утверждали, что похоть его завела так далеко, что он имел кровосмесительную связь с собственными сёстрами и т. д., в то время как другие в равной степени убедительно уверяли читателей в том, что он подвержен половому бессилию.
«Эта последняя статья, — продолжал он, — получила настолько широкое распространение, что, когда обсуждение вопроса о браке между мной и сестрой императора Александра шло полным ходом, императрица, её мать, заявила Александру, что она не согласится жертвовать своей дочерью и бросить её в объятья того, кто ничего не способен сделать. И если её дочь выйдет замуж за меня, то новобрачные будут вынуждены поступить так, как поступил Густав со своей королевой. Но на такой поступок её дочь пойти не может, так как он не соответствует её религии. Вам знакома, — спросил меня Наполеон, — эта история с Густавом?»
Я ответил отрицательно. «Видите ли, Густав, будучи импотентом и не имея наследника трона, заставил одного из своих камергеров лечь в постель с королевой, и в результате на свет появился тот сумасшедший, который несколько лет назад отрёкся от короны. После одного из своих приступов сумасшествия этот слабоумный признался, что шведы поступили правильно, свергнув его с престола, так как он не имел права на корону. «Моя дорогая матушка, — спросил Александр, — неужели ты можешь верить этим историям? Заверяю тебя, что не желал бы для тебя лучшей судьбы, чем быть достаточно молодой для того, чтобы выйти за него замуж, и тогда тебе не пришлось бы долго ждать наследника». Куракин, — добавил Наполеон, — впоследствии рассказал мне эту забавную историю, которая вызвала большое веселье в Париже».
Затем Наполеон заговорил о госпоже де Сталь. «Госпожа де Сталь, — заявил Наполеон, — женщина, обладающая значительным талантом и большим честолюбием, но столь склонная к интригам и неугомонная, что дала повод для высказывания о том, что она могла бы столкнуть своих друзей в море для того, чтобы, когда они станут тонуть, получить возможность спасти их. Я запретил ей появляться в стенах императорского двора. В Женеве она вступила в интимные отношения с моим братом Жозефом, которого она добилась благодаря своему умению интересно вести беседу и своим литературным произведениям. Когда я вернулся с острова Эльба, она послала своего сына, чтобы его представили мне с целью попросить меня выплатить два миллиона франков. Эту сумму её отец Неккар одолжил Людовику XVI из своих личных денег. Госпожа де Сталь предложила свои услуги при условии, если я выполню эту просьбу. Так как я знал, чего хотел её сын, и считал, что я не могу пожаловать эти деньги, не обидев других лиц, испытывавших аналогичные затруднения, то я не пожелал принять её сына, дав указание не допускать его ко мне. Однако Жозеф не смог отказать ему и привёл его во дворец, несмотря на данное мною указание. Привратники у дверей не посмели отказать моему брату, тем более когда он заявил, что берёт на себя все последствия своего поступка. Я очень вежливо принял сына госпожи де Сталь, выслушал его просьбу и ответил, что очень сожалею, но не в моей власти пойти ему навстречу, так как его просьба противоречит законам и, к тому же, её выполнение было бы несправедливым по отношению ко многим другим людям. Госпожа де Сталь, однако, не была удовлетворена моим решением. Она написала подробное письмо Фуше, в котором она изложила свои притязания, объяснив, что нуждается в этих деньгах, чтобы дать приданое дочери, собиравшейся выходить замуж за герцога де Броли. Она обещала, что если я выполню её просьбу, то смогу располагать ею и её семьей; что она будет моей непримиримой сторонницей. Фуше доложил мне об этом и настойчиво советовал мне пойти ей навстречу, утверждая, что в столь критическое время она может оказаться весьма полезной. Я ответил Фуше, что не пойду ни на какие сделки.
Вернувшись в Париж после завоевания Италии, — продолжал Наполеон, — я вскоре был приглашён в гости в большое общество людей, хотя в то время я избегал много бывать на людях. Во время этого приёма со мной заговорила госпожа де Сталь и стала следовать за мной повсюду, прильнув ко мне так близко, что я никак не мог отделаться от неё. Наконец, она спросила меня: «Кто в настоящее время является первой женщиной мира?», ожидая получить от меня комплимент. Я посмотрел на неё и холодно ответил: «Та женщина, которая родила наибольшее число детей». Сказав это, я отвернулся и оставил её сконфуженной и в полном замешательстве». Наполеон закончил свои воспоминания о госпоже де Сталь тем, что заявил, что он не мог бы назвать её злой женщиной, но она была неугомонной интриганкой, обладавшей значительным талантом и большим влиянием».
26 мая. Наполеон простужен, у него воспалились и опухли правая щека и дёсны. Он также жалуется на головную боль. Всё это, вероятно, вызвано тем, что он вчера выходил в сад, когда дул холодный ветер.
27 мая. Наполеону лучше. Однако правая щека продолжает оставаться опухшей. Разговор с ним зашёл о после Англии в Китае. «Если бы, — заявил Наполеон, — первому мандарину страны дали миллион франков, то всё было бы урегулировано и никто бы не стал упрекать вашу страну, так как ваше посольство в Китае не принадлежит к числу тех посольств, которые чтят честь своей страны. Оно является и его следует рассматривать скорее как контору для торговли, а не как посольство, имеющее дело с проблемами, непосредственно затрагивающими интересы страны. Фактически посольство в Китае представляет интересы торговцев чаем в Англии, и поэтому выгодные сделки могут покупаться с большим почётом. Помимо этого, когда вы направляете послов в страны дикарей, то вы должны уважать их и быть терпимыми по отношению к их обычаям. Они не домогаются вас. Они никогда не направляют своих послов в ответ на ваших и не просят вас, чтобы вы направляли к ним своих. Сейчас обстоятельства складываются таким образом, что большие торговые преимущества могут быть потеряны для Англии и, как следствие этого, возможна война с Китаем. Если бы я был англичанином, то я бы считал человека, советующего начать войну с Китаем, величайшим врагом моей страны. В конце концов, вы были бы разбиты, и тогда бы, вероятно, последовала революция в Индии.
В течение нескольких лет, — добавил Наполеон, — Россия получит Константинополь, большую часть Турции и всю Грецию. В этом я настолько уверен, словно это уже произошло. Почти вся лесть, с помощью которой Александр обхаживал меня, имела своею целью добиться моего согласия на осуществление его вышеперечисленных планов. Я не давал ему своего согласия на это, поскольку предвидел, что равновесие в Европе будет нарушено. При естественном развитии событий через несколько лет Турция должна стать добычей России. Самую большую часть населения Турции составляют греки, которые могут сказать, что они — русские. Это нанесёт большой урон державам, и противостоять этому могут Англия, Франция, Пруссия и Австрия. Итак, что касается Австрии, то России будет очень легко добиться её содействия, отдав ей Сербию и другие провинции, расположенные вдоль границ австрийских владений и простирающиеся почти до самого Константинополя. Единственное предположение о том, что Франция и Англия могут когда-либо стать искренними союзниками, исходит из того, что их политические интересы совпадут тогда, когда будет необходимо предотвратить сближение России с Австрией. Но даже этот союз не поможет. Франция, Англия и Пруссия, объединившись, не могут помешать этому сближению. Россия и Австрия могут осуществить это в любое время. Став повелительницей Константинополя, Россия получает в свои руки всю торговлю Средиземного моря, становится великой морской державой и Бог его знает, что может потом случиться.
Россия поссорится с вами, пошлёт в Индию армию в составе семидесяти тысяч опытных русских солдат, что для России ничего не значит, и сто тысяч разного сброда, казаков и других. В результате Англия теряет Индию. По сравнению со всеми другими державами более всего следует опасаться России, и в первую очередь вам, англичанам. Её солдаты более смелые, чем австрийские солдаты, и у неё есть все средства, чтобы набрать их столько, сколько ей захочется. По храбрости русских солдат можно сравнить только с французскими и английскими. Всё это я предвидел. Я заглядываю в будущее дальше, чем другие, и я хотел воздвигнуть барьер против этих варваров, восстановив королевство Польши во главе с Понятовским в качестве короля. Но ваши глупцы, ваши министры, не согласились с этим. Спустя сотню лет меня будет восхвалять Европа, особенно Англия, которая будет сетовать, что мне не удалось этого сделать. Когда они увидят, что прекраснейшие страны Европы разграблены и опустошены, а они стали жертвой северных варваров, они скажут: «Наполеон был прав».
Русские уже принялись за вас, англичан; я вижу, что они запретили ввоз ваших товаров. Англия гибнет. Даже Пруссия запрещает ваши товары. Какой оборот событий для Англии! При великом Чатеме вы не позволили наиболее могущественному монарху в Европе, императору Германии, плавать его кораблям по Эско и развернуть активную коммерческую деятельность в Остенде. Это был варварский и несправедливый поступок, но, тем не менее, вы обладали достаточной силой, чтобы помешать этому, так как это не отвечало интересам Англии. А теперь вот и Пруссия закрывает для вас свои порты. Какой упадок! С моей точки зрения, единственно, что может спасти Англию, так это полное прекращение вмешательства в дела континента и вывод из неё своей армии. Тогда вы можете настаивать на всём, что необходимо для соблюдения ваших интересов, не опасаясь ответных ударов по вашей армии. Ваши морские силы превосходят морские силы всех стран мира, даже если они объединятся в одно целое; и до тех пор, пока вы будете уделять внимание главным образом этому роду вооружений, вы всегда будете могущественной державой и вас будут бояться. Вы обладаете большим преимуществом в том, что можете объявить войну тогда, когда вам это захочется, а также в том, что вы можете вести её на большом расстоянии от вашего дома. Благодаря вашим флотилиям вы можете угрожать нападением на берега тех держав, которые в чём-то противоречат вам, и воспрепятствовать их торговым связям с другими странами, не опасаясь ответного материального ущерба.
Но из-за вашего нынешнего политического курса вы теряете все эти преимущества. Вы махнули рукой на ваш наиболее могущественный вид вооружённых сил и посылаете армию на континент, где в этом виде вооружённых сил вы слабее Баварии. Вы напоминаете мне Франциска Первого, имевшего в своём распоряжении мощную и прекрасную артиллерию в сражении при Павии. Но впереди неё он расположил свою кавалерию и, таким образом, оставил свои батареи вне сражения, которые, если бы они вели огонь, обеспечили ему победу. Он был разгромлен, потерял всё и сам оказался в плену. То же самое происходит и с вами. Вы оставляете ваши корабли, которые можно сравнить с батареями Франциска, и посылаете сорок тысяч солдат на континент, где Пруссия или любая другая держава, решившая наложить запрет на ваши товары, набросится на ваших солдат и разобьет вашу армию наголову, если вы будете угрожать той державе или попытаетесь предпринять ответные меры на их запрет.
Никогда ранее не было столь глупого договора, — продолжал император, — который был подписан вашими министрами от имени их собственной страны. Вы всё отдали и ничего не получили. Все другие державы приобрели чужие земли и миллионы человеческих душ, но вы отказались от колоний. Например, вы уступили французам остров Бурбон. Более неразумного акта вы не могли совершить. Вам следует пытаться заставить французов забыть дорогу в Индию и обо всей политике в отношении Индии, вместо того чтобы оставить их на полдороге. Почему вы отдали Яву? Или Суринам, или Мартинику, или другие французские колонии? Для того чтобы избежать этого, вы должны были всего лишь заявить, что вы сохраните их у себя на те пять лет, пока союзным державам предстоит оставаться во Франции. Почему вы не потребовали Гамбург вместо Ганновера? Тогда бы вы получили таможенные склады для ваших товаров. Заключая договор, посол обязан добиваться преимуществ в любом вопросе, исходя из интересов собственной страны».
Наполеон затем заявил, что если посол Англии в Китае задаст мне какие-нибудь вопросы о его приёме в Лонгвуде, то я должен ответить, что он (Наполеон) не ладит с губернатором, и поэтому не намерен принимать посла вместе с упомянутой персоной. Если же посол желает, чтобы его приняли в Лонгвуде, то Наполеон встретится с ним, представленный графом Бертраном или адмиралом. «У меня нет никаких сомнений в том, — добавил Наполеон, — что этот губернатор сообщит послу, что я составил очень низкое мнение о том, как посол выполняет свои обязанности, и что я в целом мрачная персона; что за долгое время я привык к тому, чтобы командовать, и поэтому я недостаточно уравновешен для того, чтобы проявлять сдержанность; что со мной очень хорошо обращались, но я за это отплатил неблагодарностью. Если посол спросит вас, то вы можете сказать, что я придерживаюсь собственной манеры принимать тех лиц, которые хотят, чтобы их представили мне, что я ни в коем случае не хочу оскорбить его, но что я не могу видеть губернатора».
28 мая. Виделся с сэром Хадсоном Лоу, который довольно-таки смущённо сообщил мне, что его поведение стало предметом парламентского расследования и что я должен прочитать в газетах отчёт о предложении, внесённом лордом Холландом в палате лордов, относительно генерала Бонапарта, но что он пока ещё не получил официального отчёта об этом от лорда Батхерста. Отчёты об ответе его светлости в том виде, как они подаются в газетах, могут быть неправильными и неверными. Было бы неплохо мне сказать об этом в том случае, если генерал Бонапарт задаст мне по этому поводу какие-нибудь вопросы.
30 мая. Наполеон вызвал меня в свою спальную комнату, чтобы я объяснил ему содержание нескольких отрывков из статьи в газете «Таймс», особенно посвящённых речи, приписываемой лорду Батхерсту, в ответ на предложение лорда Холланда о содержании газетных статей относительно Наполеона. Я зачитал эти отрывки из статьи, из которой явствовало, что любые изменения, имевшие место в положении истца, были внесены ради его же пользы, что причиной уменьшения границ зоны его передвижения было стремление истца вступать в тайные сношения с солдатами и жителями острова, что он получил только одно письмо, что его контакты с офицерами и жителями острова были неограниченными и свободными, что некоторые лица проникали в Лонгвуд, изменив внешность, и т. д. и т. д. «Я удовлетворён, — заявил Наполеон, — что английский министр пытается оправдать жестокое обращение со мной со стороны парламента, своей страны и Европы, прибегая к клеветническим утверждениям. Господство лжи не может продолжаться вечно».
Мне было стыдно за самого себя, и я был готов провалиться сквозь землю, когда пробормотал объяснения речи лорда Батхерста, которые предложил мне сэр Хадсон Лоу. «Они даже хуже, — сказал Наполеон, — в «Морнинг Кроникл». В «Таймс» речь лорда Батхерста имеет вид, словно она была подготовлена в министерском офисе. Но в газете «Кроникл» речь лорда Батхерста выглядит так, словно он произнес её спонтанно, безо всякой подготовки. Я дал указание Бертрану, — добавил Наполеон, — сделать точный перевод речи, проконсультировавшись с вами об отдельных фразах и деталях языка, в смысле которых у него могут возникнуть сомнения. Лорд Батхерст проявил большую бестактность, показав или пересказав Моншеню в Лондоне содержание письма, написанного Гурго своей матери, которое старый болван раструбил здесь на острове всем и вся. Лорд Батхерст утверждает, что я получил только одно письмо, от моего брата Жозефа, что является ложью. Ему следует выступать в роли духовника, а именно: всё выслушивать и ничего не разглашать; но это лишь образец всего его возмутительного поведения. Он хочет опозорить и унизить меня. В своей речи он допустил ряд глупых шуток, смысл которых я не совсем понимаю. Однако вскоре я смогу послать ему должный ответ. Если губернатор станет расспрашивать вас, то сообщите ему всё, что я вам сказал».
Затем Наполеон заявил, что ему кажется странным, что монарх, божьей милостью рождённый для того, чтобы быть повелителем и владыкой многих миллионов людей, не может получать запечатанных писем. «Каким образом, — удивился он, — до монарха могут дойти жалобы о коррумпированном и гнусном министре, если подобное правило остаётся в силе. Если во время войны министр изменяет и продаёт свою страну, то как об этом узнает монарх в том случае, когда жалоба об этом должна проходить через руки лица, на которое она подана? Когда в его праве будет выбрать или приукрасить и исказить жалобу таким образом, чтобы она в наилучшем виде отражала его точку зрения, или вообще утаить её.
Сантини, — продолжал он, — опубликовал брошюру, которая переполнена ерундой. В ней можно найти некоторую правду, но в этой брошюре всё преувеличено. Она достаточна для того, чтобы иметь право на существование, но не достаточна, чтобы смаковать её».
31 мая. В соответствии с желанием Наполеона передал ему сделанный мною перевод письма, появившегося в газете «Курьер». Прочитав его, Наполеон высказал мнение, что письмо написано самим губернатором и что кажущаяся неточность одной части письма имела всего лишь цель скрыть истинного автора.
Я сообщил Наполеону, что в одном из номеров газеты «Курьер», присланных ему губернатором, обратил внимание на опубликованную в газете речь, авторство которой приписывается сэру Фрэнсису Бюрдетту, который обвинил Наполеона в том, что тот учредил восемь Бастилий во Франции. Наполеон ответил: «В некоторых отношениях это верно. Я учредил несколько тюрем, но они были предназначены для определённых лиц, приговорённых к смертной казни. Я не хотел, чтобы эти приговоры были приведены в исполнение, а также не мог отправить этих смертников на каторгу в заморские территории Франции, так как вы господствовали на море и могли освободить их. Поэтому я был вынужден содержать их в тюрьмах.
В этих тюрьмах содержались, — продолжал Наполеон, — несколько главарей вандейцев, шуаны и другие заключенные, арестованные за участие в мятеже и в других преступлениях. Всем арестантам был дан выбор: или идти под суд, или оставаться в тюрьме настолько долго, насколько правительство может посчитать это необходимым для безопасности государства. Дважды в году эти тюрьмы инспектировались специальной комиссией в составе государственного советника и двух судей. Каждый раз арестантам предлагался выбор; или продолжать оставаться в тюрьме, или идти под суд. И всегда они предпочитали первое. На свое содержание они ежедневно получали три франка. Ни о каких нарушениях правил в тюрьмах, — продолжал Наполеон, — известно не было. То преступление, которое приписывалось мне в той статье, в действительности было актом милосердия. Но укажите мне на ту страну, где нет тюрем. Разве их нет в Англии?»
2 июня. Дежурный драгун доставил мне письмо с требованием немедленно прибыть в «Колониальный дом». Там, в библиотеке, меня встретил губернатор, который спросил, какова была реакция генерала Бонапарта на дискуссию в парламенте. Я повторил все фразы, высказанные Наполеоном для выражения его отношения к этой дискуссии (так как мне очень хотелось это сделать). Я упомянул те замечания Наполеона, которые он сделал по поводу утверждения, приписываемого лорду Батхерсту, о том, что любое изменение в положении истца было внесено ради его же пользы. Я также привёл высказывания Наполеона о том, что бестактно разглашать содержание чужих писем. Когда я закончил свою речь, сэр Хадсон Лоу взял со стола номер газеты «Таймс» и с заметным выражением растерянности на лице заявил, «что лорд Батхерст был прав, когда утверждал, что любые изменения, вносившиеся в положение генерала Бонапарта, приносили последнему только пользу. При этом его светлость должен был ссылаться на иной порядок направления в настоящее время писем в Лонгвуд; ибо вместо того, чтобы письма проходили через руки младших по званию офицеров, как это было раньше, теперь же эти письма обязан видеть и прочитывать он сам (губернатор)».
Затем у нас зашёл разговор о количестве провизии, разрешённом для Лонгвуда. Сэр Хадсон Лоу утверждал, что количество провизии для Лонгвуда было установлено графом Монтолоном и что он (сэр Хадсон) никогда не слышал каких-либо жалоб о нехватке продуктов. Я объяснил его превосходительству, что граф Монтолон не устанавливал количества продуктов, необходимых для Лонгвуда. Я также напомнил губернатору, что о скудости нормы выдачи продуктов для Лонгвуда ему часто докладывали и дежурный офицер, и поставщик провизии, и я сам, а также и слуга Наполеона, ведающий его столом. Сэр Хадсон Лоу продолжал настаивать на том, что количество провизии для Лонгвуда было определено графом Монтолоном и, в связи с этим, послал за майором Горрекером, чтобы тот подтвердил правильность его утверждения. Майор Горрекер, однако, не поддержал его превосходительство. Как он пояснил, граф Монтолон только определил количество вина, поставляемого в Лонгвуд, но количество всех других продуктов определялось указаниями самого его превосходительства.
Несмотря на некоторое замешательство, вызванное пояснением майора Горрекера, сэр Хадсон Лоу продолжал утверждать, что ему ничего не было известно о недостаточной норме выдачи продуктов для Лонгвуда. В связи с этим я посчитал необходимым перечислить те дни, когда ему вручались заявления о нехватке провизии для Лонгвуда и от меня, и от г-на Балькума, поставщика Наполеона, и от слуги Наполеона, ведающего его столом. Я также заявил, что помощь, оказываемая дважды в неделю сэром Томасом Ридом, в приобретении различных предметов питания для Лонгвуда, которые оплачивались в его присутствии Киприани, не могла оставить сэра Томаса в неведении относительно нехватки провизии для французов. Губернатор не без ехидства заявил, что «видимо, я должен быть главным свидетелем, которого эти люди могут вызвать в суд».
4 июня. В соответствии с указанием сэра Хадсона Лоу поставка мяса в Лонгвуд за счёт государства увеличена на двадцать фунтов в день.
По прибытии кораблей из Англии у поместья «Ворота Хата», независимо от обычного часового, был выставлен пост в лице офицера, получившего указания тщательно проверять каждого человека, который направляется в сторону Лонгвуда, и не пропускать далее подозрительных персон.
5 июня. Граф и графиня Монтолон отправились в город за покупками и заодно решили нанести визит адмиралу и госпоже Малькольм. Офицеру, сопровождавшему их, было приказано губернатором «следовать за ними в дом адмирала и внимательно слушать там все разговоры».
6 июня. Встретился с Наполеоном, который пребывал в отличном состоянии духа. Он сообщил мне, что вчера граф Монтолон информировал его о том, что человек, видевший великого ламу, только что прибыл на остров. Поэтому Наполеон хотел бы, чтобы, как только я окажусь в городе, попытался познакомиться с этим человеком и выяснил у него, какими церемониями сопровождалась его встреча с великим ламой. В частности, практиковалась ли во время встречи церемония поклонения. Наполеон попросил меня, по возможности, выяснить все детали встречи этого человека с великим ламой. «Меня очень интересует, — заявил Наполеон, — любая информация о великом ламе. Мне никогда не приходилось читать о нём какую-либо информацию, которой я мог бы доверять, и я иногда сомневался в его существовании».
В городе встретился с сэром Хадсоном Лоу. Немного побеседовал с ним относительно замечаний Наполеона о речи лорда Батхерста. Его превосходительство вручил мне послание, которое я должен был передать Наполеону в качестве ответа на его замечания. Я упомянул губернатору, что Наполеон, говоря о лорде Батхерсте, также заявил: «Почти все министры — лгуны. Талейран — их капрал, за которым следуют Каслри, Меттерних, Гарденберг и так далее». Я также информировал губернатора о том, что Наполеон попросил меня познакомиться с недавно прибывшим на остров джентльменом, который встречался с великим ламой. Сэр Хадсон, как выяснилось, не знал, что такой человек прибыл на остров.
Вскоре после этого я повстречался с капитаном Бальстоном, работавшим в морской службе Восточно-Индийской компании. Он напомнил мне о нашем давнишнем знакомстве. От него я узнал, что некий джентльмен приехал из Китая с рекомендательным письмом для меня от г-на Юрмстона, проживавшего в Макао, с которым я поддерживал очень тёплые, дружеские отношения. Встретившись затем с этим джентльменом, я узнал, что его имя — Маннинг и что он именно тот самый человек, которого я искал. У него была длинная чёрная борода. Он путешествовал по всему королевству Тибет, находившемуся у самых западных границ Китая. Я рассказал ему, что император проявляет большой интерес к личности Великого Ламы. Если г-н Маннинг окажется в Лонгвуде, то существует большая вероятность того, что император встретится с ним. Г-н Маннинг рассказал, что он был пленником во Франции. Он был освобождён Наполеоном и снабжён паспортом, как только император узнал, что он был человеком, путешествующим по всему миру ради информации, которая могла бы, в конечном счетё, быть полезной обществу. Г-н Маннинг также сказал, что в знак благодарности за оказанную ему императором любезность он послал губернатору небольшие подарки для императора. При этом он обратился с просьбой к губернатору, чтобы эти подарки были переданы по назначению. Г-н Маннинг сообщил мне, что он попросит пропуск в Лонгвуд, чтобы попытаться встретиться с императором.
По городу ходят слухи, что на корабле «Бэеринг», прибывшем на остров, находился мраморный бюст сына Наполеона и что сэр Томас Рид порекомендовал капитану корабля выбросить бюст за борт и никому об этом не говорить. Об этом как о несомненном факте заявил мне, а также и Киприани, капитан NN, который рассказал, что капитан «Бэеринга» признался, что ему подсказывали сделать это.
7 июня. Г-н Маннинг, сопровождаемый капитаном Бальстоном, приехал к графу Бертрану. Г-н Маннинг сообщил мне, что губернатор посоветовал ему, по какой именно причине, он так и не понял, не сообщать графу, что в свое время он послал несколько подарков губернатору для последующей их передачи Наполеону. После того как они провели примерно один час в беседе с графом Бертраном, в комнату графа пришёл Наполеон вместе с генералом Монтолоном. Сначала Наполеон обратился к капитану Бальстону, сказав: «О, я ранее встречался с вами». Затем Наполеон задал несколько вопросов г-ну Маннингу.
Маннинг рассказал, что он был во Франции в 1805 году и оказался в числе лиц, которые были арестованы. Маннинг написал ему (Наполеону) письмо, в котором сообщил, что свободно путешествует по всему миру, чтобы приносить обществу пользу. Это письмо стало причиной его освобождения из тюрьмы. «Кто вам покровительствовал? — спросил Наполеон. — Было ли с вами письмо ко мне от сэра Джозефа Бэнкса?» Маннинг ответил, что абсолютно никто ему не покровительствовал, что у него не было с собой письма от сэра Джозефа Бэнкса, а также что у него не было каких-либо друзей, которые могли бы заступиться за него. Он просто написал письмо, в котором изложил своё положение. «Так именно благодаря вашему простому письму вы обрели свою свободу?» — спросил Наполеон. «Именно моё простое письмо и побудило вас, — ответил Маннинг, — даровать мне свободу, за что я вам весьма признателен и за что я прошу вашего разрешения поблагодарить вас».
Наполеон спросил его, в каких странах он жил и, просматривая карту географического атласа Лас-Каза, задал ряд вопросов о маршрутах путешествий г-на Маннинга. Наполеон также стал расспрашивать его, встречался ли он с великим ламой, об образе жизни и обычаях стран, в которых он побывал во время своих путешествий.
На каждый вопрос Маннинг давал ясные и чёткие ответы. Он рассказал, что видел ламу, которого он описал, как умного семилетнего мальчика. В присутствии ламы он следовал тем же церемониям, которые выполнялись всеми, кто допускался к ламе. Наполеон спросил: «Как вам удалось избежать опасности быть принятым за шпиона?» — «Я надеюсь, — ответил Маннинг, — что в моей внешности нет ничего такого, что указывало бы на то, что я являюсь шпионом». Этот ответ Маннинга вызвал смех у Наполеона, который задал очередной вопрос: «Как это вы смогли, будучи мирским человеком, добиться приёма в присутствии ламы?» Г-н Маннинг ответил, что он чтит и уважает все религии и, благодаря этому, он смог получить приём у ламы. Наполеону хотелось знать, принимали ли его за англичанина, заметив при этом, что очертание его носа выдавало бы его за европейца. Г-н Маннинг ответил, что его принимали за уроженца Калькутты, но он считает, что было известно, что он англичанин. Он также пояснил, что существует ряд человеческих рас, у представителей которых нос очерчен таким же образом. Затем Наполеон с улыбкой заметил, что «господа путешественники часто рассказывают сказки, и что некоторыми из них отрицался факт существования великого ламы». Когда в ответ на это замечание г-н Маннинг заявил: «Я не принадлежу к числу таких путешественников; правда никогда не бывает ложью», то Наполеон рассмеялся и задал много других вопросов.
Г-н Маннинг рассказал, что основную часть доходов великого ламы составляют подарки, полученные им от принцев и от лиц, которые верят в него. Однако временно он является подданным китайцев; что он никогда не женится, так же как и его жрецы; что тело, в которое, в соответствии с их верой, переходит дух великого ламы, определяется с помощью особых примет, известных только жрецам. Наполеон затем задал ряд вопросов, в том числе о китайском языке, о последнем посольстве Англии в Китае, о том, удавалось ли русским проникнуть в Тибет. Наполеон также поинтересовался, собирается ли г-н Маннинг публиковать воспоминания о своих путешествиях. Получив ответы на эти вопросы, Наполеон стал расспрашивать капитана Бальстона о его корабле, после чего пожелал всем доброго утра и удалился.
Я дал Наполеону экземпляр брошюры Сантини на французском языке. Он принялся просматривать её и по ходу чтения, останавливаясь на местах, которые казались ему заслуживающими внимания, делал замечания следующего рода: «правильно», «частично правильно», «ложь», «чепуха» и так далее.
Наполеон обратил внимание на то, что в брошюре его имя пишется с буквой «у» (Буонапарте). Он рассказал мне, что, когда он начал командовать армией в Италии, то пользовался буквой «у» для того, чтобы угодить итальянцам. Однако и то и другое написание его имени является в равной степени правильным. Вернувшись из Египта, Наполеон отказался от буквы «у» в своём имени. Но главы его семьи и его предки писали свои имена с буквой «у», добавляя при этом, «что важные дела начинаются с пустяка». Закончив ознакомление с брошюрой, Наполеон высказал своё мнение о ней, заявив, что «было бы лучше, если бы Сантини строго придерживался правды, которая произвела бы гораздо большее впечатление на общественное сознание, чем те преувеличения, которые он обнародовал. На самом-то деле все эти преувеличения, видимо, сфабрикованы неким писакой в Англии, так как сам Сантини не способен написать брошюру».
10 июня. Наполеон находится в своей спальной комнате. Я сообщил ему, что получил портсмутскую газету, в которой напечатаны отрывки из книги, опубликованной в Лондоне под его именем. Бегло просмотрев эти отрывки, Наполеон заявил, что в них нет ни одной строчки, написанной его пером, хотя некоторые напоминают его манеру писать. Он добавил, что в своё время некий шотландец, имя которого он не помнит, написал несколько статей настолько в его стиле, что, приехав во Францию, ему удалось добиться их публикации.
Я сообщил Наполеону, что полковник Макироне, адъютант Мюрата, опубликовал сборник различных историй о своём бывшем начальнике. «Что он пишет обо мне?» — спросил Наполеон. Я ответил, что я сам не видел эту книгу, но, как меня информировал сэр Томас Рид, автор книги плохо отзывается о Наполеоне. «О! — воскликнул, рассмеявшись Наполеон. — Это ничего не значит. Я давно привык к этому. Но всё же, что он пишет обо мне?» Я ответил, что в книге утверждается, что Мюрат приписывал поражение в битве при Ватерлоо тому факту, что в ней не должным образом использовалась кавалерия. Мюрат заявил, что если бы он командовал кавалерией, то французы одержали бы победу. «Это вполне вероятно, — согласился Наполеон, — я не мог быть повсюду, к тому же Мюрат был лучшим кавалерийским офицером в мире. Он придал бы атаке больше стремительности и больше порыва. Недоставало самой малости для того, чтобы я одержал победу в тот день. Для того чтобы прорвать оборону противника, нужны были всего лишь два или три батальона, и, по всей вероятности, Мюрат смог бы осуществить это. Я считаю, что во всём мире не было двух таких офицеров, как Мюрат в кавалерии и Друо в артиллерии. Мюрат обладал своеобразным характером. Двадцать четыре года тому назад, когда он был капитаном, я сделал его своим адъютантом и, соответственно, повышал его до тех вершин, кем он стал.
Он любил, я могу даже сказать, что он обожал меня. В моём присутствии его охватывал благоговейный страх и он был готов пасть к моим ногам. Я поступил неправильно, отстранив его от себя, так как без меня он стал никем.
Со мной он был моей правой рукой. Прикажи Мюрату атаковать и уничтожить войско противника в четыре или в пять тысяч солдат в таком-то направлении, и этот приказ выполнялся незамедлительно. Но предоставьте его самому себе, и он превращался в глупца, лишенного всякого здравого смысла. Я не могу понять, как такой храбрый человек мог стать таким трусом. Он был храбрецом только тогда, когда противостоял врагу. В такой момент он становился самым храбрым человеком в мире. Переполнявшая всё его существо бурлящая храбрость бросала его, разодетого в роскошную, всю в блеске золота одежду и с головным убором, увитым пышными страусовыми перьями, в самую гущу врагов. Как ему удавалось избежать гибели, остаётся чудом, так как он всегда оставался отличной мишенью, в которую стреляли со всех сторон. Даже казаки восторгались им, благодаря его необычайной храбрости. Каждый день Мюрат в одиночку вступал с ними в бой, никогда не возвращаясь без того, чтобы с его сабли не стекала кровь тех, кого ему удавалось сразить насмерть. Он был рыцарем, настоящим Дон Кихотом на бранном поле.
Но посадите его в кресло в кабинете, и он становился отъявленным трусом, лишённым какого-либо здравого смысла, не способным принять любое решение. Мюрат и Ней были самыми храбрыми людьми, которых я когда-либо встречал. Однако у Мюрата был более благородный характер, чем у Нея. Мюрат отличался великодушием и искренностью. В характере Нея чувствовался налёт определённой наглости. Однако, как ни странно, но Мюрат, хотя он любил меня, тем не менее, причинил мне больше вреда, чем любой другой человек на свете. Когда я покинул Эльбу, я направил к нему связного, чтобы ознакомить его с тем, что я сделал. Мюрат немедленно решил, что он должен атаковать австрийцев. Мой связной пал перед ним на колени, чтобы помешать ему сделать это, но все его усилия оказались тщетными. Он считал, что я уже являюсь властелином Франции, Бельгии и Голландии, а он должен сам добиваться заключения мира и не ограничиваться полумерами. Как сумасшедший он атаковал австрийцев вместе со всем своим сбродом и тем самым погубил меня. Ибо в это время между Австрией и мною проходили переговоры о том, что Австрия должна оставаться нейтральной. Переговорам вот-вот предстояло завершиться, и я бы тогда мог спокойно править своей страной. Но, как только Мюрат атаковал австрийцев, император Австрии решил, что Мюрат действовал в соответствии с моими указаниями, и действительно было бы трудно заставить потомков верить иначе. Меттерних заявил: «О, император Наполеон, как всегда, верен себе. Железный он человек. Поездка на Эльбу не изменила его. Ничто никогда не изменит его. Для него вопрос стоит только так: или всё, или ничего».
Австрия вступила в коалицию, и для меня всё было потеряно. Мюрат не сознавал, что моё поведение диктовалось обстоятельствами и я приспосабливался к ним. Он был подобен человеку, глазеющему в опере на меняющиеся сцены, никогда не думающему о том, что где-то позади находятся, скрытые от глаз зрителей, механизмы, с помощью которых на сцене всё приходит в движение. Он, однако, не подумал, что его уход от меня станет столь губительным для меня, иначе он никогда бы не присоединился к союзникам. Он решил, что я буду обязан отдать Италию и ряд других стран, но он никогда не предполагал, что меня ждёт полнейшая гибель».
В Лонгвуд приехал сэр Хадсон Лоу. Он пошёл к графу Бертрану, у которого оставался некоторое время. Вечером Наполеон послал за мной. Когда я явился к нему, он сообщил мне, что сэр Хадсон Лоу посетил Бертрана для того, чтобы информировать его о том, что госпожа Холланд прислала подарки для детей госпожи Бертран, две книги для графа Бертрана, а также некоторые другие вещи вместе с письмом. Губернатор взял на себя труд лично передать все эти предметы, хотя это и противоречит правилам, предписывающим, что любая вещь для обитателей Лонгвуда должна проходить через канцелярию государственного секретаря. Губернатор уведомил графа Бертрана о том, что г-н Маннинг также оставил для него (Наполеона) несколько незначительных подарков. Губернатор хотел бы знать, примет ли Наполеон эти подарки. Губернатор сообщил графу Бертрану, что возникло ещё одно обстоятельство, имеющее несколько затруднительный характер.
Дело в том, что некий скульптор из Легхорна (Италия) вылепил довольно неудачный бюст сына Наполеона. Скульптор направил этот бюст на остров Святой Елены кораблём «Бэеринг» на хранение одному человеку, который сейчас очень болен лихорадкой. Вместе с бюстом скульптор переправил письмо, в котором его автор сообщает, что хотя его труд уже оплачен, но если он (Наполеон) пожелает заплатить за бюст больше, то он будет стоить сто гиней. Губернатор полагает, что это слишком большая сумма за плохо выполненную работу. Однако губернатор хотел бы знать, желает ли Наполеон иметь этот бюст. «Бертран, — продолжал Наполеон, — ответил, что несомненно император желал бы видеть бюст своего сына. Император сожалеет, что бюст не передан ему ранее, и что было бы неплохо прислать бюст сегодня же вечером и не держать его до завтрашнего дня. Император также был бы счастлив получить подарки г-на Маннинга. Бертран рассказал мне, что губернатор выглядел взволнованным, явно желая приписать себе большую заслугу в том, что именно он предложил выслать Наполеону все эти вещи, минуя канцелярию государственного секретаря. Губернатор не скрывал своего удивления по поводу того, что Бертран от всей души не осыпал его благодарностями за проявленную им величайшую доброту. Я не знаю, что он имел в виду, когда говорил, что сто гиней — это слишком большая сумма за бюст. То ли он был намерен оскорбить нас, то ли хотел осудить нас. Понятно, что никакая сумма денег не будет большой для отца, когда он будет платить при сходных обстоятельствах. Но у этого человека нет сердца.
Наполеон затем спросил меня, знал ли я что-нибудь об этой истории с бюстом. Я ответил, что слышал о ней несколько дней тому назад. «Почему же вы ничего не сказали мне?» Я слегка смутился и ответил, что ожидал, что губернатор пришлёт бюст. Наполеон сказал: «Мне было известно об этой истории уже несколько дней. Я был намерен, если бы мне не отдали этот бюст, выразить такое возмущение, что оно заставило бы волосы каждого англичанина встать дыбом. Я бы поведал такую историю, которая заставила бы всех матерей Англии призывать проклятия на голову губернатора, как на чудовище в человечьем обличье. Мне было известно, что его одолевали раздумья по поводу того, что же ему делать с этим бюстом, а также и то, что его премьер-министр Рид приказал разбить бюст. Могу предположить, что он консультировался с этим маленьким майором, который указал ему, что подобный поступок навсегда покроет его имя позором, или, возможно, его супруга ночью прочитала ему лекцию о жестокости подобного поступка. Однако он сделал достаточно много для того, чтобы обесчестить своё имя тем, что так долго удерживал у себя бюст[27], и, более того, тем, что позволил посеять сомнения в том, что его вообще привезли на остров».
Затем император стал рассказывать о своей семье. «Моя замечательная матушка, — заявил он, — мужественная женщина, обладающая большими способностями, скорее мужского характера, нежели женского. Она — очень гордый и благородный человек[28]. Ради меня она была способна продать всё, вплоть до её ночной рубашки. Ежегодно я выплачивал ей миллион франков, помимо предоставленного ей дворца, а также не считая множества моих подарков ей. Тому, как она воспитала меня с самого раннего возраста, я обязан моему последующему величию. Я придерживаюсь того мнения, что будущее хорошее или плохое поведение ребёнка полностью зависит от матери. Она очень богата. Большинство членов моей семьи полагало, что я могу умереть, что всякое может случиться в моей жизни, и вследствие этого приняли меры, чтобы материально обезопасить семью в будущем. Они сохранили большую часть собственности семьи.
Жозефина скончалась, когда она обладала состоянием в размере около восемнадцати миллионов франков. Она была величайшей покровительницей изящных искусств, которую знавала Франция на протяжении многих лет. Она часто спорила с Деноном и даже со мной, так как хотела вместо музея обеспечить прекрасными статуями и картинами собственную галерею. А я всегда поступал так, чтобы доставить удовольствие народу; и всякий раз, когда я приобретал прекрасную статую или ценную картину, то я посылал её в музей. Жозефина была олицетворением грации. Всё, что бы она ни делала, отличалось особенным изяществом и изысканным вкусом. Я никогда не видел, чтобы она поступала неэлегантно в течение всего времени, что мы жили вместе. Даже спать она ложилась изящно. Её туалет представлял собой безупречный арсенал, и она эффективно защищала себя против атак времени.
Когда папа римский находился во Франции, — добавил Наполеон, — я предоставил в Фонтенбло в его распоряжение великолепный дворец, обставленный элегантной мебелью, и на его расходы ежемесячно выдавал сто тысяч крон. Для него и для его кардиналов держались пятнадцать карет, хотя он никогда не покидал дворца. Он был хорошим человеком, но фанатиком. Его сильно раздражали клеветнические статьи, в которых утверждалось, что я плохо обращаюсь с ним. Он открыто опровергал все их утверждения, заявляя, что, за исключением политических проблем, отношение к нему было самым прекрасным. Одно время, — продолжал император, — я раздумывал над тем, чтобы отобрать у него всю его светскую власть, сделать его моим должностным лицом, ведающим раздачей милостыни, а Париж сделать столицей христианского мира».
11 июня. Сегодня получен бюст сына Наполеона. Бюст прекрасно выполнен из белого мрамора в натуральную величину. На нём надпись — Наполеон Франсуа Шарль Жозеф и т. д., бюст украшает большой крест Почётного легиона. Вместе с бюстом были присланы подарки от госпожи Холланд и от г-на Маннинга. Наполеон не прикасался к еде до восьми часов вечера.
Вскоре после того, как привезли бюст, Наполеон послал за мной. Бюст водрузили на каминную доску в гостиной. «Вы только посмотрите, — воскликнул Наполеон, — посмотрите на эту скульптуру! Каким варваром и каким жестоким должен быть человек, готовый разбить такую скульптуру, как эта. Я считаю, что человек, способный разбить такую скульптуру или приказать сделать это другим, намного хуже того, кто дает яд другому. Ибо последний имеет в виду добиться какой-то определённой цели, но первого ничто не побуждает сделать это, кроме самой чёрной жестокости. Такой человек способен совершить любое преступление. Изображение такого выразительного лица смягчило бы сердце самого свирепого дикого животного. Человек, который дал приказ разбить эту скульптуру, вонзил бы кинжал в сердце оригинала, если бы это было в его власти»[29].
В течение нескольких минут Наполеон не отрывал взгляда от бюста с выражением огромного удовлетворения и восхищения. Лицо Наполеона, сиявшее счастливой улыбкой, с огромной силой выражало любовь и гордость, которую он чувствовал от того, что является отцом такого красивого мальчика.
Я пристально рассматривал лицо Наполеона, так как получил прекрасную возможность делать это в то время, когда он весь отдался созерцанию прекрасных, хотя и неодушевлённых черт, изваянных в мраморе. Никто из тех, кто был свидетелем этой сцены, не мог отрицать, что Наполеон буквально воскрес благодаря отцовской нежной любви.
Уже потом Наполеон дал волю своим чувствам, вернувшись к обсуждению вопроса о якобы отданном приказе уничтожить бюст. Когда я попытался поставить под сомнение сам факт существования подобного приказа, а также заявил, что во всяком случае он, несомненно, не был отдан губернатором, то Наполеон тут же прервал меня, сказав, что бесполезно отрицать известный факт. «Для меня бюст, — продолжал он, — стоит миллион, хотя этот губернатор презрительно сказал, что для этого бюста и сто фунтов много».
12 июня. Увидел Наполеона принимавшим ванну, в которой он оставался в течение четырех с половиной часов. Дал ему книгу «Интересные факты г-на Макироне о Иоахиме Мюрате». Он прочитал всю книгу, иногда делая замечания по ходу чтения и изредка обращаясь ко мне за помощью для перевода отдельных фраз. «Его не стоит жалеть, — заявил Наполеон, — потому что он был предателем. Он никогда не говорил мне, что полон решимости защищать своё королевство. Но и я никогда не рассказывал ему о моих планах объединить королевства Италии и Неаполя, отобрать их у него и назначить его коннетаблем империи. Конечно, я сделал его орудием в моих руках для того, чтобы осуществить грандиозные проекты, которые я имел в виду для Италии, и был намерен, как я уже говорил вам, лишить его короны Неаполитанского королевства. Но время для этого не пришло. Кроме того, я в должной мере компенсировал бы нанесённый ему ущерб. Письмо, которое он написал Макироне, было нелепым, а предпринятая им военная операция против Австрии была делом рук сумасшедшего. У него не было никаких причин жаловаться на императора Австрии, который вёл себя великодушно, предложив ему политическое убежище в любой из своих провинций по его желанию. При этом император Австрии поставил ему только одно условие — не покидать место его пребывания без разрешения, что было весьма необходимым. При создавшихся обстоятельствах, ей-богу, чего ещё можно было желать. Я сам никогда большего не желал от Англии. Это был благородный поступок со стороны императора Австрии, отплатившего добром за зло. Ибо Мюрат пытался лишить его Италии; опубликовал воззвания, вызывая мятеж среди итальянцев. Он безосновательно, как последний болван, бросился в атаку против войск императора. Подобно сумасшедшему, он, лишённый здравого смысла, затеял военную операцию безо всякого плана и настолько плохо организованную, что не сумел собрать вместе собственную гвардию. В своём воззвании к итальянцам он ни разу не упомянул моего имени, хотя он знал, что они обожали меня.
Необходимо сказать правду, — продолжал Наполеон, — в переписке со мной Мюрат не вёл двойной игры, в которой он обвинялся. Представленные на этот счёт документы, чтобы доказать его нечестность, были сфальсифицированы. В то время у Мюрата со мной никаких договоренностей не существовало. Судя по всему, лорд Эксмут поступил справедливо и честно, откровенно информировав его, что он примёт его только в качестве военнопленного. Я не верю, что он предлагал тысячу луидоров за арест Мюрата.
Вы знаете, что из себя представляют неаполитанцы. Мюрат предпринял военную операцию, чтобы овладеть Неаполем. В то время в его распоряжении было двести корсиканцев, а Неаполь был оккупирован двадцатью тысячами австрийцев. Мюрат завершил свою жизнь, как сумасшедший. Никто горевать о нём не будет, хотя, в то же самое время, он был очень далёк от того, чтобы быть обвинённым в двойном предательстве, которое ему приписывается».
Затем Наполеон повторил высказанную им ранее свою точку зрения, что если бы в сражении при Ватерлоо кавалерией командовал Мюрат, то исход битвы был бы иным. Но он добавил, что армия считала Мюрата предателем.
13 июня. Встретился с Наполеоном в бильярдной комнате. Он был в хорошем настроении. Заговорил о возможности для него остаться во Франции после сражения при Ватерлоо, несмотря на противодействия этому со стороны союзных держав. «Я сам придерживался того мнения, — заявил он, — что не мог бы этого сделать, не пролив кровь сотен людей на гильотине. Я должен был погрузить в кровь мои руки вплоть до этого места, — он вытянул одну руку и палец другой руки приложил к подмышке. Если бы законодательное собрание проявило мужество, то я мог бы добиться успеха. Но члены собрания были напуганы и, разделившись, действовали друг против друга. Лафайет был одной из главных причин успеха врагов Франции. Если бы мне дали шанс, то я должен был прибегнуть к самым жестоким мерам. Поведение союзников, заявивших, что они ведут войну против меня одного, имело большой эффект. Если бы возможно было оставить меня вне французского народа, то никакие усилия союзных держав не увенчались бы успехом. Но случилось так, что, изолировав меня, союзные державы объявили, что, как только я буду удалён, все препятствия к достижению мира будут устранены. Общественное мнение народа оказалось разделённым, и я принял решение отречься от престола и тем самым удалил препятствия к миру. Если бы французский народ догадался о намерениях союзников, или если бы он действовал так же, как поступал потом, то он бы сплотился вокруг меня. Но французов перехитрили, как ягнят в басне, когда волки объявили, что они ведут войну против собак. Но как только от собак избавились, так сразу же волки набросились на ягнят и пожрали их.
Существует большая разница мнений, — продолжал император, — относительно того, что мне следовало делать. Многие считали, что я должен был сражаться до последнего. Другие говорили, что фортуна изменила мне, что Ватерлоо навсегда закончил мою военную карьеру. Я же считаю, что должен был погибнуть в сражении при Ватерлоо, но, возможно, умереть и ранее. Если бы я умер в Москве, то я бы оставил за собой славу величайшего полководца в истории. Но улыбки судьбы подошли к конечной точке. Потом уже меня преследовали неудачи; но до тех пор я оставался непобеждённым. Мне следовало погибнуть в сражении при Ватерлоо. Но вся беда в том, что, когда человек более всего стремится обрести смерть, он не может найти её. Людей убивали вокруг меня, передо мной, позади меня, повсюду. Но ни одна из всех пуль не предназначалась мне».
Граф Бертран написал письмо сэру Хадсону Лоу, констатируя тот факт, что он до сих пор не видел капитана корабля, который привёз бюст сына Наполеона. Граф Бертран выразил надежду, что капитану корабля будет разрешено посетить Лонгвуд.
18 июня. В ответном письме губернатора графу Бертрану сообщалось, что капитан корабля «Бэеринг» не привозил бюста. Однако граф Бертран направил повторную просьбу о том, чтобы капитану было разрешено посетить Лонгвуд. В тот же день капитан Лэм (получающий пенсию как уволенный в запас лейтенант военно-морского флота) приехал в Лонгвуд, чтобы встретиться с графом Бертраном. Когда он возвращался от графа, то я попросил его оказать мне любезность, сообщив некоторую информацию о бюсте. Капитан Лэм рассказал, что бюст был переправлен на борт корабля с таможни и отдан на хранение канониру корабля, итальянцу, который прежде много лет служил в британском военно-морском флоте. На следующий день после прибытия на остров Святой Елены этот итальянец, находясь в гостях, упомянул присутствовавшим в доме хозяина о бюсте и попросил сообщить ему, каким образом он смог бы передать бюст Наполеону.
После чего он был направлен к сэру Томасу Риду, который с пристрастием стал расспрашивать хранителя бюста по существу дела. Среди прочего сэр Томас Рид поинтересовался, упоминал ли хранитель бюста об этом предмете кому-либо на острове. Тот ответил, что да, что он рассказывал о нём, будучи в гостях, присутствовавшим на обеде. Сэр Томас Рид затем спросил, как тот мог, вопреки существующим инструкциям, даже подумать о том, чтобы провезти на остров подобную вещь. В конце разговора сэр Томас Рид высказал пожелание, чтобы хранитель бюста никому ничего не говорил об этой вещи, а также попросил его, чтобы те, кому он рассказывал о нём, тоже хранили полное молчание. Я высказал предположение, что капитану Лэму, должно быть, было известно, что на острове ходили слухи о том, что ему рекомендовали выбросить бюст за борт или разбить его на куски. Мне бы хотелось выслушать из уст самого капитана Лэма опровержение всех этих слухов. Капитан Лэм ответил, что он слышал об этом, но в самой общей форме. Однако эти слухи не соответствовали действительности, и капитан Лэм признался, что не знал, откуда они могли возникнуть.
Вернувшись в город, этот джентльмен сначала отправился к сэру Томасу Риду, а затем через несколько минут поехал в «Колониальный дом» на одной из лошадей губернатора.
19 июня. Адмирал и госпожа Малькольм с майором Бойсом, офицером морской пехоты, и с капитаном королевских военно-морских сил Джоунсом нанесли визит Наполеону. После них с Наполеоном беседовал полковник Фейджэн, прежде служивший военным прокурором в Индии. Полковник, говоривший по-французски как истинный француз, рассказал, что Наполеон засыпал его вопросами, имевшими прямое отношение к его профессии, что весьма озадачило его, и что Наполеон был чрезвычайно искусен в своих замечаниях.
Встретился с Наполеоном вечером. Он сообщил мне, что его навестили сэр Пультни и госпожа Малькольм, а также полковник Фейджэн. «Адмирал, — заявил Наполеон, — пытался выступить в поддержку губернатора, сказав, что я могу положиться на него, так как он направил в Англию мои замечания по поводу ограничений. И действительно он с таким пылом защищал поведение губернатора, что я сказал ему, что он такой же, как и все англичане, эгоисты безо всякой меры, и что я, не являясь англичанином, не жду от них справедливости. Он англичанин до мозга костей. Я сказал ему, что речь лорда Батхерста содержала три клеветнических заявлений и десять лживых утверждений и что я не намерен оставить их без ответа. Адмирал пытался оправдать лорда Батхерста точно так же, как это делал губернатор, утверждая, что отчёт о речи, опубликованный в газетах, может быть неправильным и неверным и что на него нельзя полагаться. Однако он ошибается. Во Франции, даже во время революционного безумства, тексты речей воспроизводились в газетах точно. Я подарил госпоже Малькольм одну из моих фарфоровых чашек с крышкой в виде египетского обелиска в качестве знака моего к ней уважения и моей признательности за проявляемое ею внимание ко мне. Она настояла на том, чтобы самой снять крышку с чашки. Я не могу понять, — добавил Наполеон, — как адмирал может думать о попытке защищать человека, столь непохожего на него, поведение которого сам адмирал в душе не может одобрять».
Наполеон затем рассказал, что он расспрашивал полковника Фейджэна о военном уголовном кодексе. «Мне хорошо известны, — добавил Наполеон, — тонкости этой проблемы, поскольку многие законы я формулировал сам. Я — доктор юридических наук и в то время когда создавался Наполеоновский кодекс, я много раз спорил и дискутировал с его составителями, которые немало удивлялись моему знанию обсуждаемого предмета. Я также был единоличным автором многих лучших законов кодекса».
20 июня. Капитан Попплтон получил приказ от сэра Хадсона Лоу ответить ему «да» или «нет», использовав для этого сигнальную башню, на вопрос: были ли у генерала Бонапарта с адмиралом также и госпожа Малькольм, майор Бойс и капитан Джоунс.
Я узнал, что губернатор был явно недоволен тем, что капитан военно-морских сил повторил в лавке Соломона некоторые замечания Наполеона по поводу речи лорда Батхерста. Об этом эпизоде сэр Томас Рид доложил губернатору сразу же после того, как он произошёл. Дежурный офицер вновь подал докладную записку его превосходительству о качестве поставляемого в Лонгвуд хлеба, который был настолько плохим, что Наполеон ел вместо него бисквиты.
В «Колониальном доме» некоторое беспокойство вызвало заявление двух капитанов военно-морского флота о том, что они намерены предпринять определённые меры в отношении сэра Томаса Рида, которого они обвинили в использовании против них практики шпионажа, которая не оправдана ни их служебным положением, ни их поведением.
27 июня. Прибыл лорд Амхерст.
28 июня. Лорд Амхерст со свитой, сопровождаемый губернатором, нанёс визит графу и графине Бертран.
Наполеон обратил внимание на то, что воспитанность и манеры поведения губернатора ничем не отличаются от воспитанности и манер поведения тюремщика. «Когда он приехал с послом к Бертрану, — объяснил он, — то он всего лишь представил Бертрану лорда Амхерста и затем, не присев и не поговорив немного, как джентльмен, повернулся и ушёл. Он вёл себя как тюремщик или как тюремный надзиратель, который указывает посетителям на своих заключённых, затем запирает замок на ключ и оставляет посетителей с заключёнными. Приехав вместе с лордом Амхерстом, губернатор обязан был оставаться минут пятнадцать, а затем уже покинуть их».
3 июля. Адмирал Плэмпин, прибывший два дня тому назад на корабле «Победитель», посетил Лонгвуд вместе с капитаном Дэви (его флаг-капитаном) и со своим секретарём г-ном Эллиотом. Они были представлены Наполеону сэром Пультни Малькольмом.
Позже я встретился с Наполеоном, который отметил бросавшуюся в глаза разницу во внешности между сэром Пультни Малькольмом и его преемником. «Мало кто из мужчин, — сказал он, — обладает столь располагающей к себе внешностью и приятными манерами, как Малькольм; но его преемник напоминает мне одного из тех пьяных коренастых голландских шкиперов, которых я видел в Нидерландах, сидевших за столом с трубкой в зубах и с куском сыра и бутылкой джина на столе».
Вернувшись из города, я обедал с императором тет-а-тет в его кабинете. Он был в прекрасном настроении. Говорил о сэре Пультни и госпоже Малькольм; спросил меня, видел ли я нового адмирала; сделал несколько замечаний по поводу последних нападок на законность его титула императора. «В соответствии с доктринами, — заявил он, — выдвинутыми писаками вашего правительства по проблеме законности власти, то чуть ли не каждый трон в Европе должен быть потрясён до основания. Если бы я не был законным монархом, то тогда Вильям Третий был бы узурпатором трона Англии, так как его возвели на трон в основном с помощью иностранных штыков. Георг Первый был посажен на трон кликой, в которую входили несколько вельмож. Я же был призван на трон Франции голосами почти четырёх миллионов французов.
Фактически попытка назвать меня узурпатором является полнейшим вздором, от которой ваши министры, в конце концов, будут вынуждены отказаться. Если мой титул императора Франции не был законным, то тогда что можно сказать о Георге Третьем?»
Обед был сервирован на небольшом круглом столе. Император сидел на диване, а я напротив него на стуле. Я был очень голоден и отдал должное всему, чем меня угощали. Наполеон сказал, что хотел бы видеть меня выпившим. Он велел Маршану принести бутылку шампанского, из которой ему налили один бокал, а всё, что осталось в бутылке, Наполеон заставил меня допить, несколько раз приговаривая при этом по-английски: «Доктор, пейте, пейте».
4 июля. Сэр Пультни и госпожа Малькольм отплыли в Англию на фрегате «Ньюкасл».
Потеряв несколько страниц моего дневника, я был вынужден в основном полагаться на собственную память, чтобы поведать о нижеследующем. Та манера говорить, с которой капитан Лэм рассказывал всю историю, связанную с бюстом сына Наполеона, вместо того чтобы развеять подозрения в Лонгвуде, скорее убедила французов в том, что существовало предложение или, по крайней мере, был сделан намек отделаться от бюста или разбить его. Это подтвердили два капитана с недавно прибывших транспортных кораблей. Оба капитана посетили Лонгвуд и видели Наполеона в саду. Один из них, имя которого в настоящее время нет необходимости упоминать, лично заверил Наполеона и других жителей Лонгвуда в том, что он слышал, как капитан Лэм сказал, что ему был сделан намёк, подразумевавший, что бюст необходимо выбросить за борт корабля, что канонир, хранивший бюст, не должен покидать корабль и что обо всей истории с бюстом следует хранить полное молчание. Ранее мне удалось убедить Наполеона в том, что обвинение против сэра Томаса Рида было необоснованным, и я даже получил его разрешение сообщить этому офицеру об отношении Наполеона к возникшей проблеме. Молва об этой истории распространилась по всему острову, вызвав у его жителей живейший интерес.
Говорилось о том, что данный бюст был вылеплен в Легхорне по заказу императрицы Марии Луизы; что она отправила этот бюст своему супругу, используя посредничество канонира, как молчаливое, хотя и убедительное доказательство того, что её любовь к нему осталась неизменной. Наполеон, будучи чрезвычайно неравнодушным к императрице, склонялся к тому, чтобы верить этому предположению, которое само по себе было весьма вероятным и которое заставило его со всей страстью принять меры, чтобы убедиться в его правдивости. Чтобы добиться этого, он поручил графу Бертрану обратиться с просьбой дать разрешение канониру приехать в Лонгвуд. После ряда проволочек и утверждений о том, что этот человек болен, хотя всё это время его допрашивали под присягой в «Колониальном доме» и тщательно обыскивали, графу Бертрану, наконец, дали знать, что канониру разрешено поехать в Лонгвуд. Через несколько минут после его приезда к графу Бертрану, когда он только-только стал беседовать с графиней, в комнате появился капитан Попплтон. Капитан сообщил, что он получил приказ губернатора разрешить канониру говорить с кем-либо из французов лишь в его (капитана) присутствии.
Подобная процедура беседы в сочетании с явной неискренностью, продемонстрированной канониром, была расценена как оскорбление и канониру было предложено немедленно удалиться.
Через три дня после приезда лорда Амхерста я имел честь обедать с ним в его компании в «Колониальном доме». Так как я потерял страницы моего дневника, посвящённые описанию этого случая, то лишь изложу, полагаясь на память, суть того, что я высказал его светлости, а именно, «что я считал себя обязанным информировать его о том, что, если он поедет в Лонгвуд, имея в виду встречу с Наполеоном, но в сопровождении губернатора или кого-нибудь из его штаба, то его определённым образом будет ждать отказ от этой встречи; что, хотя такой отказ совсем не входит в намерения Наполеона, подобный оборот событий может быть истолкован лицами из губернаторского штаба, да и его светлостью, как оскорбление. Во всяком случае желательно этого избежать. Если же его светлость приедет в Лонгвуд только в сопровождении штаба, то я не сомневаюсь, что он будет принят Наполеоном. Правда, при условии, что он к этому времени будет достаточно здоров, так как в настоящее время он простужен и у него опухла щека».
Его светлость с признательностью поблагодарил меня за данный ему совет.
В конце июня или в начале июля граф Бертран нанёс визит лорду Амхерсту, сообщив ему, что Наполеон в течение нескольких дней был нездоров и что в настоящее время у него разболелись зубы. Однако граф Бертран добавил, что если император будет в состоянии принимать гостей до отъезда его светлости, то он примет его. В соответствии с этим, 2 июля его светлость проследовал в Лонгвуд, сопровождаемый своей свитой и капитаном Маррей Максвеллом, командовавшим его величества кораблём «Алкеста», погибшим во время последней войны. Примерно в три часа тридцать минут Наполеон принял посла, с которым оставался наедине почти два часа. Прежде чем покинуть Лонгвуд, его светлость представил Наполеону членов своей свиты, а также капитана Максвелла. С каждым из них Наполеон немного побеседовал. Г-н Эллис, секретарь посла, разговаривал с императором около пятнадцати минут.
Капитану Максвеллу Наполеон рассказал, что в 1811 году у острова Лисса в Адриатическом море он потерял фрегат, что вполне достаточно компенсирует гибель «Алкесты». Г-ну Гриффитсу, капеллану, император также задал несколько вопросов и в шутливом тоне порекомендовал ему оказывать покровительство его светлости.
9 июля. Графу Бертрану для Наполеона были присланы несколько упаковок и ящиков, содержавших великолепный набор шахматных фигур и шахматный столик, две элегантные корзинки для рукоделия, вырезанные из слоновой кости, а также набор фишек в коробке из слоновой кости. Все эти предметы были китайского производства. К этим вещам было приложено письмо, из которого явствовало, что все эти вещи были сделаны по заказу почтенного г-на Эльфинстоуна для того, чтобы подарить их выдающейся личности, инициалы которой были выгравированы на каждой вещи. Эти подарки были сделаны Наполеону в знак благодарности, выражаемой дарителем за проявленное им чувство исключительной гуманности, которая стала причиной спасения жизни его любимого брата[30]. Вместе со всеми этими вещами от сэра Хадсона Лоу пришло письмо, в котором сообщалось, что когда он за два дня до оправки этих вещей обещал графу Бертрану, что они будут посланы в Лонгвуд, то он тогда ещё не знал, что при вскрытии упаковок и ящиков он обнаружит нечто нежелательное, что, в соответствии с точным выполнением имеющихся у него инструкций, должно было помешать направлению всех этих вещей в Лонгвуд.
Как выяснилось, на подарках была выгравирована буква N, увенчанная короной. Это обстоятельство губернатор посчитал чрезвычайно нежелательным и опасным. Капитану Хивайсайду, который привёз подарки из Китая и который получил разрешение посетить Лонгвуд вскоре после прибытия на остров, было приказано губернатором хранить полное молчание об этом обстоятельстве при общении со всеми французами.
Вечером Наполеон осмотрел все эти подарки, которые ему очень понравились, и выразил намерение послать корзинки для рукоделия императрице Марии Луизе, набор фишек с коробкой — своей матери, а набор шахматных фигур с шахматным столиком — сыну.
11 июля. Встретился с Наполеоном в его кабинете. Во время нашей беседы обсуждалась тема короля Испании Фердинанда и барона Колли. «Колли, — рассказал Наполеон, — был обнаружен полицией благодаря его вечному пристрастию к бутылке хорошего вина, которая так плохо сочеталась с его грубой одеждой и с его очевидной бедностью. Это несоответствие вызвало подозрение среди некоторых шпионов. Он был арестован, его обыскали и у него отобрали его бумаги. Среди отобранных у него бумаг нашлось письмо от NN, предлагавшего ему совершить побег и обещавшего ему всяческую поддержку. Тогда одного полицейского агента переодели в одежду Колли, проинструктировали его, как ему выдавать себя за Колли, и отправили с бумагами Колли к Фердинанду. Однако Фердинанд не стал пытаться осуществить побег, хотя у него не вызвала подозрений уловка полиции. Находясь в Байонне, я предложил дать ему разрешение вернуться в Испанию, однако при этом информировал его, что, как только он вернётся в свою страну, я сразу же объявлю ему войну. Фердинанд отказался вернуться в Испанию, если я не обеспечу ему мою защиту.
Для того чтобы он подписался под своим отречением от трона, к нему не применялись ни сила, ни принуждение. В то время он даже не находится под стражей. С ним были его друзья и его вельможи в том составе, в котором он считал нужным. Если бы с ним обращались так, как обращаются со мной на этом острове, — продолжал Наполеон, — то ход событий был бы совершенно иным. Если бы даже ваш принц-регент сейчас предложил мне прибежище в Англии при условии, что я откажусь от трона Франции, признаю себя военнопленным и подпишу соответствующий договор, то я предпочту остаться здесь, на острове, хотя я уже отрёкся от трона и условие об отречении от трона не повлечёт за собой никаких последствий. Я никогда не подпишу договор, который подтвердит, что несправедливое решение английского парламента содержать меня как военнопленного в мирное время было законным. Я с удовольствием соглашусь с договором, который предусматривал бы, что я не должен покидать ту часть Англии, где мне бы предстоит жить, что я не должен заниматься политикой и что я обязан подчиняться определённым ограничениям.
Более того, я бы желал принять гражданство Англии. В моей политике я стремился достигнуть две великие цели. Во-первых, я хотел восстановить королевство Польши, чтобы воздвигнуть барьер против русских и тем самым спасти Европу от этих северных варваров. Во-вторых, я хотел изгнать Бурбонов из Испании, ввести там конституцию, которая позволила бы сделать страну свободной, вышвырнуть из неё инквизицию, предрассудки, монахов, феодальные права и привилегии. Эта конституция дала бы возможность любому человеку со способностями занимать первые посты в королевстве независимо от его происхождения. Испания мне практически была не нужна с теми глупцами, которые правили ею. Кроме того, я выяснил, что они подписали секретный договор, чтобы предать Францию. Имея во главе страны активное правительство, Испания могла бы использовать против Англии те огромные ресурсы, которыми она обладает, с такой силой, что вы были бы вынуждены пойти на заключение мира, в соответствии со свободными либеральными мореходными правами. Мне также не нравилось иметь подле себя семью врагов, особенно после того, как я узнал об этом секретном договоре. Я стремился покончить с Бурбонами: они в той же степени хотели расправиться со мной.
При условии, что Бурбоны будут изгнаны, не имело никакого значения, будет ли посажен на испанский трон мой брат или его займёт кто-либо из другой семьи. Через тридцать или сорок лет родственные связи ничего не будут значить, когда во главе угла стоят интересы королевства.
Фокс, — заявил Наполеон, — был искренен и честен в своих намерениях. Если бы он был жив, то тогда бы наступил мир, и Англия была бы довольной и счастливой. Фокс знал, в чём именно заключаются истинные интересы вашей страны. В каждом городе Франции, через который он проезжал, его встречали с большой радостью. Повсюду, как только его узнавали, местные жители стихийно устраивали празднества в его честь. Ему должно быть было очень приятно, что его принимали так тепло в стране, которая долгое время находилась во враждебных отношениях с его страной, особенно когда он видел, что народ проявляет к нему самые искренние чувства. Питта, вероятно, убили бы. Мне нравился Фокс и я любил беседовать с ним. Произошёл один случай, хотя он и оказался совсем неожиданным, но Фокс был им очень польщён. Поскольку я оказывал ему всяческое внимание, то он во все мои дворцы имел свободный доступ.
Однажды вместе со своей семьёй он отправился осмотреть Сен-Клу, в котором располагался мой личный кабинет. Этот кабинет был некоторое время закрыт, и он никогда не показывался иностранцам. Совершенно случайно Фокс и его супруга открыли дверь кабинета и вошли внутрь. Там они увидели бюсты нескольких великих людей, в основном патриотов, таких как Сидней, Хэмпден, Вашингтон, Цицерон и других. Среди этих бюстов супруга Фокса, опознав его бюст, воскликнула: «Дорогой, это же твой бюст!» Этот маленький инцидент, хотя незначительный и случайный, стал известен всему Парижу и снискал Фоксу большое уважение. Всё дело было в том, что когда-то я решил собрать коллекцию бюстов самых великих людей всех стран мира, наиболее известных за их заслуги перед человечеством. Я не восторгался ими меньше только потому, что они были врагами Франции, и фактически я приобретал бюсты самых злейших врагов Франции, например, бюст Нельсона. Позднее я отказался от этой затеи в силу обстоятельств, которые лишили меня возможности уделять время коллекционированию бюстов.
Было бы очень простым делом, — продолжал Наполеон, — сблизить французов и англичан, чтобы они стали добрыми друзьями и любили друг друга. Французы всегда уважали англичан за их национальный характер, а там, где существует уважение, то вскоре следует и любовь, если принимаются надлежащие меры. Французы и англичане очень родственны. Сам я нанёс немало вреда Англии и раздумывал о том, чтобы нанести его ещё больше, но я никогда не прекращал уважать вас. Тогда я был гораздо лучшего мнения о вас, чем сейчас. Я полагал, что в Англии гораздо больше свободы, гораздо больше независимости личности и гораздо больше великодушия, чем на самом деле. Если бы я так не думал, то я никогда бы не решился сделать тот шаг, который я сделал».
Я спросил его, какого он придерживается мнения о лорде Витворте. «Человек он ловкий, типичный интриган, — ответил Наполеон, — насколько я мог судить о нём. Он искусен, этот красавец мужчина. У ваших министров нет оснований жаловаться на него, так как он хорошо служит им. Сообщение, которое было опубликовано вашими министрами о его беседе со мной, полно лжи. Я не прибегал к никаким грубым манерам или к непристойному языку в беседе с ним. Послы не могли скрыть своего удивления, когда они прочитали такое неправильное толкование моей речи, и они открыто объявили сообщение ваших министров неприглядной ложью. Его супругу, герцогиню Дорсетскую, терпеть не могли англичане, проживавшие в Париже. Они говорили во всеуслышание, что она спесивая дура. Между ею и многими английскими дамами возникало немало трений по поводу представления последних императорскому двору. Она отказывалась представлять тех, кто ранее не был представлен Сент-Джеймскому двору в Лондоне. И вот оказалось, что было много ваших соотечественниц, которые или не были, или не могли быть представлены тому двору, но которые страстно желали быть представленными мне, однако в этом им было отказано ею и её супругом Это вызвало большую неприязнь к этой паре. По той же самой причине англичане в Париже испытывали неприязнь и к г-ну Мерри, поверенному в делах Англии во Франции. Некоторые из английских дам открыто угрожали отхлестать его, в связи с чем он обратился ко мне с просьбой защитить его от его же соотечественниц».
Наполеон затем рассказал о том благородном поступке со стороны Фокса, когда тот поставил его в известность о готовящемся на него покушении. Этот великодушный поступок Наполеон не мог не сравнить с тем обращением, которому он подвергается в настоящее время, и с попытками покушения на его жизнь со стороны негодяев, оплаченных NN в 1803 году и высаженных на берег Франции британскими военнослужащими. Наполеон также упомянул о том, что его убийство рассматривалось английскими правительственными газетами того времени как поступок, заслуживающий всяческой похвалы.
Затем Наполеон рассказал мне несколько историй, связанных с генералом Вюрмсером. «Когда я командовал осадой Мантуи, — стал рассказывать он, — незадолго до того, как сдалась эта крепость, в плен был взят один немец, который пытался пробраться в город. Солдаты заподозрили, что он был шпионом, и стали обыскивать его, но ничего в его одежде не нашли. Тогда они принялись угрожать ему на французском языке, которого он не понимал. В конце концов привели одного француза, который немного понимал по-немецки. Он пригрозил пленнику на плохом немецком языке смертью, если тот немедленно не расскажет всё, что знает. Он сопровождал свои устные угрозы яростными жестами, выхватил из ножен саблю, приставил её кончик к животу пленника и сказал, что начнёт вспарывать его. Бедный немец, испуганный до смерти и толком не понявший ломаный жаргон, на котором говорил французский солдат, решил, что его секрет раскрыт, когда он почувствовал, что сабля француза упирается в его живот. Он закричал, что незачем выпускать наружу его кишки, так как если они подождут несколько часов, то получат то, что ищут, благодаря вмешательству природы. Этот крик души пленника привёл к дальнейшему его допросу с пристрастием. В результате он признался, что — австрийский курьер, который был направлен к Вюрмсеру с письменным донесением, которое он проглотил, когда осознал опасность того, что будет взят в плен.
Он был немедленно доставлен в мою штаб-квартиру, и я послал за врачами. Предложили дать ему слабительное, но врачи заявили, что было бы лучше подождать, когда сама природа сделает своё дело. Его, соответственно, заперли в отдельном помещении под присмотром двух штабных офицеров, один из которых постоянно оставался с ним. Через несколько часов желаемый предмет был обнаружен. Этот предмет был завёрнут в воск и по размеру был не больше лесного ореха. Когда его развернули, то оказалось, что это было донесение императора Франца, собственноручно им написанное, генералу Вюрмсеру. Император желал генералу доброго здоровья, просил продержаться ещё несколько дней и сообщал, что ему на помощь послано большое войско, которое движется в таком-то направлении под командованием Альвинци.
Узнав об этом, я с большей частью своих войск, осаждавших Мантую, походным маршем направился к указанной в донесении императора Франца дороге, встретил Альвинци у переправы через реку По, полностью разгромил его и вернулся к осаде крепости. После этого Вюрмсер послал ко мне генерала NN с предложением о переговорах об эвакуации крепости. Вюрмсер сообщил, что, хотя у его армии имелось провизии ещё на четыре месяца, он готов сдать крепость на почётных условиях. Я ответил ему, что на меня произвело большое впечатление мужество, с которым он защищал крепость, что я придерживаюсь высокого мнения о нём и готов принять его капитуляцию на почётных условиях, хотя я и знал, что у него провизии осталось не более, чем на троё суток. На самом деле я принял все условия капитуляции, которые выставил Вюрмсер. Он был весьма удивлён тем, что в моём распоряжении находилась достоверная информация о плачевном состоянии его войск, и ещё более — выгодными условиями его капитуляции, предложенными мною, учитывая, что мне было известно его бедственное положение. Всем этим Вюрмсер был весьма тронут и с тех пор относился ко мне с большим уважением. После того как мы согласовали основные пункты условий капитуляции крепости, я направил в город офицера, который выяснил, что провизии у австрийского гарнизона осталось всего лишь на один день.
Ранее Вюрмсер, бывало, называл меня мальчишкой. Он был очень стар, отличался храбростью, как лев, но был практически глухим и не слышал свиста пушечных ядер, летавших вокруг него. Он хотел, чтобы я вошёл в Мантую после нашего соглашения о его капитуляции, но я посчитал за лучшее остаться там, где я был. Кроме того, я был обязан выступить с походом против войск папы римского, с которым у меня было заключено соглашение, но которое он потом нарушил. Позже Вюрмсер спас мою жизнь. Когда я направлялся в Римини, меня догнал курьер с письмом от Вюрмсера, который сообщал мне о плане моего отравления и о месте, где это должно произойти. Попытка моего отравления, подготовленная канальями священниками, должна была быть осуществлена в Римини. По всей вероятности, эта попытка увенчалась бы успехом, если бы не эта информация Вюрмсера. Вюрмсер, как и Фокс, поступил благородно».
Наполеон затем рассказал мне о тех мерах, которые он принимал для своей армии во время осады Мантуи, чтобы предохранить солдат от болезней в той нездоровой местности. Одна из этих мер заключалась в том, что он приказал всю ночь жечь костры, обязав солдат держаться около них. Он также рассказал о мерах, которые он предпринимал в Яффе. «После штурма крепости, — сказал он, — до наступления ночи было просто невозможно восстановить какую-либо дисциплину. Разъярённые солдаты устремились по улицам города в поисках женщин. Вы же знаете, что это за люди эти турки. Несколько турок продолжали стрелять на улицах. Солдатам это только и нужно было. Всегда, когда раздавался выстрел, они кричали, что их обстреливали из того или другого дома, и немедленно разбивали двери, врывались внутрь и насиловали всех женщин, которых там находили. Контакт с местными женщинами, сопровождаемый грабежом женских мантилий и других предметов турецкой одежды, вызвал заболевание чумой среди солдат. На следующий день я отдал приказ, чтобы все солдаты принесли на городскую площадь награбленные ими предметы одежды и предали их огню. Но болезнь уже распространилась. Я распорядился, чтобы больных немедленно отправили в госпитали, где заражённые чумой были помещены в отдельные от всех больных помещения. Какое-то время мне удавалось убеждать войска, что заболевшие чумой страдают от разновидности лихорадки, сопровождаемой бубонами. Для того чтобы окончательно убедить их в этом, я на глазах многих присутствовавших подошел к кровати с больным чумой и коснулся его руками. Мой поступок произвёл большой эффект среди солдат, у которых значительно поднялось настроение, и даже некоторые врачи, покинувшие больных, вернулись, пристыженные, к своим обязанностям. Посоветовавшись с медиками, я приказал, чтобы были вскрыты те бубоны, которые еще не подверглись гниению.
До того как я отдал этот приказ, я провёл этот эксперимент с определённым числом больных чумой. Одновременно такое же число больных лечили обычными методами. В результате выяснилось, что большинство больных из первой группы вылечились».
17 июля. В городе встретился с сэром Хадсоном Лоу, который пребывал в очень плохом настроении. С ним у меня состоялась беседа, часть которой оказалась малоприятной. Он заявил, что, как выяснилось, я не воспользовался достаточно убедительными аргументами для того, чтобы вывести из заблуждения генерала Бонапарта, и потому он будет писать лорду Батхерсту о том, что всё то время, когда из англичан только адмирал Малькольм и я общались с генералом Бонапартом, последний оставался в полном неведении относительно истинных причин его (губернатора) поведения.
Я доложил его превосходительству, что сэр Пультни Малькольм делал всё в его силах, чтобы добиться примирения двух враждующих сторон и урегулировать возникшие проблемы. В дополнение к этому адмирал пытался всеми средствами оправдать его (сэра Хадсона) и преуспел в этом до такой степени, что вызвал этим явное неудовольствие Наполеона. Что же касается непосредственно меня, то я принимал все меры, чтобы поддержать адмирала. Я также сказал его превосходительству, что если бы капитан Лэм согласился дать письменное заявление о лживости обвинения в отношении предполагаемого предложения разбить бюст сына Наполеона, то такое заявление заставило бы самым эффективным образом замолчать все клеветнические утверждения. Сэр Хадсон Лоу ответил мне: «Я сужу, опираясь на факты, сэр. Вероятнее всего, вы не выразили должного возмущения по поводу того, что генерал Бонапарт говорил и делал. Вам следовало сказать ему, что он виновен в совершении дурного поступка!»
Его превосходительство затем заявил, что Наполеон заставил Бертрана написать ему, губернатору, самое дерзкое письмо[31] из всех тех, которые ему когда-либо приходилось получать. Оно касалось переданных Наполеону шахматных фигур. Другое письмо от Бертрана, столь же дерзкое, предназначалось для канонира корабля «Бэеринг»; за такое письмо губернатор имел право выслать генерала Бертрана с острова. Затем губернатор пожелал, чтобы я заявил генералу Бонапарту, что он послал за мной для того, чтобы выяснить, кто был автором лживых слухов о том, что канониру, привезшему с собой бюст сына Наполеона, запретили выходить на берег и продавать свои товары, в связи с чем он понёс большие материальные потери и, к тому же, подвергался дурному обращению. Также что он был очень удивлён резким тоном полученного им последнего письма, тем более что подобного письма он не получал с тех пор, как прибыл на остров.
18 июля. Встретился с Наполеоном, которому я передал порученное губернатором устное сообщение. Наполеон ответил, что канонир сам рассказал госпоже Бертран, что в течение нескольких дней ему запрещали выходить на берег, в результате чего он был вынужден продать свои скромные товары Соломону и другим лавочникам за полцены[32] и поэтому понёс значительные материальные потери.
«Мне сообщили, и я этому верю, — продолжал император, — что дурное обращение с канониром было вызвано тем, что он привёз с собой бюст моего сына. Губернатор выразил удивление по поводу резкого тона посланных ему писем. Мне нет дела до его капризов. Он говорит, что в соответствии с действующими установленными инструкциями он имел право не присылать мне те подарки. Так где же находятся эти инструкции? Я никогда не видел их. Если это новые инструкции, то пусть они будут обнародованы. Мне никогда не приходилось слышать, что из-за того, что игрушки увенчаны короной, они подлежат запрету. Я протестую против всех ограничений, с которыми меня не ознакомили до того, как они стали действовать. Если следовать тексту речи лорда Батхерста, то губернатор не имеет права вводить новые ограничения.
Если бы он не сказал, что протестует против короны, то мы просто посмеялись над этим. Но нет. Он должен колоть меня шпилькой, ссылаясь на неведомые инструкции, и намекать на то, что я нахожусь в неоплатном долгу перед его добротой. Человек может привыкнуть к темнице, к цепям на ногах и руках, но к капризам другого привыкнуть он не может. Я не хочу получать от него никаких поблажек. Вероятно, он хотел бы, чтобы я каждый день писал ему благодарственные письма за то, что еще дышу воздухом. Этот человек меня ежедневно убивает; и затем он желает, чтобы я благодарил его за это. Он напоминает мне немецкого палача, который со всей силой колотит палкой несчастного страдальца и при каждом ударе успевает сказать: «Извините, господин, за то, что я позволяю себе слишком много».
Я спросил Наполеона, какой ответ я должен дать губернатору. «Скажите ему, — заявил Наполеон, — что я не обязан отчитываться перед своим палачом».
Наполеон попросил меня передать губернатору этот ответ, который, как он заявил, должен будет убедить его в том, что на самом деле думает Наполеон о его личности.
После этого Наполеон сказал мне, что он информировал лорда Амхерста о том, как с ним обращаются здесь, на острове. «Посол, — сказал Наполеон, — заявил, что подобное отношение к узнику на острове Святой Елены не было предусмотрено принятым законопроектом, так как законопроектом не ставилась цель ухудшить мое положение в качестве пленника, но, наоборот, улучшить его. Он сказал, что примет надлежащие меры, чтобы довести до сведения принца-регента, лорда Ливерпуля и лорда Батхерста все те протесты, которые я выразил ему. Он попросил моего разрешения передать губернатору то, о чём я рассказал ему. Я, конечно, дал на это моё согласие. Я сообщил ему, что, насколько мне известно, губернатор показывал ему ту новую дорогу, которую он сделал. Но я полагаю, что губернатор не сообщил ему, что я не имею права съезжать в сторону с этой дороги и не могу заходить в дома вдоль неё, и что ранее существовал запрет, лишавший меня права разговаривать со встреченными мною лицами, когда я совершал прогулку по этой дороге. Услыхав это, посол был явно шокирован. Он предложил, чтобы я встретился с губернатором. Я ответил, что «ни ваш принц-регент, ни обе палаты вашего парламента не смогут заставить меня встретиться с моим тюремщиком и моим палачом. Человека делают тюремщиком не его привычки, а его манера поведения и его нравы».
Я сообщил послу, что губернатор довёл возникшие проблемы до такой крайности, что, для того чтобы ничего не оставить в его власти, я должен был уединиться в своей комнате в ожидании того, что он выставит часовых вокруг дома. Я лишил губернатора возможности предпринять что-либо новое против меня, за исключением того, что он мог бы нарушить моё уединение, но в этом случае ему пришлось бы перешагнуть через мой труп[33]. Я не покончу с собой, но буду торжествовать, когда меня будет убивать англичанин. Вместо того, чтобы отступить, это станет моим утешением во время последних минут жизни».
Император закончил свою речь тем, что сказал мне, что он не возражает против того, чтобы губернатор был ознакомлен с его настроением, которым он поделился со мной.
19 июля. Отправился в город, получив вызов от сэра Хадсона Лоу. Я повторил ему то устное сообщение, которое он приказал мне передать Наполеону. Свой ответ его превосходительство начал с того, что стал отрицать, что он давал мне указание сказать Наполеону, «что он, губернатор, был удивлён резким тоном двух последних писем, полученных им». Затем губернатор, бросив на меня яростный взгляд, заявил: «Высказывания генерала Бонапарта всё больше и больше, сэр, убеждают меня в том, что не были приняты достаточные меры для того, чтобы он полностью понял моё отношение к нему. Передайте ему, — продолжал он далеко не самым сдержанным тоном, — что я, чтобы показать, что не боюсь что-либо сообщать в Лондон, передам всё, что он говорит, непосредственно самим министрам».
Потом губернатор потребовал от меня, чтобы я передавал ему всё, что было мне поручено. Когда я перешёл к той части рассказа, когда Наполеон (описывая то, что Наполеон говорил лорду Амхерсту) заявил, «но я полагаю, что губернатор не сказал ему, что мне не разрешено покидать дорогу», то его превосходительство, чье выражение лица я даже и не пытаюсь описать, вскочил с кресла и в состоянии высшей степени ярости, которая значительно затрудняла его дикцию, воскликнул: «Это ложь! Это ложь! Я говорил ему об этом». Когда губернатор смог вновь более или менее членораздельно говорить, он в резкой форме отчитал меня за то, что я не стал опровергать утверждение Наполеона, а также за то, что я не проявил достаточного энтузиазма в его защиту. После того, как губернатор несколько усмирил свою ярость, я возразил ему, сказав, что, насколько мог, я пытался выступить в его защиту. Но, добавил я, не думаю, что губернатору следует удивляться тому, что у него сложились плохие отношения с Наполеоном, учитывая те значительные изменения, которые возникли в положении последнего со времени прибытия губернатора на остров. Причём все эти изменения имеют тенденцию становиться все более неприятными.
После этого моего заявления последовала продолжительная дискуссия, во время которой я перечислил его превосходительству некоторые из введенных им ограничений. Среди прочих я упомянул то, которым он запретил Наполеону разговаривать со встреченными незнакомыми людьми. Выслушав меня, губернатор вновь пришёл в ярость, настаивая на том, что это не было запрещением, но всего лишь просьбой; что это не его вина, что генерал Бонапарт предпочёл не выезжать на прогулку. Я позволил себе смелость задать губернатору следующий вопрос: «Поставьте себя, сэр, на место Наполеона.
Разве вы воспользовались бы разрешением выезжать на прогулку с учётом тех ограничений, которые навязаны ему?» Его превосходительство отказался отвечать на этот вопрос, который он воспринял как оскорбление, нанесённое лично ему, а также в его лице губернатору и представителю его величества.
Затем губернатор пожелал, чтобы я высказал свою точку зрения относительно речи лорда Батхерста. Я подчеркнул, что многие позиции, занятые его светлостью, расходятся с правдой. Выслушав моё мнение, его превосходительство не стал сдерживать сильнейшего раздражения по поводу того, что я позволяю себе говорить столь свободно о речи одного из государственных секретарей его величества. Он сказал, что, судя по всему, выступаю в роли адвоката французов, что никто на острове не придерживается подобной точки зрения и не посмел бы высказать её и т. д. Губернатор закончил своё заявление тем, что сообщил мне, что «в будущем мне не разрешается вести с генералом Бонапартом какие-либо беседы, за исключением сугубо профессиональных, врачебных проблем». Губернатор приказал мне приезжать в город каждый понедельник и каждый вторник, чтобы докладывать о состоянии здоровья генерала Бонапарта и о его поведении.
21 июля. Вновь провёл беседу с сэром Хадсоном Лоу, характер которой мало отличался от предыдущей. Произошёл долгий и малоприятный разговор, которым я не буду утомлять читателя, а лишь скажу, что я попросил губернатора освободить меня от обязанностей врача Наполеона.
24 июля. Отправился в город в соответствии с приказом сэра Хадсона Лоу. Его превосходительство заставил меня перенести допрос в присутствии сэра Томаса Рида и майора Горрекера, во время которого губернатор был вновь весьма раздражён, поскольку моё мнение не совпадало с его точкой зрения.
Понимая, что сэр Хадсон Лоу в какой-то мере возлагает на меня ответственность за все поступки Наполеона и за его высказывания и пользуется каждой возможностью, чтобы изливать на меня своё плохое настроение, которое он не может лично перенести на своего пленника, и полагая, что все надежды на примирение враждующих сторон исчезли с отъездом адмирала Малькольма, а мои попытки смягчить положение узника оказались бесполезными, я принял решение ограничить себя, насколько это возможно, только моими медицинскими обязанностями. Одновременно я решил избегать всех ненужных контактов с человеком, который может позволить себе безответственное поведение, оскорбляя младшего офицера.
2 августа. Как обычно, отправился в город, чтобы доложить о состоянии здоровья Наполеона.
Вернувшись в Лонгвуд, встретился с Наполеоном, который рассказал, что в газетах прочитал несколько отрывков из книги, написанной герцогом Ровиго. В книге приводились некоторые детали относительно ряда обстоятельств, связанных с Пишегрю, Райтом и т. д. Наполеон сокрушался по поводу кончины Реаля[34], заметив, что «Савари и Реаль были теми людьми, особенно Реаль (в то время герцог Ровиго ещё не вошёл полностью в курс дела, что не позволяло ему лично знать об обстоятельствах, касавшихся двух вышеупомянутых лиц), которые, благодаря своему роду занятий, знали имена тюремщиков, надзирателей, жандармов и других сотрудников полиции и могли сказать: «такой-то человек на месте, давайте проверим его. Возможно, он сейчас находится на службе короля». Занимая высокое положение, я мог ничего не знать о таких подробностях. Савари, — продолжал Наполеон, — пишет об обстоятельствах, которые абсолютно достоверны, и, судя по всему, он сохранил тот порядок следовавших событий, о которых писал я. Он так же точно приводит некоторые мои выражения. Мне не хотелось, чтобы об этом упоминалось открыто, так как это слишком затрагивало родственника моего сына. Я не хотел, чтобы стало известно о том, что человек, так близко связанный с ним одной кровью, мог быть способным предложить столь ужасный поступок, как это сделала Каролина. Предполагалось совершить вторую «Сицилийскую вечерню»: устроить резню всей английской армии и всем англичанам в Сицилии. Всё это она предлагала осуществить при условии, что я поддержу её и окажу ей помощь, после того как все будет сделано. Я заключил в тюрьму агента, имевшего письмо с этим предложением. Он оставался в тюрьме вплоть до того времени, когда меня сослали на Эльбу. Его должны были найти среди других заключённых в тюрьме для государственных преступников[35]. Я был намерен, как только я заключу мир с Англией, отправить этого агента вашим министрам для проведения допроса».
10 августа. Обсудил с Наполеоном сообщение, опубликованное одной из газет, относительно его ссылки на Мальту. Наполеон не поверил этому сообщению, отметив, что в Англии он принёс бы меньше беспокойства, чем на Мальте. Наполеон обратил внимание на неразумную политику губернатора, который своим обращением с ним сделал его (Наполеона) объектом всеобщей симпатии в Европе. «Подобное обращение со мной, — продолжал он, — вызовет сильнейшее возмущение. Ничто не могло бы так резко повлиять на потерю уважения к Англии со стороны других стран. Оно подкрепит эти страны в их низком мнении о вашем правительстве, а эмигранты, вернувшись из Англии, будут способствовать этому. Они вернутся, переполненные чувством ненависти к вашим министрам, которых они обвиняли в чрезвычайной скупости по отношению к ним, когда эти министры не брезговали опускаться до самого мелочного подсчёта их нищенского содержания. Конечно, ваши министры снабжали эмигрантов деньгами, но достаточными лишь для того, чтобы те не умерли от голода. Эмигранты пребывали бы в самом жалком состоянии, если бы не щедрость со стороны некоторых частных лиц, которым они позволяли проявлять величайшее великодушие.
Императоры Австрии и России, а также король Пруссии, — добавил он, — все трое говорили мне, что я глубоко заблуждался, когда верил тому, что они получали большие субсидии от Англии. Они утверждали, что на самом деле они никогда не получали больше половины той суммы, которую номинально они предполагали получить, из-за того, что удерживались деньги за перевозку грузов, за содержание скота в загоне и за ряд других предоставлявшихся услуг. Нередко большая часть субсидий выдавалась в виде товаров. Эти монархи были весьма недовольны поведением ваших министров. И я, не без оснований, склонен им верить.
Здесь, на острове, из-за скандальной скупости ваши министры противоречат собственной идее, которая заключалась в том, чтобы, по возможности, меньше говорили обо мне, в результате чего меня должны были все забыть. Но плохое обращение со мной и этот губернатор заставили всю Европу говорить обо мне. Губернатор ранее считал, что то, что происходит здесь, не будет известно в Европе. Он с таким же успехом мог бы попытаться затенить лучи солнца своей шляпой. По-прежнему в Европе есть миллионы людей, которые интересуются мной. Если бы ваши министры поступали мудро, то они бы предоставили мне полную свободу действий. Тогда бы это приукрасило скверный поступок ваших министров, не было бы столько жалоб с моей стороны и, в конце концов, с такими людьми, как Кокбэрн и Малькольм, моё пребывание здесь обошлось бы Лондону не более 15 или 16 тысяч фунтов стерлингов в год. Но у этого человека отвратительные манеры, коварный ум и злое сердце. Кокбэрн, по крайней мере, поступает прямо и искренне. Но этот человек, этот англичанин, о, Боже мой! Природа создала его злобным тюремщиком. Тот заместитель министра, несомненно, заявил лорду Батхерсту: «Я нашёл вашего человека!» У меня нет никаких сомнений в том, что NN был намерен сначала за счёт жестокого обращения заставить всех французов из моего окружения покинуть остров, а затем или вынудить меня покончить с собой, или полностью подчинить себе.
Если бы императоры Австрии и России, — продолжал Наполеон, — предложили мне деньги, то я бы не принял их. Я имел глупость отдаться в руки Джона Булля, и я обязан проглотить любую пилюлю, которую они могут приготовить для меня».
В ответ на моё скептическое замечание относительно правильности его предположения о вероятных намерениях тех, кто послал его на остров Святой Елены, Наполеон заявил: «Доктор, человек должен быть глупее последнего болвана, если он не понимает, что меня сослали сюда для того, чтобы покончить со мной.
Если бы я находился в Англии, — добавил Наполеон, — то я бы принимал очень мало посетителей и никогда бы не обсуждал политические темы: здесь я это делаю потому, что я нахожусь здесь, и потому, что со мной дурно обращаются. В Англии я бы занимался тем, что вёл бы спокойный образ жизни, иногда наслаждался обществом учёных, время от времени совершал прогулки верхом и затем читал книги и заканчивал историю моей жизни, а также воспитывал своего сына. Здесь недостаток книг сильно задерживает мою работу».
Наполеон сообщил мне, что губернатор прислал ответы на письма, которые были написаны о китайских вещах и о канонире; но он дал указание Бертрану не приносить их ему, пока он сам не попросит их.
Видел его ответ на речь лорда Батхерста, который начинался следующими словами: «Законопроект английского парламента не является ни законом, ни судебным решением» и продолжался сравнением законопроекта с изгнанием из Древнего Рима Суллы и Мариуса, «также справедливым, также необходимым, но весьма варварским», что Сулла и Мариус писали свои декреты «остриём своих ещё окровавленных мечей»; но законопроект английского парламента был написан в мирное время и был санкционирован верховной властью великой страны.
11 августа. Вновь сообщил сэру Хадсону Лоу (две недели тому назад я уже упоминал ему об этом), что Наполеон хотел бы, чтобы сад у его дома был очищен от солончака и молочая, которым в настоящее время он весь зарос, а вместо молочая освободившаяся площадь была засеяна травой или ячменём, чтобы из окна он мог смотреть на что-нибудь зеленое и видеть, как что-то растёт перед его глазами. И если это не будет сделано в течение ближайших двух недель, то сезон, когда что-то можно посеять, уже закончится. Его превосходительство ответил, что он навестит Лонгвуд через пару дней.
14 августа. Вчера отправился в «Колониальный дом» в соответствии с указанием губернатора о том, что я должен ездить в город по вторникам и субботам, а не по понедельникам и четвергам. Губернатор, задав мне несколько вопросов, напомнил, что я во время одной из последних бесед с ним упомянул о том, что генерал Бонапарт сообщил мне, что, беседуя с лордом Амхерстом, он высказал своё отношение к губернатору. Сэр Хадсон пожелал, чтобы я повторил то, что сказал о нём генерал Бонапарт. Хотя я предвидел последствия того, что скажу, но я не считал себя вправе отказать в просьбе губернатора, тем более что Наполеон разрешил мне передать его слова губернатору. Всё же я заранее предупредил губернатора, что слова Наполеона могут вызвать у него приступ гнева. Только после этого я повторил то, что сказал Наполеон, а именно: «Ни ваш принц-регент, ни обе палаты вашего парламента не смогут заставить меня встретиться с моим тюремщиком и моим палачом. Человека делают не его привычки, а его манера поведения и его нравы».
Несколько минут сэр Хадсон Лоу прохаживался по комнате с весьма рассерженным видом и затем попросил меня объяснить ему, что заставляет генерала Бонапарта так говорить. Я ответил, что я не властен давать подобные объяснения. Тогда он начал, как я и предвидел, изливать на меня всё своё дурное настроение. Он припомнил мне старый эпизод с шотландской газетой и закончил свою гневную тираду следующими словами: «Я не разрешаю вам, сэр, ни о чём не беседовать с генералом Бонапартом, кроме сугубо медицинских тем. Если вы будете беседовать с ним о чём-либо другом, то лишь на ваш страх и риск, если только не станете передавать мне содержание ваших разговоров и тем самым освободите себя от всякой ответственности. Ваша работа заключается не в том, чтобы вы поступали так, как вы считаете нужным в соответствии с вашим мнением, а в том, чтобы вы спрашивали, что вам позволительно делать».
В течение нескольких суток Наполеон вставал в четыре часа утра и принимался за письменную работу, не вызывая к себе кого-либо из его генералов, чтобы помогать ему. Затем он гулял около двух часов и, судя по всему, находился в хорошем настроении. Встретился с ним, когда он вернулся с прогулки в бильярдную комнату. Разговор с ним зашёл о Египте и о некоторых лицах, которые там сопровождали его. Он упомянул некоего Пуссильгю, который служил у него во время итальянских военных кампаний.
«Пуссильгю, — пояснил Наполеон, — выполнял мои дипломатические и другие поручения в поездках из Милана в Геную и в то время заслужил моё доверие. Затем он был послан на Мальту, чтобы провести предварительную разведывательную работу до того, как я атаковал этот остров. Собранная им информация была очень полезной и тем самым он оказал мне большую услугу. Он сопровождал меня в Египет, где я назначил его на высокую должность в комиссариате и осыпал его многими милостями. Когда я покинул Египет, Пуссильгю, оставшийся там, по каким-то необъяснимым причинам сильно возненавидел меня и стал писать в директорат письма с массой ужасных историй обо мне. В то время я был назначен первым консулом и был тем самым человеком, который вскрывал его письма. Хотя я был удивлен и возмущён его поведением, я не стал обращать внимания на эти письма. Когда же я стал императором, то брат Пуссильгю, бывший выдающимся хирургом и хорошо известный мне, пришёл ко мне, чтобы просить меня устроить Пуссильгю на работу, умоляя меня удовлетворить его просьбу. В то же время он признался, что его брат скверно вёл себя по отношению ко мне, оказавшись весьма неблагодарным. Я ответил: «Кто ваш брат? Я не знаю его. Пуссильгю предал генерала Бонапарта, но император не знает его. Сам я не окажу ему помощь, но если министр финансов сделает выбор в его пользу, то я подпишу назначение». Его брат отправился к министру, передал ему то, что сказал я, была составлена рекомендация на замещение очень доходной должности, назначение на которую я подписал, и он пользовался ею в течение нескольких лет».
Потом Наполеон стал рассказывать о мамелюках. Он сказал, что в сражениях между французской кавалерией и мамелюками во всех тех случаях, когда число сражавшихся с каждой стороны превышало сто человек, превосходство в поддержании дисциплины всегда обеспечивало победу французам. Но тогда, когда это число было меньше ста, или в схватках один на один, верх, как правило, брали мамелюки.
15 августа. День рождения Наполеона. На нём был коричневый китель. Все генералы и их дамы обедали с ним в два часа дня. К столу были допущены дети, за исключением двух младенцев графов Бертрана и Монтолона, которых принесли к обеду и, показав Наполеону, унесли обратно. Наполеон одарил всех детей и немного поиграл с ними.
17 августа. Встретился с Наполеоном в два часа дня. Он пребывал в очень хорошем настроении, был любезен, много острил и подшучивал надо мной в связи с некой молодой девушкой, живущей на острове.
Рассказал мне, что, когда он был в Булони, там неожиданно появились два английских моряка, которые сбежали из Вердена и прошествовали через страну, не вызвав подозрений. «Некоторое время они оставались в Булони. Не имея денег, они оказались в затруднительном положении, не зная, как им осуществить побег из Франции и добраться до Англии. Они отчаялись тайно захватить одну из лодок, так как за всеми ими неусыпно следили. Тогда они, пользуясь ножами, из толстых веток и тонких стволов дерева соорудили нечто, похожее на плавательное средство. Всё это время они поддерживали свои силы, питаясь корнеплодами и фруктами. Свое деревянное плавательное сооружение они обтянули миткалём. Когда они закончили свою работу, то их барка оказалась в длину не более трёх с половиной футов и примерно такой же ширины. Она была такой легкой, что один из них переносил её на своих плечах. И вот на такой посудине они решили попытаться добраться через пролив Ла-Манш в Англию. Увидев английский фрегат, довольно близко проплывавший вдоль берега, они отправились в плавание на своей барке, пытаясь доплыть до фрегата. Но, не успев отплыть от берега слишком далеко, они были обнаружены таможенниками, которые схватили их и вернули обратно на берег Франции.
Слухи о них широко распространились в Булони в связи с тем, что всех поразил тот факт, что два человека рискнули отправиться в море на таком хрупком транспортном средстве. Мне рассказали о них, и я приказал доставить их ко мне вместе с их маленькой баркой. Я сам был поражен смелостью этих людей, доверивших свои жизни такому хрупкому сооружению. Я спросил их, действительно ли они могли надеяться переплыть пролив на таком сооружении. Они ответили, что для того чтобы убедить меня в этом, они готовы вновь отправиться в плавание на той же барке. Восхищённый смелостью их попытки и откровенностью их ответа, я приказал предоставить им свободу, дал им несколько наполеондоров и транспортное средство, чтобы они могли доплыть до английской эскадры. Незадолго до моей беседы с ними их собирались судить как шпионов, так как несколько человек видели их ранее на территории нашего лагеря в Булони, когда они в течение нескольких дней бродили по лагерю, стараясь оставаться незамеченными.
Когда я с триумфом вступил в Берлин, — продолжал Наполеон, — мать принца Оранского, сестра короля, была оставлена больной в верхних апартаментах королевского дворца в очень плохом состоянии здоровья, без денег, покинутая почти всеми. Через два дня после моего переезда во дворец кто-то из её слуг обратился к нам за помощью, так как у неё не было денег даже для оплаты топлива. Король самым постыдным образом бросил её. Как только я узнал об этом, то приказал, чтобы ей немедленно передали сто тысяч франков, после чего отправился навестить её. Я приказал обставить её апартаменты мебелью, соответствующей её высокому положению. Мы часто беседовали вместе. Она была очень благодарна мне за проявленную к ней заботу, и между нами завязались дружеские отношения. Мне нравилось разговаривать с ней.
Её сын, принц Оранский, адъютант Веллингтона, отправился из Португалии в Лондон в то время, когда велись переговоры о его предполагаемом браке с принцессой Шарлоттой. Из Лондона он написал матери несколько писем, в которых дал описание всей королевской семьи, начиная с королевы, и далее прошёлся поименно по всей семейной ветви. В этих письмах он не скупился на бранные выражения в адрес описываемых лиц, к которым питал отвращение. Письма изобилуют красивыми и высокопарными выражениями. Хотя они написаны в романтическом стиле, и делают честь их автору, но они буквально разрывают описываемых в них лиц на куски. Эти письма он послал с агентом в Гамбург, чтобы тот потом препроводил их его матери. Этот агент был арестован, все бумаги и письма, бывшие при нём, конфискованы и отосланы в Париж, где они были тщательно рассмотрены и затем доставлены мне. Я бегло прочитал их, не удержавшись от искреннего смеха. После этого для того, чтобы хотя бы немного отомстить за все оскорбления, которыми осыпали меня, я приказал отправить эти письма в редакцию газеты «Монитор» и опубликовать их. Тем временем, однако, агент сумел сообщить матери принца о том, что он арестован, а его бумаги и все письма конфискованы. До их публикации я получил от неё письмо, заклинающее меня не публиковать их, так как это нанесёт большой вред её сыну и её семье, и призывающее меня вспомнить то время, когда я был в Берлине. Я был тронут её письмом и отменил приказ о публикации писем, которые бы наделали много шума в Европе и были бы весьма неприятны для лиц, которые в них описаны».
Наполеон затем заговорил о покойной королеве Пруссии, которую он очень уважал и ценил очень высоко. Он заявил, что если бы король Пруссии с самого начала взял её в Тильзит, то, по всей вероятности, это обеспечило бы ему гораздо лучшие условия заключённого мира. «Она была элегантной, искренней и весьма информированной женщиной, — продолжал Наполеон. — Она от всей души горевала, что Пруссии пришлось воевать с Францией. «Ах, — сказала она мне, — память о Фридрихе Великом ввела нас в заблуждение. Мы считали, что похожи на него, но оказалось, что это совсем не так».
Я обратил внимание императора на то, что его враги обвиняли его в очень жестоком обращении с ней. «Что? — воскликнул он. — Они говорят, что я также отравил и её?» Я ответил, что нет; но они утверждают, что он был причиной её смерти вследствие тех бед, которые он навлёк на её страну и которые привели к падению её государства. «Ну что ж, — ответил Наполеон, — вполне вероятно, что горе, охватившее её в результате падения её супруга и её страны, громадные потери, которые они понесли, унизительное состояние, до которого они были доведены, всё это ускорило её кончину. Но это не моя вина. Почему её супруг решил объявить мне войну? Однако что касается обращения с ней с чрезмерной жестокостью, никто не мог проявить к ней большего внимания и уважения, чем я, и никто не ценил её так высоко, как я, за что она меня горячо благодарила». Затем Наполеон высказал ряд беспристрастных замечаний о принцессе Салмской, хотя он отдавал должное и обаянию её личности и её уму. Однако, по большому счёту, он ставил её гораздо ниже её сестры.
Наполеон затем высказал своё мнение о его возможном проживании на Мальте, против чего, как он заявил, он бы не возражал, признавая в то же время, что он не верит в то, что таковым было намерение английского правительства. Он добавил, что лучшее, что могло бы сделать наше правительство, так это заключить с ним особый договор, в соответствии с которым он не должен был покидать пределы Мальты в течение нескольких лет без разрешения принца-регента при том условии, что по истечении этого срока он получил бы возможность быть принятым в Англии. Это бы позволило Англии ежегодно экономить от шести до восьми миллионов франков. «Для Англии (и, фактически, для союзных держав), — добавил он, — было бы гораздо более честным и гуманным принудить меня к тому, чтобы я на борту корабля «Беллерофон» в минуту приступа гнева покончил с собой, чем приговорить меня к ссылке на такую скалу, как эта. Тогда бы они могли оправдываться, заявляя, что «для спокойствия Европы было необходимо убрать с дороги этого человека». Это сразу бы освободило их от всех тревог и сэкономило бы миллионы для их казначейства, не говоря уже о том, что это было бы более гуманно.
Когда велись дискуссии о приговоре для Людовика Шестнадцатого, то Кондорсе заявил, что его совесть не позволяет ему голосовать за смертную казнь. Вместо этого он голосовал за то, чтобы несчастного Людовика приговорили к пожизненным каторжным работам на галерах. Это предложение было встречено всеобщим осуждением, даже со стороны наиболее неистовых якобинцев. На Кондорсе обрушился град оскорблений, его стали ненавидеть за то, что он голосовал за этот приговор, который, по мнению всех без исключения, был хуже, чем смертная казнь. Теперь же ссылка на этот остров с губернатором, которого выбрали ваши министры, является безгранично худшим приговором, чем осуждение к каторжным работам на галерах. Ибо там, в Европе, над вами сияет солнце и, если у вас есть деньги, вы можете вести сравнительно терпимое существование. Я вспоминаю, как в Тулоне одного полковника приговорили к пожизненным каторжным работам на галерах. Конечно, он находился в заключении, но он никогда не должен был работать, за его деньги ему позволяли всё, что было разрешено, в результате чего его положение можно было определить как вполне терпимое. Надзиратель, если он не подобен этому губернатору, никогда бы не стал унижать человека, занимавшего такое высокое положение, тем, что заставлял его работать. Кроме того, за деньги человек всегда может найти кого-либо другого поработать за него.
Поэтому я утверждаю, что было бы более честно, более политически последовательно и, превыше всего, более гуманно, если бы меня вынудили безо всякого шума застрелиться на борту корабля «Беллерофон». Я сам предпочёл бы это. Я действительно считаю, что лорд NN уверовал в то, что, постоянно используя в отношения меня жестокость и унижение, англичане вынудят меня совершить самоубийство, и для этой цели они подобрали своего человека. Сама по себе эта их идея, даже если бы у меня в голове когда-либо зародилась подобная мысль, самым эффективным образом помешала бы мне осуществить её».
22 августа. Встретился с Наполеоном в двенадцать часов дня. Он продолжает вставать с постели в четыре часа утра и затем принимается за чтение книг и письменную работу. Пожаловался мне, что вынужден дать указание своим слугам перелицевать свою шинель, так как на острове нет ткани зелёного цвета, за исключением ткани того цвета, который французы называют цветом гусиного помёта. Говорил о своём практически содержанием под стражей в таком ужасном обиталище: «В нём что-то есть от дикаря. Когда я был первым консулом, а затем императором, то, находясь в состоянии войны с Англией, я стремился нанести ей столько вреда, сколько было в моих силах. Но теперь, будучи простым Наполеоном Бонапартом, когда повсюду наступил мир, какое они имеют право содержать меня под арестом как военнопленного. По существу великая страна ведёт войну против одного человека.
Я размышлял о своём поведении в отношении англичан, и мне не в чем себя упрекнуть, за исключением того, что я относился к ним, к моим врагам, слишком великодушно».
Наполеон затем заявил, что вскоре у англичан будут раскрыты глаза и они воочию увидят, что на самом деле представляет собой он, Наполеон. «Они увидят, — утверждал он, — всю глупость и несправедливость моего содержания на этом острове; на острове столь отвратительном, что я не могу сравнить его ни с чем, разве что с физиономией негодяя, которого ваши министры прислали сюда в качестве губернатора. Прозрение англичан и огромные расходы на мое содержание станут причиной того, что меня вывезут отсюда».
В ответ я заявил, что я опасаюсь того, что нынешняя нестабильная политическая ситуация в Англии может послужить сильнейшим фактором против того, чтобы ему разрешили переехать в Англию. «Ба, — возразил Наполеон, — ваши министры не настолько глупы, чтобы поверить тому, что я опущусь до того, что встану во главе сброда, даже если этот сброд пожелает, чтобы его возглавил иностранец, что вообще маловероятно. Даже во Франции я отказался делать это. Я слишком дорожу своей репутацией, которую я оставлю потомкам, чтобы поступать как мелкий авантюрист. Нет, нет, моим препятствием для переезда в Англию является ненависть, испытываемая ко мне со стороны ваших министров, и их страх перед той информацией, которую я мог бы представить. Они боятся, что я скажу: «А вот это было неправдой»[36] в ответ на их толкование многих политических событий.
Как вы думаете, — спросил он меня, — что именно более всего на свете мне бы доставило удовольствие?» Я был уже готов ответить, что он имеет в виду свой отъезд с острова Святой Елены, когда он сказал: «Иметь возможность бродить инкогнито по Лондону и в других местах Англии, заходить с другом к владельцу ресторана, обедать на глазах у всех за полгинеи или за гинею и слушать разговоры посетителей ресторана; обойти все рестораны, меняя их почти ежедневно, и таким образом слушать собственными ушами, как народ свободно и без напряжения, в минуты беспечности, высказывает свою точку зрения; слушать объективное мнение людей обо мне и об удивительных событиях последних двадцати лет».
Я предположил, что он бы услыхал много плохого и много хорошего в свой адрес. «О, что касается плохого, — ответил Наполеон, — то это меня не волнует. Я к этому слишком привык. Кроме того, я знаю, что общественное мнение будет меняться. Страна будет точно так же питать отвращение к клеветническим статьям против меня, как раньше она с жадностью читала их и верила им. Общение с народом, — добавил он. — и воспитание моего сына доставили бы мне величайшее удовольствие. У меня было намерение заниматься именно этим, если бы я оказался в Америке.
Я испытал самые счастливые дни в своей жизни в возрасте от шестнадцати до двадцати лет во время полугодичных отпусков, когда я, бывало, ходил от одного владельца ресторана к другому, жил скромно и платил за квартиру три луидора в месяц. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Я всегда был настолько занят, что никогда не был действительно счастлив, когда занимал трон. Это не то, что я должен упрекать себя за плохие дела, когда сидел на троне; наоборот, я возвратил пятьдесят тысяч семей на их родину, и те улучшения, которые я совершил для Франции и жизни французского народа, говорят сами за себя. Конечно, я вёл войны, в этом нет никаких сомнений: но почти в каждом случае я или был вынужден делать это, или я ставил перед собой большую политическую цель.
Если бы я умер в Москве, — продолжал он, — я бы оставил после себя репутацию полководца, не имеющего равного в истории. Там пушечное ядро должно было оборвать мою жизнь: когда человек, подобный мне, умирает, сражённый бедой, его репутация уменьшается. Тогда я никогда не подвергался опасности. Позднее, несомненно, в сражениях при Лютцене и Баутцене с армией рекрутов и без кавалерии я восстановил свою репутацию, и военная кампания 1814-го года с такими неполноценными силами не приуменьшила её».
Я сказал, что большинство людей во всём мире было удивлено тем, что он не подписал мирный договор в Шатильоне, когда, судя по всему, он оказался в отчаянном положении. Наполеон ответил: «Я не мог согласиться на то, чтобы оставить империю меньше той, какой она была, когда я вступил на престол; я поклялся сохранить её. Более того, союзные державы каждый день предъявляли на переговорах новое условие, которое было ещё более неприемлемым, чем предыдущее. Вам может показаться странным, но я заверяю вас, что я не подписал бы тот договор и сейчас. Если бы я оставался на троне после возвращения с Эльбы, то я должен был удержать его, так как нашёл его в целости, но всё же это был не я, кто первоначально основал престол. Моей большой ошибкой было то, что я не заключил мир в Дрездене. Я ошибся, когда подписал то военное перемирие. Если бы я тогда пошёл на заключение мира, то мой тесть не стал бы выступать против меня».
Наполеон затем заявил, что, несмотря на оккупацию Парижа союзниками, он всё же добился бы своего, если бы не предательство Мармона, и вытеснил бы союзников из Франции. Для этого он уже подготовил план. Он должен был войти в Париж в глухую полночь. Жители города, включая весь его сброд, должны были в то же время из своих домов атаковать союзников, которые, сражаясь с войсками, знакомыми с местными условиями, были бы полностью разбиты и вынуждены покинуть город, понеся колоссальные потери. Весь сброд Парижа был готов к этому. (Припоминаю, что он также сказал, что при этом он бы отрезал от союзников их артиллерийский парк.) Как только союзники были бы выдворены из Парижа, так сразу же вся страна поднялась бы против них. «Я упомянул об этом плане, — добавил он, — барону Колеру, который признал его опасным. Мармон должен стать объектом отвращения со стороны потомков. Пока Франция будет существовать, имя Мармона не будет упоминаться без содрогания. Он чувствует это и в эту минуту, — добавил он, — он самый несчастный человек на свете. Он не может простить самого себя и он завершит свою жизнь, как Иуда».
Я взял на себя смелость спросить Наполеона, какое, по его мнению, у него было самое счастливое время в его жизни после того, как он вступил на престол Франции. «Поход из Канн в Париж», — ответил он.
«Когда Каслри был в Шатильоне с послами союзных держав, я, добившись некоторых военных успехов, практически окружил город. Каслри очень боялся, как бы я не захватил его и не сделал его военнопленным. Так как он не был аккредитован в качестве посла и не был облечён никакими дипломатическими поручениями для Франции, то я мог взять его в плен как врага. Каслри отправился к Коленкуру и заявил ему, что он оказался в затруднительном положении, поскольку опасается, что я могу принять меры, чтобы захватить его силой. Каслри признал, что я имел полное право сделать это. У него не было возможности покинуть Шатильон без того, чтобы не попасть в руки моих войск. Коленкур ответил, что он придерживается того мнения, что я не буду трогать его, но он не может отвечать за мои возможные поступки. Немедленно после этого разговора Коленкур написал мне о том, что сказал Каслри, и том, что именно ответил ему Коленкур. В ответ я сообщил Коленкуру, чтобы он сказал лорду Каслри, что тот может не волноваться и оставаться там, где он находился: я буду рассматривать его как посла. В Шатильоне, — продолжал Наполеон, — говоря о свободе, которой пользуются в Англии, Каслри надменно заявил, что она не та вещь, которая более всего ценится в Англии, что свобода — это обычай, с которым англичане вынуждены мириться, но ею стали злоупотреблять, и англичане не будут нести ответственность за неё перед другими странами».
Я отважился выразить Наполеону своё удивление по поводу того, что императрица Мария Луиза не приложила каких-либо усилий, чтобы облегчить его участь. «Я считаю, — ответил император, — что Мария Луиза является такой же государственной пленницей, каким пленником являюсь я, за исключением того, что в отношении неё уделяется большее внимание внешним приличиям в ограничениях, которым она подвергается. Я никогда не упускал случая хвалить поведение моей доброй Луизы и я думаю, что абсолютно не в её силах чем-нибудь помочь мне; более того, она молода и робка. Возможно, мне не посчастливилось в том, что я не женился на сестре императора Александра, как это предлагал мне сам Александр в Эрфурте. Но в том брачном союзе были свои недостатки и неудобства, которые бы возникли из-за принадлежности сестры Александра к православной религии. Мне не хотелось позволять русскому священнику быть духовником моей жены, так как я считал, что он мог быть шпионом Александра в Тюильри. Говорилось, что мой брачный союз с Марией Луизой был заключен с условием того, что я подпишу мирный договор с Австрией, но это неверно. Я бы с презрением отвёрг эту идею. Брак с Марией Луизой был сначала предложен самим Францем, а потом Меттернихом Нарбонну.
Из всех послов, которых я когда-либо назначал, — добавил Наполеон, — Нарбонн[37] был наиболее способным. Он был очень умён, и его нравственные качества были безупречны. Когда он был послом в Вене, Меттерниху никогда не удавалось одурачить Францию, как это бывало раньше. Буквально в несколько дней он постигал всю суть планов Меттерниха. Если бы такой человек, как Нарбонн, был направлен послом к Александру в 1812 году, то вполне вероятно, что мир с Россией был бы заключён. Россия требовала себе Данциг и возмещения ущерба, нанесённого герцогу Ольденбургскому.
Романцов убедил Александра в том, что я пойду на любые жертвы, чтобы избежать войны, и что для Александра наступил благоприятный момент, чтобы выступить со своими требованиями. После первых же моих военных успехов, Александр направил мне послание с предложением, что если я покину территорию России и отступлю к Неману, то он будет готов вести со мной переговоры. Однако я не поверил, что он ведёт себя честно, и посчитал его предложение уловкой, иначе мы могли бы лично провести переговоры в Вильне и всё бы там урегулировать».
23 августа. Вчера в Лонгвуд приехал г-н Смизерс, гардемарин корабля «Завоеватель», с пропуском от сэра Хадсона Лоу для нанесения визита графу Бертрану. После того, как он прошёл пост охраны у входа в Лонгвуд, его неожиданно позвал обратно офицер, сказавший гардемарину, что его пропуск действителен на 21 августа и, соответственно, он не может получить разрешения нанести визит графу Бертрану, поскольку срок действия пропуска истёк накануне[38].
До того как г-н Смизерс получил разрешение посетить Лонгвуд, он был подвергнут длительному допросу о причинах его заинтересованности в визите к графу Бертрану. Офицер высокого ранга, учинивший ему допрос, проявил чрезмерную подозрительность и недоверие к г-ну Смизерсу. В частности, офицер хотел знать, каким образом гардемарин узнал о семье Бертранов. Во время допроса офицер настаивал на том, что г-н Смизерс, несомненно, должен иметь при себе письма семье Бертранов от капитана военно-морских сил Гамильтона.
Генерал Гурго сегодня рассказал мне, что в завершающей стадии сражения при Ватерлоо, когда атака французов закончилась неудачей, а англичане, в свою очередь, перешли в наступление, часть кавалерии последних, смешавшись с отрядом пехотинцев, приблизилась на расстояние примерно в двести метров к месту, где стоял Наполеон, с которым были только Сульт, Друо, Бертран и сам Гурго. Недалеко от них в виде квадрата выстроился небольшой французский батальон. Наполеон приказал Гурго произвести несколько залпов из трёх лёгких полевых пушек, принадлежавших батальону, чтобы отогнать вражескую кавалерию, приближавшуюся к группе Наполеона все ближе и ближе. Пушки открыли огонь, и одним из их выстрелов маркизу Англези оторвало ногу. Тогда Наполеон примкнул к колонне батальона и захотел сам стрелять из пушки, воскликнув: «Надо умереть здесь, надо умереть на поле боя». В это время английские пехотинцы принялись обстреливать колонну французов, которые каждую минуту ожидали, что на них набросятся англичане. Лабедуайер носился галопом, словно сумасшедший, вокруг колонны и, вытянув руки вперёд, искал смерти. Наполеон собирался было помчаться на лошади в самую гущу вражеских солдат, но ему помешал Сульт, который попридержал лошадь Наполеона за узду, воскликнув при этом, что его не убьют, а возьмут в плен. С помощью других Сульту, наконец, удалось заставить Наполеона покинуть поле боя в то время, когда против приближавшихся пруссаков оставалась только вышеупомянутая колонна. Наполеон настолько устал, что по дороге в Жемапп и Филипвиль он несколько раз свалился бы с лошади, если бы его не поддерживали Гурго и двое адъютантов, которые некоторое время были единственными, кто оставался с ним. В течение долгого времени Наполеон хранил полное молчание. В какой-то момент, по дороге в Париж, было решено, что император сразу же по прибытии в столицу отправится в сапогах и со шпорами в сенат, что произвело бы большой эффект, но от этого решения отказались.
24 августа. Отправился в «Колониальный дом», где, как обычно, мне пришлось терпеть длительный допрос и дурное настроение губернатора. Обсуждая со мной различные вопросы, его превосходительство, после того как он спросил меня, каким образом мне удалось узнать о том, что Киприани разговаривал с ним по поводу нехватки провизии в Лонгвуде, заявил, что мне не следует вести какие-либо беседы с управляющим Лонгвуда относительно количества разрешённых продуктов; что я каждый раз должен спрашивать у него разрешение беседовать с французами по любой проблеме, исключая строго медицинскую; что мне возбраняется поступать так, как я считаю нужным и полагаться на собственное мнение в отношении разговоров на любые темы, кроме медицинских, с генералом Бонапартом, если я не передам ему (губернатору) содержание этих разговоров, так как только он (губернатор) имеет право судить, о чём следует беседовать с генералом Бонапартом.
Я ответил, что если он ожидает от меня, что я буду сообщать ему о моих беседах с Наполеоном, то он ошибается; что, за исключением того, о чём я ранее заявлял ему, я буду хранить молчание; что в соответствии с изложенной им доктриной, я должен сообщать ему всё, что происходит в Лонгвуде; по его же словам, я не имею права полагаться на собственное мнение и поступать так, как считаю нужным, и, следовательно, должен сообщать ему всё, умалчивая при этом о любой части беседы, которую я проводил, полагаясь на собственное мнение.
Не зная, как ему реагировать на моё замечание, губернатор некоторое время поёрзал на кресле и затем перевёл разговор на приевшуюся тему о шотландской газете.
Беседовал с Наполеоном о лорде Каслри. «Никогда ещё, — заявил Наполеон, — ни один человек не проявлял столько политического слабоумия, как это удалось сделать лорду Каслри. Король водворён силой на трон, вопреки желаниям и мнению народа, и затем, чтобы снискать расположение и доверие этого народа, короля вынуждают заставить тот же народ выплачивать контрибуцию, губительную для страны. Англичане сделали Бурбонов палачами собственного народа, жителей Вандеи и других, которые проливали за них свою кровь и благодаря которым они выиграли сражение при Ватерлоо. Если бы не было этого дела в Вандее, я бы в составе своей армии в сражении при Ватерлоо имел бы на тридцать тысяч солдат больше. Теперь вот Бурбоны вновь заключили с папой римским конкордат, который не соответствует общему состоянию общества ни в десятом, ни в пятнадцатом столетии. Они согласились постепенно восстановить все законы церкви. Что это означает, как не подавление протестантизма и всех других религий, за исключением римской католической? Вы же знаете, что римская доктрина гласит о том, что, находясь вне пределов её церкви, никто не может спасти свою душу. По существу это восстановление всего старого фанатизма, суеверия и даже инквизиции, так как она была одним из законов церкви.
Протестанты должны понять, что целью этого конкордата является лишение их свободы вероисповедания и признание только римской католической религии. Владельцы земель в стране, которые когда-то принадлежали церкви, теперь должны дрожать от страха, так как конкордат ведёт к реституции этих земель. Протестанты окажутся в худшем положении, чем до революции, когда, если кто-то из них хотел жениться, он должен был сказать, что является католиком. Хотя в то время их церкви как-то терпели, но, тем не менее, если их часто открывали, то их своими визитами досаждала полиция. Этот ничтожный папа римский был настолько глуп, что дал согласие на конкордат, который, в конце концов, приведёт к убийству священников. Одно время я сам с большим трудом помешал народу совершить это.
О, эти Бурбоны! Совершенно верно говорят французы: они ничему не научились, они ничего не забыли. Они лежат на спящем льве. Я вижу Францию, охваченную огнём. Я вижу текущие реки крови. Вы будете созерцать всеобщее побоище Бурбонов, старой знати, священников, а многие невиновные англичане, они же друзья свободы, заплатят своею жизнью, чтобы искупить порочную политику лорда Каслри. Воображение всегда больше реальности, и громадная свобода, которую конкордат предоставляет королю и священникам для возрождения всех старых суеверий и нетерпимости средневековой церкви, воспламенит Францию и вызовет новую революцию «красных шапок» с призывом «Смерть попам!»
25 августа. Наполеон в прекрасном настроении. Увидел его в гостиной, одетого в серый двубортный китель. Он высказал очень остроумные замечания по адресу губернаторов Бенгала, островов Зеленого Мыса и т. д.
Беседовал с ним об Испании. Я спросил его, правда ли то, что королева сказала в его присутствии Фердинанду, что тот был её сыном, а не сыном короля, и таким образом открыто призналась в своём позорном поведении? Наполеон заверил меня, что она никогда не позволяла себе подобных высказываний в его присутствии. Она сказала Фердинанду, что он не достоин быть сыном короля. Я сказал, что, как утверждалось, Наполеон предлагал выдать замуж за Фердинанда одну из своих родственниц и сделать его королём Неаполя; другую свою родственницу выдать замуж за дон Карлоса и предоставить ему суверенитет.
Наполеон ответил: «Все эти утверждения лживы. Сам Фердинанд неоднократно просил меня, чтобы я выдал ему замуж одну из моих родственниц, но я никогда не просил его об этом». Я рассказал ему, что в одной распространённой публикации прямо утверждалось, что он предложил Фердинанду выбор между отречением от престола и смертью; что, как следствие этого, и в результате угроз короля Карла в его адрес и в адрес его сторонников Фердинанд отрёкся от престола. «Это также ложь, — ответил Наполеон, — никто ни к каким угрозам или к принуждению не прибегал. Если бы с Фердинандом действительно обращались так же, как здесь со мной, или бы подвергали пыткам, или бы лишали пищи, то можно было сказать, что его силой принудили отречься от престола. Если бы не бесконечные ссоры и перебранки между ними, то я никогда не стал бы думать о лишении их престола».
Я сказал, что в некоторых враждебных ему публикациях утверждалось, что за всем этим делом с отречением престола стоял лично он с тем, чтобы потом использовать это обстоятельство в своих интересах. «Человек, подобный мне, — ответил император, — всегда или бог или дьявол. Упомянутое вами утверждение враждебных мне публикаций так же верно, как и то, что я специально выманил Пишегрю и Жоржа для того, чтобы разделаться с Моро. Когда я увидел, как эти глупцы ссорятся между собой и пытаются друг друга столкнуть с трона, то я подумал, что я могу воспользоваться этим и изгнать эту недружелюбную семью; но я не был организатором их споров. Если бы я самого начала знал, что всё это дело принесёт мне столько забот и что оно будет даже стоить жизни двухсот человек, я бы никогда не стал браться за него; но, однажды сев на корабль, необходимо отправиться в плавание».
Наполеон заговорил о сражении при Эйлау, заявив, что его исход допускает, что каждая сторона может сказать многое. Он оставался все время на поле битвы, но к ночи уехал, и этот факт дал повод считать, что он потерпел поражение. Наполеон заявил, что в сражениях при Лютцене[39] и при Баутцене он одержал безоговорочную победу. «Когда мне было только семнадцать лет, — стал рассказывать Наполеон, — я написал краткую историю Корсики. Я передал свою работу аббату Рейналю, который похвалил моё сочинение и пожелал, чтобы я опубликовал его. При этом он добавил, что эта работа делает честь её автору и окажет большую услугу делу, которое волновало тогда всю Корсику.
Я, — продолжал Наполеон, — очень рад, что не сделал этого, поскольку то сочинение было написано в духе дня, в то время, когда существовало страстное стремление к республиканизму, и содержало убедительные доктрины, которые могли быть провозглашены в его поддержку. Оно было пропитано духом республиканизма, и каждая его строчка дышала свободой, на самом деле даже чересчур: уже после я потерял это сочинение.
В 1786 году, находясь в Лионе, я получил золотую медаль от местного колледжа за сочинение на тему: «Какие следует рекомендовать наиболее разумные настроения, чтобы сделать человечество счастливым». Много лет спустя, когда я уже стал императором, я упомянул об этом трактате Талейрану, который выслал в Лион курьера, чтобы отыскать трактат. Курьер легко нашёл его, зная название темы трактата, ибо имя его автора было неизвестно. Однажды после этого, когда мы были наедине, Талейран вытащил из своего кармана трактат и, намереваясь сделать мне приятное и тем самым подольститься, вручил мне его и спросил, знакома ли мне эта рукопись. Я немедленно узнал свой трактат и швырнул его в огонь камина, где он и сгорел, несмотря на отчаянные попытки Талейрана спасти его. Талейран был очень огорчен этим, так как он не оказался предусмотрительным и не сделал копии трактата до того, как показать его мне. Я же был очень доволен случившемся, так как стиль трактата был схож со стилем моего сочинения об истории Корсики, а сам трактат был переполнен республиканскими идеями, прославляя чувство свободы. Это чувство мне было подсказано горячностью пылкого воображения в тот момент, когда юность и боевой дух времени будоражили мой ум. Идеи, заложенные в трактате, были слишком пылкими для того, чтобы когда-либо осуществить их на практике».
Я спросил его мнение о Робеспьере. «Робеспьер, — ответил Наполеон, — вне всяких сомнений, худший персонаж революции. Он выступал против того, чтобы отдать под суд королеву. Он не был атеистом; совсем наоборот, он открыто признавал существование Бога. Он также не придерживался того мнения, что необходимо искоренить всех священников и всю знать, в отличие от своих сподвижников. Марат, например, утверждал, что для того, чтобы гарантировать существование свобод во Франции, необходимо, чтобы пали шестьсот тысяч голов. Робеспьер хотел объявить короля личностью, стоявшей вне закона, и не подвергать его процедуре, которая бы стала смехотворной пародией на суд. Робеспьер был фанатиком, чудовищем, но он был неподкупен и неспособен к тому, чтобы грабить и стать причиной смерти других людей из-за личной вражды или из-за желания обогатиться. Он был энтузиастом, но он искренне верил, что поступает всегда правильно, и он умер без гроша в кармане. О Робеспьере, в некотором отношении, можно сказать, что он был честным человеком. Многие преступления, совершённые Эбером, Шометтом, Колло д’Эрбуа и другими, приписывались ему.
Марат, — продолжал Наполеон, — Билло де Варен, Фуше, Эбер и многие другие были безгранично хуже, чем Робеспьер. Это было поистине удивительно, — добавил Наполеон, — видеть тех фанатиков, которые были по локоть в крови, но которые ни за что на свете не взяли бы и гроша или часы, принадлежавшие их жертвам, которых они жестоко убивали. Не было ни одного случая, чтобы они не отдали собственность своих жертв Комитету общественной безопасности. На каждом шагу погружаясь в кровь, они верили, что поступают правильно, и без колебаний отвергали любую возможность совершить малейший проступок, граничивший с обманом. Настолько их мировоззрение было пронизано фанатизмом, что они полагали, что поступают справедливо в то время, когда человеческая жизнь ценилось ими не дороже жизни мухи.
Если бы Питт в то же самое время, когда Марат и Робеспьер не скупились на массовое кровопролитие, предложил им двести миллионов, то они с негодованием отвергли бы его подарок. Они даже отдавали под суд и бросали под нож гильотины своих сподвижников (такого, как Фабр д’Эглантин), которые были виновны в воровстве. Не такими были Талейран, Дантон, Баррас, Фуше: они были статистами в спектакле, имевшем название «революция», и за деньги соглашались заключить союз с любой стороной. Талейран — гнуснейший биржевой игрок, продажный до мозга костей, безнравственная личность, но, тем не менее, умный человек. Статист революции, он был готов продать самого себя, всё вся любому, кто предложит наивысшую цену. Баррас был таким же. Когда я командовал армией в Италии, Баррас заставил венецианского посла заплатить ему двести тысяч долларов (насколько я помню, Наполеон именно так и сказал) за его письмо ко мне с просьбой быть благосклонным к республике Венеция, с которым я поступил вот так (здесь он прибегнул к весьма многозначительному жесту). Я никогда не придавал никакого значения подобным письмам. С самого начала моей карьеры я всегда полагался на собственное мнение. Талейран подобным же образом продавал всё. Фуше занимался этим в меньшей степени; его сделки были более низкого уровня».
Я спросил Наполеона, каким образом Барреру удалось уцелеть во время самых различных ситуаций, которыми изобиловала находившаяся в самом разгаре революция. «Баррер? — переспросил Наполеон. — Потому, что он был слабохарактерным человеком. Он постоянно менял свою точку зрения и был готов примкнуть к любой стороне. Он имел репутацию человека со способностями, но я так не считал. Я взял его к себе на службу, чтобы он писал для меня, но он не проявил должного умения. Он прибегал к цветастой риторике, но в его работах отсутствовала солидная аргументация. Ничего, кроме пустых рассуждений, подкреплённых высокопарным языком.
Из всех кровавых чудовищ, — добавил император, — которые стояли во главе революции, Билло де Варенн был наихудшим. Карно был наиболее порядочным человеком. Он покинул Францию без гроша в кармане.
Госпожа Кампан, — продолжал Наполеон, — имела абсолютно беспристрастное мнение о Марии Антуанетте. Она рассказала мне, что один человек, хорошо известный своей привязанностью к королеве, навестил её 5 октября в Версале, где он оставался всю ночь. Толпа бросилась на штурм дворца. Мария Антуанетта сбежала из свой комнаты, не успев одеться, стремясь спрятаться в комнате короля, а её любовник выбрался из комнаты королевы через окно. Разыскивая королеву в её спальной комнате, госпожа Кампан не обнаружила её там, но нашла бриджи, которые её любовник в спешке оставил и которые были сразу же опознаны.
После событий в брюмере, — рассказал Наполеон, — у меня была продолжительная беседа с Сийе, во время которой я получил основательную информацию о положении во Франции и о различных политических проблемах. После нашей беседы Сийе сразу же отправился ужинать с рядом стойких республиканцев, его наиболее близких друзей. Как только слуги покинули комнату, он снял свой головной убор и швырнул его на пол. «Господа, — воскликнул он, — республики больше нет, она умерла. Я сегодня беседовал с человеком, который является не только великим генералом, но он также способен на всё и, к тому же, он знает всё. Он не нуждается ни в советниках, ни в помощниках; политика, законы, искусство правления также знакомы ему, как и командование армией. Он молод и решителен. С республикой покончено». — «Но, — вскричали республиканцы, — в том случае, если он станет тираном, потребуется кинжал Брута». — «К сожалению, друзья, тогда мы попадём в руки Бурбонов, что ещё хуже».
Фуше, — добавил Наполеон, — никогда не был моим доверенным лицом. Он всегда подходил ко мне, сгибаясь к самому полу. К нему я никогда не чувствовал уважения. Поскольку этот человек был террористом и главарём якобинцев, то я использовал его в качестве инструмента для того, чтобы выявлять, а затем избавляться от якобинцев, сентябристов и других его старых друзей. Используя его, я смог отправить в изгнание на остров Маврикий двести его сподвижников из числа сентябристов, которые нарушали спокойствие Франции. Он предал и принёс в жертву своих старых товарищей и соучастников в преступлении. Он никогда не пользовался моим доверием и не был настолько одарённым человеком, чтобы заслужить его.
Не так обстояло дело с Талейраном. Талейран действительно пользовался моим доверием в течение длительного времени, и я часто знакомил его с моими планами за год или за два до того, как осуществлял их на практике. Талейран — человек с большими способностями, хотя в то же время и безнравственный, беспринципный и столь жаден до денег, что для него не имеет никакого значения, с помощью каких средств получать их. Его жадность была настолько велика, что я был вынужден, после того как безрезультатно несколько раз предупредил его, уволить его со всех постов. Сийе также пользовался моим доверием. Он был человеком больших способностей, но, в отличие от Талейрана, он был честным человеком. Он любил деньги, но приобретал их только законным путём; не то, что Талейран, который хватал их в любом виде»[40].
1 сентября. Вчера с мыса Доброй Надежды прибыл транспортный корабль «Мария». С почтой пришло письмо от молодого Лас-Каза госпоже Бертран. В письме сообщалось, что, наконец, его отец и он получили разрешение покинуть мыс Доброй Надежды и собираются в самое ближайшее время вступить на борт брига, отплывающего в Англию, но они не знают, будет ли им разрешено высадиться на берег Англии. Молодой Лас-Каз сообщал, что его отец очень нездоров и выражает опасения, что может стать жертвой своего заболевания до того, как бриг доплывёт до Англии, так как на корабле отсутствует медицинский персонал. Молодой Лас-Каз также добавил, что с того времени, как они прибыли на мыс Доброй Надежды, они с отцом не получили ни одного письма из Лонгвуда. Граф Бертран также получил письмо от лондонской компании «Г-да Бэеринг, Братья и К0.», в котором сообщалось, что два года назад на его счет в банк компании были положены 12 000 фунтов стерлингов.
В течение нескольких дней Наполеон находился в хорошем расположении духа и совершал больше прогулок, чем раньше. 30 августа он подошёл к караульной будке, слева от дома, где оставался некоторое время, рассматривая, как идёт работа по строительству новой дороги. Появление Наполеона у караульной будки вызвало большое удивление часового, который, находясь на расстоянии нескольких ярдов от императора, рассматривал его во все глаза.
В одной из газет мыса Доброй Надежды, которые я получил, была помещена статья, сообщавшая, что сестра Наполеона Каролина вышла замуж за некоего генерала Макдональда. Когда я сообщил об этом Наполеону, он заявил, что не думает, что его сестра могла выйти замуж после недавнего убийства её мужа. Особенно учитывая тот факт, что её новая брачная церемония была предана столь широкой огласке, если только, конечно, она не сошла с ума или её не вынудили пойти на это, приставив пистолет к горлу. «Особенно, — добавил он, — как я полагаю, моя сестра как женщина достигла того возраста, когда её страсти уже поутихли. К тому же у неё четверо детей и она обладает сильным мужским характером и способностями, намного превышающими способности большинства представительниц её пола. Хотя, — добавил Наполеон, — поступки женщины предсказать невозможно».
Затем император сделал несколько замечаний по поводу обличительной речи против него, опубликованной в газете «Курьер», заявив, что теперь грубая ложь и оскорбления скорее содействуют ему, чем наносят вред, так как все попытки обесчестить его личность в настоящее время будут бесполезны, учитывая свободу контактов англичан с Францией. «Большинство англичан, — заявил Наполеон, — которые имели доступ на континент, уже давно обнаружили и писали о том, что я не такое уж чудовище, каким был описан в английских и французских клеветнических статьях. Они поняли свою ошибку и краснели при мысли о том, что их так сильно обманывали. Я не желаю лучшего доказательства в пользу моего истинного характера, чем их точка зрения. Время публикаций клеветнических статей против меня прошло. Умеренная критика моих поступков, умело поданная, умело написанная, не слишком преувеличенная, будет более обидной для меня, чем все эти обличительные речи в стиле «Квотерли Ревью».
Внимание Наполеона привлекли отдельные отрывки из брошюры, приписываемой перу герцога Ровиго, относительно смерти капитана Райта. «Если капитан Райт, — заявил он, — был подвергнут смертной казни, то это могло произойти в соответствии с моим приказом. Герцог Ровиго ошибается, делая выпады против Фуше. Если капитан Райт был подвергнут смертной казни в тюрьме, то на то был мой приказ. Фуше, даже если бы он хотел сделать это, никогда бы не осмелился лично решить этот вопрос. Фуше слишком хорошо знал меня. Но всё дело было в том, что Райт совершил самоубийство, и я не верю, что с ним плохо обращались в тюрьме. Вполне возможно, что этот Фуше мог угрожать ему, чтобы добиться от него новых признаний. Сидней Смит вёл себя недостойно и не как честный человек, когда он написал эпитафию, посвящённую памяти Райта. Ибо в этой эпитафии он прибегает к намёкам или, по крайней мере, оставляет поле для предположений, что Райт был тайно казнён, хотя он не смеет сказать об этом открыто.
После того, как он провёл бы расследование, сообразуясь со всеми имевшимися у него возможностями, после того, как он исчерпал бы все средства, чтобы доказать, что Райт был убит, после того, как он получил бы возможность переговорить с тюремщиками и надзирателями тюрьмы и, в результате, выяснил, что ничего подобного не происходило, он должен был, как честный человек, открыто заявить, что нет доказательств для подтверждения подобного обвинения, вместо того чтобы прибегать к подобным намёкам. Сам Сидней Смит лучше всех знал, пробыв столько времени в «Темпле», что невозможно тайно убить заключенного без ведома множества лиц, причастных к его содержанию в тюремных условиях. Сидней Смит также должен быть осведомлен о том, что никто не мог войти в тюрьму без приказа на то со стороны министра полиции.
Тем не менее, — добавил Наполеон, — Сидней Смит проявил большое благородство, когда информировал Клебера об отказе лорда Кейта согласиться с договором, заключённым в Эль-Арише. Если бы он сообщил об этом на двадцать четыре часа позже, то Клебер сдал бы форты туркам и вынужден был бы сдаться англичанам. Он очень хорошо обращался с французскими военнопленными. При всём при этом он был интриганом. Он, однако, совершил большую ошибку, не ограничившись только морскими операциями. Правда, было одно исключение, когда он совершенно правильно действовал во время сражения при Акре, послав своих солдат и офицеров на помощь туркам. Он упустил возможность перерезать морские коммуникации, что он наверняка бы сделал, если бы уделял больше внимание своей эскадре. Из-за этой оплошности он позволил мне благополучно вернуться из Египта во Францию. В сражении при Акре он приказал своим кораблям вести огонь по моим войскам бортовыми залпами с такого расстояния, что они оказались совершенно безвредными.
Более того, эти залпы оказали нам существенную помощь, так как нам явно недоставало пушечных ядер, и каждый солдат, который подбирал одно из английских ядер, получал пять су. Однако, несмотря на то, что Сидней Смит плохо относился ко мне, — продолжал Наполеон, — я всё же с удовольствием встретился бы с ним. Я бы охотно принял этого славного парня. У него не отнимешь присущие ему хорошие качества. И как давнего противника мне бы хотелось увидеть его.
Вы когда-нибудь слышали о том, — спросил меня Наполеон, — что лорд Веллингтон был тем первым человеком, который предложил сослать меня на остров Святой Елены?»[41] Я ответил, что слышал об этом, но не считал, что в этих слухах есть какая-нибудь доля истины. «Если же всё это правда, — заявил Наполеон, — то этот поступок придаст ему мало чести в глазах потомков».
3 сентября. Обнаружил императора в гостиной, читающего вслух Ветхий Завет. У императора очень хорошее настроение. Рассказал мне, что у госпожи Монгол он недавно встретил г-на Коула, которого принял за еврея. «Я спросил госпожу Монтолон, — рассказал он мне, — он еврей? У него поистине вид Исаака. Он принадлежит к семье Авраамов».
Наполеон затем поделился со мной о тех формальных процедурах, которые губернатор обязал пройти Бертрана, чтобы получить денежную сумму, оставленную Лас-Казом в Лондоне наличными. Проверке подвергся каждый казначейский билет небольшого номинала, каждый счёт и каждая расписка. «Даже денежное содержание слуг, — рассказал Наполеон, — было подвергнуто тщательной проверке. Любая пустяшная сумма была скрупулёзно подсчитана. Бесполезные придирки. Каждый разумный человек должен понимать, что я смог бы сбежать с этого острова не с помощью той мизерной суммы денег, которую я могу получить здесь. Хотя здесь у меня нет денег, но я могу их иметь по мановению кончика моего пальца. Но этот человек просто объят страстью вмешиваться во всё и вся. Если бы это было в его воле, то он бы стал мне приказывать, в котором часу мне следует завтракать, в котором обедать, стал бы предписывать, когда мне надо ложиться спать, и приходить ко мне, чтобы проверять, как я выполняю его указания. В один прекрасный день всё содеянное им обрушится на него. Он не знает, что то, что происходит здесь, станет достоянием истории. Он достаточно глуп, чтобы не понять того, что министры никогда сами не признаются в своих ошибках.
Он прислал Бертрану письмо в ответ на письмо Бертрана о новых ограничениях. Это письмо губернатора, более чем всё содеянное им ранее, убеждает меня в том, что он глупец с полным отсутствием здравого смысла. Если бы я платил ему за то, что он пишет, то он не смог бы сотворить иного письма, которое бы принесло мне большее удовлетворение. Для того чтобы подтвердить наличие и установить подлинность тирании, от которой я страдаю, ничего, кроме этого письма, не надо. Оно содержит ужасные вещи. Он говорит, что он имеет право, занимаясь поиском писем, вскрывать обложки книг или обследовать любую часть мебели до такой степени, что она становится непригодной ни для украшения, ни для её использования. Наряду с его ограничениями я храню это письмо, как драгоценность[42]. Если логически следовать его мысли, то он не должен присылать сюда батон хлеба, часть мясной туши или пару обуви, так как в них могут быть спрятаны письма. То, что я высмеиваю в речи лорда Батхерста, этот губернатор пишет нам всерьёз. Для того чтобы убедить министров в том, что он полный дурак, достаточно лишь опубликовать это письмо. Ах, если бы я имел дело только с такими дураками, как он, то я бы здесь не оказался. Ах! Бедная та страна, которая вынуждена держать на своей службе таких, как он. Если бы я находился во главе правительства, то, оценивая его службу, я бы определил его денежное содержание в размере 150 фунтов стерлингов в год».
Наполеон затем высказал ряд замечаний об упомянутом в ряде газет проекте, рассматриваемом британскими министрами, о выделении двух миллионов для оказания помощи бедным. Этот проект Наполеон посчитал абсурдным. «Для того чтобы восстановить свою экономику, Англия должна возобновить торговлю; другими словами, она должна перестать быть континентальной державой. Она должна делать то, что ей положено, а именно: возобновить свою деятельность в качестве островной державы, установив полный контроль над морями. Вы должны прекратить оставаться джентльменами до мозга костей, — заявил Наполеон, — как этого желает лорд Каслри. Вы должны вернуться к своим кораблям. На должность премьер-министра вам нужен старина лорд Чатем. Вам необходимы способные люди. Я придерживаюсь той точки зрения, что если вы ничего не предпримите в ближайшее время, то вам следует поступить так, как я сделал в Голландии — понизить процентный доход фондов до двух процентов.
Я настолько убеждён и уверен в том, что вас ожидает банкротство, более или менее серьёзное, что я не поместил бы свои деньги в английские фонды. Ваше бедственное положение является одним из последствий священного альянса. Все континентальные державы попытаются обуздать вас и объединиться против вас, как они это сделали против меня, когда я был более сильным, чем они все вместе взятые. Единственная возможность воспрепятствовать этому заключается в том, чтобы вы вернули к себе всеобщее уважение и заставили континентальные державы обхаживать вас, вместо того чтобы вы обхаживали их; а этого никогда не случится до тех пор, пока вы будете держать свою армию на континенте. Пока ваши министры говорят, что Джон Булль не болен, то всё это время ваши дела будут идти скверно. Но как только они отважатся сказать: «Мы действительно находимся в состоянии глубокой депрессии. Требуются радикальные изменения. Мы добились больших успехов, которыми мы пренебрегли и которыми мы не воспользовались», то тогда появится какая-то надежда. Но то, как они сейчас ведут себя, очень напоминает врача, который говорит мне в то время, когда я очень болен и у меня опухли ноги, что со мной всё абсолютно в порядке; или напоминают человека, отвечающего Джону Буллю, который жалуется на то, что ему нечего есть: «О, у тебя слишком хороший аппетит. Ты не должен потакать ему. Пресыщение — это плохая вещь».
Киприани сообщил мне, — сказал Наполеон, — что губернатор всячески старался заставить его понять, что красное бургундское вино, полученное недавно в Лонгвуде, прислано непосредственно им. Я приказал Киприани более никогда не приносить его мне. Я не стыжусь пить вино или есть хлеб Джона Булля, но я ничего не приму из рук, ставших для меня столь отвратительными».
Наполеон сообщил мне, что он простудился, когда вчера минут пятнадцать сидел на ступенях перед входом в бильярдную комнату. Он весь вечер чихал и кашлял. Пожаловался на сильный ветер и сообщил, что после вчерашнего завтрака он целые сутки не прикасался к еде.
Он рассказал, что граф Монтолон встретил госпожу Штюрмер и нашёл, что она не такая красивая, как Бетси (мисс Э. Балькум), и что у неё манеры гризетки.
Затем Наполеон вновь заговорил о Талейране. «Талейран доказывал мне, — заявил он, — что убийство по политическим мотивам иногда оправданно или, по крайней мере, на него надо смотреть сквозь пальцы и оставлять безнаказанным. Он утверждал, что подобная практика была обычной во времена всех революций или сильнейших политических кризисов, что во время революций совершаются проступки, на которые трибуналы не должны обращать внимание, и добавил, что если бы не жёсткая позиция учредительного собрания, без колебаний устранявшего противников революции, то революция не добилась бы успеха; что следует терпимо относиться к некоторым жестоким акциям, так как они препятствуют ещё большему злу».
4 сентября. В течение нескольких дней погода была чрезвычайно дождливой, и Наполеон приказал поддерживать огонь в каминах всех четырёх комнат, которыми он привык пользоваться. Так как он не выносит запах горящего угля, то из-за этого постоянно не хватало дров для каминов. Я увидел, как Новерраз рубил остовы кроватей и несколько полок, чтобы заготовить дрова для каминов. Киприани попросил капитана Блэкни направить письмо поставщикам, чтобы они прислали три тысячи единиц веса дров за счёт Лонгвуда, так как губернатор не разрешает поставлять в Лонгвуд более трёхсот единиц веса дров ежедневно, что составляет примерно треть того количества дров, которое необходимо для поддержания тепла в доме, учитывая большую влажность климата в Лонгвуде.
Увиделся с Наполеоном, когда он завтракал, находясь в ванне. Я ожидал найти его в дурном настроении, но мои ожидания не оправдались, он прекрасно себя чувствовал. Он ел чечевичную похлёбку, при этом спросил меня, как слово «чечевица» переводится на английский язык и видел ли я её раньше. Я ответил, что видел её в Египте, но в Англии никогда. «Этот архиклеветник Пилле, — сказал он, смеясь, — утверждает, что в Англии нет чечевицы и что вообще у вас нет хороших овощей». Я ответил, что это так же верно, как и все остальные клеветнические утверждения Пилле. Ни в одной стране Европы нет лучших овощей и нет такого большого их запаса. Наполеона рассмешила та горячность, с которой я защищал английские овощи, и он сказал: «О, этот отвратительный клеветник Пилле. Вы, англичане, не любите, когда плохо говорят о вашей стране, хотя вы обожаете бранить другие страны. Могу себе представить, что если бы Пилле поехал в Англию после публикации своей книги, то вы, англичане, вышибли бы у него все мозги».
Я ответил, что, конечно, к нему бы отнеслись с огромным презрением, чего он вполне заслуживает. Наполеон затем отметил, что жителям северных стран требуется бутылка, чтобы развивать свои идеи, и англичане, судя по всему, предпочитают женщинам бутылку. Это подтверждает тот факт, что англичане разрешают дамам покидать стол, оставаясь за столом многие часы, чтобы как следует напиться. Я ответил, что, хотя мы продолжаем часами сидеть за столом после того, как удаляются наши дамы, это делается не ради вина, а для того, чтобы провести время в беседах. Более того, мы оставляем за собой право выбора, а именно: уйти из-за стола сразу после дам или же остаться. Наполеон явно сомневался в том, что я сказал, и попросил меня повторить сказанное. После чего он заявил, что если бы мы были в Англии, то он всегда бы уходил вместе с дамами. «Я думаю, — заметил он, — вы не слишком уважаете своих дам. Если вы остаётесь за столом ради того, чтобы побеседовать, а не пить, то почему бы вам не разрешить им находиться вместе с вами. Когда дамы принимают участие в общей беседе с мужчинами, то беседа, несомненно, приобретает живой и полный остроумия характер. Если бы я был английской женщиной, то мне было бы явно не по себе от того, что меня выпроводили мужчины из-за стола ради того, чтобы ждать их два или три часа, пока они с жадностью поглощают вино. Теперь во Франции светское общество просто ничто, если отсутствуют женщины. Они же — душа любой беседы».
Я попытался пояснить, что наша беседа после обеда зачастую касается политики и других вопросов, в обсуждение которых женщины не вмешиваются; более того, в среде хорошо воспитанных людей, составляющих светские общества, джентльмены вскоре после обеда следуют за дамами. Моё пояснение, однако, его не удовлетворило. Он продолжал настаивать на том, что подобный обычай не может быть оправдан, что женщины необходимы для того, чтобы воспитывать и делать более покладистым противоположный пол.
Наполеон заговорил о маршале Журдене, о военных способностях которого он был весьма низкого мнения. Я сказал, что, как мне говорили некоторые английские офицеры, участвовавшие в сражении при Альбуере, если бы маршал Сульт выступил вслед за атакой уланов, то он разгромил бы английскую армию. Наполеон согласился с этим и добавил, что он порицал Сульта за то, что тот упустил представившуюся ему возможность. Затем в ходе нашей беседы Наполеон коснулся того способа, который применяют английские войска при осаде вражеских городов. Так, говоря о лорде Веллингтоне, Наполеон заявил, что тот, командуя войсками, осаждавшими города, вёл себя как настоящий палач, для которого человеческая жизнь не стоит и гроша. Например, колоссальные людские потери при осаде Сьюдад-Родриго и Бадахоса ни в коей мере не были компенсированы взятием этих городов. Наполеон сказал, что штурм Берген-оп-Зома был весьма рискованной затеей, что он не должен был и не мог увенчаться успехом, ибо численность гарнизона превышала численность войска, осаждавшего город. Я сказал, что провал этой операции был частично связан с тем, что один из генералов не предусмотрел необходимости сообщить кому-то ещё о полученных им приказах. В результате, когда он получил смертельное ранение, войска не знали, что им делать. Наполеон ответил, что если бы даже подобный инцидент и не случился, то всё равно попытка захватить осаждённый город не должна была закончиться успешно, если только осаждённый гарнизон, как часто случается, не был охвачен паникой. Наполеон вспомнил о Грэме, который был уполномоченным при английской армии в то время, когда при осаде Тулона началась военная карьера Наполеона.
«Отважный старик», — отозвался о Грэме Наполеон, спросив при этом, не был ли он тем самым Грэмом, который командовал английскими войсками в военной операции около Кадиса.
5 сентября. Утром разговаривал с Наполеоном по поводу нехватки топлива в Лонгвуде, а затем на эту же тему с генералом Монтолоном.
В соответствии с приказом сэра Хадсона Лоу явился в «Колониальный дом». Представил губернатору подробный отчёт о нехватке топлива в Лонгвуде и высказал своё мнение по этому вопросу. Имел с ним долгий и малоприятный разговор. Объяснил ему, что в Лонгвуде всего двадцать три камина. По мнению губернатора, это слишком много. В своей обычной манере он заявил, «что им ни к чему такое большое количество каминов». Я пояснил ему, что Лонгвуд находится в очень сырой местности и для французских женщин и детей необходимо, чтобы в каминах постоянно был огонь. В ответ на это губернатор заявил, что «у госпожи Лоу в её комнате камина нет». Я напомнил губернатору, что французы, по сравнению с нами, являются уроженцами страны с более южным климатом и, соответственно, они более восприимчивы к холоду. К тому же, нельзя сравнивать удобства проживания в здании «Колониального дома» и в доме в Лонгвуде.
Его превосходительство продолжал настаивать на том, что «он не видит необходимости иметь так много каминов в Лонгвуде, к тому же он видел, «как в самый разгар лета в комнате графини Бертран топили камин». Я ответил ему, что мне нечего сказать по поводу этого замечания. Я высказал мнение, что необходимо регулировать поставку дров в Лонгвуд в зависимости от сезона, так как, если количество дров, которое поставляется летом, представляется слишком большим, то то же количество дров, поставляемое зимой, оказывается слишком малым. Я объяснил губернатору, что делаю всё в моих силах, чтобы объяснить французам, что он (губернатор) считает, что то количество дров, которое он заказал для Лонгвуда, — достаточно, так как он почти удвоил его по сравнению с количеством, которое потребляется в «Колониальном доме». Я также сообщил его превосходительству, что Наполеон не может переносить запах угля. В связи с этим я предложил, чтобы солдатам в лагерь 53-го пехотного полка не направляли дрова, а поставляли им уголь, а в Лонгвуд вместо угля посылали дрова. В ответ на моё предложение его превосходительство заявил, что «он не намерен потакать причудам некой персоны».
Виделся с Наполеоном, принимавшим ванну. После краткого разговора о нехватке топлива Наполеон заявил, что встречался с адмиралом Плэмпином, который принёс ему книгу. По словам адмирала, эту книгу прислал лорд Батхерст. В связи с этим Наполеон высказал предположение, что «его светлость прислал книгу, чтобы выяснить, кто является её автором. В письме, которое видел адмирал, написано, что авторство книги приписывается или Бенжамену Констану, или госпоже де Сталь».
Наполеон затем рассказал, что он беседовал с адмиралом о военных кораблях и о внутреннем экономическом положении Англии. «Адмирал заявил, что военный корабль, имеющий на вооружении семьдесят четыре пушки, может взять на борт на восемьдесят тонн воды больше, используя цистерны. Если бы я знал об этом в 1806 или в 1808 году, то я бы послал армию в составе тридцати тысяч человек, чтобы завоевать Индию. Я несколько раз занимался расчётом возможности отправки в Индию такого количества солдат, но всегда выяснялось, что им не будет хватать месячной нормы воды».
Я спросил императора, каков был его план завоевания Индии. «В Бресте, — ответил император, — одно время на рейде у меня стояли пятьдесят шесть кораблей, готовых к отплытию, и часто сорок шесть кораблей. В сорока из этих боевых кораблей я был намерен разместить тридцать тысяч солдат, в каждом корабле по восемьсот солдат, и только четыреста моряков. Флотилию сопровождало бы пропорциональное число фрегатов и других более мелких кораблей. Десять из оставшихся боевых кораблей были устаревшими и не имели большой ценности. На их борту разместились шестьсот или восемьсот спешившихся кавалеристов, а также часть моей артиллерии, материально-техническое обеспечение армии, необходимое ей для боевых действий, и запасы провианта на четыре месяца.
Флотилия понеслась бы во весь опор в направлении острова Маврикий, где она запаслась бы водой, свежими продуктами, высадила на берег больных, взамен которых взяла такое же количество новых солдат, а также три тысячи чернокожих для формирования колониальных полков. Оттуда флотилия должна была проследовать в Индию и там высадить армию в ближайшем месте на её побережье, чтобы дать возможность отрядам народности Маратхи, с которыми у меня была достигнута договорённость, присоединиться к моей армии. Эти отряды должны были сформировать кавалерию моей армии. Часть моих ранее спешившихся кавалеристов также села бы на лошадей, которых бы удалось купить. После высадки моей армии на берег Индии десять устаревших кораблей флотилии были бы сожжены, а их моряки распределены между командами оставшихся кораблей, которые, таким образом, были бы полностью укомплектованы. Они бы проследовали в самых различных направлениях, чтобы, по возможности, как можно сильнее испортить вам, англичанам, настроение. У меня был налажен контакт, — продолжал Наполеон, — с представителями Маратхи и других народностей Индии. Связь с ними осуществлялась по маршруту Басра — Багдад — Моха — Сурат. Их информация передавалась консулам в Алеппо через посла в Персии. Я часто получал разведывательную информацию из Индии раньше, чем она поступала к вам в Англию. Король Персии благосклонно относился к нам. Однако весь этот план вторжения в Индию был сорван из-за моих расчётов, которые свидетельствовали о том, что моим кораблям не будет хватать месячной нормы воды. Если бы я знал о существовании тех цистерн, то я, конечно, предпринял бы попытку вторжения в Индию».
Наполеон затем подсчитал количество воды, которую можно было бы перевозить в цистернах, и в результате выяснил, что корабли были бы в достаточной мере обеспечены водой. «Для державы, — заявил Наполеон, — которая не имеет преимущества на море, это изобретение представляет громадную важность, так как оно позволяет её кораблям не заходить в гавани для пополнения запасов воды».
Далее в разговоре с Наполеоном я упомянул имя Туссен-Лувертюра, сказав, что среди других клеветнических заявлений враги Наполеона утверждали, что Наполеон приказал тайно казнить Туссен-Лувертюра в тюрьме. «Это утверждение не заслуживает никакого ответа, — заявил Наполеон, — ради чего я должен был приказать казнить негра после того, как он приехал во Францию? Если бы он умер в Санто-Доминго, тогда действительно можно было что-то подозревать. Но когда он благополучно приехал во Францию, ради чего его следовало казнить?
Одной из самых больших глупостей, в совершении которой меня можно было бы когда-либо обвинить, — продолжал император, — было решение отозвать армию из Санто-Доминго. Мне следовало обязательно помешать этому. Я допустил большую оплошность в том, что не объявил Санто-Доминго свободным, не признал правительство чернокожих и не послал французских офицеров, чтобы помогать этому правительству до заключения Амьенского мира. Если бы я это сделал, то это было бы созвучно принципам, которыми я руководствовался. Это нанесло бы вам, англичанам, неисчислимый вред. Вы бы потеряли Ямайку, а за ней и другие колонии. Признав однажды правительство Санто-Доминго, я мог бы не отзывать свою армию оттуда до заключения мира. Но после его заключения меня постоянно забрасывали обращениями владельцы поместий в колонии, купцы и другие люди. Фактически, вся страна бушевала, требуя вернуть Санто-Доминго. И я был обязан согласиться с этим требованием; но, если бы я, до заключения мира, признал бы правительство чернокожих, то я мог под этим предлогом отказаться от каких-либо попыток вновь захватить эту колонию и, совершая это, я бы действовал вопреки собственным взглядам».
6 сентября. По указанию сэра Хадсона Лоу, я информировал графа Монтолона, что губернатор определил количество топлива для Лонгвуда в зависимости от количества, потребляемого в «Колониальном доме». Губернатор посчитал, что он обеспечил Лонгвуд топливом в достаточной мере, посылая в Лонгвуд в два раза больше угля, чем в «Колониальный дом», в дополнение к ежедневной отправке в Лонгвуд трёхсот единиц веса дров. Однако если поступят новые заявки на увеличение количества топлива, то губернатор готов удовлетворить эти просьбы жителей Лонгвуда. Я также показал графу Монтолону письмо от майора Горрекера, в котором указывается количество топлива, потребляемого в «Колониальном доме». Граф Монгол он ответил, что они, французы, не обязаны устанавливать количество топлива, необходимого для потребления в Лонгвуде, в зависимости от количества топлива, которое использует сэр Хадсон Лоу в «Колониальном доме», где растапливают только четыре или пять каминов, в то время как в Лонгвуде топят двадцать три камина. Более того, французы являются уроженцами более тёплого и сухого климата, к тому же сырой и влажный климат местности, в которой находится Лонгвуд, вызывает настоятельную необходимость топить камины. Несмотря на то, что в каминах поддерживается огонь, тем не менее, одежды графини Монтолон и его самого испорчены от постоянной сырости. Что же касается новых заявок на увеличение количества топлива, то он (граф Монтолон) не хотел бы подвергать себя оскорбительным отказам.
В течение нескольких дней Наполеон не обедал. Сообщил мне, что намерен выработать у себя привычку принимать пишу только один раз в день. Во время беседы упомянул, что однажды раздумывал о том, чтобы осуществить вторжение в Суринам. Спросил меня (поскольку я был там), считаю ли я, что эта операция завершилась бы успехом. Я ответил, что так не считаю. Во-первых, следует учитывать естественную трудность высадки войск на берег, так как большие корабли не могут подходить к нему из-за рифов и мелководья ближе, чем на семнадцать или восемнадцать миль, а прорытый канал для кораблей (где глубина воды не превышает восемнадцати футов), проходимый только во время прилива, очень труден для кораблевождения и требует помощи искусных лоцманов. Кроме того, сама страна представляет собой сплошное болото и практически не доступна для передвижения. Далее, гарнизон форта Амстердам состоит из трёх полков, не считая колониальную милицию Сам форт Амстердам хорошо укреплён и в состоянии в течение некоторого времени выдержать регулярную осаду.
Сегодня погода не была такой уж плохой, как в течение многих последних дней. Наполеон совершил прогулку вплоть до дома графа Бертрана. «Воистину, — заявил он, заговорив о погоде, — не христианская это страна».
7 сентября. Наполеон жаловался на ревматические боли и на небольшую головную боль. Своё недомогание он объяснял, и не без оснований, влажностью климата и сыростью в доме. «Каждое утро, — сообщил он, — когда я выхожу из гостиной, где есть камин, и захожу в мою спальную комнату[43], где нет камина, у меня возникает впечатление, словно я вхожу в сырой подвал. Если бы не эта комната, которую к дому пристроил Кокбэрн, где много света и воздуха и в которой я прогуливаюсь и делаю физические упражнения, то я бы уже давно находился в могиле. Но, как я полагаю, это как раз то, чего хотят ваши министры, и что является неотъемлемой частью их обращения с заключёнными в понтонных баржах.
Затем Наполеон сделал ряд замечаний по поводу «Рукописи, поступившей с острова Святой Елены». Он обратил внимание на то, что в этой работе допущена большая небрежность в хронологии описываемых событий.
Например, оказывается, что сражение при Иене произошло после Тильзита. Эта «Рукопись» заставила бы капрала старой французской армии лишь рассмеяться. «Несмотря на всё это, — добавил Наполеон, — рукопись написана умным человеком, хотя иногда ему, видимо, отказывает здравый смысл. В некоторых местах его утверждения о мотивах, которыми я руководствовался, правильны. То, что он пишет по поводу моего великодушия, соответствует истине. То, что он говорит о моих намерениях и о моём желании покончить со всем, что было установлено со времени Шарлеманя, также правильно. То, что он сообщает, что я создавал новую знать из выходцев из народа, абсолютно верно, поскольку сына крестьянина я превращал в герцога или маршала только потому, что в таком человеке я обнаруживал способности. То, что я хотел ввести систему всеобщего равенства, также верно, так как я считал, что любой человек имеет право быть избранным на любой пост, при условии, что для этого у него есть способности, независимо от его происхождения. То, что я хотел покончить со всеми старыми предрассудками, порождёнными в зависимости от происхождения того или иного лица, также является правильным. То, что я стремился создать правительство народа, которое хотя и было суровым и жёстким, но всё же было народным правительством, также верно. То, что я должен был ради моей собственной безопасности низвергнуть дом Бранденбургов, когда это было в моей власти, и все старые порядки монархов, и то, что они всегда объединялись против меня и нападали на меня, тоже правильно. Возможно, мне следовало сделать это, и я должен был в этом достигнуть своей цели.
Это верно, что я хотел создать правительство народа. Это была работа, которая очень не нравилась олигархии, потому что они не хотят, чтобы кто-либо, за исключением их самих, занял важный государственный пост. Они хотели обладать правом выбора, опираясь на свою волю, на своё происхождение, а не на таланты и способности. Никогда не существовало более худшего, более деспотического и более неумолимого государства, чем государство олигархов. Попробуйте оскорбить их однажды, и вы никогда не получите прощения, и никакое обращение с вами не будет более жестоким, чем то, когда вы окажетесь в их власти.
Рукопись написана с легкостью, свойственной французу, и, как следствие этого, она содержит много ошибок. «Ревью Эдинбурга» сразу же обнаружит, что я не являюсь автором рукописи. «Ревью Эдинбурга» выбросит эту рукопись прочь. Или они разорвут её в клочья, как поступил с ней я. Редакторы «Ревью», вероятно, сделают замечания, аналогичные моим, приведённые в моих заметках[44]. Возможно, замечания редакторов «Ревью» не будут столь строгими, учитывая то обстоятельство, что они не так хорошо осведомлены о секретах, которыми владею я. Судя по попавшему мне в руки очерку[45], который они опубликовали о моей жизни, они старались установить правду. Очерк верно описывает мою жизнь. Мне трудно представить, из каких источников они черпали информацию о событиях начала моей жизни, которые мало кому-то были известны, за исключением членов моей собственной семьи.
Эта рукопись, — продолжал он, — не была написана госпожой де Сталь, но если и написана ею, то эта работа была сделана в спешке за несколько часов и отправлена в печать без какой-либо правки. Но для госпожи де Сталь в рукописи допущены слишком большие погрешности. Мысли, высказанные в рукописи, таковы, что они вполне могли принадлежать госпоже де Сталь. Рукопись, хотя она и стала новинкой для Англии, в течение нескольких лет была предметом споров во Франции.
Автор рукописи, — продолжал Наполеон, — допустил большую ошибку, заявив, что после Иены я ничего не совершал, достойного моих прошлых заслуг. Самые значительные военные маневры, которые я когда-либо осуществил и которые я сам более всего ценю, были проведены в сражении при Экмюле. Рукопись является плодом работы какого-то молодого человека, не лишенного ума, который поспешил опубликовать её, не предоставив её кому-нибудь из моих друзей для тщательной проверки. Однако она написана с самыми благими намерениями по отношению ко мне. Если бы я сам взялся за написание подобной рукописи, то она была бы совершенно иной. Каждая строка в ней стала бы предметом дискуссий во всех странах.
Если эту рукопись освободить от ошибок и погрешностей, — добавил он, — то она была бы полезной. Автор заявляет, что в Европе грядёт революция. Это не так уж невероятно. Он утверждает, что в 1814 году на трон необходимо было посадить Бурбона; но было бы разумно оставить меня на троне после моего возвращения с Эльбы. Возможно, что он прав и в первом, и во втором случае». Наполеон добавил, что, если подобная рукопись была бы действительно написана им, то она бы произвела большой шум. «Возможно, она будет написана, — сказал он, — для моего сына, а также для будущих поколений.
Только от меня зависело, — продолжал Наполеон, — останутся ли на престоле король Пруссии и император Австрии или они будут свергнуты с него. Когда я был в Шенбрунне, то герцог Вюртсбургский часто намекал мне, что единственный способ сохранить для меня верность Австрии заключается в том, чтобы избавиться от его брата Франца и возложить корону Австрии на его голову. Позднее эти предложения были повторены мне через премьер-министра, готового отдать мне своего сына в качестве заложника, который бы стал моим адъютантом. Мне также были представлены другие всевозможные гарантии. Некоторое время я раздумывал над этим предложением. Но брак с Марией Луизой положил конец всем дальнейшим раздумьям на этот счёт. Я совершил ошибку, не приняв этого предложения. Ничего не было проще, чем осуществление этого плана».
Я спросил его, верит ли он в то, что рукопись была написана аббатом де Прадтом. «Нет, — ответил император, — я не думаю, что он был автором рукописи. О де Прадте, — продолжал он, — можно сказать, что он был кем-то вроде проститутки, которая отдаёт свое тело всему миру за плату. Однажды, когда он в моём присутствии отводил душу обычной болтовнёй и нелепыми проектами, я позволил доставить себе удовольствие и негромко пропел отрывок из шуточной песни: «Там, где вы, мосье аббат, долго шляетесь без спроса, некто будет очень рад, если вы лишитесь носа». Моё пение настолько смутило аббата, что он не мог больше вымолвить ни слова».
Говоря о плачевном состоянии дома, в котором он живёт, и о предложении сэра Хадсона Лоу построить новый дом, Наполеон заявил, что он всего лишь отказался от пристроек к нынешнему нищенскому старому дому в Лонгвуде и от проекта построить совершенно новый дом на том же самом месте, где стоит сейчас этот жалкий дом. «Губернатор, — заявил Наполеон, — спросил меня, слышал ли я о том, что на остров прибыл строительный материал для постройки нового деревянного дома, но он сказал при этом, что я не должен верить тому, что сюда выслан дом целиком. Возможно, я видел подобное утверждение в газетах, но на самом деле прибыл только строительный материал. Я сказал ему, что я не верю тому, что вижу в газетах; особенно тому, что касается меня. Губернатор заявил, что если я уже сделал выбор места для постройки нового дома, то я могу рассчитывать на это место, но при условии, если он (губернатор) одобрит это место. Без его одобрения я не могу рассчитывать на то место, которое мне понравится. Я не настолько глуп, чтобы не знать об этом ранее.
Затем губернатор очень неохотно предложил сделать пристройки к старому дому. Я ответил ему, что не хочу подвергать себя неудобствам, которые мне могут причинить рабочие своим шумом во время строительства пристроек. Английское правительство обязано обеспечить меня уже готовым домом, а не строить заново новый дом. После этого губернатор написал письмо Монтолону по вопросу строительства дома. В соответствии с моим пожеланием Монтолон ответил губернатору, что если тот планирует построить для нас новый дом, то пусть он будет построен в таком месте, где есть тень от деревьев и вода. Ничего не может быть проще этого. Это, конечно, блестящая перспектива на будущее, которую вынашивает губернатор. Отдавая должное энергичному характеру Кокбэрна, строительство нового дом потребовало бы три года, но с этим губернатором, я смею сказать, потребуются все шесть лет. Для того чтобы обстановка в доме стала жизнеспособной, его нельзя заселять в течение восемнадцати месяцев после того, как его построят. Я умру задолго до этого времени. Об этом я также сказал губернатору. «Колониальный дом» — это единственное место на острове, пригодное для того, чтобы я мог там жить».
Затем Наполеон рассказал мне, что английские слуги в доме смеются над французами, потому что они едят чечевицу. Они утверждают, что они в Англии кормят лошадей тем, что французы едят здесь. Наполеон от души смеялся, рассказывая это. Он также смеялся, когда я, в свою очередь, рассказал ему историю о д-ре Джонсоне, который в первом издании своего английского словаря дал определение слова «овёс» как «корм для лошадей в Англии и для людей в Шотландии».
Сегодня граф Монтолон позвал капитана Блэкни[46] и меня осмотреть состояние его квартиры. Комнаты, особенно спальная комната графини, детская комната и ванная, безусловно находились в ужасающем положении из-за чрезвычайной сырости самой местности Лонгвуда. Стены комнат были покрыты зелёным пушком и плесенью. Несмотря на то, что в комнатах постоянно поддерживался огонь в каминах, при прикосновении к стенам ощущались холод и влажность. Мне никогда не приходилось видеть человеческое жилище, в котором столь преобладали плесень и сырость. Дежурный офицер полностью согласился с моим мнением.
8 сентября. Встретился с Наполеоном, который сообщил мне, что вчера, когда я ушёл от него, он чувствовал себя неважно, у него разболелась голова и он ощущал боли в конечностях. В связи с этим он принял ванну, которая оказала благотворное влияние на его состояние.
Сейчас он пребывал в очень хорошем настроении. Много говорил о «Рукописи, поступившей с острова Святой Елены». Наполеон заявил, что она, должно быть, написана человеком, который не раз слышал его рассуждения и был знаком с его идеями. Он добавил, что думает, что знает автора рукописи, предполагая, что это человек, сыгравший определённую роль в революции и в настоящее время находящийся в отставке.
Расспрашивал о количестве бутылок вина, которое мы распили позавчера на нашей вечеринке. Порицал поведение г-на Бойса, который пустился в нравоучения, ссылаясь на адмирала[47]. Наполеон заявил, что человеческая совесть не ответственна перед любым судом или трибуналом: ни один человек не подотчётен любой светской власти за свои религиозные убеждения. «Если бы вы не подвергали гонениям католиков в Ирландии, — добавил он, — то, по всей вероятности, большинство из них уже давно бы стали протестантами; но гонения на них укрепляют их веру. Даже сам Питт признавал необходимость предоставлять католикам равные права с протестантами».
9 сентября. Конные скачки в Дедвуде. Присутствуют все полномочные представители. Французов из Лонгвуда на скачках не было, за исключением детей и нескольких слуг.
Во время перерыва между заездами за мной послал сэр Хадсон Лоу. Он спросил меня: «А разве лошади генерала Бонапарта не участвуют в скачках?» Я ответил, что участвуют. Его превосходительство поинтересовался, каким же это образом они здесь оказались? Я ответил, что я одолжил лошадей у генерала Гурго. Одну из лошадей я предоставил мисс Элизе Балькум, а другую — хирургу с корабля «Завоеватель». Сэр Хадсон немедленно разразился бранью, и его раздражённые жесты привлекли внимание многих зрителей скачек. Возмущённый тем, что я посмел одолжить лошадей у генерала Бонапарта без его (губернатора) разрешения, губернатор охарактеризовал мой поступок как величайший пример наглости, свидетелем которого он когда-либо был. Я дал понять губернатору, что я специально приехал на остров Святой Елены для того, чтобы узнать, что одолжить лошадь юной девушке на время скачек является серьёзным преступлением. Я также никогда не подозревал, что мне необходимо являться в «Колониальный дом», чтобы просить разрешения у губернатора брать на время лошадь, принадлежащую поместью Лонгвуда. Сэр Хадсон на это ответил, что не моё это дело — иметь собственное мнение по данному вопросу.
Незадолго до окончания скачек трое полномочных представителей, госпожа Штюрмер и капитан Гор подошли к самым внутренним воротам Лонгвуда. Там они оставались некоторое время, в течение которого губернатор, подошедший к внешним воротам, внимательно следил за ними. Вскоре граф и графиня Бертран, граф и графиня Монтолон, а также генерал Гурго вышли прогуляться и встретились за воротами с полномочными представителями, с которыми стали долго беседовать. После чего вся компания вместе проследовала к коттеджу «Ворота Хата». Стало уже темнеть, когда они вернулись.
Наполеон в хорошем настроении; из окна смотрел на ход скачек, которые ему очень понравились. Заявил мне, что он бы сделал всё в его власти, чтобы подобные конные соревнования проводились и во Франции.
12 сентября. В соответствии с приказом, переданным мне капитаном Блэкни, отправился в «Колониальный дом». После краткой беседы по поводу недавней дискуссии о количестве топлива, разрешенного Лонгвуду, сэр Хадсон Лоу вновь вернулся к обсуждению ужасного преступления, которое я совершил, одолжив одну из лошадей поместья Лонгвуда юной девушке. Поскольку я повторил всё то, что высказал ему ранее по этому поводу, то губернатор заявил, что мой стиль разговора полностью соответствует стилю обитателей Лонгвуда. Затем он резким тоном спросил меня, не получал ли я какие-нибудь книги от д-ра Уордена. Я ответил, что получил от него семь или восемь ежемесячных журналов, которые опубликовали рецензии на его книгу. «А не получали ли вы, сэр, журнал с видом Лонгвуда?»[48] Я ответил, что да, получал. «Очень странно, — заявил губернатор, — что вы не сообщили мне об этом».
Я ответил, что не обязан докладывать ему о каждой книге, которую получаю или покупаю. Я имею привычку собирать книги, брошюры и журналы самого различного содержания, изданные в Англии, и не собираюсь отчитываться перед ним о каждой полученной мною публикации. Сэр Хадсон заявил, что именно это я и должен делать. Затем он спросил меня, одалживал ли я какие-либо из этих журналов французам и имели ли они возможность видеть их. Я ответил, что, насколько мне известно, французы их не видели; в настоящее время эти журналы хранятся в моей квартире. Губернатор с большим сомнением в голосе сказал, что «очень странно, что я держал у себя эти журналы в течение двух месяцев и теперь не могу сказать, видели ли их французы или нет; и что я мог держать эти журналы в моих комнатах, чтобы показать их им с той предосудительной целью, чтобы они могли читать их во время моего отсутствия в квартире. После бесконечного разговора об этих несчастных журналах губернатор, наконец, спросил, может ли он предположить, что я не буду возражать, если я одолжу эти журналы ему. Я ответил, что, конечно, я не буду возражать против этого; журналы будут ему высланы немедленно, как только я вернусь в Лонгвуд. В число этих журналов входили «Ежемесячное Ревью», «Журнал джентльменов», «Эклектическое Ревью», «Журнал для британских женщин», «Европейский журнал» и «Новый ежемесячник».
Затем его превосходительство сообщил мне, что граф Лас-Каз в письме, которое он отправил с мыса Доброй Надежды в Лонгвуд, недвусмысленно намекнул, что он нуждается в деньгах, отданных им в долг французам. Судя по всему, заявил губернатор, французам было удобно не понять этого намека. После этого губернатор приступил к продолжительному и оскорбительному разглагольствованию по поводу статьи «О личности Бонапарта», опубликованной в «Квотерли Ревью», которую его превосходительство, видимо, считает чем-то вроде политического Евангелия.
14 сентября. Наполеон пребывает в хорошем настроении. Задавал много вопросов о лошадях, выигравших заезды, о том, как мы тренируем скаковых лошадей; сколько я выиграл или проиграл, а также о присутствовавших на скачках женщинах. «Вчера у вас была большая вечеринка, — продолжал он, — сколько бутылок вина у вас стояло на столе? Вы выпили, ваши глаза выглядят пьяными, — последнюю фразу он произнёс на английском языке. — Кто обедал с вами?» Среди других моих гостей я упомянул капитана Уоллиса. «Что? Это не тот ли лейтенант, который был с Райтом?» Я подтвердил это. «Что он говорит о смерти Райта?» Я ответил: «Он подтверждает свою уверенность в том, что Райт был убит по приказу Фуше для того, чтобы Фуше смог снискать ваше расположение. За семь или восемь недель до его смерти Райт сообщил Уоллису, что он ожидает, что его, как и Пишегрю, убьют. Поэтому Райт просил Уоллиса никогда не верить тому, что совершит самоубийство. За четыре или пять недель до своей смерти Райт сообщил Уоллису, что с ним стали обращаться лучше, ему позволили подписаться в библиотеке и получать газеты».
Наполеон ответил: «Я бы никогда не позволил, чтобы Райта казнили по приказу Фуше. Если бы Райта казнили тайно, то это было бы сделано по моему приказу, а не по приказу Фуше. Фуше знал меня слишком хорошо. Он прекрасно понимал, что если бы он попытался казнить Райта, то я сразу же повесил бы его. По собственным словам этого офицера, Райт не был заключён в одиночную камеру, так как он заявляет, что виделся с ним за несколько недель до его смерти и ему разрешали получать книги и газеты. Итак, если бы разрабатывался план казнить его, то тогда бы его поместили в одиночную камеру за несколько месяцев до его казни, чтобы люди привыкли к тому, чтобы не видеть его какое-то время. Но почему не допросить тюремщиков и надзирателей? Если бы смертная казнь Райта действительно имела место, то Бурбоны могли бы доказать это. Да и сами ваши министры не верят в это.
Что именно я предполагал сделать с Райтом, мне сейчас трудно сказать. Насколько я могу вспомнить, существовала идея отдать его под военный трибунал за то, что он высаживал на берег Франции шпионов и убийц. В этом случае приговор был бы приведён в исполнение в течение сорока восьми часов. Что именно разубедило меня сделать это, я не могу ясно вспомнить. Если бы я оказался во Франции в настоящее время и произошёл бы аналогичный случай, то я написал бы следующее письмо английскому правительству: «Такой-то ваш офицер был отдан под суд за то, что он высаживал на моих территориях бандитов и убийц. Я приказал отдать его под военный трибунал. Он был приговорён к смертной казни. Приговор был приведён в исполнение. Если кто-либо из моих офицеров, находящихся в ваших тюрьмах, виновны в совершении подобного преступления, то судите его и казните его. На это вы имеете мое полное разрешение и молчаливое согласие. В дальнейшем, если вы обнаружите кого-либо из моих офицеров, высаживающих на вашем берегу убийц, то без промедления расстреливайте такого офицера».
Дело этого Райта, — добавил Наполеон, — произвело на меня столь незначительное впечатление, что, когда лорд Эбрингтон заговорил о нём во время нашей встречи на Эльбе, я не мог вспомнить его. Мой ум был настолько занят решением грандиозных проблем, что у меня не было времени подумать о несчастном английском капитане. Вот если бы казнили Бурбонов, Моро или главарей Вандеи, то тогда действительно меня можно было бы подозревать. Я мог отдать под суд и казнить главарей Вандеи за то, что они подняли оружие против собственной страны. Все они живы. Я придерживаюсь того мнения, что, если бы я знал, что Райт был одним из офицеров Сиднея Смита и сражался против меня под Акром, то я бы послал за ним, расспросил его об осаде крепости и затем отпустил. Я хорошо помню одного офицера, которого серьёзно ранили в сражении при Акре. В то время меня восхитило его мужество, так как, получив такое ранение, он и глазом не моргнул. Я думаю, что я должен был отпустить Райта, если бы я выяснил, что он был тем самым офицером. Как теперь также выясняется, он покончил с собой тогда, когда его вот-вот должны были отпустить, поскольку я знаю, что императорский двор Испании ходатайствовал за него. Когда вы впервые заговорили со мной об этом деле, то я вообразил, что Райт специально покончил с собой, чтобы не давать показаний против ваших министров. Я придал большую степень героизма этому поступку, за который он, с моей точки зрения, достоин самого высокого уважения. Для того, чтобы вы, англичане, покончили с собой, требуется очень многое».
Наполеон затем стал подшучивать надо мной в связи с моим предполагаемым чрезмерным вниманием к мисс N, заявив, что я должен жениться на ней. Я ответил, что я недостаточно богат, недостаточно молод, чтобы претендовать на руку такой красивой молодой девушки. Тогда Наполеон стал рассказывать мне о некоторых своих любовных приключениях. «Самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел, — заявил он, — была ирландская девушка, мадемуазель Г; я не уверен в том, родилась ли она в Ирландии или происходила родом из ирландской семьи. Это было в то время, когда я был женат на Жозефине, и задолго до того, когда я сочетался браком с Марией Луизой. Однажды, когда я охотился в Сен-Жерменском лесу, кое-кто из интриганов императорского двора подставил её мне на моём пути, замыслив дело так, что она должна была подойти ко мне с прошением в руке. Когда она представилась и заявила, что у неё есть прошение, её пропустили ко мне, так как согласно приказу лица с прошениями всегда могли подойти ко мне и вручить его. Она упала на колени передо мной и передала мне своё прошение. Её голова была прикрыта вуалью, не скрывавшей её лица, которое было действительно божественным.
Конечно, я был очарован ею, и хотя я подозревал, что за всем этим кроется какая-то интрига, встреча с нею была для меня приятной. После этой первой встречи я раза три или четыре виделся и беседовал с нею. Бывало, я позволял с ней небольшие вольности, которые ограничивались тем, что я похлопывал её по щекам. В это время из секретного отделения почты мне доставили письмо её матери, адресованное ей. Её мать оказалась старой интриганкой. В своём письме она давала дочери указания, которые полностью пролили свет на её истинное лицо. В письме содержались инструкции относительно поведения её дочери по отношению ко мне при самых различных обстоятельствах. Это письмо убедило меня в том, что мне не следует поощрять развитие отношений с этой девушкой, и, хотя я, несомненно, был охвачен страстью к ней, ибо она была прекрасна, как ангел, я отдал приказание, чтобы её никогда ко мне не допускали. По прошествии времени мне как-то рассказали, что она в самом деле была неравнодушна ко мне и была бы мне верна. В настоящее время она замужем за М., очень богатым человеком, но по-прежнему, я склонен верить, она сохраняет нежные чувства ко мне.
Вечером, накануне моего отъезда из Парижа в Ватерлоо, — продолжал Наполеон, — во дворец пришла красивая англичанка и попросила разрешения повидаться со мной. Её встретил Маршан, сообщивший, что это невозможно. В ответ она сказала, что она — английская дама и подруга мадемуазель Г., которую я хорошо знаю, и что она убеждена, я должен увидеться с ней. Она заявила, что я не могу отказаться от встречи с молодой девушкой, которая любит меня и восхищена моей личностью. Маршан объяснил ей, что я собираюсь на следующее утро покинуть Париж, и поэтому меня нельзя беспокоить. Услыхав это, она была явно огорчена и с большой неохотой ушла из дворца. Возможно, она была просто красивой интриганкой или той женщиной, в голову которой запала навязчивая идея обо мне. Когда женщина вобьёт себе что-то в голову, то ничто на свете не помешает ей добиться своей цели.
Вскоре после того как я овладел Веной, австрийская принцесса N только и думала обо мне, когда вокруг было столько много разговоров о моей персоне. Она была одной из тех принцесс, о которых вы знаете, что они буквально наводнили всю Германию. Ничто не остановит женщину, если она полюбит. Вся в мыслях обо мне, она приехала в Шенбрунн и потребовала встречи со мной. Мюрат, обладавший красивой внешностью, попытался добиться её расположения, но она с презрением отвергла его притязания. Я приказал принять её и представился ей как маршал Дюрок. Она лишь немного говорила по-французски и по-итальянски, а я не мог разговаривать по-немецки. Я попросил её не говорить так громко, так как император мог услышать её, и показал на Дюрока, сказав, что он и есть император; но её нельзя было так просто обмануть. Она видела меня ранее проезжавшим на лошади и сейчас воскликнула: «Нет, нет, это вы, вы — император!» Она была чрезвычайно миловидна и очень откровенна в своих признаниях».
Наполеон затем вспомнил о голословном утверждении, которое, как говорят, сделал в палате общин лорд Каслри в его адрес; а именно: якобы Наполеон составил список самых богатых наследниц во Франции, которых он в приказном порядке заставлял выходить замуж за того или иного генерала по его усмотрению. Будто никто из этих наследниц не мог выйти замуж без его разрешения и что они были обязаны выходить замуж за тех лиц, которых он считал нужным предоставить им. Наполеон заявил, что все эти утверждения являлись полнейшей ложью. «Насколько все эти утверждения далеки от правды, — добавил Наполеон, — говорит тот факт, что не в моей власти было женить даже Коленкура на женщине, которую я очень хотел видеть рядом с ним. Она была дочерью N, являвшимся президентом палаты, чрезвычайно богатым человеком. Она была красивой девушкой и её отец был готов выделить ей большое приданое. Я сам просил отца девушки оказать мне любезность, выдав дочь за Коленкура, но он мне решительно отказал в этом. В то время Коленкур был одним из моих фаворитов. Это всё, что касается правдивости Каслри».
19 сентября. Отправился в «Колониальный дом», повинуясь указаниям сэра Хадсона Лоу, полученным мною через капитана Блэкни. Губернатор также пожелал, чтобы я захватил с собой отчёт о состоянии здоровья Наполеона.
Когда я приехал, сэр Хадсон Лоу потребовал у меня вышеупомянутый отчёт, который констатировал, что, за исключением лёгких простудных заболеваний, состояние здоровья Наполеона удовлетворительное. Сэр Хадсон Лоу спросил, были ли какие-либо осложнения после простудных заболеваний. Я ответил, что не было. Губернатор сообщил мне, что и другие лица, помимо меня, сообщают о состоянии здоровья Бонапарта. Например, госпожа Бертран рассказала полномочным представителям, что он чувствует себя чрезвычайно плохо.
Только потому, что полномочные представители видели его стоявшим на веранде, они не должны верить, что он находится в полном здравии. Я повторил, что он страдал от недомогания, которое не приняло серьёзного характера.
Сэр Хадсон Лоу затем заявил, что он слышал многое, хотя и не весь разговор, который произошёл между французами и полномочными представителями, и что все французы, за исключением одного, явно злоупотребляли представившейся возможностью. И каждый раз, когда граф Бертран имел возможность говорить с ними, он всегда злоупотреблял ею. Во время скачек Монтолон получил единственную возможность говорить с полномочными представителями, и, как утверждает он (сэр Хадсон), Монтолон полностью использовал эту возможность для того, чтобы ввести их в заблуждение.
20 сентября. Виделся с Наполеоном, когда он принимал ванну. Поначалу он пребывал в невесёлом настроении. Пожаловался на ноющую боль в правой щеке от заболевшего зуба. Дёсны — мягкие, кровоточат при легчайшем нажатии. Лодыжки и ноги немного опухли. По ночам он подвержен сильной бессоннице. В качестве объяснения своего состояния Наполеон привел несколько причин, которые убедили меня в том, что Корвисар был прав, рекомендуя ему верховую езду. Со своей стороны я также посоветовал Наполеону как можно больше ездить верхом, стараясь при этом ездить быстро. Наполеон заявил, что при нынешних ограничениях, когда он может быть оскорблён часовым, если он хотя бы немного отклонится от дороги, он лишён возможности разогнать лошадь. Наполеон считает, что ни я, ни любой другой англичанин, который окажется в его положении, не воспользуется привилегией верховой езды, будучи связанным подобными ограничениями. Это заявление Наполеона я оставил без ответа, поскольку, если бы я выразил мои истинные чувства не как врач, а как человек, я должен был бы согласиться с его мнением. Я ограничился тем, что порекомендовал ему противоцинготные овощи. «Доктор, скоро вы меня здесь не увидите; я бы хотел, чтобы это случилось уже сегодня вечером. Чувствую, что мой организм не в состоянии более работать. Как бы то ни было, но он прислан сюда, чтобы медленными пытками заставить мой организм прекратить работу. В грядущих поколениях он за это заплатит сполна. На самую отвратительную скалу во всём мире они прислали человека, навязывающего ограничения, которые никогда не применялись революционными трибуналами во главе с Маратом. Даже там всем осужденным, пока они жили, разрешали газеты и книги. Они не угасали в агонии и с их жизнью не медлили, чтобы представить их смерть как результат естественного исхода. Эта утонченная жестокость не была известной ни Билло де Варенну, ни Колло д’Эрбуа.
Я прошу вас, — продолжал Наполеон, — не могли бы вы одолжить мне газету или книгу? Не могли бы вы даже одолжить мне какую-нибудь книгу, связанную с наукой?»
Затем Наполеон высказал ряд замечаний по поводу поступка г-на П., продавшего собственную жену[49]. Наполеон заявил, что этот поступок не делает чести губернатору. Если бы подобное случилось во Франции, то генеральный прокурор преследовал бы в уголовном порядке виновных в преступлении. Этот поступок производит впечатление самого постыдного случая, особенно если учесть, как это потом выяснилось, что он был санкционирован властями — и гражданской и военной, — подведомственными губернатору.
Наполеон затем обратил внимание на то, что он никак не может понять, каким образом и откуда «Эдинбургское Ревью» получило так много точной информации, касающейся лично его. «Об этом случае, — заявил он, — связанном с публикацией брошюры «Завтрак трёх друзей», я никогда никому не говорил. Это верно, что её автором был я и что она произвела большое впечатление во Франции, но я не помню, чтобы я кому-то об этом рассказывал.
Тем не менее, «Ревью» допустило несколько ошибок. Я никогда не знал Барраса в Тулоне. Я впервые познакомился с ним в Париже после осады Тулона.
Брак с Марией Луизой, — добавил Наполеон, — не повлиял на мой характер. Я остался точно таким же, каким был и раньше. Никогда ещё ни одна женщина не была так удивлена, как Мария Луиза, когда она узнала, что я почти не прибегаю к мерам предосторожности, чтобы обеспечить свою безопасность. Ей трудно было понять, почему во дворце нигде нет часовых, кроме тех, кто стоял у внешних ворот дворца, что не было вельмож, спящих у дверей императорских апартаментов, что двери во дворце даже не запирались и что в комнатах, где мы спали, не было пистолетов и огнестрельного оружия.
«Почему, — спросила она с удивлением, — ты не принимаешь столько мер предосторожности, как мой отец, которому нечего бояться?»
Я, — продолжал Наполеон, — по своему характеру слишком большой фаталист, чтобы принимать меры предосторожности против покушений на мою жизнь. Когда я был в Париже, я, бывало, выходил на улицу и безо всякой охраны прогуливался среди народа, получал от людей прошения, и часто они так тесно окружали меня, что я не мог пошевельнуться».
Я спросил, в каком бою или в каких боевых схватках он почувствовал себя в наибольшей опасности. Наполеон ответил: «В начале моих военных кампаний.
В Тулоне и особенно в сражении при Арколе. В Арколе подо мной ранили лошадь; животное, сбесившись от боли, зажало удила между зубами и галопом ринулось в сторону врага. В смертельной агонии лошадь бросилась в трясину и испустила дух, оставив меня почти до самой шеи в болоте в таком положении, из которого я сам не мог выбраться. В какой-то момент я подумал, что австрийцы помчатся ко мне и отрежут мою голову, которая возвышалась как раз над поверхностью болота. Они могли бы это сделать, поскольку я не был в состоянии оказать им ни малейшего сопротивления. Однако добраться до меня по болоту было очень трудно, да к тому же на помощь мне бросились мои солдаты, которые спасли меня».
Я спросил его, часто ли он получал лёгкие ранения. Он ответил: «Несколько раз, но к помощи хирурга я едва ли обращался более одного случая, а после ранений меня обычно не лихорадило. В сражении при Маренго пушечное ядро оторвало часть моего сапога и немного содрало кожу ноги, — сказав это, он показал мне шрам на ноге, — но для подобных ран я использовал только обрывок ткани, смоченной солью и водой». Я спросил его о ране, от которой остался глубокий шрам на внутренней части левого бедра, чуть-чуть выше колена. Он объяснил, что это была рана от удара штыком. Я спросил, часто ли убивали под ним лошадей. Он ответил, что в его жизни под ним убили около восемнадцати лошадей.
«Полк под командованием де ла Фера, — продолжал рассказывать Наполеон, — в котором начиналась моя военная карьера, вёл себя так плохо по отношению к жителям Турина, что я был вынужден распустить его. В соответствии с принятым решением я заставил полк отправиться маршем в Париж и там приказал всему полку стоять в парадном построении. Я приказал нескольким полковникам забрать их полковые знамёна и поместить их в церкви Дома инвалидов с траурными лентами. Я распределил офицеров, которые вели себя не так скверно, как главные зачинщики, по другим полкам. Несколько месяцев спустя я вновь сформировал этот полк, но под командованием других офицеров. Прежние полковые знамёна были торжественно вынесены из церкви несколькими полковниками, каждый из которых отрывал от знамени его кусок, затем сжигал его, а новые знамена ставились на положенное им по уставу воинской службы место.
Когда мне было примерно семнадцать лет, — сказал Наполеон, — я чуть было не утонул в реке Саон. Когда я плавал, меня схватила судорога, и после безуспешной борьбы со стихией я пошёл ко дну. В этот момент я пережил все чувства надвигающейся смерти и потерял сознание. Однако, после того как я потонул, быстрое течение реки вынесло меня к песочной отмели и выбросило на самый её край. Я не помню, сколько лежал там в бессознательном состоянии. Я был возвращён к жизни моими юными товарищами, которые, благодаря счастливому случаю, увидали меня лежащим на отмели. Незадолго до этого они решили, что я погиб, так как они видели, как я тонул, но найти меня они не могли: стремительное течение реки отнесло меня на значительное расстояние».
Просматривая ряд номеров газет (в основном газеты, издаваемые в Портсмуте), Наполеон обратил внимание на статью, в которой сообщалось, что N закупил большие земельные участки на севере Ирландии. «Ах, — воскликнул Наполеон, — часть моих денег ушла на покупку этих участков. После моего отречения от престола в Фонтенбло свыше сорока миллионов франков, принадлежавших лично мне, были отобраны у моего казначея около Орлеана[50]. Из этих денег около двадцати пяти миллионов были поделены между Т., М., X. и К. Деньги, захваченные подобным образом, включали свадебное приданое императрицы Марии Луизы, выплаченное в золотых соверенах и в старых немецких монетах. Остаток этих денег был помещён в казначейство Франции. Вся эта сумма была мне гарантирована договором, заключённым в Фонтенбло. Доля моих денег, которую К. присвоил себе, была очень большой, и точная сумма мне известна».
Затем Наполеон обсудил те качества, которые необходимы, чтобы стать хорошим генералом. «Ум генерала должен быть ясным и он обязан видеть всё, как если бы он смотрел через полевую подзорную трубу, и при этом он всегда обязан представлять себе общую картину сражения. Изо всех генералов до меня и, возможно, после меня лучшим был Тюренн. Маршал Сакс — всего лишь просто генерал, лишённый глубокого ума; Люксембург — генерал большого ума; Фридрих Великий — генерал большого и глубокого ума, обладавший быстрой проницательностью и способностью постижения любого дела. Ваш Мальборо, помимо того что он был великим генералом, был также человеком большого ума. Судя по боевым действиям Веллингтона, по принимаемым им решениям и, прежде всего, по его отношению к Нею, я должен заявить, что он — человек неглубокого ума, у него отсутствуют благородство и величие души. Насколько мне известно, такого же мнения придерживаются Бенжамен Констан и госпожа де Сталь, которые считают, что если говорить о нём не как о генерале, а как о человеке, то он — посредственная личность. Однако для того чтобы найти генерала, равного ему в вашей стране, вы должны вернуться во времена Мальборо, но, помимо всего прочего, я думаю, что в историю он войдёт как ограниченный человек».
21 сентября. Примерно за шесть минут до десяти часов вечера в Лонгвуде ощутили три отчётливых толчка землетрясения. Сначала весь дом стало трясти, что сопровождалось грохочущим и громыхающим шумом, словно по верхним апартаментам протащили какой-то тяжёлый предмет, наподобие перегруженной телеги. За этим шумом последовало очевидное дрожащее движение земли. Стаканы стали дребезжать, а со стен стали сваливаться картины. Продолжительность происшедшего события равнялась от шестнадцати до двадцати секунд. Капитан Блэкни и я, сидевшие вместе, когда всё это случилось, имели достаточно времени от начала события до его конца для того, чтобы понять его причину и обменяться мнением о том, что бы это могло быть, прежде чем мы пришли к правильному выводу, с которым мы поделились ещё до того, как всё окончилось[51]. Землетрясение никакого вреда не нанесло.
Генералы Монтолон, Гурго, все французские и английские обитатели дома вышли наружу. Никакой тревоги у них не наблюдалось. Генерал Монтолон рассказал мне, что его сын Тристан, который в это время спал, проснулся от толчка землетрясения и закричал, что кто-то пытался сбросить его с кровати. Генерал Гурго также слышал три отчётливых толчка. При опросе часовых, совершавших обход вокруг дома, они сообщили, что ничего необычного не заметили. Их ответ может быть объяснён тем фактом, что в это время дул настолько сильный ветер, что они прилагали неимоверные усилия, чтобы сделать каждый шаг против него. Ощущение толчков чувствовалось очень сильно в нашей кухне, примерно в сорока ярдах от дома, а также в комнате для часовых, приблизительно в пятистах ярдах от дома, особенно теми солдатами, которые лежали на полу.
Остров очень мало пострадал от землетрясения. Как выяснилось, направление толчков было перпендикулярным. Если бы оно было горизонтальным, то Джеймстаун был бы завален громадной массой осколков скал.
22 сентября. Встретился с Наполеоном в его спальной комнате. Когда я вошёл в комнату, он был занят тем, что что-то подсчитывал. Он поднял голову, взглянул на меня и сказал, улыбаясь: «Итак, г-н доктор, прошлым вечером мы испытали землетрясение». Я рассказал, что почувствовал три отчётливых толчка. Закончив через некоторое время свои подсчёты, он встал из-за стола и сказал, что во время землетрясения он находился в постели. «Во время первого толчка я вообразил себе, что произошёл какой-то инцидент с кораблём «Завоеватель»; что на корабле возник пожар и он взорвался[52], или на острове взорвался какой-то пороховой склад. Во время второго толчка я немедленно понял, в чём дело, и сказал себе, что это землетрясение».
Я спросил его, слышал ли он гул, сопровождавший землетрясение. Я сказал ему, что, по моим подсчётам, оно продолжалось от шестнадцати до восемнадцати секунд. Наполеон ответил, что оно продолжалось всего около двенадцати секунд. Он упомянул, что однажды он испытал толчок землетрясения на рассвете дня на подступах к Ферраре.
Землетрясения стали темой нашего дальнейшего разговора, во время которого я сообщил о том, что один толчок землетрясения ощущался на острове Святой Елены в 1756 году, а другой — в 1782 году. Я высказал предположение, что некоторые фанатики и суеверные люди, живущие на острове, будут объяснять возникновение землетрясения тем, что здесь присутствует Наполеон. Ведь ранее португальцы утверждали, что сильный и разрушительный юго-восточный ветер, который обрушился на Мадейру в 1815-м году и наделал столько бед, когда корабль «Нортумберлэнд» стоял на рейде Фуншала, возник в связи с тем, что на Мадейру на борту «Нортумберлэнда» находился Наполеон. Выслушав мой рассказ, Наполеон от всего сердца рассмеялся и заявил, что для того, чтобы нынешнее землетрясение на острове Святой Елены вошло в историю, следовало бы, чтобы он случилось сразу же после его приезда на остров или несколько дней спустя.
Наполеон затем сказал, что, как ему сообщили, лорд Мойра потребовал двести тысяч дополнительных европейских войск в Индию. «Я не верю этому, — заявил Наполеон, — но если возникла какая-то необходимость направлять войска в Индию, то это произойдёт вследствие глупости ваших министров, уступивших Франции некоторые владения к востоку от мыса Доброй Надежды. Если же это на самом деле правда, то причиной этого решения, по всей вероятности, стали интриги некоторых французских авантюристов из числа тех, кто сейчас во множестве остались без работы и ненависть которых к вам объединилась с необходимостью найти средства к существованию, в связи с чем они стали настраивать людей народности маратхи против вас, англичан.
Вместо того чтобы уступать французам Пондишерри и остров Бурбон, вам следовало поступить так, как поступили римляне с жителями Карфагена, и сказать: «Вы не должны вызывать волнения за пределами такой-то широты», но не всегда, поскольку это было бы несправедливо, а в течение лет десяти или дольше, до тех пор, пока ваши, английские, опасения о безопасности индусов не кончатся. Я придерживаюсь той точки зрения, что уступка французам Пондишери и Бурбона будет стоить вам отправки в Индию дополнительных десяти тысяч европейцев, не улучшив при этом положения Франции, в котором она сейчас пребывает под пятой этих глупцов Бурбонов. Даже когда я был на вершине власти, я бы не дал и гроша за те владения, если бы не те надежды, которые я всегда питал, рассчитывая на то, что я выдворю вас из Индии; для осуществления этого, а также для поддержания связи с Индией, мне были так необходимы острова Маврикий и Бурбон.
Ежегодно я принимал послов от набобов и других индусских принцев, особенно от народности маратхи, умолявших меня о помощи и предлагавших выгнать вас из Индии, при том условии, что я пришлю им четырнадцать или пятнадцать тысяч пехотинцев, артиллерию и офицеров. Они обещали доставить всю свою конницу, если я пришлю им офицеров, чтобы те обучали их войска. Ненависть, которую они испытывали против вас, была просто удивительной. Ежегодно по различным каналам я получал эти предложения. Письма с этими предложениями я тайно часто получал от приезжавших ко мне через остров Маврикий на борту датских кораблей или по суше мелких торговцев. Возможно, у вас была некоторая заинтересованность в том, чтобы уступить Пондишери, полагая, что тем самым вы сможете переправлять контрабандой ваши индийские товары во Францию, используя французские суда. Но это не может послужить для вас достаточным утешением, если сравнить его с тем ущербом, который принесёт вам близость к вашим владениям в Индии соперничающей с вами нации, такой, как французская. Уступая Франции эту колонию, вы также вызываете у этой страны зависть и желание вернуть себе то, что она имела ранее в Индии. Тогда как если бы Франция ничего бы не имела, то она вскоре бы забыла о том, что когда-то у неё были какие-то владения в Индии. Вам не следовало разрешать французам или какой-либо другой стране совать свой нос за пределы мыса Доброй Надежды.
Вы должны были монополизировать для себя всю торговлю с Китаем. Вместо того чтобы собираться воевать с китайцами, вам надо было вести войну со странами, которые стремятся торговать с ними. Вы не должны были допустить, чтобы американцы направили туда хотя бы один корабль. Вы отдали Батавию голландцам, которым, вслед за французами, вы должны, и это в ваших интересах, закрыть доступ в Индию. Голландцы поглощают большое количество чая, который должен доставляться вами. Первая и главная цель любой нации заключается в том, чтобы учитывать свои собственные интересы, особенно тогда, когда другая страна стремится чего-то добиться. После моего падения вы могли получить всё, что вам заблагорассудится, но в то время, когда другие страны приобретают себе территории, вы пренебрегаете вашими собственными интересами и даже забываете заключать договора, выгодные для вашей торговли. В результате вы терпите убытки и будете их терпеть. И уловки, к которым вы прибегаете, только отсрочат чёрный день».
25 сентября. Вечером, примерно в восемь часов, Наполеон послал за мной. Нашёл его в спальной комнате. Он пожаловался на слабую головную боль, а также на боли в правой щеке, которые он, по его словам, почувствовал сразу же после выхода в сад в результате воздействия сильного ветра, помешавшего ему находиться на свежем воздухе более пятнадцати минут. Он чувствовал некоторую тошноту и во время обеда практически не прикасался к еде. После того как я порекомендовал ему то, что считал полезным, он спросил меня (как это бывало и раньше), к какому типу темперамента, по моему мнению, принадлежит он и что необходимо делать, чтобы поддерживать его здоровье в хорошем состоянии.
Я ответил, что он по своему темпераменту принадлежит к такому типу людей, которым необходимо проявление большой активности; что он должен почти постоянно проявлять и физическую, и умственную активность; что без применения и умственной и физической активности, с моей точки зрения, он долго не сможет оставаться в добром здравии; что он из тех людей, которым необходимо много двигаться. «Вы правы, — ответил император, — такой образ жизни мне был необходим всю мою жизнь, необходим он мне и сейчас, а также будет необходим до тех пор, пока мой организм будет в состоянии работать. Тренировкой ума я занимаюсь почти ежедневно, благодаря тому, что я пишу и диктую. Тренировкой тела я бы занимался даже на этом острове, если бы не находился в руках этого палача. Но при существующей системе заниматься этим мне никогда не придётся. Я никогда не позволю себе отправиться по дороге, чтобы меня встретил часовой с оскорблениями, а если я сверну с дороги, то получу и пулю в грудь».
26 сентября. Встретился с Наполеоном в девять часов утра. Он пожаловался на болезненные ощущения в нижних конечностях. Его ноги, особенно левая нога, опухли, а на лодыжках при нажатии пальцем оставались ямки. Он не чувствовал никакого аппетита. Иногда были приступы тошноты. Дёсны — рыхлые. Я рекомендовал ему, в дополнение к физическим упражнениям, продолжать есть в большом количестве противоцинготные овощи. Он не стал принимать лекарство, которое я ему посоветовал, но не по причине какого-то страха перед ним или из-за его горького вкуса, но потому, что считал, что чем больше человек принимает лекарств, тем больше привыкает к ним. «Примите однажды дозу лекарства, — заявил он, — и, по всей вероятности, потом вы будете принимать их сотнями».
Затем он в моём присутствии съел свой завтрак, состоящий из трёх редисок, небольшого поджаренного ломтика хлеба, кусочка масла и маленькой чашки кофе с молоком.
28 сентября. Встретился с Наполеоном в одиннадцать часов утра. Он был почти в таком же состоянии, как и вчера. Лодыжки — отёчные; аппетит — плохой; после вчерашнего завтрака ничего не ел. Его тело стало настолько чувствительным к внешнему воздействию даже лёгкого ветра или слабого холода, что они вызывали у него простудные и ревматические осложнения. Я предложил пригласить к нему для консультации д-ра Бакстера, обосновывая своё предложение тем, что, когда такое влиятельное лицо, находящееся в таких специфических условиях, испытывает хотя бы малейшее недомогание, то вполне разумно воспользоваться первым же представившимся медицинским советом.
Наполеон ответил: «В этом нет никакой необходимости. Если собрать вместе всех медицинских коллег Франции и Англии, то они дали бы точно такой же совет, как и ваш, а именно: заниматься верховой ездой. Я знаю сам не хуже любого врача, что именно мне нужно. Мне необходимы физические упражнения. Вызов Бакстера ко мне означал бы то же самое, что и направление врача к человеку, умирающему от голода, вместо того чтобы дать ему кусок хлеба. Я не возражаю против того, чтобы вы ознакомили Бакстера с моим состоянием здоровья, если вы захотите сделать это. Но я уверен в том, что он скажет, что мне необходимы физические упражнения. До тех пор, пока действующая система будет оставаться в силе, я никогда не стану ездить на лошади по указанной мне дороге».
Когда же я опять стал настаивать на своём, он спросил: «Что, вы хотите, чтобы меня остановил и оскорбил часовой, как он поступил несколько дней назад с госпожой Бертран в десять минут седьмого вечера, когда ещё не зашло солнце? Если бы я был на её месте, то то же самое случилось бы и со мной, так как часовой имел указания останавливать всех. Для губернатора представилась бы блестящая возможность написать об этом в Лондон, где в витринах магазинов для продажи эстампов выставили бы карикатуру на Наполеона Бонапарта, остановленного у ворот Лонгвуда часовым, нацелившим своё ружьё в мою грудь. Лондонцы посмеялись бы от души. До тех пор, пока все проблемы не будут решаться так, как они решались во времена адмирала Кокбэрна с одобрения его правительства, или пока они не будут решаться подобным же образом, я отказываюсь пользоваться верховой прогулкой.
Законопроект, принятый парламентом, совершенно ясен; он не подлежит никаким изменениям, за исключением тех, которые приняты в соответствии с приказами принца-регента и Тайным советом и подписаны принцем-регентом или лордом Ливерпулем, но не лордом Батхерстом. Я считаю, что все ограничения, не введённые ими, равны нулю. Конечно, силой можно добиться всего, и для того чтобы избежать возможности быть оскорблённым, я вынужден уединяться и не покидать дом. До тех пор, пока я со всей достоверностью не узнаю, какие действительно введены ограничения и кто именно их ввёл, я не буду показываться вне дома и не стану мишенью капризов моего врага. Тем, что он запретил мне разговаривать с людьми, которых я мог встретить во время моих прогулок, он нанёс мне величайшее оскорбление. Это правда, что впоследствии он отменил это ограничение; но если он властен вводить те ограничения, которые ему заблагорассудится, то он вполне может вновь ввести его под каким-либо предлогом. Для человека, который властен поступать так, как ему нравится, недостатка в предлогах никогда не будет. Духовные ограничения для человека, подобного мне, находящегося в заключении, имеют тот же самый эффект, как и железные цепи на ногах рабов, заключённых на галерах. Физические ограничения вводятся для грабителей и рабов на галерах. Духовные ограничения вводятся для людей образованных. В полку нет ни одного младшего лейтенанта, который бы вышел из лагеря, если бы он был подвергнут ограничениям, которым подвергнут я.
Я спросил посла: «Вышли бы вы, милорд, на прогулку, не имея разрешения поговорить со встреченными вами людьми, кроме обмена общим приветствием «Как поживаете?», если при этом не присутствует сопровождающий вас офицер? (Это верно, что он отменил это ограничение, но он может ввести его вновь, в зависимости от своего настроения.) Продолжите ли вы эту прогулку, не имея при этом разрешения сойти с дороги направо или налево? Рискнёте ли совершить прогулку вне поместья Лонгвуда, будучи связанным обязательством вернуться в Лонгвуд к шести часам вечера, так как в противном случае вы будете остановлены часовым у ворот Лонгвуда?» Посол немедленно ответил мне: «Нет, я поступил бы так же, как и вы, я бы остался в своей комнате».
Есть различные возможности убить человека: застрелить пистолетом, заколоть шпагой, отравить ядом и осуществить духовное убийство, что и делается в отношении меня. Во всех этих случаях человека ждёт один и тот же смертельный исход, за исключением того, что последний способ является наиболее жестоким. Когда здесь был адмирал, человек жёсткого характера, то вы помните, что я вёл совершенно иной образ жизни. Я совершал верховые прогулки три или четыре раза в неделю, встречался с людьми и даже приглашал английских офицеров, их дам, а также других лиц к себе на обед. К адмиралу я чувствовал доверие. Я верил его слову. И в мою голову никогда не приходило даже малейшее подозрение о каком-либо злом умысле с его стороны, потому что он был прямым и честным человеком, он никогда не кривил душой и не был придирчивым. Хотя я часто спорил с ним и считал его человеком суровым, тем не менее я уважал его характер и его честность.
Если бы у меня возникло намерение совершить самоубийство, как намекает этот тюремщик, то я бы совершил его в самом начале моего пребывания на этом острове, когда моё существование на нём было чрезвычайно тягостным. Кроме того, если бы у меня было такое намерение, то на этот случай в моём распоряжении находится пистолет. Я не люблю продолжительную войну. Какие неудобства причиняли мои прогулки верхом во времена Кокбэрна? Эти ограничения навязаны мне специально, чтобы я, не унижая собственного достоинства и не позволяя предстать в глазах всего мира объектом презрения, добровольно подвергнул себя заключению в одиночной камере. Тем самым с течением времени я стану жертвой болезни. Таким образом, моя жизнь завершится длительной агонией, которая якобы приведет к естественной смерти. Таков план моего физического уничтожения и выбранный способ моего убийства несомненен, но он более жесток и преступен, чем удар шпагой или выстрел из пистолета.
Единственный из нас, — добавил Наполеон, — кто регулярно совершает прогулки верхом, так это, я могу сказать, Гурго. Там, на дороге, его останавливали свыше пятидесяти раз. Если бы я был на его месте, то же самое случилось бы и со мной. Однажды во времена адмирала я был остановлен часовым, и адмирал немедленно из-за этого перевернул весь остров вверх дном. Я ясно видел, что он в высшей степени недоволен случившемся и принял меры, чтобы подобное более не повторилось. Теперь же это животное, наоборот, был бы этому рад или чему-нибудь ещё, что унизило бы меня.
Я более, чем уверен, — добавил Наполеон, — что варварское обращение, которому я подвергаюсь, будет отомщено кровью невиновных англичан. В соответствии с доводами и доктринами ваших министров, держать меня на этом острове является полезным делом, каждый поступок в отношении меня, каким бы он ни был жестоким, может быть оправдан. Разве не было бы для меня полезно организовать убийство Нельсона или Веллингтона? Разве не было бы полезно для французского народа избавиться от союзных войск, отравив их хлеб и воду? Разве не было бы полезным для него убить Веллингтона? Дело не в полезности рассматриваемого поступка, а в его справедливости; ибо, в соответствии с бытовавшим ранее принципом, любой вид преступления может быть, видимо, оправдан, так как он может быть полезен и поэтому необходим. Такова доктрина Талейрана».
Вскоре после этого в Лонгвуд приехал сэр Хадсон Лоу, который, задав несколько вопросов о состоянии здоровья Наполеона, спросил, разговаривал ли я с ним по поводу его жалоб, касающихся обращения с ним. В ответ я передал губернатору суть вышеупомянутых бесед с Наполеоном, опустив при этом эпитет «палач». Его превосходительство подозвал майора Горрекера, чтобы тот присутствовал в качестве свидетеля, заявив при этом, что он не верит тому, что сказал Наполеон о лорде Амхерсте. Губернатор также заявил, что он не верит и в существование тех намерений, которые Наполеон приписывал определённым лицам. Губернатор спросил меня, говорил ли я что-нибудь в ответ Наполеону. Я ответил, что нет. Губернатор заявил, что для меня не представляло труда возразить Наполеону, если бы для этого у меня имелось желание, но, судя по всему, я придерживаюсь той точки зрения, которой, как утверждает генерал Бонапарт, придерживается лорд Амхерст. В связи с этим губернатор спросил меня, так ли это.
Я ответил, что, будучи медицинским работником, я настоятельно рекомендовал Наполеону верховую езду в качестве физического упражнения. Мой ответ не удовлетворил сэра Хадсона Лоу, который рассерженным тоном повторил свой вопрос. Я ответил, что пришёл к выводу, что мои ответы на его (губернатора) вопросы, вызывают столь сильный гнев его превосходительства, что я должен просить у него разрешения не отвечать ни на какие-либо его вопросы, если они не касаются медицинских тем: более того, моя точка зрения имеет слишком малое значение. Мой ответ очень не понравился сэру Хадсону Лоу, который заявил, что бесполезно ждать чего-либо хорошего от человека, настроенного подобным образом, что он не доверяет ни одному человеку в окружении генерала Бонапарта. После этого последовало длительное, но довольно терпимое разглагольствование его превосходительства, во время которого он обвинил Наполеона в том, что тот до отказа наполнил голову посла разными клеветническими утверждениями и специально отложил встречу с ним до последнего дня, перед самым отъездом посла с острова, для того, чтобы он (сэр Хадсон) не имел возможности опровергнуть клевету генерала Бонапарта. Свой монолог губернатор завершил тем, что спросил: «Не считаете ли вы, сэр, что генерал Бонапарт самым постыдным образом отзывался обо мне в беседе с лордом Амхерстом?»
Я ответил, что Наполеон чувствовал себя настолько плохо, что был не в состоянии принимать посетителей. До последнего момента он не мог решить, следует ли ему принимать его светлость или нет. Лорд Амхерст находился в доме его превосходительства в течение нескольких дней и имел достаточно много возможностей для того, чтобы ознакомить его светлость со всеми подробностями. Если меня правильно информировали, лорд Амхерст виделся с его превосходительством и беседовал с ним в течение нескольких часов после беседы с Наполеоном, с которым он был только два часа. Этот ответ вызвал неподдельный гнев у его превосходительства, который, бросив на меня взгляд с яростным выражением лица, которое я никогда не забуду, заявил, что «если бы это не стало предметом официальной жалобы, то я бы немедленно и не ожидая указаний правительства выслал бы вас, сэр, с острова. Я не получал никакой официальной информации от правительства о вашем назначении на должность врача генерала Бонапарта; не я выбрал вас; вам разрешается посещать генерала Бонапарта только в качестве врача».
Я заявил, что поступал в соответствии с его же инструкциями, ограничивая себя в общении с генералом Бонапартом беседами только на медицинские темы. Он повторил свою угрозу выслать меня с острова. В связи с этой его угрозой я заявил губернатору, что мой отъезд с острова Святой Елены не вызовет у меня ни малейшего сожаления. После этого разговора сэр Хадсон Лоу отправился к графу Бертрану, с которым он оставался около тридцати минут. Вернувшись от графа Бертрана, он послал за мной, и после того как он заявил, что, по словам графа Бертрана, генерал Бонапарт находится в гораздо худшем состоянии здоровья, чем я о том информирую, его превосходительство приказал мне представить ему письменный доклад о здоровье Наполеона.
Примерно в четыре часа дня граф Бальмэн вместе с бароном и баронессой Штюрмер подошли к самым внутренним воротам Лонгвуда, где они встретились с генералом и госпожой Бертран, которые прогуливались с маленьким сыном Артуром в сопровождении гувернантки. Вскоре к ним присоединился генерал Монтолон. Все они оставались вместе примерно час, разгуливая между помещением охранного поста и внутренними воротами Лонгвуда. Было забавно наблюдать за поведением сэра Томаса Рида, который всё это время стоял или двигался перед дверью комнаты капитана Блэкни с подзорной трубой в руках. Особенно смешны были его жестикуляции в то время, когда на Лонгвуд пал густой туман, который полностью скрыл прогуливавшихся с поля зрения сэра Томаса Рида, безуспешно пытавшегося разглядеть их в подзорную трубу.
Как мне рассказали, сэр Хадсон Лоу явился к графу Бертрану для того, чтобы предложить построить в Лонгвуде солдатский барак для прогулок в нём Наполеона в качестве возмещения постоянного недостатка тени в Лонгвуде. Разговор между ними также коснулся темы ограничений. Граф Бертран высказал те же замечания, которыми утром со мной поделился Наполеон. Граф Бертран также информировал его превосходительство о мнении, высказанном лордом Амхерстом.
Вечером встретился с Наполеоном. Его состояние здоровья было точно таким же, как и утром. Рассказал мне, что через подзорную трубу видел госпожу Штюрмер, с похвалой отозвавшись о свежести её розовых щёк.
29 сентября. Капитан Блэкни получил приказ явиться в «Колониальный дом». Я послал с ним мой отчёт о состоянии здоровья Наполеона, обратившись одновременно с просьбой привезти в Лонгвуд морской воды для ванны Наполеона.
Виделся с Наполеоном, который находился в гораздо лучшем настроении. Он с большим удовольствием отдал дань противоцинготным овощам. Его дёсны стали немного лучше. Опухшие нижние конечности остались примерно такого же размера, но причиняли меньше боли.
Завели с ним забавный разговор о святых покровителях. Он спросил меня, кто был моим святым покровителем — какое у меня было христианское имя? Я ответил, что ношу имя своей семьи — О’Мира, но назван Барри в честь лорда Авонмора, ирландского пэра.
«Но, — заявил Наполеон, смеясь, — у вас должен быть святой покровитель, чтобы заботиться о вас и молиться за вас на том свете?» Я напомнил ему о моём втором христианском имени. «А! — воскликнул Наполеон. — Тогда он будет молиться за вас. Святому Наполеону следовало быть весьма благодарным мне и делать всё в его власти для меня на том свете. Бедняжка, раньше никто не знал о нём. В календаре у него не было даже своего дня. Я определил для него этот день и убедил папу римского внести в календарь день Святого Наполеона, а именно день моего рождения, 15 августа. Я вспоминаю, — продолжал он, — когда я был в Италии, священник молился о бедном грешнике, который расстался со своею жизнью. Его душа предстала перед Богом и от него потребовали, чтобы он дал отчёт о всех своих деяниях. Зло и добро были брошены на противоположные чаши весов для того, чтобы определить, которая из них перевесит. Чаша с добром оказалась намного легче и немедленно взмыла к коромыслу весов. Бедная душа грешника была приговорена к пребыванию в аду. Ангелы препроводили его душу к бездонной яме, вручили её дьяволам и те бросили её в огонь.
«Уже, — продолжал рассказывать проповедник, — всепожирающий огонь полностью покрыл ноги и проследовал дальше до внутренней части тела умершего грешника; О! Братия, он почувствовал огонь уже в его жизненно важных органах. Он погрузился полностью в огонь, и лишь его голова еще возвышалась над морем пламени. И тогда он громко пожаловался Богу, а затем своему святому покровителю. «О! Покровитель, — вскричал он, — посмотри на меня! О! Сжалься надо мной и брось на чашу весов все мои добрые дела, всю известь и все камни, которые я отдал на ремонт монастыря».
Его святой покровитель немедленно понял намёк, собрал вместе всю известь и все камни, бросил их на чашу добра, которая немедленно перевесила; чаша зла подскочила к коромыслу весов, и душа грешника в тот же момент оказалась в раю. Теперь вы видите, братия, благодаря этому примеру, как полезно содержать отремонтированный монастырь, ибо, если бы не эта известь и не эти камни, дарованные этим грешником, его бедная душа даже сейчас, дети мои, пожиралась бы в аду огнём; и, тем не менее, вы остаётесь настолько слепыми, что позволяете превратиться в руины монастырю и церкви, построенным ещё вашими предками». В то время, — продолжал, смеясь, Наполеон, — эти канальи хотели построить новый монастырь и воспользовались этим случаем, чтобы достать деньги, которые после этой проповеди полились к ним рекой со всех сторон».
Наполеон затем стал подшучивать над моей профессией. «Вы, врачи, — заявил Наполеон, — находитесь в ответе даже больше, чем мы, генералы, за то, что отправляете людей на тот свет. Что вы скажете в своё оправдание, когда вас призовут отчитаться за все те души бедных моряков, которых вы отправили на тот свет? Или что ваши святые покровители скажут в вашу защиту, когда обвиняющий вас ангел провозгласит: такое-то число людей вы отправили на тот свет тем, что давали им обогревающие средства, вместо того чтобы дать им охлаждающие средства и наоборот; вы помогали людям покинуть эту землю, потому что ошибались в диагнозе и слишком часто пускали им кровь; других вы отправляли на тот свет, потому что слишком редко пускали им кровь; многие погибали по вашей вине, потому что они представляли собой простой сброд, а вы не уделяли им столько же внимания, сколько капитану или адмиралу, или потому что уделяли внимание бутылке, были в театре, или у красивой девушки, и вам не хотелось, чтобы вас беспокоили? Или после выпивки (это слово он произнёс по-английски), когда выходили на работу и без разбора раздавали лекарства направо и налево? Как много людей погибло из-за вас, потому что вы не были с ними в тот момент, когда происходило изменение в их состоянии болезни и лекарство, принятое в нужный момент, могло спасти их? Как много людей погибало в результате плохого качества продуктов, а вы не жаловались на их поставщиков, боясь обидеть их?»
В свою очередь я отметил: что касается моего долга перед совестью, то я считаю себя абсолютно чистым перед нею; человеческой натуре свойственно ошибаться; вполне возможно, что я допускал ошибки, но делал их не намеренно; также я никогда не оказывал меньше внимания простым людям, чем офицерам. Я пытался, по мере моих возможностей, хотя и понимал, что Наполеон свой монолог о врачах говорил полусерьёзно, защищать честь моей профессии. Я также объяснил ему, что в нашей службе врачи ничего путного не достигают, обращаясь с жалобами на поставщиков. Наполеон ответил, что, конечно, человека всегда следует судить по его намерениям, но во всех сферах человеческой деятельности в той или иной степени процветают злоупотребления, которыми главным образом занимаются люди, заинтересованные в этом или опасающиеся жаловаться. Он пытался по возможности искоренять злоупотребления, в чём добился многого, но не смог довести это дело до конца.
«Я придерживаюсь той точки зрения, — продолжал Наполеон, — что врачи убивают столько же людей, что и мы, генералы. Когда они отправляют на тот свет определённое количество душ или в силу своего невежества, или ошибки, или вследствие того, что в недостаточной степени исследовали причины и суть заболевания, то они так же равнодушны и безразличны к своей профессии, как и генерал, с которым я был знаком и который потерял три тысячи солдат, штурмуя один холм. Овладев холмом после нескольких отчаянных попыток, он заявил с большим хладнокровием: «О, это же не тот холм, которым я хотел овладеть; это совсем другой холм; этот же совсем мне не нужен», после чего он вернулся на свои прежние позиции».
Я отметил, что он, кажется, считает всех врачей такими, как они описаны Мольером и Жиль Бласом. Рассмеявшись, Наполеон заявил: «Я думаю, что существует большое количество врачей, подобных тем, которые описаны Мольером. Что касается хирургии, то у меня совершенно иное мнение о врачах, работающих в этой области медицины; хирурги не работают в темноте. В хирургии, по крайней мере, всё ясно и ваши ощущения руководят вами и помогают вам. Помните, я вам рассказывал о Сийе? (Я ответил, что помню.) До революции Сийе служил священником и отвечал за раздачу милостыни при дворе одной из принцесс. Однажды, когда он в часовне служил обедню в её присутствии и в присутствии её обслуживающего персонала, а также перед большим числом прихожан, случилось нечто такое, что заставило принцессу встать со своего места и удалиться. Её примеру последовали её фрейлины, вся дворцовая знать, офицеры и другие лица, которые присутствовали на обедне больше из чувства услужливости перед принцессой, чем из-за искреннего религиозного чувства. Сийе был очень занят чтением требника и некоторое время не сознавал того, что произошло в часовне. Однако, оторвав свой взгляд от книги, он — вот тебе на! — обнаружил, что принцесса, вся местная знать и все другие порядочные люди исчезли из часовни. С видом крайнего недовольства он захлопнул требник, поспешно спустился с кафедры, воскликнув: «Я не служу обедню для сброда!» и покинул часовню, оставив службу неоконченной. Таким же образом, — продолжал он, смеясь от всего сердца, — многие ваши врачи бросили бы своего пациента, наполовину вылеченного, потому что тот из числа сброда».
Затем он заговорил о Ларрее. «Ларрей, — заявил он, — был исключительно честным человеком и лучшим другом солдат, которого я когда-либо знал.
Всегда бодрствующего и неутомимого в поисках раненых, Ларрея постоянно можно было видеть на поле сражения в сопровождении группы молодых хирургов, старающегося обнаружить хоть какие-нибудь признаки жизни в телах солдат и офицеров. В самую неприветливую погоду, в любое время ночи и дня Ларрея можно было найти среди раненых. Он почти не разрешал своим помощникам хотя бы минуту отдыха и всегда держал их на своих постах. Он не давал покоя генералам и вытаскивал их из постели по ночам всегда, когда хотел обеспечить пристанище и помощь раненым и больным. Они все боялись его, так как знали, что он немедленно отправится ко мне с жалобой на них. Он не преклонялся ни перед кем из них и был непримиримым врагом поставщиков».
Говоря о службе во время зимы на борту военных кораблей, особенно кораблей определённого класса, я сказал, что матросы оказывались в лучшем положении, чем офицеры, так как имели возможность обогреваться у огня. «Почему же так?» — удивился Наполеон. Я объяснил: «Потому что матросы имеют возможность пользоваться огнём в камбузе, где они могут обогреться и высушить одежду». — «И почему же этого не могу делать офицеры?» Я пояснил, что для офицеров было бы не вполне пристойно общаться попросту с матросами. «Ага! Аристократическая спесь, аристократическое чванство! — воскликнул Наполеон. — Ведь я во время моих военных кампаний, бывало, отправлялся к бивакам солдат, садился рядом с самым простым из них, беседовал, смеялся и шутил с ним. Я всегда гордился тем, что я человек из народа».
Я возразил ему, сказав, что человек в его высоком положении может позволить себе вести себя подобным образом, не нарушая приличий, в то время как офицер намного более низкого ранга, особенно на борту корабля, может таким поведением вызвать фамильярность, возможно, даже презрение к себе, что, тем самым, повлечёт за собой ослабление дисциплины.
«Аристократическая спесь! — вновь воскликнул Наполеон. — Вы самая аристократическая нация во всём мире. Если бы я был одним из этих князьков в Германии, ваши олигархи никогда бы не выслали меня сюда. Но потому, что я — человек из народа, потому, что я могу сказать, что я поднялся с низов простого народа до величайших вершин власти без помощи аристократии или наследственных прав, потому, что вся эта длинная вереница знати и ничтожных принцев не знали и не хотели знать моего имени, потому, что я в самом деле не был одним из них, они приняли решение, овладев властью, угнетать и унижать меня. Лорды Батхерст и Каслри, эти аристократические канальи, именно те самые люди, которые дали указание угнетать и унижать меня».
Наполеон закончил свой монолог замечанием о том, «что, отправляясь к Бертрану, губернатор всегда берёт с собой свидетеля, чтобы иметь доказательство того, что он заявляет, что, по всей вероятности, он делает протокольную запись по своему усмотрению и затем заставляет своего свидетеля подписать её. Именно поэтому — чтобы избежать разговора — он приказывает Бертрану писать ему официальное письмо[53] с изложением жалоб и пожеланий французов».
30 сентября. Состояние здоровья Наполеона не претерпевает изменений. Я отправился в «Колониальный дом» для доклада. Узнал, что сэр Хадсон Лоу уже уехал. Когда я вернулся в Лонгвуд, то обнаружил его там. Информировал его о состоянии здоровья Наполеона; и в ответ на его вопросы сказал ему, что сейчас непосредственно ничего опасного нет, но что отёчность и опухлость конечностей у человека в возрасте Наполеона, с его характером и с его нынешними привычками требует внимательного наблюдения, так как всё это часто является первичными симптомами заболевания водянкой.
Его превосходительство сообщил мне, что главная цель его приезда в Лонгвуд заключалась в том, чтобы получить ответ от графа Бертрана на предложение, которое он (губернатор) сделал 28-го числа этого месяца относительно строительства солдатского барака в семьдесят футов длиной. Этот барак мог бы послужить временной галереей для прогулок внутри него, пока не будет получен ответ из Англии о возведении нового дома для Наполеона. Губернатор пожаловался, что в ответ граф Бертран лишь пожал плечами, очень резко разговаривал с ним и не только не задал ни одного вопроса, но настаивал на том, «чтобы положение французов на острове было таким же, как во времена сэра Джорджа Кокбэрна. Он сказал, что император не будет выезжать на верховые прогулки до тех пор, пока не будет дано разрешение ему (Бертрану) выдавать пропуска для приема посетителей в Лонгвуд, а генералу Бонапарту писать и поддерживать переписку со всеми, с кем он пожелает, заходить в любой дом, который ему понравится, ходить повсюду, где ему вздумается, другими словами, делать на острове всё, что пожелает, без каких-либо ограничений».
Губернатор затем спросил меня, слышал ли я что-либо от генерала Бонапарта о разговоре, который французы вели с полномочными представителями. Я ответил, что «я даже не слышал, чтобы он упоминал их имена». Его превосходительство заявил, что «это очень странно, так как генерал Бонапарт сделал очень резкие замечания в их адрес в разговоре с г-ном Балькумом».
Вечером вновь виделся с Наполеоном. Он пожаловался на зубную боль и на боль в щеках, объяснив это тем, что прогуливался в саду в течение десяти минут. Предложил ему, чтобы он согласился со строительством барака для прогулок. Он ответил, что нуждается в прогулках на свежем воздухе, а не в закрытой галерее. Более того, летом в бильярдной комнате в пять часов дня становится так жарко от проникающих в комнату солнечных лучей, что оставаться там не представляется возможным; в деревянном бараке будет ещё хуже, поэтому бесполезно воздвигать его, так как ему необходима тень от деревьев.
1 октября. Встретился с Наполеоном в его спальной комнате в восемь часов утра. Он пожаловался на тупую боль в правом ипохондрическом районе непосредственно под хрящами рёбер. Впервые он почувствовал подобную боль вчера утром. Ощущение боли в правом плече было, скорее всего, возникновением чувства немоты в этом месте. Слабые позывы кашля. Плохой сон ночью. Он сказал, что у него было такое чувство, словно ему хотелось прижаться боком к чему-нибудь. Дёсны — рыхлые. Ноги немного опухли.
Пульс — 68. Аппетит умеренный. Сказал, что он что-то ощущает в правом боку, чего он ранее никогда не чувствовал. Сообщил ему, что это ощущение может быть результатом запора. Поэтому я порекомендовал ему группу физических упражнений, которые также были бы полезны, если его жалобы означают начало заболевания печени, наиболее распространенной болезни на острове. Если эти ощущения в правом боку усилятся и будут сопровождаться другими симптомами, то не может быть сомнений в том, что это гепатит; в этом случае будет необходимо прибегнуть к соответствующим лекарствам, которые я ему назвал, а также воздержаться от вина и придерживаться определённой диеты.
Он с сомнением покачал головой, услыхав о физических упражнениях. Я заявил ему, что если это гепатит, то его нельзя запускать, так как если не лечить его вовремя, эта болезнь приведёт к фатальному исходу. Он ответил, что «это будет, по крайней мере, утешением, так как моя смерть станет вечным позором для всей английской нации, которая сослала меня в этот климат, чтобы я умер под надзором этого палача». Я заявил, что ему не следует ускорять собственную смерть отказом от приёма необходимых лекарств. Он ответил, взглянув вверх: «Что наверху предначертано, то предначертано. Наши дни уже подсчитаны». Я ответил, что, в соответствии с этой доктриной, любая медицинская помощь бесполезна. На это Наполеон ничего не сказал. Что же касается диеты и воздержания от вина, то он заявил, что никогда не злоупотреблял едой и выпивкой. Обычно он пил очень мало вина; однако он пришёл к выводу, что небольшое количество вина ему абсолютно необходимо, так как после него он всегда чувствует себя лучше, и он уверен в том, что если он совсем откажется от него, то его конец будет ускорен. Сказав это, он лёг в ванну с морской водой и долго беседовал со мной на медицинские темы.
2 октября. После вчерашнего приёма ванны с морской водой Наполеон почувствовал себя лучше. Его продолжает мучить бессонница. Рекомендовал ему прогулку верхом.
В десять часов вновь увидел его лежащим в постели. По сравнению с утром его ноги ещё больше опухли. Ему хотелось принять снова ванну, но не было больше морской воды. Целый день почти ничего не ел. Чувствовал небольшую головную боль.
3 октября. Исследовал его правый бок и ощутил, что при нажатии он более твёрдый, чем левый бок. К тому же видно, что он более опухший, чем левый, и при нажатии на него ощущается небольшая боль. Наполеон рассказал, что два месяца назад он уже ощущал нечто подобное. Тогда он не придал этому никакого значения, объяснив это излишним ожирением, но теперь, когда появилась боль, он считает, что это может быть связано с увеличением печени.
Я порекомендовал ему каломель, растирание конечностей, усердное применение массажной щётки, приём ванны с горячей морской водой, продолжение приёма противоцинготных овощей, полоскание горла, верховые прогулки и т. д. Наполеон сообщил, что вчера губернатор написал графу Бертрану о том, что он (Наполеон) может съезжать с дороги и спускаться в долину, но эта привилегия не распространяется на его офицеров, если они не сопровождают его.
«Это всего лишь очередная разновидность придирок, — заявил Наполеон, когда я порекомендовал воспользоваться этим разрешением, — так как благодаря этому я стану объектом новых оскорблений, ибо часовые не знают меня, и каждый старый служака, который хочет честно выполнять свой долг, для того, чтобы снять с себя всю ответственность, спросит: «А, нуте-ка, остановитесь, а нет ли среди вас генерала Бонапарта? А, это вы? О, тогда, если это вы, то вы можете проезжать». Таким образом, разве я не буду подвергаться ежедневным оскорблениям и не буду обязан отчитываться перед каждым часовым, который считает вправе честно выполнять свой долг? Кроме того, он не имеет права навязывать больше ограничений моему окружению, чем мне самому. В соответствии с бумагой, которую подписали мои люди, они согласились следовать только тем ограничениям, которые навязаны или могут быть навязаны мне.
Более того, я не признаю его право вводить любые другие ограничения, кроме тех, которые были введены адмиралом Кокбэрном и санкционированы его правительством, если только он не покажет мне, что они были подписаны принцем-регентом или его министрами. Ибо, если он имеет право вводить новые ограничения по своему усмотрению, то он может, следуя своему капризу или придумывая какой-нибудь предлог, в которых он не испытывает недостатка, вводить и такие ограничения, которые окажутся ещё худшими, чем предыдущие. Это одна из причин, почему я не пользуюсь верховой ездой, так как тем самым я лишаю его возможности навязывать мне очередное ограничение. Я не желаю подвергать себя капризу человека, которому не доверяю и которого считаю своим личным врагом. Кроме того, я никогда не покину Лонгвуд без того, чтобы сначала не выслать вперёд Гурго, чтобы он выяснил, не возникнет ли опасность, что я буду остановлен и оскорблён часовыми». Я попросил его разрешения пригласить г-на Бакстера, чтобы вместе с ним осмотреть его. Наполеон сказал, что если симптомы усилятся, то он, вероятно, не будет возражать против визита г-на Бакстера, так как этого хочу я, но при условии, что губернатор не будет вмешиваться в это дело. Если же он вмешается, то Наполеон никогда не даст своего согласия на визит г-на Бакстера.
4 октября. В соответствии с полученным указанием отправился в «Колониальный дом» и вручил сэру Хадсону Лоу письменный отчёт о состоянии здоровья Наполеона. Прочитав его, губернатор заявил, что он слишком подробный и что я должен составить новый, с которым можно было бы ознакомить более широкий круг лиц. Губернатор сообщил мне, что он получил пространное письмо от графа Бертрана, содержавшее ту же аргументацию, которую я имел привычку использовать в дискуссиях с ним (губернатором). В письме граф Бертран ссылался также на лорда Ливерпуля в связи с событиями, имевшими место некоторое время тому назад. У губернатора сложилось впечатление, что граф Бертран поддерживал какую-то переписку с лордом Ливерпулем. Я сказал, что Наполеон всегда заявлял, что он считает, что лорды Ливерпуль и Сидмут лучше относятся к нему, чем все другие английские министры. Я никогда не слышал, чтобы он поимённо плохо отзывался о ком-либо из английских министров, за исключением лордов Батхерста и Каслри.
5 октября. Утром виделся с Наполеоном, состояние здоровья которого было таким же, как и раньше.
Граф Монтолон, граф Бальмэн и капитан Гор провели вместе продолжительную беседу.
6 октября. Состояние здоровья Наполеона почти не изменилось. Вновь настоятельно рекомендовал ему физические упражнения. Заявил ему, что если он и далее будет отказываться от них, то отёк его ног будет настолько сильным, что он уже не сможет избавиться от него. Если он оседлает лошадь и станет ездить верхом, то, я уверен, отёчность его нижних конечностей вскоре исчезнет. Он согласился с этим, но заявил, что до тех пор, пока статус французов на острове не станет таким же, как во времена сэра Джорджа Кокбэрна, или примерно таким же, он не будет совершать верховых прогулок. Он полон решимости не предоставлять возможности осуществлять свою власть человеку, который до такой степени лишился разума, что запретил ему разговаривать со встреченными во время прогулок незнакомыми людьми, и который, следуя своему капризу, может приказать завязать ему глаза, чтобы помешать свободно разъезжать по местности.
Я взял на себя смелость обратить его внимание на то, что он подобен человеку, падающему в пропасть, который не хватается за верёвку, чтобы с её помощью спасти себя от неминуемой смерти. Наполеона рассмешило это сравнение, и он сказал: «Если судьба решит, то наши дни сочтены».
7 октября. Состояние Наполеона почти такое же. Сказал, что губернатор распространял слухи, что он (Наполеон) хотел покончить жизнь самоубийством. «Если бы я намеревался сделать это, — продолжал он, — то я бы давно использовал для этой цели мою саблю и умер бы как солдат. Но я не настолько глуп, чтобы преднамеренно пытаться покончить с собой медленной агонией затяжной болезни. Мне никогда не нравились утомительные войны. Но нет такой смерти, какой бы она ни была медленной и мучительной, которую я бы не предпочёл унижению своей личности. Человек, однажды способный на то, чтобы ввести ограничения 9 октября и 14 марта, способен ввести новые ограничения, и даже ещё худшие, в зависимости от собственного каприза или от своих страхов, реальных или мнимых. Если бы я вышел прогуляться и был подвергнут оскорблению с стороны часового, то это нанесло бы мне больше вреда, чем шестимесячное заключение в одиночной камере. Но этот человек невосприимчив к никаким нравственным чувствам. Он думает, что к нему в руки попали несколько корсиканских дезертиров или капралов, с которыми ему приходится иметь дело. В своей персоне он соединил глупость и коварство. За неделю до того, как я выйду на прогулку, он опорочит меня, как это он делает постоянно, намекнув полномочным представителям, что я злоупотребил разрешением, которое он мне дал».
Граф Бертран вручил капитану Блэкни под расписку большой запечатанный пакет на имя графа Ливерпуля.
Сообщил сэру Хадсону Лоу суть моей беседы с Наполеоном. Я повторил губернатору, что сэр Джордж Кокбэрн, устанавливая правила поведения французов, обычно предварительно обсуждал возникшие проблемы с графом Бертраном или с графом Монтолоном. Благодаря подобному заведенному порядку возникшие проблемы решались таким образом, чтобы было меньше оснований для их возможного нарушения. В ответ сэр Хадсон заявил, что принимаемые им меры санкционированы британским правительством и что большинство полученных им писем начинаются констатацией того, что принц-регент одобрил осуществлённые губернатором меры и что такие-то и такие-то меры должны быть приняты.
8 октября. Наполеон на короткое время вышел в сад. Отвыкший от физических нагрузок, он почувствовал себя настолько уставшим, что был вынужден присесть на ступени веранды. Однако он чувствовал себя лучше, чем вчера, благодаря приёмам ванны с морской водой и другим лекарственным средствам, которые он согласился принимать.
9 октября. Наполеон чувствовал себя неважно. Вчера простудился, жаловался на боли в ногах и очень плохо провёл ночь. «Я собирался послать за вами рано утром, — сказал он, — но затем подумал, что этот бедняга доктор провёл всю ночь, отправившись на бал, и нуждается во сне. Если бы я потревожил его, то он пришёл бы ко мне с сонными глазами, мало чего бы соображал и не смог бы составить правильное мнение. Вскоре после этого я весь был в испарине и мне стало намного легче». Сразу же после того, как я покинул его, он снова лёг в постель и не вставал с неё несколько часов.
10 октября. Наполеон пребывает в довольно плохом настроении. Отёк на ногах несколько спал.
«Вчера Бертрана посетил губернатор, — сообщил он мне, — и заявил о своём желании пойти на примирение с нами, но он уже заявлял об этом столь часто, не достигнув при этом никаких результатов, что, вероятно, и этот его визит к Бертрану завершится так же, как и раньше. Я дал указание Бертрану послать за этим маленьким майором (Горрекером), чтобы обговорить с ним все проблемы и объяснить ему, чего мы хотим. Я полагаю, что единственная гарантия, которая существует для моей жизни, состоит в том, чтобы я поддерживал контакт с офицерами местных армейских и морских подразделений, а также с жителями острова. Ибо, если бы такой контакт существовал раньше, этот губернатор не смог бы продолжать так долго свои абсурдные ограничения; хотя этот остров очень небольшой и совсем никудышный, а его жители являются практически рабами деспотичной власти, всё же местное общественное мнение имеет некоторый вес. Слухи с острова достигли бы Англии, и Джон Булль не стал бы терпеть поведение губернатора, столь позорное для его страны. Единственно, чего я хочу, так это, чтобы не было никаких тайн в отношении меня. Там, где есть тайна, всегда найдётся место для дурных намерений. Всё следует делать так, чтобы все дела можно было бы предавать гласности, и тогда выяснится, что необходимость что-либо печатать отпадет. Я не возражаю, если дом для моего проживания будет сделан из стекла. Именно так следует вести дела по отношению ко мне. Вы помните, что во времена адмирала не было ни одной попытки послать письмо в Англию. И их не было бы, если бы остался адмирал, потому что положение французов на острове было вполне терпимым. Тогда можно было жить.
Я передал Бертрану мои пожелания относительно порядка приёма посетителей в Лонгвуде и сказал ему, чтобы он сообщил губернатору, что тот может легко решить эту проблему, направив нам собственноручно составленный им список тех лиц, которым он разрешит навещать Лонгвуд. Мы можем посылать в Европу всё, что мы хотим посылать сейчас, и то, что могли посылать всегда. Что касается проблемы с полномочными представителями, то, поскольку эта проблема имеет политическую окраску, я оставляю её решение на усмотрение губернатора. Я уже говорил ему, что с удовольствием приму австрийца с его супругой, а также русского, но в качестве частных лиц. Если, однако, по политическим причинам это нежелательно, то меня это мало волнует. Хотя что может быть более нелепым, чем быть свидетелем сцены, когда эти полномочные представители не могут пройти через внутренние ворота Лонгвуда, имея всего лишь разрешение подходить к этим воротам и только снаружи встречаться и беседовать с французами так долго и так часто, как они пожелают, что должно вызвать в адрес автора подобного абсурда насмешки и презрение каждого свидетеля этой картины.
Единственно, чего я желаю, чтобы этим полномочным представителям можно было ясно объяснить, что только одни политические причины препятствуют их визиту в Лонгвуд, и чтобы их головы не забивались всякой ложью, как это делается по сей день. Они говорят, что, как их информировал губернатор, всему виной является мой отказ принимать их; что не проходит и недели, чтобы этот человек не делал выпада против них, что на острове создана такая атмосфера таинственности и секретности, что они считают, что находятся где-то в Венеции или в Рагузе, а не в английской колонии. Каждую неделю им намекают на то, что они злоупотребляют той или иной привилегией. Ничто в мире не заставляет человека так сильно ненавидеть другого, когда тот, другой, позволяет себе произносить в адрес этого человека грязные, клеветнические измышления; особенно тогда, когда они исходят от персоны, обладающей властью, потому что человек не может опровергнуть эти измышления или ответить на них. Что касается иностранцев, то пусть он, когда прибывает корабль, составляет список тех, кому он позволяет посетить Лонгвуд — я имею в виду большое число желающих нанести мне визит, а не одно или два приглянувшихся ему лица. Если у него возникнут подозрения в отношении кого-либо из них, то пусть он не включает их имена в список. Если я вообще не приму посетителей, то это будет сделано по моей воле, а не потому, что этого захотел он. Пусть он сделает всё то, что я перечислил: прекратит свои клеветнические измышления, всякую таинственность и всякую секретность; и тогда я буду удовлетворён».
После этого монолога императора мы завели разговор о Талейране. «Когда я вернулся из Италии, — стал рассказывать Наполеон, — я стал жить в небольшом доме на улице Шантерен. Через несколько дней после этого муниципалитет Парижа постановил, чтобы эта улица стала называться улицей Победы. Каждый человек считал своим долгом от имени всей нации выразить мне чувство благодарности. Было предложено предоставить в моё распоряжение один из лучших отелей Парижа и великолепное загородное поместье. Хотя я в течение двух лет содержал армию и выплачивал ей денежное содержание и даже выплатил ее задолженность за некоторое время вперед, а также внёс в казначейство Франции более тридцати миллионов, на моём счету едва набралось триста тысяч франков. Однако Директория, вероятно, из чувства ревности не дала своего согласия на моё материальное вознаграждение, заявив, что мои услуги перед республикой таковы, что они не могут быть вознаграждены деньгами. Представители всех слоев общества хотели встретиться со мной. Энтузиазм достиг своего апогея. Я, однако, редко общался с кем-либо, за исключением Клебера, Дезэ, Каффарелли и некоторых учёных. Директория устроила в мою честь великолепное празднество. Талейран, бывший тогда министром иностранных дел, дал в мою честь бал. И на этом и на другом празднестве я задерживался лишь на короткое время. Вскоре после этого я был назначен командующим армией Англии, но на самом деле эта армия получила такое название, чтобы ввести в заблуждение ваших министров, так как истинной целью этой армии был Египет.
Во время революции Талейран был епископом Отанским и являлся одним из трёх епископов, которые присягнули на верность гражданской конституции духовенства. После этого он был послан в Англию, но в разгар революции к нему стали относиться с подозрением, и он сбежал в Америку, где оставался до 13 вандемьера, когда его имя было вычеркнуто из списка эмигрантов. Ему удалось добиться доверия Директории, он получил пост министра иностранных дел и в этом качестве стал поддерживать со мной постоянный контакт. Именно тогда вошло в обычай праздновать годовщину казни Людовика Шестнадцатого. Талейран настаивал на том, что я обязан присутствовать на этом праздновании. Я отвечал: у меня нет общественных функций; мне не нравится присутствовать на церемониях празднеств; празднествами отмечаются победы, но павшие на полях сражений оплакиваются слезами; празднование годовщины смерти человека не должно становиться политической акцией правительства, это дело отдельной политической фракции.
Талейран же утверждал, что это справедливая акция, потому что она имеет политический аспект, что все страны с радостью отмечают смерть тиранов и общественность ожидает моего присутствия на церемонии празднества. После долгого спора было решено, что на церемонии празднества будут присутствовать члены Французского института, которых я должен сопровождать в качестве члена сословия ремесленников, к которому я принадлежал. Хотя я и стремился избежать внимания публики, но большинство присутствовавших на церемонии празднества, не проявивших интереса к членам Директории, требовало моего выхода на авансцену и, когда я там появился, огласило весь зал криками: «Да здравствует генерал армии Италии!» Ещё никогда, — добавил он, — не было генерала, которого так любили его войска.
Чтобы продемонстрировать вам то доверие, которым я пользовался в армии, — продолжал он, — мне достаточно только рассказать вам об одном событии, которое войдёт в историю. Через шесть дней после моей высадки в Канне передовой отряд моей маленькой армии встретился лицом к лицу с авангардом дивизии, высланной против меня из Гренобля. Камбронн, командовавший моим передовым отрядом, хотел обратиться к солдатам дивизии из Гренобля, но они не захотели слушать его. Они также отказались принять Рауля, которого я послал вслед за Камбронном. Когда мне сообщили об этом, я сам вышел к ним, приказав моим солдатам взять ружьё под левую руку и повернуть дулом в землю, и сказал остановившимся солдатам Гренобля: «Первый же солдат, который захочет этого, может выйти вперёд и убить своего императора!» Мои слова подействовали подобно электрическому шоку, и возглас «Да здравствует император!» прогремел в рядах встречавших меня солдат; они и солдаты моего отряда бросились друг к другу в объятия, высланная против меня дивизия присоединилась ко мне, и мы вместе двинулись в Гренобль.
На подходе к Греноблю храбрый Лабедойер, молодой человек, воодушевлённый благородными чувствами и полный отвращения к поведению ничтожеств, против которых воевала Франция и из-за которых она пролила столько крови, присоединился ко мне вместе со своим полком. В Гренобле я встретил полк, в котором двадцать пять лет назад я был капитаном, и ещё несколько полков, выстроившихся на крепостном валу, чтобы оказать мне сопротивление. Как только они увидели меня, так сразу же раздались громогласные возгласы «Да здравствует император!» и не только со стороны солдат собранных полков, но и со стороны национальной гвардии и собравшегося народа: городские ворота были брошены наземь, и я с триумфом вошёл в город. Что было замечательным и поразительным образом продемонстрировало чувства войск, так это то, что в один момент шесть тысяч солдат, которые присоединились ко мне, надели на себя старые трёхцветные кокарды, которые они хранили как сокровище, когда армия была вынуждена ходить под антинациональным бурбоновским знаменем. Я двинулся в Лион, где ко мне присоединились войска, которым было приказано защищать город против меня. Графу д’Артуа, который командовал городом несколько часов назад, посчастливилось сбежать в сопровождении всего лишь одного драгуна. На все его настойчивые просьбы и мольбы следовал лишь один ответ: «Да здравствует император!»
Сегодня, когда Наполеон сидел на ступенях веранды, он заметил меня, гуляющего в саду вместе с г-ном Стокоу, и попросил подойти к нему. Наполеон задал ему несколько вопросов на итальянском языке.
Сегодня же сэр Хадсон Лоу и майор Горрекер провели некоторое время с графом Бертраном.
Сэр Томас Рид сообщил мне, что сэр Хадсон Лоу получил запечатанный пакет от Бертрана, адресованный лорду Ливерпулю, который губернатор отправит по назначению, хотя он знает, что в пакете содержатся жалобы на него; что губернатору совершенно безразлично, на что жалуются французы; что если бы не эти проклятые полномочные представители, то дела обстояли бы намного лучше. Затем сэр Томас спросил меня, много ли я с ними разговариваю. Я ответил, что очень мало, и я обратил внимание на то, что в последнее время их отношение ко мне заметно изменилось: вместо того чтобы задавать мне массу вопросов, как раньше, они редко беседуют со мной, ограничиваясь разговорами на общие темы. В Лонгвуд был вызван майор Горрекер и имел продолжительную беседу с графом Бертраном.
11 октября. Посетил Наполеона в семь часов утра, когда он находился в постели. Он пожаловался на бессонную ночь и на усиление боли в боку и в плече. К нему вернулось учащённое сердцебиение, которое он объяснил, вероятно не без оснований, тем, что вчера некоторое время сидел на ступенях веранды под солнцем с неприкрытой головой. Я порекомендовал ему соответствующие лекарства, некоторые из которых он принял.
Видел его вновь в три часа дня. Он принимал горячую ванну и от этой процедуры почувствовал большое облегчение. У него значительно ухудшился аппетит.
В Лонгвуд приехал сэр Хадсон Лоу, который стал усиленно заниматься тем, что измерял шагами дистанцию между постами часовых.
С мыса Доброй Надежды прибыл корабль с запасами продовольствия и с письмами из Англии.
12 октября. Увидел Наполеона, опустившего ноги в кадку с горячей водой. Сообщил мне, что он плохо себя чувствует и у него неважное настроение.
Сэр Хадсон Лоу имел продолжительную беседу с графом Бертраном. Последний пытался объяснить губернатору суть их спора, которая заключалась в том, что, когда граф Бертран вынужден направлять через губернатора незапечатанные письма тем жителям острова, которым он (губернатор) разрешает наносить визиты графу Бертрану, подобную процедуру с письмами граф Бертран рассматривает как ненужное оскорбление. Если граф Бертран хотел бы тайно направить письмо в Англию или поддерживать предосудительный контакт с кем-либо из жителей острова, то он (Бертран), имея возможность приглашать определённое число гостей в Лонгвуд на несколько часов (так как губернатор сам заявил, что разрешил это Бертрану), несомненно воспользовался бы этим, чтобы в подходящую минуту передать гостю или гостям подобные письма. Граф Бертран, как он объяснил губернатору, скорее поступил бы именно таким образом, вместо того чтобы подвергать опасности скомпрометировать самого себя и своих гостей, направив запечатанное письмо, содержавшее предосудительную информацию, через дежурного офицера, которое, в том случае, если оно вызовет подозрения, будет вскрыто и погубит репутацию человека, которому это письмо адресовано. Однако сэр Хадсон Лоу так ничего и не понял из объяснений графа Бертрана. Граф Бертран также заявил губернатору, что император рассматривает свободный контакт с жителями острова как единственную гарантию сохранения своей жизни.
Когда майор Горрекер 10-го числа был у графа Бертрана, последний сообщил ему, что поведение губернатора настолько незаконно и окутано такой таинственностью и секретностью, что некоторые офицеры 53-го пехотного полка, полагая, что имеется в виду осуществление каких-то преступных намерений, дали знать французам, чтобы они не боялись, поскольку в 53-м пехотном полку нет ни убийц, ни палачей. Граф Бертран также информировал майора Горрекера, что сэр Джордж Кокбэрн заявил вскоре после прибытия Наполеона, что «если бы я расставил часовых так-то и так-то и стал настаивать на таких-то и таких-то мерах, то этот человек (Наполеон) заперся бы в своём доме и никогда не выходил наружу. Он бы не прожил и шести месяцев. Но я не стану служить средством убийства кого бы то ни было. Я обеспечу его пребывание на этом острове таким образом, чтобы он обладал максимумом свободы, и в то же время я не дам ему ни малейшего шанса сбежать. Это всё, что я могу сделать, и именно это меня заботит».
14 октября. Сегодня утром пришел, как обычно, для врачебного визита к Наполеону, мне сообщили, что он ещё спит, но ранее оставил для меня указание отправиться к графу Бертрану. Из беседы с графом Бертраном выяснилось, что император получил сведения о том, что я имею обыкновение писать бюллетени о состоянии его здоровья и за прошедший день, и за более обширные периоды времени. В связи с этим император выразил пожелание, чтобы перед тем как отправлять эти письменные бюллетени по назначению, их сначала показывать ему. Любое лицо, выступающее в качестве его врача, должно пользоваться его доверием, и он никогда не согласится с тем, чтобы в бюллетенях врача называться генералом Бонапартом, так как если подобный бюллетень появится в Европе с этим титулом, то это будет означать молчаливое согласие Наполеона с этим титулом, но он скорее умрёт, чем даст на это согласие. В моих бюллетенях должно писаться слово «император» и мне было бы лучше ознакомить губернатора с этим требованием. Я ответил, что в отношении использования титула «император», я заранее знаю, это будет неприемлемо.
После этого я встретился с Наполеоном, который сказал мне, что он всегда полагал, что у меня могут потребовать отчёты о состоянии его здоровья, особенно тогда, когда мне приходится лечить нездорового человека. Однако, поскольку это была только догадка с его стороны, он не обращал на это особого внимания. Но несколько дней тому назад у генералов Монтолона и Гурго спросили, как у него обстоят дела с появившимися симптомами сердцебиения. Оба генерала были в абсолютном неведении относительно того, что у него появились подобные симптомы, так как он (Наполеон) поделился об этом только со мной. Поэтому генералы выразили искреннее удивление в связи с заданным им вопросом. Им пояснили, что данный вопрос им был задан потому, что подобные симптомы были описаны в бюллетене, направленном губернатору.
Я доложил Наполеону, что я часто составлял отчёты о состоянии его здоровья. Он попросил показать мне один из них. Я немедленно принёс ему отчёт от 10-го числа. Просматривая отчёт, Наполеон обратил внимание на слово «генерал» и тут же заявил, что он никогда не согласится с тем, чтобы я или любое другое лицо, выступающее в качестве его врача, употребляли этот титул в своих бюллетенях. Он сказал, что я должен пользоваться его доверием, без которого я не мог бы знать о появившихся симптомах. Врач является тем же по отношению к человеческому телу, что и духовник по отношению к душе человека. Врач обязан сохранять в нерушимой тайне подобные признания больного, так же как и духовник держит в тайне содержание исповеди, если только врачу не разрешат разгласить эти признания. Поэтому в будущем, по его настоянию, я обязан представлять ему все отчёты, которые я буду составлять о состоянии его здоровья, до того, как направлять их губернатору. Наполеон заявил, что он не хочет воздействовать на меня в том, чтобы я занимался компиляцией; наоборот, если я посчитаю, что любые его замечания являются неправильными, то я не должен вставлять их в свой отчёт, но что я не должен описывать те симптомы, которые имеют оттенок интимности, или те симптомы, которые в силу других мотивов могут заставить его сохранять их в тайне.
Далее Наполеон заявил, что если я буду посылать бюллетени губернатору без предварительного их показа ему, Наполеону, то я буду играть роль шпиона, а не врача, что, добавил Наполеон, как раз и является той самой целью, которой добивается тюремщик острова Святой Елены. Наполеон пояснил, что мои бюллетени должны передаваться полномочным представителям, а уже потом ими в их императорские и королевские дворы. Поэтому он не может согласиться с тем, чтобы человек в моём положении именовал его «генералом» в тех бюллетенях, которые вероятно будут отосланы во Францию, где однажды он был монархом, или в императорские дворы Вены и Петербурга. Если же я не соглашусь с подобной договорённостью, то я вообще не должен писать эти бюллетени. В противном случае он более не будет встречаться со мной как с врачом.
Я ответил, что губернатор никогда не разрешит мне именовать его императором. В связи с этим я предложил использовать в бюллетенях имя Наполеон или Наполеон Б. Что же касается требования Наполеона показывать мой бюллетень сначала ему, а потом губернатору, то я сказал ему, что должен предварительно проконсультироваться об этом с самим губернатором.
Наполеон согласился с этим, но не с предложенным мною именем для бюллетеня. Когда я устно отчитываюсь перед губернатором, заявил Наполеон, то ему безразлично, буду ли я называть его генералом или тираном Бонапартом.
В «Колониальном доме» передал сэру Хадсону Лоу содержание моего разговора с Наполеоном. Как я и предвидел, губернатор категорически отказался дать согласие на использование титула «император». Губернатор не возражает против того, чтобы он именовался в бюллетенях Наполеоном Бонапартом. Что же касается того, чтобы показывать бюллетени сначала Наполеону, а затем ему, то в настоящее время он не возражает против этого; однако эта проблема не может быть решена сразу, так как она требует тщательного рассмотрения. Губернатор добавил, что это какой-то тщательно продуманный заговор полномочных представителей.
Вечером информировал Наполеона об ответе губернатора. Наполеон заявил, что он и думать не может о том, чтобы позволить своему врачу оскорблять его. После того как английское правительство не дало никакого ответа на предложение Наполеона, чтобы он выступал под чужим именем, инкогнито, он рассматривает как верх оскорбления стремление английского правительства настаивать на том, чтобы именовать его так, как оно пожелает. Чем больше они стараются унизить его, тем более настойчиво он будет отстаивать свой титул. «Потеря моего трона является вопросом чести, и я скорее сотню раз потеряю свою жизнь, чем позволю унизить себя, согласившись с именем, которое удовлетворяет моих угнетателей».
После затяжных дискуссий на эту тему я предложил опустить упоминание в бюллетенях всех титулов и использовать слова «важная персона», которые, как я сказал, по моему мнению, могут устранить все трудности. Наполеон благожелательно отнёсся к моему предложению, но добавил, что слово «пациент» будет лучше соответствовать содержанию бюллетеней и вполне удовлетворит его, при том условии, если бюллетени будут сначала показаны ему и после его согласия с их содержанием будут затем направлены по назначению.
Сегодня сэр Хадсон Лоу дал понять графу Бертрану, что сэр Джордж Кокбэрн обычно давал указание, чтобы все бумаги и письма, направлявшиеся французами в город, сначала были показаны адмиралу и только после его разрешения отправлялись тем лицам, которым они были предназначены.
15 октября. Передал вчерашнее предложение Наполеона сэру Хадсону Лоу, который отказался дать своё согласие, заявив, что он должен именоваться во всех бюллетенях и отчётах о его состоянии здоровья как Наполеон Бонапарт или генерал Бонапарт.
16 октября. Беседовал с Наполеоном по поводу отказа губернатора принять предложение о том, чтобы в бюллетенях фигурировало слово «пациент». Наполеон пришёл к выводу, что, очевидно, губернатор хочет разрушить доверие, которое существует между ним (Наполеоном) и мною, его врачом. «Когда человек не испытывает доверия к собственному врачу, — заявил он, — то бесполезно иметь с ним дело. Доверием нельзя командовать. Как врач вы не должны рассматривать себя представителем какой-либо страны. Врач и священник не должны принадлежать к какой-либо стране и обязаны отказаться от приверженности ко всем политическим мнениям. Лечите меня так, словно я являюсь англичанином. Случай предоставил вас в моё распоряжение, и именно по этой причине я доверяю вам. Если бы я не взял вас к себе, то, вы знаете, я должен был бы иметь французского врача, который бы не стал выпускать бюллетени о состоянии моего здоровья без моего разрешения. Поэтому я настаиваю, чтобы вы прекратили выпускать эти бюллетени. Стали бы вы, если бы вы лечили лорда Батхерста, писать бюллетени о состоянии его болезней, чтобы их распечатывали и рассылали кому-то, помимо членов его семьи, не получив сначала на это его согласия. Я настаиваю на том, чтобы вы вели себя со мной таким же образом. Вам не должны вмешивать сюда политические соображения относительно того, кто я такой и кем я был; и когда вы консультируете меня, то поступайте точно так же, как вы поступаете с вашим соотечественником, который стал больным и которого вы лечите».
17 октября. Наполеон лежал на диване, перед ним стояла чашка с куриным бульоном. Заметно, что он находится в подавленном состоянии. Маршан рассказал мне, что он чувствовал себя утром очень плохо и был вынужден растирать виски и лоб одеколоном. Когда я стал расспрашивать о состоянии его здоровья, он не стал мне отвечать.
18 октября. Наполеон принимает ванну. По-прежнему продолжает упорно отказываться говорить со мной по поводу своего здоровья. Сказал мне, что заметил, как я регулярно каждый вторник и каждую субботу отправлялся в «Колониальный дом». Если бы не то доверие, которое он испытывает ко мне, то в ту же минуту, когда он заметил это, он бы отказался от моих услуг; так как регулярность периодов моего отсутствия свидетельствовала о том, что я отправлялся в «Колониальный дом» по приказу губернатора.
«В действительности, — продолжал он, — всё дело заключается в том, что это лишь хитроумная махинация, чтобы лишить меня медицинской помощи и ускорить мой конец; поскольку было хорошо известно, что, как только я это выясню, то не подчинюсь этому, так же как и любой другой человек чести этому не подчинится. Но у этого человека отсутствуют нравственные устои и он лишён чувств. Он привык иметь дело с дезертирами и заключёнными; природа создала его лишь для того, чтобы быть надзирателем преступников. Я не стану радовать его сердце описаниями моей болезни для того, чтобы он мог упиваться своей злобой, высчитывая, как долго я ещё буду страдать до начала финальной агонии. Вы можете сообщить ему, что я прекрасно понимаю его стремление лишить меня всякой медицинской помощи и, благодаря этому, скорее приблизить свой конец, который он так тщательно планирует. Объясните ему, что я не столь высоко ценю собственную жизнь, чтобы позволить моему врачу стать шпионом. Скажите ему, что я заявил, что он ставит цель лишить меня доверия к вам и превратить вас в шпиона или, по крайней мере, заставить меня подозревать вас в том, что вы подосланы ко мне в качестве шпиона. На самом же деле, — продолжал Наполеон, — если бы не то доверие, которое я испытываю к вам благодаря характеристике, данной вам капитаном Мэтлендом, и моим личным наблюдениям, поведение этого губернатора уже давно бы заставило меня сообщить вам, что я более не нуждаюсь в ваших услугах».
В «Колониальном доме» частично передал сэру Хадсону Лоу вышеупомянутые высказывания Наполеона. После некоторого колебания сэр Хадсон Лоу поручил мне сообщить Наполеону, что в будущем от меня не будут требовать составления бюллетеней о состоянии здоровья Наполеона. В том же случае, если «Колониальный дом» попросит такой бюллетень, то сначала он будет представлен Наполеону для ознакомления.
Далее губернатор заговорил со мной о том разрешении, которое сэр Джордж Кокбэрн дал французам направлять запечатанные письма лицам, проживающим на острове. Его превосходительство утверждал, что сэр Джордж Кокбэрн никогда не санкционировал подобную практику, что он всего лишь терпимо относился к ней. В целом же, по мнению сэра Хадсона Лоу, сэр Джордж Кокбэрн во многих отношениях значительно превысил свои полномочия.
19 октября. Сообщил Наполеону ответ губернатора. После того как я заверил Наполеона в том, что не буду направлять никаких бюллетеней о состоянии его здоровья прежде, чем покажу их ему, Наполеон вновь заговорил со мной о своей болезни. Его всё время не отпускает тупая боль и неприятные ощущения в правом боку; у него резко снизился аппетит; его ноги по-прежнему опухают, особенно это чувствуется ближе к вечеру; иногда его не отпускает тошнота; его мучает бессонница и т. д. В его поведении очевидна определённая доля некоего внутреннего беспокойства и налёт меланхолического настроения, возможно, вызванного его заболеванием и усиленного, может быть, информацией из последних газет, присланных ему сэром Хадсоном Лоу, о решении союзных держав отказать его сыну в преемственности на герцогство Пармское.
22 октября. Прошедшую ночь Наполеон провёл очень плохо, испытав приступ частично нервного характера. Спросил меня, присутствовал ли какой-нибудь свидетель во время моих докладов губернатору, которые я был обязан делать дважды в неделю. Я ответил, что да, такой свидетель присутствовал. «В этом случае, доктор, — заявил Наполеон, — вас заставят говорить то, что ему захочется. Рискну сказать, что каждый раз, когда вы приходите к нему на доклад, он затем составляет протокол вашей с ним беседы, и в лучшем случае запись ваших разговоров, соответствующая его взглядам, подписывается его свидетелем и в дальнейшем будет представлена против вас. Я бы не удивился тому, что он заранее составляет запись беседы до того, как вы являетесь в «Колониальный дом». Подобный оборот событий ставит вас в очень опасное положение».
28 октября. Явился в «Колониальный дом», где сэр Хадсон Лоу после нескольких вопросов, касавшихся состояния здоровья Наполеона, потребовал от меня, чтобы я доложил ему, вёл ли я с генералом Бонапартом какие-нибудь разговоры, представлявшие интерес, как долго они продолжались и какие темы они затрагивали. Эти вопросы привели к напряжённой дискуссии, во время которой его превосходительство позволил себе превышающие всякие нормы ярость и брань. Наряду с другими изысканными выражениями губернатор заявил, что считает меня шакалом, рыскающим повсюду в поисках новостей для генерала Бонапарта.
В ответ на это выражение я заявил, что я не буду ни шакалом, ни шпионом, ни информатором ни для него, ни для кого-нибудь ещё. «Что вы имеете в виду, сэр, — спросил он меня, — когда говорите о шпионе и об информаторе?» Я объяснил губернатору, что, когда я выполняю его указания об информировании его о разговорах между Наполеоном и мною, то я считаю себя и шпионом, и информатором. В приступе гнева губернатор заявил, что мне отныне запрещается беседовать на любые темы с Наполеоном Бонапартом, кроме медицинских; что я в никоем случае не должен разговаривать с ним на любые темы. Я попросил его дать мне этот приказ в письменном виде. Он отказал мне в этой просьбе и после ряда новых ругательств в мой адрес приказал мне выйти из комнаты и подождать снаружи некоторое время. Примерно минут через пятнадцать я был вновь вызван к сэру Хадсону Лоу, который сообщил, что мне следует продолжать вести себя как и раньше, добавив при этом, что он (сэр Хадсон) разрешает мне вести беседы с генералом Бонапартом только на медицинские темы; что же касается других тем, то я сам полностью несу ответственность за проведение бесед на такие темы[54]; мне не следует отказываться отвечать генералу Бонапарту на любые вопросы, которые он может задавать мне; но я не должен задавать ему никакие вопросы, кроме медицинских.
После этого губернатор спросил меня, что я думаю по поводу того, что именно я обязан не разглашать. Я ответил губернатору точно так же, как и раньше, когда он задавал мне такой же вопрос. Он спросил меня, не считаю ли я обязанным сообщать ему о тех ругательствах, к которым прибегает генерал Бонапарт, в его (губернатора) адрес. Я ответил, что, конечно, я не обязан делать этого, если только мне не прикажет это сделать сам Наполеон. Губернатор спросил: «Почему же так, сэр?» Я ответил, что я не выбирал для себя роли подстрекателя. Тогда его превосходительство стал отрицать, что он когда-либо просил меня сообщать ему содержание всех разговоров, которые имели место между генералом Бонапартом и мною. Тогда я напомнил ему о том, что он говорил мне в Лонгвуде, да и в других местах, а именно: необходимо, чтобы он знал всё, о чём говорится в Лонгвуде, так как он может делать выводы и приходить к умозаключениям, которые я сам неспособен делать, и поэтому для него важно знать обо всём. После этого я попросил разрешения взять у него его последние указания в письменном виде, написанные под его диктовку, для того, чтобы в будущем избежать ошибок и недоразумений. Губернатор отказал мне в моей просьбе. После чего губернатор сообщил, что он освобождает меня от обязанности являться в будущем в «Колониальный дом» дважды в неделю, но что он ждёт от меня, что я буду еженедельно консультироваться с г-ном Бакстером о состоянии здоровья Наполеона Бонапарта. С этим я согласился, поскольку Наполеон не возражал против моих устных консультаций с г-ном Бакстером. После всего этого разговора с губернатором надо ли говорить, что я был несказанно рад, что мое пребывание в «Колониальном доме» на сей раз завершилось.
2 ноября. Увидел Наполеона, склонившегося на диване над грудой газет, лежавших перед ним, и державшего в руке табакерку с нюхательным табаком[55]. Он выглядел очень меланхоличным. Он явно пребывал в плохом настроении. После обычных расспросов о состоянии его здоровья, я самым настоятельным образом, насколько это было в моих силах, дал ему необходимые рекомендации, особенно посоветовав совершать верховые прогулки. Он ответил, что не испытывает никакого доверия к губернатору, который, а в этом Наполеон уверен, найдёт какой-нибудь предлог, чтобы оскорбить его, или выступит с клеветническими заявлениями прежде, чем он совершит хотя бы четыре прогулки. «Это письмо, — продолжал Наполеон, — которое вы видели вчера у Бертрана, поступило от губернатора. В письмо была вложена газета со статьёй, которая сообщала, что мой сын лишен права наследования герцогства Пармского. Эта новость от любого другого лица ничего не будет значить. Но поскольку губернатор неизменно оставляет у себя все новости, которые могут быть для меня приятными, и направляет мне те, которые наносят рану моим чувствам, то легко понять те мотивы, которыми он руководствуется.
Вы же видите, — добавил он, повысив голос, — что он и минуты не терял, направляя мне эти новости. Я всегда был готов ожидать нечто в этом роде от этих негодяев, которые входят в состав членов конференции. Они боятся принца, который выбран самим народом. Однако вы, тем не менее, можете заметить громадные перемены; а именно то, что они готовы продолжать предоставлять ему хорошее образование, и то, что они не убивают его. Если они огрубят его скверным образованием, то тогда остаётся мало надежды. Что касается меня, то можно считать меня уже мертвецом, я уже нахожусь в могиле. Я уверен, что вскоре я прекращу своё существование. Я чувствую, что мой организм борется, но его хватит ненадолго.
Я, — добавил он, — мог бы выслушать известие о смерти жены, сына или всей моей семьи, не изменив выражения лица. На моём лице нельзя было бы заметить и малейшего признака повышенной эмоции. Я показался бы безразличным и равнодушным. Но когда я нахожусь один в комнате, тогда я страдаю, тогда чувства мужчины вырываются наружу.
Я полагаю, — добавил он, — что Моншеню очень обрадовался, услыхав о моей болезни. По каким каналам он посылает свои письма во Францию?»
Я ответил, что он посылает их через губернатора и лорда Батхерста. «Тогда все они не запечатаны и прочитываются в Лондоне вашими министрами». Я ответил, что нахожусь в неведении относительно того, прибегают они или нет к подобной практике. Наполеон пояснил, «это потому, что вы никогда не занимали такого положения, которое позволяло бы знать что-либо об этом. Скажу вам, что вся дипломатическая корреспонденция, включая депеши послов, проходящая через почтовое ведомство, вскрывается. Отто сообщил мне, что, когда он служил в Лондоне, он установил это как несомненный факт».
Я сказал, что я слышал, что во всех странах континента официальные письма вскрываются. «Конечно, они вскрываются, — подтвердил Наполеон, — но эти страны не имеют наглости отрицать этого, как это делают ваши министры, хотя подобная практика нигде не осуществляется в таких масштабах, как в вашей стране. Во Франции, — продолжал император, — был установлен порядок, при котором все письма, отправленные послами, другими представителями дипломатического корпуса, лицами их обслуживающего персонала и всеми лицами, имеющими отношение к дипломатической службе, перенаправлялись в секретное отделение почтового ведомства в Париже, независимо от того, из какой части Франции эти письма отправлялись. Все письма и депеши в иностранные императорские и королевские дворы и их министрам подобным же образом направлялись в это ведомство, где они вскрывались и дешифровывались. Авторы этих писем и депеш иногда использовали несколько различных шифров, к которым прибегали не более десяти раз, для того чтобы скрыть их содержание. Это, однако, помогало мало, так как для того чтобы дешифровать самые хитроумные и трудные шифры, необходимо было получить в своё распоряжение пятьдесят страниц с использованием одного и того же шифра, что, учитывая обширность корреспонденции, было несложным и довольно быстрым делом.
Агенты, занятые дешифровкой, были настолько искусными в своём деле и так быстро читали чужие шифры, что под конец за раскрытие дешифровки нового шрифта им платили всего пятьдесят луидоров. Полиция почтового ведомства вознаграждалась подобным же образом за то, что, вскрывая все письма, адресованные дипломатическому персоналу, она получала возможность изучать корреспондентов, к которым направлялись эти письма. Послы подозревали, что что-то неладное происходит с их корреспонденцией, и, чтобы предотвратить это, они обычно меняли свои шифры каждые три месяца. Но это приносило им лишь дополнительные заботы. Иногда они посылали свои письма в городские почтовые отделения за несколько миль от места своего проживания, считая, что поступают очень хитро, не подозревая о введённом мною порядке, о котором я вам рассказал. Послы менее крупных держав, таких как Дания, Швеция и даже Пруссия, из-за своей жадности, чтобы не тратить деньги на курьеров, обычно посылали свои депеши в зашифрованном виде непосредственно в почтовые отделения, где их вскрывали и расшифровывали.
Наиболее важные сведения, содержавшиеся в депешах, копировали и направляли мне (но никогда министрам). Благодаря применяемому нами способу, нам было известно содержание депеш, которые послы направляли своим королевским дворам, причём мы читали эти депеши ещё до того, как они прибывали к месту своего назначения, поскольку мы обрабатывали их и только после этого в запечатанном виде отправляли дальше. Некоторые депеши изобиловали оскорбительными замечаниями в мой адрес, порицаниями по поводу моего поведения и сфабрикованными беседами со мной. Как часто я смеялся в душе, читая утром те глупости, которые они писали обо мне своим монархам после того, как накануне вечером на моих приёмах буквально слизывали пыль с моих подошв. Нам часто приходилось узнавать о весьма важных вопросах, которые тайно сообщались монархам послами России и Австрии, а также послом вашей страны (когда вы имели своего посла в Париже), который всегда посылал депеши с собственными курьерами, чтобы не предавать их содержание возможной огласке. Через переписку меньших держав мне становились известны точки зрения крупных держав.
Умение тех сотрудников, которые занимались обработкой иностранных депеш, было просто удивительным. Не существовало образцов почерков, которые они не смогли бы скопировать в совершенстве; в секретном отделении почтового ведомства хранились печати, идентичные тем, которыми пользовались послы всех держав Европы, независимо от их количества, и тем, которые принадлежали знатным семьям в различных странах. Если им попадалась печать, для которой у них не было факсимиле, то они могли сделать его в течение суток. Этот порядок работы с иностранными депешами, — продолжал Наполеон, — не был моим изобретением. Первым, кто стал заниматься этим, был Людовик Четырнадцатый. Некоторые внуки тех агентов, которые первоначально работали на него, в моё время заняли те места, которые достались им от их отцов. Но, — добавил Наполеон, — Каслри делает то же самое в Лондоне. Все письма сотрудникам дипломатических служб и от них, которые проходят через почтовые отделения, вскрываются, и их содержание докладывается ему или кому-либо из его министров. Они, должно быть, в курсе дела, что подобная практика существует и во Франции».
Я спросил, существует ли общее правило во французских почтовых отделениях вскрывать письма, адресованные не представителям дипломатического корпуса. Наполеон ответил: «Изредка и только в том случае, когда человек находится под сильным подозрением. Тогда первое, что делается, так это вскрываются все письма, адресованные ему. Благодаря этому определяется круг его корреспондентов, и все письма, адресованные им, также исследуются; но это — одиозная мера, и она очень редко применяется по отношению к французам. Что же касается иностранцев, врагов Франции, то следует принимать все меры, чтобы выяснить их секретные махинации».
Наполеон затем сообщил мне, что он принял решение есть только один раз в день, в два или в три часа дня. За последнее время он ел очень умеренно.
3 ноября. Самочувствие Наполеона оставалось прежним. Следуя своей привычке, когда перед ним были разложены английские газеты, он спрашивал у меня значение тех или иных слов, которых он не понимал. Он резко порицал поведение союзных держав, подвергавших гонениям его брата Люсьена, имевшего склонность к литературной работе, человека, который никогда не командовал войсками и который всегда стремился отойти от политических дел. «Их поведение, — добавил он, — является прямым следствием сознания их собственной тирании и порождено страхами, возникшими в результате того, что они нарушили права наций и поступали вразрез с духом времени и волей народа. Подвергая гонениям меня, они могли привести в своё оправдание ряд причин. Они могли сказать, что я был и монархом и тираном и что моя ссылка была необходима для спокойствия мира; но ничто не может оправдать те акты угнетения и жестокости, которым они подвергают Люсьена. Тот принцип полезности и выгоды, который они однажды выдвинули и в соответствии с которым они действуют, только один Бог знает, к чему он может привести. Используя этот принцип в качестве предлога, французы могут оправдать убийство Веллингтона и уничтожение всей его армии. Это тот самый принцип, который заставит королей трястись от страха на своём троне».
Затем разговор с Наполеоном коснулся лорда Кокрейна и его попытки захватить или уничтожить французские корабли в устье реки Шаранта. Я сказал, что, по мнению одного весьма известного морского офицера, имя которого я назвал и которого хорошо знал Наполеон, если бы Кокрейна надлежащим образом поддержали, то он бы уничтожил все французские корабли. «Он не только бы уничтожил их, — ответил Наполеон, — но он мог и он должен был захватить их, если бы ваш адмирал поддержал лорда Кокрейна, что ему и следовало бы сделать. Ибо вследствие сигнала, данного Л’Аллеманом кораблям, делать все в их силах, чтобы спасти себя, фактически сигнала «спасайся, кто может» экипажи кораблей охватил панический страх и они стали рубить канаты. Ужас, поразивший матросов брандеров, транспортных кораблей, хранивших запасы горючих веществ и пороха, был настолько велик, что они стали сбрасывать за борт бочки с порохом, чтобы не оказывать англичанам никакого сопротивления. Французский адмирал был настоящим глупцом, да и ваш тоже был не умнее его. Я уверяю вас, что если бы Кокрейна поддержали, то он смог бы захватить все французские корабли. Французские моряки не должны были опасаться ваших брандеров, но они более не соображали, как им действовать, чтобы организовать оборону».
5 ноября. Наполеон не спал всю ночь и в постели оставался очень долго. Увиделся с ним в одиннадцать часов утра, когда он ещё находился в постели. Вновь увиделся с ним уже днём. Он опять заговорил о своём брате Люсьене. Наполеон повторил свои мысли о жестокости и несправедливости поступка союзных держав, которые подвергают гонениям человека, увлечённого только литературой и никогда не вмешивавшегося в дела, связанные с политикой. Как рассказал Наполеон, были случаи, когда его брат даже ссорился с ним. Верхом несправедливости является тот факт, что подвергают гонениям человека, который не представляет никакой опасности, тем более по прошествии двух лет после ссылки своего брата. Подобный страх, испытываемый союзными державами перед безобидной личностью, свидетельствует о том, что они сознают, что действуют против воли народа. «Тираны трепещут, когда они стоят перед порогом своего дворца, чтобы выйти наружу». Здесь Наполеон привёл цитату о Плутоне, трепетавшем от мысли, что земля раскроет перед ним все ужасы ада. «До какой степени деградации может дойти существо, — добавил Наполеон, — в образе посла одной из крупнейших держав Европы, когда этот посол подвергает гонениям человека, который никогда не был и никогда не желал быть монархом. Когда я умру, и, возможно, этот день уже близок, Джон Булль отомстит за меня».
6 ноября. У Наполеона улучшилось настроение, но состояние здоровья остаётся прежним. Рассказал мне об одной статье, которую он видел в газете. Статья сообщала, что Тальма оплатил его счет в таверне, когда из-за недостатка денег Наполеон предложил хозяину таверны оставить в залог свою шпагу. Наполеон заявил, что всё это неправда и что он не верит, что Тальма когда-либо мог сказать нечто подобное. «Я не был знаком с Тальма, — продолжал он, — до того как стал первым консулом. Тогда я очень благоволил к нему и очень ценил его как человека огромного таланта и одного из лучших, если не первого, в своей профессии. Иногда утром я посылал за ним, чтобы за завтраком побеседовать. Злопыхатели и клеветники писали, что Тальма обучал меня, как играть роль короля. Когда я вернулся с Эльбы, однажды у меня за завтраком в кругу учёных я сказал присутствующему Тальма: «Прекрасно, Тальма, итак, говорят, что ты учил меня, как нужно сидеть на троне. Ну что ж, это та самая вещь, которая у меня хорошо получается».
Вчера граф Бальмэн и барон Штюрмер имели продолжительную беседу с генералом Монтолоном. Они подъехали к внутренним воротам, где оставались некоторое время. Когда бы полномочные представители ни оказывались вблизи Лонгвуда, то немедленно об этом с поста охраны в «Колониальный дом» подавался сигнал, и обычно к ним из города направляли шпиона, чтобы тот следил за ними; но прямых попыток помешать их контакту с обитателями Лонгвуда не предпринималось.
8 ноября. Наполеон обратил внимание на то, что я хожу, прихрамывая, и спросил, не страдаю ли я подагрой. Я ответил отрицательно, объяснив, что моя походка вызвана тем, что вчера я носил тесную обувь. Я никогда не страдал подагрой и вообще никогда в своей жизни не провел ни одного дня в постели из-за болезни. Затем он спросил, страдал ли мой отец от этой болезни, и далее заявил, что порекомендовал бы мне для избавления от хромоты в течение всего дня воздержаться от еды, пить ячменный отвар и держать больную ногу на спинке дивана. Потом Наполеон заговорил о своём сыне, заявив, что его (Наполеона) мало волнует тот факт, что его сына лишили права наследования герцогством Пармским. Наполеон добавил: «Если он будет жить, то он станет заметной личностью. Что же касается этих ничтожных маленьких государств, то я бы предпочёл видеть моего сына частным джентльменом, имеющим достаточно средств, чтобы не голодать, чем монархом одного из этих государств. Возможно, что этот факт огорчит императрицу, поскольку он не получит её наследства; но всё это меня совершенно не волнует.
Император Франц, — добавил Наполеон, — чья голова забита мыслями о высоком происхождении, очень хотел доказать, что мой род происходит от старых тиранов Тревизо; и после того, как я сочетался браком с Марией Луизой, он нанял нескольких человек, чтобы они покопались в старых, затхлых генеалогических архивах, в которых они смогли бы отыскать то, что хотел доказать император Франц. Он вообразил себе, что, наконец, добился своего, и написал мне, чтобы я дал ему согласие на опубликование результатов исследования с приложением всех официальных документов. Я отказал ему в этом. Он настолько был увлечён своей любимой идеей, что вновь обратился ко мне, попросив меня не вмешиваться в это дело, заявив: «Предоставьте мне самому сделать всё». Я ответил, что это невозможно, так как, если это будет опубликовано, я буду вынужден обратить на это внимание, что я предпочитаю оставаться сыном честного человека, чем происходить от какого-то мелкого, ничтожного тирана Италии; что основателем моей императорской династии являюсь я сам.
Когда-то был такой Буонавентура Бонапарте, — добавил Наполеон, который жил и умер монахом. Бедняга спокойно лежал в своей могиле, никто не думал о нём до тех пор, пока я не стал обладать троном Франции. Затем вдруг обнаружилось, что у него было много добродетелей, которые ранее за ним не замечались, и папа римский предложил мне канонизировать его. «Святой Отец, — обратился я к нему, — ради любви к Богу избавьте меня от насмешек надо мной; вы находитесь в моей власти, и весь мир скажет, что это я заставил вас сотворить святого из одного из членов моей семьи».
25 ноября. Меня вызвали в «Колониальный дом», где я встретился с сэром Хадсоном Лоу, который стал допрашивать меня о различных делах, происходивших в Лонгвуде, и о беседах, которые я вёл с Наполеоном. Я ответил, что принял твёрдое решение не вмешиваться в дела, которые меня не касаются, и заниматься только тем, что относится к моей профессиональной деятельности. Губернатор заявил, что я должен был обсуждать с Наполеоном не только медицинские проблемы, и потребовал, чтобы я докладывал ему о темах бесед, которые вёл с генералом Бонапартом. Я ответил, что, во-первых, ни о чём важном мы с Наполеоном не говорили; во-вторых, я не обязан пересказывать содержание моих бесед с Наполеоном, если только подобные беседы не будут представлять особую важность для моего правительства.
Сэр Хадсон Лоу в ответ возразил мне: «Не вам, сэр, судить о важности бесед, которые вы можете вести с генералом Бонапартом. Я могу считать ряд тем представляющими огромную важность, которые вы, с вашей стороны, будете считать пустяковыми и не имеющими никаких последствий». Я заявил, что если я не могу полагаться на собственное суждение, то в таком случае я обязан докладывать ему обо всём, что бы я ни услышал, что поставило бы меня в положение человека, выполняющего самые позорные и постыдные обязанности. В ответ губернатор заявил, что это мой долг информировать его о том, что я посчитаю нужным, а также о темах моих бесед с генералом Бонапартом; в противном случае, если я не буду делать этого, то, обладая возложенной на него властью, он может запретить мне поддерживать контакт с генералом Бонапартом, за исключением бесед на медицинские темы, и только тогда когда меня будут вызывать к нему для этой цели. Это и есть мой долг, который я обязан выполнять для английского правительства.
Я ответил, что в таком случае я стал бы выполнять роль шпиона, информатора и стукача; что я никогда не подозревал о том, что правительство приставило меня к Наполеону не только ради того, чтобы лечить его; что мой долг врача не позволяет мне совершать постыдные поступки; и что я никогда не совершу их ради кого бы то ни было. Несколько минут сэр Хадсон хранил молчание, буквально пожирая меня своим взглядом, и, наконец, спросил меня: каково значение слова стукач? Я ответил, что «слово стукач применимо к человеку, который втирается в доверие к другому человеку с той целью, чтобы предать его». В результате моего объяснения сэра Хадсона охватил приступ гнева; он заявил, что никогда ещё ему, официальному лицу, не наносили такого ужасного оскорбления, которое ему нанёс я. После этого он приказал мне выйти из комнаты, заявив, что не позволит человеку, который использовал подобные выражения, сидеть в его присутствии. Я же ответил ему, что по своей воле никогда не переступлю порог его дома, если только меня на заставят сделать это. Губернатор с неистовым видом стал шагать по комнате, не переставая громогласно повторять: «Вон из комнаты, сэр!» Он продолжал выкрикивать эту фразу ещё некоторое время после того, как я уже покинул комнату.
Следующий рассказ может в некоторой степени пролить свет на то, как одурачивали генерал-лейтенанта сэра Хадсона Лоу, кавалера «Ордена Бани» 2-й степени и т. д. и т. д., когда он командовал важной крепостью. Эту историю мне главным образом поведал дворецкий Лонгвуда Киприани, у которого также было имя Франчески, под которым он никогда не выступал на острове Святой Елены в силу причин, понятных из последующего.
В 1806 году на сэра Хадсона (тогда подполковника Лоу) было возложено командование островом Капри, расположенным в Неаполитанском заливе. Сэру Хадсону было поручено секретное задание или, попросту говоря, организация шпионажа на континенте, по крайней мере в регионе Средиземного моря. На острове, которым он командовал, он получал разведывательную информацию из города Неаполя, находившегося на расстоянии нескольких миль от острова. Разведывательную информацию ему на рыбацкой лодке привозил некто Антонио, который ночью приплывал на лодке, якобы занимаясь рыбной ловлей. Сэр Хадсон в качестве шпиона использовал Антонио Судзарелли, корсиканца, человека со способностями, который получил юридическое образование вместе с Поццо ди Борго и с Саличетти, занимавшим тогда пост министра полиции в Неаполе. Судзарелли ранее служил офицером английской секретной службы. Ему в его шпионской деятельности также помогали два неаполитанца: Мареска и Крискуоло. На Каролину, королеву Сицилии, в качестве шпиона работал Кассетти, драгунский неаполитанский подполковник. Судзарелли оставался верен сэру Хадсону Лоу около двадцати дней, а именно с 19-го или с 20 января по 10 февраля, когда несколько его донесений были перехвачены в лодке, направлявшейся на Капри.
В таверне он встретился с Киприани Франчески, работавшим тогда в секретной службе Саличетти и якобы бывшим его побочным сыном, но известным всем под именем Франчески. Поскольку оба были земляками и близкими знакомыми, то Судзарелли не стал скрывать от Франчески истинную суть своей работы, признавшись ему также в том, что он ежемесячно получает определённую сумму денег от английского правительства. Киприани предложил Судзарелли делать вид, что продолжает собирать информацию для губернатора Капри и, тем самым, не отказываться получать от него денежное содержание, но в то же самое время он должен сообщать всё Саличетти и подчиняться его указаниям, Киприани добавил, что тогда Судзарелли будет получать вдвое больше денег, чем он получает сейчас от англичан. Киприани прямо намекнул Судзарелли, что в том случае, если тот откажется от данного ему предложения, то, по всей вероятности, он будет найден через две или три недели и расстрелян. Судзарелли, который не был новичком в подобных делах, намёк понял без промедления, тут же принял предложение Киприани и затем был представлен Саличетти, от которого получил инструкции, как ему действовать в дальнейшем. Судзарелли также привлёк Мареску и Крискуоло, частично обещаниями и частично угрозами, к сотрудничеству с Саличетти. Кассетти также стал работать на Саличетти в качестве шпиона, но теперь уже против королевы Сицилии. Все они стали получать денежное содержание вдвое большее, чем от прежних хозяев.
Работа была организована таким образом, что как только Судзарелли получал донесение с заданием от сэра Хадсона Лоу, то оно немедленно попадало в руки Саличетти в том виде, в каком оно было получено Судзарелли. Саличетти, прочитав донесение, диктовал те ответы, которые он считал нужными. Иногда Судзарелли позволяли сообщать правду. Например, в то время, когда французские войска составляли в Неаполе большую силу, Судзарелли было поручено назвать их подлинную численность. Когда же в донесении были вопросы, на которые Саличетти не хотел давать прямые ответы, то он приказывал арестовывать хозяина рыбацкой лодки и его команду и отправлял их за решётку на несколько дней, в течение которых их подвергали формальному допросу и затем отпускали на волю. Такая проделка давала Судзарелли возможность проявлять свой талант в получении дополнительных денег у сэра Хадсона, докладывая ему о вымышленных неприятностях, выпавших на его долю, и о громадных расходах, понесённых в связи с тем, что ему пришлось подкупать полицию, чтобы спасти своих бедолаг с рыбацкой лодки, которым, в противном случае, грозил расстрел.
Подобным образом вся информация, передаваемая британскому правительству, была лишь той, которая отвечала намерениям Саличетти и, соответственно, императора Наполеона, за исключением тех незначительных сведений, которые сэр Хадсон мог собрать по мелочам от хозяина рыбацкой лодки и его сыновей, остававшихся верными сэру Хадсону, но не имевших никакого доступа к мало-мальски важной информации. Часто сэр Хадсон Лоу оказывал честь Судзарелли, давая ему поручения довольно сложного характера, которые по приказу Саличетти выполнялись с величайшей пунктуальностью и быстротой. Среди этих поручений значилась доставка для королевы Каролины дорогих французских часов, редких книг, а для сэра Хадсона всех последних газет и книг, а также, в особенности, экземпляра географического атласа Лас-Каза, который очень хотел приобрести сэр Хадсон. Поручения такого рода также давали ещё одну возможность честному малому Судзарелли дополнительно опустошать карманы сэра Хадсона, поскольку, хотя Саличетти приказывал ему поставлять требуемые вещи по их себестоимости с умеренной наценкой за понесённые издержки, чтобы не вызвать лишних подозрений, Судзарелли никогда не упускал случая под различными предлогами поднять цену поставляемого товара на пятьдесят, а то и на все сто процентов. Не брезговал Судзарелли заниматься и контрабандой, причём в немалых размерах. Сэр Хадсон часто закупал английские и колониальные товары, которые Судзарелли затем с большой выгодой для себя перепродавал в Неаполе.
Сэр Хадсон, полагаясь на своё хитроумие, прибегал к помощи необычного способа передачи денежного содержания Судзарелли, Крискуоло и Мареске, последнего из которых он, от всей полноты своей души, обычно называл своим лучшим агентом. Их работа оплачивалась золотыми монетами, которые обычно передавались им запеченными внутри булок. Осторожный сэр Хадсон сам пёк эти булки в своём доме, собственноручно закладывая монеты в тесто, чтобы его шпионы не были пойманы агентами неаполитанской полиции Булки с монетами имели вид хлеба, которым пользовались лодочники во время ночной рыбной ловли. Как только рыбаки причаливали к берегу, булки с монетами отбирал Судзарелли, который передавал их Саличетти. Начальник неаполитанской полиции требовал, чтобы любой вид посланий сэра Хадсона сразу же передавался ему. Через Судзарелли французскому правительству становились известны действительные цели походов армии под командованием генерала Мак-Кензи Фрэзера и порты назначения флота под командованием сэра Дакворта.
Судзарелли даже предложил сэру Хадсону предоставить несколько солдат, чтобы те завербовали полк корсиканцев на острове Капри. Насколько я помню, ему действительно передали несколько солдат, чтобы те под его командованием подкупали иностранцев для воинской службы в рядах английской армии. В то время, как замышлялась атака на Капри, Судзарелли с присущим ему искусством сумел убедить сэра Хадсона Лоу в том, что на самом деле готовится атака на небольшой остров Понца. В результате английский фрегат «Амбускейд» и большинство канонерок английского флота были посланы защищать этот остров. Тем самым проход к Капри защищался только малыми силами. Чтобы подкрепить версию нападения на остров Понца, на все корабли в Неаполе было наложено эмбарго. Но всё же несколько рыбацких яхт, укомплектованных сотрудниками Саличетти, были ночью высланы в залив с той целью, чтобы, сблизившись с судами сэра Хадсона, заверить команды этих судов в том, что морская экспедиция всё же готовится для нападения на остров Понца. Для того, чтобы поссорить британское правительство и сэра Хадсона с королевой Каролиной, некий неаполитанец по имени дон Антонио сфабриковал письма, якобы написанные ею на имя Кассетти. В то время как другие письма, якобы написанные сэром Хадсоном, были сфабрикованы английским учителем, проживавшим в Неаполе.
В этих последних письмах конфиденциально сообщалось, что англичане ставят перед собой цель изгнать королевскую семью из Сицилии, выслать ее в Англию, где члены семьи жили бы на пенсию, а англичане, соответственно, смогли бы овладеть Сицилией. В письме же королевы приводились жалобы на сэра Хадсона и содержались выпады против него и против англичан. Эти негодники, чтобы доставить удовольствие Саличетти, да и самим себе, иногда, чтобы устроить ссору между сэром Хадсоном и принцем Канозой, который командовал островом Понца, подкидывали им сфабрикованные письма, в которых они оскорбляли друг друга. Вечерами Судзарелли и его друзья собирались вместе, чтобы приятно провести время за бутылкой вина и вволю посмеяться над тем, как они одурачивают сэра Хадсона, за чьё здоровье они, ради насмешки над ним, провозглашали тост. Даже в самый разгар своих пирушек они вынашивали новые способы обмануть сэра Хадсона. Иногда к ним приходил сам Саличетти, чтобы послушать их замыслы, зачастую вызывавшие у него смех.
В 1807 или в 1808 году Судзарелли предстояло отправиться в Вену для того, чтобы выполнить задание Саличетти и заодно заставить сэра Хадсона Лоу оплатить его расходы по поездке. Главная цель этого задания заключалась в том, чтобы попытаться выведать у английского посла и у Поццо ди Борго, находившегося тогда в Вене, разведывательную информацию. Сначала Судзарелли посетил сэра Хадсона Лоу, которого он убедил в том, что в Вене он сможет получить информацию огромной важности, и в результате он добился от него шести тысяч франков на расходы во время поездки, а также нескольких важных рекомендательных писем. Затем он отправился в Вену, где был принят английским послом, от которого получил некоторую важную разведывательную информацию. Он также получил от посла предписание на право получения денежного содержания для других английских агентов и офицеров, которые проживали на континенте.
Встреча с Поццо ди Борго кончилась для Судзарелли неудачно, так как осторожный корсиканец не мог поверить словам Судзарелли, что тому удалось обмануть Саличетти. Судзарелли пытался вкрасться в доверие Поццо ди Борго, похваставшись, что он оказывает немалое влияние на Саличетти, заявив: «Саличетти верит всему, что я говорю ему». Отвесив Судзарелли глубокий поклон, Поццо ди Борго в ответ спросил его: «И это ты говоришь мне?» Несмотря на всё своё искусство, Судзарелли не удалось выудить у Поццо ди Борго ни малейшего секрета, хотя рекомендательное письмо, данное ему сэром Хадсоном Лоу, представляло его как человека, которому можно полностью доверять, а в паспорте, полученном им до встречи с Поццо ди Борго от английского посла, значилось, что он является «синьором бароном Судзарелли». Когда Судзарелли вернулся в Неаполь, то Саличетти спросил его: «Итак, что же ты выудил у Поццо ди Борго?» «А, — ответил Судзарелли, пожав плечами, — когда встречаются два мошенника, то из этого ничего путного не получается».
Затем он сообщил Саличетти, что Поццо ди Борго просил передать ему самые лучшие пожелания. Саличетти ответил: «Судзарелли, я знаю, что ты лгал мне много раз, но это величайшая ложь, которую когда-либо произнесли твои губы, привыкшие к тому, чтобы всегда лгать. Я прекрасно знаю Поццо ди Борго: я стал причиной того, что его изгнали из его страны и объявили вне закона; поэтому, благодаря мне, если его поймают во Франции, то он будет расстрелян. Подумай-ка тогда сам, как такой гордый человек, как Поццо ди Борго, да ещё будучи корсиканцем, мог передать самые лучшие пожелания человеку, который принёс ему столь много неприятностей. Никто, кроме самого низкого и подлого человека на свете, не мог быть способным на это, а я хорошо знаю, что Поццо ди Борго является одним из самых гордых людей на всем свете». Впоследствии сам Судзарелли[56] признался, что всю эту историю с пожеланиями Поццо ди Борго он выдумал.
Одно время Судзарелли добился от сэра Хадсона Лоу обещания, что тот приедет в Неаполь, где Судзарелли проведёт его в небольшой дом на берегу залива, принадлежавший Мареске. В этом доме он должен был встретиться с Саличетти, изменившим свой внешний вид. Саличетти, однако, решил на этой встрече не захватывать сэра Хадсона, так как он посчитал, что потом будет трудно найти другого губернатора, который бы позволил так явно обманывать себя. Кроме того, захват губернатора Капри лишил бы возможности в дальнейшем извлекать пользу из услуг Судзарелли. «Мне бы хотелось увидеть этого твоего полковника, — заявил Саличетти. — Покажи мне его. Человек может позволить обманывать себя несколько месяцев, но тот, кто становится предметом беспардонного надувательства в течение нескольких лет, должен быть уже не человеком, а тупоумным животным». — «О, — ответил Судзарелли с важным видом, — всё дело не в том, что он большой болван, а в том, что я слишком умён».
Мюрат горел желанием захватить все английские товары, скопившиеся в большом количестве в Неаполе, но с американской маркировкой. В то же время он не хотел ссориться с американцами. Поэтому он поручил Судзарелли найти возможность определить, какие именно товары являются американскими, а какие — нет. Судзарелли отправился к сэру Хадсону Лоу, которого он убедил в том, что тот сможет оказать существенную услугу британскому правительству, если он будет обладать средством отличить английские паспорта от настоящих американских паспортов. Сэр Хадсон дал ему два паспорта, один настоящий, но американский, а другой поддельный, но английский. Одновременно сэр Хадсон объяснил Судзарелли, как отличить настоящий паспорт от поддельного: единственная разница заключалась в печати. В английском паспорте инициалы помещались точно в центре печати; в американском же, хотя буквы были точно такими же, инициалы были проставлены несколько ниже центра. Снабжённый всеми этими данными, Судзарелли покинул Капри. В начале 1810 года Мюрат осуществил захват всех кораблей в Неаполе, и те корабли, владельцы которых имели фальшивые паспорта, были конфискованы. Пока Саличетти был жив, только небольшое число кораблей было захвачено, так как он не хотел, чтобы отношения между Судзарелли и Лоу испортились.
Именно благодаря деньгам, полученным в результате захвата и конфискации вышеупомянутых кораблей, король Иоахим смог снарядить и оплатить проведённую против Сицилии экспедицию в 1811 году. Саличетти было известно почти всё, что творилось в королевском дворце Палермо, благодаря герцогине К., с которой он имел любовную связь. Она была дочерью посла Сицилии и первой дамой Каролины, а также её доверенным лицом. Она ненавидела французов, и Саличетти делал вид, что он прирождённый республиканец, питавший отвращение к французской партии. Она наладила регулярную переписку со своей матерью, которая подробно обо всём её информировала. За предоставленные ею сведения Саличетти ежемесячно выплачивал ей одну тысячу эскудо.
В 1808-м или в 1809 году некий неаполитанец по имени Моска, имевший чин капитана, был направлен из Капри королевой Каролиной, чтобы убить брата Наполеона, Жозефа, бывшего тогда королём Неаполя. Для того чтобы подвигнуть его на свершение этого деяния, она подарила ему локон своих волос и собственноручно написала ему письмо, в котором обещала чин полковника, как только он выполнит то, что обещал. Независимо от этого он получил письмо от принцессы В., доверенного лица королевы Каролины. В письме точно указывалось, что ему предстояло сделать, а именно: избавить свою страну от узурпатора. В письме ему было гарантировано, что «добрая королева, его госпожа, выполнит всё, что она обещала ему». В соответствии с данным ему поручением капитан Моска покинул Капри на фелюге, снабженный всеми необходимыми паспортами; в одном из них, подписанном английским офицером, содержались инструкции, предписывавшие, чтобы все британские офицеры оказывали любое содействие владельцу паспорта, который направляется на выполнение секретной миссии на благо службы короля Фердинанда.
Капитан Моска высадился в Молино, вблизи загородного дома Жозефа. Он планировал убить Жозефа во время его прогулки в саду. Притаившись в саду в ожидании своей жертвы, преступник неожиданно заметил девушку, чья внешность поразила его. Он подошёл к ней и предложил несколько золотых монет в обмен на исполнение ею его желаний. Не добившись её согласия, он сообщил ей, что прибыл в Неаполь по поручению королевы, чтобы казнить важную особу, и что, если она не будет противиться его желаниям, он сделает её великой женщиной. Девушку охватил страх, и она отказалась ответить ему своим согласием, несмотря на блеск его золотых монет и на его обещания. Информация о случившемся была передана в полицию, которая немедленно проследовала к месту происшествия. Двое помощников Моски были убиты, а его самого схватили после отчаянного сопротивления с его стороны. Военному трибуналу в качестве улик против него были представлены письма, локон волос и оружие, найденное на нём. Девушка предстала перед военным трибуналом как свидетельница обвинения. Моска в свою защиту заявил, что он просто пришёл, чтобы броситься к ногам Жозефа, попросить у него прощения и разрешения вернуться в Неаполь. Однако после осуждения он признался в своих истинных намерениях. Он мужественно перенёс казнь, отказавшись выдать имена своих сообщников.
Вскоре после этого события королева Каролина направила неаполитанского аптекаря по имени Герарди и его двух сыновей осуществить убийство Саличетти. С этой целью они отправились на остров Понца, оттуда проследовали на Капри и из Капри уже в Неаполь, где высадились на берег с катамарана, по форме и размеру напоминавшего корабельный буй. Им удалось получить доступ в дом Саличетти и даже арендовать комнату под лестницей дома в качестве аптекарской лавки, в которой они разместили адскую машину. Саличетти вернулся домой только к часу ночи, вышел из своей кареты и по своей привычке быстро пронёсся вверх по лестнице: это спасло его жизнь.
Бомба не взорвалась, пока он не прошёл через четыре комнаты своих апартаментов. В момент взрыва вместе с ним был Киприани. Тридцать комнат дворца были или разнесены на куски, или сильно повреждены. Дворец практически превратился в руины, под которыми была завалена одна из дочерей Саличетти, где она оставалась в течение нескольких часов, но, наконец, её обнаружил Киприани, услыхавший чьи-то стоны. Когда он поспешил в направлении стонущего голоса, пол под ним обвалился и он упал, к счастью, не получив каких-либо серьёзных ушибов, в комнату этажом ниже, неподалёку от раненой девушки. Была поднята тревога, и после значительных усилий из массы руин извлекли полумёртвую юную девушку. Несколько потолочных балок, свалившись, образовали над ней нечто вроде креста, что и стало причиной спасения её жизни. Герарди и его сыновья были арестованы и преданы суду. Сыновья были расстреляны, но их отец, с учётом его возраста, был приговорён к пожизненному заключению.
Немедленно после этого события сэр Хадсон Лоу написал письмо Саличетти, в котором заявлял о своей полной непричастности к покушению и выражал своё отвращение к подобным попыткам.
Под различными предлогами Судзарелли вымогал у полковника Лоу большие суммы денег. Например, он требовал выдачи компенсации своим агентам за то время, когда они сидели в тюрьме. Он также утверждал, что подкупал полицию, чтобы предотвратить свой собственный арест. Он отличался невероятно беспутным характером, но был человеком со способностями и обладал располагающей внешностью и приятными манерами. Временами он пытался обмануть самого Саличетти выдуманными красочными историями и изобретал различные махинации, чтобы заполучить от него деньги. В таких случаях Саличетти обычно говорил ему: «Отправляйся к своему полковнику и постарайся заставить этого болвана поверить всей этой твоей чепухе. Со мной этот номер не пройдёт, это знает каждый. Ты не можешь сказать мне сразу, что тебе нужны деньги?»
Подделав почерк полковника Лоу, Судзарелли сфабриковал письмо, которым ставилась цель поссорить английское правительство с жителями Сицилии. Беседуя с Кассетти, Судзарелли обронил фразу о том, что королева Каролина намерена перевернуть всё вверх дном в Сицилии и стремится уничтожить там всех англичан. Это сообщение вызвало у Кассетти большое любопытство, и он стал настойчиво выспрашивать у Судзарелли подробности этого дела. Судзарелли долго тянул с ответом и затем, якобы с явной неохотой, ответил, что у него есть письмо от полковника по этому вопросу. Кассетти с большим рвением стал настаивать, чтобы Судзарелли показал ему это письмо. Судзарелли после долгих увещеваний разрешил Кассетти посмотреть письмо. Сэр Хадсон в этом письме клеймил всех неаполитанцев как кучку негодяев, не имеющих веры; советовал Судзарелли опасаться их, утверждал, что королева Каролина готовит заговор, чтобы убить всех англичан в Сицилии; что сицилийские бароны полностью готовы взяться за оружие и затем устроить побоище англичанам и выставить их всех с острова Сицилия; письмо заканчивалось заявлением о том, что ввиду раскрытия этого заговора английское правительство приняло решение захватить королеву и взять остров под свой собственный контроль.
Кассетти очень просил, чтобы ему передали это письмо. Судзарелли отказал ему в этом, но разрешил сделать копию с него, обещая, что он подумает о том, уместно ли ему передать Кассетти оригинал письма. После этого Судзарелли отправился к Саличетти, которому доложил, что Кассетти проглотил наживку, добавив, что он обещал рассмотреть возможность того, чтобы позволить Кассетти получить оригинал письма. Всегда принимая все меры предосторожности, Саличетти послал Судзарелли за английским школьным учителем, находившимся на службе у Саличетти и в совершенстве подделывавшим почерки, для того, чтобы Саличетти убедился, действительно ли Судзарелли искусно подделал почерк полковника Лоу. Школьный учитель, взглянув на письмо, заявил, что обман будет обнаружен. Затем школьный учитель попросил сделать копию письма и настолько искусно подделал почерк сэра Хадсона Лоу на новом письме, что впоследствии это письмо ввело в заблуждение самого полковника Лоу. На следующее утро Судзарелли передал письмо Кассетти, предупредив его при этом, чтобы он никому не показывал письма и, тем более, не потерял бы его, поскольку, как он заявил, его жизнь зависит от этого письма.
Кассетти немедленно поспешил в Палермо и показал письмо королеве, которая, объятая гневом, послала за сэром Джоном Стюартом, находившимся тогда в Палермо, и выложила перед ним сфабрикованное письмо, требуя, чтобы полковник Лоу был немедленно наказан за то, что посмел использовать её имя подобным образом. Сэр Джон Стюарт сразу же послал за полковником Лоу для представления им объяснений. Когда ему показали это письмо, так искусно подделанное, сэр Хадсон признал, что письмо написано им, но тут же заявил, что не помнит, чтобы когда-либо писал подобное письмо. Он также не смог отыскать копию этого письма в своём личном архиве. В то время, когда Судзарелли подделывал письмо, полиция специально выслала в залив несколько лодок и захватило лодку полковника, вышедшую из Капри. На следующий день Судзарелли написал полковнику о том, что его лодка захвачена и он не знает, какого рода секретная информация направлялась в его адрес, так как всё, что было в лодке, попало в руки полиции, включая и саму лодку.
Мареска обычно был тем самым человеком, который ездил к полковнику в лодке Антонио. Сэр Хадсон считал Судзарелли и Мареску лучшими своими агентами. У Марески было два сына, так же как и у лодочника Антонио. Все они со своими сыновьями были верны сэру Хадсону Лоу. Примерно в середине 1809 года сэр Хадсон Лоу стал подозревать в неискренности Судзарелли, в результате чего Судзарелли отправился на Капри, где он настолько эффективно использовал своё красноречие, что полностью убедил сэра Хадсона, что он самый преданный ему человек на свете и целиком посвящает ему свои услуги. Вернувшись в Неаполь, Судзарелли отправился к Саличетти, которому он в подробностях пересказал свой разговор с сэром Хадсоном, сопровождая свой доклад остроумными замечаниям в адрес бедного полковника. Саличетти, когда ему хотелось немного расслабиться от государственных дел и немного отвлечься, обычно посылал за Судзарелли, который умел рассмешить его своими рассказами о том, как он дурачил полковника Хадсона Лоу.
Судзарелли задумал осуществить план, который бы позволил склонить принца Канозу к тому, чтобы высадить свои войска на берег Неаполитанского залива, но, к счастью для Канозы, последний отказался от осуществления этого плана. В противном случае его бы захватили и расстреляли в течение суток. Пока Судзарелли занимался организацией этих игр, от полиции Парижа пришло письмо, сообщавшее о том, что получена информация о неком Судзарелли, корсиканском эмигранте, состоящем на денежном содержании у Англии, который в настоящее время находится в Неаполе, занимаясь шпионской деятельностью в пользу англичан. Полиция Парижа хотела, чтобы Саличетти принял меры для ареста Судзарелли, отдал его под суд военного трибунала и немедленно привел в исполнение смертный приговор.
Саличетти послал за Судзарелли и, когда тот появился, дал ему в руки письмо из Парижа, чтобы тот внимательно прочитал его. Затем Саличетти написал письмо в Париж, объяснив суть контакта Судзарелли с сэром Хадсоном Лоу, добавив, что Судзарелли является сокровищем для французской разведки. Этот инцидент Судзарелли использовал для собственной пользы, так как он дал ему возможность извлечь из кармана сэра Хадсона Лоу дополнительную сумму денег под тем предлогом, что он вынужден подкупать в больших размерах некоторых сотрудников полиции Неаполя. Он добавил в разговоре с сэром Хадсону Лоу, что, если бы не его друг и земляк по имени Франчески[57], который находится на службе у Саличетти и имеет на него большое влияние, то его, Судзарелли, безусловно бы арестовали и расстреляли.
В конце октября 1808 года король Иоахим окончательно пришёл к выводу, что владение англичанами островом Капри тормозит развитие торговли Неаполя. Его также не переставали тревожить попытки наёмников королевы Каролины, находившихся на её денежном содержании, осуществления в Неаполе политических убийств. То, что он продолжает позволять англичанам владеть островом, находившимся столь близко от его столицы, король Иоахим считал для себя личным позором, и он в конце концов, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, принял решение стать самому хозяином этого острова. Соответственно, началась активная подготовка для нападения на Капри, которую Судзарелли и его сообщники убедительно объясняли сэру Хадсону Лоу, как мероприятие, направленное против острова Понца.
Всё было готово для осуществления нападения на Капри и незадолго до намеченного срока нападения в Неаполе было созвано заседание совета министров. Некоторые министры предлагали, чтобы Судзарелли продолжал обманывать сэра Хадсона Лоу вплоть до самого начала нападения; однако нашёлся один министр, который придерживался того мнения, что если успех нападения окажется под вопросом, то полковник Лоу поймёт, что Судзарелли всегда обманывал его, и тогда он никогда более не будет ему доверять. Поэтому этот министр предложил, чтобы предотвратить это, разрешить Судзарелли сообщить сэру Хадсону Лоу за несколько часов до выхода неаполитанской флотилии из порта о её истинном пункте назначения. До этого момента Судзарелли должен был продолжать убеждать сэра Хадсона Лоу в том, что неаполитанская флотилия предназначена для нападения на Понцу; таким образом, что бы ни случилось, Судзарелли не мог быть скомпрометирован. Для нападения на скалистый остров Капри были необходимы штурмовые приставные лестницы, и было очевидно, что их сооружение не пройдёт мимо внимания сэра Хадсона Лоу, что в конечном счёте не только разоблачит Судзарелли, но и сразу же укажет на истинный объект намеченной военно-морской экспедиции. Поначалу казалось, что это обстоятельство станет непреодолимым препятствием. Однако гений того же самого министра, который внёс вышеупомянутое предложение, подсказал средство для достижения цели, которое прекрасно сработало. За день до осуществления нападения на Капри полиция Неаполя отдала приказ, чтобы все фонарщики города Неаполя собрались вместе со своими лестницами на следующий день в определённый час. В ту же ночь Судзарелли дал знать Лоу, что на следующее утро остров Капри будет атакован. К своему посланию Судзарелли даже приложил воззвание, которое будет направлено войскам, готовым начать атаку острова. Было рассчитано, что это краткое извещение только усилит панику среди состава гарнизона Капри. Военно-морская экспедиция с личным составом в тысячу восемьсот человек под командованием генерала Ламарка отправилась из Неаполитанского залива 5 октября и прибыла к скалам острова Капри без какой-либо помехи со стороны английской эскадры, состоявшей из фрегата «Амбускейд», четырёх сторожевых кораблей и флотилии канонерок. Вся эта английская эскадра была отправлена на защиту острова Понца, который, как предполагалось, должен был подвергнуться нападению.
Остров Капри охранялся гарнизоном, в состав которого входили королевский полк корсиканцев, королевский полк Мальты и подразделение английской артиллерии. Вероятно, во всём мире не существует другого острова, для которого самой природой были созданы непреодолимые естественные препятствия для его атаки армией со стороны моря, чем остров Капри. Девять десятых поверхности острова состоит из крутых и перпендикулярных скал, возвышающихся на несколько сотен футов над уровнем моря. Каждое место на берегу острова, известное как удобное для высадки с моря, было тщательно укреплено. Форты острова был обеспечены примерно сорока пушками.
Несмотря на все эти природные и искусственные препятствия, французам удалось высадиться на остров. В отдельных местах они были вынуждены взбираться вдоль склона обрывов с помощью лестниц, основания которых были укреплены на качавшихся в море лодках. Полк Мальты, то ли из-за трусости, то ли благодаря тому, что был подкуплен Судзарелли, лучшим агентом сэра Хадсона Лоу, бросил своё оружие, отказался воевать и сдался в плен, несмотря на все усилия своих офицеров. Некоторые из них, включая командира полка, были убиты в ходе перестрелки. Таким же образом были захвачены форт Сен-Барбе и Ана-Капри, вершина острова. Единственная возможность сообщения с самим Капри, с его цитаделью и фортами, где находились сэр Хадсон и остальная часть гарнизона, осуществлялась с помощью лестницы с пятьюстами ступенями, по которым мог спускаться только один человек, лестница охранялась несколькими пушками.
Несмотря на это, французские войска предприняли штурм, оказавшийся успешным и окружили город. Пятьсот солдат запрягли себя в несколько пушек со снарядами весом в двадцать четыре фунта и в одну ночь протащили их на вершину Соларо, наивысшую точку Ана-Капри, которая господствовала над цитаделью. В течение всего времени своего командования на Капри сэр Хадсон Лоу не удосужился укрепить эту часть острова, предполагая, что невозможно протащить тяжёлую пушку вверх по крутым склонам горы. Французы установили батареи, пробивавшие стены цитадели. Вдоль берега были поставлены специальные пушки с зажигательными снарядами, которые при выстреле своим красным пламенем должны были отгонять английскую эскадру и флотилию. Посланные на помощь Капри подкрепления, отброшенные от Неаполя, были вынуждены высадиться на берег около бань Тибериуса. Через несколько дней сэр Хадсон Лоу капитулировал, сдав французам остров Капри со всеми фортами, артиллерией, амуницией и складами.
Капри обычно называли Гибралтаром Неаполя и препятствия для его захвата и даже для высадки на берег этого острова казались настолько непреодолимыми, что Саличетти при посещении острова, после того как он был взят, не мог удержаться от того, чтобы не сделать следующее замечание: «Я встречал там французов, но я никогда не мог поверить, чтобы им удастся туда войти».
Когда в 1809 году объединённая военно-морская экспедиция под командованием генерал-лейтенанта сэра Джона Стюарта и адмирала Фримантля покинула Сицилию, то по совету адмирала и в соответствии с его планом эта экспедиция в составе девятнадцати тысяч человек должна была высадиться на берегу между Портичи и Кастелламмаре и затем атаковать город Неаполь. Сэр Хадсон Лоу находился с этой армией. Естественно, вспомнили о Судзарелли, который порекомендовал, чтобы англичане сначала обеспечили себе места для поддержки и для отступления, захватив острова Искья и Прокида, а затем осуществили высадку войск в районе Байи. По словам Судзарелли, гарнизоном Байи командовал корсиканский полковник, его родственник, который за определённую сумму денег и за получение равнозначного военного звания в английской армии сдаст гарнизон после мнимой демонстрации сопротивления.
На этот раз английская сторона и армия Фердинанда имели достаточно времени для того, чтобы подготовить планы помощи военно-морской экспедиции против Неаполя и собрать всех своих сторонников. К сожалению, рекомендации Судзарелли были приняты. К этому времени в Неаполе находилось войско в составе только четырёх тысяч человек, так как большинство французских войск шли походным маршем в Германию в преддверии битвы при Ваграме. Тем войскам, которые оставались в городе, был дан приказ оставить город, если высадятся англичане, и собраться в форте Сан-Эльмо, где они должны были оставаться, пока к ним не подойдёт помощь. Им даже было приказано не обстреливать Неаполь, если его оккупируют англичане. Все деньги, весь багаж и все драгоценности короля и королевы, а также знатных вельмож были упакованы и готовы к отправке в тот момент, когда английские войска начнут высадку на берег. Практически им никакого сопротивления не могло бы быть оказано. В гавани Неаполя на якорях стояли несколько фрегатов и военных кораблей, вооружённых семьюдесятью четырьмя пушками, в порту склады были до отказа завалены товарами, в гавани стояли от двухсот до трёхсот торговых парусников, а также огромная флотилия мелких кораблей, которые можно было бы без труда захватить, так как Мюрат не хотел причинять вред городу, попытавшись организовать бесполезную оборону.
Когда появились первые англичане, Саличетти находился в Риме. Мюрат потерял весь свой разум и ни о чём не думал, кроме того, как ему спасти свои сокровища. Однако королева, проявившая гораздо больше твёрдости и способностей управлять кабинетом министров, направила с Киприани записку Саличетти, умоляя его, не теряя времени, вернуться в Неаполь. В записке она писала, что король полностью потерял разум и не способен возглавить оборону города, и что всё зависит от него, от Саличетти. Эту записку Киприани спрятал в подошве своего сапога и, преодолев ряд трудностей, в том числе чуть было не став жертвой грабителей около Террачины, наконец добрался до Рима. Если бы ему удалось добиться возвращения Саличетти в Неаполь, то ему по приказу королевы следовало немедленно возвращаться в Неаполь; в согласованном с королевой месте около входа в город он должен был носовым платком якобы стереть пот с бровей; если же его миссия не увенчалась бы успехом, то он должен был войти в город, не останавливаясь.
Киприани увиделся с Саличетти примерно в два часа утра и передал ему послание королевы. Прочитав записку, Саличетти спросил, чем занимаются Судзарелли и Мареска. Киприани ответил, что они находятся в Неаполе и пытаются убедить английских генералов не высаживать свои войска на берегу между Портичи и Кастелламмаре, но атаковать остров Искья. «Браво, Судзарелли, — воскликнул Саличетти, — они проиграли; но, если они высадятся между Портичи и Кастеламаре, то проиграем мы». Саличетти отправил Киприани обратно в Неаполь, и тот, помчавшись с необычайной скоростью, прибыл на условленное место, передав королеве ожидаемый ею сигнал. Вскоре за ним последовал и Саличетти. Прибыв в Неаполь, он обнаружил, что Мюрат уже успел оседлать лошадей и готов вот-вот оставить город, предоставив его собственной судьбе. Саличетти в довольно резкой форме заявил Мюрату, что тот недостоин королевской власти, если не хочет защитить собственный народ. Своё обращение к Мюрату Саличетти закончил тем, что заверил его, что он, Саличетти, возьмет на себя обязанность по руководству королевством от имени императора Наполеона, если Мюрат не примет необходимых мер для защиты города. Мюрат, смутившись, вернулся во дворец.
Немедленно войскам были разосланы депеши с приказом вернуться на территорию города, включая и те войска, которые шли маршем в Германию. Чётвертый драгунский полк был возвращён из провинции Абруцци, и в городе сразу же были приняты необходимые меры по наведению порядка. Пушки были установлены на улицах, которые стали охранять надёжные войска. Были обнародованы принятые приказы об открытии огня по сборищам толпы. Саличетти собрал всех лиц, к которым он питал подозрение, заявил им, что не может верить их пустым словам, и потребовал, чтобы они вели себя тихо, не вмешиваясь во всё то, что происходит в городе. Своё обращение к этим лицам он закончил, резким тоном спросив их, какие гарантии они могут дать в отношении своего поведения. Удивлённые резкостью его поведения, они, после некоторого колебания, попросили, чтобы их содержали в одном из фортов, пока не закончится в городе вся эта неразбериха. Их пожелание было удовлетворено.
Пока Саличетти в открытую вёл себя подобным образом, принимая и осуществляя в приказном порядке все меры по защите города, чтобы воодушевить всех тех, кто оставался верен ему, и вселить страх в тех, кто выступал против него, он в то же время тайно продолжал давать указания о том, что если англичане высадятся на берег Неаполитанского залива, то войскам следует эвакуировать город и обосноваться в фортах до того времени, пока в Неаполь с территории Италии не вернутся достаточные силы, чтобы иметь шанс на успех. В течение трёх дней были собраны значительные силы и все страхи в городе рассеялись.
Саличетти был республиканцем, и он бы поддержал установление этого вида правительства в Италии, если бы была вероятность успеха. Он умер через несколько часов после того, как обедал у своего врага, к которому был приглашён для примирения. Обстоятельства его кончины дали повод для предположения о том, что он был отравлен. Однако об этом факте существовали различные точки зрения; французские врачи настаивали на этом, а итальянские — отрицали. При вскрытии тела следов яда обнаружено не было. Когда Наполеону доложили о смерти Саличетти, то он воскликнул: «Одно его имя представляет для меня ценность, равную армии в сто тысяч солдат».
Вне зависимости от достоверности всего вышерассказанного, которое мне поведал один из тогдашних министров при дворе короля Мюрата, и независимо от того факта, что в настоящее время продолжают существовать письма сэра Хадсона Лоу к Судзарелли, Наполеон, которому я рассказал о некоторых обстоятельствах этой истории, заявил мне, что ему было известно о том, как нас, англичан, предавали наши шпионы в Неаполе. Наполеон добавил, что Киприани, будучи основным агентом, мог бы сообщить мне все подробности.
7 декабря. Сообщил г-ну Бакстеру, что Наполеон, наконец, согласился принимать некоторые лекарства, благодаря которым у него временно улучшилось состояние здоровья. Г-н Бакстер согласился со мной, что было бы правильнее поселить его в каком-нибудь другом зимнем жилище, чем оставлять в безотрадном и подверженном воздействию постоянной непогоды Лонгвуде. Г-н Бакстер сам предложил как наиболее подходящее место для его проживания «Розмари Холл» или дом полковника Смита.
9 декабря. Получил сигнал явиться в «Колониальный дом». Вскоре после моего прибытия сэр Хадсон Лоу с серьёзным видом заявил, что на сей раз он вызвал меня не по вопросу, связанному с медициной, что у него имеются большие основания для того, чтобы осудить моё поведение. После чего он стал меня расспрашивать, не являлся ли я посредником для осуществления контакта между французами Лонгвуда и жителями острова и не вёл ли я переписку с последними ради французов. Я был очень удивлён его расспросами и ответил ему, что мне совершенно непонятно их значение. Он вновь повторил свой вопрос, правда, добавив при этом, что не имеет в виду переписку, содействующую побегу генерала Бонапарта с острова, но подразумевает переписку иного рода. Я ответил, что если моё посещение магазинов и покупка отдельных вещей для графинь Бертран и Монтолон или для кого-нибудь ещё в Лонгвуде могут быть истолкованы как посредничество между французами Лонгвуда и жителями острова или как содействие их переписке, то в этом случае я, конечно, должен признать себя виновным.
Затем он спросил меня, разве я не писал кому-то в город, чтобы госпоже Бертран выслали некоторые вещи. Я ответил, что, конечно, я писал г-ну Дарлингу, чтобы он выслал бумазеи, ночные горшки и другие предметы для домашнего хозяйства. Губернатор заявил, что мой поступок является нарушением приказа, так как он запретил мне быть посредником в переписке между французами и жителями острова, за исключением проблем, связанным с медициной. «Какое у вас дело до всего этого? Если госпожа Бертран хочет иметь подобную вещь, то пусть она обратится к дежурному офицеру; и почему она не поступила именно так?»
Я ответил, что, во-первых, чистота необходима для предотвращения заболевания и, соответственно, всё, что имеет отношение к чистоте, является частью медицинской проблемы. Во-вторых, дежурный офицер отсутствовал в Лонгвуде, когда ко мне обратились с вышеупомянутой просьбой, но если бы даже он присутствовал, то деликатность вопроса помешала бы даме обратиться к нему с просьбой о некоторых необходимых предметах, с которой ей было бы уместно обратиться к её врачу. И, наконец, я не считаю преступлением желание купить у торговца домашнюю утварь и подобные вещи для госпожи Бертран или для себя лично. Его превосходительство, как обычно, впал в состояние безудержного гнева. Он заявил мне, что не позволит оскорблять его, занимающего должность губернатора, иначе он поступит со мной очень жестоко. Он спросил меня, как я посмел заказывать вещи, чтобы они высылались из королевского магазина, предварительно не проконсультировавшись с ним, и как я посмел заказывать эти вещи в долг в королевских магазинах. Я ответил, что я ничего не говорил о заказе этих вещей в долг в королевских магазинах. Я сослался при этом на моё письмо г-ну Дарлингу, которое губернатор получил в своё распоряжение и которое подтверждает мое заявление. Несмотря на это, губернатор продолжал свою брань и позволил себе несколько плоских ремарок относительно деликатности французских дам.
Тогда я попросил у губернатора его письменное распоряжение, чтобы исключить в будущем возможность совершения ошибки. Губернатор отказался дать мне такое распоряжение. Я затем спросил его: а если дамы попросят меня купить для них какие-нибудь вещи в магазинах, то что тогда я должен буду им ответить? После некоторого раздумья губернатор заявил: если они попросят меня, чтобы я сам что-то купил для них, то я могу сделать это, но если они попросят меня, чтобы я обратился к кому-нибудь, чтобы тот человек что-то купил для них, то я не выполню их просьбу!
Большую часть времени, пока мы с ним разговаривали, он пребывал в весьма раздражённом состоянии, и мне приходилось с большим трудом подавлять в себе желание не улыбнуться, выслушивая, каким чрезвычайно серьёзным тоном он говорил о вышеупомянутой важнейшей проблеме.
Никаких изменений в состоянии здоровья Наполеона не произошло. Беседовал с ним по поводу той клеветы, которая была опубликована в его адрес. «Ни одно из клеветнических заявлений и выпадов в мой адрес, — заявил он, — которыми ваши министры буквально наводнили всю Европу, не доживёт до наших потомков. Во время правления Людовика Четырнадцатого и даже при Генрихе Четвёртом пресса изобиловала клеветой, но ни одна из них в настоящее время не сохранилась. Потуги негодяев, нанятых вашими министрами[58], пляшущими над руинами вашей собственной страны, также не оставят никакого следа в будущем. Когда меня просили написать ответы им, то я отвечал: «Одна победа, один памятник — это и есть наиболее правдивый ответ». Кроме того, поговаривали, будто я оплачивал ответы на клеветнические заявления, что было бы позорно. Грядущее поколение будет судить нас, опираясь на факты: клевета израсходовала весь свой яд на моей персоне. Каждый новый день приносит мне победу над клеветой. Когда пройдут первые проявления озлобления, я не оставлю для своих врагов ничего, кроме глупости и злобы. Когда не останется и следа от всех тех клеветнических утверждений, то в будущие времена войдут осуществлённые мною великие сооружения и памятники, а также составленный мною свод законов, и будущие историки отомстят за то зло, которое причинили мне мои современники».
Я спросил его: верит ли он в глубине своей души, что Александр Первый был причастен к смерти Павла? «Нет сомнения в том, что попытка убийства, — ответил он, — была совершена с его согласия. Императрица, — добавил он, — потом никогда не могла вынести даже вида любого из тех убийц и никогда не принимала их; но в настоящее время один из них является адъютантом императора Александра.
После казни герцога Энгиенского, — рассказал Наполеон, — Александр заказал службу в церкви, чтобы почтить его смерть. Мне это не понравилось, поскольку его поведение в связи со смертью собственного отца он использовал всеми возможными средствами.
Лорд NN, — продолжал он, — также был причастен к этому. Он был самым близким другом Палена, главного организатора покушения и его исполнителя. Всё это было хорошо известно в Петербурге».
Наполеон упомянул о том, что Талейран, вне всяких сомнений, был первым, кто предложил военную экспедицию против Испании, частично потому, что ненавидел семью Бурбонов, и частично потому, что хотел ещё более обогатиться.
Оценивая политический курс, проводимый нашими министрами, Наполеон заявил: «Для Англии было бы лучше, если бы она оставила меня на французском троне, так как Россия, Австрия и Пруссия, из-за ревности ко мне, предоставила бы большие торговые преимущества Англии. Теперь же ничто не мешает им принимать меры для содействия своим собственным торговым интересам и, тем самым, ущемлять торговые интересы Англии. Кроме того, обладая большим влиянием на французскую нацию и пользуясь любовью французов, я бы мог заключить с вами выгодный торговый договор, который Бурбоны, ненавидимые в стране, не посмели бы вам предложить. И, по правде говоря, не было бы оснований бояться Франции под моей монаршей властью. Пока она не воссоздаст армию в составе пятиста тысяч человек, Франции не следует опасаться. Помимо этого, именно от союзных держав всегда зависит проблема заключения мира. Франция устала от войны и её пугает идея новых завоеваний.
Я добивался успеха в сражениях с союзными армиями потому, что я всегда атаковал их каждую в отдельности. Я расправлялся с одной державой до того, как армии других держав могли подойти к ней на помощь. Возможно, истекут сотни лет, прежде чем обстоятельства сложатся таким образом, чтобы так много власти сконцентрировалось в одном человеке, наподобие того, как это случилось со мной. Я повторяю, что нет никаких причин опасаться меня, ибо если бы я попытался вновь покорять другие страны, то те убеждения, в силу которых я вернулся с Эльбы, на сей раз оказались бы причиной моего окончательного падения».
Наполеон заметил, что Массена сам виноват в том, что проиграл кампанию в Португалии. Поражение Массены Наполеон объяснил плохим состоянием его здоровья, которое не позволяло ему ездить верхом и самому инспектировать войска и следить за ходом сражения.
«Генерал, который наблюдает за ходом сражения глазами других, — добавил Наполеон, — никогда не сможет командовать армией должным образом. Массена был тогда настолько болен, что был вынужден полагаться на доклады подчинённых и, соответственно, провалил несколько своих операций. Например, в сражении при Бусако он пытался штурмом в лоб захватить позиции противника, которые оказались неприступными; в то же время если бы он с самого начала пошёл в обход этих позиций, то тогда ему бы сопутствовал успех. Но этого не произошло, потому что он был не в состоянии лично провести рекогносцировку». Наполеон добавил, что «если бы Массена был тем, кем он был раньше, то он бы следовал вплотную за Веллингтоном и тогда смог бы атаковать его[59], сумев выйти к Лиссабону до того, как Веллингтон успел надёжно укрепить свои позиции».
14 декабря. Сэр Хадсон Лоу в Лонгвуде. Задал мне несколько вопросов о состоянии здоровья Наполеона. Губернатор заявил, что очень странно, что Наполеон не занимается верховой ездой: если он ожидает, что тем, что он не выходит из дома, он сумеет добиться ослабления его охраны, то он ошибается. Затем губернатор поинтересовался, вызвана ли его бессонница духовным или физическим заболеванием. Я объяснил, что его бессонница вызвана главным образом недостатком физических упражнений и что ни один человек, ведущий такой образ жизни, как Наполеон, не сможет долго сохранять своё здоровье в порядке. Губернатор, презрительно усмехнувшись, сказал, что как он считает, причиной того, что Наполеон не занимается верховой ездой, является обыкновенная лень. Я ответил, что когда Наполеон приехал на этот остров, то он вначале уделял много времени верховой езде.
Губернатор затем распорядился, чтобы ему чаще сообщали информацию о состоянии здоровья Наполеона. Он также хотел бы, чтобы я докладывал обо всех экстраординарных случаях капитану Блэкни. Я заявил, что это было бы очень просто устроить, направляя губернатору бюллетени, в которых Наполеон упоминался бы как «пациент», а копии бюллетеней одновременно передавались бы графу Бертрану. Этого губернатор не разрешил, заявив, что, поскольку он пока получает устные доклады, в письменных бюллетенях необходимости нет. Он также высказал ряд замечаний по поводу того, что не видит г-на Бакстера.
Беседуя со мной в этот же день, Наполеон выразил свое неодобрение нашим обычаем по воскресеньям закрывать свои магазины и лавки и запрещать людям работать в эти дни. В ответ на мои объяснения по этому поводу он заявил: «Для тех, кто свободен от материальных забот, это, может быть, и правильно и уместно прекращать работу на седьмой день, но вынуждать бедного человека, имеющего большую семью, оставаться без пищи только потому, что его лишают работы и, тем самым, — пропитания, означает только верх варварства. Если подобный закон будет проведён в жизнь, то вашему правительству следует внести в него положение о том, чтобы в этот день кормить тех, у кого нет денег, а тем, кто может заработать их, дать разрешение работать. Или пусть ваши разжиревшие священники в этот день часть своих обедов отдадут голодающему бедному люду, которому они не разрешают работать. Тогда ваши священники будут меньше подвержены апоплексическим ударам и приступам расстройства желудка. Помимо всего прочего, отсутствие работы в воскресенье не отвечает принципам морали. Праздность является матерью зла, и я держу пари, что в Англии по воскресеньям можно видеть больше пьянства, больше совершаемых преступлений, чем в любой другой день недели».
Говоря о возможности дружественного сближения негров с белыми, Наполеон заметил, что, как ему казалось, единственный способ эффективного примирения представителей двух рас, различных по цвету кожи, заключался бы в том, чтобы разрешить в колониях полигамию. Чтобы каждому чёрному или белому мужчине было разрешено иметь жену любого цвета. Благодаря этому, как думал Наполеон, в следующем поколении почти все будут иметь кожу примерно одного цвета и, соответственно, вся ревность и ненависть исчезнут.
Он добавил, что получить разрешение папы римского на полигамию не составит труда. Наполеон также заявил, что считает негров более низшей расой, чем людей с белой кожей.
Вечером вновь виделся с Наполеоном, который высказал ряд замечаний по поводу губернатора, которого он заметил проходившим под окнами своей спальной комнаты. «Когда я вижу этого губернатора, — сказал он, — мне всегда приходит в голову мысль, что я вижу человека, который накаливает докрасна кочергу для вашего Эдуарда Второго в замке Беркли. Природа меня всегда предупреждает, и она сразу же предупредила меня в самый первый день, когда я увидел его. Как на Каине, природа оставила на нём своё клеймо. Если бы я был в Лондоне и мне представили сэра Хадсона Лоу как простого обывателя и спросили бы меня: «Как вы думаете, кто этот человек?» — я бы ответил, что он — городской палач.
Вы не можете сказать, — добавил он, — что я исхожу из предвзятого мнения о вашей стране, поскольку я всегда придерживался иной точки зрения о Кокбэрне. Никогда, даже на минуту, как вы хорошо об этом знаете, он не вызывал у меня никаких подозрений, я всегда верил ему. От него я всегда с готовностью встречал врача и получал от него всё без каких-либо колебаний. Я оказывал ему полное доверие даже тогда, когда мы спорили. Но вместо добрых воспоминаний об адмирале передо мной всё время стоит образ этого губернатора. Он хочет окружить наш дом железной оградой, чтобы сотворить вторую железную клетку Баязета. С этой целью он втянул правительство в бесполезные траты по транспортировке сюда металлических полос, чтобы из них сделать железную клетку».
Порекомендовал ему встретиться с г-ном Бакстером, пояснив, что я получу большое чувство удовлетворение от помощи в виде совета и мнения другой медицинской персоны. В связи с этим Наполеон мне ответил: «К этому делу свою руку явно приложил губернатор. У д-ра Бакстера лицо-то доброе, но он слишком зависит от этого палача. От всего, к чему прикасаются руки губернатора, отдаёт гнусностью. Поэтому я думаю, что д-р Бакстер, должно быть, пострадал от общения с губернатором. Помимо всего прочего, именно губернатор рекомендовал мне этого врача, и для меня этого достаточно, чтобы отказаться от встречи с ним.
Если бы я, к несчастью, — продолжал Наполеон, — обладал подобной физиономией, то весь мир поверил бы клеветническим утверждениям обо мне. «Посмотрите, — они бы сказали. — Вы только посмотрите на лицо этого злодея. На лице этого чудовища можно увидеть печать убийств Райта, Пишегрю и тысячи других людей».
18 декабря. Письмом от майора Горрекера я был вызван в «Колониальный дом». Поскольку читатель, должно быть, уже питает отвращение ко всем подробностям поведения губернатора, который использует своё положение для того, чтобы оскорблять и унижать офицера, младше его по званию, так как последний отказывается быть его шпионом, то я не стану утомлять читателя дальнейшим описанием того поведения, которое губернатор позволил себе по отношению ко мне. Я лишь скажу, что мои ответы на его допросы и мои отказы раскрывать содержание моих бесед с Наполеоном привели к тому, что со мной стали обращаться ещё более безобразным образом, чем 18-го числа прошлого месяца. Выгоняя меня из кабинета, губернатор следовал за мной, посылая ругательства в мой адрес и угрожая мне чуть ли не рукоприкладством.
После этой сцены мне был дан приказ вновь являться на допросы в «Колониальный дом» дважды в неделю.
27 декабря. Получил письмо от майора Горрекера, сообщавшее мне, что вчера меня ждали в «Колониальном доме» и что мне приказано явиться туда сегодня. Приехав в «Колониальный дом», я встретил там г-на Бакстера, которому я сообщил после краткой беседы о состоянии болезни Наполеона и о моём окончательном и твёрдым решении никогда вновь не являться на доклад к губернатору в «Колониальный дом» и не разговаривать с ним, где бы то ни было, если вновь повторится то скандальное обращение со мной, которому я был подвергнут 18 декабря. Это было моим твёрдым решением, независимо от того, каковы бы ни были его последствия.
1 января, 1818. Состояние здоровья Наполеона сегодня почти же такое, как и вчера.
Наш разговор коснулся книги г-на Хобхауза, которая, как уже об этом говорилось, была выслана Наполеону, но сэр Хадсон Лоу задержал её у себя. Я сказал, что случайно эту книгу увидел в библиотеке сэра Хадсона один человек, который и сообщил об этом ему (Наполеону). «Это просто глупость со стороны губернатора, — заявил Наполеон, — после того, как он незаконно оставил книгу у себя, держать её на видном месте, чтобы любой человек мог увидеть её.
Во времена кардинала Ришелье один вельможа, ожидавший приёма у кардинала, чтобы попросить у него содействия по деловому вопросу, был, наконец, приглашён в личный кабинет кардинала. В то время, когда они беседовали, доложили о приезде к кардиналу одного весьма значительного лица, который вскоре появился в личном кабинете кардинала. После беседы с Ришелье этот новый посетитель откланялся, и кардинал, в знак уважения к нему, проводил его до кареты, забыв, что он оставил в своём кабинете пришедшего ранее вельможу. Вернувшись в свой кабинет, Ришелье позвонил в колокольчик и что-то прошептал на ухо вошедшему своему личному секретарю. Затем Ришелье очень вежливо переговорил с пришедшим вельможей, проявив при этом искреннюю заинтересованность к его делам, и, побеседовав с ним еще немного, проводил его до двери, пожал ему руку и очень дружески попрощался с ним, заявив, что тот может быть совершенно спокоен, поскольку он (Ришелье) принял решение помочь ему. Бедняга покидал кабинет Ришелье, в высшей степени удовлетворённый оказанным ему приёмом, рассыпаясь в благодарностях кардиналу. Но, как только он вышел из дверей кабинета, он тут же был арестован, ему запретили с кем-либо говорить и его в карете переправили в Бастилию, где его тайно содержали в течение десяти лет.
По истечении этого срока кардинал послал за ним и при встрече выразил глубокое сожаление по поводу того, что был вынужден принять в отношении него столь суровые меры, хотя у него не было причин для недовольства им. Наоборот, Ришелье верил в то, что вельможа был верным подданным его королевского величества. Но всё дело было в том, что, когда кардинал покинул кабинет, он оставил на столе документ, содержавший государственные секреты огромной важности. Ришелье опасался, что в его отсутствие вельможа мог прочитать этот документ. Безопасность королевства требовала, чтобы эти секреты не разглашались, и поэтому Ришелье был вынужден прибегнуть к столь суровым мерам, чтобы предотвратить возможность утечки содержавшейся в документе информации. А как только безопасность королевства была обеспечена, кардинал выпустил из Бастилии несчастного вельможу. Кардинал Ришелье очень сожалел по поводу случившегося, попросил прощения у вельможи в связи с причинёнными ему неудобствами и заявил, что будет счастлив загладить свою вину, выдав вельможе соответствующее вознаграждение».
Высказав своё мнение о французской революции, Наполеон привёл ряд аргументов в пользу законности присвоения ему титула императора. «Республика направила во все державы Европы своих послов и приняла у себя в ответ их послов. Это было санкционировано волей народа, победой революции, религией страны и всеми странами Европы. Людовик, который в силу обстоятельств должен был переезжать из одного государства в другое, вынужден был, в конце концов, искать пристанище в Англии, но там он был принят в качестве частного лица, и в соответствии со специально оговоренным условием он должен был принять только титул графа Лайльского. Ни одна из держав не признавала Людовика Семнадцатого или Людовика Восемнадцатого.
Каждое законное правительство упраздняет права и законность правительств, которые предшествовали ему.
Французская революция была всеобщим движением масс против привилегированных классов. Знать сохраняла за собой верховное правосудие и правосудие на местах, а также в различных формах другие феодальные права. Она обладала привилегией быть свободной от бремени, возложенного на общество, и только она имела полные права на все почётные должности.
Главная цель революции заключалась в том, чтобы ликвидировать все эти привилегии и злоупотребления, отменить феодальные суды, запретить остатки древнего рабства народа и предоставить возможность всем гражданам в равной степени нести тяжесть расходов государства. Это способствовало установлению равенства в правах. Любой гражданин мог добиться успеха в своей деятельности в соответствии со своими способностями. До революции Франция состояла из разрозненных провинций, разных по своим размерам и по количеству населения. У них было большое число дозволенных законом обычаев и своеобразных законов для администрации в гражданском и уголовном судопроизводстве. Франция представляла собой несколько государств, не объединённых друг с другом. Революция уничтожила все эти маленькие страны и образовала одну новую страну. Возникла единая Франция с однородным разделением территории, с едиными гражданскими и уголовными законами и с едиными правилами налогообложения. Более не осталось никакого следа от древних привилегий провинций, и древних монархов, и древних парламентов. Половина территории страны заменила своих земельных собственников.
Франция представляла собой страну в составе тридцати миллионов жителей, живущих в пределах естественных границ, управляемую единым законом, едиными правилами и единым порядком. Соответственно, французская нация основала императорский трон и возвела меня на этот трон. Никогда ещё ни один человек не восходил на этот трон, имея на то более законные права. Ранее трон Франции был дарован Гуго Капету небольшой группой епископов и знати. Императорский трон был дарован мне в результате пожелания народа, чей выбор был торжественно подтверждён трижды. Папа римский пересёк Альпы, чтобы возложить на меня императорскую корону и помазать меня. Короли других стран поспешили признать меня как императора. Англия признала республику и направляла своих послов первому консулу республики. До того как Англия нарушила Амьенский договор, её министры через посредничество Малуе предложили признать меня королём Франции, если бы я согласился уступить Мальту Англии; и в 1806 году лорд Лодердейл, прибыв в Париж, чтобы рассмотреть вопрос о заключении мира между королём Великобритании и императором Наполеоном, обменялся ратификационными грамотами и вёл переговоры с полномочными представителями императора. Если бы Фокс был жив, то мирный договор был бы подписан. Более того, мой императорский титул был признан лордом Каслри, когда он подписал ультиматум в Шомоне, подтверждая существование империи и меня в качестве императора».
2 января. В соответствии с приказом губернатора отправился в «Колониальный дом», где встретился с ним в помещении библиотеки. Он задал мне массу вопросов относительно того, каким образом я был назначен на должность врача Наполеона. Свой допрос он завершил утверждением, смысл которого заключался в том, что я не являюсь его врачом, а только допускаюсь к нему как врач. Я заявил, что ведомость, по которой я получаю жалованье от Совета Адмиралтейства, была составлена по приказу сэра Джорджа Кокбэрна, и она гласит, что денежное содержание мне положено «как врачу Наполеона и его свиты». Я также позволил себе смелость спросить губернатора: тогда с какой целью я был направлен на остров Святой Елены?
Он спросил меня, «считаю ли я себя независимым от него, как губернатора, и от правительства, которому подчиняется моя деятельность?» Я ответил, что ни один британский офицер не может быть независимым от правительства своей страны. Затем он спросил меня, считаю ли я себя независимым от него, и разве не в его власти, как губернатора и как официального лица, несущего ответственность за Наполеона Бонапарта, выслать меня с острова по его желанию, если он посчитает, что моё поведение не является правильным. Я сказал ему, что на этот вопрос он может ответить сам, так как он лучше знает, до какой степени простирается его власть. Мой ответ губернатору явно не понравился, и, после того как он некоторое время прохаживался по комнате, отпуская нелицеприятные выражения по поводу моего поведения, он остановился передо мной, скрестил на груди руки и с жёстким выражением лица, которое я никогда не забуду, заявил: «Это, сэр, мое должностное место, а это — дверь, которая ведёт в него. Когда я посылаю за вами в силу ваших обязанностей, то вы должны входить ко мне через эту дверь; но даже и не подумайте о том, чтобы сделать шаг в любую другую часть моего дома или войти в дом через любую другую дверь».
Я спокойно ответил, что не ради собственного удовольствия или желания я когда-либо посещал другие помещения его дома. Вытерпев это жалкое злоупотребление власти губернатора, я покинул его дом.
Позднее я встретился с Наполеоном, состояние здоровья которого по сравнению со вчерашним днём не улучшилось. Поговорил с ним о взятии Рима французскими войсками. «После договора, который я заключил в Толентино с этим слабоумным и склонным к обману правящим двором старых женщин в Риме, — стал рассказывать Наполеон, — они попытались всеми средствами помочь австрийцам и даже поставили во главе своих войск австрийского генерала. Повсюду в Риме местную чернь побуждали, главным образом прибегая к религиозному суеверию и фанатизму, убивать французов. Генерал Дюпо, который жил в Риме как частное лицо, был убит у дверей дома моего брата Жозефа, который тогда был послом в Риме. Однако, учитывая все обстоятельства и сделав вывод о том, что разрыв с Римом неизбежно приведёт к разрыву и с Неаполем, я стал сторонником того мнения, что нам следует только скорректировать обстановку и не подвергать Рим разгрому; что мы должны прямо указать на виновников сложившейся обстановки в городе и потребовать высылки из Рима Порверы, австрийского генерала, и направления римского посла в Париж, чтобы он принёс извинения. Директория, однако, решила, что мы должны двинуть войска против папы римского, заявив, что пришло время для того, чтобы свергнуть с пьедестала этого идола. Бертье был послан с армией, чтобы революционизировать Рим и установить там республику, что и было сделано.
Вначале население Рима было преисполнено радостью при мысли о том, что восстановлена Римская республика, и благодарственный молебен был пышно отпразднован. На молебне присутствовали кардиналы, хотя акт о восстановлении республики означал упразднение светской власти папы римского. Радость римлян, однако, была недолгой, так как французские солдаты, которым дали некоторую поблажку их генералы и среди которых действовали ваши агенты и агенты Австрии, занялись грабежом и стали обворовывать Ватикан и дворцы знати, забирая картины и произведения искусства различного рода, и кончили тем, что затеяли бунт против правящих в городе глупцов, которые слишком поздно поняли свою ошибку, и их попытки положить конец вакханалии в городе закончились неудачей.
Когда венецианцы, — продолжал Наполеон, — обманутые лживыми сообщениями о разгроме армии Жубера и одураченные предательской и макиавеллиевской политикой императорского двора Вены, вооружили своих крестьян, а также словенцев, священники стали проповедовать уничтожение французов и призывать к новой Сицилийской вечерне. Все французы в Вероне были убиты и их тела были сброшены в реку Адидже. Четыреста человек, больных и раненых, лежавших в больницах, были варварски убиты. В других городах венецианской территории произошли аналогичные жестокости. Как только венецианцы узнали, что армия Жубера находится в целости и сохранности, армия Ожеро двинулась на Венецию, а австрийцы, разбитые повсюду, умоляют меня заключить мир, то ужас, охвативший их, не имел предела. Депутация Венеции ожидала меня с самыми смиренными предложениями, давая торжественное обещание согласиться со всем, что я потребую, и предлагая мне миллионы, если я удовлетворю их просьбы.
Выяснив, что все их усилия бесполезны, они направили своему послу в Париже указание подкупить Директорию. Это им удалось сделать, так как я получил от Директории указания проявить благожелательность к их просьбам. Однако депеши их посла в Париже были перехвачены и переданы мне. Вся интрига была раскрыта, включая суммы взяток, которые были вручены членам Директории. Я приказал послу Франции покинуть территорию Венеции в течение двадцати четырёх часов и объявил войну Венеции. Барагез д’Илльер со своей дивизией вошёл в Венецию, расправился с местной олигархией, и вскоре Венеция, как и многие другие мелкие итальянские государства, стала республикой».
6 января. Был допрошен сэром Хадсоном Лоу относительно того, давал ли Наполеон Бонапарт мне указание передать ему (губернатору) сообщение, что я и исполнил, а именно: что он, Наполеон, сказал лорду Амхерсту, что «ни одна из ваших двух палат парламента не сможет обязать меня встречаться с моим палачом» и т. д. и повторил ли я эти слова ему (губернатору) без указания на то со стороны Бонапарта.
Я ответил, что Наполеон тогда мне сказал: «Если вам будут задавать вопросы о беседах со мной, то я разрешаю вам упомянуть и об этом». Моё разъяснение не удовлетворило сэра Хадсона Лоу, который хотел бы, чтобы мой ответ был предельно точным, независимо от того, какую цель преследовал Наполеон. Но поскольку я продолжал настаивать именно на таком варианте ответа, то он перешёл все границы приличий, осыпая меня оскорблениями, и, наконец, приказал майору Горрекеру записать следующее: «Г-н О’Мира отказывается ответить на вопрос: «Хотел ли Бонапарт или не хотел, чтобы вы сообщили губернатору вышеупомянутые выражения?» Я заявил, что некоторые люди посчитали бы слова Наполеона как пожелание, но другие — только как разрешение, и поэтому наилучшим выходом из создавшегося положения было бы просто записать слова Наполеона. Однако губернатор не разрешил сделать этого.
7 января. Сэр Хадсон Лоу вызвал меня к себе в шесть часов вечера. Он задал мне несколько вопросов о состоянии здоровья Наполеона, на которые я ему ответил, что Наполеон чувствует себя не столь хорошо, как в прошлый раз, когда я отвечал на аналогичные вопросы. Губернатор заявил, что, если генерал Бонапарт думает, что, продолжая играть роль затворника в своём доме, он сможет добиться дальнейших послаблений в введённых для него ограничениях, то он ошибается. Он (сэр Хадсон) без приказа правительства не будет вносить никаких изменений в правила содержания Наполеона на острове Святой Елены, если даже здоровье Наполеона ухудшится. Я спросил губернатора, не хочет ли он, чтобы я передал его слова Наполеону? Губернатор заявил, что он не желает этого, но что об этом должно быть известно.
9 января. Очередная серия допросов в «Колониальном доме», на этот раз частично о лорде Амхерсте. Допрашивая меня, губернатор заявил, что «генерал Бонапарт не должен был позволять себе прибегать к оскорбительным выражениям в присутствии кого бы то ни было, кроме лорда Амхерста и меня, д-ра О’Мира; что генерал Бонапарт выражался подобным образом потому, что он знал, что лорд Амхерст получил разрешение губернатора выслушивать все жалобы Наполеона, которые он мог передать его светлости; что собеседник Наполеона также плохо относится к губернатору, как и человек, повторяющий оскорбительные выражения Наполеона; что граф Бертран сообщил ему (сэру Хадсону) в октябре прошлого года, что генерал Бонапарт находится под влиянием ряда лиц из его окружения, включая д-ра О’Мира». Мне стоило больших усилий, чтобы сдержать улыбку от предположения, что я могу оказывать влияние на такую личность, как Наполеон. Я довольствовался тем, что ответил, что, насколько я знаю Наполеона, он не тот человек, который позволил бы себе руководствоваться мнением других. Сэр Хадсон, тем не менее, настаивал на том, что граф Бертран признавался в этом и говорил, что именно я, д-р О’Мира, должен нести ответственность за то многое, что может произойти в Лонгвуде, и т. д., и т. д.
13 января. Продолжение допросов в «Колониальном доме». Сэр Хадсон Лоу вытащил из кармана экземпляр газеты «Морнинг Кроникл» за 17 сентября 1817 года, содержавшей подробности беседы, которая, как утверждалось в газете, состоялась между Наполеоном и некоторыми английскими джентльменами.
Губернатор заявил, что он хотел бы знать от меня, д-ра О’Мира, состоялся ли такой разговор между генералом Бонапартом и мною, а также сообщал ли я об этом разговоре ещё кому-нибудь. Судя по началу статьи, а именно «после обычных приветствий», он пришёл к выводу о том, что разговор состоялся между генералом Бонапартом и кем-то из тех лиц, которые имеют привычку часто видеться с ним; что адмирал Малькольм и я, д-р О’Мира, были единственными лицами, которые беседовали с ним наедине; поэтому сообщение в газету, должно быть, было направлено одним из нас. Я ответил, что я не писал статью в газету и не передавал газете содержание беседы Наполеона. Я напомнил губернатору, что и другие лица, помимо адмирала и меня, общались с Наполеоном. Его превосходительство стремился всеми силами, практически не скрывая этого, добиться от меня, чтобы я помог ему взвалить всю ответственность появления этой статьи в газете на адмирала; однако все его попытки в этом отношении оказались тщетными. На самом же деле при первом взгляде на статью я понял, что её авторство принадлежит г-ну Эллису; она, однако, содержала много неправильных толкований.
15 января. В «Колониальном доме» виделся с губернатором. Сообщил ему, что состояние здоровья Наполеона значительно ухудшилось и что сегодня утром я посчитал необходимым дать ему слабительное. Сообщил об этом и г-ну Бакстеру.
16 января. Виделся с Наполеоном, который чувствовал себя несколько лучше в результате слабительного, которое он принял вчера. Беседовал с ним о ранних периодах его жизни, в частности, о том, как он принял командование войсками Конвента против взбунтовавшихся центральных секций Парижа. «Когда Мену, — стал рассказывать он, — получил отпор в своей попытке разогнать толпы мятежников из центральных секций в результате глупейшего поведения некоторых представителей Конвента, которые были вместе с ним, а также в силу собственной неспособности действовать решительным образом, то Конвент охватила паника, так как назначенный комитет центральных секций Парижа объявил себя постоянным правящим органом, отказывающимся подчиняться приказам Конвента, и даже направил своих депутатов в другие секции Парижа, чтобы те пришли ему на помощь. Численность мятежников превышала сорок тысяч человек.
В тот момент я находился в ложе театра Фейдо. Когда мне сообщили о том, что происходит в городе, я немедленно отправился в здание Конвента. Весь Конвент пребывал в величайшем смятении. Мену был обвинён в предательстве — угроза Конвенту, казалось, была неминуемой. Чуть ли не каждый член ассамблеи предлагал для спасения своего генерала, к которому он испытывал доверие. Члены комитета общественной безопасности и несколько других членов Конвента, которые знали меня в Тулоне, предложили меня как личность с энергичным характером, на которую можно рассчитывать. Они заявили, что именно такой человек способен спасти их в нынешнем политическом кризисе. Ко мне была направлена депутация с просьбой взять на себя командование войсками Конвента. Однако я некоторое время колебался, прежде чем принять предложение Конвента. Это была ответственность, которая мне не нравилась; но когда я подумал о том, что Конвент будет ликвидирован, иностранцы будут торжествовать, а страна будет обречена на вечное рабство, то все эти мои раздумья и сама судьба решили, что я должен принять предложение Конвента.
Я отправился в комитет общественной безопасности Конвента, объяснил его членам, что направление в войска трех депутатов Конвента причинит только лишние неудобства, так как эти депутаты будут всего лишь мешать действиям генерала. Члены комитета осознали, что нельзя терять ни минуты времени, предложили Конвенту Барраса в качестве главнокомандующего, а командование войсками, которые должны были защитить Конвент, доверили мне. Принятые мною меры, о которых я рассказывал вам ранее, спасли Конвент с наименьшими затратами человеческих жертв с обеих сторон»[60].
20 января. В соответствии с полученным приказом отправился в «Колониальный дом». Когда я разговаривал в библиотеке с г-ном Бакстером, вошёл губернатор, выглядевший очень разгневанным. В грубой и резкой форме он спросил меня, что я могу сообщить о состоянии здоровья генерала Бонапарта. Я ответил, что никаких изменений к лучшему у него не наблюдалось. «Он выходил из дома?» — «Нет, не выходил». — «А он был в бильярдной комнате?» — «Значительную часть дня он проводит именно там». — «Чем он там занимается?» — «Не могу сказать, сэр», — ответил я. «Нет, вы можете сказать, сэр, — возразил мне губернатор, окидывая меня обычным гневным взглядом, — вам хорошо известно, что он там делает. Вы просто не выполняете своего долга перед правительством».
Затем его превосходительство стал расхаживать по комнате, изредка останавливаясь передо мной, с неописуемой яростью в глазах рассматривая меня, скрестив при этом руки на груди и взрываясь гневными восклицаниями Я довольствовался тем, что вытаскивал из кармана свои часы, чтобы каждый раз определить продолжительность времени, когда, стоя передо мной, он буквально пожирал меня глазами. Не один раз в моей голове проносилась мысль, что он замышляет осуществить акт физического насилия над моей персоной. Хладнокровие и полное молчание, видимо, были совсем не тем, чего бы ему хотелось, и тогда он начал в своей обычной манере новую серию допросов относительно имени человека, который примерно двенадцать месяцев назад сообщил мне о том, что лорд Ливерпуль вмешался и воспрепятствовал моему отзыву с острова Святой Елены.
Я отвечал, что в то время, когда я впервые сказал ему об этом в июле прошлого года, я предложил одному третьему лицу показать ту часть письма, в которой речь шла о том, что в адрес лорда Ливерпуля было направлено письменное заявление с просьбой, чтобы его светлость помешала моему отзыву с острова. Губернатор возобновил яростным тоном своё требование о том, что я должен немедленно сообщить ему имя человека, который передал мне письмо с описанием факта обращения к лорду Ливерпулю. Губернатор также заявил, что мое предложение показать письмо третьему лицу явилось личным оскорблением его (губернатора), при этом губернатор в угрожающей манере буквально надвинулся на меня, очевидно, с намерением запугать и заставить быть более сговорчивым. Я же не отступал от своего и отвечал, как и прежде, что вызывало очередное яростное требование сообщить ему имя третьего лица. Тогда я заявил губернатору, что, поскольку мои ответы вызывают только брань в мой адрес, я должен вообще отказаться отвечать. «Запишите, майор Горрекер, что господин О’Мира отказывается отвечать», — такова была реакция губернатора на моё заявление. После продолжительного и бранного разглагольствования о моём непристойном поведении мне было разрешено удалиться.
28 января. Встретился с Наполеоном, который чувствовал себя лучше, чем накануне. Мы немного побеседовали о Шатобриане. «Шатобриан — старый эмигрант, который был назначен секретарём кардинала Феша, — сообщил Наполеон, — когда последний был послом при дворе Рима, где он умудрился вызвать недовольство папы римского и кардиналов, несмотря на ту галиматью, которую он опубликовал о христианстве. В то время как он находился в Риме, он пытался уговорить престарелого короля Сардинии, который отрёкся ранее от престола и затем ударился в религию, возобновить свои притязания на трон Сардинии. Король, заподозрив в нём доносчика, выставил его за дверь и обратился ко мне с жалобой на его поведение, которое стало причиной его бесчестья. Пока я обладал властью, он был одним из моих самых жалких льстецов. Он был слабохарактерным хвастуном, у которого была душа пресмыкающегося и который страстно любил писать книги».
Я спросил мнение Наполеона о поведении Бернадотта. «Бернадотт отплатил мне неблагодарностью, — заявил Наполеон, — так как именно я возвеличил его; но я не могу сказать, что он предал меня: он в некотором роде переродился в шведа, и он никогда не обещал мне не совершать того, что он сделал. Я могу обвинить его в неблагодарности по отношению ко мне, но только не в предательстве. Ни Мюрат, ни он никогда бы не объявили войны против меня, если бы они думали, что это приведёт к потери моего трона. Они хотели лишь ограничить мою власть, но не уничтожать меня полностью. Храбрость Мюрата, не знавшая границ, была настолько восхитительна, что даже казаки при виде его не могли удержаться от восторженных криков. Они не могли сдержать своих чувств, когда перед ними представала его благородная фигура, шествующая подобно рыцарю старых времён и способная совершать чудеса мужества.
Лабедойер, — продолжал Наполеон, — был молодым человеком, воодушевлённым самыми благородными порывами и неограниченным презрением к королевской семье, который вместе с другими несчастными, чтобы избежать голодной смерти, прозябал в течете двадцати пяти лет в самых плачевных и позорных условиях. Его преданность мне была полна энтузиазма, и он объявил о себе в минуту величайшей опасности».
Наполеон описал Друо как человека, обладавшего одним из самых благородных и непритязательных характеров во Франции, хотя и имевшего способности, которые можно встретить очень редко. Друо был человеком, который в личной жизни удовлетворялся самым малым, позволяя себе сорок су в день, он жил так, словно имел доходы в целый золотой соверен. Он был отзывчивым и религиозным человеком, чьи нравственные начала, честность и простота будут почитаемы в век сурового республиканизма.
30 января. Отправился в «Колониальный дом». После нескольких вопросов относительно состояния здоровья Наполеона сэр Хадсон Лоу заявил, что косвенным путём, а именно как, губернатор не посчитал нужным объяснять мне, он выяснил, что здоровье генерала Бонапарта находится в гораздо худшем состоянии, чем я докладываю ему. Поэтому он желает, чтобы я, всякий раз, когда приезжал в город, сообщал г-ну Бакстеру или сэру Томасу Риду о состоянии здоровья Наполеона, что устраняет необходимость моего появления в «Колониальном доме». И что теперь я могу докладывать майору Горрекеру о состоянии здоровья Наполеона. В соответствии с полученным мною указанием сообщил майору, что после 20 января Наполеон не страдал сильной головной болью, поскольку я удалил у него зуб, что щёки Наполеона стали менее опухшими, что неудовлетворительная работа пищеварительного тракта приводит к сильным запорам, что у него наблюдаются симптомы расстройства пищеварения, такие как тошнота и скопление газов в желудке и в кишечнике, что боль в боку не увеличилась, размер ног не уменьшился, что в целом, хотя локальные боли в щеке не увеличились, коренного улучшения в его общем состоянии здоровья не наблюдается. Я также обратился с просьбой о предоставлении Наполеону небольшого дистиллятора для приготовления напитка, настоянного на апельсиновых цветках. Этот напиток действительно необходим Наполеону, и он был бы очень благодарен за предоставление ему дистиллятора. (Эта просьба, хотя неоднократно повторялась, так и не была удовлетворена.)
3 февраля. Прибыл транспортный корабль «Кембридж», доставивший печальную весть о кончине принцессы Шарлотты.
Сообщил об этой новости Наполеону, который выразил свою скорбь по поводу этого печального события. Он заявил, что вне зависимости от чувств, которые, естественно, возникли в связи с участью принцессы, чья жизнь оборвалась в самом расцвете её сил и красоты, когда её ждало самое прекрасное будущее, вместе с ней ушли и те надежды, которые он питал в связи с тем, что она могла бы добиться более либеральной политики в отношении него самого. Наполеон яростно поносил акушеров и выразил своё удивление тем, что простой народ не забросал их камнями до смерти. Он заявил, что всё это дело с кончиной принцессы выглядит странно. По-видимому, заметил Наполеон, были приняты все меры, чтобы лишить её всего необходимого для поддержки и утешения в её первых родах. Наполеон твёрдо придерживался того мнения, что несколько пожилых замужних женщин, которым часто приходилось рожать детей, должны были находиться у постели роженицы, чтобы успокаивать её. Если бы они присутствовали рядом с роженицей, то они бы поняли, что дела идут не так, как следует, и настояли на том, чтобы была оказана дальнейшая помощь. Для старой королевы совершенно непростительно, что она не присутствовала при родах принцессы.
«Леопольд примечателен тем, — заявил Наполеон, — что он ещё гарсон, совсем незрелый мужчина. Он не знал, что ему надо делать. Если бы не я, — добавил он, — Мария Луиза умерла бы точно таким же образом. Во время её родов я находился в соседней комнате, из которой я то и дело приходил к ней. Дюбуа, врач-акушер, подбежал ко мне, когда я выкроил для себя минуту для отдыха и полулежал на диване. На Дюбуа лица не было от страха, когда он сказал мне, что «императрица находится в состоянии крайней опасности, ребёнок оказался в положении неправильного предлежания». Я спросил его, встречался ли он когда-либо в своей практике с подобным случаем. Дюбуа ответил, что встречался, но очень редко, возможно, из тысячи случаев только раз, но сейчас он пребывает в состоянии сильнейшего отчаяния, ибо такой чрезвычайный случай происходит с императрицей.
«Забудьте о том, что она — императрица, обращайтесь с ней так, как вы обращались бы с женой мелкого лавочника с улицы Сен-Дени. Это единственное, о чём я вас прошу». Дюбуа тогда спросил: «Если кого-то из них двоих будет необходимо принести в жертву, кого я должен спасать — мать или ребёнка?» «Конечно, мать, — ответил я, — это её право». Затем я с Дюбуа подошёл к кровати роженицы, стал ободрять и успокаивать императрицу, насколько это было в моих силах, и держал её, пока акушер работал с хирургическими щипцами. Когда ребёнок появился на свет, он выглядел мёртвым, но с помощью обтирания и применения других средств он был возвращён к жизни.
Рождение ребёнка привело всю страну в состояние безудержной радости. При первом же выстреле пушки, извещавшем о происшедшем событии, всё население Парижа, находившееся всё это время в состоянии напряжённого ожидания, вышло на улицы, заполнило парки и принялось считать число выстрелов из пушки. Двадцать один выстрел означал бы рождение принцессы, а сто один выстрел — рождение принца. Как только прозвучал двадцать второй выстрел, парижане принялись сотрясать воздух пронзительными криками радости, выражая всеобщий восторг. Почти все державы Европы направили в Париж своих чрезвычайных послов, чтобы поздравить меня со счастливым событием. Император Австрии в качестве крёстного отца был представлен своим братом, герцогом Вюртсбургским, а император Александр направил в Париж своего министра внутренних дел, чтобы выразить удовлетворение по поводу знаменательного события[61]. Если бы около бедняжки принцессы Шарлотты, — добавил Наполеон, — был кто-нибудь, кто вёл себя так же энергично, как я около императрицы Марии Луизы, то она была бы спасена.
Теперь же из-за небрежного отношения к ней со стороны её родственников и из-за глупости или ещё чего-нибудь худшего тех подлых акушеров невозможно сказать, какие беды ожидают британскую империю.
Как только стало известно, — продолжал Наполеон, — что в интересах Франции я был принуждён разорвать узы моего брака, так сразу же ведущие монархи Европы стали проявлять заинтересованность в заключении брачного союза со мной. Как только император Австрии услыхал о том, что активно обсуждается вопрос о моём новом браке, он пригласил к себе Нарбонна и выразил ему свое удивление по поводу того, что его семья оказалась вне этого обсуждения. В это время рассматривался вопрос о возможности моего брачного союза с русской или саксонской принцессой. Кабинет министров Вены направил соответствующие инструкции по вопросу о моём брачном союзе в Париж принцу Шварценбергу, который тогда был послом Австрии в Париже. Были получены также депеши от нашего посла в России, в которых сообщалось о готовности императора Александра предложить свою сестру, великую княгиню Анну, в качестве моей будущей супруги. В связи с этим, однако, возникли некоторые трудности ввиду необходимости строительства в Тюильри часовни для отправления православных религиозных служб. По этому вопросу было созвано заседание Тайного совета, в ходе которого большинство проголосовало за австрийскую принцессу. Соответственно, я поручил принцу Евгению прощупать почву с принцем Шварценбергом на предмет брачного союза с австрийской принцессой. В результате был подписан брачный контракт по образцу брачного контракта между Людовиком Шестнадцатым и Марией Антуанеттой. Император Александр был недоволен тем, что к возможности брачного союза между его сестрою и мною отнеслись с пренебрежением. Он считал, что его обманывали тем, что одновременно велись переговоры с двумя разными сторонами, но в этом он ошибался.
Утверждалось, — добавил Наполеон, — что брачный союз с Марией Луизой был предусмотрен в качестве одной из секретных статей договора, заключенного в Вене, который был подписан несколько месяцев назад; но это утверждение полностью является ложью. Не было никакой и мысли о союзном договоре с Австрией до получения депеши от Нарбонна, сообщавшей о намёках, сделанных ему со стороны императора Франца и Меттерниха. На самом деле, брак с императрицей Марией Луизой был предложен Тайному Совету. Он обсуждался на заседании Тайного совета, был решён им и подписан в течение двадцати четырёх часов. Этот факт может быть подтверждён многими ныне здравствующими членами Тайного совета. Некоторые из членов этого совета придерживались того мнения, что я обязан жениться на французской женщине. Причём их аргументация в пользу этого мнения была настолько сильной, что я некоторое время колебался. Однако императорский двор Австрии прозрачно намекнул мне, что отказ от брачного союза с одной из принцесс правящих императорских и королевских дворов Европы означал бы молчаливое признание политики Наполеона, направленной на их свержение, как только для этого представится благоприятная возможность».
10 февраля. Улучшения в состоянии здоровья Наполеона не наблюдается. Беседовал с ним о браке принцессы Елизаветы с принцем Гессен-Гомбургским. Наполеон высказал мнение, что английская королевская семья «деградирует, связываясь кровными узами с принцами мелких, незначительных немецких герцогств. Таким принцам я бы не присвоил внеочередного звания лейтенанта. Когда в 1805 году я двинулся на Ульм, то проходил со своей армией через Штутгарт, где встретился с вашей королевской принцессой, королевой Вюртемберга[62], с которой я провёл несколько бесед и остался ею очень доволен. Вскоре у неё вообще исчезли какие-либо предубеждения, которые она ранее питала против меня. Я имел удовольствие заступиться за неё, когда её муж, настоящее животное, хотя и не без способностей, грубо обращался с ней. Она была мне весьма благодарна за мой поступок. Уже потом она активно способствовала браку между моим братом Жеромом и принцессой Катериной, дочерью короля, её бывшего мужа».
16 февраля. Приехав в Джеймстаун, я навестил г-на Барбера с корабля «Кембридж». Г-н Барбер открыл в городе собственную лавку. В разговоре со мной он спросил меня, понравились ли Бонапарту портреты. Не поняв его вопроса, я попросил его объяснить мне, что он имеет в виду. Г-н Барбер ответил мне, что, конечно, я должен знать, на что он намекает. В ходе последовавшего разговора он сообщил мне, что привёз с собой для продажи две гравюры молодого Наполеона. Он считал, что гравюры понравятся французам и будут способствовать тому, что они станут постоянной клиентурой его лавки. Приехав на остров, он упомянул в разговоре с жителями острова об этих гравюрах. Но вскоре обе гравюры были отобраны у него губернатором и сэром Томасом Ридом. Сэр Хадсон Лоу заявил, что ему доставит удовольствие отправить эти вещи Бонапарту. Г-н Барбер был очень удивлён и расстроен, когда он узнал от меня, что гравюры так и не попали в Лонгвуд[63].
17 февраля. Отправился в «Колониальный дом». Губернатор задал мне несколько вопросов о состоянии здоровья Наполеона, а также о самочувствии генерала Гурго. Затем губернатор спросил меня, выполнил ли я его пожелание, высказанное им 21-го числа, о том, чтобы я показал капитану Блэкни письмо, в котором упоминается имя лорда Ливерпуля. Я ответил, что, поскольку он оставил за мной право выбора показывать это письмо или нет, я предпочёл последнее, считая, что всё это дело произошло слишком давно. Кроме того, в то время, когда я предлагал показать ему это письмо, он отклонил моё предложение. Я также напомнил губернатору, что тогда он рассматривал моё предложение показать это письмо как личное оскорбление ему (губернатору).
Для меня было очень важно вести себя осторожно, и поскольку я не знал, почему именно теперь от меня требуется, чтобы я показал это письмо, то я решил этого не делать. Его превосходительство остался недоволен моим ответом и принялся бранить меня в своей обычной манере, заявив, что «я постоянно оскорбляю его как губернатора». Я ответил, что в мои намерения никогда не входили попытки оскорблять его словами и поступками, и что я очень сожалею, если мои слова воспринимаются как оскорбление, что совершенно чуждо моим намерениям.
После моих слов сэр Хадсон Лоу встал с кресла и, устремив на меня грозный взгляд, спросил: «Сэр, поклянитесь своей честью и ответьте мне, говорили ли вы с Наполеоном Бонапартом на протяжении последнего месяца о чем-либо, помимо проблем, связанных с медициной?» Я ответил, «что, возможно, мы о чём-то и говорили, но эти беседы не представляли никакого интереса!» — «Я не позволяю вам, сэр, судить о том, представляли ваши беседы интерес или нет. Вам не разрешается беседовать о чем-либо с Наполеоном Бонапартом, кроме бесед на медицинские темы, да и то только тогда, когда вас вызывают к нему в связи с его болезнью. Разговаривали ли вы с кем-либо из его окружения?» — «Конечно, сэр, разговаривал».
Не ожидая моих объяснений по поводу того, разговаривал ли я с лицами из окружения Наполеона на медицинские или другие темы, губернатор, буквально взорвавшись, заявил мне: «Вам не разрешается, сэр, ни о чем говорить с кем-либо из лиц окружения Наполеона, которым предписаны те же ограничения, что и самому ему, за исключением проблем, связанных с медициной, и только тогда, когда вас вызовут к больному. Закончив беседу с больным, вам следует немедленно покинуть его. Вам возбраняется находиться среди них, если только вас не вызовут в связи с возникшей медицинской проблемой. Беседовали ли вы с кем-нибудь из них о чём-либо, помимо медицинских тем?»
Я ответил, сославшись на указания, данные мне им самим, что я не беседовал ни с кем из них о чём-либо, помимо медицинских проблем. «Вы, сэр, как всегда, не отвечаете мне прямо. Вы имеете привычку отправляться в город, когда приходят корабли. Я не одобряю эту вашу привычку. Вы отправляетесь в город, чтобы собирать новости для генерала Бонапарта». Я ответил губернатору, «что я являюсь английским офицером и, как таковой, не откажусь от своих прав; более того, я, как и другие английские офицеры, желаю приобретать предметы первой необходимости, как только их выгружают с прибывающих на остров кораблей, до того, как их начинают продавать по повышенным монопольным ценам. Поэтому, если губернатор намерен запретить мне появляться в городе, то я прошу вручить мне соответствующее письменное распоряжение».
Сделать это сэр Хадсон Лоу отказался, заявив с презрительной усмешкой: «Эта просьба достойна того места, откуда вы приехали сегодня сюда, и тех людей, с которыми вы там общаетесь. Я не думаю, что человека, связанного определёнными обязательствами перед Наполеоном Бонапартом, следует принимать в обществе, и я не одобряю ваше появление в городе, когда прибывают корабли. Я не доверяю вам, сэр».
Я ответил губернатору, «что никакими обязательствами я не связан перед Наполеоном, как и каждый другой человек, которого безоговорочно принимают в любом обществе джентльменов». Губернатор ответил мне, «что с моей стороны было наглостью и проявлением высокомерия посметь судить о той линии поведения правительства его величества, которое оно посчитало нужным проводить в отношении Наполеона Бонапарта». Я ответил, что «я и не пытался судить об этом, что я просто упомянул о том, что является правилом поведения в обществе». — «Вы — человек, недостойный доверия, сэр, я не доверяю вам». — «Ничем не могу помочь вам, сэр. Однако для меня утешением служит тот факт, что при данных обстоятельствах мой разум сознаёт правоту».
Моё заявление губернатор расценил как новое оскорбление, после чего он осыпал меня ругательствами. Немного восстановив своё дыхание после потока брани в мой адрес, его превосходительство заявил следующее: «Недавно, когда прибыл корабль, вы воспользовались этим и провели время в городе, вместо того чтобы явиться сюда для доклада». — «Сэр, я поступил так, полностью сообразуясь с вашими же указаниями, которые вы мне дали 30 января. Вы тогда сказали мне — в присутствии майора Горрекера, — что когда я встречу в городе г-на Бакстера или сэра Томаса Рида и доложу одному из них о состоянии здоровья Наполеона, то этот мой доклад может отменить необходимость моего посещения «Колониального дома» в этот день. Поэтому встретившись с г-ном Бакстером в этот день и сообщив ему всё, что должен, о состоянии здоровья Наполеона, я не посчитал нужным заходить в «Колониальный дом».
Губернатор попытался выпутаться из неловкого положения, в которое он попал. Тогда я обратился к майору Горрекеру, спросив его: разве я не повторил собственные слова его превосходительства? Губернатор заявил далеко не в самой сдержанной манере, что моё обращение к майору Горрекеру является оскорбительным для него (губернатора). После чего с его стороны последовал новый взрыв брани в мой адрес, которая продолжалась довольно продолжительное время.
18 февраля. Наполеон выглядел более оживлённым, чем в течение последних нескольких дней.
Вновь беседовал с ним по поводу кончины принцессы Шарлотты. Наполеон высказал мнение, что если бы она была женой бедного механика, то она была бы спасена, и что любая из торговок Центрального рынка в Париже получила бы больше заботы и внимания со стороны её родственников и друзей, чем наследница самого главного трона в Европе от своих родственников и друзей.
Затем он заговорил о планах, которые он вынашивал в отношении Англии.
«Если бы мне удалось осуществить высадку войск на берег Англии, — заявил он, — то у меня не было бы сомнений в том, что я добьюсь осуществления своих планов. Для высадки были готовы три тысячи шлюпок и ботов, на каждом из которых размещались двадцать человек, одна лошадь и пропорциональное число артиллерии. Применив хитроумную уловку, мы бы отвлекли ваш флот подальше от берегов Англии, как я ранее уже объяснял вам, что сделало бы меня полным хозяином Английского канала. Без этой хитроумной операции с вашим флотом я бы не рискнул совершить попытку высадки на берег Англии. Мне было бы достаточно четырёх дней, чтобы войти в Лондон. В стране, подобной Англии, изобилующей равнинами, организовать оборону очень трудно. Я не сомневаюсь в том, что ваши войска выполнили бы свой долг, но одно проигранное сражение, и ваша столица была бы в моей власти. Вы бы не смогли собрать армию, достаточно сильную для того, чтобы победить меня в генеральном сражении. Ваши идеи о том, чтобы предать огню и уничтожить ваши города и саму столицу звучат очень правдоподобно в дискуссии, но абсолютно нереальны для их осуществления. Вы бы приняли участие в сражении и проиграли его.
«Ну что ж, — сказали бы вы, — нас разбили, но мы не потеряли нашей чести. Теперь мы постараемся извлечь наибольшую выгоду из нашего несчастья. Мы должны договориться». Я бы предложил вам конституцию вашего собственного выбора, сказав вам: «Соберите в Лондоне депутатов от народа и выбирайте себе конституцию». Я бы призвал Бурдетта и других популярных лидеров, чтобы подготовить текст конституции, соответствующий пожеланиям народа.
Вы слишком богаты. Ваша верхушка обладает слишком многим, чтобы оказывать сопротивление, а ваши канальи имеют слишком мало для того, чтобы получить что-нибудь в результате совершённых перемен в стране. Если бы, на самом деле, английский народ предположил, что я намерен превратить Англию в провинцию Франции, то тогда действительно ваш национальный дух совершил бы чудеса. Но я бы образовал республику в соответствии с вашими собственными пожеланиями, потребовал бы умеренную контрибуцию, едва достаточную на то, чтобы заплатить войскам, и, возможно, отказался бы даже и от этой контрибуции. Ваши канальи[64] встали бы на мою сторону, зная, что я представитель народа и сам вышел из народа, что если человек обладает достоинствами и способностями, я буду способствовать его продвижению по службе, не спрашивая о том, сколькими коленами дворянского сословия он обладает. Ваши канальи знали бы, что, принимая мою сторону, они будут освобождены от ярма аристократии, от которого они страдали.
Ни в одной стране мира, даже в Пруссии, не обращаются так плохо с канальями, как в вашей стране. За исключением обязанности служить в качестве солдат, немецкие канальи живут лучше, чем ваши. Вы не уделяете никакого внимания вашим канальям, словно они для вас представляют массу древнегреческих илотов, словно они и есть именно та самая масса рабов. Своим лордам и их дамам, аристократии и джентльменам (Наполеон произнёс это слово на английском языке), о, действительно, вы уделяете максимум внимания. Ничто для них не может быть слишком хорошим. Никогда внимание к ним не может быть достаточным.
Но что касается ваших каналий, ба! Они же просто собаки; как говорили ваши поставщики, снабжавшие французских пленных провизией: «Эта пища слишком хороша для этих французских собак». У вас самого в вашей голове достаточно много этой аристократической надменности, и вы смотрите сверху вниз на ваших каналий, словно они являются представителями низшей расы. Вы говорите о вашей свободе. Что может быть более ужасным, чем те мучения, которым вы подвергаете ваших матросов? Вы с кораблей на берег направляете специальные команды вербовщиков, которые хватают каждого представителя мужского пола, оказавшегося под рукой, который, если он имел несчастье быть канальей и не может доказать, что он — джентльмен, без промедления переправляется на борт, чтобы служить матросом на корабле, бороздящем воды всех морей света. И, тем не менее, вы имеете наглость говорить о воинской повинности во Франции: это задевает вашу гордость, потому что во Франции воинской повинности подлежат все без исключения.
О, как же это ужасно, что сын джентльмена (Наполеон вновь произнёс это слово на английском языке) должен будет защищать свою страну точно так же, как если бы он был одним из каналий! И что он должен будет подчиняться приказу подставлять своё тело под выстрелы врага или оказаться на одном уровне с презренным плебеем! Тем не менее Бог сотворил всех людей одинаковыми. Кто составляет нацию? Только не ваши лорды, не ваши ожиревшие прелаты и служители церкви, не ваши джентльмены и не ваши олигархи. О! В один прекрасный день народ отомстит за себя, и тогда наступит время ужасных событий.
Эта воинская повинность во Франции, — продолжал Наполеон, — которая вызывала такое раздражение у вашей аристократической спеси, проводилась с безупречной честностью на основе принципов равных прав. Каждый коренной уроженец страны обязан защищать её. Воинская повинность во Франции не обременяла ни специфическую прослойку общества, такую, как ваши выборщики во флоте и армии, ни каналий, потому что они были бедны. Воинская повинность была наиболее справедливой, потому что она была наиболее разумным способом набора войск, основанным на равенстве прав. Она способствовала тому, что французская армия по своему составу была лучшей в мире. Воинская повинность должна была стать национальным непременным атрибутом, вместо того чтобы рассматривать её как наказание или порабощение. Служить стране стало бы делом чести, и придёт то время, когда девушка откажется выходить замуж за молодого человека, если он не выполнил своего обязательства перед страной. Любовь к славе является унаследованной особенностью каждого француза.
Если бы вы были нацией, — продолжал он, — состоящей наполовину из варваров, из бедных диких горцев или из жестоких пастухов, подобных скифам, то тогда действительно вы могли подвергнуть разрушению вашу столицу и опустошить вашу страну для того, чтобы приостановить продвижение войск захватчиков. Даже если бы вы были так же бедны и невежественны, как испанцы, то, возможно, вы могли бы разрушить некоторые ваши города и поселения. Но вы слишком богаты и слишком эгоистичны. Где же вы найдёте хотя бы одного из вас, который скажет: «Я разрушу свой дом, брошу свою собственность, чтобы её подвергли разграблению, оставлю жену и дочерей, чтобы их насиловали, и сыновей, чтобы их убили! И ради чего? Ради того, чтобы содержать лорда Батхерста и архиепископа Кентерберийского на занимаемых ими должностях с жалованьем в двадцать тысяч в год. Всё это я сделаю, сражаясь против человека, который предлагает умеренные условия заключения мира и желает предоставить в наше распоряжение конституцию, которая бы отвечала интересам нации».
Нет и нет. Это превыше всего того, что можно было бы ожидать от человеческого рода. Сам Питт прекрасно сознавал это. Одним из средств, с помощью которых ему удалось сформировать коалицию против меня, было его утверждение о том, что вполне возможна высадка французских войск на побережье Англии, и если она будет осуществлена, то Англия будет повержена до того, как истекут двенадцать месяцев; тогда весь континент будет в моих руках и в моём распоряжении; а как только падёт Англия, всё будет потеряно. Уже потом обо всём этом мне рассказал король Пруссии».
Далее Наполеон повторил то, о чём он уже рассказывал однажды, что жители Москвы не помогали распространению пожара в городе, но, наоборот, делали всё в их силах, чтобы тушить его.
Затем я задал вопрос Наполеону о его системе правления во Франции. Он заявил: «Система правления должна быть приспособлена к национальному духу и к обстоятельствам. В первую очередь необходимо, чтобы Франция обладала сильным правительством. Когда я встал во главе правительства, то, я могу сказать, Франция находилась в таком же положении, что и Рим, когда стране был необходим диктатор для спасения республики. Непрерывный ряд коалиций создавался против её существования с помощью вашего золота для объединения всех могущественных стран Европы. Для того чтобы успешно противостоять всем этим коалициям, необходимо было, чтобы все силы страны находились в распоряжении главы государства. Я никогда не прибегал к завоеваниям других стран, если этого не требовали интересы защиты моего государства. Европа никогда не прекращала своих войн против Франции и её жизненных норм. Нам нужно было действовать решительно и резко, иначе нас бы раздавили.
Между политическими группировками, которые в течение продолжительного времени будоражили Францию, я был подобен всаднику, оседлавшему непокорную лошадь, которая всё время хотела свернуть направо или налево; и для того чтобы заставить её следовать прямому курсу, я временами вынужден был её взнуздывать. Правительство страны, только что перенесшей революцию, все время находившейся под угрозой внешних врагов и взбудораженной интригами внутренних предателей, обязательно должно быть жёстким. В наступившие спокойные времена моя политика диктатора должна была закончиться и мне предстояло начать моё конституционное правление. Даже в тех условиях, когда активность коалиции против меня никогда не прекращалась, во Франции было больше равенства, чем в любой другой стране Европы.
Одной из главнейших целей моей деятельности было стремление обеспечить всех образованием. Я добивался создания учебных заведений, которые бы предоставляли образование народу или бесплатно или за столь умеренную плату, что она была бы по средствам и крестьянину. Двери музеев были распахнуты для каналий. Мои канальи стали самыми образованными в мире. Все мои старания были направлены на просвещение народа, вместо того чтобы доводить его до звероподобного состояния, прививая невежество и предрассудки.
Эти англичане, — добавил он, — которые так свободолюбивы, в один прекрасный день будут сокрушаться, обливаясь слезами, по поводу того, что они одержали победу при Ватерлоо. Эта победа была столь же фатальной для свобод и вольностей Европы, как и исход сражения при Филиппи в Македонии для Древнего Рима; и, подобно трагедии Древнего Рима, Ватерлоо ввергло Европу в руки триумвиров, объединившихся вместе ради угнетения человечества, запрещения знаний и восстановления предрассудков».
Подробно изложил императору то гнусное обращение, которому я вчера подвергся в «Колониальном доме». «Я не верю, — заявил Наполеон, — чтобы во всех армиях Европы можно было бы найти человека со столь подлым характером. Это же верх гнусности для офицера, старшего по званию, официально оскорблять подчинённого офицера. Нрав этого человека делает его похожим на субъекта, поражённого неизлечимым болезненным зудом: он постоянно нуждается в том, чтобы обо что-то тереться.
Но независимо от присущего ему от природы состояния постоянной тревоги, он явно вынашивает намерение, прибегая к грубому языку и к скверному обращению с вами, вызвать у вас крайнее раздражение, вплоть до потери вами официального уважения к нему как к губернатору. Тогда такого рода ваше поведение он представит как акт физического воздействия по отношению к нему и возбудит против вас дело о посягательстве на него как на лицо, занимающее официальную должность. Вы находитесь в очень опасной ситуации. У него есть свидетель, который является его креатурой. Он подпишет всё, что ему продиктует губернатор, поскольку, как и у губернатора, у него нет ни капли совести, ни воли. В качестве оправдания вы можете привести только ваши собственные слова. Но поведение этого человека, пытавшегося сделать из вас шпиона за счёт подлого отношения к вам и бесконечных оскорблений в ваш адрес, настолько необычно, что люди, не знающие его, с трудом смогут поверить вам. Я не вижу для вас иного выхода, кроме того, что вы должны придерживаться при общении с ним абсолютного молчания. Слушайте то, что он будет вам говорить, и отвечайте только на вопросы, связанные с медицинскими темами. На другие его вопросы не отвечайте. Он имеет право ждать от вас ответы на медицинские вопросы. Но на все остальные отвечайте: «Я не знаю» или «Это не моё дело».
20 февраля. Был подвергнут новым допросам со стороны сэра Хадсона Лоу. На этот раз мне посчастливилось покинуть его дом, не получив очередную порцию оскорбительной брани.
23 февраля. Сегодня Киприани пожаловался на воспаление кишечника. С того момента, когда он пожаловался мне на заболевание, симптомы его болезни значительно усилились, в частности, у него началось обильное кровотечение.
Его положили в тёплую ванну, и ему была оказана помощь в виде сильнодействующих лекарств, которые обычно применяются в подобных случаях. Однако наступило только временное облегчение состояния больного; неблагоприятные симптомы возобновились с угрожающей силой. Вскоре стало очевидно, что его жизнь находится в непосредственной опасности. В связи с этим для помощи и консультации были приглашены другие врачи. Тем не менее, всё оказалось бесполезным, и быстрое развитие болезни неумолимо вело Киприани к его кончине. Сам Киприани, хотя и сознавал грозившую ему опасность, сохранял удивительное хладнокровие и самообладание. Наполеон, чувствовавший особую привязанность к нему как к своему земляку и как к человеку, беззаветно преданному ему, очень беспокоился о состоянии здоровья Киприани, желая ему скорейшего выздоровления, и постоянно спрашивал о ходе его болезни.
25 февраля Киприани был в том состоянии, в котором часто находятся больные, страдающие от того же заболевания. Он почувствовал некоторое облегчение; но было сомнительно, было ли оно результатом ослабления болезни или это было прекращение болей, которое предшествует кончине больного в связи с начавшейся гангреной. Я придерживался последнего мнения; но пока не всё было ясно. Киприани находился в состоянии чрезвычайной слабости. Через короткие интервалы времени ему давали еду, которую держали в тарелке на его животе. В течение всего дня я постоянно докладывал Наполеону о состоянии больного, в том числе я поделился с ним своими сомнениями о причинах ослабления заболевания Киприани. В двенадцать часов ночи Наполеон вызвал меня к себе. Я доложил ему, что Киприани лежит в состоянии некоторого помрачения сознания. «Я думаю, что моё появление перед беднягой Киприани, — сказал Наполеон, — может подействовать как стимул для дремлющей природы и разбудить её, чтобы возобновить её усилия, которые смогут, в конце концов, преодолеть болезнь и спасти больного». Он постарался пояснить свою мысль примером того, какой эффект, подобный электрическому шоку, производило во многих случаях его появление на поле сражения в самое критическое время и в самые критические моменты.
Я ответил, что Киприани всё ещё в сознании, и что я знаю, что любовь и благоговение, которые он испытывает к своему господину, столь велики, что в том случае, если Наполеон появится перед ним, Киприани сделает попытку приподняться с постели. Это усилие, учитывая его слабое состояние, по всей вероятности, может вызвать у него обморок. Во время обморока его душа, которая уже находится между небом и землей, вполне возможно, покинет тело.
После этого и других объяснений состояния Киприани Наполеон неохотно согласился с моим мнением, что ему не следует осуществлять этот эксперимент. Он заявил, что в таких случаях мастера своего дела являются лучшими судьями.
В десять часов следующего утра очевидные симптомы наступавшей смерти стали слишком явными, и около четырёх часов дня бедняга Киприани был причислен к числу умерших.
Киприани был человеком, обладавшим большими, но не до конца развитыми способностями. Будучи очень хитрым, внешне он производил впечатление человека открытого и искреннего. Однако у него было очень много хороших качеств. Он был щедрым и доброжелательным. Подобно большинству своих земляков, он был верным другом и злейшим врагом. Ему был присущ сильный национальный дух. В принципе, он был республиканцем и проявлял к Наполеону больше преданности во времена его неудач, чем в годы величия. Он пользовался у Наполеона исключительным доверием. Если бы он получил образование в молодые годы, то он мог бы стать заметной фигурой в революции. Прежде чем он стал жаловаться на плохое самочувствие, он уже был нездоров несколько дней, в течение которых, по всей вероятности, скрытый воспалительный процесс прогрессировал. К могиле[65] его тело провожали графы Бертран и Монтолон, я и все члены обслуживающего персонала, кто мог присутствовать. Киприани настолько уважали на острове Святой Елены, что несколько из наиболее почтенных жителей острова и ряд офицеров 66-го пехотного полка добровольно присоединились к похоронной процессии. Если бы его похоронили в пределах зоны передвижения французов, то Наполеон также присутствовал бы на похоронах.
Немедленно после похорон я доложил Наполеону о том, как они проходили. Наполеон задумчиво спросил: «Где сейчас находится его душа? Возможно, отправилась в Рим, чтобы повидаться с женой и ребёнком, прежде чем начать долгий последний путь».
За несколько дней до своей кончины Киприани рассказал мне, что вскоре после того, как губернатор осуществил на практике свои суровые меры в отношении обитателей Лонгвуда, было замечено, что Сантини, отличавшийся весёлым нравом, на глазах у всех резко изменился, став задумчивым и каким-то подавленным. Однажды он зашёл в комнату Киприани и признался ему в том, что он вынашивает намерение убить губернатора, как только тот появится в Лонгвуде. Киприани спросил его, не сошёл ли он с ума, и попытался отговорить его от этой попытки, призвав на помощь все аргументы, которые он мог привести против этой затеи. Хотя Киприани всегда оказывал большое влияние на Сантини, но в данном случае тот оставался непреклонным в своём решении, сопровождая своё заявление множеством клятв, присущих низшим слоям итальянского общества. Он зарядил свою двустволку боевыми патронами, которыми он намеревался предать смерти губернатора и затем покончить с собой. Киприани, поняв, что его аргументы бесполезны, пошёл к Наполеону и рассказал тому о планах Сантини. Император немедленно послал за Сантини, расспросил его, и тот признался во всём. Тогда Наполеон приказал ему, уже как император, даже и не думать о совершении покушения на сэра Хадсона Лоу. Наполеону удалось заставить Сантини отказаться от своего плана, хотя Сантини сделал это явно неохотно. Сантини обладал весьма решительным характером и был храбр, как лев. Помимо того, что он мастерски владел кинжалом, он очень метко стрелял из огнестрельного оружия. Не было никаких сомнений в том, что, если бы ему не запретили, он осуществил бы свои намерения в отношении губернатора.
6 марта. Болезнь императора немного прогрессирует, хотя и медленно. Застал его за чтением тома Корнеля, которого он высоко превозносил. Наполеон заметил, что за те чувства, на которые Корнель вдохновлял Францию, она находится перед ним в неоплатном долгу за свои славные свершения. Наполеон добавил, что, если бы Корнель жил в его время, он сделал бы его принцем.
Затем он заговорил о самом себе, заявив, что он верит, что природа предначертала ему испытать немалые превратности судьбы и что у него каменное сердце. После этого он провёл ряд сравнений между своим собственным поведением и тем, которое осуществлялось против него его врагами.
«Если бы я был подвержен тем настроениям, которые были свойственны Бурбонам, — заявил он, — или даже действовал в соответствии с законами взаимности, то я должен был бы добиться суда над герцогом д’ Ангулемским в ответ на попытки покушения на меня, которые он готовил, за объявление Бурбонами и союзными державами[66] вне закона моей личности и за инспирирование моего убийства. В соответствии с законами национальной ассамблеи, предусматривавшими наказание любому члену его семьи, который вернётся во Францию, я мог бы отдать приказ расстрелять его в течение двадцати четырёх часов. Вместо этого я приказал, чтобы его персоне было оказано всяческое уважение и внимание и чтобы он был препровожден в Сет для высадки на берег.
Мэтленд, — заявил Наполеон, — не был соучастником западни, которую подготовили для меня ваши министры, когда они отдали приказ принять меня на борту его корабля[67]. Он — храбрый человек, неспособный принимать участие в позорной сделке, которая была осуществлена. Его обманули, так же как и меня. Вероятно, он думал, что доставит меня в Англию, чтобы мне разрешили жить там с соблюдением тех же ограничений, которые были предписаны моему брату Люсьену». Затем он заявил, что составил слишком хорошее мнение об англичанах и верил тому, что английские министры прислушиваются к голосу своего народа, влияние которого на них в действительности оказалось совсем уж не таким сильным.
«До того как я ступил на борт «Беллерофона», — добавил он, — возникла дискуссия по поводу правильности принимаемого мною решения. Некоторые мои морские офицеры, которым стало известно об этом решении, категорически требовали, чтобы я не предпринимал эту опасную затею. Они заявляли, что англичане являются самыми корыстными людьми на всём свете. Выгода является их божеством, и они заранее подсчитывают, что именно они смогут получить в результате того, плохо или хорошо они будут обращаться с вами. Если они посчитают, что они что-то приобретут от того, что сошлют вас в ссылку, то они поспешат отправить вас подальше и спрячут в одной из своих колоний, где вас подвергнут всем видам жестокого обращения, которые может предложить ненависть. Мои морские офицеры были правы, — продолжал он, — некоторые из них побывали в баржевых понтонах и знали лучше, чем я, каковы вы, англичане, на самом деле. Я не представлял себе, чтобы великая страна могла поощрять жестокое гонение на одного человека, оказавшегося в её руках после того, как тот был её врагом в течение двадцати пяти лет».
Затем он привёл следующее объяснение причин, которые привели его к падению: «Если бы не эта временная приостановка военных действий в 1813 году, на согласие с которой меня склонила Австрия, я должен был добиться окончательного успеха. Победы при Лютцене и Вюртцене восстановили уверенность во французских войсках. Король Саксонии с триумфом был возвращён в свою столицу; один из корпусов французской армии находился у ворот Берлина и враг был изгнан из Гамбурга. Русские и прусские армии готовились к тому, чтобы переправиться через Вислу, когда кабинет Австрии, действуя с характерным для него вероломством, посоветовал мне временно прекратить военные действия в тот момент, когда он уже вступил в переговоры с Россией и Пруссией.
Военное перемирие было только обманом, чтобы выиграть время, необходимое для подготовки к войне, которую предполагалось объявить Франции в мае. Неожиданные успехи французов вынудили проводить подготовку к войне с предельной осторожностью. Необходимо было выиграть ещё больше времени, и переговоры продолжились на конгрессе в Праге. Меттерних настаивал на том, чтобы Австрия получила половину Италии. Он выставил и другие чрезмерные условия, которые были предъявлены только для того, чтобы их отвергли. Как только её армия пришла в полную готовность, так сразу же Австрия объявила войну Франции.
После победы при Дрездене я был полным хозяином положения и, чтобы обмануть противника, я подготовил план наступления моих войск на Магдебург, которые, после переправы через Эльбу у Виттенберга, должны были двинуться на Берлин. Осуществлением этого манёвра были заняты несколько дивизий французской армии, когда мне доставили письмо от короля Вюртемберга, сообщавшее о том, что баварская армия присоединилась к австрийцам и в составе восьмидесяти тысяч человек под командованием Вреде походным маршем движется к Рейну. Далее король Вюртемберга сообщал, что под давлением присутствия этой армии он вынужден присоединить контингент своих войск к баварцам, и что вскоре Майнц будет окружён стотысячной армией.
Это неожиданное дезертирство полностью изменило план всей военной кампании и вся предшествовавшая подготовка, чтобы сделать главным театром войны пространство между Эльбой и Одером, оказалась бесполезной. Уже после, во время сражения при Лейпциге, 16 октября 1813 года победа была на моей стороне. Я должен был добиться успеха и 18 октября, если бы вся саксонская армия, занимавшая одну из наиболее важных позиций по линии фронта, не перешла на сторону противника со всем арсеналом из шестидесяти пушек, повернув которые, саксонцы немедленно стали стрелять по французам. Несмотря на это, поле битвы оставалось в руках французов, и в тот же день войска союзников двинулись назад. Ночью я приказал армии отступить к нашим пунктам снабжения, расположенным за рекой Унструт. Последовавшее дезертирство нескольких других немецких корпусов и преждевременное осуществление взрыва моста в Лейпциге вызвали катастрофические последствия.
Когда армия переправилась через реку Зале, то она должна была отдохнуть, чтобы восстановить силы ввиду крайней усталости и получить из Эрфурта боеприпасы и другие предметы снабжения. Однако в это время прибыли разведывательные сведения о том, что австро-баварская армия под командованием Вреде форсированным маршем вышла к реке Майн. Возникла необходимость выступить против этой армии. Вреде был отброшен от его позиций у Ганау, его армия была полностью разбита, а сам Вреде был ранен. После этого во Франкфурте начались переговоры о заключении мира. Союзники предлагали заключить мир при условии, что я откажусь от протектората над Рейнским союзом, над Польшей и от провинций Эльбы, но что Франция должна быть сохранена в её границах, проходящих по Альпам и по Рейну. Эти условия были приняты в качестве основы для мирного договора. Однако переговоры во Франкфурте, подобно другим, оказались обманом, так как в ту минуту, когда выдвигались эти миротворческие предложения, союзники нарушили нейтралитет Швейцарии, вторгнувшись в неё большими силами. Уже потом, в Шатильоне, союзники представили свой ультиматум, в соответствии с которым они потребовали, чтобы территория Франции была сокращена до границ, существовавших в 1792 году. Это требование союзников я решительно отверг. Если бы не последовавшие предательства Талейрана, Мармона и Ожеро, союзникам не удалось бы силой посадить на французский трон проклинаемую народом семью, против которой страна сражалась на протяжении двадцати пяти лет, и Франция никогда бы не испытывала унижения при виде короля, сидящего на французском троне и имевшего низость открыто заявить, что он обязан этим принцу-регенту Англии».
28 марта. Сэр Хадсон Лоу прислал в Лонгвуд 12 марта двадцать семь томов книг и сегодня ещё семь томов, а также несколько номеров газеты «Письма Нормандии и Шампенуа».
Со времени прибытия на остров Святой Елены корабля «Фаэтон» в 1816 году эти посылки составили весь запас книг и брошюр, присланных в Лонгвуд министрами его величества[68]. В связи с этим Наполеон заявил: «Это такая подлость, на которую, я думаю, был способен сам лорд Батхерст».
Некоторое время существовало правило[69], что все капитаны торговых кораблей, прибывающих на остров Святой Елены, обязаны представлять сэру Хадсону Лоу список находившихся на корабле книг, брошюр, газет и других печатных материалов. Те печатные материалы, которые имели политическую окраску, должны были специально отсылаться сэру Хадсону Лоу под предлогом, что они будут передаваться в Лонгвуд. Однако в Лонгвуд никакие книги такого рода не поступали, кроме нескольких экземпляров газет. Его превосходительство и члены его штаба с особым рвением охотились за газетой «Эдинбургское Ревью».
4 апреля. Несколько дней назад произошло событие, которое пролило в какой-то степени свет на те мотивы, которые побудили губернатора обязать меня являться в «Колониальный дом» дважды в неделю. Один из иностранцев, проживающих на острове, сообщил графу Монтолону, что полномочные представители видели отчёт о состоянии здоровья Наполеона в бюллетене, составленный именно в этот день. Граф Монтолон, зная, что в этот день мною никакой бюллетень не составлялся, попросил объяснений у иностранца. Иностранец всё объяснил. Как выяснилось, эти составленные тайком бюллетени принадлежали перу человека, который никогда не видел Наполеона и который, соответственно, не мог быть судьёй состояния его здоровья. Эти фиктивные отчёты направлялись из «Колониального дома» полномочным представителям для последующей их пересылки в соответствующие королевские и императорские дворы Европы. Насколько я понимаю, каждый добросовестный читатель будет придерживаться того мнения, что подобные отчёты следовало показывать мне, поскольку я был единственным врачом, который обследовал пациента, и, соответственно, единственной персоной, которая была способна судить о правильности изложенных фактов в так называемых бюллетенях[70].
10 апреля. Сэр Хадсон Лоу, не сумев добиться положительного рассмотрения своего заявления, которое он послал в Лондон, о моём отзыве с острова Святой Елены, прибегнул к уловке, которая обеспечила ему успех. Сегодня он приказал сэру Томасу Риду написать письмо, в котором он сообщил мне, что мне запрещается покидать Лонгвуд, если для этого я не получу мотивированного задания. Из этого запрещения явствовало, что губернатор предписывал мне подчиняться ограничениям, даже более деспотичным и обременительным, чем те, которые он ввёл для французов. Ибо, заточая меня в Лонгвуде в границах огороженной территории, куда никому не разрешалось входить без специального пропуска, он тем самым лишал меня английского общества. В то же самое время он запрещал мне любые контакты, даже с французами, за исключением тех, которые относились к моей профессиональной деятельности[71]. Как только я получил это письмо, я сразу же отправился в коттедж «Брайерс» с намерением изложить всё дело адмиралу Плэмпину, который, однако, через своего секретаря передал мне, что не примет меня. Тогда я написал письмо сэру Хадсону Лоу о моей отставке и другое письмо графу Бертрану, объясняя свое решение, которое я был вынужден принять, а также мотивы, вынудившие меня принять это решение.
14 апреля. Перед тем, как я выехал из Лонгвуда, Наполеон послал за мной, чтобы дать мне аудиенцию. Во время аудиенции он сообщил мне, что отныне он отказывается принимать от меня какие-либо медицинские рекомендации с учётом той ситуации, в которой я оказался по вине сэра Хадсона Лоу. На прощание он обратился ко мне со следующими словами: «Итак, доктор, вы собираетесь покинуть нас. Поймёт ли мир, что они были настолько подлы, что совершили покушение на моего врача? Поскольку вы не более, чем простой лейтенант, зависимый от деспотической силы и подчиняющийся воинской дисциплине, вы более не обладаете независимостью, необходимой для того, чтобы оказывать полезную мне помощь. Благодарю вас за вашу заботу обо мне. Как можно скорее покидайте это обиталище темноты и преступлений. Я испущу последний вдох на этом убогом ложе, снедаемый болезнью, лишённый какой-либо медицинской помощи. Но ваша страна будет навечно опозорена моею смертью»[72].
9 мая. Сэру Хадсону Лоу стало ясно, что он не смог осуществить своё намерение приставить другого врача к Наполеону, так как последний был полон решимости не принимать никакого нового доктора. Полномочные представители[73] дали понять губернатору, что если Наполеон умрёт в то время, когда он содержит меня в заключении (не привлекая меня к суду и даже не выдвигая против меня никаких обвинений) или когда его будет осматривать какой-нибудь другой врач, насильно навязанный Наполеону, то в Англии и в Европе возникнут сильные подозрения относительно причин его смерти, о которых они сами не будут в состоянии представить вразумительного объяснения. В результате всего этого губернатор решил отменить навязанные мне ограничения. В соответствии с этим он освободил меня, продержав в заключении двадцать семь дней. В течение всего этого времени меня последовательно, в письменном виде, высмеивали все члены его штаба. Для того чтобы сбить меня с толку, они часто требовали вернуть с поджидавшим для этой цели драгуном ответы на письма, сочинённые, после нескольких дней раздумья, коллективным разумом сэра Хадсона Лоу и членов его штаба. Поскольку общественность уже была ознакомлена с этой перепиской, я не буду беспокоить ею читателя.
В письме, содержавшем приказ о моём освобождении, его превосходительство посчитал себя обязанным признать за мной право называться личным врачом Наполеона. Ранее он оспаривал за мной это право.
В депеше, отправленной сэром Хадсоном Лоу, были приведены некоторые выдержки из письма лорда Батхерста. В числе других вопросов в них констатировалось, что граф Бертран должен составить список лиц из местных граждан, не более пятидесяти человек, и представить его губернатору для утверждения. Указанные в этом списке лица должны были пропускаться в Лонгвуд в уместное время дня только пропускам, содержавшим приглашение от генерала Бонапарта. Эти лица уведомлялись, что в подобных случаях они должны представлять эти приглашения с указанными в них именами в качестве пропусков у барьера поста охраны Лонгвуда. В выдержке из письма лорда Батхерста ясно указывалось, что губернатор сохраняет за собой власть вычёркивать из списка любое лицо.
10 мая. До того, как разрешить мне возобновить мою врачебную практику в Лонгвуде, Наполеон, для того чтобы прекратить подделку каких-либо бюллетеней о состоянии его здоровья, потребовал, чтобы я составлял такой бюллетень один раз в неделю или чаще, если это будет необходимо. Копия бюллетеня должна передаваться губернатору, если он попросит её. Об этом я немедленно сообщил сэру Хадсону Лоу, который не только не потребовал копий бюллетеня, но самым решительным образом запретил мне составлять для него (сэра Хадсона) любые письменные отчёты.
После прошедшего месяца состояние здоровья Наполеона стало хуже. Боли в боку стали более постоянными и более сильными.
Поведение местных властей по отношению к Наполеону вызвало всеобщее возмущение среди жителей острова.
16 мая. Официальное объявление за подписью сэра Хадсона Лоу, расклеенное в наиболее видных местах города, запрещало всем офицерам, жителям острова и любым другим лицам поддерживать переписку или контакт с иностранными лицами под угрозой ареста[74].
18 мая. Сэр Хадсон Лоу приказал капитану Блэкни собрать всех английских слуг Лонгвуда и зачитать им официальное объявление губернатора от 16 мая. Это было сделано без оповещения их хозяев. Когда об этом сообщили Наполеону, он приказал, чтобы английские слуги, работавшие в доме Лонгвуда вместо Сантини, а также другие слуги, присланные сэром Хадсоном Лоу, были освобождены от своих обязанностей.
20 мая. Разговаривал с императором о книге, опубликованной г-ном Эллисом о посольстве в Китае, и о его беседе в Лонгвуде, содержание которой этот джентльмен также опубликовал. Наполеон рассказал, что, когда он узнал, что г-н Эллис работал секретарём миссии в Персии, вскоре после того как генерал Жарданн покинул Исфахан, он стал расспрашивать г-на Эллиса о том, как далеко Россия проникла в Персию. «Я сказал ему, — добавил Наполеон, — что если России удастся присоединить к себе храбрую польскую страну, то тогда у неё больше не будет соперника, потому что Россия будет сдерживать Англию, угрожая её владениям в Индии. Австрия также не будет для неё помехой, так как Россия будет сдерживать её благодаря громадному моральному превосходству своих войск и поддержке со стороны верующих греческой церкви, которые составляют большинство в Венгрии и Галиции. Становится довольно очевидным, что греческий патриарх в один прекрасный день будет проводить молебен в Святой Софии.
Я также пояснил г-ну Эллису, что если Англия в целях укрепления своего могущества основное внимание уделит своим наземным войскам и будет сохранять свои армии на континенте, то эти армии послужат препятствием для развития её истинной силы. Поэтому она совершит ту же самую ошибку, в которой повинен Франциск Первый, когда в сражении при Павии он во главе своей отборной части кавалерии занял позицию перед мощной французской батареей, которая бы обеспечила ему победу, если бы он не помешал ей стрелять, став препятствием для неё вместе со своими кавалеристами.
Я сказал г-ну Эллису, что все эти нарушения общественного порядка в Англии не имеют никакого значения, и у вас достаточно констеблей, чтобы восстановить порядок, если в то же самое время ваши министры направят всё своё внимание и все свои заботы на коренное улучшение своего администрирования ради процветания вашего производства и вашей торговли. Прежде всего, вы не должны стыдиться стать купцами; именно из этого источника проистекает ваше могущество. Но если нищета в стране действительно существует, как это утверждает лорд Велели, и она была вызвана слишком большими усилиями, выпавшими на долю Англии за последние двадцать лет, то в этом случае слишком жёсткие меры принуждения, применённые в отношении народных масс, будут иметь временный характер, и едва ли они вызовут у народа безрассудство, Я сказал, что среди вас, англичан, есть очень мудрые люди, которые в то время, когда они примут эти жёсткие меры, не дадут воли желчным настроениям, восстановят благосостояние страны, облегчат положение народа и заставят нищету исчезнуть.
Во время всей нашей беседы с г-ном Эллисом, — продолжал Наполеон, — которая продолжалась примерно минут тридцать, ни слова не было сказано об острове Святой Елены. Граф Монтолон не беседовал на эту тему ни с г-ном Эллисом, ни с кем-либо ещё из его посольства. Когда он посетил Лонгвуд, то он не задавал никаких вопросов о поместье, не осматривал комнаты дома и, в целом, о самом Лонгвуде ничего не знал, ничего там не видел и ничего о нём не слышал, по крайней мере от французов. И, тем не менее, в своей книге он имеет наглость играть роль судьи, который на месте происшествия выслушивает жалобы обеих конфликтующих сторон. Но этот фрагмент книги написан не им. Этот фрагмент — изобретение некоего служащего лорда Батхерста, который обязал г-на Эллиса вставить его в книгу. Подобное проституирование своего имени не делает чести этому дипломатическому деятелю»[75].
Наполеон обратил внимание на контраст между официальным объявлением и поведением губернатора, с одной стороны, и депешами от лорда Батхерста, с другой стороны. Он заявил, что депеши присылаются всего лишь затем, чтобы создать видимость, что что-то делается для улучшения его положения, в то время как на самом деле ничего не делается.
В ходе нашего разговора Наполеон сказал, что не следует полагаться на сочинения писателя, которыми он стремится внушить читателю мнение о своём личном характере и о своём поведении. В качестве примера он напомнил о том, что Бернардэн Сен-Пьер, чьи сочинения проникнуты столь прекрасными и благородными чувствами и в которых каждая страница дышит принципами гуманизма и социального счастья, обладал одним из самых худших характеров во Франции.
11 июня. Не говоря уже о воспалительном заболевании щёк, частый рецидив которого излечивался удалением ещё двух зубов, состояние здоровья Наполеона стало намного хуже. В связи с этим сегодня он согласился с рекомендованным ему курсом лечения, который, соответственно, начался с сегодняшнего дня. Практически он не выходил из своих апартаментов почти шесть недель.
20 июня. Офицеры 53-го пехотного полка оказали мне честь, избрав меня почётным членом их клуба. Когда этот полк покидал остров, то такую же честь мне оказали офицеры 66-го пехотного полка. Сэр Хадсон Лоу поручил сэру Томасу Риду снабдить подполковника Ласкелля (командира полка) самой коварной клеветой о моей персоне. В соответствии с этим подполковник Ласкелль вызвал к себе лейтенанта полка Риердона (моего друга) и рассказал ему всё то, что постарался ему внушить сэр Томас Рид.
А именно: что я стал ненавистен взору губернатора, что офицеры полка должны исключить меня из своего клуба как человека, подвергавшегося оскорблениям со стороны губернатора, который изгнал меня из своего дома, и, соответственно, я неподходящая личность для общества офицеров полка. Сэр Томас Рид также старался убедить подполковника Ласкелля в том, что исключение меня из офицерского клуба полка будет приятной новостью для сэра Хадсона Лоу, который, как сообщил сэр Томас Рид, заявил, что он, губернатор, будет рассматривать каждого, кого заметят в общении со мной, как его, губернатора, личного врага. Подполковник Ласкелль, заканчивая беседу с лейтенантом Риердоном, обратился к нему просьбой убедить меня в том, чтобы я, не афишируя этот факт, вышел из состава офицерского клуба, так как моё присутствие в клубе будет неприятно для губернатора. Несмотря на всё это, он, подполковник Ласкелль, лично питает ко мне глубокое уважение и что он будет первым, кто пригласит меня на обед в клубе в качестве гостя.
Поразмыслив над всем этим, я решил, что если я тайно ускользну из клуба, то я тем самым дам возможность моим врагам очернить меня самым грубым образом и представить дело так, что моё поведение именно было таким, что он заставило офицеров 66-го пехотного полка изгнать меня из членов клуба. Руководствуясь благими намерениями, я немедленно написал подполковнику Ласкеллю письмо, которое находится в числе приложений к моей работе под №XVIII. Вечером я отправился на встречу с ним. Подполковник заверил меня в своей дружбе и в своём уважении ко мне, но в то же время попросил меня неофициальным путём покинуть членство клуба, так как этого хотел сэр Хадсон Лоу, и что он, подполковник Ласкелль, опасается, что в противном случае и он, и офицеры полка окажутся объектами сильного негодования со стороны губернатора.
Он закончил беседу со мной тем, что заявил, что сэр Томас Рид показал ему часть моей переписки с губернатором, а также ряд секретных документов, о которых мне никогда не сообщали. Подполковник вновь выразил своё глубокое уважение ко мне. Подполковник заявил, что он знает, что это чувство разделяется всеми офицерами его полка. Я ответил, что искажение истины, осуществлённое тайком от меня, может остаться неопровергнутым и что ни один человек не гарантирован от того, что может стать жертвой клеветы.
Однако я готов представить всю переписку между губернатором и мною на суд офицеров полка или представить её на тщательное изучение лицу или лицам, которые выразят желание ознакомиться с нею, и ждать их решения. Тем не менее я никогда не откажусь от чести, которую мне оказали офицеры 66-го пехотного полка, предоставив мне место за их столом в офицерском клубе, если только (в соответствии с существующим в армии обычаем) за мое отчуждение от клуба не проголосуют сами члены клуба или об этом прикажет губернатор.
О моём ответе было доложено сэру Хадсону Лоу, который, вероятно, в силу особых личных причин, не позволявших ему представить на суд корпуса офицеров нашу переписку, направил приказ от имени бригадного генерала сэра Джорджа Бингема (как мне об этом сообщили) подполковнику Ласкеллю исключить меня из членов офицерского клуба. Об этом мне было сообщено в нижеследующем письме, без объяснения причин принятия подобного решения.
«Дедвуд, 23 июня.
Уважаемый сэр, в качестве командира 66-го пехотного полка я прошу вашего разрешения сообщить вам, что я посчитал целесообразным от своего имени заявить вам, что я более не могу разрешить вам оставаться почётным членом офицерского клуба 66-го пехотного полка.
Остаюсь, уважаемый сэр, вашим покорным слугой,
К. Ласкелль».
Желая получить полную достоверную информацию для подтверждения того факта, что это новое грубое нарушение моих прав было осуществлено по приказу сэра Хадсона Лоу, я нанёс визит сэру Джорджу Бингему. Он очень вежливо принял меня и сообщил, что ему было указано привести в исполнение вышеупомянутый приказ.
25 июня. Направил следующее письмо в дедвудский лагерь 66-го пехотного полка:
«Офицерам 66-го пехотного полка.
Джентльмены, вследствие данного мне чрезвычайного поручения, которое я принял и в результате которого я временно покинул тот род войск, к которому я принадлежал, офицеры 53-го пехотного полка, принимая во внимание мое положение изолированности, любезно оказали мне честь, избрав меня почётным членом их офицерского клуба. Я продолжал оставаться им всё время, пока полк находился на острове. Вы, джентльмены, вскоре после вашего прибытия на остров удостоили меня такой же чести, которой я пользовался почти год. В силу превратностей судьбы, которая в настоящее время избрала меня объектом жестоких испытаний, мне, по приказу верховной власти, запрещено отныне наслаждаться вашим обществом, величайшим и единственным утешением, которое мне можно было испытать в этом безотрадном обиталище. Однако я не могу вновь подвергнуться полному одиночеству, не выразив вам моей самой искренней благодарности за многочисленные проявления дружбы и доброты, которыми вы удостаивали меня. Я хочу заверить вас, что почтение к вам, уважение и благодарность, которые я питаю к вам, неизгладимо запечатлены в сердце того, кто в свои последние минуты с радостью заявит, что он считал себя достойным места за вашим столом.
Имею честь, джентльмены.
С величайшим к вам уважением, весьма вам обязанный, ваш друг,
Барри Э. О’Мира,
врач, военно-морские силы».
26 июня. Офицеры 66-го пехотного полка любезно направили мне следующий ответ:
«Дедвуд, 26-го июня 1818.
Уважаемый сэр, в качестве президента офицерского клуба, я имел честь сообщить членам клуба содержание вашего письма от 25-го числа нынешнего месяца и, по поручению командира и офицеров полка, сказать вам, что мы с большим сожалением узнали о лишении вас почётного членства офицерского клуба. Офицеры полка заверяют вас, что они всегда считали, что ваше общение с ними во всех отношениях полностью соответствовало поведению джентльмена.
Мне также поручено заявить, что члены офицерского клуба находятся перед вами в неоплатном долгу за те весьма лестные выражения испытываемого вами чувства уважения к нам, которые содержатся в вашем письме.
Имею честь, дорогой сэр.
Ваш покорный слуга,
Ч. М’Карти,
лейтенант, 66-й пехотный полк».
27 июня. Наполеон страдает от сильной простуды, вызванной чрезвычайной сыростью в его комнатах. Я прекратил давать ему некоторые лекарства, которые он постоянно принимал. Сообщил о состоянии его здоровья губернатору.
15 июля. В прошлом месяце с очередным кораблём на остров прибыло несколько ящиков с вином, высланных принцессой Боргезе через госпожу Холланд. Часть ящиков была отправлена в Лонгвуд, а остальные по приказу сэра Хадсона Лоу были отданы правительственным магазинам. В связи с получением ящиков с вином, так же как и по поводу многих других случаев, Наполеон выразил чувства большой любви к принцессе Полине, заявив, что он убеждён: для неё любая жертва с её стороны не будет большой, если она окажется для него полезной. Он добавил, что не сомневается в том, что она будет пытаться получить разрешение приехать на остров Святой Елены[76]. Он также очень высоко и тепло отзывался о принцессе Гортензии, о которой он говорил, что она обладает выдающимися способностями. Такого же мнения он придерживался и в отношении принцессы Элизы. Наполеон в очень дружелюбной манере высказывался о том внимании и доброте, которые проявляла по отношению к нему в пору его бед госпожа Холланд, когда его покинули многие, от которых, в знак благодарности за оказанное им с его стороны доброжелательное отношение, он имел все основания ожидать хотя бы минимума внимания. Он сказал, что семья великого Фокса отличается большим великодушием и благородством.
20 июля. Отправился в город, чтобы попытаться достать экземпляр газеты с отзывами о речи лорда Батхерста, некоторые из этих газет, как мне сообщили, появились на острове. Г-н Банн, капитан корабля «Мэнглис», к которому я обратился с этой просьбой, не скрывал своего удивления по поводу того, что подобная просьба исходит от человека, принадлежавшего к числу жителей Лонгвуда, ибо сразу же по прибытии его корабля на остров сэр Хадсон Лоу и сэр Томас Рид забрали у него пять экземпляров газеты, пояснив причину того, что они берут такое большое количество экземпляров, тем, что они хотели отослать два или три экземпляра в Лонгвуд. Он добавил, что вышеупомянутые лица были особенно настойчивы в своей просьбе предоставить им список книг, которые он привёз, и забрали с собой все современные публикации политического характера. Они потребовали все экземпляры газеты «Эдинбургское Ревью» в том случае, если они у него есть.
25 июля. После того как я нанёс профессиональный визит врача к Наполеону, болезнь которого совершенно не изменилась к лучшему, и в то время, когда я входил в свою комнату примерно в четыре с половиной часа дня, капитан Блэкни вручил мне следующее письмо[77]:
«Колониальный дом», 25 июля 1818.
Сэр, я уполномочен генерал-лейтенантом сэром Хадсоном Лоу информировать вас о том, что, в соответствии с инструкцией, полученной от графа Батхерста, датированной 18 маем 1818 года, ему приказано освободить вас от обслуживания генерала Бонапарта и запретить вам все дальнейшие контакты с обитателями Лонгвуда.
Контр-адмирал Плэмпин получил инструкции от лордов, представителей Военно-морского министерства, относительно вашего места назначения после того, как вы покинете остров.
В результате этого вам надлежит после получения этого письма немедленно покинуть Лонгвуд, прекратив все контакты с лицами, проживающими в Лонгвуде.
Имею честь и т. д.
Эдуард Виньярд,
подполковник, военный секретарь».
Гуманность, обязанности моей профессии и нынешнее состояние здоровья Наполеона, — всё это вместе запрещало мне подчиниться этому бесчувственному приказу, особенно ещё и потому, что моё положение имело гражданский характер, подобно положению тех морских офицеров, которые привлекались к работе по акцизному сбору или в таможне. В ту же минуту я принял собственное решение. Я был полон решимости не подчиняться данному мне приказу. Состояние здоровья Наполеона требовало, чтобы я составил для него специальный режим и подготовил для него лекарства, которые он должен был принять в отсутствие врача. Судя по всему, это отсутствие врача займёт продолжительное время, так как я был абсолютно уверен в том, что Наполеон не примет ни одного врача из тех, кто будет рекомендован сэром Хадсоном Лоу. В соответствии с принятым мною решением я немедленно направился в апартаменты Наполеона. Получив разрешение войти к нему, я сообщил ему о приказе, который мне только что вручили. «Злодеяние совершается слишком скоро, — заявил Наполеон, — для них я прожил слишком долго. Ваш министр действует слишком дерзко, — добавил он, — когда папа римский находился во Франции, то я бы скорее приказал отрубить мне правую руку, чем подписать приказ об отзыве его врача».
После краткого разговора и после того, как я передал ему те медицинские рекомендации, которые я мог сообщить ему в создавшихся условиях спешки, Наполеон сказал мне: «Когда вы прибудете в Европу, то поезжайте сами или пошлите кого-нибудь к моему брату Жозефу. Сообщите ему, что я хочу, чтобы он передал вам пакет с личными и конфиденциальными письмами[78] императоров Александра и Франца, короля Пруссии и других монархов Европы, которые были написаны мне. Эти письма в Рошфоре я передал Жозефу для хранения. Вы опубликуете эти письма, чтобы покрыть позором всех этих монархов, и продемонстрируете всему миру то жалкое преклонение передо мной этих вассалов, когда они выпрашивали у меня милости и умоляли не лишать их своих тронов. Когда я был сильным и на вершине власти, они домогались моей защиты и чести стать моим союзником, слизывая пыль с подошв моих сапог. Теперь же, когда я достиг пожилого возраста, они подло угнетают меня, отобрав у меня мою жену и моего ребёнка.
Я прошу вас опубликовать все эти письма. И если вы увидите опубликованную обо мне клевету за то время, когда вы находились со мной, то заявите: «Я собственными глазами видел, что всё это не соответствует действительности».
Вскоре после этих слов он продиктовал графу Бертрану письмо, выдержка из которого приведена в другой части этой книги. Подписав письмо, Наполеон собственноручно добавил к нему постскриптум, заверив меня в том, что эти несколько слов скажут обо мне императрице больше, чем если бы он написал несколько страниц ин-кварто. Затем он подарил мне великолепную табакерку и статуэтку, изображающую его. Наполеон попросил меня, когда я приеду в Европу, навести справки о его семье и сообщить её членам, что он не хочет, чтобы кто-то из них приехал на остров Святой Елены и стал свидетелем тех страданий и унижений, которым он здесь подвергается.
«Выразите им все мои чувства, которые я храню и испытываю к ним, — добавил он. — Унесите с собой мою любовь к моей доброй Луизе, к моей прекрасной матери и к Полине. Если вы увидите моего сына, обнимите его за меня; пусть он никогда не забывает, что он был рождён французским принцем! Свидетельствуйте госпоже Холланд о том чувстве, которое я питаю к ней в связи с её добротой, и о том уважении, которое я испытываю к ней. Наконец, постарайтесь прислать мне достоверные сведения о том, как воспитывается мой сын».
Император затем пожал мне руку и, обняв, сказал: «Прощайте, О’Мира, мы никогда больше с вами вновь не увидимся. Будьте счастливы».
Приложения
Остров Святой Елены расположен в районе 15°55’ южной широты и 5°46’ западной долготы с устойчивым юго-восточным ветром. Он простирается в длину примерно на десять с половиной миль, на шесть и три четверти мили в ширину и на двадцать восемь миль по окружности. Его высочайшая вершина — пик Дианы. Ближайший от него в Атлантическом океане остров Вознесения находится на расстоянии примерно шестьсот миль и мыс Доброй Надежды ближайшего континента (Африка) — на расстоянии тысячи двухсот миль. Нельзя представить себе более унылого, пустынного и безысходного зрелища, чем этот остров.
Он загромождён огромной массой скал коричневого цвета, образовавшихся из различных пород лавы и выступающих над океаном со своими неровными, шершавыми и отвесными склонами. Поверхность острова, словно выжженная дотла и покрытая шлаком, не радует глаз своим внешним видом. Остров, практически лишённый растительности, возвышается над уровнем океана на 300–1500 футов. Некоторое разнообразие общей картине острова придают малозаметные между скалами глубокие и узкие ущелья, спускающиеся к океану и в отдельных местах образующие на побережье места, пригодные для высадки со стороны океана. Весь остров состоит из лавы, остывшей в различных состояниях расплавленной массы, которая с полным отсутствием какой-либо примитивной субстанции, с её конусообразными холмами, вулканическим туфом и с другими веществами вулканического происхождения, найденными в лаве, явно свидетельствует о том, что остров перенёс извержение вулкана.
Джеймстаун, единственный город на острове, был основан в нижней части глубокого клинообразного ущелья. Он ограничен с обеих сторон бесплодными, огромными, нависающими над ним двумя скалами. С каждой из её вершин и с каждой из её сторон громадные шатающиеся куски скал постоянно угрожают жителям города своей разрушительной силой. Вершина скалы, если смотреть на неё слева со стороны океана, имеет название холм Руперт, а та, что справа, — холм Лэддер. Вдоль первой из этих двух скал проложена крутая и узкая дорога, которую называют окружной. Вдоль второй скалы к загородному поместью губернатора ведёт зигзагообразная хорошая дорога. Первое впечатление от вида города со стороны гавани кажется приятным, особенно для тех, кто долго находился в море, поскольку напоминает им сцену театра с раздвинутым в стороны занавесом.
К городу примыкает залив Джеймса, главная якорная стоянка гавани острова, где самые большие корабли стоят на якоре в полной безопасности, так как ветер в гавани никогда не превышает двух или трёх румбов и всегда дует с острова и благоприятен для мореплавания. Город состоит из небольшой эспланады вдоль морского берега, называемой Морской, и главной улицы, берущей своё начало от Морской эспланады и тянущейся по прямой линии на расстоянии примерно триста ярдов, в конце которой она разветвляется на две небольшие улицы. В городе насчитывается около ста шестидесяти домов, в основном построенных из камня и цементированных грязью, поскольку на острове извести практически нет. Однако главные здания города отштукатурены известью и их крыши покрыты кровельной дранкой. Остальные же дома города покрыты досками и землёй. В городе имеются церковь, ботанический сад, больница, таверна и казармы. Слева от берега гавани стоит «Дворец», городская резиденция губернатора. В городе есть несколько пивоварен, в которых варится пиво, по своему качеству не уступающее нашим лучшим сортам столового пива.
В целом дома имеют внешне аккуратный вид, хотя и лишены многих удобств и уюта, присущих домам в Англии. В большинстве домов их помещения используются под магазины и лавки, а также для сдачи под меблированные комнаты со столом и пансионаты. В магазинах и лавках можно приобрести восточно-индийские и английские товары и продукты, но последние за неимоверные цены. Чай является единственным продуктом, который можно купить по дешёвой цене. Прибыв на остров, мы обнаружили, что запас провизии и необходимых товаров на нём очень скуден. И действительно, предметы первой необходимости можно было достать с большими трудностями и за чрезмерную цену. Нехватка крупного рогатого скота была такова, что забой вола было делом государственной важности. Существовала специальная инструкция, запрещавшая жителям острова забивать свой собственный рогатый скот, не получив сначала официального разрешения на этот счет от губернатора и Совета острова[79]. Островные овцы были маленького размера, каждая весом от двадцати до тридцати фунтов. Баран, если его удавалось купить, стоил от одного шиллинга и шести пенсов до двух шиллингов за фунт. Домашняя птица, в частности, курица, была очень дорога, каждая стоила от шести до десяти шиллингов. Утка — десять шиллингов; гусь — пятнадцать шиллингов; индюк — от одного фунта стерлингов пяти шиллингов до двух фунтов стерлингов. Было очень трудно достать телятину, стоившую два шиллинга за фунт; свинину — один шиллинг и три пенса за фунт. Кочан капусты — от десяти пенсов до полкроны за каждый. Дюжина морковок — один шиллинг. Картофель — от шести до восьми шиллингов за бушель. Дюжина яиц — от пяти до шести шиллингов. Иногда можно было достать горох, но за чрезвычайно высокую цену.
Основной поставляемой рыбой была скумбрия, которая ловилась в избытке. Ловился также тунец, пеламида, бычий глаз и очень редко черепаха. В островных ручьях можно выловить разновидность речных раков, называемых длинными клешнями, а в море — крабов.
На острове есть совсем небольшое количество диких павлинов, куропаток и фазанов, которые представляют собой единственные объекты охоты. Но право охоты за ними было закреплено только за губернатором. В том случае, если кто-либо убьёт одну такую дичь и немедленно не отнесёт её губернатору, то такого охотника ждёт суровое наказание в виде немалого налога. Зайцы на острове не водятся, но есть малое число кроликов.
Оплата за сдаваемую комнату без питания чрезмерно высока: пять шиллингов за ночь для местных жителей и десять шиллингов для пассажиров с прибывающих на остров кораблей. Полный пансион с питанием за один день взрослому человеку обходится в тридцать шиллингов, ребёнку — пятнадцать шиллингов и десять шиллингов — слуге. За эту цену предоставляется сносное питание, включая капельку вина. Английский портер и все вина, за исключением вин с мыса Доброй Надежды, обходятся дорого. Продажа спиртных напитков всех видов запрещена. Козы, которых когда-то на острове было множество и которые наносили большой вред молодым деревьям, почти полностью истреблены. Дома просто кишат крысами и мышами, количество которых кажется неправдоподобным для тех, кто не побывал на острове; и совершаемое ими опустошение не поддаётся описанию. На острове также свирепствуют рои москитов двух видов, первых называют дневными москитами, а вторых — ночными москитами, но укусы и тех и других одинаково мучительны. Помимо массы тараканов на острове обитают и скорпионы, и многоножки, а также и оводы, не дающие покоя рогатому скоту и лошадям. Там, где есть зелёные посадки, обязательно можно встретить нашествие гусениц и червей. Урон, который они наносят молодым зелёным насаждениям, просто невозможно оценить. Говорят, что нередки случаи, когда в одну ночь вся плантация овощей полностью уничтожается гусеницами.
Топлива на острове очень мало и оно очень дорогое. Островитяне вынуждены обращаться к Англии, чтобы им присылали уголь. Материально-технические возможности острова ничтожны, и я могу с полной ответственностью утверждать, что только на одном борту корабля «Нортумберлэнд» было больше ремесленников и механиков, чем на всём острове Святой Елены. Труд оплачивается на острове очень высоко и обычный дневной заработок рабочего равняется одному доллару, а заработок механика — от семи до десяти шиллингов.
Джеймстаун защищён оборонительными сооружениями вдоль берега, в левой части которого (если смотреть со стороны океана) находится пристань. Кроме того, город находится под защитой мощных береговых укреплений на холме Лэддер и на холме Руперт, а также батарей Мундена и Бэнкса. Поперёк береговой эстакады стоят разводной мост и ворота, ведущие на главную улицу, которые запираются на ночь. Корабли с океана подходят к городу, огибая конусообразный холм, именуемый Шугар Лоуф Пойнт, около которого они обязаны выслать на берег шлюпки с тем, чтобы сообщить имена членов команд кораблей, их принадлежность к той или иной стране и т. д., прежде чем они получат разрешение бросить якорь. Помимо этой пристани у самого города, на острове, есть ещё пять или шесть мест на берегу океана, на которые кораблям высадиться практически невозможно, за исключением одного моряка на шлюпке.
Через город протекает мощный ручей, впадающий в океан. Этот ручей снабжает свежей водой город и корабли в заливе. Эта вода, водяной кресс, немного овощей и кружка пива подкрепляют силы тех пассажиров, которым их тощий кошелёк не позволяет рассчитывать на большее.
Население острова (исключая военных) насчитывает около двух тысяч девятьсот душ, из которых примерно семьсот восемьдесят человек — белые, тысяча триста человек — чернокожие, а остальные — ласкары (матросы-индийцы), китайцы и т. д. Белые принадлежат к числу людей английского происхождения или к числу уроженцев Великобритании. Островитяне, однако, весьма ревностно относятся к этим последним, рассматривая их как незваных гостей, которые, в свою очередь, прозвали местных жителей «племенем Ямов». На острове на английском языке говорят с варварским произношением. Обычаи островитян представляют собой смесь английских и тропических обычаев. Они питаются главным образом солониной, рисом и рыбой. Солонину они получают в выделенном количестве со складов Восточно-Индийской компании по сниженным ценам. Свежее мясо является роскошью, которую они редко позволяют себе, за исключением представителей высших классов местного населения, но даже и эти господа с трудом достают такое мясо. Выращенные ими овощи они обычно продают или меняют по бартеру прибывающим кораблям и находящимся на острове войскам. Несколько лет тому назад на острове не было ни одного участка пахотной земли. Однако позднее благодаря стараниям прежнего губернатора, генерал-майора Битсона, появилось несколько таких участков. Большинство жителей города работают лавочниками, они постоянно живут в городе и отправляются на загородную прогулку, чтобы развлечься и отдохнуть. Вообще-то говоря, их умы мало заняты проблемой повышения образования. Те немногие из них, кто получил воспитание в Европе, вернувшись на остров, вскоре проникаются монаршим презрением к своим родственникам и соседям.
Непомерная дороговизна продуктов и других предметов первой необходимости не способствует тому, чтобы жители острова проявляли гостеприимство от всей души. За исключением семьи Балькумов, чужестранец мог только надеяться на проявление заботы со стороны владельца пансиона, в котором он живёт. Некоторые из числа таких владельцев пансионов являются важнейшими персонами на острове. Несколько лет тому назад один из них был вторым человеком в Совете острова. Тем не менее иногда в городе устраиваются вечеринки и даются балы. Благодаря им молодым девушкам острова, имеющим весьма привлекательную внешность, хотя и не очень образованным, не требуются продолжительные ухаживания и настойчивые уговоры, чтобы склонить их покинуть скалу в Атлантическом океане.
Внутренняя поверхность острова представляет собой скопление чередующихся гор и ущелий. Горы по своей высоте разнятся от шестисот до двух тысяч шестисот футов. Самая высокая гора острова, пик Дианы, возвышается над уровнем моря на две тысячи шестьсот девяносто семь футов. Внешний вид всего острова поражает на редкость удивительным контрастом бесплодных пустошей и зелёных лугов, а также большим разнообразием гор и долин. Некоторые части острова состоят из огромных бесплодных серых скал, отделённых друг от друга глубокими уродливыми и выцветшими расселинами, глубиною до несколько сотен футов, с громадным нагромождением стоящих особняком скал, с редкими пятнами зеленеющей травы. Но есть и другие части острова, которые могут гордиться зелеными пастбищами и садами, украшенными деревьями и коттеджами, построенными в долине или на склонах холма. Вид всего этого, а также немногочисленных коров и овец, пощипывающих свежую траву пастбищ, а иногда и лошади, которая пасётся на склонах холмов, несомненно радует глаз путника, уставшего от зрелища находящихся поблизости глубоких ущелий и зияющих пропастей. Подобный контраст вынуждает очевидца считать культивированную часть острова весьма живописной и романтичной.
Вид всего острова, если смотреть на него с вершины гряды Сэнди Бей или с вершины пика Дианы, представляется величественным. Однако большая часть острова — бесплодна и её пустынный вид не вызывает положительных эмоций. И даже значительная часть его территории, которая поддаётся культивированию, в настоящее время заросла колючими кустарниками ежевики, которую несколько лет назад, ради любопытства, посадили на склоне холма. Дороги на острове в основном служат для верховой езды. Они вьются по краю скал и холмов или ведут вверх по крутым склонам холмов и затем через не менее крутые гряды гор, чтобы потом резко опуститься в глубины ущелий. На острове есть только две кареты, принадлежащие губернатору, которые по дороге тащат за собой волы.
Среди наиболее привлекательных и самых приятных мест на острове могут быть упомянуты, во-первых, «Колониальный дом», затем коттедж полковника Смита, резиденция «Розмари Холл», поместье г-на Давтона «Маунт Плезант» с Сэнди Бее, коттедж «Брайерс» и дом мисс Мейсон. Все эти места имели то преимущество, что к ним примыкали прекрасные сады с тенистыми прогулочными дорожками и зелёные лужайки с протекавшими через них полноводными ручьями. Помимо всего прочего, во всех этих местах были построены сравнительно приятные и уютные жилые дома. В частности, «Колониальный дом» с его участком земли рассматривался бы в любой части Европы как красивая и романтичная резиденция.
Для того чтобы читатель не пришёл к выводу, что я склонен преувеличивать красоты этой резиденции, я приведу отрывок с её описанием из последней опубликованной книги об острове. «Продолжив путь примерно в три четверти мили, вы подходите ко входу в «Колониальный дом», официальную резиденцию губернатора острова. Здание резиденции представляет собой большой особняк, не лишённый значительной доли элегантности и изящества. Возведённый с немалым вкусом, особняк содержится в безукоризненном порядке. Для здания подобрано прекрасное место, особняк находится на большом участке возделанной земли, в окружении обширных садов и парка с аллеями красивых деревьев и кустарников, отличающихся большим разнообразием, поскольку они были отобраны в Европе, Азии, Африке и Америке и привезены на остров из самых отдалённых частей всего света, с противоположным по своему характеру климатом. Тем не менее сады и парк буйно разрастаются, ещё более украшая участок резиденции».
От юго-восточного ветра, столь губительного для растительности на открытых участках территории острова, «Колониальный дом» защищён громадными грядами гор[80], образовавших пик Дианы и гору Хэллей и пересекающих весь остров в южном направлении.
Когда стало ясно, что для жилища Наполеона избран Лонгвуд, то это решение вызвало удивление у некоторых жителей острова, так как это место отличалось настолько суровыми погодными условиями и было так подвержено неблагоприятному воздействию природы, что ни одна семья из числа жителей острова не проживала там более нескольких месяцев в году. Но это удивление вскоре ослабло, когда оно сменилось предположением, что Наполеону будет предоставлена подходящая зимняя резиденция с приездом нового губернатора.
Лонгвуд с его однообразным и унылым внешним видом представляет собой большую равнину, расположенную на вершине горного массива в наветренной стороне острова и находящуюся на высоте примерно двух тысяч футов над уровнем моря. На равнине произрастает некоторое количество эвкалиптов, почти все одинакового размера и с одинаковым наклоном, в результате воздействия постоянного юго-восточного ветра. Листья эвкалипта — небольшие, узкие и ограниченные, в основном, концами веточек.
Следовательно, листья эвкалипта не в состоянии преградить путь солнечным лучам. В Лонгвуде отсутствует какой-либо водный источник, поэтому воду привозят в бочках из места, находящегося на расстоянии почти трёх миль от Лонгвуда. На равнине Лонгвуда нет места, которое бы обеспечило тень.
Незащищённый от губительного воздействия юго-восточного ветра, постоянно насыщенный влажным и сырым воздухом, Лонгвуд, находящийся на возвышенной равнине, окутан туманом и мокнет под дождём большую часть года. Почва Лонгвуда состоит из липкого глинозёма, который в мокрую погоду прочно прилипает к обуви пешехода, образуя столь тяжёлую массу глиняной грязи, что практически заставляет его прилагать колоссальные усилия, чтобы сделать очередной шаг. В течение года один месяц или недель шесть стоит прекрасная погода. В период от двух до трёх месяцев преобладает безоблачная погода, когда мощные вертикальные жгучие лучи солнца просто нестерпимы. Остальные семь или восемь месяцев подвластны дождливой и весьма неприятной погоде. Хотя Лонгвуд обычно окутан туманом, но иногда небо становится ясным и лучи солнца сияют в своём мимолётном великолепии. Но затем плотный туман вновь покрывает равнину, и проливной дождь, в одно мгновение вызванный юго-восточным ветром, пронизывает до нитки того, кто решился совершить прогулку на свежем воздухе, введённый в заблуждение обманчивым видом солнечного сияния.
В течение одного дня такие изменения температуры воздуха случаются несколько раз, и они являются одной из причин нездорового климата острова Святой Елены. Из-за того, что почва в Лонгвуде состоит из липкой глины, дождевая вода практически не проходит сквозь поверхность почвы и вся стекает в ближайшие ущелья. Суровость ветра пагубно сказывается на растительности и вместе с разрушительным действием червей и недостатком воды в течение двух или трёх месяцев делает бесплодной любую попытку возделывать сад. Из растений в Лонгвуде больше всего распространен молочай, наиболее неприятный сорняк.
Для того чтобы некоторые читатели не стали предполагать, что я преувеличил неудобства жизненных условий в Лонгвуде, я возьму на себя смелость привести два отрывка из книги «История острова Святой Елены». Книга написана г-ном Бруком, жителем острова в течение почти сорока лет. Он являлся старшим членом островного Совета, в настоящее время он исполняет обязанности губернатора острова, является крупнейшим собственником на острове и гораздо больше склонен к тому, чтобы подчёркивать все достоинства острова, а не указывать на его недостатки:
«Но только в наиболее защищённых местах острова дуб растёт без помех; в открытой же местности юго-восточный ветер, дующий непрерывно в одном и том же направлении, оказывает самое губительное влияние на жизнеспособность дуба, так же как и на другие деревья, неприспособленные к местной почве».
«Губернатор Данбар был неутомим в своих стараниях приумножить ресурсы и богатство острова. Проведённые эксперименты по культивированию овса, ячменя и пшеницы в Лонгвуде породили такие надежды на успех, что там был построен амбар. Но, ввиду последовавшего неурожая, амбар был перестроен в помещение, ставшее резиденцией вице-губернатора. Причину возникшего разочарования предположительно видят или в наступившей засухе, или в специфических особенностях местного климата, или в неплодородной почве, но не, как одно время утверждалось, в опустошительном набеге крыс».
Более убедительного доказательства того, что Лонгвуд является наихудшей и самой неприятной частью острова[81], невозможно привести, чем тот факт, что до того как Наполеон прибыл на остров, в Лонгвуде никто не проживал, за исключением вице-губернатора, который использовал Лонгвуд в качестве своей загородной резиденции ежегодно в течение трёх или четырёх месяцев, а также крайне редких приездов в Лонгвуд фермеров Восточно-Индийской компании, живших там в маленькой лачуге. Никто из обитателей острова никогда в Лонгвуде постоянно не проживал, хорошо зная о всех его неудобств. Этот неоспоримый факт говорит красноречивее всяких слов[82].
Незаслуженная репутация местности с целебным климатом, которой до сих пор пользовался остров Святой Елены, вероятно, возникла в связи с тем, что он был практически неизвестен, за исключением моряков, которые, после длительного плавания, были несказанно рады, подобно морякам Дампира, оказаться хотя бы на каком-нибудь берегу и которые за несколько дней пребывания на острове чувствовали облегчение от цинготных заболеваний, вволю наевшись водяного кресса, в изобилии имевшегося на острове, и от общения с небольшим населением острова, в основном состоявшего из местных уроженцев, которые, конечно, не страдали так сильно, как чужестранцы, от воздействия климатических условий острова, на котором они родились.
До прибытия государственного узника крайне малое число европейцев проживало на острове в течение продолжительного срока. Я могу утверждать, исходя из личных наблюдений, что большинство иностранцев, находящихся в настоящее время на острове, даже офицеры расквартированного здесь полка, становились жертвами приступов, более или менее тяжёлых, дизентерии или гепатита. К сожалению, должен сказать, что и я попал в это число. По мнению медицинских офицеров, климат острова Святой Елены является чрезвычайно пагубным для здоровья человека.
№ I
Корабль его величества «Беллерофон», Торбей, 7 августа 1815
Достопочтенному Виконту Кейту,
адмиралу британского флота,
кавалеру «Ордена Бани» 1-й степени,
командующему флотом
Милорд, вчера граф Бертран сделал мне предложение сопровождать генерала Наполеона Бонапарта на остров Святой Елены в качестве врача (так как врач, который сопровождал его от берегов Франции, не выражает желания проследовать вместе с ним дальше). Я имею честь информировать вашу светлость, что я готов принять это предложение (при условии согласия со стороны вашей светлости) на следующих условиях, а именно, что мне будет разрешено отказаться от предложенной мне должности в том случае, если я посчитаю её несовместимой с моими пожеланиями и вследствие этого представлю своевременное извещение о моём намерении; что то время, когда я буду служить в указанной должности, будет считаться временем прохождения службы в военно-морском флоте его величества с полным денежным содержанием или что мне будет предоставлена тем или иным образом компенсация за подобную потерю служебного времени в качестве врача с полным денежным содержанием, если это случится со мной; что я не буду никоим образом рассматриваться как лицо, зависящее от вышеупомянутого Наполеона Бонапарта, подчинённое ему или получающее от него денежное содержание; что я буду считаться британским офицером, находящимся на службе британского правительства. И, наконец, что мне будет сообщено, как только позволят обстоятельства, какое мне будет назначено денежное содержание, а также каким образом и от кого именно мне предстоит получать его.
Имею честь оставаться, милорд, с величайшим уважением самым покорным и послушным слугой вашей светлости,
Барри Э. О’Мира, врач корабля его величества «Беллерофон».
№ IV
«Колониальный дом», 17 августа 1816
Сэр, во исполнение переговоров, которые я проводил с вами по вопросу о расходах по содержанию поместья в Лонгвуде, я имею честь сообщить вам, что, приложив все усилия для того, чтобы осуществление вышеупомянутых расходов самым разумным образом не сказались на ухудшении условий проживания генерала Бонапарта или кого-либо из числа членов семей его свиты и обслуживающего его персонала (занимаясь этим, я счастлив отметить проявленную вами искреннюю готовность взаимодействовать со мной по этому вопросу), я в настоящее время в состоянии передать вам, для сведения генерала Бонапарта, две ведомости, предоставляющие достаточно точные данные, благодаря которым можно ознакомиться с расчётом вероятных ежегодных расходов в том случае, если положение дел будет оставаться таким же, каким оно было на сегодняшний день.
Ведомость № 1 была предоставлена мне г-ном Иббетсоном, главой департамента хозяйственно-продовольственного снабжения острова; второй документ был подготовлен моим военным секретарём.
Инструкции, которые я получил от британского правительства, предписывают мне принять меры по ограничению расходов на содержание поместья генерала Бонапарта до 8000 фунтов в год. В то же самое время эти инструкции дают мне право принимать к оплате любые, понесённые в дальнейшем, расходы, сверх указанной выше суммы, которые потребуются генералу Бонапарту для обеспечения его стола и других его нужд, при условии, что он предоставит свои денежные фонды, с помощью которых могут быть оплачены все его избыточные расходы.
Поэтому я сейчас вынужден просить вас поставить генерала Бонапарта в известность о том, что у меня нет возможности оплачивать расходы обслуживающего его персонала в его нынешнем составе в рамках предусмотренных инструкций до тех пор, пока я не приму мер для сокращения такой численности этого персонала, содержание которого, естественно, может лишить окружение генерала Бонапарта определённых удобств. Поскольку я уже был предельно откровенно информирован генералом Бонапартом, а также и вами, о том, что в его распоряжении в различных частях Европы находятся денежные средства, с помощью которых дополнительные расходы могут быть оплачены[83], то я имею честь просить вас, чтобы мне сообщили до того, как я приму меры по значительному сокращению численности персонала Лонгвуда, что может оказаться весьма неудобным для генерала Бонапарта и для лиц его свиты, будет ли генерал Бонапарт согласен с принятием подобных мер и не будет ли генерал Бонапарт готов передать в моё распоряжение достаточно значительные суммы, чтобы оплатить возникшие дополнительные расходы, которые в противном случае неминуемо возникнут.
Имею честь, сэр, оставаться вашим покорным слугой,
Х. Лоу, генерал-лейтенант.
Сумма за год (фунты ст., ш., п.)
Поставляется департаментом хозяйственно-продовольственного снабжения
Фураж для 13-ти лошадей ежедневно — 720 ф. 4 ш. 7 п.
Транспортный фураж для мула, перевозившего фураж для лошадей — 46 ф. 10 ш. 2 п.
Оплата солдата, погонщика мула — 27 ф. 7 ш. 6 п.
Итого — 794 ф. 2 ш. 3 п.
Оплата работы английских слуг в поместье генерала Бонапарта
Итого — 675 ф. 0 ш. 0 п.
Оплата общественного транспорта, перевозящего продукты от поставщика в Лонгвуд
Фураж для 8-ми мулов ежедневно — 372 ф. 1 ш. 4 п.
Оплата 2-х погонщиков — 109 ф. 10 ш. 0 п.
Рацион погонщиков — 68 ф. 8 ш. 9 п.
Оплата 2-х солдат сопровождения — 27 ф. 7 ш. 6 п.
Итого — 577 ф. 7 ш. 7 п.
Оплата работы мастеровых в доме Лонгвуда, чьи услуги, возможно, потребуются в течение значительного времени
2 надзирателя, 6 плотников, 4 пильщика, 9 каменщиков, 3 штукатура и 1 маляр
Итого — 939 ф. 17 ш. 6 п.
Поставка г-ном Дефаунтеном, заведующим складами Восточно-Индийской компании столов и другой необходимой мебели
Итого — 2020 ф. 5 ш. 3 п.
Поставка из правительственных складов присланных из Англии товаров.
Вина: Кларе, Вино де Грав, Шампанское, Мадейра
Итого — 2445 ф. 10 ш. 0 п.
г-ном Балькумом, поставщиком расходы на питание и на содержание дома
Итого 11700 ф. 0 ш. 0 п.
Предполагается. Предоставление г-ну Балькуму, поставщику, работающему по найму, пяти процентов надбавки, исходя из вышеупомянутой суммы, за поставку товаров
предстоит добавить
Предполагается. Денежное содержание врачу О’Мира, прикрепленному к генералу Бонапарту и к его свите
предстоит добавить
Итого 19152 ф. 2 ш. 7 п.
Д. Иббетсон,
генеральный управляющий департаментом хозяйственно-продовольственного снабжения
В сумму 11 700 фунтов стерлингов входят установленные расходы на питание английских офицеров, охраняющих Лонгвуд. Ведомость № 2 во всех отношениях аналогична настоящей ведомости с тем единственным исключением, что она не даёт ряда подробностей и итоговая сумма округлена до 19 450 фунтов стерлингов, включая суммы денежного содержания, приложенные в виде меморандума к настоящей ведомости.
№ V
Мясо, включая говядину и баранину (в фунтах) — 82
Домашняя птица (количество штук) — 6
Хлеб (в фунтах) — 66
Масло (в фунтах) — 5
Свиной жир (в фунтах) — 2
Растительное масло (в пинтах) — 3 1/4
Леденцы (в фунтах) — 4
Кофе (в фунтах) — 2
Чай, зеленый (в фунтах) — 1/2
Чай, чёрный (в фунтах) — 1/2
Свечи, восковые (в фунтах) — 8
Яйца (количество штук) — 30
Сахар обычный (в фунтах) — 5
Сыр (в фунтах) — 1
Уксус (в квартах) — 1
Мука (в фунтах) — 5
Солонина (в фунтах) — 6
Дрова для каминов (в английских центнерах) — 3
Портер или эль (в бутылках) — 3
Овощи (по номинальной стоимости) — 1 фунт ст.
Фрукты (по номинальной стоимости) — 10 шиллингов
Конфеты (по номинальной стоимости) — 8 шиллингов
Утки (количество штук) — 8
Индейки (количество штук) — 2
Гуси (количество штук) — 2
Сахар твёрдый (головы) — 2
Рис высшего качества (мешок) — 1/2
Ветчинные окорока (каждый не свыше 14 фунтов) — 2
Уголь (в бушелях) — 45
Рыба (по номинальной стоимости) — 80 шиллингов
Молоко (по номинальной стоимости) — 98 шиллингов
Свежее масло, соль, горчица, перец, каперсы, масло для ламп, горох (не превышающий номинальной стоимости) — 7 фунтов ст.
Шампанское или Вино де Грав (в бутылках) — 1
Мадейра (в бутылках) — 1
Констанция (в бутылках) — 1
Кларе[84] (в бутылках) — 6
После отъезда графа де Лас-Каза и Пионтковского количество мяса, поставляемого в Лонгвуд, было сокращено до 72-х фунтов ежедневно, а количество домашней птицы — до пяти.
Фунты ст. ш. п.
Дюжина яиц — 0 ф. 5 ш. 0 п.
8 фунтов масла по 3 шиллинга за фунт — 1 ф. 4 ш. 0 п.
2 фунта восковых свечей по 3 шиллинга 6 пенсов за фунт — 0 ф. 7 ш. 0 п.
3 курицы по 6 шиллингов за каждую — 0 ф. 18 ш. 0 п.
4 фунта леденцов — 0 ф. 8 ш. 0 п.
2 фунта твёрдого сахара — 0 ф. 6 ш. 0 п.
1 фунт сыра — 0 ф. 3 ш. 0 п.
Овощи — 0 ф. 10 ш. 0 п.
2 фунта солонины — 0 ф. 2 ш. 6 п.
1 фунт свиного жира — 0 ф. 10 ш. 1 п.
бутылка растительного масла — 0 ф. 8 ш. 0 п.
1 фунт риса и один фунт муки — 0 ш. 10 п.
5 фунтов простого сахара — 0 ф. 16 ш. 1 п.
бутылка уксуса — 0 ш. 10 п.
Бумага для кухни и шпагат — 0 ш. 10 п.
4 булки хлеба, каждая по 1 шиллингу 6 пенсов — 0 ф. 6 ш. 0 п.
Итого — 5 ф. 3 ш. 0 п.
Фунты ст. ш. п.
Две индейки — 3 ф. 0 ш. 0 п.
Один ветчинный окорок — 3 ф. 0 ш. 0 п.
Один зажаренный поросёнок — 0 ф. 11 ш. 0 п.
Одна бутылка пикулей — 0 ф. 12 ш. 0 п.
Три бутылки маслин — 0 ф. 14 ш. 0 п.
Итого — 8 ф. 7 ш. 0 п.
Вышеупомянутые данные не приводят расходы, связанные с покупкой французами определённого количества мяса. Еженедельно они закупали от трёх до пяти овец и ежемесячно двух телят.
№ VI
Остров Святой Елены, 9 октября 1816
Ограничения, введённые сэром Хадсоном Лоу и сообщённые в Лонгвуд 9 октября 1816 года, но которые он уже ввёл в практику различными приказами ещё со времени августа этого года. Он никогда не сообщал об этих ограничениях служившим на острове английским офицерам, которым, несомненно, было бы стыдно за их содержание.
Текст предлагаемых изменений в правилах, установленных для лонгвудских военнопленных.
1. Границей для Лонгвуда будет служить дорога, ведущая к «Воротам Хата» вдоль склона горы до сигнального поста охраны около «Дома тревоги».
2. Часовые поставят метки на рубежах, которые всем, без разрешения губернатора, пересекать запрещается, чтобы добраться до Лонгвуда.
3. Будет устранено большинство сторожевых постов на дороге слева от «Ворот Хата», ведущей через Вудридж обратно к Лонгвуду, которой никогда не пользовался генерал Бонапарт со времени прибытия губернатора. Однако он не встретит каких-либо возражений, если пожелает в любое время совершить конную прогулку в этом направлении, заблаговременно информировав об этом дежурного офицера.
4. Если генерал Бонапарт пожелает продлить свою прогулку в каком-либо другом направлении, то офицер из губернаторского штаба (если он будет заранее информирован) будет готов сопровождать его. Если этому офицеру время не позволит сделать это, то его заменит дежурный офицер в Лонгвуде.
Офицеру, наблюдающему за генералом Бонапартом, приказано не приближаться к нему, если этого не потребуют обстоятельства; офицеру приказано осуществлять наблюдение за ним только в силу служебных причин, то есть вести наблюдение за тем, чтобы во время его прогулок не происходило что-либо, что вызывает отклонение от установленных правил, и в этом случае вежливо информировать о подобном отклонении.
5. Действующие уже правила, запрещающие его общение с каким-либо лицом без разрешения губернатора, должны строго соблюдаться. Соответственно, от генерала Бонапарта требуется, чтобы он воздержался от того, чтобы заходить в какой-либо дом или вступать в разговор с лицами, которых он может встретить (за исключением тех случаев, когда он отвечает на приветствия и обычные вежливые обращения к нему), если при этом не присутствует британский офицер.
6. Лица, которые с согласия генерала Бонапарта могут по-прежнему получать разрешение губернатора навещать его, не должны, несмотря на это разрешение, общаться с кем-либо из его окружения, если об этом специально не оговорено при получении санкций на встречу с генералом Бонапартом.
7. С заходом солнца территория сада вокруг Лонгвуда будет считаться той зоной, за пределы которой не разрешается выходить обитателям Лонгвуда. В это время по всей окружности территории сада будут расставлены часовые, но таким образом, чтобы они не беспокоили генерала Бонапарта, наблюдая за ним, если он пожелает продолжить прогулку в саду. С наступлением ночи часовые займут пост у самого здания, как это делалось и раньше, и доступ в дом будет запрещён до следующего утра, когда часовые будут отозваны от дома и из сада.
8. Любое письмо для обитателей Лонгвуда будет вложено губернатором в запечатанный конверт и направлено дежурному офицеру, который, не вскрывая конверт, вручит его тому офицеру из окружения генерала Бонапарта, кому это письмо адресовано. Тем самым этот офицер сможет быть уверенным в том, что никто, за исключением губернатора, не ознакомился с содержанием письма.
9. Ни одно письмо не может быть написано и отправлено, ни одно сообщение не может быть сделано, если не будет соблюдаться порядок переписки, предписанный выше. Запрещается любая переписка в пределах территории острова, за исключением обязательной — с поставщиком продовольствия; послания поставщику должны вручаться в незапечатанном виде дежурному офицеру, которому будет поручено переправлять их по назначению[85].
Настоящие инструкции вступают в силу с 10 октября сего года.
Х. Лоу
№ IX
Лонгвуд, 9 июля 1817
Губернатор!
Я получил пять упаковок, которые вы взяли на себя труд направить мне, содержавших набор шахмат, коробку с сувенирами и две корзинки из слоновой кости, высланные из Кантона г-ном Эльфинстоуном.
Император был удивлён, узнав из вашего письма, что вы считаете, что пересылка всех этих предметов не входит в ваши обязанности. Вы утверждаете: «Если бы я действовал в полном соответствии с установленными правилами, я был бы обязан отложить дальнейшую пересылку всех этих предметов». В этом случае, губернатор, вы бы посчитали уместным удержать у себя все эти вещи.
Но каким правилам отвечает этот поступок? Не потому ли, что все эти предметы не посланы по каналам кабинета министров? Ограничениями, принятыми кабинетом министров, оговорено, что по его каналам должны проходить письма, но не предметы одежды, бюсты, мебель и т. д. Мы постоянно получаем многие вещи, посылаемые нам с мыса Доброй Надежды. Фактически лорд Батхерст в своей речи и вы сами в письмах всегда с возмущением отвергали обвинения в том, что письма, направляемые на остров почтой или другими средствами связи, отправлялись в Лондон, чтобы затем вернуть их обратно на остров. Но это не может и не должно давать вам право удерживать вещи, такие как бюсты, мебель, книги и любые другие предметы, которые не имеют никакого отношения к обеспечению безопасности содержания пленников под арестом.
Может быть, задержка с пересылкой вещей связана с тем, что на сувенирах изображена корона? Но не может существовать правил, которые не доведены до нашего сведения: и, если вам не изменяет память, ничего не мешает нам иметь в нашем распоряжении какие-либо предметы с изображением короны. В противном случае было бы необходимо изготовить новые колоды игральных карт, потому что на тех, что предоставлены нам, имеются короны; столовое бельё и мелкая серебряная посуда, по-прежнему остающиеся у нас, часто попадают в город, но они также отмечены короной.
От кого поступило это правило, которое, как вы говорите, имеет силу? От вашего правительства? Ведь только оно имеет право вводить подобные правила? Ваш кабинет министров заявил на заседании парламента, что он не вводил никаких ограничений, а только принимает меры для их осуществления.
В сущности, и вы не имеете права вводить их.
Император не хочет иметь каких-либо поблажек от кого-либо и не желает быть обязанным чьим-либо причудам, но он имеет право быть ознакомленным с ограничениями, навязанными ему. Ваше правительство, парламент и все нации имеют такое же право. Я поэтому прошу вас, сэр, сообщить нам об этих новых ограничениях; если и существуют подобные ограничения, то они находятся в противоречии с утверждениями лорда Батхерста о том, что нет иной цели, кроме как обеспечение условий безопасности содержания под арестом. Император просит меня заявить протест против существования любого ограничения или правила, которые не сообщаются ему законным путём до того, как они приводятся в исполнение.
Остаюсь ваш и т. п., граф Бертран
№ X
Лонгвуд, 16 июля 1817
Г-ну М. Радович,
канониру корабля «Беэринг»
Я получил, сэр, мраморный бюст юного Наполеона; я передал бюст его отцу, который получил колоссальное удовлетворение, увидев лицо своего сына.
Сожалею, что для вас оказалось невозможным посетить нас с визитом и сообщить нам подробности, связанные с этим бюстом, которые бы представили огромный интерес для отца, находящегося в известном положении. Из писем, которые вы прислали мне, явствует, что скульптор определил стоимость своей работы в 100 фунтов стерлингов. Император дал мне указание передать вам аккредитив на сумму в 300 фунтов стерлингов; разница от общей суммы предназначается для компенсации ваших потерь, которые, как стало известно императору, вы понесли при продаже вашего товара, так как не смогли сбыть его, а также для компенсации морального ущерба, причинённого вам всем этим событием, но которое даёт вам право на высокую репутацию в глазах любого уважаемого человека.
Прошу вас, будьте любезны передать всем людям, задействованным в этом деле, благодарность императора.
Прошу вас подтвердить получение этого письма.
Остаюсь ваш и т. п., граф Бертран
№ ХI
Замок, Джеймстаун, 25 июля 1817
Графу Бертрану
Сэр, я получил ваше письмо от 10-го числа этого месяца. Ваше частое использование в нём титула императора и тон, которым вы выражаете мне ваши чувства, были бы достаточным основанием для того, чтобы не обсуждать содержание письма, поскольку оно адресовано мне в неприемлемой форме, а отослать вас к моему письму от 30 августа 1816 года на имя графа де Монтолона. Однако я не воспользуюсь этим поводом для того, чтобы отказаться от ответа на ваше письмо.
Моя единственная цель написать вам 8-го числа этого месяца заключалась в том, чтобы избежать впечатления от того, что я молчаливо признавал или одобрял использование императорского символа в короне, помещённого повсюду над инициалом Наполеона и обнаруженного на подарках, присланных частным британским подданным и изготовленных на британской фабрике.
Если бы я позволил им пройти мимо меня, не выразив своего отношения к ним, то неизбежно был бы сделан вывод, что я ничего неуместного в них не увидел. Я не знаю, до какой степени этот прецедент мог бы утвердить своё право на существование и какие, в связи с этим, могли бы появиться жалобы в будущем, если бы я недвусмысленно не заявил о причинах, в силу которых я разрешил отправить вам упомянутые предметы.
Лицо, приславшее эти подарки, имеет собственную точку зрения. Но я тоже имею право использовать своё мнение для того, чтобы его точка зрения не была выражена посредством меня. Разрешая отправить эти подарки в Лонгвуд без каких-либо комментариев, кроме тех, что были изложены в моём письме, я достиг пределов того, что можно требовать от меня в отношении пожеланий и надежд генерала Бонапарта.
Вы спрашиваете меня, сэр: «Не потому ли, что все эти предметы не посланы по каналам кабинета министров?»
Я бы посчитал своё поведение полностью оправданным, удерживая их у себя в соответствии с общим характером полученных мною инструкций, даже и без украшений, обнаруженных на них, пока не получил бы разрешения моего правительства передать их по назначению. Направленное вам моё письмо ещё до того, как эти предметы были выгружены с корабля, представляет собой достаточное доказательство того, что я придерживаюсь именно этого принципа, вместо того чтобы ждать инструкций из Англии.
Вы, сэр, обращаете своё внимание на то, что я с возмущением отвергал обвинение в том, что письма, присылаемые на остров почтой или другими средствами связи, отправлялись в Лондон, чтобы затем вернуть их на остров. Со всей определённостью я отвергаю это обвинение, сэр, а также и те обвинения, для которых оно может послужить поводом, потому что в них нет ни правды, ни справедливости. Я оскорблён тем чувством, которое выискивает унижение и причину для упрёка в выражениях моего внимательного отношения. Но я не признаю, что я не имею права возвращать письма в Англию, если я посчитаю это уместным, когда они прибывают на остров по нетрадиционным каналам. Подарки, так же как и письмо, могут угрожать условиям безопасности содержания под арестом и могут стать предметом досмотра, который помешает им в дальнейшем быть использованными в качестве украшений или полезных вещей. Письмо может быть спрятано под клетками шахматной доски или в обложке книги, а также в подкладке пиджака, и я не обязан оказывать доверие лицу, посылавшему эти вещи, независимо от того, кто бы это ни был. Если я разрешал передавать вам посылки, то потому, что был убеждён в том, что они не носят нежелательного характера, и вы, сэр, конечно, не имеете причины жаловаться на тот образ действий, который я использовал в силу предоставленных на моё усмотрение полномочий.
Вы высказываете, сэр, следующую мысль: «Может быть, задержка с пересылкой вещей связана с тем, что на сувенирах изображена корона?» — и вы задаёте вопрос, существует ли правило, запрещающее вам иметь в вашем распоряжении какой-либо предмет с изображением короны.
Конечно, не существует прямого письменного указания, которое запрещает посылать в Лонгвуд какой-либо предмет, украшенный короной, или которое запрещает вам владеть подобной вещью. Но в этом случае возникает вопрос об императорской короне под инициалом Наполеона, когда этот инициал вырезан на какой-либо вещи, покрыт позолотой, гравирован на ней и присутствует почти на всех вещах. Его отречение от престола, Парижский договор и акты британского парламента делают ненужным подобное правило.
Вещи, украшенные императорской короной, которые в настоящее время находятся в Лонгвуде, имели на себе этот знак ещё до его отречения от престола. Я никогда не оспаривал вашего права владеть ими.
Что же касается той части письма, в которой вы цитируете парламентские дебаты, то разрешите мне проинформировать вас, что цитата приводится неточно, в соответствии с теми газетами, которые я видел. Сами газеты не приходят к общему мнению; так как одна пишет о правилах, а другая — об инструкциях, а не об ограничениях, словно и то и другое является одним и тем же.
Вы пишите, сэр: «Вы не имеете права…»
Акт парламента, комиссия, предоставленные мне инструкции в этом отношении являются для меня, сэр, самыми верными путеводителями. Однако разрешите мне добавить, что мои первоначальные инструкции, которые, как вы утверждаете, являются моим единственным руководством к действию, получили гораздо более широкую интерпретацию, чем предполагал бы их строгий и буквальный смысл, в отношении степени личных неудобств, испытываемых в настоящее время генералом Бонапартом.
Вы добавляете: «Император не хочет иметь каких-либо поблажек…»
Я не претендую на право делать генералу Бонапарту поблажки и ещё менее на то, чтобы проявлять самонадеянность, заставляя его становиться жертвой моих причуд. Он не подвергается никаким ограничениям, о которых не знает моё правительство и о которых не может знать весь мир.
Пользуюсь этим случаем, чтобы напомнить вам, что сам генерал Бонапарт во время двух бесед, которые я имел с ним, обратил мое внимание на то, что я, являясь командующим на острове, должен действовать в соответствии с полученными мною инструкциями и выполнять мои обязанности, рассматривая их как приказ, требующий от меня его исполнения: в противном случае он отказался разрешить прямую или общественную инспекцию.
Ваши мнения, высказанные мне, совпадают с моими собственными (принимая во внимание, что все мои действия, даже в случае, когда я стараюсь поступать наиболее доброжелательно, только порождают новые споры). Но когда в мой адрес высказываются такие противоположные мнения, то вам, сэр, будет понятна трудность их согласования.
Имею честь, сэр, оставаться вашим покорным слугой,
Х. Лоу, генерал-лейтенант
№ XII
Лонгвуд, 30 сентября 1817
Губернатор, я поставил в известность императора о том, что позавчера (в воскресенье) вы оказали мне честь посетить меня и сообщить о возникшем у вас беспокойстве по поводу его плохого состояния здоровья, которое, по вашему мнению, объясняется его недостаточным вниманием к физическим упражнениям, в связи с чем вы спросили, почему он не совершает конные прогулки?
На этот вопрос я дал вам тот же самый ответ, к которому прибегал при самых различных обстоятельствах, и сейчас я имею честь вновь повторить вам, что состояние императора, особенно в течение последних шести недель, является чрезвычайно болезненным. Отёк его ног увеличивается с каждым днём. Симптомы цинги, отмеченные в его дёснах, уже таковы, что почти постоянно причиняют ему острую боль. Врачи объясняют усиление этих симптомов отсутствием физических упражнений. Начиная с мая 1816 года, то есть в продолжении семнадцати или восемнадцати месяцев, император ни разу не ездил верхом на лошади, почти что не выходил из своих апартаментов, за исключением тех очень редких случаев, когда он совершал прогулку, проходя примерно восемьдесят метров, чтобы навестить мою супругу. Вы прекрасно знаете, что на самом деле мешало и мешает сейчас императору совершать конные прогулки; а именно, ограничения, введённые 9 октября 1816-го года, которые были введены в действие через шесть недель после вашего приезда на остров. Эти ограничения предусматривают среди прочего запрет для нас разговаривать со встреченными людьми и выслушивать их, а также заходить по пути в какой-нибудь дом; это запрещение заставляет его думать, что в ваше намерение входит искусственное создание для него конфликтной ситуации с часовыми.
Вы сообщили мне, что вы отменили эту часть ограничений, и это действительно так. Адмирал Малькольм, вернувшись с мыса Доброй Надежды, переговорил с вами по поводу этой проблемы, и вы своим письмом от 26 декабря 1816 года отменили эту часть ограничений, то есть три месяца спустя. Но вы несколько раз намекали, что вы считаете себя вправе восстановить это запрещение, так же как и другие ограничения, в равной степени безрассудные.
Ограничения от 8 октября 1816 года, содержащие положения такого же нелепого характера, не отменены. Новые ограничения, которые вы ввели 14 марта 1817 года, предписывают нам не отходить от дороги более, чем на двенадцать футов. Из этого следует, что, если бы император сошёл с дороги или вошёл бы в мой дом, то часовой мог бы выстрелить в него. Император не обязан признавать подобное постыдное обращение с ним. Несколько знатных англичан, находящихся в настоящее время на острове, когда им зачитали это положение правил, введённых губернатором (не будучи знакомыми с текстами ограничений, введённых 9 октября 1816 года и 14 марта 1817 года), порицали императора за то, что он жертвует своим здоровьем, не пользуясь конными прогулками; но, как только до их сведения было доведено содержание упомянутых ограничений, резко меняли свою точку зрения и заявляли, что ни один благородный человек не стал бы вести себя иначе; и что, не претендуя на то, чтобы сравнивать себя с императором, они бы в подобном случае вели себя точно так же, как и он.
Я добавил, что если бы вы пожелали узнать мнение офицеров, проходящих воинскую службу в этой колонии, то вы бы обнаружили, что среди них нет ни одного, который бы не рассматривал ограничения, введёнными вами 9 октября 1816 года и 14 марта 1817 года, как несправедливые, бесполезные и жестокие; и что все они на месте императора поступали бы так же, как и он, рассматривая подобное обусловленное разрешение осуществлять конную прогулку как его абсолютное запрещение.
Я также имею честь сообщить вам, что в соответствии с законопроектом парламента от 11 апреля 1816 года вы не имеете права вводить ограничения: законопроект предоставляет это право только правительству, которое не может передать это право даже одному из его министров и тем более отдельному офицеру. Лорд Батхерст в своей речи в палате лордов в марте месяце заявил, что вы не вводили никаких новых ограничений, что вся его переписка была полна благожелательным отношением к лицам, содержавшимся под стражей, и что в вашем распоряжении находятся те же самые инструкции, что и у вашего предшественника; а ваш предшественник адаптировал ограничения правительства к местным условиям в форме, если и не совсем удобной, но, по крайней мере, вполне терпимой. Подобное положение вещей оставалось на протяжении девяти месяцев, во время которых император регулярно выезжал на конные прогулки, даже принимал некоторых английских офицеров за своим столом и общался у себя с английскими офицерами и жителями острова. И такой порядок содержания императора на острове Святой Елены не был изменён решением вашего правительства. В продолжение этих девяти месяцев никаких недоразумений не происходило и ничто не может оправдать ваше решение поменять ранее существовавший порядок вещей на тот, который был установлен вами. Император будет выходить из своих апартаментов, выезжать на конные прогулки и вернётся к прошлому образу жизни, если вы восстановите ранее существовавший порядок таким, каким он был до времени вашего приезда на остров. Не выполнив этого, вы будете нести ответственность за результаты соблюдения ограничений от 9 октября 1816 года и 14 марта 1817 года, которые вы не имели права вводить и которые для императора равнозначны абсолютному запрету покидать его апартаменты.
Вы говорили мне, сэр, что комната императора слишком мала, что дом в Лонгвуде в целом очень плохой, о чём вы докладывали вашему правительству. Поскольку для императора в прошлом году сооружали шатёр, так как в его распоряжении не было дорожки, по которой он мог бы прогуливаться в тени, то вы предложили соорудить около дома императора солдатский деревянный барак, в котором император мог бы совершать свои прогулки. Я осмелился поставить императора в известность о вашем предложении. Он считает это предложение издевательством (таковы были его слова), вполне в духе всего поведения по отношению к нему в течение этих двух лет. Если этот дом так неудобен для него, то почему бы ему не предоставить один из тех домов на острове, расположенных среди садов, деревьев, там, где есть тень и протекает ручей? Почему его оставляют в этом месте с невозделанной землёй, незащищённом от ветров и не имеющем ничего такого, что бы могло способствовать сохранению жизни?
Разрешите мне, сэр, заявить для вашего сведения, что, если вы не отмените введённые вами ограничения от 9 октября 1816 года и от 14 марта 1817 года и если вы не восстановите положение вещей, каким оно было во времена адмирала, то император не сможет выйти из своих апартаментов. Император считает и будет считать этот порядок, установленный вашими ограничениями, как желание с вашей стороны вызвать его смерть. Он находится полностью в вашей власти. Вы можете заставить его умереть от болезни; вы можете заставить его умереть от голода; для него будет благом погибнуть от выстрела из мушкета.
Если вы соберёте вместе военных и морских офицеров, проходящих службу на этом острове, и ведущих военных врачей, то все они в один голос заявят, что ваши инструкции позорны и постыдны и что любой благородный человек скорее бы умер, чем признал их; что они не имеют никакого значения для безопасности содержания пленных; что они, наконец, просто незаконны. Текст законопроекта британского парламента и речь вашего министра не оставляют и тени сомнения в этом вопросе. Военные врачи скажут вам, что более нельзя терять время: возможно, через три или четыре недели будет уже слишком поздно; и хотя от этого великого человека отвернулась судьба и для лжи и клеветы против него распахнуты двери, тем не менее все народы подадут свой громогласный голос возмущения; ибо здесь есть несколько сотен людей, которые засвидетельствуют, что всё, что творилось на острове, имело своею целью лишить жизни великого человека.
Сэр, я всегда старался говорить вам об этом более или менее убедительно.
Говорить с вами об этом я более не буду, ибо все ваши отрицания, хитрости и доводы абсолютно бессмысленны.
Вопрос к вам выражается в двух словах: хотите вы или нет убить императора? Если вы будете упорствовать в вашем поведении, то вы ответите на этот вопрос утвердительно; и, к несчастью, ваша цель, вероятно, будет достигнута после нескольких месяцев агонии великого человека.
В заключение разрешите мне ответить от имени офицеров, которые находятся здесь с императором, а также от меня лично, на ваши письма от 29 и от 26 июля этого года. Сэр, вы заблуждаетесь в оценке нашего характера: угрозы не властны над нами. Находясь на его службе, мы в течение двадцати лет храбро смотрели в лицо любой опасности. Добровольно оставаясь на острове Святой Елены, пребывая в самых ужасных жизненных условиях и испытывая на себя самые странные поступки с вашей стороны, мы жертвуем великому человеку нечто большее, чем наши собственные жизни и жизни членов наших семей. Безразлично относясь к вашим угрозам и к вашим выпадам в наш адрес, мы продолжим выполнять свой долг; и если бы возникли какие-нибудь поводы для жалоб на нас вашему правительству, то мы не сомневаемся, что принц-регент, лорд Ливерпуль и многие другие почтенные джентльмены, входящие в состав вашего правительства, прекрасно знали бы, как оценивать их. Они относятся к нам с уважением, благодаря тому священному уходу за великим человеком, который мы выполняем; и даже если бы мы предвидели, что нам предстоят гонения, то и в этом случае мы были бы верны нашему принципу: «Исполняй свой долг, что бы ни случилось».
Имею честь быть, губернатор, вашим покорной слугой,
граф Бертран
№ XIII
Лонгвуд, 22 марта 1818
Милорд, г-н Киприани, управляющий поместьем императора в Лонгвуде, скончался в Лонгвуде 27 февраля 1818 года в четыре часа дня. Он был погребён на протестантском кладбище острова Святой Елены, и священнослужители этой церкви оказали ему такое же внимание, какое было бы оказано любому из их прихожан. Были приняты меры, чтобы в свидетельстве о смерти, которое я вышлю вам (но вместо которого сейчас может служить выписка из моего письма), было указано, что он умер прихожанином апостольской и римской церкви. Священник церкви этого острова с готовностью бы обслужил его в момент наступления смерти, но он хотел бы иметь в свои последние минуты около себя католического священника; но так как у нас здесь нет такого священника, то он дал понять, что не хочет священника другой религии.
Я был бы счастлив, если бы вы ознакомили нас с обрядами католической церкви по этой проблеме. В частности, разрешает ли католическая церковь английскому священнику обслуживать умирающего католика. Мы не находим слов, чтобы достойными образом отблагодарить священников этого острова за проявленные ими энергию и рвение в связи с происшедшим событием.
Киприани скончался от воспаления кишечника. Он умер в пятницу, а в предыдущее воскресенье прислуживал императору, не предчувствуя никакой беды. Несколько дней тому назад в Лонгвуде скончался ребёнок одного из слуг графа де Монтолона. На днях от той же болезни скончалась горничная. Это всё результат нездорового климата этого острова, где доживают до старости немногие. Местные жители, но особенно европейцы, умирают в результате того, что становятся жертвами заболеваний печени, дизентерии и воспаления кишечника. В подобных обстоятельствах мы испытываем ежедневную необходимость в священнике нашей веры. Вы — наш епископ, мы хотели бы, чтобы вы прислали нам французского или итальянского священника. Пожалуйста, подберите нам хорошо образованного человека, лет под сорок, с ровным характером и не с головой, наполненной антигалликанскими принципами.
Обязанности управляющего поместьем Лонгвуда поручены г-ну Пьеррону; но он очень болел и хотя в настоящее время выздоровел, но его состояние здоровья всё ещё плохое. Повар находится в таком же положении. Было бы необходимо, чтобы или вы, или принц Евгений, или императрица послали бы нам управляющего поместьем, а также французского или итальянского повара из тех, кто служил в обслуживающем персонале императора или членов его семьи.
В приложении к этому письму ваше преосвященство найдёт, во-первых, бумажник г-на Киприани с бумагами А. и Б. Во-вторых, булавку, которую он обычно носил, и которую, по моему мнению, следует отправить его жене. В-третьих, всю денежную сумму, принадлежавшую ему, а именно 8287 франков, и кредитную карточку на эту сумму, дающую его наследникам право распоряжаться ею. Зная, что вы заботитесь о его сыне, а также то, что его дочь находится с мадам Мер, император хотел бы знать, какое состояние оставляет Киприани, так как, судя по всему, он инвестировал значительные фонды в Генуе, чтобы обеспечить будущее своих двух детей.
Я не стану огорчать вас описанием состояния здоровья императора, которое весьма неважное. Однако оно не стало худшим после жаркого сезона. Полагаю, что эти подробности следует скрыть от мадам Мер. Не верьте лживым сообщениям, которые распространяются в Европе. Имейте в виду, что, как правило, и это является единственной правдой, император в продолжение двадцати двух месяцев не покидал своих апартаментов, за исключением весьма редких визитов к моей жене. Он ни с кем не виделся, за исключением двух или трёх французов, живущих здесь, а также английского посла в Китае.
Я прошу ваше преосвященство передать мои чувства уважения мадам Мер и членам семьи императора.
С самыми лучшими пожеланиями,
граф Бертран
№ XIV
Державы, которые подписали договор в Париже, воссоединившись на конгрессе в Вене и узнав о побеге Наполеона Бонапарта и о его насильственном вторжении во Францию, находясь в моральном долгу перед собственным достоинством и перед общественным порядком, обязаны провозгласить декларацию чувств, которые заставило их испытать это событие.
Нарушив таким образом конвенцию, которая определила остров Эльбу местом его пребывания, Бонапарт уничтожил единственное законное право, с которым было связано его существование. Появившись вновь во Франции с планами возрождения беспорядков и разрушений, он лишил себя защиты законов и ясно показал перед лицом всего света, что с ним не может быть ни мира, ни перемирия.
Вследствие этого державы объявляют, что Наполеон Бонапарт поставил себя вне гражданских и социальных отношений; и что, в качестве врага и нарушителя спокойствия в мире, он подлежит общественному возмездию!
Затем следуют подписи:
Австрия — Князь де Меттерних
Барон де Вессемберг
Испания — П. Гомес Лабрадор
Франция — Князь де Талейран
Герцог д’ Альберт
Латур Дюпэн
Граф Алексис де Ноэль
Россия — Граф Разумовский
Граф Штакельберг
Граф Нессельроде
Великобритания — Веллингтон
Клэнкарти
Кэткарт
Стюарт
Португалия — Граф Пальмеда
Салдана
Лобо
Пруссия — Князь Гарденберг Барон Гумбольдт
Швеция — Ловенхиельм
№ XV
4 августа 1815
Настоящим я со всей серьёзностью протестую перед небесами и человечеством против нарушения моих самых священных прав, лишающих меня свободы и допускающих силу в отношении моей личности. Я по своей воле вступил на борт «Беллерофона». Я — не пленник, я — гость Англии.
Как только я вступил на борт «Беллерофона», я оказался среди британского народа. Если правительство Англии, давая указания капитану «Беллерофона» принять меня и мою свиту, только хотело заманить меня в ловушку, то оно лишилось своей чести и запятнало свой флаг.
Если подобный замысел осуществится, то в будущем для англичан будут напрасными их лояльность, их законы и их свобода. Доверие к Англии будет утеряно вместе с гостеприимством «Беллерофона». Я взываю к истории; она расскажет о том, как враг, воевавший против британского народа, пришёл к нему по своей воле, подвергаясь ударам судьбы, чтобы найти приют под защитой его законов. Какое ещё большее доказательство своего уважения и доверия к британскому народу он мог бы представить? И как же Англия ответила на это проявление величия его души? Она сделала вид, что протягивает этому врагу радушную руку: и, когда он чистосердечно отдался Англии по собственной воле, она безжалостно убила его.
Наполеон
№ XVI
1. Капитаны кораблей уважаемой Восточно-Индийской компании и шкиперы или капитаны всех торговых судов, которым разрешается бросить якорь у этого острова, не должны сходить на берег или давать согласие кому-либо, имеющему отношению к их судну или кораблю, сходить на берег до тех пор, пока настоящие правила не будут сообщены на борт вышеуказанных кораблей. Они должны сначала выслать список всех лиц, находящихся на борту корабля, губернатору — с тем, чтобы он мог указать, кому из перечисленных в списке лиц разрешается сойти на берег.
2. Сначала от всех капитанов кораблей или судов требуется, чтобы они заявили, имели ли место на борту корабля какие-либо заболевания, инфекционные или иные, и были ли какие-либо случаи со смертельным исходом во время плавания, и если они были, то необходимо констатировать их причины.
3. Все письма и пакеты, адресованные лицам, проживающим на острове, за исключением той корреспонденции, которая прибывает по каналам регулярной почты, должны быть вручены офицеру, доставившему настоящие правила. Офицер передаст полученную им корреспонденцию секретарю правительства острова, к которому впоследствии можно обращаться за получением адресованной корреспонденции.
4. Если капитан, один из его пассажиров или кто-либо на борту корабля имеет при себе какое-либо письмо, пакет и тому подобное, адресованное одному из иностранцев на острове, то им предлагается информировать об этом самого губернатора, вручив ему записку или письмо в конверте с корреспонденцией иностранцу, или ждать указаний губернатора, если посылка иностранцу имеет значительные размеры.
5. Только капитан корабля, после того как настоящие правила будут прочитаны и обнародованы на борту корабля, может сойти на берег, если он этого пожелает, и направиться прямо к губернатору в том случае, если он находится в городе. В противном случае капитан должен дать знать о своём прибытии в канцелярию заместителя начальника штаба губернатора.
6. Капитаны, офицеры и любые пассажиры, которым будет разрешено сойти на берег, обязаны сразу же направиться в канцелярию мэра в городе, чтобы прочитать правила пребывания на острове и затем расписаться под ними, прежде чем отправиться к месту своего размещения или навестить любой дом или любое лицо, проживающее на острове.
7. Ни один пассажир корабля и ни одно лицо, сошедшее с корабля, не могут без разрешения покинуть долину Джеймстауна. Для получения такого разрешения они должны посетить канцелярию заместителя начальника штаба губернатора.
8. Ни одно лицо, имеющее разрешение сойти на берег, не может посетить Лонгвуд или места, пограничные с ним, и иметь любой устный или письменный контакт с иностранцами, удерживаемыми на острове, без того, чтобы непосредственно информировать губернатора о своих намерениях, и без получения его согласия на подобные действия. Если некто должен получить письмо или пакет от вышеупомянутых иностранцев, то он обязан немедленно принести эту корреспонденцию губернатору, прежде чем ответить на это письмо. То же самое правило распространяется в отношении любого пакета, который может быть получен или который попытаются передать.
9. Капитаны кораблей Восточно-Индийской компании и шкиперы всех типов торговых судов, которым позволено бросить якорь у берега острова, не должны разрешать кому-либо сойти на берег с корабля или судна без согласия на то со стороны губернатора. Ни один пассажир не должен оставаться на ночь на острове, не поставив об этом в известность губернатора.
10. Ни один корабль, принадлежащий Восточно-Индийской компании, и ни одно торговое судно не должны разгружаться на пирсе в период между восходом солнца и его заходом и в любое время дня без присутствия при этом уполномоченного офицера. Если корабль по каким-либо причинам получает приказ не причаливать к пирсу, то он должен принять меры для того, чтобы стоять на некотором расстоянии от гавани и тем самым позволить другим кораблям причалить к пирсу без всяких помех. Корабли, занятые погрузкой или разгрузкой товаров, должны делать это как можно скорее, чтобы не стать помехой для других кораблей.
11. Все корабли, принадлежащие Восточно-Индийской компании, и любые другие торговые суда должны покидать остров с заходом солнца, а пассажиры должны немедленно возвратиться на борт своих соответствующих кораблей. Нарушение этого правила возможно только в силу обстоятельств, определённых адмиралом.
12. Ни одна лодка, принадлежащая кораблю Восточно-Индийской компании или любому другому кораблю, не может плыть к берегу вместе со своим кораблём. Лодка с одного корабля не может направляться к другому кораблю. Ни одна лодка не может причаливать в каком-либо месте острова, кроме гавани.
13. Ни один корабль Восточно-Индийской компании и ни одно торговое судно не могут бросить якорь у берегов этого острова между заходом солнца и его восходом или поднять паруса для отплытия после захода солнца и перед десятью часами утра. Нельзя поднимать паруса до тех пор, пока не будет вывешен флаг, разрешающий плавание для каждого судна и корабля в отдельности.
14. Если флаг, разрешающий отплытие корабля снимается с якоря недостаточно быстро, то он не должен отправиться в плавание до тех пор, пока сигнал к отплытию не будет повторён на следующий день в десять часов утра.
15. Самым настоятельным образом запрещается всем капитанам кораблей или торговых судов позволять любой рыболовецкой лодке с острова приближаться к его кораблю без разрешения, подписанного губернатором, или позволять любой лодке, принадлежащей его кораблю, приближаться к пронумерованным суднам островных рыбаков или общаться с ними.
16. Если рыболовецкое судно стремится пообщаться с кораблём, направляющимся к острову и уже стоящим на якоре, или если оно общается с лодкой, принадлежащей этому кораблю, то капитану корабля или его офицерам надлежит немедленно информировать об этом губернатора и заместителя начальника штаба губернатора, записав номер рыболовецкого судна и задержав его, если этого требуют обстоятельства.
17. Капитанам кораблей, везущих с собой газеты, которые могут содержать последние новости, достойные интереса, надлежит отдать эти газеты липу, прибывшему на корабль для оглашения текста настоящих правил, чтобы это лицо передало газеты на просмотр губернатору, который затем возвратит их в полном объёме капитану корабля.
18. Запрещается выгружать на берег острова порох, не оповестив об этом сначала специального уполномоченного по снабжению и дежурного чиновника с тем, чтобы можно было бы принять необходимые меры для предотвращения несчастных случаев.
19. Без разрешения секретаря правительства острова нельзя выгружать на берег острова жеребцов, кобыл и меринов.
20. Без разрешения секретаря правительства острова нельзя выгружать на берег вина любых сортов.
21. Поскольку уважаемый совет директоров запретил импорт спиртных напитков из Индии, то в соответствии с существующим приказом любое лицо, нарушающее этот запрет, обязано выплатить штраф в размере 100 фунтов стерлингов. Бренди, медовый напиток, ром из Вест-Индии, крепкие напитки и т. п. могут выгружаться на берег острова только в очень ограниченном количестве после получения на это разрешения и оплаты налога в размере 12 шиллингов за галлон.
22. Китобойным кораблям не разрешается метать свои гарпуны, пока они находятся вблизи острова. За нарушение этого правила определён штраф в размере 50 фунтов стерлингов. Половина этой суммы будет выдана в виде награды лицу, сообщившему о нарушении этого правила.
23. Все капитаны и шкиперы торговых судов должны объявлять о своём отплытии из гавани острова заранее, за 48 часов до отплытия и сделать то же самое, если они пожелают задержаться на более продолжительное время, чем это было согласовано. Это заявление об отплытии должно быть представлено в письменной форме секретарю правительства и дежурному чиновнику между десятью часами утра и двумя часами дня. Топсель должен находиться в опущенном состоянии во время стоянки корабля и подниматься только за 48 часов до его отплытия из гавани.
24. Ни один капитан или шкипер корабля не должны оставлять на острове какое-либо лицо или забирать с собой с острова какое-либо лицо, не обратившись в письменной форме к губернатору с просьбой о соответствующем разрешении.
25. Ни один капитан, пассажир или любое лицо, находившееся на борту корабля уважаемой Восточно-Индийской компании или на борту других кораблей, бросивших якорь у острова, не должны брать с собой письма или пакеты для их пересылки в Европу, на мыс Доброй Надежды, в Южную Америку или куда бы то ни было, за исключением той корреспонденции, которая направляется регулярной почтой или которая была вручена им секретарём правительства или заместителем начальника штаба губернатора.
Капитан корабля или шкипер торгового судна обязаны подписать прилагаемую форму и возвратить её офицеру, зачитавшему ему эти правила.
№ XVII
Джеймстаун, 16 мая 1818
Как было установлено, одному жителю острова был вручен подарок по поручению и от имени одной из иностранных персон, содержащихся под арестом в Лонгвуде. Этот подарок вскоре был возвращён обратно в результате того, что житель острова, которому был вручён подарок, осознал, что принятие подобного дара без ведома губернатора и без его санкции явилось бы нарушением действующих прокламаций губернатора. Тем не менее, губернатор считает целесообразным, дабы укрепить статус вышеупомянутых прокламаций (так же как и общих предписаний, содержащихся в распоряжении губернатора от 16 апреля 1816 года), обнародовать новое официальное заявление.
Настоящим вниманию всех офицеров, жителей острова и любых других лиц, проживающих на этом острове и посетивших его, предлагается официальное заявление о том, что им запрещается (в развитие прокламации от 15 октября 1815 года и, далее, официального объявления от 11 мая и прокламации от 28 июня 1816 года, предусматривавших запрещение осуществления любой переписки и любого вида контакта с иностранными персонами, содержащихся под арестом, за исключением только той переписки и такого контакта, которые время от времени санкционируются губернатором) получать, вручать и предлагать свои услуги в качестве канала для передачи вообще любых сообщений от и для вышеупомянутых персон без ясных на то санкций губернатора. В тех случаях, когда осуществляется несанкционированная передача сведений или она может осуществиться или была сделана попытка её осуществить, то тем лицам, которым станет об этом известно, надлежит немедленно доложить об этом губернатору (и, если потребуется, ближайшему представителю гражданской или военной власти) для того, чтобы в связи с этим можно было принять необходимые меры. В противном случае лица, не доложившие об этом, будут рассматриваться как соучастники преступлений вышеупомянутых иностранных персон, и, соответственно, нести за это ответственность.
Хадсон Лоу,
генерал-лейтенант, губернатор, командующий войсками острова
По приказу его превосходительства, Г. Горрекер, военный секретарь
По указанию губернатора, в совете острова, Т. Х. Брук, секретарь правительства острова
№ XVIII
Лонгвуд, 20 июня 1818
Подполковнику Ласкеллю, командиру 66-го пехотного полка
Сэр, лейтенант Риердон вашего полка поставил меня в известность о том, что вы поручили ему уведомить меня, «что подполковник сэр Томас Рид информировал вас о том, что его превосходительство губернатор был очень недоволен тем, что я являюсь почётным членом офицерского клуба 66-го пехотного полка и что я недостоин общества офицеров полка; что вы видели часть переписки между губернатором и мною, которая была отправлена в Лондон; и что вы считаете, что я раздражаю губернатора. Что вы намерены созвать собрание офицеров, чтобы дать мне понять, что пока конфликт между губернатором и мною не будет улажен, я буду лишён чести обедать вмести с офицерами полка в офицерской столовой. И что вы полагаете, что лейтенанту Риердону следует в частном порядке намекнуть мне, что я должен без лишнего шума отказаться от членства в офицерском клубе».
Переданное вам заявление о том, что я совершил нечто такое, что делает меня неподходящей личностью для общества офицеров 66-го пехотного полка, я расцениваю как подлую и коварную клевету. Я не раз требовал и в настоящее время готов предстать перед любым компетентным судом чести для того, чтобы отвергнуть любое обвинение, которое может быть предъявлено мне, будь то в виде каких-либо подозрений, сомнительных предположений, доносов шпионов, необоснованных доказательств или в виде прямых обвинений. Если есть какое-либо основание, на котором можно построить подобные клеветнические обвинения, то почему бы, на что каждый англичанин имеет право в соответствии законами своей страны, не отдать меня под суд. Но его превосходительство сам в письме, написанном под его диктовку, отказался «предъявить какие бы то ни было обвинения против моего поведения в целом». Только благодаря честному и открытому расследованию того позорного источника, из которого порождаются тайные обвинения против меня, можно будет совершенно точно выяснить и продемонстрировать, что отказ смириться с устными инсинуациями, противоречащими моей совести, как раз и явился причиной гнева и гонений, которым я подвержен.
Пусть те, кто сознаёт свою вину, прибегает к нечестным и тайным поступкам. Гласности, а не утаивания, вот чего я желаю; и для того чтобы уладить конфликт между губернатором и мною, я буду чрезвычайно счастлив представить всю упомянутую переписку офицерам 66-го пехотного полка для их тщательного рассмотрения и обсуждения. Я готов полностью согласиться с их решением, принятым на основании их расследования. Я также безоговорочно готов предстать перед любой проверкой моего поведения, которая может посчитаться необходимой, проведённой вами или офицерами.
Я слишком преисполнен доверия к справедливости, честности и великодушию, которыми так известен офицерский корпус 66-го пехотного полка, чтобы предположить, хотя бы на минуту, чтобы офицеры полка приговорили, не выслушав, к бесчестью (наказание худшее, чем смерть) офицера, которого они считали достойным ежедневно сидеть рядом с ним за общим столом. Поэтому, сэр, я прошу снизойти до встречи со мной, чтобы выслушать мою защитную речь до того, как принять своё решение, если только его превосходительство в самом деле не отдаст приказа о моём изгнании из офицерского клуба. В этом случае я прошу вручить мне копию приказа в письменном виде, чтобы показать, что подобная мера была принята в результате своевольного акта одной личности, а не в результате мнения весьма уважаемого корпуса офицеров.
Остаюсь, сэр, с глубоким уважением к вам.
Ваш покорный слуга,
Барри Э. О’Мира, врач
№ XIX
Рим, 11 июля 1821
Милорд, аббат Буонавита, только что приехавший в Рим с острова Святой Елены, который он покинул 17 марта этого года, привёз с собой весьма тревожные новости о состоянии здоровья императора. Я прилагаю копии писем, которые опишут вам во всех подробностях его физические страдания. Болезнь, которой он поражён, для острова Святой Елены является смертельной. От имени всех членов семьи я требую от английского правительства смены для него климата. Если в столь справедливой просьбе будет отказано, то это будет означать, что он приговорён к смерти. В этом случае я требую разрешения выехать на остров Святой Елены для того, чтобы присоединиться к императору и присутствовать при его последнем вздохе.
Прошу вас, милорд, проявить великодушие и, не мешкая, ходатайствовать об этом разрешении у вашего правительства, чтобы я смогла, как можно скорее, выехать на остров Святой Елены. Так как моё состояние здоровья не позволяет мне путешествовать по суше, то я планирую взойти на борт корабля в Чивитавеккья, чтобы оттуда проследовать в Англию и там воспользоваться первым же кораблём, который может отплыть на остров Святой Елены. Я бы хотела, чтобы мне разрешили посетить Лондон, чтобы там обеспечить себя всем, что может оказаться необходимым для столь продолжительной морской поездки.
Если ваше правительство будет упорствовать в том, чтобы страдания императора закончились его смертью на скале Святой Елены, то я умоляю вашу светлость, чтобы вы смогли дополнительно позаботиться о том, чтобы устранить все трудности, которые могут задержать мой отъезд, не дав королевскому двору в Риме возможности воспрепятствовать моим планам. Я знаю, что минуты императорской жизни сочтены, и я буду вечно укорять себя за то, что я не всё сделала в моих силах, чтобы облегчить его последние часы и доказать мою абсолютную преданность его августейшей особе. Если в момент моего отъезда в Легхорне окажется какой-нибудь английский корабль, то я прошу оказать мне любезность, разрешив кому-нибудь забрать меня из Чивитавеккья и привезти в Англию.
Я прошу вас, милорд, чтобы вы передали моё письмо и приложенные копии г-же Холланд, которая всегда доказывала свой огромный интерес к судьбе императора. Прошу вас заверить её в моих искренних к ней чувствах дружбы и принять мои уверения в таких же чувствах к вам.
Принцесса Полина Боргезе
От д-ра Антоммарки синьору Симеону Колонна
Остров Святой Елены, 17 марта 1821
Мой дорогой друг, в своём предыдущем письме от 18 июля прошлого года я сообщал вам о болезни (хронический гепатит), свойственной этому климату, которая поразила императора Наполеона, о коренном улучшении, достигнутом в результате продолжительного и разумного лечения, а также о тех последующих значительных изменениях к худшему, в связи с которыми коренное улучшение состояния больного сменилось нынешним положением дел. Продолжая сейчас отчитываться о его состоянии, я должен сообщить вам, что со времени, упомянутого мною, его величеству с каждым днём становится все хуже. Таким образом, за шесть месяцев заболевание желчных внутренних органов развилось до такой степени, что функции печени полностью нарушены и, соответственно, функции пищеварения почти отсутствуют.
В настоящее время болезнь его величества довела его до такого состояния, что он не может принимать какую-либо пищу, за исключением жидкостей, которые быстро проходят почти в неизменном виде по каналам сосудов лимфатической системы. Нет уверенности в том, что это питание жидкостями хорошо воспринимается желудком его величества, ибо часто через несколько минут после приёма таких жидкостей или в то время, когда он её глотает, организм больного отвергает её в виде рвоты. В связи с этим и для того, чтобы снять с себя чрезвычайную ответственность, я открыто заявляю императорской семье и всей Европе, что развитие болезни, которая поразила его величество в этом климате (который является непосредственной причиной подобного заболевания), и симптомы, сопровождающие её, приняли самый серьёзный характер.
Дорогой друг, искусство медицины ничего не может поделать с влиянием климата; и если английское правительство не поспешит вывезти его из этой пагубной местности, то его величество вскоре, я говорю это с душевным страданием, отдаст последнюю дань земле.
Подобное преступление, конечно, не может быть приписано медицине, но целиком и полностью той несчастной и безысходной ситуации, которая была определена для его величества.
Продолжайте поддерживать со мной связь. Прошу вас передать мои самые глубокие чувства уважения нашим общим друзьям.
Ваш преданный друг,
Ф. Антоммарки
P.S. Я привожу вышеупомянутые неопровержимые факты, чтобы возразить необоснованным утверждениям английских газет относительно хорошего состояния здоровья его величества, в котором, как пишут эти газеты, он здесь пребывает.
Лонгвуд, остров Святой Елены, 17 марта 1821
Госпожа, император поручил мне довести до сведения вашего высочества отчёт о прискорбном состоянии его здоровья; заболевание печени, от которого он страдает в течение нескольких лет и которое свойственно и смертельно для острова Святой Елены, за последние шесть месяцев достигло ужасающего состояния. Облегчение, которое он почувствовал, благодаря лечению д-ра Антоммарки, продолжалось недолго: с середины прошлого года вернулось обострение болезни и с каждым днём наблюдается упадок его сил; слабость его организма стала чрезвычайной; он едва переносит усталость от поездки в карете в течение тридцати минут, когда лошади еле бредут по дороге; в своей комнате он не может ходить без поддержки. К заболеванию печени присоединилась другая болезнь, также свойственная этому острову. Серьёзно поражён кишечник; функции пищеварения более не действуют, и желудок отвергает всё, что принимает. Продолжительное время император не может есть ни мясо, ни хлеб, ни овощи; он поддерживает свои силы только супами и желе.
В прошлом сентябре граф Бертран написал лорду Ливерпулю письмо с требованием, чтобы императора перевезли в другой климат, а также сообщил ему о том, что императору абсолютно необходима минеральная вода. Я передал г-ну Буонавита копию этого письма. Губернатор, сэр Хадсон Лоу, отказался дать разрешение отправить это письмо своему правительству под пустым предлогом того, что в письме его величество именуется императором. Сегодня г-н Буонавита отбывает в Рим. Он испытал на себе жестокие условия климата острова Святой Елены; проживание здесь в течение двенадцати месяцев будет стоить ему десяти лет жизни. Письма, которые д-р Антоммарки передал ему для его преосвященства кардиналу Фешу, ознакомят ваше высочество с новыми подробностями болезни императора.
Лондонские газеты продолжают публиковать сфабрикованные письма, отправленные якобы с острова Святой Елены[86], с явным намерением навязать свою точку зрения Европе. Император полагается на ваше высочество, чтобы вы довели до сведения ряда влиятельных англичан истинное положение вещей.
Император умирает на этой скале, оставаясь абсолютно беззащитным. Его агония ужасна!
Ваш покорный слуга, госпожа,
граф де Монтолон
Лонгвуд, 2 сентября 1820
Милорд, я имел честь писать вам 25 июня 1819 года, чтобы сообщить о состоянии здоровья императора Наполеона, заболевшего хроническим гепатитом, начиная с октября 1817 года.
Прибывший на остров в конце прошлого сентября доктор Антоммарки применил лечение, которое сначала принесло некоторое облегчение пациенту, но затем доктор заявил, как это можно увидеть в его врачебных журналах и отчётах, что состояние пациента стало таким, что лекарства более не могут бороться с жестокостью климата; что император нуждается в минеральных водах; что всё то время, пока он будет оставаться в этом обиталище, ему будет сопутствовать только состояние мучительной агонии; что возвращение в Европу является единственным средством, с помощью которого он сможет получить какое-то облегчение. С тех пор как он стал жертвой наихудшего обращения с личностью, его силы истощены пятилетним пребыванием в условиях этого ужасного климата.
Император Наполеон поручил мне настоятельно просить вас, чтобы его перевезли в условия европейского климата, так как это будет единственным способом приуменьшения зла, жертвой которого он является.
Граф Бертран
P.S. Я имел честь направить это письмо сэру Хадсону Лоу в распечатанном виде, которое он вернул мне с приложенным письмом. Это обстоятельство вынудило меня направить моё письмо непосредственно в ваш адрес. Полагаю, что губернатор сделал копию с моего письма, которую он направит вам, сопроводив её собственными замечаниями. Думаю, что это обстоятельство не станет причиной какой-либо задержки доставки моего письма вам.
Граф Бертран
«Колониальный дом», 2 сентября 1820
Сэр, инструкции губернатора не позволяют мне принимать любое письмо от лиц, проживающих вместе с Наполеоном Бонапартом, в котором он упоминается как носитель титула императора. В связи с этим мне поручено вернуть в приложении ваше письмо.
Губернатор в то же время пожелал, чтобы я заявил, что он от вас никогда не получал никакого письма[87], датированного 25 июнем 1819 года, в адрес лорда Ливерпуля.
Имею честь и т. д.
С. Горрекер, военный секретарь
Прокламация генерал-лейтенанта сэра Хадсона Лоу, кавалера «Ордена Бани» 2-й степени, губернатора и главнокомандующего острова Святой Елены и уважаемой Восточно-Индийской компании, командующего вооружёнными силами его величества на вышеупомянутом острове.
Во исполнение вверенной мне власти и предоставленных мне полномочий, в соответствии с распоряжением от имени его величества короля, датированным 12-м днём апреля настоящего года и на пятьдесят шестой год правления его величества, я уполномочен командовать содержанием под стражей Наполеона Бонапарта, имея дело с ним и обращаясь с ним как с военнопленным, подвергая его тем ограничениям и в том виде, какие мне были указаны и будут время от времени указываться одним из главных государственных секретарей его величества для того, чтобы предотвратить освобождение из заключения или побег вышеупомянутого Наполеона Бонапарта; для надлежащего исполнения поставленной цели ото всех офицеров его величества, гражданских, морских и военных и ото всех верноподданных его величества, которых это может касаться, требуется оказывать помощь и содействовать в тех случаях, когда в этом может возникнуть необходимость; настоящим представляется официальное объявление о том, что на проходящей сессии британского парламента были приняты два законопроекта. Один законопроект предусматривает содержание под стражей вышеупомянутого Наполеона Бонапарта и вынесение смертного приговора тем лицам, которые могут способствовать его побегу с острова Святой Елены. Второй законопроект регулирует посещение кораблями острова Святой Елены на то время, когда Наполеон Бонапарт будет содержаться на острове под стражей.
Копии этих двух законопроектов прилагаются к настоящей прокламации.
В целях оказания помощи для лучшего понимания создавшейся на острове ситуации верноподданными его величества, для которых приняты эти законопроекты парламента, настоящим официально объявляется, что различные инструкции, изданные до настоящего времени, в отношении принятых мер безопасности по обеспечению содержания под стражей вышеупомянутого Наполеона Бонапарта и в отношении предотвращения незаконного осуществления переписки и контакта с ним, с сопровождающими его лицами и с лицами его обслуживающего персонала, остаются действующими в полной мере.
Далее доводится до сведения, что, если после этого официального объявления, какое бы то ни было лицо или какими то ни было лицами будут нарушены правила, установленные для охраны Наполеона Бонапарта; или они будут поддерживать переписку и осуществлять любыми средствами связи контакт с ним, с сопровождающими его лицами и с лицами его обслуживающего персонала, которые в соответствии с их собственным согласием подлежат тем же ограничениям, что сам Наполеон Бонапарт; или будет или будут получать от него или от его окружения любые письма или сообщения, или будет или будут передавать ему или его окружению любые письма или сообщения, без ясных на то санкций губернатора или офицера, временно исполняющего обязанности командующего войсками острова, данных губернатором собственноручно в письменном виде такому лицу или таким лицам; — то это лицо или эти лица будут рассматриваться как нарушители положений и ясно выраженных целей вышеупомянутых законопроектов парламента и соответственно привлечены к суду. И в том случае, если из-за любого нарушения правил, установленных для содержания Наполеона Бонапарта под стражей, или в результате какой-либо переписки или какого-либо контакта с ним, с сопровождающими его лицами и с лицами его обслуживающего персонала будет осуществлен побег Наполеона Бонапарта или освобождение его из заключения, то такое лицо или лица будут, после того как станет известно, что их проступок явился преднамеренным средством для побега Наполеона Бонапарта и способствовал этому побегу, преследоваться в судебном порядке со всей строгостью, которая предписывается законами.
Далее объявляется, что, если какое-либо лицо или какие-либо лица получат какую-нибудь информацию о любой попытке освобождения Наполеона Бонапарта из заключения или о средствах, способствующих его побегу, и об этом не будет немедленно сообщено губернатору или офицеру, временно исполняющему обязанности командующего войсками острова, или этим лицом или этими лицами не будет сделано всё возможное, чтобы предотвратить осуществление побега или попытки освобождения из заключения, то они будут рассматриваться как лица, потворствующие этим преступлениям и способствующие вышеупомянутым побегу и попытке освобождения из заключения, и их проступок будет осуждён законами.
Любое лицо или лица, которые могут получать письма или сообщения для вышеупомянутого Наполеона Бонапарта, для сопровождающих его лиц и для лиц его обслуживающего персонала и немедленно не передадут эти письма и эти сообщения губернатору или не поставят его в известность об этом, а также не передадут эти письма офицеру, временно исполняющему обязанности командующего войсками на острове, и не поставят его в известность об этом; или те лица, которые обеспечат вышеупомянутого Наполеона Бонапарта, сопровождающих его лиц и лиц из его обслуживающего персонала деньгами или любыми другими средствами, чтобы тем самым содействовать его побегу, — будут рассматриваться как соучастники побега и соответственно привлечены к суду.
Все письма и сообщения для или от вышеупомянутого Наполеона Бонапарта, любого лица из его окружения и из его обслуживающего персонала, в опечатанном или открытом виде, должны немедленно передаваться губернатору в том состоянии, в котором они могли быть получены.
И тогда как целью прокламации, сим обнародованной, не является стремление вызвать необычную и ненужную строгость, то её следует рассматривать как средство приведения в исполнение надлежащих правил, установленных до этого, и предотвращения злонамеренных действий, которые могут возникнуть в результате невежества или невнимательности, а также умысла; в результате этой прокламации все те лица, чьи обязанности требуют их появления около места, где проживают вышеупомянутый Наполеон Бонапарт, лица его окружения и лица обслуживающего его персонала или лица, имеющие с ними деловые отношения, будут снабжены, после надлежащего заявления, постоянными лицензиями от губернатора острова, подписанными им собственноручно. И в принятых парламентом законопроектах и в правилах настоящей прокламации ничто не может быть истолковано как нечто такое, что может служить оправданием для жестокого и предосудительного обращения с Наполеоном Бонапартом и членами его окружения, пока он и они будут подчиняться тем ограничениям, которые законами и инструкциями правительства его величества предписаны им.
Исполнено собственноручно в Джеймстауне, на острове Святой Елены, 28-го дня июня 1816 года.
Хадсон Лоу, губернатор и главнокомандующий По приказу губернатора,
Г. Горрекер, военный секретарь
Дополнительные документы, не имеющие прямого отношения к данной работе, но важные для её иллюстрации
От начальника гарнизона
форта Эль-Ариш и от трёх других
командиров войск гарнизона
главному генералу
Мы получили условия капитуляции, которые вы нам направили; мы согласны вручить форт Эль-Ариш в ваши руки. Мы возвратимся в Багдад, следуя по пустыне. Мы направляем вам список командиров отрядов гарнизона форта, которые обещают, поклявшись от своего имени и от имени своих войск, не служить в армии Джеззара и не возвращаться в Сирию в течение одного года, начиная с сегодняшнего дня. Мы получим от вас пропуск и знамёна. Мы оставим в форте все запасы продовольствия и оружия, которые были там обнаружены. Все командиры отрядов гарнизона форта торжественно клянутся нашим Богом, Моисеем, Авраамом и Магометом, к которым Бог пусть будет милостив, и Кораном, что честно выполнят все условия этой капитуляции и, прежде всего, не будут служить Джеззару. Всевышний и его Пророк являются свидетелями нашей честности.
Ибрагим Ниран,
начальник гарнизона форта Эль-Ариш
Эль Х. Хаджез Мохаммед,
полковник могребинов
Эль X.Хаджи Задир,
командир арнаутов
Мохаммед Ага,
начальник интендантской службы
Лонгвуд, 11 декабря 1816
Мой дорогой граф Лас-Каз, я всем сердцем глубоко чувствую всё то, что вам сейчас приходится переживать. Оторванный от меня две недели тому назад, вы оказались тайно запертым и лишённым возможности сообщать мне и получать от меня какие-либо новости, общаться с кем-либо, французом или англичанином, лишённым даже права выбрать себе слугу.
Ваше поведение на острове Святой Елены было достойно всякого уважения и безукоризненно, как и вся ваша жизнь. Мне доставляет удовольствие сообщить вам это.
Ваше письмо другу в Лондон не имеет никаких оснований для порицания, в нём вы только открыли ваше сердце в рамках дружеских чувств. Это письмо точно такое же, как и те восемь или десять других, которые вы написали тому же лицу и отправили вскрытыми. Командующий этим островом, у которого отсутствует чувство деликатности, тщательно изучал выражения, подчёркивавшие ваши дружеские чувства, и недавно подвёрг их упрекам; он угрожал выслать вас с острова, если ваши письма вновь будут содержать жалобы. Поступая подобным образом, он нарушил главную обязанность своего положения, самую первую статью своих инструкций и чувство чести. Тем самым он предоставил вам санкцию на то, чтобы искать средства, позволяющие вашим чувствам доходить до ваших друзей и знакомить их с преступным поведением этого командующего островом. Но вам чужды вероломство и хитрость; поэтому было так легко воспользоваться вашим доверием!
Они выискивали предлог для конфискации ваших бумаг. Письмо вашему другу в Лондон не могло оправдать полицейский визит в ваш дом, ибо в письме не описывался заговор, в нём не содержалось никакой тайны, и оно лишь выражало чувство благородного и искреннего сердца. Незаконное и опрометчивое поведение властей по этому поводу несёт на себе знак низменной и личной ненависти.
В менее цивилизованных странах ссыльные, военнопленные и даже преступники находятся под защитой закона и судебных властей. Но на этом острове один и тот же человек вводит наиболее абсурдные правила, он же и осуществляет их на практике с особой жестокостью, нарушая при этом все законы, и не находится ни одного человека, который бы обуздал его крайности.
Лонгвуд окружён завесой, с помощью которой они хотели бы сделать его недоступным, чтобы скрыть своё преступное поведение. Все эти меры предосторожности дают повод для подозрений в ещё более гнусных намерениях.
С помощью умело распространяемых слухов была совершена попытка одурачить офицеров, иностранцев и жителей этого острова и даже иностранных представителей, которых, как говорят, здесь держат Австрия и Россия. Конечно, британское правительство одурачивается точно таким же образом с помощью неискренних и лживых докладов.
Ваши бумаги — некоторые из них, а это им известно, принадлежали мне — были конфискованы без соблюдения формальностей в непосредственной близости от моих апартаментов и с выражением дикой радости на лицах. Я был информирован об этом спустя всего лишь несколько минут. Я выглянул из окна и увидел, как их забирают. Их скопище резвилось вокруг вас. Я подумал, что наблюдаю дикарей с острова южных морей, танцевавших вокруг пленников, прежде чем съесть их.
Ваши услуги были необходимы мне: только вы читали, говорили и понимали английский язык. Однако я настоятельно прошу вас и, если необходимо, приказываю вам обратиться с просьбой к командующему островом отправить вас обратно на континент. Он не может отказать вам в этом, так как он не обладает властью над вами, если не считать вашего добровольного поступка, когда вы подписали декларацию. Для меня будет большим утешением узнать, что вы находитесь на пути к более счастливым берегам.
Как только вы прибудете в Европу и отправитесь или в Англию, или на родину, то забудьте о всём том зле, от которого вы здесь страдали. Вы можете гордиться той лояльностью, которую проявили по отношению ко мне, и той любовью, которую я испытываю к вам.
Если когда-нибудь вы встретите мою супругу и моего сына, то прошу вас обнять их; в течение двух лет я не получал о них никаких известий, непосредственно или косвенно. За последние шесть месяцев был случай, когда здесь побывал один немецкий ботаник, видевший их в садах Шенбрунна; за несколько дней до его отъезда варвары запретили ему навестить меня, чтобы сообщить мне известия о моей супруге и о моём сыне.
Однако утешьтесь сами и утешьте моих друзей. Моё тело, это верно, находится во власти моих врагов; они не забыли ничего из того, что могло бы утолить их месть. Они убивают меня булавочными уколами, но Провидение слишком справедливо, чтобы позволить этому продолжаться слишком долго. Нездоровый характер этого губительного климата, отсутствие всего, что может поддержать жизнь, вскоре, как я чувствую, положит конец этому существованию, последние минуты которого обернутся позором для британской репутации. В один прекрасный день Европа с ужасом укажет на этого лицемерного, злобного человека, которого истинные англичане откажутся признавать англичанином.
Так как все заставляет меня поверить в то, что мне не будет разрешено повидаться с вами перед вашим отъездом, то прошу принять мои объятия и заверения в уважении и дружбе к вам. Будьте счастливы.
Любящий вас,
Наполеон
Лонгвуд, 16 августа 1819
11-го, 12-го, 13-го, 14-го и 16 августа 1819 года впервые были сделаны попытки вторгнуться во флигель здания, в котором проживает император Наполеон. До этого времени к статусу неприкосновенности здания неизменно соблюдалось уважительное отношение. Он противостоял этой попытке вторжения тем, что захлопнул и запер двери. В данной ситуации он снова и снова повторяет свой протест, который он был вынужден выразить несколько раз по поводу того, что неприкосновенность его двери может быть нарушена только через его труп. Он отказался от всего и в продолжение трёх лет жил, ограничив себя внутренними шестью маленькими комнатами своего дома для того, чтобы не подвергаться оскорблениям и насилию. Если человеческая низость доведена до такой степени, что его пристанище вызывает зависть, то она побуждает его оставить ему всего лишь могилу.
Страдая в продолжение двух лет от хронического гепатита, от болезни, распространенной на этом острове, и в течение года лишённый помощи от своих врачей, ввиду насильственного отзыва с острова доктора О’Мира в июле 1818 года и доктора Стокоу в январе 1819 года, он перенёс несколько приступов, во время которых был вынужден придерживаться постельного режима, иногда пятнадцать или двадцать дней подряд. В настоящее время, в самый разгар одного из наиболее острых приступов, которые он когда-либо испытывал, прикованный к постели девять дней подряд, он, чтобы бороться с болезнью, противопоставил ей только терпение, диету и тёплую ванну; в течение шести дней его спокойствие было нарушено угрозами вторжения в его дом и насилия, которому, как об этом хорошо знают принц-регент, лорд Ливерпуль и вся Европа, он никогда не покорится.
Поскольку желание унизить и оскорбить его проявляется ежедневно, то он вновь и вновь прибегает к декларации протеста, который он уже выражал. Так как он отказывался принимать и не будет принимать какие-либо извещения или уведомления, а также не давал указаний и не будет давать указаний отвечать на какие-либо извещения или уведомления, изложение которых будет выполнено в оскорбительной для него форме, противоположной формам, принятым последние четыре года, то переписка с ним будет осуществляться через посредничество его офицера; так как он выбрасывал и будет выбрасывать в окно или в огонь камина все пакеты с оскорбительными извещениями и уведомлениями, не желая вводить новшества в состояние существующих порядков, которые имели место в течение нескольких лет.
Наполеон
Эта декларация, как мне сообщили, была вызвана следующим обстоятельством: в то время, пока болел граф Монтолон, сэр Хадсон Лоу, искусный в выдумках новых придирок, отказался вести переписку с графом Бертраном и захотел настоять на прямой переписке с императором, используя для этого визиты к императору одного из своих офицеров дважды в день или просто направляя императору письма. В течение нескольких дней он посылал в Лонгвуд сэра Томаса Рида или другого своего штабного офицера. Они входили в дом, подходили к внешней двери апартаментов Наполеона и несколько раз беспрерывно стучали по ней, восклицая: «Выходите, Наполеон Бонапарт!» — «Мы хотим Наполеона Бонапарта!» и т. д., заканчивая эту сцену непрошеного возмутительного поведения тем, что после своих визитов оставляли пакеты с письмами, адресованными «Наполеону Буонапарте», написанными в обычном стиле «Колониального дома».
Следующая выдержка из официального письма, направленного мною лордам адмиралтейства 28 октября 1818 года, содержит заявление об имевших место притеснениях в отношении Наполеона, и объясняет, что фатальное событие, которое произошло на острове Святой Елены, было мною абсолютно точно предсказано министрам его величества, возможно, достаточно своевременно для того, чтобы предотвратить его, если бы министры надлежащим образом подумали об изменении своего отношения к этой выдающейся личности.
Джону Вилсону Крокеру, эсквайру,
секретарю Адмиралтейства
Я считаю своим долгом заявить, будучи последним врачом Наполеона, что, принимая во внимание болезнь печени, которой он поражён, резкое обострение у него этой болезни, а также раздумывая над проблемой необычайно высокой смертности, вызванной этой болезнью на острове Святой Елены (столь наглядно продемонстрированной количеством смертных случаев в 66-м пехотном полку, дислоцированном на острове, в гарнизоне острова Святой Елены, на военно-морской эскадре, обслуживающей остров, и особенно на корабле его величества «Завоеватель», потерявшем одну шестую часть своего экипажа, из которых почти половина умерла в течение последних восьми месяцев), что я придерживаюсь той точки зрения, что жизнь Наполеона Бонапарта будет находиться в опасности в случае дальнейшего проживания в условиях такого климата, который свойственен острову Святой Елены, особенно если его проживание на этом острове будет усугубляться нарушением его покоя и намеренным отрицательным воздействием на его нервную систему, которым он подвергается и которые, в силу его природного характера, расстраивают его здоровье.
Барри Э. О’Мира, врач,
военно-морские силы Великобритании
Остров Святой Елены, ноябрь, 1815
Остров Святой Елены — это далеко не то место, где поездка доставит вам удовольствие. Такие ужасные дороги, такие ужасные горы, такие ужасные пропасти. Меня уверяли, что проехать придётся каких-то миль пять, но я уверена, что мне пришлось проехать все пятнадцать. За одной горой тут же следовала другая, но только ещё выше. Скалы громоздились одна на другую: я поистине верила, что оказалась в объятиях облаков. Но вот уж в чём я была абсолютно уверена, так это в том, что мне пришлось побывать один за другим в трёх различных климатах. После того как я выехала из города и всё то время, пока я добиралась до коттеджа «Браейрс», палящий зной солнца буквально сжёг кожу на моём лице и покрыл волдырями мои губы. Воздух был настолько удушлив, что я была на грани обморока.
Затем, когда я добралась до «Дома тревоги», проехав от коттеджа «Брайерс» всего лишь полторы мили, штормовой порыв холодного ветра сорвал с моей головы шляпу куда-то в глубь «Дьявольской Чашеобразной Впадины». Я вся сжалась от ожидания, что и я и моя лошадь последуют за шляпой, так как бедное животное едва стояло на ногах. Кое-как доехав до «Ворот Хата», одолев примерно три четверти мили от места потери шляпы, я обнаружила, что климат снова изменился, когда густой туман, стремительно опустившийся с пика Дианы, окутал меня с ног до головы и поверг на какое-то время в кромешную тьму. Неожиданно, словно по мановению волшебной палочки, этот плотный туман рассеялся, и моим глазам предстал очаровательный вид гряды зелёных гор, нависших над цветущей долиной. Я едва успела порадоваться прекрасной картине, созданной природой, как на меня хлынул проливной дождь, и пока я добиралась до ворот Лонгвуда, я успела промокнуть до нитки. Сначала я подумала, что мне несколько не повезло с погодой, но когда я спросила помогавшего мне слугу (коренного жителя острова), обычны ли здесь такие странные изменения погоды, он с удивлением посмотрел на меня и ответил, что «он ничего странного в погоде не видит, так как в этих местах[88] погода всегда такая».
По пути в Лонгвуд моему взору предстало такое обширное разнообразие экстравагантной смеси представителей разных национальностей, рас и национальной одежды, какое, я полагаю, нельзя встретить ни в одном другом месте земного шара, столь ограниченном по размерам, как остров Святой Елены. Вскоре после того как я выехала из города, я догнала группу китайцев с тележками, нагруженными багажом офицеров 53-го пехотного полка. Китайцы тащили эти тележки вверх по склону горы в лагерь полка. Трудно было представить себе более ужасное зрелище, чем вид этих несчастных, тащивших в гору тележки с поклажей невероятных размеров; но они выполняли очень полезную работу, выступая одновременно и в роли лошадей, и в роли людей. Уже подъезжая к «Дому тревоги», я встретила небольшую группу чернокожих рабов. Эти бедняги несли на своих головах такой тяжелый груз дерева, что я не могла не содрогнуться; я напряжённо ждала, что они вот-вот упадут под своей непомерной ношей, но, к моему удивлению, они спускались вдоль почти перпендикулярной тропинки скалы с такой легкостью и так проворно, словно на головах они несли пучки птичьих перьев.
Чуть позднее я встретила несколько невольниц, женщин и девушек, среди которых были и чернокожие, и с телами шоколадного цвета. Все они щеголяли нарядными муслиновыми платьями, сшитыми в Индии, красивыми серёжками и разноцветными бусами. Они гордо шли с таким самоуверенным и тщеславным видом, что, казалось, бросали вызов лондонским красавицам с улицы Бонд. Поначалу я вообразила, что они торопятся на какой-то светский бал. Но, ради любопытства бросив взгляд вниз на их ноги, чтобы увидеть, в каких же бальных туфельках собираются танцевать эти жизнерадостные дамы, я тут же поняла, что на них нет ни туфель, ни чулок. Прежде чем я кончила размышлять о тщеславии женщин в различных странах мира, как тут же была объята неподдельным ужасом при виде надвигавшейся на меня огромной телеги, которую волокли шесть волов. И этот кошмар случился в такой узкой части горной дороги, что у меня остался один выбор: или оказаться раздавленной между телегой и скалой, или устремиться вниз на самое дно огромной пропасти. К счастью, моей лошади, судя по её поведению, были совершенно неведомы мои страхи, и она ловко проскользнула между телегой и скалой, сохраняя невозмутимое спокойствие.
Немного придя в себя после встречи с телегой с волами, я вскоре была встречена приветствием бодрого звука барабанной дроби и веселого напева солдатских дудочек. Как выяснилось, я выехала к команде из двухсот солдат 53-го пехотного полка, которые на своих плечах несли части деревянных бараков, присланных из Англии для того, чтобы возвести в Дедвуде военный лагерь. Он будет находиться на плоскогорье на высоте двух тысяч футов над уровнем моря. Солдаты выглядели очень уставшими и явно нуждались в том, чтобы для поднятия настроения их подбодряла музыка. Командовали солдатами капитан и два младших офицера. Не прошло много времени после того, как я потеряла из виду этих солдат, как мне повстречался шумный отряд моряков в количестве ста пятидесяти человек, принадлежавших экипажу корабля его величества «Нортумберлэнд». Они тащили на себе огромные толстые деревянные доски для усовершенствования дома в Лонгвуде. Их сопровождали лейтенант и два гардемарина. Около Лонгвуда я встретила адмирала сэра Джорджа Кокбэрна и его секретаря. Уже после них мне повстречались два французских офицера в роскошной военной форме с двумя дамами в великолепных нарядах. Они совершали конную прогулку в сопровождении нескольких вышколенных французских слуг. Неподалёку от «Дома тревоги» мимо меня промчалась группа молодых наездниц, жительниц острова. Они ехали на страшной скорости, их бесстрашие казалось невероятным. Их сопровождал капитан-индус и два офицера, один — пехотный, а другой — артиллерист.
Как только я выехала из Джеймстауна, так сразу же стала подниматься в гору и продолжала делать это почти три мили, пока не добралась до вершины первой горы. Дорога была настолько крутой, неровной и узкой, что двум лошадям едва хватало места идти рядом. Вскоре я забралась так высоко, что у меня закружилась голова, когда я взглянула вниз на окрестности города, который протянулся на некоторое расстояние вдоль узкой долины между двумя высокими чёрными скалами, лишёнными какой-либо растительности. Более того, на этих скалах нельзя было даже проследить возможность произрастания чего-либо, а в некоторых местах они выглядели так, словно вот-вот от них отвалятся огромные куски, которые попадут прямо на головы жителей города. Это убийственно безотрадная дорога зовётся «длинной тропой».
Я была поражена огромным количеством мышей, которые постоянно выскакивали из расщелин скал и пробегали между ног моего животного. Их поведение заставило меня опасаться, что моя лошадь начнёт спотыкаться, но она не обращала на них никакого внимания. Когда я доехала до вершины холма, под которым находился коттедж «Брайерс» (временная резиденция Бонапарта), я остановилась и, обуреваемая неописуемым волнением, взглянула вниз на небольшой коттедж, в котором он проживал. Вскоре мне посчастливилось увидеть экс-императора, совершавшего прогулку в сопровождении своего секретаря графа Лас-Каза.
Коттедж «Брайерс» расположен в местности, напоминающей долину, ограниченную амфитеатром скал. Это яркое пятно красоты природы и возделанного участка земли среди бескрайнего опустошения. Когда я добралась до вершины холма, возвышавшегося над коттеджем «Брайерс», то решила, что просто невозможно, чтобы я поднялась ещё выше, но, к моему величайшему изумлению, завернув за угол вершины холма, я обнаружила перед собой почти перпендикулярно возвышающийся подъём, гораздо более крутой, чем тот, который я только что осилила. Как мне объяснили, мне предстояло преодолеть ещё три горных подъёма, прежде чем я доберусь до лагеря пехотного полка в Дедвуде. Забравшись на вершину второй горы, я обернулась, чтобы бросить взгляд вниз на Джеймстаун, который с места моей остановки напомнил мне колоду карточных домиков, рассыпанных вдоль узкого ущелья. Дорога теперь стала более открытой для обозрения, но ничего похожего на деревья или на участки земли, возделанные для овощей, увидеть было нельзя. С каждой стороны дороги в глаза бросались или угрюмого вида глубокие ущелья, или, на смену им, возвышающиеся фантастически уродливые скалы.
Доехав до «Дома тревоги» (пост, с которого можно увидеть корабли, находящиеся на большом расстоянии от берега острова), я получила возможность обозревать дороги острова, прекрасную панораму океана, многие корабли, стоявшие на якоре, и сторожевые бриги, крейсировавшие вокруг острова с наветренной и с подветренной стороны. Впервые я получила возможность ясно увидеть Лонгвуд, находившийся на другой стороне «Дьявольской Чашеобразной Впадины». Эта чаша достойна своего имени, ибо эта впадина действительно представляет собой вогнутое пустотелое пространство, загромождённое ужасными вулканическими выбросами. Вид у этой впадины в самом деле дьявольский. Ничто в этой впадине не радует глаз, за исключением маленького возделанного участка земли с одной стороны впадины, почти у самого её дна, который создаёт странный контраст с окружающей этот участок абсолютной пустошью. Вам представляется возможность созерцать два уютных коттеджа с фруктовыми садами и цветниками[89], которые, казалось, были словно сброшены в эту дьявольскую чашу с территории какого-то сказочного счастливого царства.
Подъехав к «Воротам Хата», я обнаружила, что картина природных условий острова вновь изменилась. С окутанного различной зелёной растительностью пика Дианы, вершина которого почти касалась облаков, открывался великолепный вид на «Долину рыбака»[90], которая, извиваясь внизу, представляла вашему взору самые разнообразные красоты природы, да к тому же была украшена изящно построенным большим домом и аллеями, обсаженными с обеих сторон деревьями. Вид всего этого приносит сладостное облегчение душе, особенно после тягостного зрелища полнейшего опустошения и бесплодия местности, которую я только что проехала. После того как я миновала ворота Лонгвуда, я вскоре доехала до военного лагеря в Дедвуде. Живописный вид только что возведённых среди деревьев белоснежных шатров военного лагеря, восхищавших своим резким контрастом с тёмно-синими тенями от ветвей эвкалиптов, произвёл на меня ранее неизведанное впечатление, близкое к театральному; и я подумала, что мне никогда раньше не приходилось созерцать более интересного целостного ансамбля, созданного вместе природой и рукой человека. Однако, когда я подъехала поближе, мой восторг от вида деревьев несколько поубавился; они находились под воздействием дующих все время в одну сторону пассатов. Рассмотрев повнимательнее деревья и их листву, я с удивлением обнаружила, что листья эвкалиптов по своей природе настолько вредны, что под каждым деревом достаточно большое пространство представляет собой чёрную безжизненную массу, абсолютно непригодную для выращивания какой-либо растительности из-за пагубного влияния на неё опадающей листвы эвкалипта. Листья эвкалипта очень маленькие и узкие».
Дедвуд, декабрь 1815
Всю ночь я едва могла закрыть глаза из-за этих отвратительных мух. Всё моё тело покрыто их укусами, и как раз в эту минуту семь или восемь мух резвятся на моей подушке. Всю ночь крысы бегали стаями. Когда я устала отгонять их прочь и, наконец, заснула, они прогрызли дыры в покрывале на кровати. Дождь продолжал лить в течение всей ночи с такой силой, что, пробиваясь сквозь щели в креплениях всех сторон шатра, образовал лужу на дне шатра поверх лодыжек моих ног. Мы не могли достать даже несколько деревянных досок, чтобы подложить их под ноги и держать их сухими, так как дерево на острове является большой редкостью. Наша единственная надежда заключается в том, чтобы набраться огромного терпения и дождаться времени, когда через несколько недель в гавань острова, наконец, зайдёт какой-нибудь транспортный корабль, и мы тогда сможем купить несколько старых упаковочных ящиков и ухитриться соорудить из них нечто, похожее на пол, чтобы держать наши ноги в шатре сухими.
Крысы прогрызли насквозь бочонок, в котором мы держали наше засоленное масло, которые купили на мысе Доброй Надежды, а вот свежего сливочного масла здесь на острове достать невозможно[91]. Дождевая вода проникла в наши книжные шкафы, и все мои книги испорчены. Послав эти книги на кухню, чтобы их высушили, я обнаружила, что дождь проник сквозь дёрн, покрывавший крышу кухни, и слуги стоят по колено в воде, вычёрпывая её полными вёдрами. Сырость в шатре сделала моё пианино глухим, и я не могу извлечь из него ни одного звука.
Мы направили начальнику офицерской столовой просьбу уделить нам два или три фунта свежего мяса на обед, но он ответил, что ему не хватает мяса для офицерского обеда; тогда мы послали сержанта к начальнику хозяйственного снабжения полка с просьбой прислать нам немного пайковой солонины или засоленной свинины, а также хлеба и немного картофеля: он ответил нам, что хлеб не привезли из города, так как дороги пришли в такое состояние, что практически по ним нельзя проехать; что в течение нескольких дней он картофеля не получал; что у него осталось очень немного пайковой солонины, но всё же он пришлет нам маленький кусок солонины с небольшим количеством риса.
Мы послали солдата с несколькими долларами к местным фермерам, чтобы купить у них немного картофеля и других овощей, но солдат вернулся через несколько часов совершенно уставшим и с пустыми руками, так как местные жители не прилагают усилий, чтобы сажать другие овощи, кроме картофеля, который они отвозят в город мешками, чтобы там продать его или по бартеру поменять его на другие вещи, а сами живут на одной солонине и на рисе. Поэтому мы были вынуждены удовлетвориться этой пищей острова Святой Елены и приказать повару счищать с засоленной жирной свинины кусочки сала, чтобы сжигать их в нашей лампе, так как наши свечи почти закончились, а новые свечи появятся в магазинах не раньше следующего месяца. Мы не могли достать дров для камина, так как запрещалось рубить для этой цели дерево эвкалиптов без разрешения правительства, и вынуждены были приказать нашему слуге срезать ветки с кустов ежевики, чтобы состряпать наш обед.
НАПОЛЕОН
Родился в Аяччо 15 августа 1769 года.
Скончался на острове Святой Елены 5 мая 1821 года.
Серебряную дощечку с этой надписью, которую предназначалось прикрепить на гроб императора Наполеона, граф де Монтолон поручил изготовить г-ну Дарлингу. Губернатор острова Святой Елены, будучи проинформированным об этом, заявил графу де Монтолону, что он против этого и что в соответствии с указаниями своего правительства в том случае, если предполагается прикрепить какую-либо надпись на гроб покойного, то она должна начинаться словами: «генерал Буонапарте».
Граф де Монтолон,
Лондон, 2 октября 1821