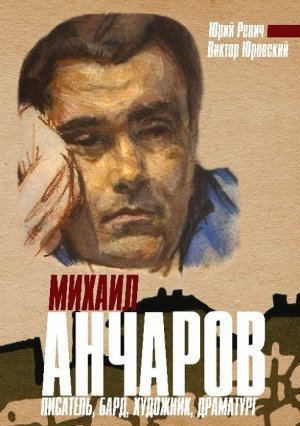
К читателю
Нетрудно составлять биографию какой-либо знаменитости — о нем (или о ней) все и так всё знают, заслуги на виду и неоспоримы. Остается подобрать малоизвестные житейские подробности, чтобы по возможности получить портрет человека, а не бронзовый бюст, уложить все это в историческую канву — и вполне качественная биография готова. Одно только имя на обложке гарантирует спрос и читательский интерес.
Несколько сложнее представлять читателю жизненный путь человека, который не был «публичной фигурой», но заслуги которого говорят за себя сами. Таковы биографии главных конструкторов — у них в советское время засекречены были даже фамилии, многих ученых, военных, изобретателей, писателей и поэтов. Для возбуждения читательского интереса здесь, как правило, придется постараться, но не сильно — если имя или заслуги на слуху хотя бы у части аудитории, то для гарантированного успеха достаточно их правильно преподнести.
А вот про Михаила Анчарова писать очень трудно. И не потому, что его имя малознакомо широкой аудитории, — почитатели авторской песни, например, его хорошо знают, немало поклонников и у его прозы. Трудно писать про Анчарова потому, что его достижения, во-первых, выходят далеко за рамки основных его занятий: авторской песни, литературы или живописи, причем признанное влияние Анчарова на эти области хотя и велико, но не является общеизвестным фактом. Во-вторых, эти достижения неотделимы от времени, в котором он жил и творил. Пик его творчества пришелся на период, получивший с подачи писателя Ильи Эренбурга наименование «оттепели». Об этом периоде истории Советского государства уже сейчас, когда миновало едва полвека, надо очень много растолковывать. Поэтому до конца понять Анчарова и сегодняшнему читателю довольно сложно, а с течением времени будет еще сложнее.
Исходя из этого мы постарались в меру своих скромных возможностей донести до читателя не только голые факты из биографии этого примечательного человека, но и попробовали передать дух времени, которому он принадлежит. По этой причине в книге довольно много исторических справок, описаний сопутствующих событий, кратких биографий людей, с которыми так или иначе пересекался жизненный путь Анчарова, а также собственных размышлений авторов по этим поводам, с которыми, разумеется, читатель волен не соглашаться.
Авторы благодарят:
Наталию Ивановну Касперскую, при поддержке которой удалось резко сократить сроки подготовки материалов и написания книги.
Станислава Васильевича Новикова, подготовившего одну из первых хроник жизни и творчества М. Л. Анчарова[1], сохранившего и предоставившего авторам множество документов и фотографий из архива Анчарова, а также в свое время взявшего большое количество интервью у знавших его людей.
Нину Александровну Игнатову — за большую и кропотливую работу в архивах и помощь в подготовке текстов.
Владимира Ивановича Борисова, редактора раздела сайта «Русская фантастика», обратившего внимание авторов на публикации писем братьев Стругацких, в которых упоминается Анчаров, а также подготовившего специально для них выдержки из ответов Бориса Стругацкого на вопросы посетителей сайта с упоминанием Анчарова.
Галину Александровну Щекину, писательницу из Вологды и неизменного модератора группы «Анчаровский круг» в «Фейсбуке», — за идею этой книги и неоднократные настоятельные напоминания авторам об их добровольных обязательствах.
Авторы приносят искреннюю благодарность литературоведу Андрею Евгеньевичу Крылову, доктору филологических наук Евгении Викторовне Ивановой и особенно доктору филологических наук Анатолию Валентиновичу Кулагину за их замечания и предложения, высказанные при чтении рукописи. Все недоработки, которые тем не менее остались в тексте, целиком и полностью лежат на совести авторов.
Мы также очень признательны Александре Викторовне Юровской — за помощь в подготовке текстов и фотографий, Максиму Евгеньевичу Мошкову, владельцу библиотеки lib.ru, предоставившему место для размещения мемориального сайта Михаила Анчарова, Петру Андреевичу Трубецкому — за неоднократную бескорыстную помощь по обработке фонограмм и архивных документов.
Источником подробностей о Военном институте иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА) послужили следующие ресурсы, создателям и авторам которых также приносится искренняя благодарность:
– биография братьев Стругацких [2], автор — Ант Скаландис (псевдоним Антона Викторовича Молчанова);
– сайт выпускников института «Клуб товарищей ВИИЯ» (clubvi.ru);
– справка, подготовленная для первого выпуска переписки братьев Стругацких одним из его составителей В. М. Курильским[3].
Авторы также считают своим долгом выразить благодарность за неоценимую помощь в работе над книгой близким ее главного героя: Артему Михайловичу Анчарову, Нине Георгиевне Поповой, Татьяне Ильиничне Сельвинской, и с благодарностью хранят память о Ирине Ниямовне Анчаровой и Елене Георгиевне Гродневой.
Мы благодарим за творческую, библиографическую и практическую поддержку Валентина Анатольевича Лившица, Михаила Олеговича Баранова, Наталью Борисовну Галиуллину, Игоря Владимировича Кобаидзе, Аллу Манфредовну Левитан, Александру Александровну Ротову, Татьяну Геннадиевну Лисовскую, Дмитрия Павловича Соколова, Игоря Александровича Резголя.
Прочесть полные тексты большинства упоминающихся в книге стихов и песен М. А. Анчарова, а также воспоминаний разных людей о нем, прослушать авторское исполнение песен, ознакомиться с некоторыми прозаическими произведениями Михаила Анчарова и другими материалами о его жизни и творчестве вы можете на мемориальном сайте по адресу ancharov.lib.ru. Много текстов его песен, включая редкие и малоизвестные, также можно найти в разделе, посвященном Анчарову, на сайте bards.ru. Некоторые прозаические произведения Анчарова, отсутствующие на мемориальном сайте, можно найти в электронной библиотеке Мошкова (lib.ru).
Электронные адреса авторов: Юрий Всеволодович Ревич — [email protected], Виктор Шлёмович Юровский — [email protected].
Глава 1
Детство и школа
28 марта 1923 года в Москве, в семье инженера и учительницы появился на свет мальчик — будущий художник, писатель и бард Михаил Леонидович Анчаров. Его отец, Леонид Михайлович Анчаров, родился в Харькове 3 июня 1895 года, в семье военного капельмейстера, дирижера оркестра Царицынского военного округа штабс-капитана Исайи Беньяминовича Цимберова. Кроме него в семье было пятеро детей, что по тем временам не являлось чем-то необычным. В 1912 году Леонид окончил реальное училище и поступил чертежником в отдел оборудования Харьковского паровозостроительного завода, где проработал до июня 1915 года. В июле 1915-го он был призван в армию и участвовал в Первой мировой (как тогда говорили — Империалистической) войне до января 1918-го.
Вернувшись в Харьков, Леонид Анчаров вступил в отряд по борьбе с бандитизмом и вскоре был назначен его начальником. В связи с приходом в Харьков немецкой армии и гайдамаков в марте 1918 года бежал в Краснопавловку, где, скрываясь, пару месяцев проработал на мельнице. В мае 1918 года он вернулся в Харьков и поступил в Окружной военкомат чертежником.
В марте 1919 года Леонид Михайлович женился. Его жена, курсистка Харьковского медицинского института Евгения Исаевна Анчарова, родилась в городе Нежине 31 декабря 1895 года. С начала жизни в Москве, во время войны в эвакуации и в послевоенные годы до самой своей смерти в 1959-м Евгения Исаевна работала учителем. В конце жизни она преподавала в школе № 426 Сталинского района Москвы (обратим внимание на то, что Миша Анчаров окончил другую школу, — см. далее). С отчеством «Исаевна» есть разночтения — в таком виде оно приводится в выписках из домовой книги 1954 года. В копии свидетельства о рождении сына Михаила зафиксировано отчество «Исааковна» — так оно было записано в городском отделе ЗАГС в 1923 году.
Чертежником Леонид Михайлович проработал до момента занятия Харькова белой армией в июле 1919 года, когда бывшему начальнику красного отряда по борьбе с бандитизмом находиться на виду опять стало опасно. Поэтому в момент прихода белых он «заболел» воспалением брюшины «на почве гнойного аппендицита» и пролежал два месяца в госпитале. После чего уехал в Луганск, чтобы не служить у белых.
С приходом советской власти на Украину в начале 1920 года Леонид Анчаров вернулся в Харьков, где оставались его жена и родные. С февраля 1920-го он работал в строительном отряде Южфронтстроя начальником военно-строительных мастерских. А 15 сентября 1920 года был откомандирован в Москву на постройку радиостанции им. Коминтерна.
Радиостанция им. Коминтерна известна своей уникальной башней из металлических конструкций, образующих ряд гиперболоидов вращения, поставленных один на другой. В названии башни «Шуховская» заслуженно увековечено имя спроектировавшего ее инженера В. Г. Шухова, первым в истории внедрившего в практику строительства стальные сетчатые оболочки, составленные из прямых стержней. Вот на возведении этой достопримечательности Москвы в должности техника-мачтовика и трудился Леонид Михайлович.
По окончании строительства башни в марте 1922 года Леонид Михайлович занял должность главного механика ткацкой фабрики Московского текстильного товарищества, где и работал до ликвидации фабрики в 1926 году. В дальнейшем Леонид Анчаров работал инженером и конструктором на Московском электрозаводе — в одном из его подразделений, впоследствии выделившемся в отдельный Завод автотракторного электрооборудования (АТЭ-1).
Скончался Леонид Михайлович в 1968 году.
Московский электрозавод (иногда его называют Московским электрокомбинатом) в те годы объединял ряд московских предприятий, выпускавших электрооборудование. Он стал родоначальником целого ряда московских топонимов: Электрозаводская (до 1929 года — Лаврентьевская) улица, метро «Электрозаводская», платформа Электрозаводская Казанского направления, Электрозаводский мост и т. п.
В 1938–1939 годах электрокомбинат был реорганизован с выделением ряда отдельных заводов: Московского электролампового завода (МЭЛЗ), Завода автотракторного электрооборудования (АТЭ-1), Московского прожекторного завода и родоначальника всех остальных Московского трансформаторного завода (когда-то он дал стране первые трансформаторы для плана ГОЭЛРО). Официальное название «Электрозавод» осталось именно за трансформаторным заводом — единственным из предприятий бывшего электрокомбината, сохранившимся до момента, когда пишутся эти строки.
Леонид Михайлович оказался на другом — крупнейшем в стране Московском заводе автотракторного электрооборудования (АТЭ-1), который в довоенные, военные и первые послевоенные годы был практически единственным предприятием страны по выпуску автомобильного, танкового и даже самолетного электрооборудования.
Интересно, что, судя по заводскому бланку, на котором выполнена заявка от 10 марта 1949 года на установку Л. М. Анчарову квартирного телефона, предприятие тогда называлось «Московский завод автомобильных электромашин». Первоначальное название, под которым этот завод фигурирует и в современных источниках («завод автотракторного электрооборудования»), объясняет происхождение аббревиатуры АТЭ-1. В 1960– 1967 годах, как раз в последние годы работы Леонида Михайловича, АТЭ-1 был вновь объединен с Московским трансформаторным заводом — объединенное предприятие называлось Электрозавод им. В. В. Куйбышева.
Кстати о заявке: а что, в квартире Анчаровых до 1949 года телефона не было? Конечно, в доме-новостройке, тем более в квартире старшего инженера, он имелся, но в 1941 году аппарат был изъят якобы «для нужд обороны» (о чем также сохранился соответствующий документ). Точно так же и под тем же предлогом во время Великой Отечественной повсеместно изымались бытовые радиоприемники — для официальных оповещений достаточно было проводных радиоточек. Истинной целью этих акций, непонятных с современной точки зрения, было ограничение неподконтрольных правительству каналов связи. Ведь радиоглушилок еще не существовало, да и аппаратуру для записи телефонных разговоров тоже еще не изобрели.
В домовой книге по месту жительства указана национальность членов семьи Анчаровых — евреи. Надо заметить, что в творчестве Михаила Анчарова еврейская тема отсутствует совершенно — он до конца жизни оставался убежденным интернационалистом и патриотом России вне национального аспекта. Так что национальный вопрос у него в книгах если и обсуждается, то преимущественно в негативном контексте — как непременный атрибут фашизма. Сам он, очевидно, никакого значения своей национальности не придавал. Он вслед за Окуджавой мог бы ответить на вопрос «…по национальности вы просто москвич?» примерно так же:
«Я думаю, что, скорее всего, конечно. Хотя моя мама армянка, а отец грузин, но я родился на Большой Молчановке и прожил всю жизнь в России. Родной язык мой — русский, и русская культура — это моя культура».
В 1971 году во время застолья у своего друга и соавтора режиссера Александра Петровича Саранцева Анчаров расскажет:
«Вот я своего отца спрашивал: “А какой я национальности?” Отец начал перечислять… На шестнадцатой национальности он сбился. Сбился! Во мне греки, поляки, французы, итальянцы, татары… бог знает что. Потому что я дворняжка. Но! Это может быть недостаток, а при желании может быть и достоинство. Все зависит от человека, в которого это влилось…»
Из этих слов сразу понятны принципы отношения Михаила Леонидовича к национальным проблемам. Добавим, что это едва ли не единственное сохранившееся высказывание Анчарова на эту тему — он не напоказ, а действительно не придавал значения своей национальности и почти никогда не обсуждал это ни в узком кругу, ни публично.
Как мы видим, для понимания личности и творчества Михаила Анчарова еврейская тема не имеет большого значения. Однако для биографии это может быть существенно — даже если вы сами себя никуда не относите, вас без вашего ведома очень даже могут внести в соответствующую графу. И здесь будет уместно сказать несколько слов о непростой истории евреев в России — так легче представить, что стоит за скупыми фактами биографии Леонида Михайловича и его жены.
По некоторым подсчетам, на территории Российской империи вместе с вошедшими в ее состав на рубеже XVIII–XIX веков остатками Речи Посполитой к началу ХХ века проживала половина мирового еврейского населения. И хотя евреи в России всегда подвергались дискриминации, в отдельные периоды политика властей в отношении их была все же более мягкой, чем в Западной Европе. До 1881 года — времени начала жесткой консервативной реакции на гибель императора Александра II от рук террористов — царская власть делала ставку на ассимиляцию. Одним из каналов осуществления этой политики со времен Николая I был призыв (иногда даже насильственный) малолетних евреев в кантонисты[4] и сопутствующий «добровольно-принудительный» переход в православие, причем нередко с присвоением русских имен и фамилий.
Эта практика до 1856 года — времени упразднения института кантонистов — породила целое сословие, получившее название евреи-кантонисты.
За тридцать лет их число достигло 50 тысяч человек. Из потомков евреев-кантонистов происходил, например, поэт Илья Сельвинский, имя которого мы еще не раз встретим в этой книге. Вероятнее всего, семья Анчаровых также являлась плодом одного из этих изгибов национальной политики.
О происхождении фамилии «Анчаров» можно только гадать. Она имеется в перечне так называемых семинаристских («церковных») фамилий — то есть тех, которые получали представители духовного сословия при поступлении в семинарию. В отличие от образовавшихся естественным путем (в русском языке — преимущественно от имени или рода занятий отца, в европейских — чаще от места происхождения), семинаристские фамилии придумывали искусственно. Так появились не только вычурные Амфитеатров или Бриллиантов, но и распространенные Аннинский (Анненков), Архангельский или Преображенский. Фамилия Анчаров, образованная явно от легендарного растения «анчар», в этом списке стоит в одном ряду с Виноградовым, Левкоевым или Кипарисовым. Отметим попутно, что в 1966 году, в одном из сохранившихся неотправленных писем, Михаил Леонидович, отвечая на вопрос адресата, написал: «Фамилия, увы, не псевдоним. Сам страдал от нее в школе».
В XIX веке подобные фамилии вне крестьянства уже носило пол-России, в основном в среде разночинной интеллигенции. Едва ли некий предок-еврей, даже крестившись, в те времена смог бы стать церковным служителем, но фамилию из числа семинаристских могли просто присвоить при крещении. Подтверждаются эти домыслы и фактом рождения Леонида Михайловича в Харькове, находящемся за пределами официальной черты оседлости. Во времена Александра II закончившим военную службу евреям позволялось селиться по всей территории Российской империи, и, что немаловажно, крещеный еврей был намного более свободен в выборе национальности супруги.
Постепенно политика властей ужесточалась. С начала XX века даже для крещеных евреев начали действовать процентные квоты на образование и ограничения на места постоянного проживания. Им было, в частности, запрещено занимать офицерские должности, отчего в Первой мировой участвовало огромное количество евреев в низших солдатских званиях — процентная квота на рекрутов в еврейских общинах, несмотря на все указы Александра II, была все равно выше, чем у остального населения. История последовательного ужесточения дискриминационной политики в отношении евреев, периодические волны погромов, пусть не санкционированных властями, но и не пресекавшихся ими в должной мере, демонстрируют одну из причин успеха разлагающей антимонархической агитации агентов революционных партий в царской армии.
Дискриминация евреев была официально отменена лишь Временным правительством в 1917 году, после чего сразу возникло огромное количество еврейских партий, ячеек, фракций, обществ, органов печати и т. п. Интересно, что большая часть этих скороспелых политических образований, за исключением традиционных революционных объединений вроде Бунда, не поддержала большевиков, в руководстве которых, как известно, евреев было довольно много, начиная с «вождя революции» Л. Троцкого. Некоторые из этих сообществ даже сочувствовали белому движению («лучше спасти Россию с казаками, чем погубить ее с большевиками»). Но командование белых, сплошь состоявшее из ярых антисемитов, само сделало все, чтобы оттолкнуть евреев: санкционировало погромы, проводило иногда грубую и прямую, иногда утонченную дискриминацию евреев-военнослужащих и т. д. Известный филолог А. М. Пятигорский вспоминает слова отца, находившегося в Гражданскую войну на Украине в Донбассе: «По сравнению с деникинцами Махно был гуманист!»[5] В результате к 1920 году евреи массово дезертировали из белых частей и переходили на сторону красных.
Следует заметить, что первые десятилетия советской власти какая-либо гласная дискриминация евреев в Советском государстве практически отсутствовала, за исключением разве что подавления националистических и религиозных образований, но это в то время относилось ко всем нациям, включая в первую очередь и русскую. В этот период власть, пока еще действуя в рамках официально провозглашенного интернационализма, делала все для ассимиляции евреев в числе других народностей, которые должны были образовать некий обобщенный «советский народ» без традиционного национального деления.
Эта ситуация резко изменилась в конце сороковых годов (о чем далее), но даже тогда советская дискриминация по «пятому пункту» была большей частью неофициальной и ни в какое сравнение не шла с тем, что творилось в царские времена. Правозащитники и диссиденты брежневского периода справедливо возмущались лицемерием и произволом властей в отношении «лиц еврейской национальности», но не стоит забывать, что куда более серьезная дискриминация в дореволюционной России существовала вполне легально — в рамках законов и высочайших указов. Советская власть оказалась прагматичнее царской: евреи продолжали работать в оборонном и научном секторе, в том числе на ведущих должностях, вплоть до директоров институтов. Не допускались они лишь в высший руководящий, партийный и командный состав, где принимались главные решения. И за границу их тоже старались не выпускать, но только «при прочих равных» — это ограничение, как и занятие постов различного уровня, не было абсолютным.
В Москве семья Анчаровых живет на Благуше — в окраинном районе на востоке Москвы, Петровская (ныне Кирпичная) улица, дом 2. А с 23 мая 1933 года поселяется неподалеку от прежнего места жительства — в Мажоровом переулке, дом 4/6, кв. 35.
В романе «Теория невероятности» Михаил Анчаров так писал о своей малой родине:
«…от всей огромной Благуши, что простиралась от Семеновской заставы до Окружной дороги и Измайловского зверинца[6], осталась одна маленькая улочка под названием Благушинская, самая тихая в Москве. Это такая тихая улица, что когда среди бела дня раздается вопль “Машина-а!”, то с тротуаров кидаются мамки, няньки, расхватывают детей, играющих на булыжной мостовой, и улица пустеет. Потом медленно тарахтит цистерна “МОЛОКО” — и снова на Благушинской улице “классы”, ведерки для песочных пирогов и всякое такое.
Знаете ли вы, какие названия были на Благуше и в окрестностях? Боже мой, какие были названия! Хапиловка, например. Это такая речка, которая состояла из чистой воды керосина. Или Божениновка. А Благуша? Одни говорят, что это имя основателя района. Помните, у Пугачева был сотрудник по имени Хлопуша? Все наши благушинские считали, что это просто опечатка».
В этом описании сразу несколько неточностей. Во-первых, улочка, сохранившая название, всегда называлась не Благушинская, а просто Благуша. В этом легко убедиться, разыскав ее на Яндекс.Картах по названию или просто просмотрев территорию района Соколиная Гора.
Вторая неточность — в происхождении названия, которое, разумеется, полностью выдумано Анчаровым. Современный «Полный словарь названий московских улиц» Я. З. Рачинского[7] свидетельствует, что «чертеж середины XVII века показывает здесь болото (ручей) Благуша (вероятно, от просторечного благой — плохой, ерундовый)». Уже много позже под Москвой обнаруживается некая «благушинская роща»:
«…в 1804 году Благушинская роща стала одной из шести казенных рощ, где учреждалось лесное хозяйство. В 1830 году царский указ повелел защитить рощу кольцевым каналом, но, несмотря на высочайшее покровительство, к середине XIX века она была вырублена».
Ну да, благушинские жители, по свидетельству Анчарова, во все века отличались независимым характером и плевать хотели на царские указы.
Согласно «Истории московских районов»[8]:
«…с первой трети XVIII века Благуша — район кирпичных заводов (см. современная Кирпичная улица, б. Петровская). К середине XIX века их на Благуше — до сорока. Развивалась как район дешевого, одно-двухэтажного жилья. Соседство с Казанским железнодорожным направлением, по которому в столицу поступал азиатский хлопок, способствовало строительству текстильных фабрик».
В 1890-е годы началась интенсивная застройка Благуши:
«Удельное ведомство, владевшее московскими пригородами, распланировало сетку улиц Благуши (планировка эта в целом сохраняется и поныне). Тогда же новые благушинские улицы были названы в честь городских землеустроителей — инженеров и геодезистов».
Из них Вельяминовская улица (Григорий Николаевич Вельяминов — начальник Московского удельного округа), Мироновская улица, Фортунатовская улица, Борисовская улица сохранили свои названия по сей день. Давыдовская улица в 1922 году переименована в Лечебную — по находившейся здесь Благушинской больнице (бывшей Измайловской земской лечебнице). Мочальская улица в 1957 году переименована в ул. Ибрагимова.
«К 1906 население Благуши достигло 10 000 человек». Кстати, Большая Семеновская улица (очевидно, вместе с современным Измайловским шоссе) первоначально была частью Владимирского тракта. Название «Измайловский» (Измайловский парк, Измайловское шоссе и т. д., в т. ч. метро «Измайловская») восходит к царской резиденции, появившейся на этой территории еще в XIV веке, а название «Семеновский» (ул. Малая Семеновская, Большая Семеновская, станция метро «Семеновская») ведет свое происхождение от одного из знаменитых «потешных» полков Петра I.
До 1917 года Благуша — пригород Москвы, и на более ранних планах города вы ее не найдете. С 1917-го она входила в состав Благуше-Лефортовского района. Историческая Благуша была ограничена с запада Яузой и железнодорожной линией Казанского направления, с севера Хапиловскими прудами (образованными той самой анчаровской речкой Хапиловкой), с востока линией малого кольца московской окружной железной дороги. Центром района считалась Семеновская площадь, расположенная на пересечении нынешней Щербаковской (до 1922 года Михайловской) улицы и Измайловского вала, там, где сейчас метро «Семеновская».
Благуше-Лефортовский район в 1930 году вошел в состав огромного (самого большого в Москве по численности населения) Сталинского района. А станция метро в проекте Измайловской линии метрополитена, между прочим, сначала проходила под названием «Благуша». Потом она временно фигурировала как «Семеновская», однако с момента постройки в 1944 году получила название по названию района: «Сталинская». В 1961 году район был переименован в Первомайский, а станция утвердилась под названием «Семеновская».
Брошюра 1947 года[9], описывающая Благушу этого и более раннего времени, утверждает, что на месте Семеновской площади до революции была городская свалка. Во времена детства Анчарова ее уже уничтожили.
Неоднократно во время разных выступлений, комментируя свою песню «Цыган-Маша», Анчаров так рассказывал о Благуше и ее обитателях (цит. по Сочинения, 2001):
«Это на Благуше, а Благуша — это такой московский район, окраина, был цыган с женским прозвищем Маша. Он, в общем-то, немного описан в романе “Этот синий апрель”, а это про него песня.
Построили здоровенный дом, и туда въехали новые жильцы. Мы все были такие новые, все такие новостроечные, такие все правильные, передовые. Поступили в школу. А рядом был вот этот “дом Панченко”[10]. Доходный дом. Там жулья было полно. Там, например, во дворе сидел такой мужчина по фамилии Грыб (это прозвище было — Грыб) и играл в кости, а к нему кто-то лез в карман. Он так, не оглядываясь, бил того по физиономии и опять играл в кости, а тот опять лез. То есть он его тренировал. Он должен был влезть к нему так, чтобы даже Грыб не заметил. <…>
Кстати сказать, оттуда отличные художники вышли. Вот сейчас на выставке, в этой самой конюшне, в Манеже, там есть такая мозаика. Флорентийская мозаика <…> Володи Яценко. Тоже цыган, между прочим… Из этого дома парень. Такой курчавый, черный цыган был. <…>
Там были отличные ребята. Короче говоря, если бы, как говорит конферансье, их энергию да в мирных бы целях, то все было бы замечательно. Ну, просто они люди с перекосом все были. Там был такой Чирей, знаменитый, с редкими страшно зубами. Он меня взял под свою опеку и не позволил мне путаться с жульем. Я только пел песни, но я видел все. Вот эта самая Благуша, вся старая, уходящая… Кстати сказать, на материале Благуши написан роман “Вор” Леонова. Это тот самый район. Так что пришлось все это повидать. Потом, в войну, они все воевали, но большинство, к сожалению, в штрафниках. Кое-кто вернулся, но большинство погибло. А те, кто вернулись, вернулись с “иконостасами” на груди. Вот так. Ребята были талантливые, но непутевые».
Писатель Юрий Туманов в своем рассказе описывал Благушу довоенных лет в куда менее романтических тонах[11]:
«Черкизово — воровской край. Благуша — гнездо бандитское. Кто об этом не знает в Мажоровом переулке. Все знают.
Мальчишки и парни когда-то единственного тут каменного дома — анохинского — почему-то считают себя благушинскими ребятами. Хотя, если честно, то к Благуше ближе совсем не анохинский, а соседний — панческий[12], стоящий почти впритык к анохинскому, но числящийся по Большой Семеновской улице под номером сорок пять. А панческий в благушинских что-то не числится, нет. Может, потому, что все оторвы из этого дома, десятка в два и больше, сидят почему-то далеко от дома в Бутырской тюрьме. А анохинские почти на Благуше — в Лефортове. И как полагается, как от века идет, понятно, на Матросской Тишине».
Юрий Туманов упоминает также и семью Анчаровых, причем в таких подробностях, каких у самого Анчарова, ненавидевшего «национальный вопрос», не встретишь (здесь «Люська» — брат Миши Илья, родившийся в 1927 году[13]):
«В тысяча девятьсот двадцать шестом году между анохинским домом и панческим снесли два маленьких деревянных дома в Мажоровом — четвертый и шестой — и выстроили каменный, кирпичный, кооперативный четыре-шесть. Заселили совсем не тем людом, к которому привыкли Мажоров и Семеновские улицы.
Интеллигенция — плевались анохинские и панческие. Ржавая. Но ходили кругами вокруг дома, заходили в подъезды. Правда, выше третьего этажа не подымались. На четвертом и на первом там привычный люд — с Мастяжарта, с двадцать четвертого, с электрозавода. А на втором табличка сияет бронзовая — инженер Петров. Первый инженер во всей округе. На третьем такой же сияющий золотом квадрат — Анчаров Леонид Михайлович. А кто он — Анчаров, не написано. Зато во дворе и переулке Анчарова видели этаким фертом. Гаврилка-галстук всегда при нем, шляпа, ботиночки то ли Джимми, то ли Чарли… Идет, левой рукой шляпу приподымет, кивнет чуть-чуть — буржуй, чистый буржуй.
Сыновей его — Мишку и Люську — во дворе отлупили в первый же день. Потому что не задавайся, интеллигенция. Ржавая.
Нюрка-дворничиха зашла к ним домой, ахнула.
— Там у них на ширмах зеленые черти вышиты, скачут друг на друге. Просто черт-те что.
— А ты что хотела, Нюра? — ласково спросила ее барыня, МишкинаЛюськина мать. — Чтобы у меня на ширме красноармеец был? И чтобы он еще и воздух мне испортил…
<…>
Ему в самое ухо орут — Жид, жид, по веревочке бежит…
А он себе молча идет, ушками только едва шевелит. Но к маме идет. Жаловаться.
Потом это и опасно стало. В деревянный двухэтажный дом меж панческим и четыре-шесть возвратился откуда-то с севера Рыло. О нем-то давно все знали. Всюду. Где ни спроси: “Знаешь Рылу?” Хоть в Измайлове, хоть на Синичке[14]. Знают. Сначала оглянутся, потом ответят. Знают. Знают. Еще б не знать. Пятерых зарезал Рыло. И это только в Мажоровом, да на Семеновских. Правда, троих не до смерти.
Пролез как-то Рыло сквозь дыру в заборе во двор четыре-шесть.
На ремне финочка в кожаном чехле, фикса золотая блестит-сияет. Прошелся туда-сюда, с анохинскими парой слов перекинулся, присел на столбушки.
А меж столбушками мелюзга шебаршится, Мишку с Люськой в их подъезд гонят.
…Жид, жид, по веревочке бежит…
Цыкнул Рыло сквозь выбитый зуб кому-то постарше прямо в харю. Не дал убежать, поманил пальцем.
— Подь сюда, оголец.
Оголец туда-сюда, да от Рылы разве смоешься.
Поставил он того у одного столбушка, примерился и с правой ноги пенделя прямо в живот. В печень попади — убил бы насмерть. Так и вогнал огольца в угольную яму котельной. Зверски ударил, без всякой жалости.
Каторжные пощады не знают. Анохинские из-за забора посмеялись.
— Что, съел? Привязался, сявка поганая — …жид, жид… что тебе, татар нет, что ли?
Рыло на каторге в Соловках вылечил доктор-еврей. Другой еврей помог деньгами на дорогу. И не москвич даже был еврей, с Воронежа сам.
— К маме не бегай! — строго зыркнул Рыло на Мишку. — Мне крикни, если что.
Еврейский вопрос в Мажоровом переулке решился разом и навсегда».
Через полвека в повести «Записки странствующего энтузиаста» Анчаров признается: «Я заметил за собой, что читать правду я иногда люблю, а писать — нет». В его прозе почти нет полностью выдуманных людей и обстоятельств, но реальные люди и события всегда изменены и нередко упрощены до схематичности. Забегая вперед, заметим в скобках, что это совсем не изъян писательской манеры Михаила Леонидовича — наоборот, так его проза становилась более «импрессионистичной». Его не интересовала доскональная передача фактов — Анчаров занимался передачей образа, авторского впечатления от описываемых людей и событий. Поэтому у него нет, например, подробных описаний деталей одежды или интерьера, кроме самых ярких и характерных, но тем не менее мы воочию видим изображенную им Благушу и ее население так, как хотелось автору.
Как мы уже говорили, национальные отношения Михаила Леонидовича никогда не интересовали (разве что в негативном ключе), потому подобных тумановским очерков о запутанных дворовых отношениях мы у него не встретим. Зато его очень интересовали идеализированные образы «запутавшихся» блатных из страны его детства. Потому он описывает налаживание отношений с панченскими в куда более возвышенно-романтических тонах, чем сосед по дому (из повести «Этот синий апрель»):
«И однажды шестеро панченских подошли к Памфилию, и бежать было некуда, и свистеть он тогда не умел, да никто бы и не пришел на свист из деморализованного дома.
— Ну, ты… — сказал Гусь.
Он был младший из них, и ему не нравилось, что Памфилий не боялся, и не остальным же было связываться с букашкой, которая мозолила глаза, — остальные только смотрели с брезгливым интересом.
А Гошка вздохнул с облегчением. Он увидел, что от ворот идет отец, усталый после работы. Он только опасался, что отец не заметит его и не успеет подойти раньше, чем Гошка почувствует режущий удар в лицо. Он только опасался, чтобы отец не нарвался на случайный нож, когда будет раскидывать панченскую шпану тяжелыми кулаками, и уже приглядел булыжник, который можно опустить на голову того, кто в суматохе выдернет перо из клифта и попытается пописать отца.
— Шухер, — сказал Рыло, и Гусь отодвинулся.
Отец заметил Гошку, подошел и сдвинул кепку ему на нос. Потом скучно оглядел всех и спросил:
— Спички есть?
Чирей, сощурившись, протянул спички. Отец достал пачку “Норда”, размял папиросу, сунул в угол большого рта и только тогда взял спички из протянутой руки, закурил и не глядя протянул пачку остальным. Панченские взяли по папиросе и внимательно задымили. Отец спрятал пачку в пиджак с отвисшими итээровскими карманами, в которых болтались карандаши, и спросил уходя:
— А почему к тебе товарищи в дом не приходят?
— Не знаю, — сказал Гошка.
— Значит, не уважают, — сказал отец.
И пошел к дому по скрипучей асфальтовой дорожке. Хотя он так и не посмотрел звуковой фильм “Путевка в жизнь”, видимо, считал, что поступать надо именно так.
Вот когда Гошка испугался — кто же не боится предательства? И еще он боялся, что панченские увидят, как он боится.
А панченские смотрели вслед отцу, пока он не скрылся в подъезде.
— Пошли, — спокойно сказал Чирей и подбородком позвал Гошку.
И Гошка вместе со всеми двинулся в загадочную и мрачную панченскую страну. Гошка понимал теперь, что так надо, что так лучше всего, что, если отец оставил им сына — значит, это всерьез, значит, они люди, а не пугало, и сын не заложник. И Чирей идет рядом и не даст утонуть, а научит плавать <…>.
Чирей наложил табу на Гошку, и ни разу никто не позвал его, когда брали ларек, или стоять на стреме, или выпить водки, или понюхать марафету. И Гошка только видел, видел, как Грыб играл в карты, а к нему в карман лез какой-то сявый, и Грыб, не оглядываясь, бил его по физиономии, а тот снова лез — учился работать чисто; и слышал, слышал, как пели страшные рассказы о проданных малинах, о киперах и медвежатниках, о фармазонщиках и уркаганах, о бери-мере-ойс и о Мурке, погибшей красоте. И Гошка пел, пел все эти песни и еще одну песню, которую знал только он и которую больше всего любил Чирей, — “Прощай, товарищ дорогой… я вдаль иду вслед за водой — в дорогу, в дорогу… в дорогу, в дорогу…” Эту песню написал один немец, по фамилии Шуберт, и Чирей, когда слышал ее, утыкался лбом в стекло на лестничной площадке доходного дома, вонявшей кошками, и скрипел зубами».
Разумеется, Анчаров все это придумал, кроме, может быть, самого факта встречи с отцом в момент очередного выяснения отношений с блатными. А образы панченских бандитов и отношения между шпаной, интеллигентами и «добропорядочными мещанами» явно взяты из головы. От существовавших в реальности прототипов наверняка остались одни клички. Хотя не исключено, что в детстве он действительно воспринимал их через романтическую дымку выдуманного им самим мира. Так, он находит в образе уголовника Чирея, скрипящего зубами от песни Шуберта, первого встреченного в жизни поэта:
«Потом Чирея забрали, и он исчез, пропал. И победило сложившееся предвзятое мнение.
Сколько лет прошло, и вот уже наконец Гошка понял — это был первый поэт, которого он встретил в своей жизни».
Некоторой искусственности, идеализированности образа Чирея и вообще всей «романтическо-блатной» Благуши Анчаров и не скрывает. В восьмидесятые годы он высказывает вполне трезвый взгляд на эту сторону жизни. Выражая отношение к «пиратским песням», в 1984 году в интервью «Великая демократизация искусства»[15] он говорил (цит. по Сочинения, 2001):
«Знаете, я привык понимать буквальный смысл слова. Сейчас для вас пират имеет переносный смысл — море, паруса, декоративные кинжалы… Но пираты, простите — бандюги, живых людей резали, из-за золотой бранзулетки могли горло перерезать. <…> Зверье живоглотное — вот что это было. Другое дело — причины появления пиратства. Их миллион всяких разных — социальное бесправие и так далее. Но это причины, а человек все же несет ответственность за самого себя. Причины причинами, но каждый выбирает свой путь» (выделено нами — авт.).
Михаил Леонидович, наверное, понимал, что его идеализированные уголовники с Благуши — те же самые пираты. Но он с детства буквально воспринял лозунг эпохи о том, что уголовники, блатные есть «социально близкие», свои, пролетарии, только попавшие в неправильные жизненные условия. Упомянутый в тексте кинофильм «Путевка в жизнь» продвигал именно такую точку зрения, ее поддерживал разрекламированный образ действительно выдающегося педагога Антона Макаренко[16], она была отражена даже в названии мест лишения свободы: «трудовые исправительные лагеря». Конечно, в интерпретации советских идеологов стереотип об «исправлении» личностей, воспитанных в неправильных жизненных условиях, был упрощен предельно. Именно в таком виде он позволил сталинскому режиму эксплуатировать примитивное представление неграмотного населения о труде исключительно в его физической форме и тем самым получить сотни тысяч бесплатных рабов на стройках пятилетки — считалось, что остатки «эксплуататорских» классов там подвергаются «перевоспитанию».
Стереотип о «перевоспитании преступников» имеет куда более глубокие корни, чем просто марксистско-ленинские идеализированные представления о низших слоях общества как о «недоделанных» пролетариях. Он восходит к представлениям эпохи Просвещения о том, что «человек по природе добр», только его неправильно воспитывают. Этот же тезис лежит в основе концепции гуманизма, представляющей один из краеугольных камней современной европейской цивилизации.
Нельзя, конечно, утверждать, что деятели Просвещения в этом вопросе полностью ошибались, — просто жизнь и человеческая природа намного сложнее, чем им представлялось. И то, что у одного действительно есть лишь следствие неблагоприятной среды формирования личности, у другого — органическое свойство натуры, он всегда будет вором, убийцей и насильником, в какие условия его ни поставь. Несомненно, однако, — и современная история, психология, этология и другие дисциплины это многократно подтверждают, — что человек вовсе не «добр по природе». В соответствующих обстоятельствах он слишком легко и охотно скатывается в состояние первобытной дикости. Но не стоит и впадать в противоположную крайность, как это было свойственно некоторым философам предшествующей эпохи[17], — так же несомненно, что личности, добрые «от природы» (а не потому, что «так принято» или «так выгодно»), все же встречаются, и не так уж и редко.
Правда, и здесь точка зрения Анчарова отличается от официальной — понаблюдав за жизнью, он самостоятельно обнаружил, что категория неисправимых все-таки существует. Есть у него такое рассуждение (из повести «Этот синий апрель»):
«Считают — блатные опаснее хулиганов. Это все же ошибка. Конечно, человеку, которого ударили финкой, безразлично, кто это сделал — хулиган или уголовник, но для общества в целом это не вовсе безразлично. В те годы блатными становились с отчаяния, а хулиганами с жиру. В блатные шли деклассированные, а хулиганы прятались за спину класса. Потому что блатной — это человек, не нашедший применения, а хулиган — это бездарность, желающая стать нормой. Потому что тогда за блатными стояла социальная трагедия, а за хулиганами — чувство неполноценности. Это не оправдание тогдашней уголовщины, но жизнь показала — блатному, чтобы “завязать”, нужно уверовать в справедливость, а хулиган боится справедливости как огня. Потому что он классовый нуль. Поэтому уголовники нуждались в доверии, а на хулигана действовала только палка. Хулиган — это резерв фашизма. Мало кто понимал это в те годы, но Гошка прекрасно помнит, что для панченских слово “хулиган” было ругательством, равным слову “дерьмо», и за это слово они лезли на нож. И потому, когда мимо огромной компании Малины-старшего цепочкой шли панченские, запахивая клифты, малининские расступались, и в глазах у них появлялось что-то собачье. Потому что они понимали — эти церемониться не станут, не в милиции, где они, меланхолически хлюпая носами, обещают исправиться и повышать производительность труда».
Анчаров в своих творениях настойчиво предлагает по умолчанию считать конкретного человека все-таки добрым, пока не доказано обратное. Вот эта «презумпция доброты» и есть главное, что он хотел показать, выставляя в своих произведениях воров и бандитов несостоявшимися поэтами. И это резюме ему важнее, чем «объективная» правда жизни, которую демонстрировал Юрий Туманов в своих рассказах.
Вот реальный случай, произошедший на даче Анчаровых в конце восьмидесятых годов. Рассказывает жена Михаила Леонидовича Ирина во время застолья в их доме:
«К нам залезли воры. Приезжаем на дачу, там все перевернуто, валяется куча разной одежды. Анчарову все я покупаю, поэтому он не знает, что его, что не его. Приезжаем, там три милиционера с фотоаппаратом, следователь, участковый, куча народа, всё снимают. Взяли этого вора прямо у нас на даче. И куча вещей навалена. Мне, значит, нужно опознавать, показать, где наши вещи, где не наши. Барахло лежит какое-то страшное. Я смотрю и говорю: “Это не наше, это не наше, вот наш свитер…” Тут вступает Анчаров: “Лапусь, что-то я этот свитер не помню…” Причем это при милиционерах. Продолжаю смотреть дальше: “Нет, это не наше, это не наше, вот эта рубашка наша…” Анчаров: “Лапусь, рубашку-то эту я не знаю…” Как не знаешь, эту рубашку тебе Надя Корункова на день рождения подарила?.. Дальше суд. Он таку-у-ю речь произнес в суде…»
Гость: «Не трогайте этого жалкого и несчастного человека?»
Ирина Анчарова: «Что ты, что ты… Вор сказал на суде: “Если бы я знал, что к такому человеку лезу на дачу, я бы в жизни не полез”. Леша Эйбоженко, покойный, еще сказал после, когда услышал: “Знаешь, Миша, усынови его…”»
И еще Анчаров полагал, что человек может многое искупить своими поступками. Тот, кто всю жизнь грешил, может совершить подвиг, а «праведник» — струсить и отвернуться. «Но где ж ты святого / Найдешь одного, / Чтобы пошел в десант?» — утверждает Анчаров в «Балладе о парашютах» (1964), одной из своих самых знаменитых песен. Это же отношение отражено в упоминавшейся ранее песне «Цыган-Маша» (1959), в последних строфах которой он говорит:
Он бил из автомата
На волжской высоте,
Он крыл фашистов матом
И шпарил из ТТ.
Там были Чирей, Рыло,
Два Гуся и Хохол —
Их всех одним накрыло
И навалило холм.
Ты жизнь свою убого
Сложил из пустяков.
Не чересчур ли много
Вас было, штрафников?!
Босявка косопузый,
Военною порой
Ты помер, как Карузо[18],
Ты помер, как герой!
1 сентября 1930 года Миша Анчаров пошел в 1-й класс 52-й школы ФЗС при Электрозаводе. Сохранилась нечеткая любительская фотография учеников, на обороте которой написано:
«1933 9 лет 52 шк. ФЗС»
Фабрично-заводские семилетки (ФЗС) существовали до 1934 года, потом они в основном были преобразованы в неполные средние. С третьего или четвертого класса Анчаров учился уже в общеобразовательной школе № 425, расположенной на Большой Семеновской улице, дом 40а. Школа была построена на бывшем пустыре, открыта в 1929 году и считалась для района образцовой. Неясно, то ли она была открыта как 52-я ФЗС и затем преобразована в полную среднюю, то ли с переездом в новый дом в 1933 году Анчаров пошел в другую школу.
Стоит заметить, что школа № 425 была закрыта в 1963 году, номер позднее передали другой московской школе (в Северном округе), а оборудование и учителей перевели в открывшуюся 1 сентября 1964 года школу № 403 на Сиреневом бульваре. Здание передали институту МАМИ, который размещается на Большой Семеновской и по сей день.
Школа № 425 получила известность в годы войны, когда Анчаров и его школьные друзья уже ее закончили, — зимой 1941/42 года это была единственная школа в Москве, которая работала. Воспоминания преподавателя русского языка Антонины Васильевны Корнеевой были опубликованы уже в наше время в газете «Первое сентября»[19]. Они настолько хорошо описывают атмосферу эпохи, что мы здесь решили привести большой их фрагмент:
«16 октября 1941 года — памятный день для всех, кто оставался в Москве. Многие покидали столицу, вереницы машин по шоссе Энтузиастов двигались в направлении города Горького. Мы, большая группа учителей 425-й школы (тогда Сталинского района), никуда не уезжали, приходили каждый день в школу, туда же приходили старшие ученики, оставшиеся по каким-либо причинам в Москве. Вот тогда и возникла мысль продолжить занятия с восьмыми, девятыми и десятыми классами — сколько наберется учеников. Мы рассуждали так: зарплату нам дали за два месяца вперед, на завод нам не поступать, уже поздно менять специальность (всем под пятьдесят), но если есть ученики, надо вести учебный процесс. И вот негласно мы начали занятия. <…>
Из учеников были организованы бригады в помощь заводам МИЗ и № 615. Каждый день они выходили на работу. На шестьсот пятнадцатом освобождали цеха от мин, почему-либо забракованных, становились цепочкой и передавали мины из цехов на улицу. Это было нелегко: мина весила около 12 килограммов, зимой они, холодные, жгли руки, а варежки были не у всех; работать приходилось по три часа, иногда и дольше, пока цех не будет свободен. Упаковку оружия и мин поручали только десятиклассникам, это требовало от них большой осторожности и аккуратности. Бригада девочек ходила в Лефортово, в госпиталь: помогали медицинскому персоналу, писали письма, читали раненым книги. <…>
О занятиях в школе стало известно в райисполкоме. Председатель исполкома А. Г. Яковлев приехал в школу, беседовал с ребятами и учителями. Нам сказал: “Ну продолжайте, зарплату будете получать в райисполкоме, обо всем ставьте меня в известность”. Учились все очень усердно, так, как никогда раньше и после. Никого не надо было заставлять. В школе было холодно, мерзли чернила. Ребята жались к друг другу, но никто не болел, никто не пропускал уроков.<…>
Приходили к восьми часам вечера, позднее нельзя было ходить по улицам: Москва была прифронтовым городом. До десяти часов вечера занимались кто чем хотел: учили уроки, пели и рассказывали интересные истории, играли в домино, в литературные игры. Много смеялись и на время отвлекались от дум о войне.
В 10 часов обычно объявлялась воздушная тревога, все бежали на свои места. Жутко было сидеть во дворе у черного входа! Зенитки стреляют, прожекторы бороздят небо, а завод ни на минуту не прекращает работы, не замедляет темпа ее, хотя о крышу стучат осколки. А на крыше школы, на астрономической площадке, еще более жутко: виден весь огненный пояс вокруг Москвы, самолеты, стремящиеся к Москве, прожектора, ослепляющие их, где-то взрыв, где-то пожар! И так до трех утра, а там — отбой, и все идут спать: на столах в физическом и биологическом кабинетах приготовлены матрасы, а утром — снова занятия.
Как говорят, шила в мешке не утаишь, так и о работе нашей школы пополз слух по Москве, и скоро к нам потянулись поодиночке старшеклассники с разных концов столицы, и к седьмому ноября у нас уже было пять десятых, три девятых и три восьмых класса, работать становилось интересно. <…>
Было у нас интересное происшествие. Однажды ночью стучат в парадный вход школы. Кто? Нарочный от Сталина к директору. Испугались… Вот, думаем, расправа за самовольную работу. Оказалось — благодарность школе за проявленный патриотизм: школа сдала облигации займа и 16 000 рублей денег на танк “Московский школьник” — собрали ученики. Личную подпись Сталина утром разглядывали ученики. <…>
Незаметно подошло время выпускных экзаменов. Вот и они миновали… Сто человек окончили школу. Заводы дали средства, а воинская часть, стоявшая поблизости, — продукты, музыку и кавалеров. Окончивших мальчиков было мало, хотя заводы и давали им броню. Завод № 615 давал броню для мальчиков-десятиклассников, чтобы дать им возможность окончить школу. Думали о победе, о жизни.
Выпускной вечер… После него для наших выпускников была война. Те, кто остался в живых, возвращались не за школьную парту, а в вузы. Но с некоторыми происходили комические истории — их аттестатам не верили: ведь школы Москвы в первый год войны не работали. Приходилось школе давать справку, что занятия в 1941/42 году были, что такому-то был выдан аттестат с соответствующим номером».
Судя по фото в газете «Первое сентября», автор воспоминаний Антонина Васильевна Корнеева и Нина Васильевна Корнеева, классный руководитель анчаровского выпуска и преподаватель русского языка, — одно и то же лицо. В архиве Михаила Анчарова сохранилось ее фото.
Имя «Нина Васильевна Корнеева» подписано на обороте этой фотографии. Александр Маркович Плунгян[20], учившийся на год младше Анчарова в той же школе, также называет это имя, оно же фигурирует на обороте фотографии класса, сделанной Натальей Суриковой в 1938 году, и в ряде других источников (см. далее воспоминания одноклассников) — нет никаких сомнений, что классную руководительницу и преподавателя русского языка звали именно так. Маловероятно, что А. В. Корнеева, называя учителей школы в своих воспоминаниях, обошла однофамилицу, причем также преподавателя русского языка, тем более что директор школы, которую она упоминает, тоже носила фамилию Корнеева (Вера Александровна). Если только в газете «Первое сентября» при публикации ничего не напутали, то остается предположить, что в разговорной речи официальная «Антонина» вполне могла представляться как «Нина», а ее ученики ее полное имя просто не знали.
Воспоминания одноклассников об учебе в школе записал С. Новиков (Сочинения, 2001):
«…Учились мы в одном классе, в школе № 425, находившейся напротив Мишиного дома на Большой Семеновской. Первой нашей учительницей была Корнеева Нина Васильевна, которая вела нас до четвертого класса, одновременно сама училась в педагогическом институте, а затем преподавала русский язык и литературу уже до десятого класса.
Миша очень любил стихи, очень много читал, но учился плоховато. Математику, физику не воспринимал совсем. Сочинения писал на один лист, не больше».
Советская довоенная школа была совсем не настолько плоха, как это можно предположить, исходя из общей предельно идеологизированной атмосферы тех времен. Сказалось то, что учительский состав в столичных городах еще почти поголовно состоял из педагогов, получивших образование уровня классических гимназий до революции, а большое количество новых преподавательских кадров, потребовавшихся в связи с ориентацией на поголовную грамотность, были их непосредственными учениками. Вообще высокий уровень всеобщего обязательного образования — одна из реальных заслуг советской власти. Ей можно поставить в упрек только естественно-научный перекос в образовании, когда география, физика, математика и химия преподавались даже с излишней подробностью, а гуманитарные предметы, особенно история и обществоведение, сильно пострадали от стремления придать им «классовый» характер. История преподносилась полностью в соответствии с текущей линией партии, и общее впечатление от нее оставалось таким, какого хотели добиться партийные идеологи: то есть до 1917 года все в мире было тоскливо и безысходно, и настоящая история началась лишь с приходом большевиков.
Самой большой, конечно, лакуной в советском гуманитарном образовании было практическое отсутствие знакомства с историей мировой философской и политэкономической мысли. Это направление даже на профильных факультетах вузов было практически полностью вытеснено соответствующими разделами марксизма-ленинизма. Все, что было до «единственно верного» и «единственно научного» учения, умещалось в небольшую работу Ленина «Три источника и три составные части марксизма», позднее дополненную учебниками с говорящими названиями «Критика буржуазной философии», и считалось, что этого достаточно.
Пытливый ученик школы или студент мог самостоятельно составить себе некоторое представление о великих идеалистах: Платоне, Канте, рационалисте Декарте, работы которых не были под запретом. С трудами современников или почти современников: Ницше, Кьеркегора, Рассела, Фреге (и тем более соотечественников: П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Бердяева, Вл. Соловьева) было ознакомиться уже значительно сложнее. И совсем под запрет попадали альтернативные политэкономические школы, которые бурно развивались как раз в первой половине ХХ века. Причем, что парадоксально, не без участия российских ученых, таких как расстрелянный в 1938 году идеолог НЭПа Н. Д. Кондратьев, теорию экономических циклов которого преподают студентам до сих пор, или автор и по сей день популярной в развивающихся странах «моральной экономики» А. В. Чаянов, также расстрелянный — в 1937 году. Их фамилии даже в критическом контексте вообще не упоминались вплоть до горбачевской перестройки. Показательно, что улица имени Нобелевского лауреата по экономике Л. В. Канторовича в Москве отсутствует, зато есть довольно известная улица имени его главного гонителя — ортодоксального марксиста К. В. Островитянова[21].
Поэтому рядовой советский человек, даже пытливого ума и желающий учиться, был лишен важной опоры на мировую мысль. Вспомним историю с кибернетикой, которая просочилась в советскую науку исключительно благодаря настойчивости военных и ученых, знавших английский язык и имевших доступ в спецхран, и затем стала чуть ли не ведущим направлением отечественной науки, вышедшей в этом направлении на мировой уровень (в семидесятые годы самая авторитетная в мире энциклопедия «Британника» закажет статью «Кибернетика» советскому академику В. М. Глушкову). О причинах такого успеха именно кибернетики в отечественных пенатах мы еще будем иметь случай поговорить, потому что они непосредственно связаны с рядом идей Анчарова. А пока заметим лишь, что кибернетика, проделавшая меньше чем за десятилетие путь от ярлыка «реакционной лженауки» (1954) до лозунга «кибернетику — на службу коммунизму!» (1962), — счастливое исключение. В многих отношениях и рядовой, и даже нерядовой советский человек (ученый или писатель) оставались очаровательно необразованными, и в текстах Анчарова это иногда заметно.
Как ни удивительно, но от этих идеологических перекосов меньше других школьных предметов пострадала классическая литература: если своих современников-писателей большевики загнали в жесткие идеологические рамки, то того же нельзя сказать про их предшественников. Коммунисты лояльно отнеслись почти ко всем писателям и поэтам дореволюционной эпохи, исключив только явно запятнавших себя недавних современников из Серебряного века, и то не всех и не навсегда. Разумеется, неадекватно высоко были поставлены «классово безупречные» Горький и Маяковский, но и они совсем не были плохими литераторами, просто им уделялось чересчур большое внимание в ущерб другим крупнейшим фигурам эпохи.
Зато графа Л. Н. Толстого, проповедовавшего, как известно, нечто противоположное «диктатуре пролетариата» и «классовой борьбе», успел отметить Ленин («какая глыба! Какой матерый человечище!»), потому Толстой, по крайней мере как писатель, был представлен очень широко. Трудно чтолибо возразить против культа Пушкина и Лермонтова, ничего нельзя сказать против наличия в школьной программе Гончарова и Тургенева. Иностранцам-классикам: Шекспиру, Сервантесу, Байрону — также уделялось внимание. И в этом отношении советские школьники, пожалуй, стояли повыше своих сверстников в развитых странах за рубежом.
Благодаря Александру Марковичу Плунгяну, учившемуся в той же 425-й школе, как ранее отмечалось, немного позже Миши Анчарова, мы знаем, что Анчаров с друзьями в старших классах очень увлекался Маяковским. Об этом говорит и сохранившаяся картина его друга Юрия Ракино, посвященная последним часам жизни Маяковского. Не самый худший пример для будущего литератора: Владимир Владимирович Маяковский был, безусловно, выдающимся мастером поэтического слова и мог бы занять одно из первых мест в ряду поэтов Серебряного века, если бы не его увлеченность крайними левыми идеями.
В результате этих увлечений Маяковский, революционер и член РСДРП с 1908 года (в 1910 году, после третьего ареста, он, правда, из партии вышел и больше не вступал), растратил свой нерядовой талант на революционную агитацию, пропаганду большевистских идей и превознесение партии и лично ее вождя Владимира Ильича Ленина. «Я, ассенизатор и водовоз, / революцией мобилизованный и призванный, / ушел на фронт из барских садоводств / поэзии — бабы капризной», — писал о себе Маяковский. Он на голову возвышался над прочими «пропагандистами» и «агитаторами» за «власть рабочих и крестьян», каковых в те годы было немало, но, кроме Маяковского, ни один из них, тех, кто благодаря своему таланту остался в литературе, не знаменит именно своими «революционными» произведениями — скорее, наоборот (как, например, Андрей Платонов). А Маяковский гнул свою прямую, как стрела, линию до самого конца. И закончилось это трагически, как всегда бывает с честными и прямодушными людьми, не умеющими изгибаться в соответствии с требованиями текущей политики.
Определяющую роль в трагическом конце Маяковского сыграло понимание того, что его красивые «пролетарские» идеалы фактически были преданы уже к исходу 1920-х. Кризис идеалов развивался на фоне сложившейся к тому времени обстановки прямой травли бескомпромиссного поэта, не желавшего понимать нюансов политической конъюнктуры (например, у него в огромном массиве стихов, посвященных Октябрьской революции и большевизму, всего дважды встречается имя Сталина). И «своевременный» уход спас его творчество для будущих поколений: власть сочла необходимым очень вовремя покончившего с собой поэта возвести на пьедестал.
Такой типаж, в котором не было ничего поддельного, ничего специально придуманного партийными идеологами, — Маяковский каким казался, таким и был на самом деле, — не мог не привлекать к себе юного Мишу Анчарова, обладавшего столь же прямодушным характером. Характерно, правда, что, по свидетельству А. М. Плунгяна, они в своей компании все-таки предпочитали стихи раннего Маяковского, а не его революционные поэмы.
На лето 1932 года приходится поездка 9-летнего Миши вместе с матерью и братом на курорт в Кисловодск. Брат Илья вспоминал (Сочинения, 2001):
«…Мать взяла нас с Мишкой в Кисловодск. У нее была курсовка на лечение, а жили мы на частной квартире и где-то в столовых ели. Вот уж лечение у нее было с нами! То я терялся, то Мишка. Его один раз нашли в газетном киоске: продавец его пустил внутрь почитать, и он читал, читал, забыв обо всем на свете. Читал он так много, что у него началось что-то вроде конъюнктивита (веки были очень воспалены). Да еще он стал часто моргать, за что во дворе девчонки звали его “моргушная кукла”».
Судя по количеству страниц, посвященных такой же поездке главного героя в повести «Этот синий апрель», она оставила у Анчарова в памяти глубокий след:
«Это была курортная гора, и до самой вершины ее опоясывали витки каменной дороги. Но все-таки в ней было что-то лермонтовское, гусарское. Черкешенку здесь, конечно, не встретишь, но Гошка не удивился,если бы, касаясь камней осторожным зонтиком, по дорожке прошла княжна Мэри. Гошка долго не мог понять Печорина. Ему казалось, что можно влюбиться даже в печальный звон ее имени — княжна Мэри. Княжна Мэри, потом Ассоль, потом Аэлита — имена этих книжных девушек были как ступеньки горы, ведущие от курортного балагана к чистой вершине.
Просто Гошка не знал тогда, что вступает на опасный путь лирики, не знал еще, что все клетки его, вся кровь, доставшаяся ему в наследство от тысяч медленных поколений, от веков, уходящих к Атлантиде, которая хотя и утонула в считаные незапамятные часы, но все равно была, что тысячи веков его наследства уготовили ему тоску по встрече — и не с супругой даже и не с возлюбленной, а с подругой.
Он не знал этого, бедный парень, но не хотел идти по тягучей дорожке. Он хотел пересечь ее витки и карабкаться прямо к вершине, продираясь через хаос замшелых камней и мокрых листьев, хватаясь руками за черные заросли.
Гошка добирался до светлого поворота дороги, поджидал спокойно идущего человека и лез дальше сквозь редеющий к вершине кустарник.
И вот наконец они сошлись на последней площадке горы, где была каменная скамья, и заросли внизу, и серые тучи над головой. И огромный воздух кинулся Гошке в легкие, и воздухом наполнилось его сердце.
Человек посмотрел в сумасшедшие Гошкины глаза и взял за плечо тяжелой рукой.
— Ну, давай вниз. — сказал он. — Тебя как зовут?
— Гошка.
И они спустились в Кисловодск. Гошку трясло и тошнило.
Перед длинной деревянной лестницей, которая белела в сумерках на травяном склоне, у Гошки закружилась голова, и он потерял сознание. И человек подхватил его на руки и отнес домой.
— Это от высоты. Перебрал, — сказал он маме. — Дайте ему молока».
В этом фрагменте, основанном на личных воспоминаниях Анчарова, интересен образ этого самого «человека в поскрипывающих сапогах», как его сначала называет автор. Далее в повествовании ему дается такая характеристика:
«И почти не поворачивая головы, кивнул Гошке:
— Пошли…
И Гошка, сбежав со ступенек, пошел рядом с ним, испытывая спокойный восторг, потому что для этого не было никаких оснований. Он шел за ним как привязанный, глядя на тугую спину, синие галифе и поблескивающие чистые сапоги.
Это было настоящее. Это была настоящая мальчишеская дружба с первого взгляда.
Гошка ничего не знал об этом человеке, но понимал, кто он такой. Он настоящий.
Гошка всю жизнь хотел только настоящего, и это было у него главное, если не вовсе единственное положительное качество. Так он считал. <…> И тут послышался крик с улицы, и, хотя светило солнце, опять началась драка, и пробежали какие-то люди, а потом милиционер. И человек этот и, конечно, Гошка за ним подошли к толпе, и вдруг кто-то оглянулся и пропустил человека, а потом еще кто-то оглянулся, и кого-то он сам отодвинул тяжелой рукой, и вдруг драка утихла, потому что все расступились, и мужчина с разбитым ухом вытаращил глаза, снял кепку с длинным козырьком и сказал по-русски:
— Здравствуйте, товарищ Соколов.
И зашелестело… Соколов… Соколов… Так Гошка впервые услышал его фамилию.
А потом, конечно, о драке никто и не вспоминал больше, все закурили и уклончиво спрашивали, как ему здесь отдыхается, и по лицам было видно, что никто не верит этой басне, этой липе, этой туфте, что Соколов просто так отдыхает на курорте, потому что все прекрасно помнили, как он здесь кончал банду Джамала, а Соколов, конечно, зазря не приедет в Кисловодск, и Гошка совсем онемел, потому что он угадал, угадал этого человека, и ему казалось, что в толпе шелестит: “Панфилов… Панфилов приехал… Памфилий зазря не приедет…”
А потом Соколов весь день провел с Гошкой и даже говорил о чем-то, но Гошка презрительно не запомнил ничего, потому что он изнемогал от гордости и обиды, так как по дорожкам парка ходили и останавливались у книжных ларьков военные со шпалами и ромбами, и у них сияли на гимнастерках ордена Красного Знамени.
Соколову надоело Гошкино молчание, и он понял, что иначе нельзя, сходил переодеться и вернулся с двумя орденами Красного Знамени, и Гошка стал совсем счастливый, и теперь было все хорошо и справедливо, и в ушах у него шелестело: “Памфилий даром не приедет… Это он разбил банду Джамала, и на груди у него сияют боевые ордена”».
Потом волей автора повести оказалось, что Соколов по странному совпадению служит начальником райотдела милиции на Благуше. Очевидно, перед нами сборный образ нескольких работников милиции и органов, которых Анчаров встречал в детстве. На фоне воровской и хулиганской Благуши эти уверенные люди, особенно в детских глазах, вполне могли олицетворять все положительное, что декларировала советская власть.
Несомненно, в первом поколении советских чекистов и милиции такие люди должны были встречаться. Бездумная и античеловеческая «борьба с контрой», конечно, не составляла все содержание деятельности ЧК и милиции в двадцатые годы. Время Гражданской войны и НЭПа — время расцвета бандитизма, появления огромного количества беспризорников (то есть, читай, малолетних преступников), проституции, воровских шаек и целых сообществ, вроде столь ярко описанного Исааком Бабелем уголовного мира Одессы. Все это необходимо было чистить, и «органы» в целом к началу тридцатых с этой задачей, в общем, справились.
Но это первое поколение чекистов, часто действовавших действительно не за страх, а за совесть, рисковавших жизнью в схватках с бандитскими шайками в российских городах и с басмачами в Средней Азии, было, видимо, уничтожено в ходе сталинских чисток второй половины тридцатых. Режиму не требовались сознательные чекисты, умевшие отличать запутавшихся блатных от неисправимых хулиганов, — ему требовались бездумные исполнители воли «вождя всех народов».
У Анчарова мы не находим даже намеков на эту трагедию, когда тысячи лояльных режиму, честных и заслуженных работников органов были расстреляны или отправлены в лагеря. У него Соколов погибает, но на Халхин-Голе, то есть в честной борьбе с японскими захватчиками (работник органов? На Халхин-Голе?). Ностальгируя в сорокалетнем возрасте по стране своего детства, Михаил Леонидович, очевидно, не хочет бросать на нее даже тень тени реальных событий, происходивших в это время. Кроме всего прочего, ему пришлось бы это домысливать задним числом, так как катаклизмы эпохи прошли мимо его семьи и лично его никак не коснулись, а домысливать «плохие вещи» из реальности Анчаров не любил и не умел, предпочитая их вовсе не замечать. А. М. Плунгян, правда, вспоминает, что «это был 37-й год, когда наш дом опустел», но у Анчарова вы ничего такого не найдете.
Испанская тема была одной из самых важных в СССР тридцатых годов. Она как бы подменила в официальной пропаганде тему «мировой революции», закрытую с падением Троцкого и других старых большевиков. От концепции «мировой революции» остался официально провозглашаемый «интернационализм» — солидарность со всеми трудящимися в мире (противопоставлявшимися «эксплуататорским классам»). Тема «интернационализма» проходит красной нитью через всю советскую эпоху, принимая разные оттенки в зависимости от политической конъюнктуры. Во второй половине тридцатых «интернационализм» означал помощь республиканской Испании.
Гражданская война в Испании началась летом 1936 года. В СССР бунт группы военных сразу назвали «фашистским мятежом», так как во главе восставших находились националистические силы. К этому времени Испания находилась в состоянии полного хаоса, последовавшего за свержением монархии в 1931 году. Сменявшие друг друга правительства противоположной политической ориентации только способствовали распаду экономики и радикализации политических сил. Левые во время нахождения у власти проводили непопулярные аграрные реформы, отстранили от властных рычагов клерикалов, запретили орден иезуитов и церковное образование. И это в обстановке, когда католическая церковь в Испании традиционно имела огромное влияние и авторитет — несравнимые с авторитетом православной церкви в России, отношение к которой всегда было скорее добродушно-ироническое (вспомним сказку Пушкина «О попе и работнике его Балде»).
В 1933 году к власти пришли правые, остановившие эти реформы. В результате в стране то и дело вспыхивали стихийные и направлявшиеся разного толка радикалами (анархистами, коммунистами, местными националистами) бунты. В феврале 1936 года на выборах снова победили партии Народного фронта, в который входили социалисты, коммунисты, анархисты и леволиберальные партии, возобновившие реформы с еще большей непреклонностью — вместо того чтобы заниматься наболевшими внутренними проблемами. Испания к тому времени находилась в очень плохом экономическом положении: из 11 миллионов взрослых испанцев более 8 миллионов находились за чертой бедности, половина нации была неграмотна.
Вначале во главе мятежа стоял вовсе не Франсиско Франко, до этого демонстративно сторонившийся политики и не входивший ни в одну из многочисленных партий, а генерал Хосе Санхурхо, до начала Гражданской войны находившийся в изгнании в Португалии. После его гибели в авиакатастрофе Франко выбрали «каудильо» (вождем) восставших, вероятно, как раз за его политическую нейтральность, которая, впрочем, не выходила за рамки сил правого толка.
В 1939 году война закончилась победой Франко. За эти годы погибло около 450 тысяч человек, причем из них 320 тысяч сторонников республики и лишь 130 тысяч националистов. Каждый пятый погибший стал жертвой не собственно военных действий, а политических репрессий по обе стороны фронта. По окончании войны страну покинули более 600 тысяч испанцев, среди которых были всемирно знаменитые художник Пабло Пикассо и философ Хосе Ортега-и-Гассет. В ходе репрессий был расстрелян один из ведущих поэтов Испании Федерико Гарсиа Лорка (что навевает аллюзии с судьбой другого выдающегося поэта, Николая Гумилева, расстрелянного в 1921 году в ходе большевистских чисток).
Хотя советская пропаганда называла испанский мятеж «фашистским», Франсиско Франко не был фашистом в современном понимании этого слова. Он действительно был убежденным антикоммунистом, но надо отдать Франко должное: формально заключив договоры с гитлеровской Германией и Италией Муссолини, во Второй мировой войне он умудрился оставить Испанию в нейтралитете. Испанские войска в мировой войне не участвовали, за исключением добровольческой «Голубой дивизии», куда Франко сплавил своих наиболее радикально настроенных офицеров и солдат. Гитлеру он заявил, что «нейтральная Испания, поставляющая Германии вольфрам и другие продукты, в настоящее время нужнее Германии, чем вовлеченная в войну». С другой стороны, под давлением мировой общественности Франко не только закрывал глаза на то, что испанские пограничники за взятки пропускали на территорию Испании евреев, бежавших из оккупированных стран, но и отказывался принять антисемитское законодательство. Помимо евреев, на территории Испании спасались сбитые над Францией и сумевшие перейти Пиренеи летчики антигитлеровской коалиции. Режим Франко им не помогал, но и не мешал за свои деньги фрахтовать суда и отправляться на территории, подконтрольные западным союзникам.
Диктатура Франко в конечном итоге пошла Испании на пользу. В пятидесятые годы в Испании началось «экономическое чудо», выведшее ее из состояния одной из беднейших стран на уровень вполне развитой европейской державы. В конце 1960-х по инициативе самого Франко, к тому времени в значительной степени уничтожившего или подавившего самые радикальные движения с обеих сторон политического спектра, начались демократические реформы, которые после смерти диктатора в 1975 году довел до конца принц Хуан Карлос, по завещанию Франко ставший королем Хуаном Карлосом I.
Но, конечно, в тридцатые годы знать об этом никто еще не мог: в глазах мировой общественности важен был факт мятежа националистов против демократически избранного правительства, причем на фоне набиравшего силы германского и итальянского фашизма. Поэтому на стороне республиканцев в Испании оказалась огромная часть мировой интеллектуальной элиты, склонявшейся в те времена к левым взглядам. В первый раз (но не в последний!) демократические страны Запада оказались на одной стороне баррикад с коммунистическим СССР. Эти настроения очень хорошо воссозданы в знаменитом романе Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол», где дана достаточно объективная картина происходившего. В СССР эта книга была некоторое время под запретом, потому что в ней не очень приглядно показана роль коммунистов. Против романа выступила председатель Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури, считавшая, что автор слишком негативно изобразил руководителя Интернациональных бригад французского коммуниста Андре Марти. Несомненно, подозрительность и нетерпимость коммунистов ко всем, кто отклонялся от «линии партии», сыграли не последнюю роль в том, что к концу войны республиканские силы оказались обескровлены внутренними противоречиями.
Тем не менее Советский Союз оказывал республиканцам в Испании реальную помощь. На стороне республиканских сил воевали советские летчики и танкисты, в республиканском штабе находились советские военные советники, проводились поставки военной техники, в СССР принимали детей-беженцев из оккупированных националистами областей (в основном из Страны басков; многие из них потом так и остались в СССР).
На стороне Франко, кстати, в свою очередь участвовали немецкие летчики и другие военные, что позволило немцам еще до войны обкатать свои вооруженные силы в реальных боевых условиях (причем признано, что советские летчики на истребителях И-16 и И-15бис в испанском небе проиграли воздушную войну немецким летчикам из легиона «Кондор», летавшим на истребителях Ме-109В). Но если немцы широко использовали этот опыт во Второй мировой войне, то советские участники испанских боев вместе с другими военными большей частью попали под каток репрессий конца тридцатых, как известно, почти оставивших Красную Армию к моменту нападения Германии без опытного командования.
Советские мальчишки в те времена бредили Испанией. В романе «Теория невероятности» у Анчарова посвящено испанской теме немало страниц: его главный герой Алеша Аносов по ходу сюжета во время обучения в школе влюбляется в свою сверстницу Катарину, дочь австрийского антифашиста из числа беженцев. Автор направляет Катарину в Испанию (судя по намекам, ее семья вовлечена в тайные операции советского НКВД), где она погибает при возвращении. В повести «Этот синий апрель» Гошка Панфилов со своими сверстниками собирается тайно бежать в Испанию, и их останавливает тот же самый вездесущий и всезнающий Соколов. Эти эпизоды, как и всегда у Анчарова, хорошо отображают отношение простых советских людей к проблемам мировой политики. В эти времена в представлении молодых людей существовала четкая дихотомия «свои»-«чужие», проводимая по разделу «интернационалисты»-«фашисты» (в тридцатые годы сменившие в качестве внешнего врага привычных на заре советской власти «буржуев» и «капиталистов»).
Анчаров всю жизнь довольно последовательно дистанцировался от политики. Он честно рассматривал чувства и пристрастия людей своего поколения, не задаваясь их политическим содержанием. Он делил мир не на «коммунистов» и «буржуев», а на «хороших» и «плохих» людей. «Хорошие люди» при этом у него совершенно необязательно коммунисты и уж точно не члены партии. Об этой формальности у него нигде не упоминается даже намеком — зная реалии 1960-х, мы можем догадываться, что персонаж «Теории невероятности» профессор Ржановский, как руководитель секретного «ящика», обязан быть членом КПСС, но в тексте об этом вы не найдете ни слова. Всю жизнь общаясь в компаниях, где было немало сыновей и дочерей репрессированных а также инакомыслящих, имевших очень разные политические взгляды (из числа его близких знакомых достаточно назвать одного только Александра Галича), Анчаров абсолютно не придавал значения этой стороне вопроса. Среди всех его знакомых, оставивших воспоминания, только одна Татьяна Злобина (подробнее о ней см. главу 5) вспоминает какие-то споры на политические темы с участием Анчарова:
«Мы с ним до хрипоты тогда спорили о том, что всегда у него были такие ярко-розовые взгляды. Ну а мы были дети репрессированных. У меня батя расстрелян, мать 19 лет сидит. У меня, в общем-то, была погублена вся жизнь».
Анчаров расходился с людьми и даже напрямую ссорился, но никогда — по политическим причинам. Он мог смертельно обидеться на кого-то, кто ругал телесериал «День за днем», но ни за что бы этого не сделал, если бы кто-то что-то не так сказал о политике. Он оценивал людей по более глубоким критериям.
В этом же, кстати, заключена причина практически полного отсутствия национальной темы в произведениях Анчарова: ему и в голову не приходит, что «хорошие» — это могут оказаться, скажем, все русские или все евреи, а «плохие» — все немцы или там американцы. У него герои никогда не воюют с немцами или японцами вообще: они воюют с гитлеровцами и фашистами. То есть, говоря по-современному, у него «хорошие парни» очищают мир от «плохих парней», и это деление совсем не зависит от национальности и гражданства, и Анчаров нигде даже не намекает, что оно хоть как-то зависит от партийной принадлежности. Что, несомненно, было одной из причин, из-за которых Анчарова-писателя не слишком привечали власти — не преследовали, разумеется, но и официальным «рупором» он также не стал.
Великий сатирик Джонатан Свифт в 1725 году, за двести лет до рождения Михаила Леонидовича, в одном из писем к другу заявил следующее: «Я всегда ненавидел все нации, профессии и всякого рода сообщества; вся моя любовь обращена к отдельным людям: я ненавижу, например, породу законников, но люблю адвоката имярек и судью имярек; то же самое относится и к врачам (о собственной профессии говорить не стану), солдатам, англичанам, шотландцам, французам и прочим. Но прежде всего я ненавижу и презираю животное, именуемое человеком, хотя от всего сердца люблю Джона, Питера, Томаса и т. д.». Можно предполагать, что Михаил Леонидович счел бы эти слова слишком радикальными в части обобщений (он скорее принял бы гуманистическую формулировку «человек — мерило всех вещей», чем поторопился объявлять человека животным), но под основной идеей подписался бы наверняка. Потому что «человек» для него, как и для Свифта, — это как раз конкретный «Джон, Питер, Томас», а не абстрактный «англичанин», «шотландец» или «француз».
В своем неприятии фашизма Анчаров просто не верит, что на стороне Гитлера или Франко (о том, что последний умеренный националист, а не фашист, тогда еще не подозревали) могли оказаться какие-либо «хорошие люди». Вспомним, как он называет хулиганов «резервом фашизма». Фашизм для него — не политическое течение в ряду других, а чума человечества, опухоль, которую можно только вырезать. И это дает ему основания отрицать фашизм с порога, целиком, причем ни слова не говоря о национальности этого самого фашизма. Кредо Анчарова по отношению к гражданам других стран (которым власти традиционно не вполне доверяли) отчасти выражено в следующих строках из «Теории невероятности»:
«…я оплакиваю Вильяма Сарояна, который придумал Вексли Джексона, который придумал оплакивать всех, кого он любил, а любил он всех, а я не могу любить всех, так как я не могу любить фашистов, хоть режь меня на куски, а Сароян не знает, что где-то в Москве плачет не очень молодой уже человек, который в этот момент, когда у него лопнула, словно шарик голубой, придуманная за один день любовь, вспомнил хорошего человечного писателя, когда отбирал себе книжки в дальнюю дорогу, который почему-то живет черт его знает как далеко, хотя все хорошие люди должны жить под боком, иначе разрывается сердце, и чтобы можно было сказать: “Хэлло, Вильям, я не знаю английского, но моя приятельница Катя знает английский, а мой сослуживец Газиев знает армянский, и они переведут все, что хочешь сказать, а остальное я пойму по глазам, потому что мне сорок лет, и уже изобрели телепатию, и Москва — это не название гостиницы для туристов, а мой родной дом, и у себя дома я все понимаю, кроме себя самого”. И вот теперь я плачу от своей страшной вины перед всеми, кого я оплакиваю, оттого, что не успел сделать ничего фундаментального, что бы помогло понять человеку, на что он способен, если он очень постарается думать о других людях с добрым расположением».
Анчарова можно назвать истинным интернационалистом, не отягощенным какими-либо партийными, политическими, национальными или иными пристрастиями. В этом он солидарен со своими ровесниками — поэтами «землешарного» поколения (П. Коганом, М. Кульчицким, Н. Старшиновым, Б. Слуцким и другими), — они выросли на одной и той же почве. Многие из его современников обиделись бы, если бы их обвинили в недостатке интернационализма, но они все-таки делили мир на «своих» и «чужих»: на пролетариев и буржуев, на русских и нерусских, на евреев и неевреев, на коммунистов и капиталистов, на членов партии и беспартийных и так далее. Анчаров был один из немногих в своем окружении, кто делил мир на хороших и плохих людей, независимо от любых других их качеств и признаков, и ни разу даже намеком не отступил от этого принципа.
Учтем еще и то, что у Анчарова это сочеталось с настоящим, ненадуманным патриотизмом. Ведь всем известно (оглянитесь вокруг), сколь часто патриотизм на поверку оказывается банальной ксенофобией или вовсе просто удобной политической позицией для прикрытия своих неприглядных делишек. У Анчарова интернационализм сочетался с патриотизмом совершенно естественным образом, нигде и ни в чем не вступая в противоречие. В этом отношении у него есть чему поучиться.
Миша Анчаров на протяжении всех школьных лет посещал музыкальную школу, что потом немало ему помогло в занятиях авторской песней. Но это не было его главным и даже сколько-нибудь существенным увлечением. Илья Анчаров так вспоминал об этом (Сочинения, 2001):
«Музыка. С музыкой дело темное. Сначала учили Мишку, потом меня — так полагалось. В Мишкином случае произошла удача — он был очень музыкален, а у меня способностей было явно недостаточно. Но учиться, ходить вечерами в музыкальную школу, играть дома упражнения не хотели ни он, ни я. Один раз мы взбунтовались, и на этом все кончилось, но у Мишки осталась школа».
С раннего детства он увлекается живописью. 12-летний Миша в открытке, посланной из дома отдыха Электрозавода в Калязине, где он проводил зимние каникулы, пишет родным (открытка датирована 7 января 1936 года):
«Сегодня первый раз появилось солнце, рисовал».
Оформить свое увлечение Анчарову помогла дружба. В одной школе с ним учился Юрий Ракино, обещавший стать очень незаурядным человеком. По сведениям самого Анчарова, Ракино был на год старше, но заканчивал школу на год позже. О нем вспоминает А. М. Плунгян:
«…это был человек, который после моего отца оказал огромное влияние на мое становление как человека. И еще одно: у меня создалось впечатление, что его отца [репрессировали]… Юра не любил говорить о семье, и я был у него всего один раз».
Сохранившиеся живописные работы Ракино (упоминавшаяся ранее картина «Маяковский накануне самоубийства» и неоконченный портрет А. М. Плунгяна) говорят о том, что уже в школе Ракино был вполне сложившимся художником. Несомненно, Ракино сильно повлиял и на Мишу Анчарова.
В 1937 году Михаил начинает учиться (вместе с Ракино) рисунку и живописи в показательной Изостудии ВЦСПС в детской группе. Сам Анчаров так писал об этом в рапорте 1947 года об увольнении из армии:
«С самого детства основным моим призванием и увлечением была живопись. Еще в средней школе я без экзамена, по одним работам был принят в Изостудию ВЦСПС, где работал, видимо, неплохо, так как работы мои чаще других появлялись на юношеских выставках в Москве, на периферии, а также были отобраны на юношескую выставку в Брюсселе. По окончании Студии я должен был поступать в институт живописи, но тяжело заболел и, чтобы не терять года, поступил в Московский архитектурный институт».
Забегая вперед, нужно сказать, что впоследствии, с началом войны, Анчаров вместе с Ракино пойдут в военкомат, где Ракино возьмут в летчики, а Анчарова забракуют. Юрий Ракино погибнет в 1942 году, о чем Анчаров до конца войны не знал. Ему Анчаров посвятит первую из сохранившихся песен на его собственные стихи — «Песню о моем друге-художнике» (1941), которая начинается так:
Он был боксером и певцом —
Веселая гроза.
Ему родней был Пикассо,
Кандинский и Сезанн.
Он шел с подругой на пари,
Что через пару лет
Достанет литер на Париж
И в Лувр возьмет билет.
В его тетради с автографами приведен существенно другой первоначальный вариант подбора имен:
Ему родней был Васнецов,
Чайковский и Сезанн.
В сохранившихся фонограммах авторского исполнения песни этот вариант не встречается. Вероятно, Анчаров позднее заметил, что композитор Чайковский все-таки выпадает из ряда, и оставил в тексте одних художников, что ближе образу Ракино.
Обратите внимание на подбор имен: все упомянутые художники принадлежат к авангардным направлениям, а «классик» Васнецов отставлен. Скорее всего, в этом подборе особого смысла искать не стоит — Анчаров просто взял имена, которые находились на слуху и легли в размер строфы, — но все-таки заметим, что в начале сороковых авангардизм, пышным цветом распустившийся в начальный период советской власти, уже был далеко не в чести (подробнее об этом см. главы 3 и 4). Это еще одна иллюстрация к образу Анчарова как совершенно независимого в своих суждениях человека, — он, как и другие его сверстники, впитал многое из веяний эпохи, но принимал и выдавал обратно как свое только то, с чем был действительно внутренне согласен. А все сверх этого — его собственные, никем не подсказанные мысли.
По свидетельству А.М. Плунгяна, в то время в школе действовал театральный кружок, который также посещали Ракино и Анчаров. Сам Анчаров вспоминает об этом в «Записках странствующего энтузиаста» скорее с иронией:
«Я решил принять участие в постановке “Спящей царевны и семи богатырей”, которую ставила учительница литературы. Сказка, конечно, но если ее написал Пушкин, то от постановки должно получиться что-нибудь хорошее. <…>
Я решил участвовать как художник и вообще. На заднем плане было огромное окно кокошником, сделанное из ворот, которые мы притащили со свалки — откуда же еще? Я его раскрасил узорами. И за окном, тоже клеевыми красками, — пейзаж и на обоях в три слоя — ненужный слой заворачивался наверх, каждый на свою палку. Фанерная русская печь и дырка внизу — якобы открытое поддувало. Все было очень натурально. Ну и реквизит кое-какой. Канцелярский стол, например, работал и за обеденный и за постель для царевны. Хрустального гроба не было, но был грот — щель, выпиленная зубцами-клыками из фанеры, расписанной под гранит, где якобы стоит этот гроб и где царевич должен был лобзать отличницу из восьмого класса, чтобы она наконец проснулась и он бы ее оттуда унес для свадьбы в кругу положительных героев.
Первая накладка случилась, когда царевна, войдя на сцену, плавным движением сняла газовую косынку и не глядя положила на лежанку. Но так как вместо лежанки тоже была дыра, то косынка скользнула вниз, и ее сквозняком выдуло в другую дыру — якобы открытое поддувало. Царевна подумала, что она уронила косынку, и повторила маневр. Но — фьють — косынка выскакивает из нижней дыры. После четвертого раза в зале начали смеяться.
Потом мы сидели в классе, откуда был выход на сцену, и переживали. И тут кто-то говорит, что ученица-троечница, которая должна была играть говорящее зеркало — ты прекрасна, спору нет и так далее, — не пришла.
Была морозная пауза. Но потом раздался голос царевны-отличницы, которая догадалась ответить царице, что положено зеркалу. Она сказала весь текст и в красивом полуобмороке влетела в класс.
Мы перевели дух. Но тут кто-то опять вспомнил, что зеркало должно говорить еще раз.
Все привстали, когда услышали голос. Зеркало говорило голосом лучшего математика школы и сильно картавило — ты пгекгасна, спогу нет и так далее. Тогда мы услышали овации.
Далее вспоминать страшно.
Когда наконец, куснув отравленное яблоко, царевна умерла на столе, красиво уронив руку, то яблоко укатилось в зал, и маленький мальчик тут же схватил яблоко и стал его жрать.
Зал обрадовался и стал ждать, что из этого будет.
Пришли семь богатырей. На головах у них были парики, а на парики натянуты шлемы-шишаки из дерматина.
Увидев покойницу, они быстро сделали поясной поклон и, не выпрямляясь, стянули семь дерматиновых шлемов. Когда они выпрямились — волосы всех семи париков стояли дыбом.
В зале восторг.
— Отравленное яблоко! — фальшиво воскликнул один из богатырей. — Куда же оно закатилось?
В первом ряду зашипели:
— Отдай… отдай…
И мальчик положил на край сцены огрызок.
— Вот оно! — торжественно воскликнул один из богатырей и схватил огрызок. И все семь богатырей с торчащими дыбом париками сгрудились вокруг огрызка и, видимо, обсуждали — когда же покойница могла сожрать все яблоко. Это было неописуемо.
Далее грот. Царевич Елисей и царевна зацепились вышивками за фанерные зубья грота, и Елисей никак не мог ее вынести.
Он поставил ее на ноги, и они, пихаясь локтями, стали отцепляться от фанерной пещеры и друг от друга.
В зале уже визжали.
И в довершение всего — тишина. Мы столпились в дверях класса и увидели, как вся задняя стена-окно, медленно, с воротным скрежетом, рушилась на сцену. Все штатские артисты столпились в середине и проткнулись через бумажный пейзаж, а богатыри спрыгнули в зал. Их там встретили как родных…»
Заметим, однако, что Анчаров в любых событиях, даже самых смешных, всегда старался выделить серьезный подтекст:
«У нас в школе был великолепный спектакль, но, чтобы это понять, надо было, чтобы прошла жизнь и я догадался о бездарности всех его участников. Которые, вместо того чтобы играть комедию, которая нам сама лезла в руки, пытались силком играть драму, которая была никому не нужна. Но мы были бездарны и боролись с собственной удачей.
Мы боролись с кошмаром провала и в пылу борьбы не заметили, что кошмар — выдуманный.
Я уверен, что единственный из участников спектакля, кто бы смеялся в те дни вместе со зрителями, был бы Пушкин».
Подросшее поколение ровесников революции и Гражданской войны к концу тридцатых, в обстановке устойчивой и относительно стабильной власти, получило возможность строить свои планы на жизнь — в отличие от своих родителей, чья юность была разрушена социальными катаклизмами. В этих планах на первом месте без всякой иронии стояло горячо поддерживаемое властями ленинское «учиться, учиться и учиться». Все понимали, что грамотные люди требуются позарез в любой области, куда ни посмотри: стране катастрофически не хватало образованных учителей, инженеров, ученых, военных и вообще специалистов практически в любой области. Часть старых кадров сгинула в огне тех самых катаклизмов, часть оказалась в эмиграции, а немаленькая часть оставшихся была уничтожена в процессе массовых репрессий второй половины тридцатых годов.
О том, что сталинские чистки конца тридцатых значительно проредили и без того тонкую прослойку грамотных специалистов в стране, многие уже не помнят. Под каток репрессий попало большинство заметных инженеров и ученых, унаследованных от старого режима, просто не все из них были уничтожены — наступившая война поспособствовала возвращению к продуктивной деятельности тех, кто не успел попасть в расход. В тюрьмах и лагерях провели конец тридцатых и начало сороковых такие известные люди, как будущий создатель советской космонавтики С. П. Королев, «отец» отечественной радиолокации академик-адмирал А. И. Берг, академик-радиотехник А. Л. Минц, построивший все крупные радиовещательные станции СССР, и многие, многие другие. А многие их коллеги этих чисток не пережили — так, в 1937–1938 годах был расстрелян почти весь руководящий состав Реактивного института, где изобреталась знаменитая «Катюша».
С высот сегодняшнего дня причина этих репрессий предельно ясна: Сталину требовалось вычистить все мало-мальски влиятельные кадры старой закалки, которые умели думать самостоятельно и хотя бы теоретически могли бы составить ему оппозицию. Ему требовались новые специалисты, которые ни словом, ни мыслью не могли подвергнуть сомнению авторитет вождя. Это утверждение легко проиллюстрировать конкретными примерами из различных областей знания: хорошую иллюстрацию дает ситуация с военными переводчиками (к которым впоследствии примкнул Михаил Леонидович). После войны в Японию на суд над премьер-министром и высшими военными чинами в качестве переводчиков направляли мальчишек-практикантов из ВИИЯКА[22] из числа отличников с наиболее чистыми анкетами — не доверяли не только старым кадрам японистов (как правило, из бывших белоэмигрантов, осевших в Харбине), но и молодым курсантам с «пятнами» в биографии.
Есть точка зрения, что, репрессируя старых специалистов, власть заодно избавлялась от потенциальных предателей, которые могли бы составить «пятую колонну» в грядущей войне. Может быть, и так, но ущерб, нанесенный чистками, многократно перевесил возможную пользу от превентивной нейтрализации вероятных предателей — достаточно лишь вспомнить провальное начало войны, обусловленное не только тем, что нападения официально никто не ждал, но и отсутствием грамотного и инициативного командования в армии. А предателей-коллаборационистов тем не менее во время войны нашлось достаточно (о чем подробнее в главе 2) — и, несомненно, страх, навеянный репрессиями, сыграл тут не последнюю роль.
Естественно, народ в своей массе ни о чем таком не размышлял (по крайней мере вслух), а вот нехватку грамотных людей ощущали все и на всех уровнях. Образованный человек пользовался уважением. Это было время, когда «инженер» еще было неофициальным званием, наподобие «доктора наук» или «академика»: вспомним башню «инженера Шухова» на Шаболовке (ту самую, в постройке которой принимал участие Леонид Анчаров) или «Гиперболоид инженера Гарина». Поступление в вузы приветствовалось категорически, и у Анчарова, мальчика из интеллигентной семьи, никакого другого выбора не предполагалось.
Разумеется, он собирался пойти учиться живописи, склонность к занятиям которой в себе ощущал. Но возникали у него и колебания. Илья Анчаров так писал об увлечениях брата в период окончания школы:
«…Миша, заканчивая школу, еще не знал, чем будет заниматься. Здесь, думаю, был не только страх не поступить в Репинку, но также и все его другие увлечения: стихи, литература вообще, музыка. Он уже начинал писать песни — сначала на чужие стихи, в том числе и на стихи А. Грина — “Нe шуми, океан, не пугай…”».
Но Анчаров из-за болезни (по крайней мере, так он утверждал) опоздал на приемные экзамены в институт и в августе 1940 года поступил в Московский архитектурный институт. Он сам так писал об этом в 1947 году в упомянутом рапорте об увольнении из армии:
«По окончании Студии я должен был поступать в институт живописи, но тяжело заболел и, чтобы не терять года, поступил в Московский архитектурный институт. Из 350 человек, поступавших в ин-т, только 7 человек получили оценку 5 по рисунку, в том числе и я».
Приказом № 314 от 13 сентября 1940 года Анчаров зачислен на первый курс МАИ[23], в четвертую группу. Об обучении Анчарова в архитектурном институте никаких сведений не сохранилось, в его произведениях есть единственное воспоминание — фраза в романе «Записки странствующего энтузиаста»: «Я тогда уже целый год учился в Архитектурном институте, и мы возились с теодолитами и вешками в районе ВДНХ, которая тогда называлась ВСХВ».
Первое известное нам стихотворение Анчарова написано 9 марта 1936 года, то есть ему еще не исполнилось 13 лет. Оно посвящено однокласснице Наталье Суриковой и представляет собой подражание слогу и стилю раннего Пушкина (отдельные фрагменты напрямую заимствованы у великого поэта):
Сияя юною красой
Ты предо мной,
Смеясь, явилась.
И этот день и торжество,
Веселье наше, — божество,
[Веселье нашем, ярко озарилось,]
Как солнцем, ярко озарилось.
Всё засверкало, расцвело
Как расцвела твоя улыбка.
Средь топи блат,
Цветок узреть на почве зыбкой.
Твои приметные уста,
Как красота,
Шептали «мама»
Живи дитя!
Ликуй шутя, —
Минёт тебя людская драма.
На смех красавицы спеша
Моя душа
Огнём забилась…
В невзгоды час
Мечтой о Вас
Шепчу то имя, что приснилось.
Стихотворение написано вычурным, нарочито стилизованным «под гусиное перо» почерком, но, как видим, не без ошибок: по невнимательности затесалась ошибочная строка, вероятно, из первоначального варианта стихов, которую Анчаров не стал вычеркивать, чтобы не марать столь тщательно выписанный текст (а может, и просто потому, что не мог решиться, какому из двух вариантов отдать предпочтение).
О школьных стихах мы больше ничего не знаем. Года с 1935–1936-го Анчаров, очевидно, уже считает себя художником, о чем говорит упомянутая строка в открытке из дома отдыха Электрозавода в Калязине. Как выглядел школьник Миша Анчаров в глазах сверстников, можно представить из эпиграммы следующего содержания (написанной одним из его одноклассников, вероятно, в восьмом или девятом классе):
Следующий известный нам этап соприкосновения Анчарова с поэзией более серьезный и напрямую относится к истокам авторской песни.
Здесь сразу стоить сделать оговорку, что мы сознательно будем избегать терминологических споров о том, как именно называть жанр, одним из основателей которого был Анчаров. Нам представляются вполне подходящими оба распространенных названия: «самодеятельная» (оно больше относится к начальному периоду, когда такое название употреблялось, чтобы подчеркнуть отличие этой песни от официальной эстрады) и «авторская», которое также известно издавна, но общепринятым стало именно в наше время. Иногда еще употребляется термин «бардовская» (а представители жанра, соответственно, тогда будут «барды»), что тоже неплохо укладывается в смысл явления. Есть и вариации («студенческая», «туристическая»), которые относятся к различным направлениям жанра, возможно, доминировавшим в те или иные годы. Не прижившиеся названия «менестрельская», «гитарная», «походная», «костровая» и т. п. мы употреблять не станем.
Анчаров много раз в различных интервью с удовольствием рассказывал эту историю (из Интервью, 1984):
«…Окончательно уверился я в этом деле еще до войны. Почувствовал — какая-то новинка здесь есть. Потом в Москву приехала вдова Грина, Нина Николаевна Грин, по каким-то своим литературным или архивным делам. Ей сказали, что в Москве есть мальчик, у которого есть песни на слова ее покойного супруга. Она выразила желание повидать меня. Нас свели в одном частном доме. Я спел несколько песен, которые у меня в то время уже были, ребята их пели. И песню на слова Грина. Она заплакала. Это было для меня как орден. Можно сказать — хоть дальняя, но посылочка от Грина.
— Это было до войны?
— До войны. Мальчишкой, еще в школе. Мне кто-то дал книжку году в тридцать шестом, — нет, я уже ухаживал тогда за одной барышней, значит, это было в тридцать седьмом году. Я слыхом не слыхал — кто такой Грин. И, насколько я помню свое окружение, — никто его не знал. То есть историки литературы или литераторы, конечно, знали, а вот населению это была совершенно незнакомая фигура. Я прочел и ахнул. За одну ночь прочел. Ревел белугой. И поклялся, что буду рассказывать про него сколько смогу. А потом выпросил эту книжку, — так она у меня до сих пор — рваненькая, переплетенная, снова рваненькая… Так состоялось знакомство с Грином. Поэтому, когда жена Грина приехала, меня просто колотило, а тут еще надо было при ней петь. Я спел для нее, потом мы поговорили, здесь же присутствовали ребята из моего класса, смотрели. Потом она уехала, а еще потом прислала мне книжку Грина, только что вышедшую, — “Золотая цепь”. <…> Это было как раз перед самой войной, примерно за месяц. И обе книжки у меня сохранились — та, которую я выпросил, и вот эта <…>.
— Первая ваша песня — до войны — в каком году появилась?
— Ну, если это был класс седьмой, то в тридцать седьмом, если восьмой — то в тридцать восьмом году. На слова Грина — “Не шуми, океан, не пугай…”».
Брат Илья в своем дневнике также отмечает это событие:
«…А потом приехала в Москву по делам литнаследства Нина Николаевна Грин. Клавдия Борисовна Сурикова, мать Наташи Суриковой, работающая в Литературном музее, познакомила с ней Мишу. Он пел песни у Суриковых дома, Нина Николаевна очень была растрогана и, вернувшись домой, прислала всем по томику А. Грина с дарственными надписями. Ребята всю зиму обсуждали, как летом они поедут отдыхать в Старый Крым — последнее пристанище Грина. А следующее лето было в 1941 году…»
Александр Степанович Грин (1880–1932), блестящий представитель направления, который литературоведы определяют как неоромантизм с элементами фантастики, в 1930-е годы не был широко известен читателю (что подтверждает и Анчаров в цитированном отрывке). В начале 1930-х его произведения были фактически запрещены советской цензурой с формулировкой «вы не сливаетесь с эпохой», что, несомненно, ускорило смерть еще не старого писателя. В годы войны и после нее Грина начали было вспоминать и издавать, но тут грянула «борьба с космополитизмом», от которой пострадали не только евреи. Наряду с другими известными деятелями искусства (А. А. Ахматова, М. М. Зощенко, Д. Д. Шостакович) Александр Грин был заклеймен как «космополит», чуждый пролетарской литературе, «воинствующий реакционер и духовный эмигрант» (цитата из критической статьи в «Новом мире» 1950 года). В этот период книги Грина даже изымали из библиотек, чего ранее не делали.
Его окончательное возвращение к читателям относится уже ко временам оттепели. Начиная с 1956 года, усилиями К. Паустовского, Ю. Олеши, И. Новикова и других Грин был возвращен в литературу. Его произведения стали издавать миллионными тиражами. Нина Николаевна Грин, успевшая за это время побывать в немецком плену и сталинских лагерях, усилиями друзей получила гонорары за некоторые издания и смогла на общественных началах в 1960 году открыть Музей Грина в Старом Крыму. Там она провела последние десять лет своей жизни, получая мизерную пенсию — всего 21 рубль (авторские права к тому времени больше не действовали) и конфликтуя с местным руководством. В 1970 году, уже после ее смерти, был открыт музей Грина в Феодосии, и дом в Старом Крыму также получил официальный статус музея.
Созданный Грином образ «алых парусов» вошел в культурное сознание эпохи как символ осуществленной мечты. Во второй половине ХХ и в начале XXI этот образ неоднократно эксплуатируется масскультурой в самых различных областях — от названий газетных рубрик, клубов и даже жилищных комплексов до использования в шоу-бизнесе.
Анчаров сделал компиляцию из стихов, включенных Александром Грином в рассказы «Корабли в Лиссе» и «Пролив Бурь». В первом из этих рассказов Грин представляет песню как матросскую, с соответствующим легкомысленным припевом:
Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка без обмана
Пьет за всех, кому пить лень.
Стихи Грина, надо сказать, реальные матросы сочинить и петь не смогли бы: малограмотный матрос никогда бы не вывел даже строчку «Душу сдвинув набекрень», не говоря уж о романтическом настрое основного текста. Это обычная романтическая идеализация «простого народа», характерная даже не для литературы «критического реализма» второй половины XIX века, а скорее для их предшественников — представителей романтизма. Грин, когда ему было надо, мог быть предельно реалистичен, но по сути, конечно, целиком и полностью принадлежал к романтизму (или неоромантизму).
Молодой Анчаров справедливо посчитал, что припев, к тому же написанный в ином стихотворном размере, выбивается из общего возвышенно-романтического настроя стихов, и использовал в своей песне в качестве припева строфу из другого рассказа, которая гораздо лучше ложилась в общий смысл стихотворения. В рассказе «Пролив Бурь» песня матроса Аяна состоит из двух строф:
Свет не клином сошелся на одном корабле:
Дай, хозяин, расчет!..
Кой-чему я учен в парусах и руле,
Как в звездах — звездочет!
С детства клипер, и шхуна, и стройный фрегат
На волне колыхали меня;
Я родня океану — он старший мой брат,
А игрушки мои — русленя!..
Вторую строфу Анчаров и использовал в качестве припева. В результате получилось вполне законченное стихотворное произведение, которое отлично легло на незамысловатую мелодию, укладывавшуюся в пределах трех гитарных аккордов.
Упомянутая в цитированном отрывке встреча с Ниной Николаевной Грин состоялась уже после окончания школы весной 1941 года, вероятно, 2 апреля. На экземпляре Михаила Леонидовича Нина Николаевна написала:
Мише Анчарову
от Н. Грин
«Когда для человека главное — получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя…»
А. С. Грин
Книга в настоящее время утрачена, но на видео титульного листа, снятого в 1998 году С. Новиковым, можно прочесть также место и дату надписания Ниной Николаевной Грин книги М. Анчарову: Старый Крым 20/IV 41.
Книга, присланная Наталье Суриковой, также помечена той же датой. Вот что об этой истории пишет в своих воспоминаниях дочь Анчарова Елена Гроднева:
«Мама и бабушка жили на Таганке в Тетеринском переулке. Бабушка, Клавдия Борисовна Сурикова, в молодости пела у К. С. Станиславского, а потом принимала участие в создании Литературного музея. Там еще до войны она познакомилась с вдовой Александра Грина и пригласила в гости (в Тетеринский) послушать Мишу Анчарова, который сочинил песню на слова ее мужа. Он пел, подыгрывая себе на пианино. Нина Николаевна очень растрогалась и подарила моим будущим родителям, ему и Наташе Суриковой, рассказы А. Грина. Мамина книга до сих пор хранится у меня, и на первом листе рукой Нины Николаевны написано:
“Счастье сидело в ней пушистым котенком”
А. С. Грин
Берегите котика, Наташенька Сурикова, черноглазая, быстрая девочка.
Н. Грин — на память о 2/IV 41 г. в Москве.
Ст. Крым 20/IV 41».
На основании надписи для Суриковой и сделано заключение, что встреча состоялась 2 апреля 1941 года. Кроме Михаила и Натальи, на ней присутствовали их одноклассники, а А. М. Плунгян утверждает, что там был и Юрий Ракино (что очень вероятно, учитывая их дружбу с Анчаровым).
В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) сохранилось письмо Миши Анчарова Нине Николаевне Грин, написанное в ответ на присланную книгу. Письмо не датировано, но примерная дата его написания, очевидно, конец апреля — начало мая 1941 года:
«Дорогая Нина Николаевна!
Огромная вам благодарность за книгу и за надпись. Мой образ действий, который имел, так сказать, кустарный характер, оформился девизом. Отныне на щите у меня будет написан девиз: “сделай человеку чудо — если можешь”, и надо думать я не буду “рыцарем печального образа”. Извините за дурацкие, нескладные фразы. Вы все равно поймете, что я хотел сказать. Ведь правда? Еще раз большое вам спасибо! Поклон, привет и “все такое прочее”! Желаю вам всего хорошего!
М. Анчаров.
P. S. Если вам этого хоть немножко хочется, то я вам тогда пришлю мою песенку, а?»
Из довоенных песен 1938–1940 годов, написанных Анчаровым на чужие стихи, в позднейшем исполнении в магнитофонных записях сохранились «В Нижнем Новгороде с откоса…» (по стихам Б. Корнилова), романс «Все забуду, всех покину…» (по стихам В. Инбер). В беседе с И. Резголем и В. Юровским 22 марта 1986 года[24] он так отзывался об этих первых опытах:
«Это всё чужое было. Дальше я уже пел только свое. Просто это показывает, с каким трудом я пробивался к сознанию того, что это отдельный жанр, что это совершенно отдельный вид искусства…»
Заметим, что Борис Корнилов (1907–1938), «комсомольский» поэт, автор знаменитой «Нас утро встречает прохладой…», был к тому времени арестован и расстрелян как «активный участник антисоветской, троцкистской организации». Анчаров, конечно, мог не знать о приговоре (о том, что Корнилов расстрелян, в то время не знала даже его бывшая жена Ольга Берггольц), но об аресте наверняка был осведомлен. Но, как и в случае опального Грина, ему было наплевать на возможные неприятности. Это вообще одно из самых интересных следствий анчаровского неприятия политики: будучи вполне «правоверным» советским человеком, он при этом удивительным образом ни на долю мизинца не был конформистом. Он и тогда, и впоследствии предпочитал не понимать намеков, не высказанных прямо запретов и ограничений: дружил с уже опальным Галичем, в песню «О друге-художнике» вставлял имена запрещенных авангардистов, в Суриковском спорил с преподавателями… Причем последнее происходило уже незадолго до смерти Сталина в темные времена надвигающейся второй волны репрессий. Но надо отдать Анчарову должное — он не терпел намеков «сверху», но и сам себе никаких таких «намеков» не позволял. Все, что он хотел сказать, он говорил прямо и открыто.
Приведем недлинный текст песни «В Нижнем Новгороде с откоса…» в анчаровской интерпретации:
В Нижнем Новгороде с откоса
чайки падают на пески,
все девчонки гуляют без спроса
и совсем пропадают с тоски.
Пахнет липой, сиренью и мятой,
небывалый царит колорит,
парни ходят — картуз примятый, —
папироска во рту горит.
Вот повеяло песней далекой,
ненадолго почудилось всем,
что увидят глаза с поволокой,
позабытые всеми совсем.
Эти вовсе без края просторы,
где царит палисадник любой,
Нижний Новгород, Дятловы горы,
ночью сумрак чуть-чуть голубой.
Литературовед, исследователь авторской песни А. В. Кулагин[25] обратил внимание на то, что в песне «В Нижнем Новгороде с откоса…» Анчаров использует первые шестнадцать стихов корниловского стихотворения, которое в оригинале длиннее в два с лишним раза. Это произошло потому, что далее Корнилов вдается в частности, которые Анчарову не важны. Как считает Анатолий Валентинович:
«…юношеская песня Анчарова на стихи Корнилова дает ключ к одной из важных граней оригинального поэтического творчества барда. Присущая ему панорамность творческого зрения, с поправкой на любовь к импрессионистической живописи и склонность к “впечатленизму” в литературе, заметна в произведениях разных лет. Вероятно, интуиция начинающего художника в свое время остановила его внимание на корниловских стихах, словно содержавших в себе зерно будущего поэтического почерка Анчарова».
Слово «впечатленизм», употребленное А. В. Кулагиным, придумал сам Анчаров, буквально переведя иностранный термин «импрессионизм». Оно появилось в его статье 1983 года в «Литературной газете»[26], где писатель, отвечая на вопросы редакции, скажет очень важные для понимания его творчества слова:
«Я работаю не над словами, а над впечатлениями от них. Над впечатлением от всего, из чего складывается художественное произведение, а значит, и от слов. Сознательно или бессознательно так делают все писатели» (выделено нами — авт.).
И, кстати, в той же статье есть прекрасное определение сути импрессионизма:
«Художники [–импрессионисты] утверждали, что их задача — в каждом мазке передать мгновенное впечатление от натуры. Это все ерунда и недоразумение. Главная их задача была — добиться того, чтобы у зрителя было нужное художнику впечатление не от натуры, а от картины».
Анчаров и тогда, в юношеские годы, и дальнейшем во всем своем творчестве оставался импрессионистом. А. В. Кулагин пишет об этом так:
«Теперь мы можем предположить, почему юный Анчаров дважды пропел слово “царит”, исказив во втором случае текст оригинала и не обратив внимания на тавтологию: “царит колорит”, “царит палисадник любой”. Палисадник царит, подобно колориту, вливаясь в общее лирическое “впечатление”, где колорит важнее конкретных очертаний, бытовых подробностей — как это было у французских импрессионистов, где царил цвет (впрочем, и корниловское слово “слепит” тоже вполне импрессионистично)».
Анчаров в военные годы написал еще одну песню на стихи Корнилова (интервью М. Баранова и А. Крылова 22 июня 1978 года)[27]:
«…На слова Б. Корнилова была у меня еще одна песня. “Белеет (или синеет) палуба — дорога скользкая, качает здорово на корабле…” Ее в войну много пели».
В магнитофонной записи она неизвестна, поэтому мы ее никогда не услышим. Но сам Анчаров об этом не жалел, относясь к этим своим первым опытам несколько иронически (Беседа 1986): «В собрание сочинений я бы это не включал…»
Первая песня, написанная им на свои стихи, — «Песня о моем друге-художнике» (1941), посвященная Юрию Ракино, — ее мы здесь уже упоминали. Как и остальные ранние собственные песни, она относится к военному времени.
Глава 2
Война
«Есть много слов, но я храню одно — “четыре года”, “четыре года”…» — пел позднее Окуджава, и очень многие из его поколения — те, кому посчастливилось остаться в живых, — подписались бы под этими словами. Память о войне — всегда очень тяжелая память, и, несомненно, забыть ее невозможно. Однако есть много свидетельств тому, что воевавшие люди о войне рассказывали в кругу близких неохотно и старались лишний раз военные годы не вспоминать.
Анчаров в одном из разговоров упоминал, что два десятилетия, вплоть до 20-летия Победы в 1965 году, которое впервые было отпраздновано с большой помпой, у ветеранов войны даже в годовщину Победы не было привычки ходить по улицам, надев ордена. Вечера ветеранских воспоминаний, встречи их со школьниками и прочие подобные официозные мероприятия широко распространились позже, когда подробности затушевались в памяти и остались отрепетированные рассказы «о том, как мы били немцев».
«Забывать нельзя, но и спекулировать нельзя. Иначе происходит девальвация памяти», — говорил Анчаров в 1984 году (Интервью, 1984).
Война, разумеется, была представлена в литературе и кино, нередко очень неплохими писателями и режиссерами. И далеко не все из них пытались что-то сократить, утаить и отредактировать в соответствии с требованиями тогдашней идеологии — есть очень честные и искренние книги и фильмы, почти всегда тяжелые и несчастливые. Потому что война сама по себе тяжелое несчастье, светлого там мало. В том же интервью Анчаров так высказывался о войне:
«Война — гибельная штука. Не бывает хороших войн. Просто наша война с немцами отличалась не тем, что наши несли добро, а немцы — зло, а тем, что из двух зол наше было наименьшим».
«Индивидуалист» Анчаров оказался замечательным военным, потому что понял, что армия, которая воюет за правое дело, индивидуальности не отменяет, а как никакое другое занятие, дополняет ее до целого, которое называется народ (из повести «Золотой дождь»):
«Я в школе всегда хотел доказать свое “я”, ссорился с учителями и вожатыми, жил трудной и обидной мальчишеской жизнью, и каждый раз надо было все решать самому. Я думал, в армии мне придется совсем туго. Не повернешься. Потому что и этого нельзя, и этого нельзя. И вдруг все оказалось совсем наоборот. Никаких хлопот, никаких сомнений. Есть приказ, и не надо ничего решать самому».
На этом этапе понимания все, как правило, останавливаются и дальше уже толкуют эту определяющую черту армии, как кому ближе. Но Анчаров в своем понимании пошел гораздо дальше:
«И вот первый день фронта опять все перевернул. Все сбил, все спутал. И я опять один сижу в своей норке, в которой не спрячешься, и командиры мои убиты, и надо решать все самому. Но тут мне удивительно повезло. Я вдруг заметил и соседа справа и соседа слева. Прямо чудо какое-то. Хотя они все время здесь были, но я заметил их только сейчас. И еще и еще соседей, и даже тех заметил, которых не мог увидеть, по всей линии фронта. Нас было много, и каждый хотел опрокинуть ту мертвую силу, которая перла на нас и пахла бензиновой гарью, сыростью и кровью».
В 1939 году, как известно, с Гитлером был заключен договор о ненападении («пакт Молотова — Риббентропа»). Нельзя сказать, что это был договор «о дружбе», но со страниц советских газет исчезла критика фашизма, зарубежные коммунистические партии по указанию Коминтерна прекратили политическую и пропагандистскую работу против нацистской Германии, в Москве появились официальные германские военные делегации, осуществлялись поставки сырья и продовольствия из СССР в Германию и так далее — к понятному недоумению советских людей, которое, впрочем, они публично не выражали.
Причины и последствия пакта Молотова — Риббентропа слишком обширны и многогранны, чтобы их обсуждать на этих страницах, — здесь только важно отметить, что наличие этого договора было одной из причин неготовности советских войск к нападению 22 июня 1941 года. Причем неготовности не столько физической (советские войска во всем, кроме численности и некоторых отдельных разновидностей техники, к началу войны превосходили немецкие), сколько организационной и моральной. Военные, включая и командование, были расслаблены атмосферой якобы «дружбы» с Германией, и нападение для них оказалось полной неожиданностью.
Считается, что Сталин (а за ним и Генеральный штаб) игнорировали многочисленные предупреждения разведки о том, что 22 июня Германия совершит нападение. Действительно, очень вероятно, что Сталин не верил в агрессию Германии против СССР, и тому, кстати, были вполне объективные причины — как потом выяснилось, Гитлер и в самом деле совершил глобальную ошибку, самонадеянно начав войну на два фронта. Но советское высшее командование все-таки к нападению готовилось, хотя, не имея прямого приказа свыше, и не очень настойчиво.
В течение июня 1941 года со стороны советского Генерального штаба предпринимались попытки объявить полную боевую готовность в Западной группе войск, а 21 июня была отправлена директива с предупреждением о том, что «в течение 22–23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, Приб. ОВО, Зап. ОВО, КОВО, Од. ОВО». Почему здесь уместно невоенное выражение «предпринимались попытки»? Потому что июньские приказы Генштаба, как потом выяснилось, за небольшим исключением до войск просто не дошли, а цитированная директива от 21 июня (предполагавшая, между прочим, что предыдущие приказы исполнены и войска находятся в боевой готовности) опоздала. Никому из командования не пришло в голову своевременно проверить исполнение собственных приказов. В результате советские самолеты в прифронтовой полосе остались на аэродромах, где были уничтожены в первые часы войны, а наземные части попадали в окружение целыми дивизиями, так и не получив приказа на вступление в бой.
То есть провальное для СССР начало войны было обусловлено отвратительно налаженной связью и взаимодействием частей Красной Армии, недопустимо большим запаздыванием и даже потерями при передаче приказов по вертикали командования. Немцы на полную катушку воспользовались этими просчетами, усугубив их тем, что особое внимание в ходе наступления уделяли уничтожению коммуникаций в советских войсках.
У этой неразберихи, кроме неожиданности нападения, есть еще одна вполне понятная причина: армия в предвоенные годы была в значительной степени лишена опытного командования, уничтоженного в ходе чисток конца тридцатых. Из четырех (считая с 1927 года) предшественников печально известного генерала Д. Г. Павлова на посту командующего Западным военным округом трое были расстреляны. Оставшиеся на своих местах офицеры были деморализованы этой обстановкой и больше думали о своей судьбе, чем о деле. В этой ситуации сам Дмитрий Григорьевич (отличный теоретик военного дела и ветеран танковых сражений на стороне республиканцев в Испании), как и другие представители командования, больше думал о том, как не оказаться на месте своих предшественников, чем о том, чтобы обеспечить организацию и взаимодействие подчиненных частей[28].
Мобилизация призывников 1922–1923 годов рождения в Москве официально была объявлена только 16 октября, то есть позже, чем в других округах, и позже, чем призыв основного контингента военнообязанных запаса 1905–1918 годов рождения, которые были мобилизованы еще 24 июня. Как мы уже отмечали, Анчаров явился в военкомат вместе со своим другом Юрием Ракино еще в июле или в начале августа с просьбой о направлении в летчики. Анчаров вспоминал (Беседа, 1986):
«…Мы вместе с Ракино писали заявление на имя Ворошилова, мы были из разных военкоматов. Мы очень с ним дружили… еще по школе. Он на год позднее меня кончал, хотя был старше на год. Поэтому я год учился в Архитектурном. А когда началась война, он попадал под призыв сразу, а я ушел из Архитектурного. Мы написали письмо с просьбой объединить нас в одном военкомате. И мы проходили вместе комиссию. Летчиками хотели стать. Ну вот, он подошел, а я — нет. Меня раскручивали на таком стуле без спинки. Нужно было согнуться, голову в колени, и тебя раскручивали. Потом нужно было подняться и попасть в штырь. Я когда поднялся, меня в сторону унесло, но я не сдался. Я потом уговорил одну молодую докторшу, и она мне это дело переправила. Я ей просто объяснил, что мне нужно с моим другом, мы хотим на один самолет — первый пилот и второй пилот или пилот и стрелок-радист. Я уж на пилота не рассчитывал, так как мимо стула проехал, но стрелком-радистом можно было. И потом наивные были. Это в первый месяц войны. Она написала мне: “годен”, а потом, когда я получил из военкомата открытку, оказалось, что нас разнесло…»
Анчарова забраковали в летный состав по медицинским показаниям, зато он получил уникальное направление — в Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА), причем на восточное отделение: Анчарова направили изучать китайский. С 21 августа 1941 года, как свидетельствует справка, выданная ВИИЯКА в 1944 году, Анчаров считался военнослужащим, то есть, очевидно, к тому моменту сдал экзамены и был зачислен в состав курсантов института. Но факультет, на который был зачислен Анчаров, сам тогда готовился к эвакуации, и новоиспеченный курсант был направлен к месту учебы только в декабре.
Анчаров описал свой призыв в армию и отъезд из Москвы в дневнике, который решил начать вести как раз в это время (хватило его, впрочем, ненадолго). Эти записи сохранились в той же тетради, где позже рукой Анчарова будут записаны чистовые автографы его стихов и песен военного периода. Представление о его характере и мыслях в то время может дать мотивировка, которую он дает этому занятию в открывающей дневник записи (как будто ведение дневника вообще требует мотивировки). Это первый прозаический текст Анчарова, дошедший до нас, и по нему видно, что автор еще очень молод и как следует не научился формулировать и излагать свои мысли:
«Судя по тому, что меня постоянно тянет писать, я начинаю думать, что у меня к этому особая склонность. Кроме того, мне кажется полезным, как свидетелю, современнику и очевидцу как бывших, так и могущих быть событий, зафиксировать их. Во-первых, потому, что мне неизвестно, фиксируются ли они чьим-нибудь дневником, могущим сохранить дух времени, во-вторых, невредно поупражнять руку в связном изложении своих мыслей и происходящих дел. Это даст мне недостающую легкость пера <…>»[29].
Каждую фразу этой записи так и тянет прокомментировать с иронической интонацией («да неужели?»), но мы воздержимся, памятуя о том, каким прекрасным стилистом автор этих наивных слов стал впоследствии. Есть писатели и поэты, которые чуть ли не прямо из колыбели начинали выдавать гениальные тексты, но Анчаров ведь действительно осуществил программу, изложенную им в последних строках цитируемого отрывка.
Сразу за вступительной идет запись, датированная 19 декабря 1941 года. Она начинается с короткого воспоминания о начале войны (в цитируемом тексте также исправлены ошибки оригинала):
«Как начиналась война… Я сидел дома, но собирался куда-то выходить. По радио объявили, что по всем станциям Советского Союза будет передаваться речь т. Молотова. Отец сказал “вот оно, объявление войны Германии”, я сказал “ну вот еще”. Однако он был прав. После этого знакомые вещи, лица, город и вообще все окружающее показалось вдруг, говоря банально, в ином свете <…>».
И далее собственно об отъезде:
«Когда мы уезжали из Москвы, был очень сумрачный и холодный декабрь, снег слежался и было скользко. Состава не было, и все слонялись и суетились у огромного вала имущества, наваленного на снегу. Было очень много огромных японских кованых сундуков. По радио передали: “Наше положение ухудшилось, врагу удалось прорвать нашу линию обороны…” Никто не знал этого. Был получен странный приказ: “Если до 1 часу состав не будет подан — бросать все и идти пешком на Муром”. Я быстро пошел в город, дозвонился отцу и узнал, что он тоже, вероятно, уезжает. Я купил пару булок — это были мои последние покупки в Москве, — в кармане у меня осталось 70 рублей. В пути мы были 20 суток…»
В той же дневниковой записи о призыве написано так:
«…Когда война началась, я ушел из института и попросился в армию. Мне предложили подождать повестку. <…> …на комиссии я встретился с Ракино, комиссия оказалась авиационной. Я решил, что могу все, что могут другие, ведь умирать иногда совсем не страшно, тогда, когда равнодушно и спокойно смотришь на приближающийся самолет. Тогда я был именно в таком состоянии, а это было удивительно. В то время — иные боялись, иные не понимали. Теперь дело другое, теперь война реальна и привычна, поэтому не страшна. …У невропатолога меня спросили “а по совести, хотелось бы вам в авиацию”, но я сказал, что, конечно, люблю больше умирать на земле, но ближе мероприятия не предвидится. Врач сказал “Вы будете хорошим летчиком”. Но в авиацию я не попал… Но об этом дальше…»
Дальше в дневнике записей нет.
Выпускники Военного института иностранных языков направлялись большей частью в ведомства НКВД и СМЕРШа[30], а также в армейские штабные разведслужбы, и институт был, как все подобные заведения, засекречен. Потому «своим ходом» туда поступить было трудно — только тем, кто целенаправленно высказывал желание быть именно переводчиком. Ясно, что таких было немного: в кабинетные работники молодежь, разумеется, не стремилась, потому набор был добровольно-принудительным.
Во время войны это происходило так: по призывным пунктам и военным училищам ездила комиссия, отобранных по анкетам кандидатов заставляли написать диктант и затем особо грамотных по результатам личного собеседования направляли на экзамены. В 1986 году Михаил Леонидович, отвечая на вопрос «Перед ВИИЯКА служили вы еще в какой-нибудь военной части?», вспомнил некоторые детали его призыва на военную службу (Беседа 1986):
«Это было так. Когда я получил открытку в своем военкомате, нас три-четыре человека отправили туда. Приехали. Вижу: военная часть, вижу ходят какие-то “гаврики”, многие из институтов, что-то такое экзотическое, но непонятное. По очереди все отправились к директору. Оказалось, что там у директора сидит военный. Спрашивает, хотим ли мы туда идти? Я говорю: “А что это такое?” — “Будете учиться…” Я говорю: “Нет, это не годится…”. Я ему рассказал и про летное училище, и про то, что я сам из Архитектурного ушел. “Учиться мне есть где, воевать — это другое дело”… В общем, я и еще несколько человек отказались. Стоим в коридоре, подходит какой-то дядька, тот, который привез нас из военкомата. Спрашивает: “Ну как, ребята?” Говорим: “Отказались”. — “Да вы что, с ума сошли?” — “Мы ведь воевать собрались, а здесь снова учиться…” — “Идиоты, идите туда, пока он не передумал…” И намекнул нам, что это военная работа. Мы вернулись, сказали, что передумали, и нас обратно вписали. Мы думали, что это будет подготовка к восточным военным действиям, но Япония войны не объявила, подзатянулось это дело…»
Следует отметить, что в начале войны, когда в ВИИЯКА поступил Михаил Леонидович, этот институт еще формально не существовал. В 1940 году Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление об организации при Втором Московском государственном педагогическом институте иностранных языков (2-й МГПИИЯ) Военного факультета со статусом высшего военно-учебного заведения. На него возлагалась задача подготовки военных преподавателей английского, немецкого и французского языков для училищ и академий Красной Армии. В начале 1941 года факультет получил новое официальное название: Военный факультет западных языков при 1-м и 2-м МГПИИЯ. И только 12 апреля 1942 года приказом народного комиссара обороны СССР Военный факультет западных языков был преобразован в отдельный Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА), в который вошел также Военный факультет восточных языков, существовавший при Московском институте востоковедения[31]. Очевидно, Анчаров был зачислен первоначально именно на этот факультет.
Осенью 1941 года оба еще раздельных факультета были эвакуированы: военный факультет западных языков — в Ставрополь-на-Волге Куйбышевской области (ныне г. Тольятти), а восточных языков — в Фергану в Узбекистане. Так что в декабре 1941 года Анчаров был сначала отправлен именно в Фергану. Через четверть века в повести «Золотой дождь» он так напишет об этом путешествии:
«Санитарный поезд останавливался часто и стоял подолгу. Поэтому в Фергану мы ехали полмесяца. Окна вагона перечеркивали подтянутые на блоках забинтованные руки и ноги. Я сутками глядел на этот пейзаж, перечеркнутый култышками гипса и бинтов, внутри которых помещались бедные израненные руки и ноги, натруженные и истоптанные.
После войны я приехал в Москву, пошел в Музей изобразительных искусств и увидал гипсовые статуи антиков. И мне сразу показалось, что все заново, что в этих изуродованных копиях тоже внутри чьи-то мягкие тела, и мне захотелось сбить весь гипс и добраться до живья.
Когда поезд останавливался, я вылезал из вагона и видел беду и черные города без освещения, только звезды в небе, и угрюмые эшелоны, и синий свет в дверях продпунктов, у которых всегда молчаливые люди слушали запах еды. <…> А за Оренбургом пошли освещенные, как до войны, города, на которые я не мог наглядеться. Но все это было как в театре, и зал ахает и хлопает в ладоши — до чего похоже, а потом обернешься и видишь девушку в комбинезоне, которая у проекционного фонаря крутит цветные диски, и уже не смотришь на декорацию, а ждешь правды от пьесы. <…>
А на станции Арысь я вышел из эшелона — медсестричка Дашенька сказала, что в ларьке на станции продают сушеную дыню, военным без очереди. Я вспомнил Гришку Абдульманова и пошел, и лучше бы не ходил. Потому что у ларька теснились молчаливые люди, которые меня сразу пропустили, как только я подошел и прикоснулся к спинам. Я ничего не понял и прошел к слепому стеклу витрины, за которой стояли бутафорские коробки от шоколадных конфет с матерчатыми цветами в светлом овале, и из черной дыры, пахнущей медом и керосином, мне за малые деньги дали три кило спутанных в комок липких желтых ремней. Я взял это и, обернувшись, увидел глаза, множество глаз, и ничего не понял. Потом меня кто-то взял за локоть и тихо зашептал что-то. Какой-то человек с интеллигентным лицом говорил непонятное и смотрел на мою покупку, и вдруг я понял, что это не сушеная дыня, а еда, и что ее дали только мне, потому что я военный бог, а они — обыкновенные штатские эвакуированные. А я военный, мне всюду и в поезде дают еду, а ведь я защищаю не только их родину, а и свою тоже.
Я отрывал и отрывал липкие ремни, совал в протянутые руки, отыскивал за головами темные глаза и давал туда, где рук не протягивали, а потом оказалось, что от трех кило осталась одна длинная липкая змейка и никто у меня ее не берет, а только отводят глаза, потому что понимают — я не Христос, а ефрейтор и не могу накормить всех сушеной дыней. Я попытался отщипнуть кусок, но ремень не поддавался и только скользил и вытягивался. Я неуверенно протянул его куда-то в сторону поднявшихся навстречу рук и отдал его в самые морщинистые. Еще несколько секунд все стояли вокруг меня, потом пожилой человек в кепке взял меня сзади за шею натруженными пальцами и униженно заплакал. И так, держа меня сзади за шею, как щенка, он повел меня к эшелону, и все потянулись за нами».
После слияния и образования единого института в апреле 1942 года восточный факультет также переводится в Ставрополь-на-Волге. В романе «Записки странствующего энтузиаста» Анчаров через сорок лет опишет агитационную поездку от издательства «в город Тольятти, где я никогда не был, но в городе, который стоял на месте нынешнего, я был. Однако это было очень давно». Легкие намеки на воспоминания о Ставрополе-на-Волге будут разбросаны по этому роману там и сям, изредка прорываясь короткими рассказами-ассоциациями:
«Оказывается, она не местная, не из того городка, который был здесь до Тольятти, а теперь почти весь накрыт морем, по которому мы едем. Она с Украины и не знает, что здесь во время войны была расположена наша часть, и нас здесь держали, держали, держали, и ребята просились на фронт и изнывали от тоски, которая выше страха смерти, а ведь на фронте убивают, не так ли? И очень многие умирали от этой тоски и от этого мороза. И как меня и Толю вызвал к себе полковник, который устал от наших прошений, и спросил — почему мы ноем и отпрашиваемся, может быть, мы трусы? Так стоял вопрос. И мы заткнулись и терпели до конца. Толю потом искалечили в гоминьдановской тюрьме, но он вернулся, и у него теперь награды. Мне тоже потом дали орден Красной Звезды и медали. У всех по-разному сложилась жизнь. Полковник потом погиб».
А в конце герой (он же автор) повести признается:
«Это было больше сорока лет тому назад и происходило в этом же городе. Вернее, в городе, который был на месте Тольятти, а теперь его захлестнула новая жизнь и новое море, и у меня была одна задача — вспоминать об этом как можно меньше. Потому что у меня есть сердце, и оно уже не выдерживает».
В октябре 1943 года ВИИЯКА перебазируется обратно в Москву: сначала по двум адресам в районе Семеновской площади и Таганки, а с весны 1944 года получает постоянную прописку в бывших Астраханских казармах в Лефортово по адресу Волочаевская улица, 3.
Нельзя здесь обойти вниманием и уникальную личность создателя ВИИЯКА — генерал-лейтенанта Николая Николаевича Биязи (1893–1973). Он происходил из семьи итальянских переселенцев, его дед А. И. Пальм — «петрашевец», был приговорен к гражданской казни вместе с Ф. М. Достоевским, впоследствии, после отбытия каторги — герой обороны Севастополя, бабка — известная в свое время певица Дарья Лебедева. Еще во время Первой мировой войны Биязи был награжден Георгиевским крестом и направлен на курсы прапорщиков. Офицер царской армии, сразу вставший на сторону большевиков, Николай Биязи стоял у истоков Красной Армии. Был начальником охраны железных дорог Кавказского фронта, участвовал в освобождении Кубани, Терека и Ставрополья от белогвардейцев. С 1940 года он возглавлял сначала кафедру на факультете западных языков, а затем весь институт военных переводчиков. В 1942 году был временно отставлен от учебной работы и в должности заместителя командующего Закавказским фронтом занимался формированием специальных ударных отрядов из альпинистов и лыжников для борьбы с альпийскими стрелками горно-пехотной дивизии Германии (теми самыми, о которых упоминает Высоцкий в своей песне из фильма «Вертикаль»: «… а до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою…»).
Из воспоминаний Н. Н. Биязи[32]: «Весной 1942 года мы получили известие, что из Средней Азии к нам в Ставрополь прибывает Военный факультет восточных языков, входящий в состав Московского института востоковедения (МИВ). Было решено образовать единый Военный институт иностранных языков Красной Армии. Слушатели-западники устроили им теплую встречу. С трудом удалось разместить восточников в самом городе, так как мест в “Лесном” уже не было. По окончании слияния факультетов я передал командование полковнику Степанову. А сам отпросился на фронт и вскоре из Москвы убыл на Северный Кавказ».
В 1944 году Н. Н. Биязи вторично возглавил ВИИЯКА. Он сам знал 14 языков, в том числе арабский и турецкий, в совершенстве владел французским и итальянским, опубликовал три с половиной десятка работ по лингвистике и военному делу. Параллельно со всей этой деятельностью Н. Н. Биязи увлекался спортом, в том числе стал чемпионом России и СССР по стрельбе из боевой винтовки (всего в его активе около 70 спортивных наград). Кроме того, он был первым дипломированным футбольным судьей России и в июне 1918 года судил финал первого в советской футбольной истории чемпионата. Его спортивная карьера, видимо, и послужила причиной временного назначения в качестве организатора альпинистских ударных отрядов.
Один из выпускников института, С. Львов, вспоминал: «Любо-дорого было поглядеть и послушать, как он (Биязи) говорил со знаменитыми лингвистами, со специалистами по педагогике. Генерал Биязи научил нас многому. Среди прочего — безукоризненным военным манерам. Они, в его представлении, прежде всего включали точность. Он никогда не действовал по пословице “Начальство не опаздывает, оно задерживается”, не задерживался и не опаздывал ни на минуту. Но и подчиненным опозданий не спускал. В особый гнев его вводило опоздание минутное. Биязи в гневе понижал голос и начинал говорить холодно-язвительно. Это действовало сильнее крика.
Однажды он столкнулся на плацу с группой молодых военных преподавателей. Мы были возбуждены каким-то происшествием, обсуждали его громко, употребляя отнюдь не литературные выражения. Мы еще не успели заметить начальника института и отдать ему приветствия, как он заметил и услышал нас и произнес три слова: “Офицеры! Интеллигенты! Филологи!” Мы были готовы провалиться сквозь землю».
Неизвестно о каких-либо особенных контактах начальника института с курсантом Анчаровым, но нет никаких сомнений, что некоторые черты Н. Н. Биязи писатель вложил в запоминающийся образ генерала-десантника из повести «Золотой дождь»: «Он умел всё, что умеют все, и еще кое-что».
ВИИЯКА в годы войны и после нее закончили многие впоследствии известные и даже знаменитые люди, среди них, например, композитор Андрей Эшпай, писатель Аркадий Стругацкий и многие другие. В начале 1942 года еще не ВИИЯКА, а военно-переводческий факультет Второго Московского педагогического института иностранных языков (он же Военный факультет западных языков) в Ставрополе-на-Волге закончили будущий народный артист Владимир Этуш, режиссер-мультипликатор Федор Хитрук и поэт Павел Коган (имеющий отношение к авторской песне как автор знаменитой «Бригантины»). Они учили самый востребованный тогда язык — немецкий, потому, поступив тогда же, когда и Анчаров, — сразу после начала войны, многие из них ограничились полугодовыми курсами, куда в срочном порядке отбирали тех, кто хорошо знал язык еще со школы. Позднее такими же курсами обошелся и Андрей Эшпай, закончивший их в 1944 году.
На восточном факультете, где оказались Анчаров и А. Стругацкий, все было сложнее: обучение значительно дольше, и притом существенная часть курсантов отсеивалась в процессе обучения. В биографии Стругацких (Скаландис Ант, 2008) отмечено, что «еще в Ставрополе многих быстро отсеяли с японского отделения: люди оказались физически неспособны рисовать иероглифы, а их надо именно рисовать, а не писать». Очевидно, то же самое относится и к иероглифам китайским, и тут Анчаров, обучавшийся в Изостудии, несомненно, оказался на высоте.
В начальный период существования ВИИЯКА в нем несколько раз менялся срок обучения. В первые годы войны дефицит переводчиков был настолько велик (напомним, что речь идет не о переводчиках вообще, а о переводчиках с «чистыми» анкетами, которым доверяло НКВД), что через два с половиной года курсантов даже сложных восточных факультетов выпускали на реальную работу. Так, сокурсники Стругацкого, поступившего в институт позже Анчарова (летом 1943-го), вместо практики попали в качестве переводчиков на Токийский процесс уже осенью 1945-го. А изучавшие немецкий на основе школьной базы, как мы видели на приведенных ранее примерах, могли вообще обойтись полугодовыми курсами. С мая 1942го, после образования института, срок обучения на краткосрочных курсах был повышен до одного года, а полная программа обучения на обоих факультетах установлена в три года.
Выпускникам ВИИЯКА НКВД действительно мог доверять: в те времена молодым основательно промывали мозги, сначала в школе, а затем в армии. Есть множество свидетельств такого рода. Очень характерно, например, высказывание украинского ученого и конструктора вычислительных машин Бориса Николаевича Малиновского[33]: «После демобилизации я приехал домой под впечатлением великой Победы в войне, уверовавшим в непогрешимость великого вождя и человека Сталина. И такими были большинство моих сверстников. Это не было случайностью. В годы войны мы убедились: что то, что говорит Сталин, — все исполняется, и это было сильнее любой пропаганды. Помню, как один раз, когда отец сказал, что восхваление заслуг Сталина перешло все мыслимые и немыслимые границы, я резко оборвал его».
Это, безусловно, действительно было общее чувство его сверстников в то время. Ант Скаландис так излагает мечтания Аркадия Стругацкого, оказавшегося вместе с институтом в Москве 1944 года: «…и при въезде на Красную площадь, и под мостом на Кремлевской набережной стояли специальные патрули, и всякий раз ему казалось, что вот сейчас оттуда появится ЗИС с эскортом мотоциклистов, торжественно приостановится, откроется дверца и прямо им навстречу выйдет товарищ Сталин».
Борис Стругацкий, на войну не попавший, но принадлежащий к той же молодежной генерации, в одном из интервью[34] на вопрос о том, как он оценивает самого себя — Бореньку — в юности, отвечал: «…что бы я ему мог сказать? Что Сталин, перед которым он преклоняется, — кровавый палач, загубивший для многих саму идею коммунизма? Ну и что? В лучшем случае Боренька просто не понял бы этого, в худшем — понял бы и побежал доносить на себя самого».
Ну а про Анчарова мы всё знаем и так — он по сути никогда и не менял своих взглядов, сформированных в юности. В них парадоксально сочетался искренний патриотизм и верность системе с практически полным отрицанием ее основы: бездумного коллективизма (неважно, под руководством партии или без него). Но это отрицание — в годы войны еще не сформулированное до конца — никогда не переходило рамки абстрактного умствования: к системе Анчаров прямых претензий не адресовал. И сам Анчаров, наверное, искренне бы удивился, если бы ему указали на принципиальность его расхождений с системой — он полагал все органические, как мы сейчас понимаем, недостатки советской власти временными трудностями переходного периода, за которым непременно настанет Золотой век. На этих взглядах поколения Анчарова и их эволюции со временем у разных людей мы еще обязательно остановимся позднее.
Осенью 1942 года в окончательно укомплектованном институте единовременно обучалось 1039 слушателей факультетов и около трехсот курсантов краткосрочных курсов. Всего за годы войны было выпущено 4600 военных переводчиков — конечно, большей частью по направлению европейских языков.
Аркадий Стругацкий, не попавший в Японию на практику по причине не совсем «чистой» анкеты, проучился целых шесть лет — к середине его обучения как раз закончилась война, и можно было уже не торопиться. Сам он потом вспоминал, что существенную часть обучения отнимало изучение японской культуры и они не понимали, зачем это нужно:
«Мне, молодому идиоту — страшно вспомнить! — было тогда непонятно, зачем нам преподают историю мировой литературы, историю японской культуры, те области языка, которые связаны с архаическим его использованием. Сейчас, когда старость глядит в глаза, понимаю, что как раз это и было самым важным и интересным».
И признает, что общекультурных знаний, полученных в институте, все-таки было недостаточно:
«Нам всем очень не хватало культуры, хоть из нас и готовили штабных офицеров со знанием языка. А это неизбежно подразумевает какую-то культурную подготовку. Всему этому пришлось набираться после окончания института в самостоятельном порядке».
Государственные праздники виияковцы отмечали согласно существовавшей традиции торжественными собраниями, включавшими обычно и художественную часть. В архиве М. Л. Анчарова сохранился машинописный сценарий празднования двадцать пятой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции, как тогда она именовалась, которая отмечалась в начале ноября 1942 года. Сценарий написан для трех исполнителей и хора, среди участников значится и Владимир Туркин, о котором еще будет сказано далее.
Композиция состоит из фрагментов патриотических стихов, главным образом В. Маяковского, но также и Э. Багрицкого, Дж. Джабаева, А. Суркова, М. Слободского и отдельных куплетов песен: народных («Лучина»), революционных («Варшавянка») и времен Гражданской войны («Марш Буденного», «Каховка»), из довоенных кинофильмов («Человек с ружьем», «Остров сокровищ», «Цирк», «Веселые ребята») и других произведений. Поскольку текст сценария содержит несколько карандашных пометок, сделанных в разное время, но одним и тем же почерком, выскажем предположение, что автором этой композиции и «режиссером-постановщиком» мог быть и М. Л. Анчаров. С учетом отмечавшейся даты композиция рассказывала об Октябрьской революции, Гражданской войне, годах мирного труда, начале Великой Отечественной войны. Текст сценария содержит и характерные пометки, сделанные красным карандашом. В одном фрагменте из поэмы В. Маяковского «Хорошо»: «…да перед картой / Антонов с Подвойским / втыкают / в места атак / флажки» неведомый цензор, зачеркнув фамилии Антонов и Подвойский, на полях написал: «Враги народа, вычеркните». Отметим попутно, что если один из активных руководителей Октябрьского восстания в Петрограде В. А. Антонов-Овсеенко действительно к осени 1942 года уже был репрессирован и расстрелян, то другой руководитель, Н. И. Подвойский, был в то время пенсионером, причем персональным, и дожил до 1948 года. Поэтому в послевоенных изданиях Маяковского эти строки были исправлены на «…да перед картою Подвойский втыкает в места атак флажки». Ну, а местный цензор, видимо, оказался излишне бдительным.
15 августа 1943 года Илья из эвакуации в Восточном Казахстане пишет брату: «Папа давно уже писал из Москвы, что вы собираетесь туда переезжать…» Приказ об этом действительно вышел еще 31 января, но реальный переезд состоялся лишь в октябре — курсантов с имуществом погрузили на баржу в Ставрополе и высадили уже в Южном порту Москвы. От Южного порта до первоначального места дислокации на Таганке — около 8 километров — курсанты добирались пешком. Зато москвичам разрешили жить дома, и иногородним тоже не возбранялось ночевать у родственников и знакомых. В общем, режим обучения стал практически такой же, как в обычном вузе.
Переезд института в Москву на баржах летом 1943 года хорошо запомнился Анчарову. Из беседы 1986 года (Беседа, 1986):
«Первый курс нас куда-то перегнали в Среднюю Азию, потом под Ставрополь. Там мы были около года. А потом приехали на баржах в Москву».
В пути он увидел и затопленную часть Калязина. Это нашло отражение в словах героини рассказа «Город под водой» (1970):
«Когда из под Сталинграда нас везли на баржах в Москву, то на Рыбинском водохранилище, как тогда говорили, на Рыбинском море, я увидела торчащую из воды колокольню и на ней остаток парашютной вышки — стрелу, на которой по воскресеньям опускали довоенных прыгунов. И мне объяснили, что это город Калязин ушел под воду…»
С сентября 1944-го институт перешел на нормальный режим: четырехлетний срок обучения по западным и пятилетний по восточным языкам, так что анчаровский выпуск, очевидно, был последним, подготовленным по ускоренной системе. Анчаров пребывал курсантом ВИИЯКА почти три с половиной года (если считать с августа 1941-го, когда он был зачислен), но реальная учеба заняла только три: в дипломе у него стоит дата окончания 30 декабря 1944 года, а в приложении отмечены результаты за шесть семестров. Мы понимаем, что сокращение срока обучения происходило в основном за счет «культурных» предметов (которых, как мы видели, не хватило даже Стругацкому с его шестью годами), и тем не менее курсанты-стахановцы все-таки получали элементарные сведения о стране, с языком которой знакомились. В приложении к диплому с результатами экзаменов, кроме основных предметов «Китайский язык», «Военная подготовка» и т. д., значатся такие дисциплины, как «География Китая», «История Китая», «История китайской литературы» и даже общее «Страноведение».
Любопытно, что по результатам госэкзаменов оценку «отлично» Анчаров заслужил только по военной подготовке, а «Основы марксизма-ленинизма» вообще сдал на «посредственно». И тем не менее знания по основным предметам он продемонстрировал на «хорошо», и ему была присвоена квалификация «переводчика первого разряда».
В воспоминаниях Галины Аграновской об Анчарове[35] (которые мы еще будем цитировать неоднократно) есть один момент, окончательно прояснить который, к сожалению, уже некому. Галина Федоровна рассказывает, как реплику Аграновского «Помнишь, в “Былом и думах” у Герцена замечено…» Миша перебил словами: «Я не читал Герцена. Зато ты не читал японскую поэзию в подлиннике». Анчаров, изучавший китайский, вряд ли мог читать в подлиннике относительно современную японскую поэзию, под которой у нас в первую очередь подразумевается творчество Акутагавы[36]. Знатоки обоих языков напоминают, что иероглифическое письмо японцы заимствовали у китайцев, то есть знающий китайский мог бы читать японский иероглифический текст. Однако в современном японском письменном литературном языке есть еще много такого, что у китайцев отсутствует: дополнительно к иероглифам две слоговые азбуки и более сложная грамматика, и, несомненно, поэтическая речь не может все эти особенности не использовать. (По этой причине письменный японский изучать сложнее, чем китайский, а устный из-за особенностей произношения и большого количества диалектов в китайском — наоборот.) Вероятнее всего, Анчаров имел в виду древнюю японскую лирику в форме «танка» — коротких пятистиший, которая впервые была записана в VIII веке н. э. и тогда еще полностью использовала заимствованную китайскую письменность.
Владимир Туркин[37], учившийся в ВИИЯКА вместе с Анчаровым, оставил такую его характеристику:
«Михаил Анчаров был в институте одним из любимцев всех слушателей всех курсов. К нему тянулись, вокруг него стекался народ, любители искусства. Вечерами он садился к роялю, и на всю аудиторию, где стоял рояль, и на всю часть — летели и летели песни — молодые, свежие, сильные, умные».
Школьный роман Миши Анчарова с одноклассницей Натальей Александровной Суриковой начался еще в четвертом классе и не закончился с окончанием школы. В повести «Этот синий апрель» Анчаров уделил ему много внимания, и эти страницы, возможно, из лучших в его прозе — каждый может узнать в анчаровском герое (Гошке) самого себя в школьные годы. Наталья в романе выступает под именем Нади:
«И когда Гошка увидел себя в сером костюме с подватиненными плечами, он с ужасом понял — предстоят танцы.
В три вечера Вовка обучил его, а на четвертый он с тяжко бухающим сердцем сидел на диване с прекрасными юношами, а девочки толпились у окна возле стола с патефоном, который накручивал Вовка. Раздались райские звуки, и Гошка встал, ослепительный, и приготовился принять мученический венец. И тут из группы у окна пошла Надя.
Девочка шла от окна, как сомнамбула, медленно поднимая руки. Она так и плыла, подняв руки, как будто одна из них уже лежала на Гошкином плече, а другая была в его руке, как требовалось по закону танца. Мысленно они уже протанцевали вместе все танцы и теперь шли друг к другу в розовом дрожащем тумане, который волнами накатывался от раскаленных девчачьих щек, и уже все затанцевали вокруг и глядели под ноги, последовательно отвоевывая свои железные па. А они все шли и шли друг к другу по бесконечному залу в семнадцать с половиной квадратных метров полезной площади. И тут произошло самое страшное. Надя коснулась его грудью. Ни она, ни он не учли того, что это должно случиться неизбежно. Им представлялось только, что они будут все время рядом во время танца и можно будет поговорить первый раз за два года, а теперь при любом движении до его пиджака дотрагивалась осторожная грудь и колени касались колен. А от лица, от пушистых кос, от ее плеч поднимался запах тополиных почек.
— …Надя… — севшим голосом прохрипел Гошка, — можно я с вами буду говорить на “ты”?
Она только вздохнула в три приема и кивнула головой. После этого они перестали разговаривать даже на “вы”».
Станислав Новиков записал воспоминания одноклассников об этом школьном романе (Сочинения, 2001):
«…Мишина с Наташей дружба (как тогда говорили) началась с четвертого класса. Миша занимал первую парту, она — последнюю. Все уроки он сидел повернувшись спиной к учителям, чем безумно их раздражал, и смотрел на нее неотрывно. Учитель сделает ему замечание, он отвернется на минуту, а потом опять в ту же позу… Многие учителя его не любили еще и за то, что он задавал слишком много вопросов и сам же на них отвечал.
В девятых — десятых классах школы был организован драмкружок, который вел тогда еще совсем молодой актер театра им. Ермоловой Иван Иванович Соловьев. Наташа с Мишей участвовали в спектаклях, а вся школа говорила об их отношениях. Миша не подпускал мальчишек к ней, но дрался не часто и при этом резко бледнел».
Незадолго перед отъездом из Москвы Анчаров с Натальей Суриковой зарегистрировали брак: «Поженились они, когда фашисты подступали к Москве. В то время он был уже военным и отправил своего младшего брата Илью, свою маму, Наташу и ее маму в эвакуацию на Алтай»[38]. Это произошло непосредственно перед отправкой родных в эвакуацию, 11 (по другим данным, 13) ноября 1941 года. В повести «Стройность»[39] Анчаров описывает это событие иронически:
«Мы лежали с ней официально голые, потому что только что расписались. А надо вам сказать, что расписывались тогда мало, шла война. Была осень 41-го года. И все же я сходил к начальнику части, полковнику, и отдал ему рапорт о том, что хочу жениться. Он молча прочел, отдал комиссару, тоже полковнику, полковому комиссару, и они стали смотреть на меня. Они смотрели на меня, на молодого идиота, и, видимо, старались подобрать слова. Слов я не помню. И слава богу! Потому что если бы я запомнил то, что они мне сказали, я бы не решился это записать. Не отговорив меня, они выдали мне разрешение на брак с гражданкой такой-то… И вот, проделав все формальности, которые мне теперь вовсе не кажутся трогательными, мы официально разделись догола в пустой квартире, которая вся ушла в бомбоубежище, потому что тревогу уже объявили. Мы вместе легли в постель и должны были бы испытать необыкновенно приятное ощущение, которое тут же кончилось, не начавшись, когда она сказала: “Война только еще начинается, и тебя могут убить. Как же я тогда выйду замуж, если я не буду невинной? Поэтому давай ничего делать не будем”. Вы мне, конечно, не поверите, но тогда мне ее слова показались справедливыми. И я, вместо того чтобы погнать ее к чертовой матери, сразу же, не раздумывая, согласился и всю войну хранил ей физическую верность.
<…> Поэтому, когда через несколько лет меня все же не убили и я вернулся со второй войны, мне сказали, что я огрубел. Огорченный этим обстоятельством, я с другой женщиной решил довести это дело до конца. И довел его с другой женщиной с большим успехом».
Заключает этот фрагмент в повести «Стройность» один из самых выразительных пассажей у Анчарова (напомним, что эти строки написаны уже пожилым человеком, после многочисленных неудачных браков и романов):
«С тех пор, когда я читаю стихи, посвященные женщине, и, извините, стихи, написанные женщинами, я, извините, не верю ни одному слову. Не верится как-то…
Но вот несколько лет назад в журнале “Наука и жизнь” я прочел следующее сообщение, коротенькое и выразительное: в какой-то стране, кажется, в Индии, девочка укусила кобру. Кобра сдохла. Вот это девочка! В это я поверил сразу».
Приведенное описание начала семейной жизни с Натальей, безусловно, нарочито упрощенное художественное преувеличение, и от реальных событий там присутствует немного. В действительности такая сцена едва ли могла бы состояться — слишком уж она искусственная. А вот образы героев, вероятно, близки к реальности: Надя из повести «Этот синий апрель», в которую Анчаров вложил очень много от настоящей Натальи Суриковой, в принципе могла бы поступить именно так. Да и автор в молодости, переполненный рыцарскими идеалами и воздушными образами женщин из рассказов Грина, тоже мог бы так отреагировать. Именно это Анчарову и надо было: изобразив придуманную сцену, нарочито доведенную до абсурда («и всю войну хранил ей физическую верность», ага), он смог передать впечатление от отношений, сложившихся в его реальной семейной жизни.
По-настоящему, вероятно, все было гораздо проще. Во-первых, как мы помним, ВИИЯКА осенью 1943-го вернулся из эвакуации в Москву. Так что Анчаров, еще не побывав реально на войне, встретился с родными и, скорее всего, жил дома с молодой женой — ведь размещался институт не очень далеко от Благуши. Во-вторых, курсант Анчаров был видным парнем, военная форма ему очень шла, и он совсем не был обделен вниманием девушек, и в эвакуации и после нее (о чем есть прямое свидетельство курсантки того же института — см. далее). Так что проходить «всю войну» целомудренным ему явно не светило.
Ант Скаландис в биографии Стругацких даже высказывает мнение, что Анчаров в период пересечения с Аркадием в стенах института (с середины 1943-го по конец 1944-го) напрямую конкурировал с ним за внимание прекрасного пола:
«…с Анчаровым у Аркадия были, мягко говоря, натянутые отношения. Почему? Конкуренция — очевидно, не раз и не два друг у дружки девчонок перебивали». Версия не выдерживает критики: у Анчарова в период обучения, конечно, были романы (следы одного из них мы находим в письмах 1945 года, см. далее), но это не могло перерасти в погоню за юбками, да еще и с перебиванием у товарищей — то есть в то, что обычно вкладывается в понятие «конкуренции». Напомним еще, что Анчаров уже был женат и в молодости, когда еще не полностью рассеялись книжные идеалы (см. гротескный автопортрет ранее), был слишком «правильным» человеком, чтобы примерять на себя роль легкомысленного героя-любовника — роль, в которой артистичный заводила Стругацкий чувствовал себя, как рыба в воде.
Кроме того, ничто не указывает, что Анчаров со Стругацким в период обучения имели какие-то отношения, кроме естественного шапочного знакомства. В начале 2002 года Борис Стругацкий в ответ на вопрос, заданный на форуме сайта «Русская фантастика» Станиславом Новиковым о знакомстве брата с Анчаровым, сообщил следующее: «Действительно, АНС (Аркадий Натанович Стругацкий — авт.) учился в одном институте с Анчаровым, только двумя (или тремя?) курсами раньше. Вспоминал о нем всегда с большой теплотой, хотя знаком был только шапочно, а вот жена АНС, Елена Ильинична, учившаяся с Анчаровым на одном курсе, с удовольствием рассказывала, какой это был очаровательный человек и как влюблены в него были все без исключения курсанты ВИЯЗа[40] женского полу». Конечно, Борис Натанович, никогда в этот вопрос, очевидно, не вникавший подробно, все перепутал: во-первых, Аркадий учился не двумя курсами раньше, а двумя курсами позже. Во-вторых, Лена Ошанина (будущая Елена Ильинична Стругацкая) поступила в ВИИЯКА еще позже, в сентябре 1944 года, и с Анчаровым на одном курсе никак очутиться не могла. Показательно, однако, что, пересекшись с Анчаровым в институте меньше чем на полгода, она запомнила, насколько он был популярен у женского контингента.
Однако популярность популярностью, а Аркадий Натанович об этом знакомстве, очевидно, потом вообще забыл, потому что 2 ноября 1964 года он пишет брату: «Вчера был у Севы Ревича, познакомился с Анчаровым, он пел новые песни. Хороший парень». Какая уж тут «конкуренция» и «натянутые отношения»…
Приведем еще фрагмент из выступления Людмилы Владимировны Абрамовой-Высоцкой на вечере памяти Михаила Леонидовича в доме-музее В. С. Высоцкого в марте 2002 года: «Я знала Аркашу Стругацкого, он тоже учился в ВИИЯКе, и Мишу знала Аркашина жена Леночка. Когда начинали говорить о Мише — это было то же самое, это было воспоминание о таком вот мгновенном, ослепительном на всю жизнь, сокрушительном впечатлении красоты, совершенства, мужества… Моя мама училась в ВИИЯКе позже Миши, она после войны поступила, но все стены в этом институте, казалось, весь этот район — это Лефортово, Волочаевская улица — все это, казалось, еще помнило Мишу. И не только потому, что он сочинял макаронические стихи, там “Гимны” факультета восточного, не только поэтому. Он отпечатался на всем этом».
Как уже упоминалось, к моменту отъезда Анчарова из Москвы в декабре 1941 года все родные (включая и Наталью Сурикову с мамой) находились в эвакуации, кроме отца, который тоже собирался уезжать, очевидно, вместе с заводом, на котором он работал. Сохранились некоторые письма родных к Анчарову — в целом они дают вполне адекватное представление о том, как протекала жизнь семьи в эти годы.
В начале 1943 года отец, мама и брат пребывали в эвакуации в Восточной Казахстанской области, в г. Лениногорске по адресу: улица Почтовая, дом 5, квартира 5 (письма адресовались на почтовое отделение Шушаково). Оттуда сразу после Нового года, 6 января 1943-го, Михаилу пишет брат Илья, учившийся тогда в девятом классе. Илья сообщает новосибирский адрес Натальи — следовательно, она с мамой Клавдией Борисовной также еще была в эвакуации. Затем он выражает беспокойство, что ему не удастся закончить десятый класс: «Видишь ли, 25-й год уже взяли в армию, и мне не удастся закончить 10 кл. Узнай, можно ли к вам поступить как-нибудь с 9 классами, а если можно, то как это сделать».
19 марта 1943-го (видимо, в расчете на то, что как раз ко дню рождения 28 марта дойдет) было отправлено письмо от мамы, в котором она поздравляет «дорогого сынка Мишеньку» с днем рождения. На лицевой стороне открытки в обратном адресе указана не просто фамилия, а с уточнением «учительнице Е. Анчаровой» — так подписаны все ее письма, кроме одного, где обозначение профессии не уместилось. В одном письме (от 08.07.43) стоит даже просто «учительнице».
В мае 1943-го Анчарова завалили письмами: 11-го письмо от Ильи, 12-го от Натальи, 16-го от отца. Письмо от Ильи дает некоторое представление о том, как проходила жизнь в эвакуации. В начале он жалуется, что
«…долго нет писем и мама опять начала волноваться. Ты ее знаешь, чтобы она не волновалась, нужно через день по письму от тебя получать. У нас все по-старому. Копаем огороды, совсем заколхозились. <…> Мишка, ты не хвались своей редакторской деятельностью — мои газеты здесь тоже имеют успех. Однажды нужно было выпустить сразу две газеты: свою и школьную за один вечер. Мои конкуренты (другие редакторы), радовались, что газеты не будут висеть в срок. Я разозлился и ушел домой, на другой день газеты висели. Ребята говорили, что я гений, а я ухмылялся и думал, что недаром у меня такой брат. Помнишь свою новогоднюю с голым Дедом Морозом?»
Письмо Натальи послано уже из Москвы и содержит интересные подробности:
«12.V.43 г.
Здравствуй, Миша!
Скоро месяц, как я в Москве. Послала тебе две телеграммы и ни на одну из них не имею ответа. Что-нибудь случилось или это очередная срочная работа? Живу у бабушки, потому пиши, если хочешь, сюда. В Москве чудесно, тепло; все бульвары зеленые… Начало лета очень чувствуется. Ты обещал приехать летом сюда? Жалко, что, вероятно, я тебя не увижу: 1–15 июля меня пошлют куда-то на лесозаготовки. Я приехала совсем одна. Мама и семья Дзисько остались в Новосибирске. Чувствую себя бесконечно виноватой перед мамой: вывезти я ее отсюда вывезла, а вот привезти не могу. А она там очень мучается… И здоровье отвратительное. Очень о ней волнуюсь. До свиданья!
Жму руку и целую.
Наташа
P. S. Юра и Катюша[41] на фронте, но были в разных летных частях. Год уже нет от них ничего».
Открытка Леонида Михайловича написана четырьмя днями позже:
«п/о Шушаково 16/V-43 Дорогой Мишенька.
Получили твое письмо от 7/IV, в котором ты все киснешь. Брось это дело. Что слышно с твоей поездкой в Москву? Наташа уже в Москве. Я тоже собираюсь туда в командировку. Когда точно поеду — не знаю. Выясню — сообщу. У нас сейчас огородная эпопея — рано утром до службы и вечером после службы все время провожу на огороде — изредка помогает Илья — он сейчас занят экзаменами, которые уже на носу. Мамочка тоже целые вечера и каждую свободную минуту сидит и пишет билеты к экзаменам — и все время тоже киснет. С нами сейчас живет тетя Соня — она перевелась из Лениногорска к нам в Шушаково на работу. Симочка, ее дочка и твоя кузина, переедет после экзаменов. Вот все наши новости. Будь здоров».
Сбоку открытки: «Целую крепко, твой папа Леня. Пиши чаще. Как разживемся, денег сейчас же вышлем».
Сверху открытки добавлено: «Привет и поцелуи от мамы и тети Сони». Интересно, что обратный адрес на открытке отца указывает на его работу, а не дом, как в письмах Ильи и мамы: «Вост. Казахстан. обл. п/о Шушаково Гипроцветмет Анчарову Л. М.»
4 июня Евгения Исаевна пишет сыну о том, что отец уехал в Москву и сообщил, что в квартире все в порядке. Отметим, что все родные в письмах этого периода будут обязательно упоминать об этом факте — видимо, сохранность квартиры всех очень беспокоила. Из текста письма мамы ясно, что перед этим Анчаров писал родным, что болеет и теперь поправляется.
21 июня мама пишет, что Илья в военном лагере и она осталась одна с «больным дедушкой (ему 85 лет)». Она также выслала 100 рублей и просит сообщить о получении. Вскоре к ней приезжает «сестра Соня с девочкой, потому что она потеряла мужа и теперь одинока». Кроме того, мама сообщает, что «на днях получили письмо от Натальи из Москвы». Видимо, Наталья отсылала письмо еще до приезда отца в Москву, потому что мама также сообщает с ее слов, что в квартире все в порядке, и «она даже внесла недостающую сумму за квартплату».
Того же 21 июня Наталья пишет уже с лесозаготовок из Ивановской области, в графе «От кого» указано: «Студ. II ММИ II курса Н. Анчаровой». Текст письма наполнен сетованием на жизненные обстоятельства:
«21/VI-43 г.
Здравствуй, Миша.
Вот я опять уехала из Москвы с институтом на лесозаготовки.
Сегодня нам показали участок, и завтра начинаем работу. В лесу страшно много ягод, поэтому хочется их собирать, а не валить деревья. Утром читали нам лекцию по технике безопасности.
Ты просил в письме выполнить три твои просьбы, но, к сожалению… Западный музей закрыт, покрытый пылью. Твои все картины на тех же местах, как ты их оставил.
Веселых писем я писать не могу, т. к., во-первых, меня мучает положение мамы — она не может выехать, и даже ее послали работать на торф. Сердце воистину обливается кровью (немножко шаблонная фраза, но что же делать?). Я тебя очень прошу послать заявление от командования на ул. Фрунзе 19 г. Москвы, что просишь вернуть из эвакуации маму. Во-вторых, я больна и настолько, что если я не вылечусь, то не захочу никого видеть.
Скажи, если можешь, что, ты думаешь, будет дальше. Мы скоро встретимся? Или так же редко будем дышать холодом писем? Та моя записочка — крик “души” (я все так же люблю писать пышно), но ты не обращай внимания. Сегодня и впредь я опять стисну зубы и буду вымучивать мысли в письмах. Ты приедешь в Москву? Скоро? Как ты? Наверное, ты рассердишься на мои вопросы, но если не хочешь — не отвечай.
Юра Альтшуль с фронта прислал мне два очень милых письма. Одно принес его товарищ в день моего отъезда. И так как я очень спешила, то послала ему первые попавшиеся книги, от себя Коз. Прудкова (так в оригинале — авт.) и у тебя стащила “Смешные рассказы”[42][42]. Ты, надеюсь, не сердишься? Его адрес ППС 14142-Ж. Напишешь?
До свиданья. Крепко целую
Наташа
P.S. Я перешла на третий курс.
P. S. Леон. Мих. изумительно со мной жил».
Последняя фраза говорит о том, что отец Михаила и Наталья в Москве пересеклись и какое-то время жили в одной квартире. Упомянутый в тексте Юра Альтшуль — сосед Анчаровых по дому из квартиры 19, будущий писатель Юрий Туманов (его рассказ «Житие Мажорового переулка» мы цитировали в начале главы 1).
2 июля 1943 года мама благодарит за подтверждение получения денег и снова пишет, что в квартире все в порядке. Дальнейшие строки письма Евгении Исаевны дают представление о том, какими заботами они живут в эвакуации:
«Мы [с Ильей] много работаем над огородами, которые папа успел обработать до отъезда. Едим уже свои овощи, а мне все это впрок не идет от мысли, что половина моей семьи не может этим пользоваться. Надеюсь, однако, что картошка, за которой мы очень ухаживаем, выйдет хорошая и ее можно будет захватить с собой в Москву и для тебя с папой (на твою долю мы землю получили тоже и обработали)».
В июле Илья пишет подряд две открытки (4-го и 7-го). Первая из них начинается с жалобы на потери писем, далее Илья пишет о своей коллекции марок, а затем излагает следующие сведения, не забыв упомянуть и пресловутый факт сохранности квартиры:
«Не знаю, знаешь ты или нет, папа уже в Москве: “квартира в полном порядке” — слова его телеграммы. Я недавно вернулся из военных лагерей, было очень много интересного, но писать долго, и критика начальства воспрещается уставами РККА».
Вторая открытка для нас еще более познавательна, потому приведем ее текст целиком (синтаксис, пунктуация и орфография оригинала сохранены):
«8.VII.1943
Мишель, здравствуй!
Несколько дней назад получили от тебя письмо в котором ты жалуешься, что от нас нет писем; от тебя мы их тоже не получаем, это поистине “тайна, покрытая мраком неизвестности”! З дня назад я тебе уже писал и что сейчас писать совершенно не знаю. Придется писать по стихотворению “у меня в кармане гвоздь а у вас?..” так вот у нас курица сидит на яйцах и скоро будут цыплята. А послезавтра я иду сдавать химию за 9й класс. Сдам верно? Папа в Москве и написал, что все до мелочей цело, даже два кия которыми мы с тобой дрались за место около батареи на кухне. Помнишь? Ну вот! Что же еще? Пытаюсь рисовать горы, но конечно ничего не выходит, т. к. рисую очень мало. Все!!
До свиданья! Пиши! Твой брат Илья.
P. S. Извини за почерк, хотя он не хуже твоего верно? Ну еще раз пока. А.И.Л.».
Обратите внимание на один нюанс, присутствующий во всех этих письмах, и особенно ярко выраженный в последнем: Илья, как обычный школьник, делает кучу синтаксических ошибок, пропуская запятые, но не брезгует точкой с запятой и многоточиями. Его сегодняшние ровесники, плодящие тексты в «ВКонтакте» и «Фейсбуке», скорее понаставят лишних запятых, чем их пропустят, а про такой знак препинания, как точка с запятой, давно забыли даже профессиональные журналисты. Отличие это обусловлено разными образцами, с которых невольно копируется стиль изложения: Илья и его сверстники читали классическую и современную им литературу (ныне тоже перешедшую в разряд классики), где не редкостью были фразы длиной в целый абзац. А наши современники если и читают, то новостные сообщения в фейсбучной ленте, где принято выражаться короткими рублеными фразами. Эта манера, действительно уместная для новостных заметок и инструкций по настройке мобильников, сегодня, к сожалению, перешла и в стиль журнальных и газетных статей и даже прямо рекомендуется начинающим журналистам. В результате читатели, лишенные хороших образцов литературного языка, теряют способность адекватно излагать свои мысли по-русски.
8 июля 1943 года отправлено письмо от мамы, в котором она пишет:
«Ты уже, конечно, знаешь, что папа в Москве. Мы с Ильей только мечтаем об этом. На зиму здесь страшно оставаться, т. к. бытовые условия тяжелые: морозы, бураны, осенью заготовка дров, уборка урожая, все это нам без папы не по силам, да и вообще хочется домой, к своим вещам, которые дразнят воспоминаниями о прошлом».
15 августа Илья пишет еще одно письмо, о котором мы уже упоминали в связи с переездом ВИИЯКА в Москву. Кроме того, он сообщает, что «к осени, может быть, будем в Москве». Отец так и застрял в Москве и, очевидно, в Восточный Казахстан уже не возвращался.
Сохранилось еще одно письмо Евгении Исаевны из эвакуации от 9 сентября, где она пишет, что Илья болеет, а папа «хлопочет, чтобы нас вызвать домой, обещает к осени, но мы с Ильей этого так жаждем, что просто не верим в это счастье». Как мы уже знаем, в октябре 1943 года семья (включая и Наталью) все-таки воссоединилась в Москве.
Жаль, что не удалось разыскать ответных писем Анчарова (скорее всего, они не сохранились в семьях родных), но и без того цитированная переписка дает живую картину того, как люди выживали во время войны. Особенно впечатляет упоминание Натальи о том, что ее больную маму, которой к тому времени, вероятно, было уже далеко за сорок, посылают на торфоразработки. То, что сама Наталья, студентка медицинского института, вместо каникул работала на лесозаготовках и непрестанно там болела, уже не удивляет. Ей еще повезло, что лесозаготовки, вопреки всем правилам, проводились летом, а не зимой, как положено (зимой лес суше, да и вывозить его проще). Из других биографий военного времени мы знаем, что в те годы выезд на лесо- и торфозаготовки для городских жителей по всей стране был обычным делом — слишком велик был дефицит топлива в замерзающих городах.
В самом конце декабря 1944 года Анчаров заканчивает институт и после короткого отпуска отправляется на Дальний Восток. Служить выпускнику ВИИЯКА пришлось в СМЕРШе, что потом не лучшим образом отразилось на его судьбе. Обвинявшие Анчарова в сотрудничестве с «органами» (дескать, «гэбэшников бывших не бывает»), очевидно, не сочли нужным разобраться, в каком именно СМЕРШе служил Анчаров. Формально в составе ГБ ему действительно пришлось некоторое время побывать, но только после войны, когда он уже подумывал оставить службу, и к тем, кого обычно подразумевают под «гэбэшниками», он никакого отношения никогда не имел.
Дело в том, что название СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») во время Второй мировой войны носили в Советском Союзе несколько вполне независимых друг от друга контрразведывательных организаций. Незнание этого факта служит источником недоразумений: современникам, естественно, больше всего запомнились Особые отделы НКВД, в 1941– 1943 годах выполнявшие функции контрразведки, с которыми СМЕРШ часто путают. Отдел СМЕРШ Наркомата внутренних дел, подчинявшийся наркому Л. П. Берии, был образован в 1943 году, но к делам на фронте, в отличие от Особых отделов, он уже отношения не имел: в соответствии с приказом он был предназначен «для агентурно-оперативного обслуживания пограничных и внутренних войск, милиции и других вооруженных формирований Наркомата внутренних дел» — то есть для обеспечения тыловых нужд служб безопасности.
Анчаров начал служить совсем в другой организации: в управлении контрразведки СМЕРШ Наркомата обороны, начальником которой был В. С. Абакумов (ГУКР СМЕРШ — военная контрразведка). Подчинялось оно непосредственно наркому обороны И. В. Сталину. ГУКР СМЕРШ вместе с аналогичным Управлением контрразведки СМЕРШ ВМФ СССР было создано в 1943 году на основе Управления особых отделов НКВД, и по инерции к нему перешла недобрая репутация предшественника.
Самым неприятным направлением деятельности ГУКР СМЕРШ (а также предшествовавших ему Особых отделов НКВД) была фильтрация советских военнопленных, возвращавшихся домой или выходивших из окружения. Именно на этом поприще СМЕРШ заработал свою зловещую репутацию. СМЕРШ и Особые отделы и правда проверяли всех военнопленных и вышедших из окружения поголовно. Репрессировали за время войны несколько десятков тысяч человек из миллионов отфильтрованных (по разным сведениям, через фильтры прошли от 700 тысяч до 5 миллионов человек). Часть репрессированных действительно была завербована или заслана абвером, а большинство остальных запятнали себя тем или иным сотрудничеством с врагом, чего по советским законам категорически не допускалось. Так, вдова Грина Нина Николаевна Грин получила после возвращения из немецкого плена десять лет лагерей за то, что в период оккупации Крыма, чтобы прокормить себя и больную мать, сотрудничала в оккупационной газете «Официальный бюллетень Старо-Крымского района». Однако СМЕРШ в ее случае ни при чем — гражданское население фильтровалось через НКВД. Большинство же военнослужащих, по поводу которых оставались сомнения в корректном их поведении в плену, тем более имеющих «пятна» в довоенной биографии, СМЕРШем не репрессировались, а направлялись в штрафные батальоны (штурмовые, как их официально называли), что в условиях войны, конечно, куда более прагматичная мера, чем направление в лагеря или расстрел.
В посвященном началу войны романе «Живые и мертвые» советский писатель Константин Симонов в числе других персонажей показывает «особиста» Данилова. Роман писался в годы оттепели, потому изображение персонажей довольно реалистичное, но, разумеется, с уклоном в «социалистический реализм», где типичными героями должны были быть самые лучшие: «Прошедший школу долгой пограничной службы, раненный на Халхин-Голе, отходивший с остатками своего отряда из-под Ломжи[43], зоркий, памятливый, въедливый, умевший доверять и не доверять, Данилов был одним из тех людей, которым в Особых отделах было самое место. Чуждый самомнения, он, однако, и сам чувствовал, что оказался там на месте, и сознавал свое превосходство человека, много лет ловившего настоящих шпионов и диверсантов, над некоторыми из своих сослуживцев, не умевших отличать факты от липы, а случалось, даже и не особенно озабоченных этим. С такими сослуживцами Данилов, как он сам выражался, “собачился” и за недолгую службу в Особом отделе уже успел непримиримо вывести одного такого на чистую воду». В романе образ «идеального особиста» нарочно усложнен — выполняя инструкции, Данилов вынужден перед отправкой в тыл разоружить вышедшую из окружения часть, и гибнет, пытаясь защитить лишенных оружия людей от прорвавшихся немецких автоматчиков.
Как видно уже из цитированного отрывка, далеко не все «особисты», впоследствии оказавшиеся в СМЕРШе, были похожи на Данилова. Немаленькая их часть относилась к числу «не умевших отличать факты от липы, а случалось, даже и не особенно озабоченных этим». Авторы при всем своем пиетете по отношению к главному герою этой книги ничуть не собираются затушевывать и оправдывать многочисленные злоупотребления, которыми сопровождалась деятельность Особых отделов и СМЕРШа в тылу. Сталин и его окружение пытались привить советским военнослужащим нечто вроде самурайского кодекса — в плен не сдаваться. Ему приписывается фраза «У нас нет военнопленных, есть предатели», которой он не произносил, но отношение к вернувшимся из плена на практике соответствовало именно этому изречению, потому приписали эти слова вождю не на пустом месте. Кстати, ровно такая же история связана с другой известной фразой, приписываемой Сталину: «Нет человека — нет проблемы» — хотя он ее, вероятно, тоже никогда не произносил, но содержание его внутренней политики она характеризует очень точно.
Стоит заметить, что фильтрация пленных или выполнение функций тайной полиции в действующих частях[44] были не единственными и даже не главными направлениями работы СМЕРШа — иначе он не заслужил бы репутации самой эффективной контрразведывательной службы времен войны. Наряду с этим, смершевцы реально ловили шпионов, добывали информацию у захваченных в плен врагов, вели радиоигры с противником и вообще делали все то, что положено контрразведчикам, причем довольно эффективно, по признанию даже многих антисталинистов.
Переводчику с китайского младшему лейтенанту Анчарову на Дальнем Востоке, да еще и в конце войны, со всем этими отрицательными сторонами деятельности родного ведомства, естественно, сталкиваться не пришлось. Потому присваивать Анчарову клеймо «гэбэшника» оснований не больше, чем другим фронтовым работникам разведки и контрразведки, которые зачастую гибли в первых рядах (вспомним судьбу Павла Когана, погибшего в разведке под Новороссийском).
Сохранились два письма Михаила родным, отосланных из Маньчжурии перед началом и в период активных боевых действий летом 1945 года: от 22.07.45 и 24.08.45. В первом письме он описывает свой приезд с сослуживцами в неназванный маньчжурский город, где, очевидно, размещалась база советских войск (возможно, речь идет о Муданьцзяне, в котором Анчаров служил в дальнейшем). Из письма можно составить мнение о всеобщем хаосе, который творился в расположении советских частей. Сначала направленных в город новичков приютила семья, с которой они познакомились в дороге, а затем началась «работа по 16 часов в сутки»:
«Трудность еще усугублялась тем, что совершенно не было времени устроиться, и жили мы фактически на пеньке, т. к. с каждым днем все неудобнее было ночевать у знакомых, найти квартиру не было времени, а в общежитие идти не хотелось — паршивое».
В этом письме идет также речь о некоем лейтенанте Галине Дехтеревой, оставшейся в Москве. Очень вероятно, речь идет об одной из соучениц по ВИИЯКА, тех самих, про которых упоминала жена Стругацкого Лена Ошанина. Анчаров не скрывает от родителей, что у него с Галиной завязались отношения, и даже настоятельно просит помочь ему с ней связаться. Это вообще будет характерно для Анчарова-человека: он никогда не пытался скрыть своих личных отношений с женщинами от окружающих.
На содержании второго письма, отправленного в период активных боевых действий в Маньжурии, мы остановимся позднее.
Следующий сохранившийся документ — справка о прививках и санитарной обработке, которую младший лейтенант Анчаров Михаил Леонидович прошел на станции Муданьцзян (можно себе представить, как склоняли это название молодые солдаты и офицеры Советской Армии). Справка о прививках выдана 5 апреля 1946 года, 15 апреля в нее добавлена запись о прохождении санитарной обработки. Бумаги в Советской армии, видимо, не хватало, и справка написана поперек какого-то бланка с иероглифами. В повести «Стройность» («Козу продам») писатель Анчаров касается процедуры, по поводу которой была выдана справка: «…на каждой тыловой станции были вошебойки, куда мы сдавали обмундирование, и там его жарили раскаленным паром и возвращали форму обратно со скрюченными брезентовыми ремнями».
Современный Муданьцзян — город с более чем двухмиллионным населением, находится на прямой, соединяющей Харбин и российский Владивосток, примерно в трехстах пятидесяти километрах от последнего. Это северо-восток Китая, Маньчжурия, территория бывшей КВЖД. Под этим сокращением скрывается Китайско-Восточная железная дорога — южная ветка Транссибирской магистрали, построенная в 1897–1903 годах по специальному соглашению с правительством Китая российскими специалистами на российские средства и обслуживавшаяся российскими подданными. Она была построена раньше современного окончания Транссиба — Амурской ветки в Забайкалье, проходящей по российской территории через Благовещенск и Хабаровск в обход китайской границы, — и должна была стать основным путем, связывающим Владивосток и Порт-Артур[45] с центральными районами России.
Проигранная Русско-японская война показала ошибочность этого решения (Маньчжурия все время находилась под угрозой японской оккупации, а Порт-Артур и вовсе прекратил существование), однако КВЖД продолжала функционировать даже в советское время. В двадцатые и начале тридцатых КВЖД была, вероятно, единственным предприятием в коммунистической России, где долгое время сохранялся контингент администрации еще с царского времени, даже управляющий был заменен только в 1924 году. Весь советский период владения КВЖД с китайской стороны следовали непрерывные провокации, поддержанные скрывавшимися со времен Гражданской войны на территории КВЖД белогвардейцами — осколками Забайкальского казачьего войска атамана Г. М. Семенова. Особо крупный конфликт разгорелся в 1929 году при попытке силового захвата КВЖД китайскими войсками.
В 1931 году Маньчжурия таки была оккупирована японцами, в результате чего образовалось автономное марионеточное государство Маньчжоу-Го. Продолжать эксплуатировать КВЖД в обстановке непрерывных конфликтов стало невозможно, а полноценно отвоевать у Японии территорию не хватало сил (хотя одно время вхождение Маньчжурии в состав СССР было популярной идеей). Поэтому в 1935 году КВЖД была продана правительству Маньчжоу-Го за сумму 140 миллионов японских иен, что составляет 8 миллионов тогдашних британских фунтов стерлингов или примерно 80 миллионов золотых советских рублей. Стоит отметить, что советское правительство и до этого предлагало купить дорогу китайскому правительству, но у того попросту не было денег, — отсюда непрестанные провокации и попытки силового решения проблемы.
Служащие КВЖД, имевшие советское гражданство, после продажи дороги были большей частью вывезены в СССР, для этого даже выторговали у Японии дополнительно 30 миллионов йен в качестве выходных пособий. Однако на территории Маньчжурии оставалось большое количество русских — служащих КВЖД или просто жителей, оказавшихся там во время Гражданской войны и впоследствии так и не получивших советского гражданства. Судьба одной из таких семей в обстановке японской оккупации стала основой сценария «Баллада о счастливой любви», написанного Анчаровым (совместно с С. Вонсевером) в 1956 году.
Для полноты картины следует добавить, что в 1945 году после освобождения Маньчжурии советскими войсками дорога перешла в совместное советско-китайское владение под наименованием КВЧД (Китайско-Чанчуньской[46] железной дороги) и окончательно была передана уже коммунистическому Китаю в 1952–1954 годах. Именно штамп управления К.В.Ч.Д. стоит на санитарной справке, выданной на станции Муданьцзян младшему лейтенанту М. Л. Анчарову.
Сохранилось письмо от кого-то из друзей или знакомых (подпись в письме не расшифрована), в котором речь идет о возможном приезде Натальи на Дальний Восток и о необходимых в связи с этим документах. Отправлено оно, вероятнее всего, весной 1946-го (в письме упоминается дата 24 марта). Можно предположить, что напуганная известиями о связи мужа с Дехтеревой (а может, и не только с ней), чего Анчаров и не скрывал, скучавшая Наталья захотела выяснить отношения лично и удостовериться, что никуда он не денется. Осенью 45-го это было нереально из-за боевых действий. А весной 1946-го это уже было вполне возможно, и поучаствовал в этом кто-то из сослуживцев, остававшийся в Ворошилове[47], откуда была связь с Москвой. Почему поездка не состоялась, понятно: летом 1946 года Анчаров сам приехал в Москву, а осенью и вовсе перевелся в столицу (см. далее).
Из писем родных этого периода единственное сохранившееся относится к 1946 году и адресовано на полевую почту № 37238. Оно написано в день рождения Михаила, 28 марта 1946 года, с коллективным стихотворным поздравлением от имени всех членов семьи. Основной текст подписан отцом и, судя по почерку, написан также его рукой:
«Мама Женя,
Папа Леня,
Брат Илья,
Жена Наташа
Собрались сегодня вместе
Всей семьею нашей.
Собрались, подняли кубки
Со сверкающим вином.
Мысли наши, чувства наши
О тебе одном.
Ведь сегодня день рожденья
твоего сынок,
(Как хотелось, чтобы с нами
Провести ты мог.)
Пьем за счастье, за здоровье,
За твою любовь
И за то, чтобы скорее
Ты был с нами вновь.
И все эти пожеланья
И миллион других
Принимай от нас [нерзб]
будь достоин их.
Папа Леня
Мама Женя
Брат Илья
Жена Наташа
Подписали, закрепили всей
Семьею нашей».
После подписи Л. Анчарова следует приписка другими чернилами рукой Евгении Исаевны:
«Дорогой мой сыночек! Прими наши горячие поздравления с днем рождения и пожелания тебе здоровья, счастья и удачи в жизни. Ждем тебя, дорогой наш, домой бодрым и радостным. Не тужи, бог даст, увидимся и вспомним старину, отпразднуем твой день рождения вместе с тобой. Целую крепко-крепко. Твоя мама».
Кроме этого письма, сохранилась телеграмма, адресованная Л. М. Анчаровым 15 мая 1946 года до востребования в Ворошилов Уссурийской области: «Телеграфируй здоровье очень беспокоимся».
Обстановка к моменту прибытия Анчарова на дальневосточный театр военных действий в начале 1945 года еще находилась в подвешенном состоянии: было ясно, что конфликт с Японией неизбежен, но неизвестно, когда именно он начнется и какая сторона выступит первой. Начиная с апреля 1941 года и на протяжении всей Великой Отечественной между Японией и СССР действовал «пакт о нейтралитете», который был выгоден обеим сторонам: Советскому Союзу он позволял не вести войну на два фронта, а сосредоточиться на разгроме гитлеровской Германии, а Японии, в свою очередь, бросить основные силы на тихоокеанский театр. Войну против США Япония, как известно, начала через полгода после нападения Германии на СССР впечатляющим разгромом гавайской американской базы в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года.
Однако все это время японцы сохраняли большую семисоттысячную Квантунскую армию в Манчжурии — чтобы напасть на СССР, они ожидали только перелома на Западном фронте в пользу Германии. Перелом все не наступал, а основное внимание Японии пришлось сосредоточить на Тихом океане, на Филиппинах и в Сингапуре: после первых успехов, обусловленных в основном эффектом неожиданности нападения, американцы планомерно выдавливали японские войска с захваченных территорий. К началу 1945 года стало ясно, что в Европе война для антигитлеровской коалиции идет к победному концу, и на Ялтинской конференции в феврале Сталин дал обещание союзникам объявить войну Японии через 2–3 месяца после окончания боевых действий против Германии.
5 апреля 1945 года Советский Союз превентивно денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете. Японцы и им сочувствующие с нашей стороны говорят, что со стороны Сталина это был вероломный поступок:
«Представьте, Япония разорвала бы Пакт о нейтралитете и открыла фронт на Дальнем Востоке, как того требовал Гитлер. Она находилась тогда в апогее своего политического и военного могущества, захватив более 4200 тысяч квадратных километров территории с населением около 450 миллионов человек. Вступи Япония в войну, положение СССР было бы отчаянным. Ни Господь, ни Жуков — никто бы не помог», —
говорил в 2004 году в интервью «Новой газете» президент российско-японского фонда «Покаяние» Валентин Архангельский[48]. Но, как известно, в политике, тем более такого уровня, о вероломстве или, наоборот, благодарности говорить не приходится: сдержать обещание, данное союзникам по войне с Германией, нарушив договор с недружественной Японией, было на тот момент куда выгодней со всех сторон. К тому же японские милитаристы своим поведением на оккупированных территориях куда больше отвечали определению «фашистов», чем тот же Франко или даже Муссолини, и довести показательную победу над фашизмом до конца было необходимо. Да и обид на них у советской стороны накопилось к тому времени уже немало. Трудно сомневаться в том, что в случае поражения СССР японцы поступили бы точно так же.
Формально, согласно пакту, одностороннее расторжение его давало Японии еще год спокойствия, но Сталин выполнил обещание: документ об объявлении войны был вручен японскому послу в Москве 8 августа 1945 года в 17:00 (по московскому времени — на Дальнем Востоке уже почти наступило 9 августа), ровно через три месяца после победы на Германией. Эти месяцы понадобились, чтобы перебросить из Европы на Дальний Восток войска и технику (из анчаровской повести «Этот синий апрель»: «Армия двигалась на восток, и мало кто знал зачем»). К августу на Дальнем Востоке СССР сосредоточил 1,5 миллиона солдат против 700 тысяч в составе японской Квантунской армии. Причем больше трети из последних составляли необученные призывники младших возрастов и ограниченно годные резервисты постарше — большая часть «годных» человеческих ресурсов к тому времени уже покоилась на дне Тихого океана. В технике японцы также отставали: истребители конструкции начала 1930-х лихо били советских летчиков в конфликте на Халхин-Голе в 1938 году, но в 1945-м они уже бесповоротно устарели. Вообще отсутствовали в Квантунской армии автоматы, противотанковые ружья, реактивная артиллерия, мало было крупнокалиберной артиллерии.
В упомянутом письме родным от 24 августа 1945 года Анчаров как очевидец пишет:
«Техника основная у японцев оказалась слабой. Японской авиации мы почти не видали. Все воздушные бои оказывались для них проигранными, танки у них не сильные. Я сам видел, как наш тяжелый танк раздавил японский».
Нет особых оснований полагать, что Анчаров таким образом приукрашивает реальность. В результате война против Японии, к тому же деморализованной атомными бомбардировками в Хиросиме и Нагасаки, фактически завершилась за рекордные 12 дней: с 9 по 20 августа. Полное пленение Квантунской армии и ее капитуляция последовали 10 сентября. Еще раньше, 2 сентября 1945 года, формальная капитуляция Японии была принята западными союзниками на Тихом океане.
Заметим, что остатки Квантунской армии (чье полное окружение было завершено к 19 августа) сопротивлялись еще целую неделю после официальной капитуляции страны. Это много говорит о характере японских военных, у которых был в ходу самурайский кодекс чести — погибнуть в бою, в крайнем случае совершить ритуальное самоубийство, но в плен не сдаваться. Разумеется, это касалось только кадровых офицеров и командования, а не малограмотных юнцов и стариков из низшего рядового состава, но именно из-за упрямства высших военных чинов боевые действия продолжались тогда, когда в этом уже не было никакого смысла. И война имела для Японии гораздо более тяжелые последствия, чем они могли бы быть, уступи японские милитаристы своевременно. Япония потеряла все колонии на континенте, принадлежавшие ей южную часть Сахалина и острова Курильской гряды и сама была оккупирована американцами. Мало того, она чудом избежала оккупации советскими войсками острова Хоккайдо, которой помешали только задержки продвижения фронта в Южном Сахалине.
Показательны в этом смысле события, непосредственно предшествовавшие советскому объявлению войны с Японией и сразу после нее. 26 июля 1945 года союзники по антияпонской коалиции — Китай, США и Англия — выдвинули условия капитуляции Японии в документе под названием «Потсдамская декларация». В случае отказа союзные державы угрожали Японии «быстрым и полным уничтожением». 28 июля 1945 года Япония официально отказалась от условий ультиматума, не поверив в эту угрозу. 6 августа США продемонстрировали, что она означает, уничтожив Хиросиму атомным ударом. 8 августа войну объявил СССР и 9 августа начал наступление. Одновременно 9 августа была проведена вторая атомная бомбардировка в Нагасаки. В результате уже 10 августа правительство Японии объявило о готовности принять условия «Потсдамской декларации», 14 августа завершились переговоры по деталям капитуляции. Однако боевые действия и сопротивление японских войск продолжались вплоть до подписания акта о капитуляции 2 сентября, а Квантунская армия в Маньчжурии сопротивлялась еще дольше.
Между СССР и Японией, как известно, официально так и не был заключен мирный договор. Отказавшись от оккупированных в ходе войны территорий (в том числе от южной части Сахалина), Япония до сих пор настаивает на возвращении четырех островов Курильской гряды, принадлежавших ей по праву с 1905 года. В условиях послевоенной политической неразберихи (в том числе разлада между недавними союзниками по антифашистской коалиции) такая позиция была поддержана Западом и закреплена в Сан-Францисском мирном договоре, официально подведшем итоги Второй мировой войны, который СССР по ряду причин так и не подписал.
Анчаров участвует в операции по освобождению Маньчжурии. В черновике рапорта об увольнении со службы (октябрь 1947 года) Анчаров пишет, что «За участие в боевых действиях в войне против Японии и приказом по войскам 1-го ДВФ был награжден орденом “Красная звезда”, материалы о награждении которым были посланы уже 7 дней спустя после начала войны».
Розыск наградных документов в трех разных архивах (ФСБ, МО РФ и Государственного архива РФ) занял довольно продолжительное время — в Картотеке персонального учета лиц Министерства обороны, награжденных государственными наградами, фамилия Анчарова отсутствует. Благодаря настойчивости сотрудников отдела научно-информационной и справочной работы Государственного архива РФ удалось наконец выяснить, что в архивных документах МО фамилия изменена — вместо Анчарова указан Михаил Леонидович Гончаров. Согласно архивной справке, «орден “Красной звезды” № 1824708 вручен младшему лейтенанту Гончарову Михаилу Леонидовичу 18 сентября 1945 года приказом войскам 1-го Дальневосточного фронта № 48 от 27 августа 1945 года». Орден вручен за то, что, «…будучи выброшен в районе г. Муданьцзяна, показал себя смелым и решительным командиром и умело выполнил ряд заданий командования»[49]. В орденской учетной карточке, заполненной 11 ноября 1947 года при увольнении Анчарова из армии, фамилия указана верно. Правильность данных в этой учетной карточке и подпись М.Л. Анчарова заверены печатью и подписью некоего полковника А. С. Тюкевина. В ней же указан номер и дата выдачи временного удостоверения о награждении орденом (Ж-414659), полностью совпадающие с номером и датой временного удостоверения, выданного «М. Л. Гончарову». Это недоразумение с фамилиями, очевидно, связано с секретностью операции, в которой Анчаров принимал участие — сотрудники СМЕРШ вместо фамилий обозначались псевдонимами. В 1986 году Анчаров заметит (Беседа, 1986): «…на работе портреты всех сослуживцев сделал, но, к сожалению, в институт их представить не мог, потому что физиономии сослуживцев были не для показа».
Выпускники ВИИЯКА в своих воспоминаниях сообщали, что Анчаров принимал непосредственное участие в захвате и аресте правительства Маньчжоу-Го в Чаньчуне во главе с последним китайским императором из маньчжурской династии Цин по имени Пу И. Император был захвачен в плен советскими десантниками, высадившимися на аэродроме в Шэньяне (Мукдене), с которого собирались вывезти императора на самолете в Японию 17 августа 1945 года. Полагаем, что к ордену Анчаров был представлен как раз за участие в этой операции.
Анчарову все же пришлось некоторое время числиться «гэбэшником»: в мае 1946 года в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) ГУКР СМЕРШ было расформировано и влилось в состав вновь образованного Министерства госбезопасности СССР в качестве самостоятельного главного управления (военная контрразведка). Бывший начальник СМЕРШа Абакумов стал министром госбезопасности[50], а его подчиненные занялись контршпионажем теперь уже против США и других западных стран. Обратите внимание, что ведомство Абакумова сначала формально не занималось внутренними делами — перевод силовой составляющей (государственной охраны, милиции, погранвойск) из МВД в МГБ начался уже после увольнения Анчарова из армии, в 1948–1949 годах. И термин «гэбэшник» (в смысле, аналогичном «сотруднику тайной полиции», то есть тому, кто следит за поведением граждан) относится уже ко временам образованного в 1954 году КГБ, которое интегрировало в себе все задачи, относящиеся к госбезопасности, — и внутренние, и внешние. Еще и поэтому называть Анчарова «гэбэшником» со всеми отрицательными коннотациями этого термина оснований не больше, чем, например, служащих погранвойск, которые всегда входили в состав ВЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ (за исключением короткого периода 1953–1957 годов, когда они находились в ведении МВД).
В повести «Этот синий апрель» войне с Японией посвящено много страниц. Часть из описанного там явно основана на реальных событиях, но наверняка измененных и перекомпонованных, в обычном стиле Михаила Леонидовича — для лучшего доведения основной мысли. Очень ярко показаны общий уровень и состояние духа деморализованной Квантунской армии:
«Солдаты построились, глядя на своего подполковника. Полурота солдат в походном снаряжении. И Гошка подумал: “Только не молчать, а то ноги станут ватными и будет труднее”.
— Приказывайте сложить оружие. И подполковник приказал.
— Ну… — сказал Панфилов и пошел к ним.
Песок скрипел под Гошкиными подошвами, было светло и просторно, и воздух был летний и сладкий, чуть-чуть с дымкой, как на даче. Памфилий подошел к крайнему, взялся за винтовку и дернул к себе. Но солдат привык ее крепко держать и только качнулся вперед.
— Ну… — сказал Памфилий, посмотрев в его вытаращенные глаза, и потрепал его по руке, сжимавшей винтовку.
Солдат открыл рот, как рыба на песке. И тут на секунду Памфилию показалось, что он рехнулся, у него появилось ощущение, что он однажды уже проделывал это. Хотя он знал твердо, что никогда не был в Маньчжурии и не разоружал японских жандармов. И Памфилий вырвал у солдата винтовку и швырнул ее на середину плаца. Она с лязгом ударилась о камни.
Этот звук решил все. Как будто они вдруг поняли, что оружие можно швырять на землю.
— Туда складывать, — сказал Панфилов подполковнику, тот перевел, и солдаты выполнили приказание.
Они выходили по одному и осторожно, все еще осторожно, швыряли винтовку в кучу и снова становились в строй, и только последний швырнул ее с силой, зло, не доходя до кучи, она воткнулась штыком и торчала прикладом вверх, как на плакате. И он не встал в строй, этот последний, а снял свою желтую фуражку, похожую на жокейскую, вытер лицо и побрел прочь. Но подполковник испуганно окликнул его, и он вернулся в свою шеренгу.
И Гошка, как всякий человек, и до этого и потом иногда трусил, но ему, как всякому человеку, приятно вспоминать о тех случаях, когда он не трусил. И поставил автоматчика у кучи винтовок.
А потом подполковник отдал Панфилову связку ключей от усовершенствованной пустой тюрьмы. Она была связана со зданием жандармерии коротким коридором. В центре был бетонный помост для часового, а вокруг шли камеры, узкие, как пеналы, с решетками из вертикальных брусьев, с маленькими дверями-пролазами, как для зверей. И Гошка с автоматчиками отпирали эти двери, и солдаты стали влезать туда на четвереньках и усаживаться у стенок на корточках, потому что в камерах не полагалось никаких лежанок и стульев, подполковник показывал, какой ключ от какой клетки, и в последнюю заперли его самого. Потому что он был один из тех, кто все это придумал».
В созданном спустя пятнадцать лет после войны сценарии «До свиданья, Алеша» Анчаров покажет идеализированную картинку пребывания японских военных в советском плену: между солдатами и русским населением завяжутся, как мы сейчас бы сказали, неформальные отношения, высокомерные японские офицеры будут терпеть позорные неудачи, а их подневольные слуги прозреют по поводу своего места в жизни. В этом сценарии Анчаров, без сомнений, точно уловил атмосферу во взаимоотношениях внутри японской армии — по крайней мере так, как она выглядела со стороны. Вполне возможно, что и отношения с российским населением могли бы складываться так, как описал автор, — если бы только они вообще были.
В реальности с японскими пленными все было проще и приземленней. Нарушив соглашения о возвращении военнопленных, принятые еще на Потсдамской конференции, 23 августа Сталин издал приказ № 9898: отобрать до 500 тысяч пленных солдат и офицеров, перебросить в Сибирь и другие регионы СССР. В биографии Стругацких Ант Скаландис пишет о том, как Аркадию Стругацкому в начале 1946 года довелось побывать на практике в одном из лагерей для японских военных, устроенном в Татарии:
«А в Татарии было страшно. Там АН впервые своими глазами увидел настоящий концентрационный лагерь. Военнопленных за людей не считали. Это была планета Саула из будущей “Попытки к бегству”. И зловонные бараки, и джутовые мешки на голое тело по морозу, и котлован с копошащимися человеческими существами, и этот жуткий кашель, передаваемый по цепочке, — такое нельзя придумать. И невозможно забыть. Вернувшись из разных лагерей, они не рассказывали подробностей даже друг другу».
Разные стороны в разное время называли разные цифры японских военнопленных, погибших в ГУЛАГе от холода и болезней (снабжать теплой одеждой их, разумеется, никто не намеревался), но верится японской стороне, утверждающей, что из почти 600 тысяч репатриированных 200 с лишним тысяч остались в российской земле.
Разногласия по этому вопросу, кстати, по сей день есть не менее важная причина отсутствия мирного договора между Россией и Японией, чем проблема возвращения японской части Курил. И, вероятно, понимание, что в итогах советско-японской войны чести для СССР было немного, есть причина того, что победа над Японией, в отличие от победы над Германией, никогда не праздновалась в нашей стране официально. Хотя для ее участников это, конечно, была самая настоящая война, где бои были на самом деле, убивали на самом деле, и японцы, что ни говори, фашистами были тоже всамделишными. В упомянутом письме родным от 24 августа 1945-го Анчаров пишет об обстановке в «одном» взятом китайском городе, которая хорошо отражает национальные отношения на территориях, оккупированных японцами: «Китайцы живут грязно и бедно, русские белоэмигранты ходят в рванье, японцы живут чисто и богато…»
К началу войны авторская песня, можно сказать, уже существовала — хотя об этом еще никто не подозревал. Уже была написана «Бригантина» Павла Когана и Георгия Лепского (правда, широко известна она станет лишь через пару десятилетий), уже пошла гулять по стране «Одесса-мама» Евгения Аграновича и Бориса Смоленского, да и сам Анчаров, как мы говорили, отметился песней на стихи Грина. Но еще не вернулся в Россию Александр Вертинский[51], еще не были созданы неожиданные для военного времени лирические шедевры Алексея Фатьянова и Анатолия Новикова («Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат», «Смуглянка-молдаванка»), еще только разворачивала свою деятельность легенда военных лет Клавдия Шульженко. Как и другие композиторы, поэты и артисты (Марк Бернес, Леонид Утесов, авторы и исполнители песен, обязательно сопровождавших тогдашние кинофильмы), они создадут на официальной эстраде, как тогда называлось концертное исполнение песен, особую атмосферу, вкупе с «народным» песенным творчеством в конце концов приведшую к возникновению нового жанра.
Тогда еще никому, конечно, в голову не приходило представить первые эксперименты Анчарова, Аграновича, Когана с Лепским и других авторов как новое явление в искусстве. Песенный фольклор вроде «Одессы-мамы» или «Бригантины», как потом выяснилось, имел конкретных авторов, но в общем звучащем «массиве» они не выделялись. Да и само авторство никого особенно не волновало: пели и всё.
Обратите внимание, что упомянутые ранее первые авторы песен, причем и стихов (Коган, Смоленский) и мелодии (Лепский, Агранович), принадлежали к одному сообществу студентов ИФЛИ[52] и Литинститута им. М. Горького, довоенных еще слушателей поэтического семинара Ильи Сельвинского. Мало кому известно, кстати, что Евгений Данилович Агранович, кроме сочинения своих песен, принял участие в оформлении окончательного текста «Бригантины» (ему принадлежит слово «синем» в строке «В флибустьерском дальнем синем море», добавленное для соблюдения размера строки). Агранович, который продолжал сочинять песни в годы войны, вообще мог бы иметь полное право считаться основоположником авторской песни в одном ряду с Анчаровым («День-ночь, день-ночь, мы идем по Африке…» по стихам Киплинга и «Я в весеннем лесу пил березовый сок…» Аграновича вошли в золотой фонд авторской песни), но он на долгие десятилетия выпал из орбиты авторской песни, работал драматургом и сценаристом, пока в девяностые годы его, почти восьмидесятилетнего, не разыскали сотрудники Центра авторской песни. Песни Аграновича стоит скорее поставить в ряд городского фольклора сороковых-пятидесятых — музыкальной среды, в которой также следует искать истоки авторской песни (подробнее см. главу 6).
Позднее Анчаров так говорил о возникновении и сути авторской песни (Интервью, 1984):
«Песня словом жива. В XIX веке вообще было немыслимо написать музыку, а потом придумывать под нее подтекстовочку, “рыбу”, как сейчас говорят. Она и есть “рыба”. Тогда брались стихи у поэта, которые нравились композитору, и писался романс. Потому эти романсы до сих пор и поют. А макулатура забывается на другой день. <…>
Если чувствуешь потребность, то — да. Авторская песня имеет смысл только тогда, когда она — от переполнения. Когда переполнилось что-то — и пошло, и пошло. Это совсем другой ход, чем в обычных профессиональных стихах. Хотя казалось бы, все должно быть одинаково, но это не так. <…>
Авторская песня — это внутренняя потребность. В профессиональной песне, как ни странно, многое компенсируется содружеством: у автора могла быть потребность написать стихи, у композитора, может быть, потребности не было, но он уже “ложится” на чужую потребность, приспосабливается, друг от друга зажигаются. А когда автор в единственном лице, три ипостаси сразу — и стихи, и музыка, и исполнение, — тут зажигаться не от кого, кроме как от самого себя. А это значит — нужно, чтобы пришло. <…>
Со мной никого просто не было. Я знал только о существовании Вертинского, но он был эмигрант[53]. Родители рассказывали, что он был известен еще перед той войной. У кого-то были какие-то отдельные песни. У Светлова была песня “Копейка”…»
Еще в том же интервью:
«Правда, и в войну я писал не “грохочущие” песни, а более домашние, для человека, так сказать. Индивидуально для человека, чтобы он откликался душой. В войну было много таких песен, но они потом не остались.
<…>
В общем, когда война окончилась, я стал искать какую-то свою тему, и тогда у меня пошли стихи о войне — как раз после нее. А в войну… не шли.
<…> Я знаю, что какое-то время на телевидении считалось, что я военный поэт. Я им сказал: “Вы с ума сошли, я не военный поэт. Я — антивоенный поэт”».
В те годы, разумеется, Анчаров едва ли понимал, что создает новый жанр — во время войны самодеятельным сочинением песен, как свидетельствует он сам (см. цитату ранее), занимались многие. Однако их произведения, за небольшим исключением, не дошли до нашего времени, а основная масса песенных авторов начала появляться с конца сороковых — начала пятидесятых. Других признанных мэтров авторской песни Анчаров опередил практически на десятилетие с лишним — даже сверстников Окуджаву с Галичем[54], и тем более Н. Матвееву, Кима, Визбора и Высоцкого, которые в 1941–1943 годах были еще детьми. Хотя Булат Окуджава также был одним из первых, написав первую песню «Неистов и упрям…» в 1946 или, по другим данным, в 1947 году[55], но начало расцвета его песенного творчества, как и остальных авторов, приходится на середину — конец пятидесятых. В биографии Александра Галича отмечено, что он пытался писать песни еще до войны (для спектакля «Город на заре», одним из авторов которого он был), но они не сохранились, и первой его песней считается «Леночка», написанная более, чем через двадцать лет (1962).
На выступлении в ленинградском клубе самодеятельной песни «Восток» в 1966 году Анчаров так сформулирует творческую потребность сочинения песен во время войны:
«…всё лучшее, что было написано во время войны, было написано на военно-патриотическую тему, и это правильно! Но мне пришло в голову, что ведь, в общем-то, война-то ведь ведется за мирные ценности, так сказать, за прежний дом, за прежние радости, за то, чтобы было хорошо там, куда вернешься! Значит, надо было какие-то, мне так казалось, довоенные мальчишеские ценности сохранять, и, во всяком случае, ребята вокруг меня радовались этим песням».
Еще в самом начале войны Анчаровым была написана уже отмеченная ранее «Песня о моем друге-художнике», посвященная Юрию Ракино, ставшая первой песней Анчарова на собственные стихи. В упоминавшейся тетради с беловыми автографами стихов и текстов времен войны эта песня подписана «1941 г. г. Фергана». Подпись выполнена явно позднее текста, другими чернилами (которыми написана большая часть более поздних текстов). Будет логичным отнести создание этой песни к декабрю 1941 года, когда Анчаров попал в Фергану.
1942-м годом в этой тетради не отмечено ни единого стихотворения. К лету 1942 года, вероятно, относится песня «Быстро-быстро донельзя…»[56], написанная по стихам Веры Инбер[57]. В оригинальном стихотворении Анчаров заменил строку «…от Москвы на Берлин» на «от Москвы на Чунцин[58]» в первой строфе, изменил несколько слов в других строфах. Об истории песни на фонограммах с ее исполнением сохранилось несколько вариантов рассказа автора:
«Она стала чрезвычайно популярна, причем неожиданно для меня, и считается фольклорной. Была сочинена не, как сейчас говорят, до революции, а была придумана в сорок третьем году, в Ставрополе-на-Волге <…>. Слова Веры Инбер. Сейчас она ходит с ошибочными текстами и вставлена в пьесу “Океан” драматурга Штейна. Он тоже думает, что она фольклорная».
«…У нее [песни] такая смешная история. Она была написана в сорок третьем году на Волге, так повыше Сталинграда, для десантников, а потом ее завезли с войском в Маньчжурию, а потом ее там перехватили эмигранты, а потом они получили паспорта советские — часть из них <…>, и они перекочевали куда-то на юг. А на юге ее перехватили грузины-ребята и в году так примерно пятьдесят пятом — пятьдесят шестом ее завезли в Москву как эмигрантскую. На этом основании драматург Штейн “вкатил” ее в пьесу “Океан”, а на самом деле все наоборот. Ну и, кроме того, ее поют не с теми во многом словами, как она была написана».
Обратите внимание, что годом создания на фонограммах Анчаров называет 1943-й, тогда как в интервью 1978 года он подтверждает, что песня относится к лету 1942 года. Галина Аграновская опубликовала еще одну историю, связанную с этой песней[59]:
«В Малеевке[60] юбилей Веры Михайловны Инбер. Приглашены Анчаров и Аграновский с гитарами и женами. Толя спел Ахматову: “Чугунная ограда, сосновая кровать…” и Цветаеву: “Тоска по родине, давно разоблаченная морока…” Вера Михайловна: “Никак не думала, что Цветаеву можно положить на музыку!” Анчаров спел эмигрантскую: “Быстро, быстро, донельзя, дни бегут как часы… Будут рельсы двоиться, трое суток подряд, трое суток подряд…”. Инбер: “Помилуйте, какие трое суток? Много суток — это правильно”. Анчаров — вежливо, но настойчиво: “Нет, Вера Михайловна, именно трое суток. Это старая эмигрантская песня, я давно ее пою…” — “Я бы не стала оспаривать ваш вариант, но эти стихи написала я!”»
В 1978 году Анчаров так рассказывал о своих первых опытах в жанре авторской песни (Интервью, 1978):
«Я когда учился в музыкальной школе, то начал с того, что стал писать песни. Я долгое время думал, что буду писать только музыку, романсы, как Гурилев, Варламов. Оперы мне не хотелось писать, а романсы хотелось. А потом, поскольку я еще и стихи писал, мне пришло в голову их соединить, а потом и спеть.
М. Баранов. А гитару когда в руки взяли?
В войну. Я до войны на гитаре играть не умел. Я и сейчас толком не умею, но три “солдатских” аккорда “умба-умба-умба-па” я изучил еще в армии. Какой-то парень показал. Я долго сидел, ломая пальцы, за каким-то сараем, пока не освоил. Первая песня, которую я спел под гитару, была “Крутится, вертится шар голубой…”».
В конце тридцатых и в сороковые годы, к которым относятся первые песенные опыты Анчарова, никаких бытовых магнитофонов, конечно, еще не было. Как исторический анекдот, можно упомянуть факт, который приведен в книге Георгия Андреевского «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху»[61][61]: «…в 1947 году, в Камергерском переулке, или проезде Художественного театра, как его тогда называли, открылась студия звукозаписи. Можно было прийти в эту студию, заплатить деньги и записать свой голос “сапфировой иглой на целокартовую (проще говоря, гнущуюся) пластинку”». Разумеется, ни о никаких песнях при такой технологии речи не шло. Первый магнитофон современной конструкции (с ферромагнитной пластиковой лентой и головками считывания и записи) появился еще до войны в Германии — в 1935 году фирма продемонстрировала устройство под названием magnetophon на выставке в Берлине. Предназначалось оно для использования в профессиональных целях — например, в радиостудиях. Так как экономика гитлеровской Германии была практически изолирована от мировой, то вне Германии ленточные магнитофоны появились лишь после войны. Первым, видимо, был выпущенный на рынок в 1948 году аппарат фирмы Ampex[62], построенный на основе изучения трофейного немецкого аппарата фирмы A.E.G. и первоначально также ориентированный на радиостудии.
Интересно, что в части магнитофонов советская промышленность в те годы практически не отставала от американской (точнее, они обе одинаково отстали от немцев). В СССР первым бытовым магнитофоном был «Днепр» (без номера), запущенный в производство в Киеве, начиная с 1949 года. Трудно установить точную цену этой модели, но, не рискуя сильно ошибиться, можно предположить, что для послевоенного СССР она была запредельной. Из-за этого бытовые магнитофоны не получили в стране сколько-нибудь широкого распространения, вплоть до выпуска в 1955 году относительно приемлемой по цене магнитофонной приставки «Волна» и особенно с появления в 1956 году магнитофона «Мелодия» — по очень высокой для тех времен, но все же не запредельной цене 290 рублей (в масштабе цен после реформы 1961 года, когда от цен отняли последний нолик).
На рубеж 1950–1960-х годов приходится настоящий взлет производства советских магнитофонов, когда почти одновременно появляется сразу десяток доступных по цене бытовых моделей разных заводов: «Астра», «Гинтарас», «Чайка», «Комета», «Яуза» (простая «Яуза-5» и стереофоническая «Яуза-10») и другие. Это совпадает с пиком популярности авторской песни, пришедшимся на шестидесятые-семидесятые годы, когда магнитофон был уже почти в каждой семье. Основным каналом распространения ее были самодеятельные записи — причем, обратите внимание, без какого-либо учета авторских прав на копирование, о существовании которых в отношении подобных записей многие — включая и самих авторов — тогда и не подозревали.
Стремление класть чужие стихи на музыку владело Анчаровым довольно долго — в 1942 году, кроме упомянутой «Быстро-быстро донельзя…», он сочинил еще одну известную песню на чужие стихи, которую впоследствии часто исполнял, — «Песню о Грине»:
В глухих углах морских таверн
Он встретил свой рассвет, —
Контрабандист и браконьер,
Бродяга и поэт.
Он вышел в жизнь, как моряки,
Он слишком жадно шел,
Швыряя дни, как медяки,
Как медяки — на стол.
<…>
К 1978 году автора стихов Анчаров запамятовал: в интервью он отмечает только: «Это не мои стихи. Это в войну, в каком-то доме я нашел альманах, кажется, “Волжская новь”. Но точно не помню». А зря, потому что автор этого стихотворения Владимир Викторович Смиренский — человек по-своему замечательный, живая эпоха в одном лице.
Владимир Викторович Смиренский (1902–1977) — поэт, мемуарист, историк литературы. Родился в 1902 году в селе Ивановское Шлиссельбургского уезда Петербургской губернии в семье статского советника Виктора Сергеевича Смиренского. Внук известного русского адмирала С. О. Макарова. В детстве был отдан на обучение в Первый кадетский корпус в Санкт-Петербурге. По недостоверным сведениям, в составе кадетского корпуса в 1917 году защищал Зимний дворец от революционно настроенных солдат и матросов. В том же году были напечатаны первые стихи Смиренского. В 1921–1922 годах он издает два поэтических сборника под псевдонимом Андрей Скорбный. В 1922 году вступает во Всероссийский союз поэтов, с тех пор и до конца десятилетия активно участвует в литературной жизни Петрограда/Ленинграда, становится секретарем Федора Сологуба. Близким другом Смиренского был Александр Грин, он был близко знаком с А. Блоком, А. Ахматовой, В. Маяковским, С. Есениным, В. Хлебниковым, К. Чуковским, Б. Лавреневым, Н. Гумилевым, Б. Пастернаком, К. Фофановым, Д. Кедриным, О. Мандельштамом, ухаживал за талантливой поэтессой Лидией Аверьяновой.
В 1930 году ленинградское ОГПУ, обеспокоенное участившимися несанкционированными собраниями свободомыслящей творческой интеллигенции, возбудило дело против «части богемствующих артистов города Ленинграда». Смиренский получил пять лет исправительно-трудовых работ, которые в итоге превратились в двадцать лет труда на стройках ГУЛАГа — сначала на строительстве Беломорско-Балтийского канала, затем на Куйбышевском гидроузле. После войны Смиренский был направлен на строительство Волго-Донского канала, поселился в Волгодонске, где жил до конца своих дней (осужденным после освобождения было запрещено селиться в центральных городах СССР).
Руководил литературной студией «Слово», в 1967 году основал Волгодонский литературный музей. Часть литературного фонда В. В. Смиренского, по его завещанию, хранится в Институте русской литературы РАН (Пушкинском Доме) и в РГАЛИ, другая часть передана в Волгодонский эколого-исторический музей. В 2013 году по материалам фонда Смиренского издана книга «Один молюсь развенчанным мечтам».
C авторской песней Владимир Смиренский оказался связан, кроме М. Анчарова, и еще одним известным именем. Литературовед Елена Георгиевна Джичоева в краеведческом альманахе «Донской временник» в статье «Андрей Скорбный. К 110-летию со дня рождения Владимира Викторовича Смиренского» (2012)[63] вспоминает:
«Я слышала, что Смиренский якобы находился в родстве с адмиралом Макаровым, чуть ли не внук его, но насколько достоверны эти сведения, я не знала. Оказывается, достоверны — на книге “Исследования Сахалина и Курил” Вера Волошинова обнаружила такую надпись: “С особым удовольствием я преподношу как один из авторов этого сборника мои несколько строк об адмирале Макарове его потомку Владимиру Викторовичу Смиренскому — с глубоким уважением. Матвеев-Бодрый”.
Более того, у Матвеева-Бодрого, сказала Вера, есть дочь-поэтесса. И зовут ее Новелла Матвеева. В благодарность за посвященное ей стихотворение “Тарантелла” она подарила Смиренскому свою книгу с автографом: “Дорогому и глубокоуважаемому Владимиру Викторовичу Смиренскому с лучшими пожеланиями и глубокой благодарностью за доброе отношение и за прекрасную по своей грациозности и оригинальности “Тарантеллу”. Я вам тоже хочу посвятить стихотворение. Новелла Матвеева”».
Забывчивость Анчарова кажется тем более странной, что в 1966 году Смиренский дважды писал Анчарову с просьбой прислать ему сочиненную песню, и эти письма сохранились в архиве Анчарова:
«1966. 15–03.
Уважаемый тов. Анчаров!
С великим трудом удалось узнать Ваш адрес (даже редакции не сообщают), а отчество узнать и вовсе не удалось. Я слышал, что Вы написали музыку на мои стихи о Грине и сами же их исполняете. Как бы мне их послушать? Может быть, у Вас есть пластинка или магнитофонная запись? Пришлите, пожалуйста, хоть бы с возвратом, заказной бандеролью.
Очень был бы вам благодарен.
В конце письма штамп с адресом Смиренского:
С искренним уважением
Вл. Смиренский».
«Владимир Викторович Смиренский г. Волгодонск Ростов. обл. Донской пер. д. 32, кв. 7».
Не получив ответа на первое, во втором письме Смиренский пишет:
«1966.6.05
Уважаемый тов. Анчаров!
Мне сообщили Ваш адрес, и я Вам писал, но, не получив ответа, решил, что письмо мое до Вас не дошло, и пишу теперь по адресу редакции.
Говорят, что Вы положили на музыку мое стихотворение о Грине и сами его исполняете и есть не то пластинки с записью, не то магнитофонные пленки.
Естественно, что мне хотелось бы услышать эти записи и, во всяком случае, узнать, правда ли, что музыка к моим стихам написана Вами?
Не откажите в любезности хотя бы ответить.
С уважением Вл. Смиренский
P. S. Стихи мои были опубликованы трижды, начинаются так:
“В глухих углах морских таверн
Он встретил свой рассвет…”»
Анчаров, который, по собственному признанию, не любил писать письма, на второе письмо все-таки написал ответ. И, будем надеяться, его отослал, а сохранившийся в архиве текст лишь черновик:
«Уважаемый тов. Смиренский!
Получил Ваше единственное письмо (ох, лукавит Михаил Леонидович: откуда тогда текст первого письма в его архиве? — авт.), которое мне этими днями переслали из ж. “Юность”.
Действительно, я еще мальчишкой во время войны сочинил песню на Ваши слова о А. Грине. Где-то на Волге, в каком-то доме я нашел альманах (кажется, “Волжская новь”) и в нем Ваши стихи. Я долго таскал с собой этот листок, пока не потерял его где-то в конце войны.
Я очень любил и люблю Грина и потому музыку делал, как мне кажется, с душой. Эту песню много пели солдаты, мои друзья, и она до сих пор, видимо, бродит где-то в магнитофонных записях.
Профессионально, с эстрады я не пел ее ни разу — я не музыкант, а когда пел, всегда объявлял Вашу фамилию, которую произносил ошибочно по памяти — Старинский.
Но это, конечно, Вы, судя по строчкам приводимых Вами стихов. К сожалению, пленки с записью у меня нет (может быть, удастся попросить кого-нибудь из знакомых записать меня — тогда вышлю), и дальнейшая судьба песни мне неизвестна.
Если что-нибудь узнаете — где исполняется и кем, — напишите. Очень рад, что Вы живы-здоровы.
С уважением М. Анчаров 16. 6. 66. Мой адрес: Москва, Ж-17, Лаврушинский пер., д. 17, кв. 34».
К 1942 году, видимо, относится и известная песня, названная в тетради с автографами «В поездном карауле» («Буфер бьется пятаком зеленым…»). В повести «Этот синий апрель» ее текст опубликован под названием «Прощание с Москвой», которое и закрепилось за этой песней. Первоначальное название хорошо соответствует содержанию, в котором замечательно переданы впечатления новобранца, которого одолели воспоминания о родном городе (цитируется по варианту, опубликованному в повести «Этот синий апрель»):
…Паровоз
Листает километры.
Соль в глазах
Несытою тоской.
Вянет год,
И выпивохи-ветры
Осень носят
В парках за Москвой.
Быть беде.
Но, видно, захотелось,
Чтоб в сердечной
Бешеной зиме
Мне дрожать
Мечтою оголтелой,
От тебя
За тридевять земель.
Душу продал
За бульвар осенний,
За трамвайный
Гулкий ветерок.
Ой вы, сени,
Сени мои, сени,
Тоскливая радость
Горлу поперек.
<…>
В тетради эта песня помечена «1943 г. Ставрополь (на Волге)», но это, вероятно, ошибка — стихи датировались позднее, и даты проставлены другими чернилами. В интервью 1978 года Анчаров говорил о ней: «Это ранняя. Это где-то в войну. Причем где-то в начале ее». И тема ее в 1942 году была более актуальна, чем через год, когда воспоминания о Москве должны были уже потерять остроту. В пользу этого предположения также говорят обороты «вянет год» и «осень носят» — то есть речь идет о конце года. А в конце года из Москвы Анчаров уезжал только в 1941 году. Так что эти стихи, очевидно, были набросаны по живым впечатлениям от переброски в Фергану и, вероятно, законченный вид приобрели позднее, соответственно, песню с большой долей уверенности можно датировать 1942 годом. Автор и сам это подтверждает в интервью 1978 года, когда на вопрос о годе создания песни: «Это 1942-й?» отвечает утвердительно: «Да».
Текст в тетради с автографами существенно отличается от более позднего варианта в авторском исполнении, а также от опубликованного в повести «Этот синий апрель». В рукописи третья («Быть беде…») и четвертая («Душу продал…») строфы переставлены местами, после них идет дополнительная стихотворная и затем прозаическая строфы:
Пусть не жить,
Пусть лютая обида
Душу выпьет
На худой конец,
Я не сдамся
За кусок завидный.
Счастье — бред
На взмыленном коне.
Стой! Не торопись. Слушай. «Цель оправдывает средства», — говорит некто, но не всякая игра окупает свечи. Китайцы говорят: прежде усмири внутри, лишь потом сопротивляйся внешнему. Прежде чем сказать — подумай… и не скажи. Большие деревья притягивают молнию. Будущее уходит от лени. Вот видишь, я прав, заговорив тебе зубы.
<…>
Заканчивается этот первоначальный вариант той же самой, что и поздний, строфой-зарисовкой, в фонограммах не встречающейся:
В окна плещут
Бойкие зарницы
И, мазнув
Мукой по облакам, Сытым задом
Медленно садится
Лунный блин
На острие штыка.
Следует признать, что в позднем авторском варианте песня выглядит более законченной и лишенной типично «импрессионистской» нарочитой неряшливости, которая всегда вызывает подозрение в том, что автор просто не сумел высказать то, что хотел. Можно поспорить о стиле (уместности «сытого зада» в ностальгическом стихотворении), но не о выразительности стиха.
В песнях 1943–1944 годов заметен рост поэтического мастерства молодого автора. Одним из первых в тетради с автографами идет стихотворение, названное «Приду!»:
Рыжим морем на зеленых скамьях
Ляжет осень, всхлипнув под ногой.
Осень вспомнит — я пришел тот самый,
Что когда-то звался «дорогой»…
Название несколько раз переделывалось и вписано позднее, другими чернилами. Стихотворение должно было стать песней и стало ей, но Анчаров впоследствии ее исполнял очень редко (Беседа, 1986):
«Слова этой песни написаны совместно с Володей Туркиным <…>. В то время он был длинный такой солдат, такой смешной и удивительно обаятельный парень. Мы воевали с ним сначала вместе, потом отдельно…
Первый куплет в песне “Рыжим морем на зеленых скамьях…” Туркин взял из моего стихотворения. А музыка там целиком моя. Именно поэтому этот стих песней не стал. У меня такой характер: как притронется кто-нибудь к моей песне, так она уже теряет для меня интерес…»
Как видим, Анчаров вмешательства в свои стихи не терпел.
Вместе с Владимиром Туркиным Анчаровым написана еще одна песня, которую он исполнял впоследствии:
Тяжело ли, строго ли,
Только не таи,
Чьи ладони трогали
Волосы твои?
Холодно ли, жарко ли
Было вам двоим?
Чьи подошвы шаркали
Под окном твоим…
<…>
Из Интервью, 1978:
«Эта песня делалась “в куче”. Слова в ней Володи Туркина. Мелодию писал один парнишка-военный (В. Федоров — авт.). Я только докрутил, показал, где кончить. Из его же мелодии взял кусок и вставил в конец. Так все это начиналось».
Следующей песней Анчарова, написанной им на свои стихи, судя по порядку в тетради с автографами, идет песня, датированная 1943 годом и озаглавленная «Надоело!». Название тоже более позднее (вписано другими чернилами) — обычно эту песню называют по первой строке «Пыхом клубит пар…». Песня отражает сиюминутное, внезапное настроение героя, уставшего от рутины вялотекущей жизни (стихи цитируются по позднейшему авторскому исполнению):
…К черту всех мужей! —
Всухомятку жить.
Я любовником на игру
Выхожу, ножом
Расписав межи, —
Все равно мне: что пан, что труп.
Я смеюсь — ха-ха! —
Над своей судьбой,
Я плюю на свою печаль.
Эй, судьба! Еще
Разговор с тобой
Вперехлест поведу сплеча.
И прекрасная зарисовка в финале стихотворения — сразу чувствуется рука художника:
…Далеко внизу
Эха хохот смолк.
Там дымучий пучит туман.
Там цветком отцвел
Флага алый шелк:
Пароходик ушел за лиман.
Как мы видим, автор заметно добавил в поэтическом мастерстве: стих получился легкий, а бесшабашный настрой автора-героя передан просто замечательно. Это же касается и авторской мелодии, вполне соответствующей настроению стихов.
По поводу этой песни в архиве Анчарова сохранилась записка, полученная из зала во время какого-то из публичных выступлений, вероятно, в середине-конце шестидесятых годов. Слова песни в записке немного искажены:
«Анчарову Михаилу (спеть обязательно)
Миша! Спойте, пожалуйста, нашу (вашу) факультетскую песню:
“Пыхом клубит пар,
Пароход малец
Волны вбег бегут от колес
На сто тысяч верст
Облака да лес,
Да с версту подо мной откос…”
Быв. слушатели и соученики (“японка”) Цветаева Ира (“турчанка”) Ляховская Ира».
Далее в рассматриваемой тетради идет песня, изначально названная автором «Бессонница», которая позже стала им называться «Куранты»:
Там в болотах кричат царевны,
Старых сказок полет-игра.
Перелески там да деревни
Переминаются на буграх…
Песня помечена «1943 г. Ставрополь (на-Волге)». Опять песня-настроение, песня-переживание, на этот раз она отражает момент мрачно-мечтательного настроения героя. Песню Анчаров неоднократно исполнял впоследствии, но почему-то она не снискала популярности у других исполнителей. Характерно, что название и первая строфа написаны чернилами одного цвета (черного, впоследствии выцветшего), а заканчивается стихотворение другими, темно-синими чернилами. Есть основания полагать, что первая строфа и остальные написаны с заметной разницей во времени.
Более популярна песня, по поводу названия которой разночтений никогда не было: «Русалочка». Она написана уже по возвращении ВИИЯКА в Москву (помечено «1944 г. Москва»), и ее текст надо прокомментировать — слишком далеки реалии сегодняшнего дня от обстановки в военной Москве 1944 года. Затруднения в истолковании вызывает начало песни:
Мне сказала вчера русалочка:
«Я — твоя. Хоть в огонь толкни!»
Вздрогнул я. Ну да разве мало чем
Можно девушку полонить?
Пьяным взглядом повел — и кончено:
Колдовство и гипноз лица.
Но ведь сердце не заколочено,
Но ведь страсть-то — о двух концах.
Вдруг увидел, что в сеть не я поймал,
А что сетью, без дальних слов,
Жизнь нелепую, косолапую
За удачею понесло…
Смысл этих строк простой и грубый: Анчаров, как мы говорили, был парень видный, форма ему очень шла, и девушки не оставались равнодушными. В данном случае герой песни ясно понимает, что ни о какой любви речи не идет («вдруг увидел, что в сеть не я поймал»), просто та, кого автор называет «русалочкой», пытается влюбить в себя (заловить, захомутать — подчеркните нужное слово) в себя парня наудачу («Жизнь нелепую, косолапую / За удачею понесло»). Это обстановка такая была в военной Москве — когда практически все молодые мужчины на фронте, в сексуальном поведении происходят всякие выверты. Другие авторы-современники по советской пуританской традиции совершенно не упоминают об этой стороне тогдашней жизни.
Есть и исключения: замечательный писатель Виктор Конецкий в это время (сразу после войны) был курсантом военно-морского училища и оставил живые картинки человеческих отношений того времени (герой повествования по ходу дела оказывается на гауптвахте и привлекается к общественным работам):
«…и добрые женщины — дорожные работницы, с которыми мы таскали шпалы в одной упряжке.
Они по русской древней традиции жалели арестованных матросиков и, хотя сами существовали впроголодь, делились то молоком, то хлебом.
…И пусть солдат всегда найдет
У вас приют в дороге…
Кто мог из арестованных матросиков платили по наличному счету в кустах ивняка и среди могил Красненького кладбища. Вероятно, вы понимаете, чего даже больше хлеба хотелось женщинам-работягам в послевоенные времена. Часовые в таких случаях не замечали исчезновения должника с зоны»[64].
Анчаров много лет спустя еще раз возвратится к этой теме в песне «Любовницы» (1963–1964). А песню «Русалочка» он сам не считал удачной. Из интервью 1978 года: «Там есть несколько строчек, которые, как я понял позже, были уже моими, в моей интонации. А были там и ужасные слова…» Возможно, это относится к сохранившимся в тетради с автографами 3-й и 4-й строфам, которые Анчаров никогда не исполнял:
Мне знакомы повадки оборотней,
Жабьи пасти, кровавый глаз,
Клеветы полушепот обморочный
И дышащая мгла в углах.
Выходи! Ты, ночная нечисть,
Темный мир за второй чертой!
Я увижу страшок овечий
Под небрежностью завитой.
К следующему, 1945 году относится «Сорок первый» — одна из самых известных и часто исполняемых песен Анчарова, которую здесь хочется процитировать целиком. По поводу ее названия автор при исполнении песни пояснял: «Такая любовная песня. Называется “Сорок первый”. Но не в том смысле сорок первый, что сорок первый год, а в том смысле, что сорок медведей убивает охотник, а сорок первый убивает охотника. Такая есть сибирская примета».
Я сказал одному прохожему
С папироской «Казбек» во рту,
На вареник лицом похожему
И глазами как злая ртуть.
Я сказал ему: «На окраине
Где-то, в городе, по пути,
Сердце девичье ждет хозяина.
Как дорогу к нему найти?»
Посмотрев на меня презрительно
И сквозь зубы цедя слова,
Он сказал:
«Слушай, парень, не приставай к прохожему, а то недолго и за милиционером сбегать».
И ушел он походкой гордою,
От величья глаза мутны.
Уродись я с такою мордою,
Я б надел на нее штаны.
Над Москвою закат сутулится,
Ночь на звездах скрипит давно.
…Жили мы на щербатых улицах,
Но весь мир был у наших ног.
Не унять нам ночами дрожь никак.
И у книг подсмотрев концы,
Мы по жизни брели — безбожники,
Мушкетеры и сорванцы.
В каждом жил с ветерком повенчанный
Непоседливый человек.
Нас без слез покидали женщины,
А забыть не могли вовек.
Но в тебе совсем на иной мотив
Тишиной фитилек горит.
Черти водятся в тихом омуте —
Так пословица говорит.
Не хочу я ночами тесными
Задыхаться и рвать крючок.
Не хочу, чтобы ты за песни мне
В шапку бросила пятачок.
Я засыпан людской порошею,
Я мечусь из краев в края.
Эй, смотри, пропаду, хорошая,
Недогадливая моя!
Это, безусловно, отличный итог раннего (военного) периода песенного творчества Михаила Леонидовича. В тетради с автографами сохранились еще две строфы, которые Анчаров никогда не исполнял:
Между строфами 4 и 5:
Сколько б жизнь ни трясла за шиворот
По ухабам и по годам,
Все равно я своей души ворот
Равнодушно закрыть не дам.
Между строфами 9 и 10:
Попытайся на память одеть замок —
Пустяки! Не суметь ничуть!
Не забудешь ты взгляд и голос мой!
Так и будет — я так хочу!
А первоначальная редакция прозаической вставки речитативом была такой:
«… он сказал, что просто невежливо отрывать человека от размышлений и что, кроме того, он работник центра и поэтому смешно обращаться к нему по поводу каких-то там окраин, т. к. это вовсе не входит в сферу его компетентности».
Окончательный (исполняемый) вариант следует признать более цельным и законченным.
С поэтической точки зрения Анчаров в этой песне также существенно вырос. В сравнении с первой «Песней о моем друге-художнике» этот текст значительно ярче, богаче образно. Настроение лирического героя, от лица которого ведется повествование, здесь предвосхищает атмосферу «поколенческих» песен, которые Анчаров напишет через два десятилетия, — «Большой апрельской баллады» и других. Можно сказать, что словами:
…Жили мы на щербатых улицах,
Но весь мир был у наших ног.
Не унять нам ночами дрожь никак.
И у книг подсмотрев концы,
Мы по жизни брели — безбожники,
Мушкетеры и сорванцы.
В каждом жил с ветерком повенчанный
Непоседливый человек.
Нас без слез покидали женщины,
А забыть не могли вовек…
выражена общая интонация всего дальнейшего анчаровского творчества, и песенного, и прозаического. Песня стала этаким своеобразным эпиграфом к тому, что напишет и споет Анчаров потом, когда война уйдет в прошлое.
И эти стихи Галина Аграновская назовет в своих воспоминаниях «слабыми»! Однако Галина Федоровна, которая вращалась в поэтических кругах, «избалованная песнями и романсами на великолепные стихи, которые пел муж», все-таки признается, что «не услышала (выделено нами — авт.), какой слабый стих у этой песни. Заворожила мелодия, энергетика голоса, манера петь» (Аграновская, 2003). Действительно, у авторской песни есть давно подмеченный синкретизм: недостатки стиха скрадываются музыкой и манерой исполнения. Американский писатель и филолог Патрик Ротфусс излагает ту же мысль следующим образом: «…поэт — это музыкант, который не может петь. Словам приходится искать разум человека, прежде чем они смогут коснуться его сердца, а умы людей — прискорбно маленькие мишени. Музыка трогает сердца напрямую — не важно, насколько мал или неподатлив ум слушающего». Достаточно вспомнить многие действительно «слабые» стихи Визбора или Клячкина, образующие тем не менее прекрасные песни. Иногда бывает и наоборот: когда отличные стихи скрадывают недостатки по музыкальной части (для примера можно привести некоторые произведения Городницкого или Галича). И тем не менее текст анчаровской песни «Сорок первый» представляет собой стихи отнюдь не «слабые»: неопытные, незрелые, с явным отсутствием школы — может быть, но ни в коем случае не слабые!
К концу 1945 года относится «Вторая песенка о моем друге» (в тетради с автографами она датируется 25 декабря). Вот здесь стихи действительно можно назвать слабыми и даже ученическими:
Что пережил он, то не сможет даже
Изобразить ни слово, ни перо.
Кто на него посмотрит, сразу скажет:
Обстрелян парень вдоль и поперек.
Ведь он прошел военную судьбину,
Едва цела осталась голова.
Он прошагал от Вены до Харбина
И всех жаргонов выучил слова.
<…>
Когда ж мой друг домой к себе вернется,
Где жизнь давно идет на старый лад,
Любимый город другу улыбнется —
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Песня слишком явно написана «на тему», и здесь не видно отмеченных А. В. Кулагиным «панорамности» и «впечатленизма» (напомним, что последнее — буквально переведенный Анчаровым термин «импрессионизм», см. главу 1) — основных достоинств анчаровской песенной поэзии. Анчаров, кстати, эту песню потом исполнял крайне редко, фонограммы этой песни не сохранилось, а текст в «Сочинениях» (Сочинения, 2001) напечатан по автографу из упоминавшейся рукописной тетради и позже был им надиктован по памяти (Беседа, 1986). Тогда же Анчаров говорил, что песня с Юрием Ракино не связана:
«Когда я затеял песню “Что пережил он, то не сможет даже…”, то к Юрию Ракино это уже не имело никакого отношения, а было как бы продолжением, второй песней о моем друге-художнике. Это уже была чисто собирательная песня, потому что в ней я уже участвовал. Правда, в первой я тоже участвовал, как один из прототипов. Вторая песня написана в то время, когда уже закончилась война, это уже в Маньчжурии.
Это я написал, когда еще не вернулся оттуда, но я думал, что Юрка Ракино вернется, а он так и не вернулся… А кончается песня цитатой из всем известной песни “Любимый город”, потому что эта песня была тогда у всех на слуху. Это из кинофильма “Истребители”, пел ее Бернес[65]. Это была одна из самых первых человечных песен, таких негромких…»
Отметим эти слова — «одна из первых человечных песен». В войну произошел странный и в рамках сталинской идеологии не вполне объяснимый разворот официальной песенной культуры от бодряческих оптимистических («Нам песня строить и жить помогает…», «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер…») и патриотических («Вставай, страна огромная…») маршей к глубоко лирическим песням Фатьянова и Соловьева-Седого («На солнечной поляночке…», «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат»), А. Новикова («Смуглянка-молдаванка») и других композиторов и поэтов, песням в исполнении Марка Бернеса, Клавдии Шульженко, Леонида Утесова… В этих песнях, в отличие от большинства тогдашних произведений, слова часто играли доминирующую роль, а многие тексты писали лучшие поэты того времени.
В интервью 1984 года Анчаров говорит об этом так (Интервью, 1984):
«Ведь в войну и лирический романс смотрелся как вызов всей обстановке. <…> Вы знаете, что Суркову за “Землянку”[66] попало. Это сейчас она считается классикой, символом войны, а тогда попало попросту: что это — какие-то мелкие чувства…
— В одном старом журнале я видел статью, где досталось Богословскому…
— …за “Темную ночь”[67]. Тогда в ней был совершенно другой смысл: “До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага” — это что за пораженческие нотки?! Ослабляло энтузиазм… Черт знает что!».
«Песни Великой Отечественной» — под этим названием уже давно подразумеваются именно те песни, которые несли в себе «какие-то мелкие чувства…». Нет никакого сомнения, что песни Великой Отечественной, звучавшие в кино и просто с эстрады, были одним из тех источников, откуда черпали вдохновение создатели авторской песни с Анчаровым в первых рядах.
Скорее всего, к периоду войны (или сразу после нее) следует отнести чуть ли не единственную юмористическую песню Анчарова, сочиненную на стихи его сокурсника по ВИИЯКА Льва Старостова. В песне, которую он называл «Трамвай-одиночка», нет никакого подтекста, она просто в шуточной форме выражает настроение мужчины-холостяка. Песня нравилась слушателям из окружения Анчарова 1950–1960 годов, записей ее сохранилось очень немного, в сборниках она никогда не публиковалась (нет ее и на мемориальном сайте), потому имеет смысл привести ее текст полностью:
Смешной трамвай — всего в один вагон, —
Плюя на трудности и расстоянья,
Взмыл птицей в гору, смело взяв разгон,
И улетел с веселым громыханьем.
Ты просто молодец, трамвай,
Какой ты бодрый, смелый и здоровый!
Валяй, в таком же духе продолжай,
Не вздумай прицеплять к себе второго!
Не то задор ты потеряешь свой,
Как глупый перепел, попавший в сети.
О, как он надоест тебе — второй!
А там, глядишь, появится и третий…
И будешь ты средь этих же дорог,
Обремененный тяжкою заботой,
Кряхтя, вползать на каждый бугорок
И горестно скрипеть на поворотах…
Анчаров несколько раз на протяжении последующей жизни в разговорах и интервью говорил о том, что во время войны он писал песни о чем угодно, но не о войне. О войне он начал сочинять песни лишь в конце пятидесятых. Из интервью 1978 года: «Вообще в войну я “военных” песен не писал. В войну я писал про любовь и про дом. А кончилась война — наоборот…»
В общем-то, это правда, если считать именно песни, но стихи о войне в военное время Анчаров все-таки писал (хотя в 1978 году, наверное, сам уже это не очень помнил). Причем уже после института, в период службы в Маньчжурии, он не напишет ни одной песни, зато создаст несколько стихотворений, среди которых есть и военные. Среди текстов в тетради с автографами есть и глубоко личные лирические стихи, есть просто впечатления от унылой окружающей действительности, но существенная часть сохранившегося представляет собой стихи именно о войне.
Можно допустить, что некоторые стихи патриотического содержания (с характерными названиями «Рождение солдата», «Баллада о солдате», «Резервы идут») Анчаров готовил для публикации хотя бы во фронтовой газете. Но тут проявилась одна особенность его натуры, которая впоследствии немало мешала ему в жизни: он органически был неспособен «выполнять заказ». «От души», по внутренней потребности, Анчаров даже в то время, когда еще только учился владеть словом, мог написать чудесные строки. Но вот через несколько лет после «Прощания с Москвой», уже в Манчжурии, Анчаров возьмется писать «Балладу о солдате» — очерк о подвиге двух солдат, пытавшихся предотвратить междоусобную стычку китайцев, принадлежавших к разным политическим группировкам (как ясно из текста, одна из них — гоминьдановцы[68]). И об этих стихах можно сказать только то же самое, что выше о «Второй песенке о моем друге», — ни «панорамности», ни «впечатленизма».
Было бы ошибкой утверждать, что «Баллада о солдате» написана совсем уж безграмотным поэтом. Нет, налицо неплохое владение словом, рискованные, но остроумные рифмы («шепоток» — «как и что», «боевой» — «на него», «они» — «должны»), рваный, короткий слог:
Грязный старик
Стоит на бугре,
Облик не боевой.
Кто не знает, как выглядит
Смертный грех,
Пусть поглядит на него.
Стихотворение явно не доработано, оно обрывается кратким и скомканным славословием в адрес солдат. И, самое главное, «смертный грех» из цитированного выше отрывка — практически единственная более-менее оригинальная поэтическая находка. Остальной текст не содержит ни одной из тех замечательных, практически живописных иллюстраций к происходящему, которыми отличается анчаровская и поэзия и проза. Это любимый Анчаровым Маяковский, которому Михаил Леонидович здесь явно подражал, умел создавать из изложения фактов поэтический шедевр (из поэмы «Хорошо»):
Мне
рассказывал
тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
«Только что
вышел я
из дверей,
вижу —
они плывут…»
Бегут
по Севастополю
к дымящим пароходам.
За день
подметок стоптали,
как за год похода.
У Анчарова так не получалось. И в дальнейшем стихи и песни, написанные им по заказу («Хоккеисты», «Глоток воды»), явно слабее сделанных «по внутренней потребности». Такая же беспомощность чувствуется и в других стихотворениях военных лет, написанных явно с расчетом на возможную публикацию.
Некоторые другие образцы лирики маньчжурского периода куда интереснее. Например, в стихотворении «Китайская ночь» Анчаров экспериментирует с формой:
Хриплым басом орут коты
на крыше.
Скучно в фанзе сидеть, и ты
вышел.
С ночи хочет луна снять
глянец,
То за фанзы зайдет, то опять
глянет.
Ветерки завели на меже
споры,
Видно, правда, заря уже
скоро.
На соседнем дворе поет
кочет,
Доказать постоянство свое
хочет.
Еле-еле сейчас терплю
горы.
Не люблю тишину, люблю
город.
Сердца стук моего в тишине
слышен,
Он, наверное, ей во сне
лишний.
Слишком ярко опять луна
светит.
Очень трудно влюбленному на
свете.
Тоской по дому наполнено искреннее (хотя и не без литературных огрехов) стихотворение «Родимый дом»:
Кто не знаком с маньчжурскою тоскою,
Кто не прошел по нашему пути,
Понять не сможет, что это такое,
Когда до дому за год не дойти.
В июне 1946 года Анчаров побывал в месячном отпуске в Москве. Сохранился «Талон № 13141 на воинскую перевозку багажа» от 29 мая 1946 года «от ст. Ворошилов до ст. Москва» — иными словами, Анчаров прибыл в Москву в первых числах июня. О дате отбытия свидетельствует «Требование № 469378 на воинскую перевозку людей» от 1 июля 1946 года, выписанное на «мл. лейтенанта Анчарова» (и почему-то «с ним один человек» — кто-то из сослуживцев?) от станции Москва до станции Ворошилов с целью перевозки «к месту службы». Вероятнее всего, именно к этому периоду короткого пребывания дома относится стихотворение «Я был под иностранным небом…»:
Я был под иностранным небом,
Видал чужие чудеса,
Но я забыл, где был, где не был,
И не о том хочу писать.
У дел минуты отрывая,
Я засиделся у окна.
Вся перспектива дворовая
Мне с подоконника видна.
Здесь для меня ничто не ново,
Я все здесь знаю и люблю.
Вон в том окне живут Ситновы,
А в этом старый Розенблюм…
Ознакомившись со стихотворениями раннего Анчарова, не ставшими песнями, можно сделать вывод, что Михаил Леонидович был все-таки прежде всего бардом, а не просто поэтом. Отдельные стихи у него в целом скучнее и беспомощнее, чем песни. Сказывается и та самая «энергетика голоса», о которой вспоминает Галина Аграновская. При том что Анчаров совершенно не обладал артистическими данными, значительная часть его песен в интерпретации других исполнителей обычно, хотя и не без счастливых исключений, что-то теряет (о чем мы еще будем говорить). И, конечно, самая важная заслуга Михаила Леонидовича — он первым начал систематически и осознанно заниматься новым жанром, открытым им самостоятельно и независимо от других.
Глава 3
После войны
Осенью 1946 года в связи с завершением военных действий в Маньчжурии дальневосточная группировка советских войск постепенно расформировывалась, и в октябре 1946 года Анчаров был направлен на службу в Москву. Сохранилась справка, выданная «Анчарову М. Л. в том, что он действительно состоит на службе в НКГБ СССР», «для представления в отделение милиции на предмет прописки» от 10 октября 1946 года. 17 октября, как свидетельствует штамп на обороте справки, Анчаров получил прописку в своей семейной квартире номер 35 в доме 4/6 по Мажорову переулку.
Жизнь в послевоенной столице оставалась тяжелой — продовольственные карточки были отменены только в конце 1947 года, вместе с проведением денежной реформы. Анчаров пока оставался на службе, и ему платили денежное довольствие, но даже с надбавками за орден и участие в боевых действиях оно не превышало гражданских окладов на не слишком квалифицированных работах.
Денежного довольствия офицера времен войны и сразу после нее хватало, чтобы выкупить продукты по карточкам и, следовательно, не умереть с голоду, но оно было намного меньше того, что требовалось для посещения коммерческих магазинов и рынков, официально разрешенных еще во время войны. Правда, военнослужащих во многом содержало государство, обеспечивая форменной одеждой и обувью, бесплатным проездом в транспорте и предоставляя разные другие льготы.
Интересно, что денежное довольствие военнослужащим в Красной Армии стали платить только в середине 1930-х — до этого считалось, что призванных солдат и офицеров содержит государство и денег им не надо. Одной из характерных черт Сталина было понимание эффективности материального поощрения — например, размер Сталинской премии первой степени составлял запредельные по тем временам 100 тысяч рублей. По этой же причине уже в войну на фронте все офицеры получали за звание и должность, плюс за выслугу лет и боевые надбавки, солдатам за каждый уничтоженный танк, сбитый самолет, потопленный корабль полагалась премия. Но в целом это было все равно немного: на фронте деньги не нужны, потому они отсылались аттестатом в семью, где на оклад командира роты почти в 1000 рублей можно было купить на рынке по коммерческим ценам 3 буханки хлеба, или 11 кг картошки, или 700 грамм сала, или 2 бутылки водки, или 100 стаканов табака-самосада.
Таким образом, семью на довольствие военнослужащего содержать было нельзя, но советская власть на это никогда и не рассчитывала. Все время существования советской власти от начала двадцатых и до самого конца культивировалось строгое дозирование уровня доходов населения. Ослабевать этот контроль начал только ближе к восьмидесятым, когда экономика совсем пошла вразнос, а в остальное время контроль за доходами и расходами (тот самый пресловутый товарный дефицит) позволял добиться сразу многих целей. Во-первых, он не позволял экономике, перегруженной сверх всякой меры затратами на оборону, рухнуть в одночасье. Во-вторых, делал человека еще больше зависимым от государства и его институтов. Это обеспеченные люди, обладающие к тому же толикой времени, свободного от размышлений о зарплате и стояния в очередях, могут себе позволить фронду. Простого человека одна только угроза потерять возможность устроить ребенка в приличный ведомственный детский сад заставит тысячу раз подумать перед тем, как высказывать начальству все, что он о нем думает.
Потому положение военнослужащего со всеми его льготами считалось все-таки куда более престижным, чем рабочего или молодого инженера, несмотря на то, что уровнем доходов они не различались. Несколько лет после войны — до 1948 года — довольно крупное пособие в размере фронтового оклада выплачивалось даже демобилизованным. Затем власть, очевидно, посчитала, что все фронтовики уже должны были устроиться, и это пособие, как и наградные, выплачивать перестали. Больше всего от этого шага пострадали многочисленные инвалиды войны, которые были вынуждены влачить жалкое существование на мизерные пенсии и имели все основания считать себя выброшенными из жизни. Через десять лет Анчаров одним из первых в стране поднимет эту тему в «Песне про низкорослого человека, который остановил ночью девушку возле метро “Электрозаводская”», о которой мы еще вспомним.
Москва после войны была не в лучшем состоянии. Вот что пишет очевидец (Андреевский Г.):
«А сама Москва под конец войны стала выглядеть неважно. Пожары не способствовали ее украшению. В ней давно не красили дома, не мостили улицы, не сажали цветы и деревья. На Чистопрудном бульваре трава была вытоптана, а сам пруд превратился в грязную лужу. Пришла в запустение и площадь у Белорусского вокзала, а мостовая в Кривом переулке, это между улицей Разина (Варварка) и Мокринским переулком, пришла в такое состояние, что в ее выбоинах и ямах ежедневно застревали машины».
В послевоенное время одной из примет времени стали бригады пленных немцев, которые помогали восстанавливать и благоустраивать Москву. Трудно найти полный перечень того, что именно построили немцы в Москве в те годы (если вообще кто-нибудь вел подобный учет), но общеизвестно, что они построили довольно много малоэтажных коттеджных поселков по окраинам Москвы (в Тушине, на Хорошевском шоссе, в Текстильщиках, в Курьяново и т. п.), ряд обычных домов (их и сегодня можно видеть, например, на Авиамоторной улице), даже принимали участие в строительстве здания МГУ. Следы их строительной деятельности можно видеть во многих городах России.
По соглашению с союзниками, принятому в апреле 1947 года, пленных нужно было вернуть на родину до конца 1948-го, но в реальности значительную часть их задержали до 1950-го (за исключением больных и раненых, которых вернули еще в 1946-м), а уличенных в различных преступлениях и на еще большие сроки — их начали возвращать домой только после визита в СССР канцлера ФРГ Аденауэра в 1955 году. Жили немецкие пленные не очень хорошо и голодно (вспомните у Высоцкого знаменитое: «…на стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики»), но не хуже, чем большая часть населения сразу после войны. Им даже кое-где платили зарплату (правда, мизерную[69]), чем немецкие пленные отличались от родных советских зеков, полностью находившихся на положении рабов. Кроме того, что немцы помогали строить жилье, они трудились на восстановлении заводов, плотин, железных дорог, портов и прочего хозяйства, участвовали в традиционных занятиях всех российских заключенных — лесозаготовках и добыче сырья. Следует отметить, что, несмотря на большую смертность среди и без того оголодавших пленных во время войны, в среднем из взятых в плен немцев не вернулось около 30% (по данным немецкой стороны), в то время как из советских солдат, попавших в немецкий плен, не вернулось более двух третей. И это при том, что отношение к своим военнопленным (о котором с советской стороны мы уже упоминали) было примерно одинаковым что у советской, что у германской верхушки.
Денежная реформа в декабре 1947 года заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов отдельно. Реформа 1947 года ввела новые деньги (например, вместо тридцатки появился «четвертной» — купюра в 25 рублей, и именно тогда на купюрах стали размещать профиль Ленина), но она формально не была связана с деноминацией рубля, в отличие от хрущевской реформы 1961 года: зарплаты остались на прежнем уровне.
Сталинское правительство сделало хитрый ход, который население, в общем, приветствовало: обмену 1:1 подлежали только вклады в сберкассах не выше 3 тысяч рублей. Вклады от 3 до 10 тысяч обменивались из расчета 1 новый рубль за 2 старых, а вклады выше 10 тысяч — 1 новый рубль за 3 старых. При этом наличные деньги обменивались по еще более грабительской ставке: 1 новый рубль за 10 старых рублей. Обмен наличных продолжался всего неделю. В результате денежная масса в стране уменьшилась в три с лишним раза.
Дело в том, что во время войны и сразу после нее правительство вынужденно разрешало частным лицам свободную рыночную торговлю, и хотя за прямую спекуляцию хлебом или водкой, а также за торговлю ворованными товарами преследовали, но за годы войны большое количество спекулянтов накопило на руках огромные суммы. Опять же сошлемся на Высоцкого:
…Спекулянтка была номер перший —
Ни соседей, ни Бога не труся,
Жизнь закончила миллионершей —
Пересветова тетя Маруся.
У Анчарова в упоминавшемся сценарии «Баллада о счастливой любви» тоже в качестве приметы времени выведен подобный спекулянт — «дядя Кирилл». Вот на борьбу с такими личностями, которых население искренне ненавидело (и вслух ругало в очередях допустившее это правительство), и была направлена реформа. Пострадали от нее больше всего именно те, кто держал деньги «под матрацем», а основное население, жившее «от зарплаты до зарплаты», осталось при своих.
При всей скрытности властей слухи о реформе, конечно, не могли не просочиться. В стране возник ажиотажный спрос на товары длительного пользования. Но государство обставило реформу довольно грамотно: часть товаров придержали, добавили к ним запасы из госрезерва и выкинули на прилавок сразу после объявления реформы. Чтобы дополнительно задобрить население, одновременно провели еще несколько акций: отменили карточки, «прикрепление» к магазинам и вообще уничтожили понятие коммерческих цен на продукты питания. Правда, новые государственные цены не очень радовали: килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, пшеничного — 4 рубля 40 копеек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 15 и так далее. К уничтожению очередей и дефицита это, разумеется, не привело, но короткое время непосредственно после реформы прилавки радовали глаз.
А снижение цен («было дело и цены снижали») относится уже к 1949 году, когда (цитата из Георгия Андреевского):
«…были снижены на 10 процентов цены на хлеб, крупу, макароны, рыбу, мясо, яйца. Водка подешевела на 28 процентов. Больше всего, на 30 процентов, подешевели патефоны и часы».
Потом этот прием повторили:
«Снижение цен в 1950 году было самым большим. Крепкие десертные вина подешевели тогда на 49, а пиво на 30 процентов, хлеб и масло также подешевели на 30 процентов. На 25 процентов были снижены цены на юфтовые ботинки. <…> В 1951 и 1952 годах цены тоже снижались, но меньше. Кроме того, в 1952 году, в отличие от предыдущих лет, снижение цен произошло не 1 марта, а 1 апреля. Было ли это случайностью или нет, не знаю, но с тех пор цены снижать перестали, а первое апреля назвали “Днем смеха”».
Кстати, одновременно с реформой в стране был директивно введен восьмичасовой рабочий день, отмененный в военное время.
В такой обстановке москвичи жили одновременно как бы в двух мирах. Никогда больше феномен общественного сознания, который Дж. Оруэлл назовет «двоемыслием», не проявлялся в СССР так ярко, как в те годы. В одном мире страна одержала величайшую (без скидок) Победу, снижались цены, восстанавливалась промышленность, появились на прилавках пропавшие во время войны бытовые мелочи (вроде ножниц, прищепок и зубных щеток), даже худо-бедно возобновилось строительство дефицитного во все годы советской власти жилья. Перечень научно-технических достижений СССР в 1940–1950-е годы весьма впечатляет. Заново возникли целые отрасли науки и техники: радиолокация подтолкнула развитие радиоэлектроники, появились реактивная авиация, баллистические ракеты, компьютеры, телевидение, атомная энергия и еще многое другое, не столь ныне известное, вроде бытовых пылесосов и холодильников. И хотя многие из этих достижений заимствованы с Запада, но в условиях холодной войны, когда нам никто ничего серьезного не предоставлял даже за деньги, без своих ученых и инженеров все равно развитие эти отрасли получить бы не смогли. Потому следствием этого скачка было еще и заметное повышение общего образовательного уровня населения.
Более того, в этом мире появился отсутствовавший ранее официальный юмор: было высочайше разрешено клеймить и высмеивать «отдельные недостатки». В юмористическом журнале «Крокодил» стали печатать действительно смешные карикатуры, причем рискованной тональности: «Вы так настойчиво интересуетесь моим покойным дедушкой, — говорит девица начальнику отдела кадров, — как будто хотите принять на работу его, а не меня». Именно в те годы возникла мода на высмеивание бюрократов в кинокомедиях, немного позже ярко воплощенная в знаменитых и по сей день «Верных друзьях» М. Калатозова, А. Галича и К. Исаева (1954) и «Карнавальной ночи» Э. Рязанова, Б. Ласкина и В. Полякова (1956).
В этом мире казалось, что народ, выдержавший такие испытания, своей кровью заслужил свободу. Борис Пастернак в «Докторе Живаго» вложил в уста своих героев Гордона и Дудорова такие слова:
«И когда разгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки, и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы. Люди не только в твоем положении, на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной. <…> Кончилось действие причин, прямо лежавших в природе переворота. Стали сказываться итоги косвенные, плоды плодов, последствия последствий. Извлеченная из бедствий закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому. Это качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения».
В 1946 году Анчаров на волне эйфории, вызванной Победой, пишет песню «Баллада о мечтах» («В германской дальней стороне…»), вошедшую впоследствии в повесть «Золотой дождь» и уже в семидесятые годы прозвучавшую (с рядом купюр) в телеспектакле «День за днем». В оригинале стихи были вдвое длиннее — черновик содержит 28 строф, из которых в песню с изменениями вошло 14, а первая строчка звучала как «В маньчжурской дальней стороне…». Песня документально точно отразила эйфорические настроения тех лет:
…И он увидел, как во сне,
Такую благодать,
Что тем, кто не был на войне,
Вовек не увидать.
Он у ворот. Он здесь. Пора.
Вошел не горячась.
И все мальчишки со двора
Сбегаются встречать.
Друзья кричат ему: «Привет!» —
И машут из окна.
Глядят на пыльный пистолет,
Глядят на ордена.
Потом он будет целовать
Жену, отца и мать.
Он будет сутки пировать
И трое суток спать.
Потом он вычистит поля
От мусора войны:
Поля, обозами пыля,
О ней забыть должны.
Заставит солнце круглый год
Сиять на небесах,
И лед растает от забот
На старых полюсах.
<…>
Однако был и другой мир, более близкий к реальности. В этом другом мире во время войны выявился почти миллион коллаборантов — тех советских граждан на оккупированных территориях или в плену, кто пошел на сотрудничество с врагом. Историк Павел Полян назвал эту цифру «феерически неслыханной в мировой истории»[70]. Конечно, те из них, кто это делал добровольно, а не по принуждению или под влиянием непреодолимых обстоятельств (как это было с Ниной Николаевной Грин), по любым законам и понятиям — преступники. И хотя из этого миллиона явно не всех можно занести в эту категорию безоговорочно, но сама величина цифры доказывает, что далеко не всё с советской идеологией было гладко.
В этом другом мире существовали банды и дворовая шпана, дефицит самого необходимого и унылые очереди, заметная часть населения все так же пребывала в лагерях и ссылках, осуждались журналы «Звезда» и «Ленинград» (а точнее, Ахматова и Зощенко за «злостно хулиганское изображение нашей действительности» и «позицию буржуазно-аристократического эстетства и декадентства») и, как и в конце тридцатых, намечались показательные расправы над «врагами народа». Только теперь власть не могла выдвинуть на это место представителей «эксплуататорских классов» — никто бы не поверил, что они смогли сохраниться столько времени. Казалось бы, на роль врага идеально подходили расплодившиеся спекулянты — но это была слишком обособленная группа, которую предпочтительно было считать состоящей из «отдельных несознательных граждан», иначе могло возникнуть сомнение в дееспособности властей. Прижившийся ярлык «агентов иностранной разведки» также не годился в качестве образа массового врага: под него можно было загнать не пришедшихся ко двору чиновников и партийных деятелей, о деятельности которых все равно никто ничего не знает, но и всё. Враг нужен был глобальный, всепроникающий, но одновременно такой, чтобы не возникло подозрений в плохой работе органов.
Нужный новый образ врага был найден без малейших усилий. Но этому предшествовали некоторые сдвиги в сознании советских людей, которые были следствием новой парадигмы существования советского государства, почти незаметно для всех утвердившейся в военные годы.
Еще в 1941 году, в речи на известном параде 7 ноября, Сталин скажет необычно для того времени звучащие слова: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков: Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» (говорят, одним из авторов этой речи был «коммунистический граф» Алексей Толстой). В 1943 году были установлены новые знаки различия (погоны вместо петлиц) и наименования офицерских званий, более соответствующие традиционным. В стране вместо комбригов, комдивов и командармов появились полковники, генералы и маршалы. Было легализовано положение церкви, которую перестали преследовать и даже разрешили ей вносить пожертвования на Победу. Интернационализм и ставка на «мировую революцию» полностью сменились патриотической ориентацией на интересы «рабоче-крестьянского» государства. В новом гимне Советского Союза на слова Михалкова и Эль-Регистана в новогоднюю ночь 1944 года впервые за советские годы прозвучало словосочетание «Великая Русь». Были превознесены Петр Первый и Александр Невский, о которых появились фильмы в соответствующей тональности. Эмигрант Рахманинов был назван «глубоко национальным композитором», а со сцены прозвучала тема «Боже, царя храни», использованная Чайковским в симфонической поэме «1812 год», которую до этого заменяли глинковским «Славься!».
Между прочим, именно к рубежу 1940–1950-х относится возникновение большинства утвержденных свыше мифов в области, которую метко называли «Россия — родина слонов». Оказывается, у нас не только сформулировали основополагающие физические законы (закон сохранения массы Ломоносова, к которому только потом постепенно стали скромно через дефис прибавлять Лавуазье, хотя, строго говоря, неверно и то и другое[71]), но и изобрели самолет (офицер Можайский), радио (Попов), электрическую дугу (Петров), электрическое освещение (Лодыгин и Яблочков), электросварку (Бернадос) и еще многое другое. При этом правда в таких мифах мешалась с вымыслом и умолчаниями настолько искусно, что и сейчас не так уж просто разобраться, где там истинное достижение, а где чистая незамутненная фантазия. Например, академик Петербургской Академии наук Василий Владимирович Петров действительно открыл первым явление электрической дуги в 1802 году, задолго до Гэмфри Дэви в Англии, но, будучи убежденным патриотом, публиковал свои работы только по-русски. А так как он к концу жизни еще и поссорился с президентом Императорской Академии наук небезызвестным графом С. С. Уваровым, который сделал все, чтобы вычеркнуть фамилию Петрова из памяти современников, то об этих его работах долго не знали даже на родине, не говоря уж о мировом научном сообществе.
Такого рода примеров в истории мировой науки и техники существует немало — можно оспорить авторство фактически любого крупного открытия или достижения. Но при этом все-таки принято считать, что настоящий первооткрыватель — тот, чьи труды получили известность и имели практические последствия. Так, предприниматель и не очень грамотный физик Маркони не числится первооткрывателем радио почти ни в одной стране мира, кроме Италии и Англии, но он предпринял определяющие шаги для его распространения и популяризации, потому справедливо стоит в одном ряду с учеными, которые открыли само явление. Александр Степанович Попов в этом ряду тоже числится заслуженно — как разработчик одной из лучших модификаций приемника Оливера Лоджа (когерера), но первооткрывателем также не может считаться, потому что к опытам по целенаправленной передаче осмысленных сигналов на расстояние перешел только после известий об успехах Маркони, использовавшего, в свою очередь, приемник Попова и передатчик Лоджа. И все они вместе, включая еще Николу Теслу, автора идеи антенны, и Карла Фердинанда Брауна, предложившего детектор и колебательный контур, пользовались плодами открытия электромагнитных волн Генрихом Герцем, опиравшимся на теоретические разработки Джеймса Максвелла. Кого считать в этой интернациональной когорте, включающей итальянца, двух англичанин и двух немцев, россиянина и американца сербского происхождения, первооткрывателем и имеет ли вообще смысл подобная постановка вопроса? А если еще начать разбираться с электрическим освещением или телеграфом, в котором тоже без россиян не обошлось…[72] Как видите, реальные ситуации не всегда укладываются в однозначное «вот это — первооткрыватель». Своей деятельностью авторы подобных мифов скорее «подкладывали свинью» тем отечественным ученым, чьи достижения несомненны и признаны: хотя химик Дмитрий Менделеев действительно открыл периодическую таблицу, а физик Эмиль Ленц — закон теплового действия тока (на год позже Джоуля, но независимо от него), поневоле хочется поискать следы мифотворчества и в этих достижениях.
15 мая 1943 года для того, чтобы продемонстрировать союзникам СССР по коалиции отказ от подрывной деятельности в капстранах, был формально распущен Коминтерн, и без того уже давно ставший просто отделом ЦК ВКП(б) и имевший в мире тягостную репутацию. Коммунистическая Россия окончательно вернулась к форме империи, а от коммунизма осталась только привлекательная идеологическая обертка, позволявшая режиму устойчиво сохранять тоталитарный характер, и социалистические командные принципы хозяйствования.
Возвращение к имперскому сознанию реабилитировало в общественном сознании множество шаблонов, в той или иной форме существовавших еще до революции. Граждане опять обрели национальность, а с ней вернулась и более-менее подавляемая до той поры стратификация общества на этой почве. Этому способствовала замешанность части населения компактно проживавших на отдельных территориях наций в коллаборационизме или мятежах, что послужило основанием для депортации ряда наций целиком (в основном на Кавказе и в Крыму). Но в центре страны, разумеется, в первую очередь пострадали евреи. Одним из поводов для этого был раздутый в общественном сознании образ еврея-спекулянта — среди обогатившихся во время войны евреев действительно было много. И когда власти срочно потребовался новый образ внутреннего врага, евреи подошли на его место идеально.
Положение евреев, до того не вызывавших пристрастного внимания властей (евреями, как мы знаем, были многие старые большевики и соратники Сталина), изменилось за очень короткое время от конца 1940-х до начала 1950-х. Формально ни о каких национальностях речь не шла: врагом объявили «безродных космополитов». Илья Эренбург в своей книге воспоминаний «Люди, годы, жизнь»[73][73] пишет:
«Характер новой кампании был ясен; в первой же статье имелась такая фраза: “Какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека?” Газета клеймила “ура-космополитов”. Два дня спустя появилась новая статья, в ней “гурвичи и юзовские” писались со строчных букв и обличались критики А. Эфрос, А. Ромм, О. Бескин, Д. Аркин, другие. Прошла еще неделя, и в космополитизме начали обвинять критика Данина за то, что он похвалил М. Алигер; заодно напали на поэта Антокольского. Перешли к кино, в этой области тоже “выявили беспачпортных бродяг” — Л. Трауберга, Блеймана, Коварского, Волькенштейна. Замелькали имена “отщепенцев”: Дрейден, Березарк, Шнайдерман, Л. Шварц, Вайсфельд, Ф. Левин, Бровман, Субоцкий, Оголевец, Житомирский, Мазель, Шлифштейн, Шнеерсон, Мотылева, Бялик, Кирпотин, Гордон… Прошли еще две недели, и начали разоблачать “безродных космополитов”, укрывавшихся за псевдонимами: Стебун (Каценеленсон), Санов (Смульсон) и так далее. Многие из “выявленных космополитов” были мало кому известны — били вслепую, для примера: вот, мол, “безродные”…»
Заметим, что под общую кампанию борьбы с «космополитизмом» в послевоенные годы, как мы уже видели на примере Александра Грина, попали далеко не только евреи, но в быту под «космополитами», конечно, подразумевались именно они. Эта кампания отлично легла на уже давно и обильно удобренную паранойей и шпиономанией отечественную почву, а антисемитизм в ней в тлеющем состоянии и сам собой сохранился со времен царской власти и Гражданской войны. Потому уговаривать и агитировать никого не пришлось. Мгновенно вернулись введенные еще царской властью еврейские квоты на высшее образование и занятие должностей, правда, на этот раз только в ключевых областях, критичных для обороноспособности СССР. Говорят, что быстрый, в обход промежуточного звания член-корреспондента, выбор 32-летнего Андрея Сахарова в академики в 1953 году был вызван желанием хоть немного разбавить отделение физики, где доминировали еврейские фамилии (правда, власти еще не догадывались, что в данном конкретном случае сами взращивают «пятую колонну» похуже любых «безродных космополитов»).
Для представления об атмосфере, в которой приходилось работать евреям на рубеже 1950-х, приведем выдержку из Докладной записки Агитпропа ЦК М. А. Суслову «О подборе и расстановке кадров в Академии наук СССР» (23 октября 1950 года). Упомянутым в ней ученым суждено было сыграть большую роль в становлении, в частности, советской вычислительной техники:
«…Так, в Институте точной механики и вычислительной техники до сих пор работает ряд лиц, на которых имеются серьезные компрометирующие материалы.
Например, заместитель директора института доктор технических наук Кобринский Н. Е., еврей, из торговцев, в 1933–1939 гг. был связан с рядом немецких специалистов, подозревавшихся в шпионаже в пользу Италии; заведующий отделом приближенных вычислений член-корреспондент АН СССР Люстерник Л. А., еврей, б/п. (то есть беспартийный — авт.) в прошлом анархист, в 1939–1940 гг. высказывал антисоветские настроения; заведующий экспериментально-счетной лабораторией Акушский И. Я., еврей, из семьи раввина. Отец жены — Дербер являлся одним из руководителей эсеровской организации в Сибири, в 1938 г. был приговорен к ВМН, как шпион японской и французской разведок и т. д.
Между тем, в институте практикуются частные подряды на вычислительные работы (лаборатория Гутенмахера), в результате чего в институт стекается в виде технических условий и других сведений информация из различных военных учреждений о советской бомбардировочной авиации, бомбардировочных прицелах и их точности, типах бомб, ракетах дальнего действия и т. п.
Бывший директор института акад. Бруевич, под видом оказания технической помощи некоторым промышленным министерствам в выполнении опытных работ по бесконтрольным системам автоматики и телемеханики, установил связь института с большим числом других организаций и учреждений, ведущих совершенно секретную работу (НИИ-855, НИИ-2, НИИ-5, ЦИАМ и другие)».
Впрочем, этот донос, судя по всему, не имел никаких практических последствий для его фигурантов — власть могла преследовать «врачей-вредителей», но с некоторых пор прекрасно усвоила, кто именно является основным строителем обороны страны.
Активная фаза этой кампании длилась недолго: после смерти Сталина официальная травля «космополитов» прекратилась, возбужденные дела были закрыты, но хвост последствий тянулся весь советский период (в виде сохранения негласных квот на прием евреев в вузы на определенные специальности или ограничений — практически запрета — на зарубежные командировки). В период перестройки и сразу после развала Союза была короткая вспышка стихийного антисемитизма, пока евреев в качестве внутреннего врага не потеснили кавказцы.
До тех сфер искусства, где эти дискриминационные меры сказывались, Анчарову было еще очень далеко, потому лично он никак не пострадал. Можно предполагать, что он с удовольствием съездил бы в Париж, поглядеть в Лувре на свою любимую «Мону Лизу» Леонардо, но простые советские граждане, совсем не только евреи, вообще привыкли к тому, что заграница недоступна. Не затронута различными кампаниями была и его семья, благополучно пережившая все катаклизмы эпохи, начиная еще с Первой мировой войны.
27 апреля 1947 года у молодой четы Анчаровых родилась дочь Елена. Имеется рисунок Анчарова, запечатлевший дочь в трехмесячном возрасте. Впоследствии Елена Гроднева в своих воспоминаниях «Пять встреч с отцом» называла отца «Он» с большой буквы (как будто Анчаров имеет какое-то отношение к Господу Богу). Она писала, как почти через двадцать лет отец сочинил (скорее для себя, чем для нее) историю об обстоятельствах ее рождения:
«— После войны у нас с твоей мамой стали портиться отношения, часто ссорились, не понимали друг друга, но однажды в Новогоднюю ночь (стояла елка, горели свечи) мы все вспомнили: нашу любовь, наши разлуки и встречи, и было так прекрасно, и после этого родилась ты! — вдохновенно говорил Он.
Я тупо уставилась на Него:
— Ты считать-то умеешь? — С моей стороны это не выглядело грубостью или бестактностью. Просто у нас за короткое время успели сложиться определенные отношения. Я старалась иронично “куснуть” Его, Он активно защищался.
— А в чем дело? — тормознул Он.
— Я что, через четыре месяца родилась? У меня же день рождения 27 апреля…
— Да? Ну, это неважно.
Разумеется, это было уже совсем неважно. Главное — красиво и незабываемо!»
Этот эпизод многое проясняет в характере Михаила Леонидовича. Он не желал принимать жизнь такой, как она есть: это слишком скучно. Все должно иметь свою романтическую подоплеку, и уж дети точно не могут рождаться просто так — только вследствие Большой Любви. В «Золотом дожде» даже объяснение натянуто, почему в жизни все-таки бывает иначе:
«Поэтому любовь — творчество. И от самого естественного поведения родятся дети. Если дети не родятся, любви нет, выдумки. Как всякий порядочный закон, этот закон тоже обратной силы не имеет. Дети могут родиться и без любви, тогда это — любовь на секунду к тому, кого нет рядом».
Впоследствии Наталья Сурикова заставит Анчарова отказаться от родительских прав, а Елена получит отчество удочерившего ее Георгия Леонидовича Градюшко, второго мужа Натальи — Георгиевна (фамилия Гроднева — по мужу). Вероятно, это произошло не сразу после развода: в тех же воспоминаниях Елена Георгиевна описывает, как ей запомнился визит Анчарова в ее раннем детстве:
«Мне было два-три года, и я хорошо помню первое впечатление о Нем, хотя в таком возрасте, говорят, запомнить что-либо нереально. Пожалуй, это было в канун Нового года, потому что вижу, как Он сидит на диване и держит коробочку с крохотными елочными игрушками для настольной елки-малютки. Я стою в кольце его рук и разглядываю подарок. Голоса не помню, о чем говорил с мамой, не помню, но помню, что Он был в военной форме (с настоящими погонами!), большой, сильный, красивый, а самое главное — свое острое ощущение покоя и защищенности».
Разумеется, в ее «два-три года» (то есть в 1949–1950 годах) Анчаров уже не мог носить военную форму с погонами, потому что не имел на это права: через полгода после рождения дочери он увольняется из армии. Такое, в общем, бывает нередко — двух-трехлетние малыши действительно не запоминают реальных событий, но обрывки впечатлений и образов сохраняются в памяти, а потом на них наслаивается знание, полученное постфактум: фотографии, рассказы взрослых, позднейшие впечатления. В результате в памяти оседает четкая и реалистичная картинка того, чего не могло быть в реальности.
В специальном выпуске газеты Московского КСП «Менестрель» (июль-октябрь 1990 года), посвященном памяти Анчарова, будет помещен фрагмент из воспоминаний Владимира Туркина о том, как они с Анчаровым служили после войны в Москве. В них предстает Анчаров таким, каким мы его никогда не видели, — блестящий красавец офицер, склонный к эпатажу и мистификациям:
«Помню, летом сорок шестого — еще после перерыва продолжалась наша служба и учеба — в Москве, в саду “Эрмитаж” шли гастроли эстрадного оркестра Леонида Утесова. Миша сказал мне: “Пойдем слушать Утесова”. “Да разве мыслимо достать билеты”, — возразил я. “Не волнуйся, достанем”. Мы подошли к “Эрмитажу”. Оба были в форме младших лейтенантов. Миша ушел к администратору. И принес две контрамарки на концерт Утесова. Что же произошло в кабинете администратора? А вот что: Миша вошел, щелкнул каблуками, козырнул: “Младший лейтенант Анчаров. Адъютант генерал-лейтенанта Синицына. Имею поручение генерала, находящегося проездом через Москву, обеспечить два билета на концерт Утесова. Прошу содействия!”
Администратор взмолился: “Дорогой товарищ лейтенант, ни билетика, ни пропуска, ни единой контрамарки. Рад бы помочь, да нечем!”
“Не могу я доложить генералу, что поручение не выполнено, — чеканил Миша. — Не имею права не выполнить поручения”.
Сугубо штатский администратор был в полной растерянности и замешательстве.
“А знаете что, — вдруг оживился он. — Вы на машине приехали?” “Безусловно”, — отвечал Миша.
“Великолепно. Вот в комнате у меня сидят Леонид Осипович Утесов и Эдит Леонидовна. Я должен их отвезти в гостиницу “Москва”, но у меня нет машины. Давайте услуга за услугу. Вы доставите Утесова в гостиницу, а я у Леонида Осиповича возьму для вас две контрамарки”.
“О чем речь?! — удовлетворенно развел руками Миша. — Пожалуйста, к вашим услугам”.
Вскоре, получив контрамарки, Миша вышел от администратора. За ним шли Утесов с дочерью. Никакой машины, конечно, у Миши не было во веки веков. Не было и сейчас. На что он рассчитывал — он сам осознал чуть позже. Уже за воротами сада “Эрмитаж”, на Каретном Ряду, где стояли десятки легковых автомобилей, Миша ускорил шаг, стремительно подошел к одной из машин, в которой заметил за рулем солдата в форме, приоткрыл дверцу и зашептал: “Слушай, солдат. Ты можешь быстренько подбросить к гостинице “Москва” Леонида Утесова и его дочь Эдит?” У солдата от такой непредвиденности — глаза на лоб. Еще бы — самого Утесова не подвезти?! “Конечно, могу!” Миша открыл заднюю дверцу, когда отец с дочерью уже подходили к машине…
“Прошу, Леонид Осипович, пожалуйста, Эдит Леонидовна!” “А сам-то куда, лейтенант?!”
“Я пешочком. Тут у меня еще дела — поручения от генерала…”»
В октябре 47-го, ровно через год после возвращения из Маньчжурии, Анчаров подает рапорт об увольнении из рядов вооруженных сил. Сохранившийся черновик рапорта мы уже частично цитировали в рассказе о его довоенной биографии. Заместитель министра, на имя которого подан рапорт, и само министерство в черновике не называется, но в отношении министерства мы знаем, что речь идет о вновь образованном (с марта 1946 года) МГБ СССР, преемнике Народного комиссариата государственной безопасности, существовавшего с 1943 года. Министром в мае 1946 года был назначен, как мы уже рассказывали, начальник ГУКР СМЕРШ В. С. Абакумов.
Определить заместителя министра, на имя которого был подан рапорт, сложнее. По многим параметрам подходит начальник Третьего главного управления МГБ Н. Н. Селивановский, в ведении которого находилась созданная на основе ГУКР СМЕРШ военная контрразведка. На это указывают слова рапорта «переведен во вверенное вам Глав. Управление» — больше ни одного начальника какого-либо «главного управления» среди заместителей министра МГБ не числилось[74]. Отметим также, что Н. Н. Селивановский — один из тех профессионалов, кому СМЕРШ обязан своей репутацией «лучшей спецслужбы Второй мировой войны».
Однако в сохранившемся «Талоне приходного ордера» о сдаче оружия Анчаровым М. Л. от 14 октября 1947 года от руки вписано название подразделения «Отдел 4-Б ПГУ МГБ СССР», которого, согласно всем доступным источникам, к октябрю 1947 года уже не должно было существовать. Со времени образования весной 1946 года и до мая 1947 года в составе МГБ действительно существовало Первое главное управление (разведывательное), в составе которого какое-то время был 4-й отдел, специализировавшийся по Дальнему Востоку. Вполне возможно, Михаил Леонидович после преобразования СМЕРШ служил именно в этом отделе. Но, во-первых, ни один из быстро сменявших друг друга начальников ПГУ не был в ранге заместителя министра (то же касается и начальников 2-го главного управления — внутренней контрразведки, в которой Анчаров точно не служил, так как к СМЕРШу она не имеет никакого отношения). Во-вторых, в июне 1946 года отделы ПГУ были переформированы, и 4-й отдел из структуры исчез. И, наконец, в мае 1947 года ПГУ МГБ вместе с ГРУ Генерального штаба были объединены и под названием Комитета информации переданы в Совет Министров, где им руководило Министерство иностранных дел. (Комитет информации в качестве спецслужбы тоже просуществовал недолго, но в 1949 году, когда он вновь был разделен, Анчарова в рядах спецслужб уже не было.) О службе Анчарова в ведомстве Совета Министров в сохранившихся документах и воспоминаниях нет ни единого намека, потому остается предположить, что младший лейтенант Анчаров был оставлен в структуре МГБ, а чехарду с названиями оставим будущим историкам.
И, кстати, возвращаясь к вопросу о «гэбэшниках». Анчаров мог гордиться своей принадлежностью к клану «рыцарей плаща и кинжала», пусть и временной. Среди его именитых коллег по цеху — поэтов и писателей — можно встретить не так уж мало представителей этой древней профессии: Даниель Дефо, Джеффри Чосер и Александр Сергеевич Грибоедов — только самые известные имена из этого ряда. При этом стоит удивляться поворотам судьбы, завлекшей прямодушного и открытого Михаила Анчарова в шпионское ведомство, от сотрудников которого всегда и везде требовались несколько иные качества. Отсутствие морали, подразумевающееся у тех, кого потом стали называть «гэбэшниками», тут совсем ни при чем — просто шпионская мораль по содержанию профессии обязана быть более гибкой и податливой, что совсем не исключает высоких личных качеств многих ее носителей (Александр Грибоедов тому ярчайший пример). А Анчаров был, конечно, по складу характера «рыцарем», но совсем не «плаща и кинжала». Хитрить и лицемерить Анчаров так до конца жизни и не научился и, вероятнее всего, работать в органах в мирное время, когда уже нет вдохновляющей общей мотивации «борьбы с захватчиками», не смог бы. И еще не полностью сложившееся призвание художника вовремя заставило его понять, что такая деятельность совсем не для него, и приложить все силы к тому, чтобы эту работу оставить.
В рапорте Анчаров писал: «в течение всей моей службы мне приходилось переламывать себя и бороться с собой потому, что мне не удавалось забыть, что я художник, что живопись с детства является моим призванием». Чтобы не быть голословным, он приводил факты своей довоенной биографии, а также результаты проверки, которую он учинил по собственной инициативе:
«…чтобы разрешить последние сомнения, я обратился за заключением о моих работах к моему преподавателю живописи, видевшему меня в процессе работы, и к незнакомому со мной народному художнику РСФСР, лауреату Сталинской премии В. Н. Яковлеву, мнение которого должно было быть особенно авторитетно и беспристрастно потому, что методы его живописи прямо противоположны всей моей выучке. После же того как эти два человека, не сговариваясь, дали в сущности одинаковую чрезвычайно высокую оценку моих работ и потенциальных возможностей с присовокуплением пожелания необходимости для меня систематической учебы, все мои колебания кончились».
С «незнакомым» народным художником Василием Николаевичем Яковлевым, насколько сейчас можно восстановить эти события, Анчаров познакомился на выставке где-то за полгода до увольнения и тогда же показывал ему свои работы. Это подтверждается сохранившимся черновиком его письма к Яковлеву, написанным уже после увольнения, где Анчаров благодарит за проявленное участие (стиль оригинала черновика сохранен, зачеркнутые фрагменты удалены, в скобках — слова, дописанные позднее сверху):
«…А ведь ваша характеристика о (тех) моих пустяках (работах) которые я вам показывал этой весной которую попросил у вас даже без моего ведома Вл. Д. Бонч-Бруевич[75][75] освободила меня от военной службы и вот уже неделя как я вольная птица. Весь вопрос решался в течение полугода, но и я изо всех сил удерживался (от того) чтобы вам не позвонить и поблагодарить вас тогда же за вашу ничем не вызванную мной, любезность. Однако меня удерживало какое-то суеверное чувство и я решил сделать это после решения вопроса о демобилизации каково бы ни было это решение. И вот в течение недели я ежедневно звоню вам по старому телефону и только сейчас узнал что вы изменили адрес. <…> Когда-то вы мне позволили предложили приносить вам свои работы а главное разрешили говорить с вами откровенно. Пользуясь этим и пишу попросту о том, что я до смерти соскучился о Вас, по Вашей мастерской, по вашим разговорам, и, если бы вы знали как их мне недоставало все это время. <…> Так вот до моей встречи с Вами на выставке я (по-настоящему) не писал. А не писал потому, что был растерян. То что я видел мне не нравилось, то что нравилось считалось (объявлялось ересью). Разговаривая с искусствоведами убеждался, что они (это) скорее экскурсоводы (набитые общими фразами и анекдотами о живописцах). И тут я познакомился с Вами. Остальное Вам понятно».
В повести «Этот синий апрель», где Василий Николаевич Яковлев выведен под именем Николая Васильевича Прохорова, Анчаров так описывает их знакомство:
«Человека, который шел к ним по натертому полу, Гошка сразу понял, хотя и не знал тогда, кто он такой. Его внешность кого угодно могла ввести в заблуждение. Полноватый, небольшого роста, в синем костюме с орденом Ленина на лацкане, нездоровое матовое лицо, приподнятые брови и еще прилизанные волосы и маленькие усики над чувственными губами сладкоежки. Представьте себе располневшего Макса Линдера[76] с орденом на лацкане — какая-то смесь должностного лица с метрдотелем. Все эти многочисленные детали схватывались мгновенно и должны были производить неприятное впечатление. Но этого почему-то не происходило.
Потому что во всем его облике ощущался странный вызов — вызов любой попытке привести его к любому убогому знаменателю. <…> Девушки о чем-то болтали с ним, пока Гошка разбирался в своих от него впечатлениях, а он изредка поглядывал на Гошку с вежливой скукой. Ему мешала военная форма, которая как бы понуждала его на преувеличенную вежливость к военным в лице их представителя; а этого ему не хотелось, как всякому человеку, гордому своим делом.
— А у вас что на дипломе, какая тема? — спросил он у той, что пониже. Девчата хотели, чтобы он их консультировал.
— Античность в работах Серова, — ответила та, что пониже.
И вдруг он улыбнулся, и глазки стали маленькими, а брови взлетели.
— Ду-ушечка, — пропел он, — ну какая же античность у Серова?
— Ну как же! — испугалась девушка. — “Навзикая”, “Похищение Европы”…
<…>
Человек совсем весело заулыбался.
— Разве это античность? — спросил он ласково. — Античность — это полнокровие, здоровье, рискованность, а это… это… Я очень уважаю Серова, но это же, как вам объяснить…
— Журнал “Ди Кунст”, — сказал Гошка. — Одиннадцатый год. Розовые слюни.
Он сразу повернулся к Панфилову на каблуках, посмотрел на него снизу серьезными глазами и взял за форменную пуговицу.
— Попал… — сказал он. — Хотя чересчур категорично… Потому что молод. Но это пройдет. Я имею в виду молодость тоже. Только, душечка, к Серову это относится не очень. Мастер хотел попробовать — это его право. А потом приходят снобы и питаются объедками. Пугают детей, а дети роняют слюни… вот эти… как они… розовые.
И, потянув Гошку за пуговицу, посадил на скамейку, обитую линялым бархатом».
Василий Николаевич Яковлев (1893–1953) — один из самых именитых художников сталинской эпохи. Действительный член Академии художеств СССР, Народный художник РСФСР, лауреат двух Сталинских премий, В. Н. Яковлев — один из тех, кто утверждал в изобразительном и прикладном искусстве стиль социалистического реализма и сталинского ампира. Об этой стороне его творчества можно судить по тому, что вскоре после открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (будущей ВДНХ) в 1939 году, а также в период ее послевоенной реставрации в 1949–1950 годах Яковлев был назначен главным художником выставки.
Однако В. Н. Яковлев остался в памяти современников далеко не только своими «соцреалистическими» работами, и даже преимущественно не ими. Он оставил после себя очень много живописных работ самых разных направлений: натюрморты, пейзажи и камерные сюжеты в стиле подражания старым голландским и испанским художникам, жанровые зарисовки времен войны и до нее, парадные портреты многих генералов и маршалов: Жукова, Егорова, Рокоссовского и других. Особенно известным стал его портрет генерал-майора И. В. Панфилова, изображенного в полевой обстановке с биноклем в руке. Рисовал В. Н. Яковлев официальные портреты и самого Сталина. Портрет маршала Г. К. Жукова, стилизованный под старинные парадные изображения полководцев, где маршал изображен на вздыбленном коне на фоне пылающих берлинских руин, вышел чересчур патетическим, и его даже запретили к официальному показу. Но Яковлев не успокоился и написал другой портрет Жукова в том же стиле, где последний уже без коня показан возвышающимся над заревом пожарища, поглощающего руины с изображением свастики.
В. Н. Яковлев заслужил репутацию «самого реалистичного из реалистов»: картина «Мастерская», где изображены художники, рисующие обнаженную натуру, славится предельной тщательностью выписанных деталей. Еще в молодости он решительно выступал против европейского авангарда и особенно ненавидел то, что в советское время без разбора клеймилось не очень подходящим термином «формализм» — Матисса и Пикассо, очень популярных в России в дореволюционные годы. Идеалом молодого Яковлева стал строгий и мрачный испанец Рибера, и вся живопись Яковлева в 1920-е годы выполнена в темных тонах. От этой особенности стиля он избавился только в 1930-х, когда написал ряд портретов деятелей культуры, в том числе и один из самых известных портретов Максима Горького.
В конце 1920-х Яковлев работал реставратором в Музее изобразительных искусств и в Центральных государственных реставрационных мастерских, где досконально отточил технику работы «под фламандцев». Начиная с первой половины 1930-х он выставляет работы («Вакханалия», «Рыбы Баренцева моря», «Весенняя охота», «На кухне» и др.), где с нарочитой достоверностью воспроизводит манеру старых мастеров времен Ренессанса и барокко со всей присущей им пышностью и обилием деталей, воспроизведенных с фотографической точностью. Уже в конце 1940-х он пишет картину «Охотники», где соединение манеры фламандцев (фигуры охотников, сверх всякой меры обвешанные дичью) с обычной для послевоенных времен одеждой персонажей (телогрейки, кирзовые сапоги, кепки и ушанки) смотрится, мягко говоря, эклектично. Яковлев отметился, наверное, во всех существующих жанрах живописи и замечателен тем, что ни в одном из них он не следовал в общей «струе», находя свой оригинальный путь — даже если это было простое подражание старым мастерам, ничего похожего среди работ его современников вы не найдете.
Наверное, Василий Николаевич, так старавшийся утверждать классические принципы живописи, мог бы обидеться, если бы ему сказали, что в этом своем стремлении к демонстративному «цитированию» классиков в соединении с современным антуражем он предвосхитил приемы современного постмодерна. Но обиделся бы зря: как раз в этом постмодернизм решительно порывает с модернистским убеждением, что «традиция исчерпала себя и что искусство должно искать другую форму» (Ортега-и-Гассет). Интересно, что брат Василия Николаевича, Борис Николаевич Яковлев, известный художник-пейзажист, придерживался совершенно другой манеры, пойдя по стопам Константина Коровина и Валентина Серова, которых принято причислять к русским импрессионистам. Так как значительная часть художников, учившихся еще до революции, прошли через школу Коровина и Серова, то импрессионизм в его умеренных формах был присущ многим грандам советской живописи (Сергей и Александр Герасимовы, Игорь Грабарь и другие) и к формализму не причислялся.
Такой непримиримый и имеющий по любому поводу свое собственное мнение человек, несущий «вызов любой попытке привести его к любому убогому знаменателю» и к тому же достигший определенных высот официального признания, не мог не увлечь молодого Анчарова. Как бы потом Анчаров ни утверждал, что «у меня в искусстве есть один-единственный противник — я сам»[77], в молодости он был не настолько уверен в себе, чтобы понять, имеют ли его первые опыты хоть какое-то отношение… даже не к искусству, а к «настоящему делу». Это слово — «настоящий» — было его собственной планкой, которая отделяла незначимую повседневную суету от того, на что действительно стоит тратить время и держать в качестве ориентира и идеала (вспомним из «Синего апреля»: «Гошка ничего не знал об этом человеке, но понимал, кто он такой. Он настоящий»). Сомневаться в себе Анчарова заставляло отсутствие в пределах видимости эталона, масштабной планки, которая бы позволяла установить: вот это оно самое, настоящее, а вот это — пустая болтовня или мелочь, не заслуживающая внимания.
Многие, даже большинство людей такой период в своем становлении проскакивают, не замечая. Это может происходить по многим причинам: и от врожденной уверенности в себе, и от того, что подобный эталон, с которым можно постоянно сверяться, всегда перед глазами — как у детей, пошедших по стопам именитых родителей. Самые счастливые — те, кто никаких планок перед собой не ставит, а просто делает то, что нравится, то, что неудержимо затягивает, не обращая внимания на реакцию окружающих и на сравнения с какими-то там «высшими образцами». Таких особенно много среди поэтов и отчасти писателей, которым, вообще говоря, ничего, кроме ручки и бумаги не требуется, даже без профессионального обучения они спокойно обходятся. Потом, когда их творения выходят на суд публики и профессионалов, и происходит отсев: вот это графомания, вот это — непризнанный гений, но тут уже от них ничего не зависит. В журнале «Самиздат» библиотеки Мошкова (lib.ru) таких претендентов на звание «писателя» на момент написания этих строк насчитывается 98 854, и можете быть уверены, что 99% из них будут прочитаны хорошо если десятком человек, достаточно упрямых, чтобы не бросить на середине. Но ведь пишут же! И ведь «Самиздат» — самый большой, но не единственный интернет-ресурс такого рода.
Анчаров был не таким. Талантливый во многих отношениях, он боялся посвятить себя чему-то одному полностью, боялся ошибиться — затянет, не выкарабкаешься. Притом живопись — не поэзия, тут учиться можно годами, и очень не хочется потом обнаружить себя в рядах ремесленников, малюющих афиши провинциальных театров. Поэтому он и искал эталон, образец, на который можно равняться. И нашел его в лице Яковлева, который был художником, что ни говори, настоящим, и даже признание со стороны властей и вождя всех народов его не испортило. Его таланта просто хватало на все: и на портреты генералиссимуса с маршалами, и на «Купание краснофлотцев» в лучших традициях того, что потом назовут «соцартом», и на колхозные поля с коровами, и на спорные с точки зрения соцреализма этюды с обнаженной натурой, и на демонстративные подражания фламандцам.
Кстати, в «Синем апреле» Прохоров в ответ на вопрос Гошки «А где прошло ваше детство, Николай Васильевич?» отвечает «На Благуше, душечка». Проверить этот факт в отношении реального В. Н. Яковлева на основе доступных источников невозможно, но это вполне могло быть — источники сходятся, что художник происходил из «богатой купеческой семьи», а это не противоречит образу обитателя Благуши, где проживали люди самых разных слоев общества.
Описание в повести «Этот синий апрель» впечатления, которое на Анчарова в голодном 1946 году произвела картина В. Н. Яковлева «Спор об искусстве», относится к числу лучших страниц его прозы (в книге картина названа «Спор о красоте»):
«Гошка не знал, как бы он сейчас посмотрел на эту картину, когда в магазинах есть еда и одежда, когда на афишах имена иностранных артистов и реставрируются монастыри, когда можно смеяться над тем, что смешно, и жильцы квартир движутся к новым успехам от торшера к торшеру, Гошка не знал, как бы он сейчас посмотрел на эту картину, но в те голодные времена, когда сквозняки выли в пустых магазинах, а по ночам матери плакали над желтыми фотографиями убитых и школьницы продавали на толкучках старые платья, чтобы подкормиться на торфоразработках, и в пустых дворах ветер гонял газету, в те времена картина производила дикое впечатление. Потому что на этой дикой картине было все.
Это был удивительный гибрид антикварного магазина и гастронома, музея и салона. Там горящие свечи плясали тенями на парфенонском фризе, там были жесткие цветы и сверкающая парча, которую вздымали руки напряженных стариков, там холодели бронзовые кубки и синие сумерки за окном. Там кипела безвкусица, и это было гениально.
Это была пышность и нищета. Это было варварство вкуса и документ великой души. Это надо было или отвергнуть сразу, или сразу принять. Памфилий принял мгновенно.
Короче говоря, если бы живопись можно было описать словами — она была бы не нужна.
Среди хаоса взбесившихся вещей, стряхнув с себя все, сделанное руками, все, достигнутое человеком и его искусством, скинув чулки, туфли, платье и кружевное белье, на голом трехступенчатом, щербатом от старости подиуме, спиной к зрителю сидела рослая обнаженная женщина, и синие сумерки из холодного окна освещали ее розовое тело и золотые венецианские волосы, а с левой стороны холста сам художник в халате, накинутом поверх костюма, сощурившись, поднимал кисть, прицеливаясь к единственному, что стоит назвать словом “красота”. Вот что было на этой картине.
Просто сначала поражал сам предмет изображения, начисто выпадавший из нормальных для того времени сюжетов. Всякие там поля с травой или с рожью и бригадир с медалью и блокнотом, смотрящий вдаль, и еще были пионеры на лугу, которые тоже смотрели вдаль, все смотрели вдаль, и поэтому никто не замечал пошлости.
Цвет картины здесь равнялся цвету предметов, заполнивших холст. А это не одно и то же. Разница между музыкой краски и суммой красочных предметов такая же, как между стихотворением и поэзией, как между хорошей музыкой и громкой. Колорита в картине не было. А картина жила. Так тоже бывает, и тогда это чудо. Картина жила коричневатым, прозрачно струящимся тоном. Он светился и мерцал, сгущался в бронзу, в розовое тело, в кружева, и при взгляде на живопись хотелось сделать глотательное движение и хотелось потрогать».
Только одна эта картина яснее любых словесных заявлений говорила о том, что Яковлев не вписывается не только в рамки «придворных живописцев», но и вообще в соцреализм, к созданию которого сам приложил руку. В некоторых современных интерпретациях картину «Спор о красоте» даже называют «пародией на советские сюжеты»[78], но это слишком поверхностно и к тому же неправда: перед нами не пародия, а настойчивая, даже демонстративная попытка показать, что существует очень много всего такого, что находится за пределами круга убогих интересов тогдашнего общества. Что вечные вопросы в условиях коммунистического государства никуда не деваются. Что художники, какие бы они ни были соцреалисты, заняты вовсе не пропагандой и воспитанием масс, а своими проблемами, одними и теми же, что в эпоху Возрождения, что сейчас, что далеко в будущем.
Есть у Яковлева и другие картины, выпадающие из общего ряда: например, «Патриотическое молебствование 22 июня 1942 года в Москве» — в 1942 году отношения государства с церковью еще были не очень ясными. Такой образ одновременно и официально признанного, и ни в чем не поступающегося своими убеждениями художника, чем-то напоминающий любимого Анчаровым Маяковского, не мог не импонировать молодому человеку. Конечно, Анчаров, даже в молодом возрасте не склонный к отрицанию чего бы то ни было на основе безличных ярлыков, не мог поддерживать Яковлева в его огульном отрицании любого авангарда оптом и сам понимал, что они по сути идейные противники (из рапорта: «методы его живописи прямо противоположны всей моей выучке»). В «Синем апреле» художник Костя Якушев отказывается от посещения мастерской Прохорова:
«— Я знаю одно, — сказал Гошка, и это была чистая правда, — я хочу познакомиться с человеком, который умеет очаровывать. Потому что меня давно уже что-то никто не очаровывал. — И это была чистая правда. — И я хочу, чтобы мне наговорили тысячу вещей о Возрождении и закидали именами художников. Не возражаю. Пойдем, ребята?
— Я не пойду, — сказал Костя. — Опасно.
— Почему? — спросил Лешка.
— Он мне как человек нравится безумно. Боюсь влипнуть в ученики. А он всех учеников подминает.
— Ну, мне это не грозит, — сказал Памфилий. — Я не художник. И потом, может, его ученики не тому у него учатся, чему нужно».
Анчаров и сам совершенно не желал «влипнуть в ученики», и наличие изначального расхождения во взглядах его, наверное, удовлетворяло — давало повод от ученичества открещиваться. Но, конечно, влияния Яковлева ему полностью избежать не удалось — это заметно и по его письму в «Комсомолку», о котором далее, и по самим работам. Когда в начале 1950-х Анчаров писал картины вроде партизан с автоматами в зимнем лесу, сценку деда с внуком на охоте (опять же в зимнем лесном антураже), и, особенно, полотно с девушкой (Джоей Афиногеновой — подробнее о ней см. главу 5) в военной форме на фоне разоренной земли — он, безусловно, делал это под впечатлением работ Яковлева.
Но при всем сходстве тем и персонажей картины Анчарова выполнены в ином, совершенно не «яковлевском» стиле, близком скорее к брату Яковлева Борису Николаевичу: фламандская пышность, классическая приподнятость и детализированный рисунок там отсутствуют полностью. У картины «После войны» даже сама идея совершено другая, чем у проникнутых возвышенным пафосом военных полотен народного художника. Джоя на картине Анчарова совсем не торжествующая победительница. Одинокая женская фигура на опустевшей земле символизирует тоску и скорбь по погибшим, горькое осознание неисчислимо громадного количества работы, которую предстоит проделать для того, чтобы земля забыла совершенное над ней надругательство, — тема, которая у «реалиста из реалистов» Яковлева отсутствует совершенно.
Анчаров пошел дальше, чем диктовала тема: старинная крепость позади женской фигуры в форме военных лет явно призвана символизировать связь настоящего и прошлого. В этом еще одно принципиальное расхождение его с официальной идеологией 1920–1930-х, для которой истории «до революции» как бы и не существовало. Послевоенная сталинская держава, как мы уже говорили, не декларируя этого напрямую, стала постепенно восстанавливать утраченную связь с историей Российской империи, и Анчаров легко и с удовольствием подхватывает эту тенденцию и по-своему развивает ее: для него имперские амбиции — ничто, а вот преемственность поколений, понимание своих корней — очень много (впоследствии автобиографическую повесть «Этот синий апрель» он предварит эпиграфом из Гете: «Поэт должен иметь происхождение, должен знать, откуда он»). Восстановлением связи времен он тогда, в конце 1940-х, судя по всему, был весьма увлечен — в апреле 1947 года Анчаров пишет знаковую картину, изображающую молодого себя в военной форме, почтительно склонившегося над сидящим в кресле старцем с узнаваемым лицом Леонардо да Винчи, каким он выглядит на одном из портретов, считающихся его достоверным прижизненным изображением. Эклектика изобразительного ряда не хуже, чем у Яковлева, а вот смысл здесь совершенно иной.
Этот мотив будет потом неоднократно возникать в его прозе («словутный певец» Митуса в повести «Поводырь крокодила», романах «Самшитовый лес», «Как птица Гаруда», «Дорога через хаос», многочисленные исторические интермедии в том же «Поводыре крокодила»). А через двадцать лет он раскроет и расширит эту тему — в 1971 году в соавторстве с кинорежиссером Александром Петровичем Саранцевым Анчаров напишет небольшую пьесу «Слово о полку», где перед зрителем одновременно разворачиваются события 1185 и 1941 годов и воин XII века Путята оживленно беседует с воином XX века Канатием, а Волхв (все тот же Митуса) вступает в ряды Красной Армии.
Картина, которую мы называем «После войны», — работа, конечно, ученическая, ей не хватает масштабности и наполненности деталями, которых ждешь от полотна размером 170х135 сантиметров, законченно выглядит там только фигура единственного персонажа в центре. Но в отмеченной ранее многоплановости, пусть и едва обозначенной, Анчаров пошел уже сильно дальше своего учителя. У Яковлева обращение к технике классиков — всего лишь любимый изобразительный прием, как правило, лишенный каких-либо скрытых смыслов: что нарисовано, то и имеется в виду. Хотя нарисовано и бывает очень здорово, но художник, принципиально отказывающийся от многоплановости своей картины, только обирает самого себя. Поэтому Яковлев — без сомнения, в живописи звезда первой величины, но при всем своем таланте и оригинальности даже не основатель собственной школы или направления. Анчаров много лет спустя напишет в романе «Записки странствующего энтузиаста» (Яковлев, напомним, у него фигурирует под фамилией Прохоров): «И Прохоров был в искусстве один и старался сохранить что можно. Но куда идти дальше, и он не знал». А вот Анчаров вполне мог бы узнать или догадаться, но терпения не хватило наощупь искать свой собственный путь, а подсказать было уже некому: в 1953 году Яковлев скончался, а другие Анчарова не разглядели.
Отпускать его не хотели, что следует и из фразы в письме к Яковлеву («после решения вопроса о демобилизации каково бы ни было это решение»), и из других его воспоминаний. В 1986 году Анчаров рассказывал о своем увольнении так (Беседа, 1986):
«Демобилизовался я осенью сорок седьмого года. Не отпускали, а я просто смертельно хотел учиться живописи. По ночам краски снились, стонал… Я там на работе портреты всех сослуживцев сделал, но, к сожалению, в институт их представить не мог, потому что физиономии сослуживцев были не для показа. Но именно эти работы всё решили, когда встал вопрос, отпускать меня или нет. Я зашел к начальству в огромный кабинет и увидел, что эти работы лежат на полу, а через них “журавлями” ходит всякое военное и гражданское начальство и какие-то художники, очевидно местные. Я сапоги надраил, стою ни жив ни мертв. Главный мне говорит: “Ведь подохнешь с голоду на гражданке-то…” — “Никак нет”, — отвечаю. Ну, ладно, отпустили…»
Оказавшись предоставлен самому себе, он сначала растерялся. Из повести «Золотой дождь»:
«Метался я потому, что привык всегда быть в куче, а тут остался один. Привык получать задания, а теперь задания мне никто не давал. Метался потому, что жизнь захлестывала меня, а надо было искать свою тропку. Метался потому, что захлебывался впечатлениями, а для глубокой живописи нужно было пить их по каплям. Меня кидало к женщине и отталкивало от ее мелочности. Я дважды хотел кончать с собой и трижды жениться. Я хотел писать картины величиной с широкий экран, а писал натюрмортики — кувшин и две тарелки. Не было ни холста, ни красок, и купить их было не на что. Вспыхивали и гасли дни, луны валились в Москву-реку, оранжевое солнце взлетало и падало за крыши домов, и фиолетовые тени выскакивали из подворотен. И все это надо было писать только по памяти: ведь все улицы Москвы были почему-то секретными объектами».
Как иллюстрация к последнему замечанию в архиве Анчарова сохранилось уникальное «Разрешение на право зарисовок», выданное Министерством государственной безопасности 5 февраля 1948 года и действующее по 1 июня 1948 года, в котором «Анчарову Михаилу Леонидовичу, художнику Московского горкома художников скульпторов и живописцев, разрешается производить зарисовки в городе Москве по следующей тематике: 1. Яузский мост. 2. Зарядье с улицы Разина». Что интересно, «Разрешение» только напечатано на машинке на официальном бланке, но не снабжено какой-либо печатью, подтверждающей подпись «начальника отдела МГБ СССР» некоего «гвардии полковника» со странной фамилией Тульке.
С сегодняшней точки зрения — любой человек с минимальными навыками художника мог документ при желании легко подделать и вписать туда любые объекты, но тогда вряд ли кто-то решился бы на такую подделку, учитывая вероятные последствия. Сегодня этот документ может быть воспринят только как пародия на нравы сталинской эпохи, но тогда это было вполне всерьез — не иначе, МГБ в послевоенное время (даже не во время войны, когда это было хоть отчасти оправдано!) больше нечем было заняться. Поистине неисповедимы пути бюрократического рвения, лишенного тормозов и преград в своем желании проконтролировать все, до чего можно дотянуться.
Анчаров уволился из армии в октябре, и до поступления в институт у него был еще почти целый год. На что-то надо было жить и, наверное, что-то приносить в семью, где Наталья сидела с маленьким ребенком. На такую ответственность молодой Анчаров, не только по складу характера не умевший зарабатывать, но еще и просуществовавший предыдущие пять лет на гарантированном государственном обеспечении, был явно не готов. Он не умел быть практичным и не желал этому учиться — его интересы лежали в принципиально другом направлении. Досадная необходимость зарабатывать и как-то обустраиваться в жизни выводила его из себя. Потом эта досада прорвется в повести «Золотой дождь»:
«И завхоз в полувоенной коверкотовой форме, цыкая зубом, говорил мне, что искусство требует жертв.
Когда я слышу эту великую формулу завхоза, состоящего при хлебопечении, мне всегда хочется спросить — почему? Почему искусство требует жертв? Почему искусство требует жертв именно от художника? Может быть, искусство требует жертв как раз от завхоза?»
И эта черта характера, которая при взгляде со стороны кажется очень милой: ну как же, «он же абсолютно бескорыстный!» — наверняка была не последней в ряду причин развода, последовавшего через два года. Михаилу Леонидовичу и в дальнейшем сама мысль о том, что все на свете имеет свою цену, измеряемую в деньгах, показалась бы циничной и кощунственной. По большому счету это действительно неправда, но для него только одна грань бытия и существовала — та, на которой делаешь потому, что не можешь не делать, или как минимум потому, что должен спасти мир от схлопывания обратно в точку сингулярности. Никаких других резонов, помельче, он не признавал. «Если можешь не писать — не пиши» — этот тезис[79] Анчаров мог бы сделать своим девизом. Такой юношеский максимализм, конечно, ему очень мешал в течение всей жизни, но Анчаров от него так и не отказался полностью, а мы получили редкий пример человека, который, насколько это вообще возможно, следовал собственным идеалам в реальности. Жизнь его за это колотила нещадно, рикошетом доставалось и окружающим, но переучить так и не смогла.
Пока что бывший младший лейтенант перебивался, как мог. Так как он не был еще членом никаких творческих союзов, то был обязан, как все советские граждане, где-то числиться на работе — неработающим грозила статья за тунеядство. Как свидетельствует сохранившийся пропуск в Министерство торговли, Анчаров устраивается художником на работу во Всесоюзный государственный институт по проектированию предприятий торговли и общественного питания (Союзгипроторг).
Сохранилась программка спектакля «Васса Железнова», который ставил самодеятельный театральный коллектив клуба Министерства торговли, размещавшийся по адресу ул. Кирова (ныне Мясницкая), 47. Как следует из этой программки, Анчаров там числится художником спектакля и заодно занят в одной из ролей. Обязанности его как художника были расписаны в «Трудовом соглашении», где за оформление спектакля ему обещана сумма 600 (шестьсот) рублей. Договор заключен 10 декабря с трогательным условием закончить работу «к 15 часам 19 декабря 1947 года». Очевидно, тот, кто составлял договор, уже имел опыт общения с «творческими личностями» и досконально знал их привычку заканчивать работу в последний момент.
К этому же неполному году с осени 1947-го до осени 1948-го относятся и первые литературные опыты Михаила Леонидовича. Он пишет рассказы, рассылает их в разные редакции и получает единообразные по содержанию отказы. Почему-то все сохранившиеся относятся к июлю 1948 года. Из редакции «Крокодила» от 6 июля: «Рассказ “Вечер с выводом” редакции не подошел, т. к. не отвечает требованиям редакции»; из журнала «Смена» от 12 июля: «Ваш рассказ “Помощник красоты” не подходит для нашего журнала, и напечатать его мы не можем»; из «Огонька» от 28 июля: «Присланный вами рассказ “Ненаписанные стихи” не смогли использовать для “Огонька”».
В повести «Этот синий апрель» Анчаров описывает обстоятельства своих первых литературных опытов в полном соответствии с захватившей его теорией о вдохновении, без которого ни одно истинно творческое произведение появиться не может:
«Это был сон о прочитанном вслух рассказе.
Не картины жизни увидел Гошка — реальные или искаженные, — а услышал рассказ. Он видел во сне напечатанный текст, и текст звучал, одновременно он видел картины совершенно реальной жизни, и они почему-то состояли из букв и захватывающего полета, и он плакал во сне (так он думал), а когда проснулся, досмотрев, — оказалось, что он смеется. Гошка помнил и видел все до единой буквы и слышал все до единой картины.
Он в полусне дотянулся до бумаги — это была старая школьная тетрадь по арифметике, где на первой странице под решением задачи стояла косая красная отметка “хор”. Хор запел у него в душе, и он не раздумывая начал подряд записывать слово за словом то, что диктовалось изнутри, хотя теперь наяву это уже не было обычным диктантом. Потому что диктант — это репродукция, запись готового, а он просто буквами рисовал происходящее, и оно заново возникало на бумаге.
Он зажег свет, чтобы писать, и тут же потерял первые фразы. Пришлось погасить лампу, и он стал писать при взлетающем свете уличных фонарей. Он писал до утра и утром, он не решался сменить позу — у него уже был опыт с лампой. Близко к финалу он начал дрожать от усталости и голода, но продолжал писать, хотя и чувствовал, что кое-где комкает строки, начинает выполнять домашнее задание и его тянет на зевоту. Однако, когда он попытался бросить, он почувствовал тоску, почувствовал, что не может, что какая-то сила ведет его руку, которая бежит по бумаге как чужая. Его охватила тоска, которую, наверное, испытывает загипнотизированная курица, когда не может оторвать клюва от проведенной перед носом черты — все проделывали это в детстве. Гошка вдруг понял, что это идет мимо него, что он уже фактически не нужен, что он может думать о чем угодно — рука все равно будет делать свое дело.
Какая-то угрюмая ярость плескалась в нем. Ни следа всякой там умиленности и восторга. И он тогда подумал, что, может быть, муки слова — это не тогда, когда не выходит, а тогда, когда получается.
Близился конец. Вот он уже видит впереди не написанную еще строчку, которую надо просто заполнить словами. Заполнил. Конец. Школьная ручка с пером — тогда говорили “вставочка” — остановилась.
Как будто и не было ничего. Ни длинного сна, ни исписанной тетради по арифметике, о которой он лениво подумал: какую он там чушь написал. Он не испытывал усталости и голода, а только думал, что, слава богу, отделался от всего этого».
Читая эти строки, нужно помнить, что Анчаров в своих автобиографических произведениях никогда ничего не придумывал полностью, но любил приукрашивать реальные события и поступки, приводить их в соответствие со своей внутренней гармонией — так оно должно было быть, иначе просто быть не может. Как нельзя дословно верить его описаниям и характеристикам благушинской шпаны, так нельзя и думать, что история с рассказом происходила в действительности именно так, как здесь изложено. Относился к своим первым литературным опытам и книжный Гошка Панфилов, и реальный их автор вполне иронически: «какую он там чушь написал». И понимают они оба, что это еще даже не первый шаг (из «Синего апреля» далее):
«Потому что он вдруг понял, что это — его собственное искусство, и ужаснулся. Он понял, что этот сон только сигнал. <…>
И Гошка отправился в путь.
Обрушивались годы, взлетали и падали судьбы, подрастали поэты и прозаики, изменялись формы, а Памфилий все не делал первого шага.
Когда однажды он очнулся и увидел, что выброшен на грязный заплеванный пол пустой комнаты своей бывшей квартиры — без дома, без семьи, без денег, без работы, без перспектив, без положения, без сил, без желания работать, — и только тогда стало ясно — или сейчас или никогда. Надо писать. Созрело.
Это случилось через семнадцать лет после того сна».
Из ранних рассказов Анчарова для нас представляет особый интерес рассказ «Помощник красоты», тот самый, что отвергла редакция журнала «Смена». В нем содержится прообраз истории, которая потом превратится в рассказ деда-игрушечника о встрече с Красотой. Мистическая сказка войдет в «Теорию невероятности» и еще раньше даст сюжет одной из самых известных песен Анчарова:
…Шел я пьяный. Ты слушай — не слушай.
Может, сказку, а может, мечту…
Только в лунную ночь на Благуше
Повстречал я в снегу Красоту…
Анчаров говорил: «“Теория невероятности” началась с этого стихотворения, но сам стих я в роман даже не вставил…» — однако про отвергнутый рассказ не вспоминал. К песне и к истории создания «Теории невероятности» мы еще вернемся, а в 1948 году об этом еще и речи, конечно, не было. В рассказе «Помощник красоты» история рассказана от имени пожилого самобытного резчика по кости, оказавшегося попутчиком офицеров, возвращавшихся с Дальнего Востока. Резчик ездил «в китайцы» для, как сказали бы в те времена, обмена передовым опытом. История этого старика в рассказе заметно отличается по сюжету от сказки деда-игрушечника из «Теории невероятности», хотя смысл тот же: возвращаясь из иконописной мастерской, молодой художник наткнулся на замерзающего человека, притащил его домой, причем человек показался ему необычно легким. Стал раздевать — да это девица, причем красоты необычайной! Далее все почти по истории с дедом-игрушечником, только длиннее и с подробностями, ну и в итоге взяла с него Красота обещание служить ей помощником.
Сохранившиеся тексты рассказов, в том числе и «Помощника красоты», действительно еще вполне ученические по уровню исполнения, хотя при должной литературной обработке и правке они и сейчас могли бы быть напечатаны — уж точно не хуже того, что иногда публикуют в современных сборниках. Представляется, однако, что дело совсем не только в литературных огрехах неопытного автора: редакции ничего не стоило подправить и оживить диалоги, исправить пунктуацию, отредактировать некоторые неуместные обороты и фразеологизмы — с этим справится любой грамотный литературный редактор. Куда серьезнее другая причина отказов, о которой молодой Анчаров по наивности не догадывался: тематика его рассказов совершенно не отвечала требованиям к содержанию того, что могло быть публиковано в советской массовой печати конца сороковых. Говоря языком того времени, рассказ «Помощник красоты» носит неприкрыто язычески-религиозный характер, причем мистическая история изложена как действительное событие от лица как бы реального человека, современника читателя. Конечно, есть «Малахитовая шкатулка» Бажова, следы влияния которой на сюжет Анчарова несомненны, но пересказ фольклорных легенд и сказок никому не запрещался. Тем более не запрещалась подача мистико-религиозных верований в юмористической форме, как у Гоголя в «Ночи перед Рождеством». А вот серьезное отношение автора «Помощника красоты» к своему сюжету пройти через советскую редактуру никак не могло.
Еще хуже с другим сохранившимся рассказом, «Экзотика», посвященным «разоблачению» писаний корреспондентов центральной печати, приезжавших в Маньчжурию. Понятно, что в реальности все всегда бывает иначе, сложнее и приземленней, и возмущение по поводу вранья журналиста, верхогляда и фантазера — естественная реакция каждого, кому в жизни приходилось хоть раз быть участником событий, получивших освещение в средствах массовой информации. В этом смысле ничего не менялось со времен, наверное, Древнего Рима и до современных интернет-изданий. А в сороковые годы в СССР на привычное для печати искажение событий — неважно, намеренное или без злого умысла — накладывалось еще и явно декларированное требование метода «социалистического реализма» приукрашивать действительность и везде, где только можно, подводить классовую базу. И власть вместе с руководителями изданий была совершено не заинтересована в создании почвы для сомнений в том, что опубликованное в печати есть истина: советская печать никогда не лжет! Потому рассказ «Экзотика», будь он хоть четырежды правдивый и написанный языком уровня Бунина или Толстого, был обречен еще на стадии замысла.
Конец 1940-х — начало 1950-х — время критических кампаний, периодически обрушивавшихся то на одно, то на другое направление науки или искусства. О кампании против «космополитов» мы уже рассказывали. Из остальных в общественном сознании больше всего сохранилась первая из них: достаточно неожиданное для всех постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 1946 года, в котором по указанию свыше громили писателей. Эта кампания имела серьезные последствия для атмосферы в литературе того времени, и от нее пострадали некоторые писатели персонально.
А. А. Ахматову и М. М. Зощенко исключили из Союза писателей, многих редакторов сняли с занимаемых должностей, а некоторые известные имена изъяли из библиотек (мы уже вспоминали в этой связи Александра Грина).
Вторая кампания такого рода относилась к музыке — 10 февраля 1948 года вышло не менее неожиданное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели». Обратите внимание на бюрократический нюанс: постановление «О журналах…» вышло от имени Оргбюро, то есть фактически от имени Секретариата ЦК, а «Об опере…» — от имени Политбюро, то есть высшего руководства партии. На практике, конечно, никаких различий не было — инициатор обеих кампаний А. А. Жданов входил в обе структуры. Постановление критиковало нескольких композиторов: В. Мурадели, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна и других, объявляя их «формалистами», а также руководство Союза композиторов, которое в результате было полностью переформировано. (Заметим в скобках, что это не помешало главному объекту критики Вано Мурадели в 1951 году получить вторую Сталинскую премию, в том числе, что интересно, за песню «Русский с китайцем — братья навек…».) Постановление заодно расставляло некоторые приоритеты в отношении к кавказским народностям: «…Из оперы создается неверное представление, будто такие кавказские народы, как грузины и осетины, находились в ту эпоху (имеются в виду 1918–1920 годы — авт.) во вражде с русским народом, что является исторически фальшивым, так как помехой для установления дружбы народов в тот период на Северном Кавказе являлись ингуши и чеченцы» (напомним, что ингуши вместе с чеченцами и многими другими народностями в 1944 году были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию).
В отношении науки чаще всего вспоминают разгром в биологии, произошедший на сессии ВАСХНИЛ в том же 1948 году. С учетом того, что еще задолго до того были репрессированы крупнейшие отечественные ученые-биологи мировой известности Н. И. Вавилов и Н. В. Тимофеев-Ресовский, сессию ВАСХНИЛ можно назвать кульминацией тщательно подготовленного разгрома. Он имел по сравнению с другими подобными кампаниями самые серьезные долгосрочные последствия, потому что надолго остановил развитие советской биологии, до того находившейся вполне на мировом уровне. Отечественная биологическая наука, в первую очередь генетика, которая тогда представляла передовой фронт развития всей биологии, в результате отстала навсегда и уже не смогла восстановиться в прежнем качестве. Это очень хороший антипример для тех, кто любит идеализировать советскую эпоху: ведь именно генетика вместе кибернетикой (о которой далее) определяют существенную часть сегодняшнего мирового научного ландшафта.
Менее известны попытки на рубеже 1940–1950-х устроить нечто подобное в других науках: в физике (теория Эйнштейна), в химии (теория резонанса) и даже в максимально удаленной от идеологических баталий математике. Попытки эти относительно успешно провалились, потому что были уж очень одиозными и никакой серьезной поддержки в профессиональной среде не получили. Были еще какие-то истории в общественных науках — вроде вмешательства лично Сталина в проблемы языкознания, но даже суть и последствия всех таких кампаний вспоминаются не сразу: вроде бы прошли какие-то кадровые перестановки и исчезли отдельные имена из учебников на некоторое — не очень долгое — время.
Зато очень часто вспоминается попытка в начале 1950-х устроить по образцу разгрома генетики преследование только что появившейся и набиравшей популярность кибернетики — наверное, попытку эту помнят из-за того, что из кибернетики растут корни современной информационной революции (чего тогда, конечно, никто еще не ждал), а также из-за знаменитой формулировки в «Философской энциклопедии» 1954 года «кибернетика — буржуазная лженаука» (математик Альберт Макарьевич Молчанов через много лет прокомментировал: «Во-первых, не буржуазная. Во-вторых, не лже, а в-третьих, не наука»).
Но в реальности вся кампания против «буржуазной лженауки» ограничилась несколькими газетными статьями, а профессионалы вообще на нее внимания не обратили, потому что поголовно работали в «ящиках», часто имели военные звания, и подобные кампании на их деятельности никак не сказывались. А больше в кибернетике никто ничего не понимал, включая и авторов тех статей, и кампания увяла, толком не начавшись и не получив никаких последствий, кроме того, что книжка основателя кибернетики Норберта Винера какое-то время пребывала в спецхранах библиотек, где все равно была доступна тем, кого интересовала, — они имели соответствующий допуск.
В отношении кибернетики интересно другое: уже через несколько лет клеймо «буржуазной лженауки» обращается лозунгом «кибернетику — на службу коммунизму». В истории советской официальной идеологии было много «поворотов кругом» (от «мировой революции» — к «миру во всем мире» и так далее), но, наверное, больше нет примера столь быстрого и явного перехода от огульного отрицания к полному признанию, причем не только на словах, но в значительной части и на деле (подробнее об этом см. главу 7).
Настоящие причины всех этих кампаний совершенно ясны, и даже если они не достигали заявленных целей (не всегда так уж ясно сформулированных), основная цель всей этой возни была достигнута. В двадцатые годы советская власть путем репрессий избавлялась от действительных и потенциальных конкурентов, в тридцатые годы этим же занимался уже лично Сталин, а в сороковые, когда конкуренты были уже выметены подчистую, все эти кампании недаром чаще всего уже не заканчивались расстрелами и лагерями: власти важно было перебить свободолюбивые настроения в народе и устранить саму возможность возникновения любой оппозиции, показав, что неприкосновенных не существует ни на каком уровне.
Еще одна кампания лета 1948 года относится к числу тех, о которых в настоящее время уже совсем не помнят: она была попыткой «построить» художников по образцу писателей. Серьезных последствий она, впрочем, не имела и на положении в изобразительном искусстве не особенно сказалась: были уволены некоторые преподаватели (в том числе директор МГХИ им. В. И. Сурикова Сергей Герасимов), произошли перестановки в Академии художеств — вот, пожалуй, и все последствия, причем не всегда ясно, были ли кадровые перестановки именно следствием кампании.
Художники в условиях авторитарного государства материально куда больше писателей зависят от благоволения власть имущих — их творчество само по себе обходится буквально дороже (вспомним у Анчарова: «Я хотел писать картины величиной с широкий экран, а писал натюрмортики — кувшин и две тарелки. Не было ни холста, ни красок, и купить их было не на что»). Это бард, работая в каком-нибудь НИИ, может сочинять свои крамольные песенки по вечерам и исполнять их в кругу друзей у костра, а художнику нужны материалы и свободное время, выставки, критические статьи и возможность продавать свои картины, студия-мастерская и натурщики. «Художнику надо иметь свободное время для живописи и, главное, свободную голову от мысли о ней», — говорил Роберт Фальк, который сам многого при советской власти был лишен. В то время как признанных писателей и поэтов, находившихся в оппозиции к советской власти (или принудительно зачисленных в эту категорию), даже из сталинских времен вышло немало, не так уж много художников в советскую эпоху добилось признания, пребывая в андеграунде.
По этим причинам социалистический реализм восторжествовал на советском художественном пространстве даже без явно выраженных прямых кампаний и громких репрессий. Отдельные художники, вроде Яковлева или Дейнеки, позволяли себе выбиваться из поставленных рамок, но не сильно и не слишком демонстративно. Зато художнику не нужно издательство, и отсюда еще одна особенность, характерная для ведущих художников того времени: обеспечив себе безбедное существование за счет выполнения конъюнктурных заказов, они не переставали работать «для себя». Так, Сергей Васильевич Герасимов всегда считался ярчайшим представителем социалистического реализма благодаря своим монументальным работам на темы становления советской власти и портретам руководителей партии и государства. Но в настоящее время куда более известными стали его работы совсем в другой ипостаси — как тонкого и лирически-задушевного пейзажиста с уклоном в русскую старину. А однофамилец Сергея Васильевича, Александр Михайлович Герасимов, прослывший любимым художником Сталина и создавший известную всем советским гражданам картину «Ленин на трибуне», вместе с тем рисовал прекрасные натюрморты и портреты.
Вот приструнить возможные поползновения разболтавшейся художественной братии и была призвана кампания, которая началась с обширной статьи «Против натурализма в живописи» за авторством некоего Виктора Сажина в «Комсомольской правде» от 6 июля 1948 года. Уровень обвинений, которые Сажин обрушил на многих заметных представителей художественной элиты того времени, вполне соответствует его представлению в подписи к статье как «инженера-конструктора». Обычный прием пропаганды того времени: осудить устами «человека из народа» — чем же вы занимаетесь, товарищи художники, и в чьих интересах действуете, если вас простые граждане не понимают? С другой стороны, такой источник критики означал некую «неофициальность» кампании и возможность поспорить — все серьезные обвинения исходили напрямую из Оргбюро или Политбюро ЦК ВКП(б), решения которых сомнению не подвергались.
Вот этот «инженер-конструктор» и громит художников за некий «натурализм» — в который якобы они впали как в крайность, противоположную «формализму» (под последним, напомним, подразумевались крайние импрессионисты и абстракционисты, без разбора на отдельные течения). Избавившись от «формализма» еще в двадцатые годы, согласно Сажину, художники впали в «фотографическое копирование» действительности. Что любопытно, авторы статьи, кто бы они ни были на самом деле, в этом не так уж не правы: «фотографического копирования» в советском искусстве действительно можно найти предостаточно. Вот только конкретные объекты такой критики подобраны неудачно: картины А. Герасимова, И. Грабаря, В. Яковлева, С. Герасимова даже на вполне одиозные темы можно обвинить в чем угодно, но только не в натурализме в истинном понимании этого термина.
Статья, естественно, вызвала много откликов в печати, среди которых были попытки разобраться с преподаванием в художественных вузах, с руководством Академии художеств, Оргкомитета Союза художников и прочими официальными инстанциями (включая даже Комитет по делам искусств Совета Министров), а также с отдельными художниками. Например, статья Е. Котовой в «Советском искусстве» от 28 августа требует разобраться с руководством Московского художественного института им. В. И. Сурикова, персонально называя фамилии преподавателей, разбирая работы дипломников и выпускников.
Весь этот дым, конечно, никакого отношения к сути статьи Сажина не имеет и иметь, очевидно, не был должен: статья самой своей откровенной терминологической безграмотностью была предназначена для использования в качестве предлога для разборок, которые и последовали. Тем более удивительно, что в ряду других откликов в «Советском искусстве» от 24 июля 1948 года была опубликована и резко критическая статья за подписью некоего В. Ситника. В ней автор никого персонально не обвиняет, а последовательно разбирает случаи, приводимые Сажиным, и аргументировано доказывает, что он «строит свои доказательства на случайных примерах» и «в качестве натуралистов у него выступают художники самых различных направлений». Даже больше: В. Ситник возражает против употребления самого термина «натурализм», замечая, что «натурализма, как определенного течения, как вырождения реализма, уже давно не существует, ибо он стал одной из разновидностей формализма», и, продолжает Ситник, именно «влияние формализма остается главной опасностью для советского искусства». Тем самым статья как бы откатывает идеологические установки в живописи к исходным позициям до появления всяких Сажиных.
Показателен сам факт появления статьи в такой тональности: как мы говорили, изрекающие неоспоримые истины партийные идеологи в этой истории не просматриваются, зато обнаруживается, что у ее инициаторов есть вполне влиятельные противники. Что еще раз доказывает показательный, превентивный характер кампании без конкретных оргвыводов, которые оставили на усмотрение руководства «на местах». Характерно, что знакомый нам Яковлев, также один из фигурантов статьи Сажина, в 1949 году как ни в чем не бывало получит вторую Сталинскую премию, причем как раз за вполне «натуралистическую» картину «Колхозное стадо».
Анчаров, прирожденный спорщик и нонконформист, не мог не вмешаться в дискуссию по предмету, в котором, как ему казалось, действительно разбирался. Он воспользовался тем, что «Комсомолка» в аннотации к статье Сажина пригласила «читателей высказаться по затронутым в статье вопросам», и накатал письмо в редакцию на 14 страницах. Письмо, отправленное 12 августа 1948 года, конечно, совершенно не соответствует канонам подобного рода критики: формулировать претензии напрямую («главный порок теоретических высказываний автора», «главный грех статьи») в статье, предназначенной для печати, не принято. Но не в этом главное.
Суть претензий к В. Сажину изложена на первых страницах письма Анчарова и вообще-то очевидна любому грамотному читателю: Сажин подменяет одно понятие другим (натурализм формализмом), а потом громит уже второе под именем первого. Потому Анчаров начинает письмо с определения терминов «натурализм» и «формализм», чтобы избежать разночтений. А через несколько страниц —великолепное китайское изречение: «если ты обращаешься ко мне с речью, то говори со мной на одном языке, ибо как ты хочешь, чтобы я постиг твои мудрые мысли, если мне непонятны слова, которые ты произносишь». Это — кредо! Можно спорить с тем, как правильно эту мысль приложить к живописи и что из этого вытекает для художника, но и без того позиция выражена ясно. С таким девизом можно жить и творить, написать его себе на знамени — только, желательно, никогда не забывать, что это лишь твое собственное мнение и никто другой не обязан ему следовать. Анчаров сам потом скажет (из «Записок странствующего энтузиаста»): «Главное правило для художника — быть исключением».
А вместо этого остальной объем письма посвящен разбору конкретных примеров, которые Анчаров считает положительными и отрицательными, и думается, что далеко не со всеми выводами молодого Анчарова согласился бы Анчаров зрелый. Автор занимается совершенно несвойственным ему делом: пытается разговаривать с оппонентами на их языке, обвиняя и возводя в ранг общественно неприемлемого то, что не нравится ему лично. Даже не просто «вот это формализм, значит, плохо», а «это мне не нравится (этого я не понимаю), значит, это формализм, значит, это плохо». Анчаров так старается подстроиться под уровень газетных дискуссий того времени, что не замечает, как впадает в тон «профессиональных искусствоведов» с их стремлением все подогнать под шаблон: подход, который он потом с такой иронией отвергнет в повести «Этот синий апрель»:
«И дипломницы даже завывали от раздражения, они кричали грубыми словами — эклектизм, эпигонство, нет своего лица, нет рисунка, нет композиции, эстетствующий натурализм, архаический формализм, провинциализм, изм, изм, — кричали они и притопывали озябшими ногами.
— А фашизма там нет? — спросил Панфилов.
И тогда и теперь Гошку интересовало только это.
— А фашизма там нет? — спросил Панфилов.
Они испугались и затормозили, сказали, что нет, фашизма там нет.
— Тогда, может быть, это своеобразие? — спросил Гошка».
В письме заметно и влияние Яковлева, ненавидевшего «формалистов» в лице Пикассо. Молодой Анчаров вполне с ним солидарен, хотя спустя годы будет над этим иронизировать (из «Записок странствующего энтузиаста»): «Но потом Пикассо сделал голубку мира и вступил в компартию, такой конфуз…» Сложность понимания живописи позднего модерна в том, что классический импрессионизм, поставив во главу угла «впечатление», спустил лавину: нельзя ли в таком случае вообще избавиться от формы, оставив одно впечатление? Отсюда всяческие экспрессионизмы, кубизмы и супрематизмы и знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича как крайнее воплощение этой идеи. Произведение любого направления абстракционизма с первого взгляда кажется поделкой шарлатана, не умеющего рисовать и пытающегося заморочить голову зрителю, в искусстве ничего не понимающему. И ведь действительно на волне разнообразных проявлений абстракционизма таких шарлатанов поднялось немало, и не осталось никаких внятно сформулированных и понятных любому критериев, позволяющих отличить их от настоящих художников: мазок, тени, цвет, рисунок, композиция — почти все это перестает иметь какую-то значимость. Остается только твое личное впечатление и… то, насколько лично тебе понятен и близок тот самый язык, на котором тебе пытаются что-то сказать.
Потом, через много лет, Анчаров станет первым (и, возможно, единственным), кто вернет нам, простым зрителям, бесповоротно утерянный, казалось бы, критерий отличия искусства от поденщины и шарлатанства. Ведь «личное впечатление», даже если оно умножено на тысячи поклонников, — не критерий, как и «самый продаваемый» — не критерий, и даже «самый популярный» — не критерий, потому что иначе придется признать, что лучшим писателем XX века был автор вестернов Луис Ламур с его миллионными тиражами. Что — при всем уважении к этому писателю, создавшему целый мир, и автору того шаблона восприятия «Дикого Запада», которому потом следовали десятки писателей и сотни кинофильмов, — будет неправдой, и сам Ламур, оценивавший своей творчество довольно трезво, несомненно, с этим согласился бы. Но писателей еще можно оценивать по чисто литературным качествам (хотя после Джойса и Пруста и этот критерий был в значительной степени размыт), а вот с художниками почти с самого начала ХХ века — просто беда.
Анчаров вернул нам, простым читателям и зрителям, стремительно ускользающую при взгляде на картины Кандинского, Брака или даже Пикассо почву, заявив в повести «Золотой дождь»: «художник, даже если он написал одну картину, которая может переломить жизнь только одного человека, — гений». Это, конечно, намеренное преувеличение, причем сразу по двум причинам: и потому, что «гений» — это все же несколько иное, и потому что «переломить» — тоже чересчур, так и видишь, как прозревший уголовник побежал творить добро. Но сама мысль глубоко верна и понятна любому — если хоть кого-то проняло до глубины души, то это уже искусство, и не имеет при этом значения ни стиль, ни направление, ни школа.
Единственно правильный подход к художникам, как учил нас Анчаров уже зрелый, — делать заключения от вдумчивого впечатления о картине, а не пытаться подогнать ее под какие-либо «измы» и прочие предвзятости. Иначе можно промахнуться с точностью до наоборот. В «Записках странствующего энтузиаста» Анчаров от первого лица описывает, как они с подругой приходили к ее учителю, к живописи которого относились с предвзятостью, считая ее «пыльной»:
«Главное, что все было серое, пыльное. Фанера изнутри была выкрашена в серый цвет, холсты стояли у стенок тыльными сторонами наружу, свет был пыльный и серый, луч света пыльный, натурщица пыльная, холст пыльный, роба художника была серая, полы серые, и живопись зеленовато-серая»[80].
А потом он попросил подругу притащить ее портрет, который этот художник писал:
«Я сказал:
— Это живопись!..
— Но ты же только что говорил другое… Я ей сказал:
— Неважно, что я говорил… Я гнида и осел… И мы с тобой — ослы… А он художник.
Она сказала:
— Я не могу так быстро менять мнения. А я сказал:
— А ты не меняй… А просто открой глаза и смотри. Она сказала:
— Что ты от меня хочешь? А я сказал:
— От тебя — ничего… Просто мы были слепые, а теперь мы видим… Ведь никто же не виноват, что сначала мы были слепые, а теперь увидели… Но мы виноваты в том, что мы болтали чепуху, когда не видели.
Я ей сказал:
— Давай поклянемся… не торопиться… никогда не торопиться… Потому что а вдруг мы что-то говорим потому, что мы просто не видим?.. И можем наделать вреда… А когда мы не видим, то все не будет иметь никакого значения… но мы можем страшно повредить чему-нибудь».
Описанные здесь события, вероятнее всего, относятся уже ко времени учебы в институте, а сейчас мы ненадолго вернемся к судьбе письма в «Комсомольскую правду». Анчаров получил отклик на свое письмо, и его даже собирались опубликовать в «Советском искусстве», изъяв, правда, критику некоторых художников: Сарьяна, Кончаловского, Конёнкова, которых он бездумно объявляет «формалистами», противопоставляя их защищаемым Яковлеву и Герасимову. Но статью изъяли из набора, и Анчаров собирается настаивать. Сохранился фрагмент черновика, в котором Анчаров по совету некоего «работника отдела» А. К. Лебедева[81] обращается лично к А. А. Жданову с такими словами (напомним, перед нами черновик, и не стоит упрекать автора за некоторую неряшливость формулировок):
«Мне 26 лет, я участник войны, трижды награжден, по профессии я так же, как и Сажин, не художник, я не графоман, за литературными лаврами не гонюсь, и, по совести, мне уже давно хотелось махнуть рукой на все это и отказаться, однако я все еще продолжаю упорствовать потому, что так велит мне моя партийная совесть».
Отправлено было это письмо, или нет, не очень важно: в конце августа 1948 года А. А. Жданов, злой гений советского искусства, заболел и скончался. Статья Анчарова не была опубликована даже в урезанном виде. Для того чтобы разобраться, хорошо это или нет, следует задаться вопросом: какую «вину» имеет в виду Анчаров, когда в цитированном выше отрывке из «Записок странствующего энтузиаста» говорит: «мы виноваты в том, что мы болтали чепуху»? Это ведь относится не только к личной критической оценке художников, которым, по большому счету, плевать на мнение какого-то там студента. Но им может быть очень не наплевать на то, что такое мнение появилось в печати. В этом еще одна из непонятных сейчас особенностей сталинской эпохи — печатное слово имело огромный вес, оно обязано было выражать текущую линию партии. Шельмование кого бы то ни было в газете, кем бы это ни было подписано, означало официальную позицию и чаще всего имело вполне материальные последствия. Правда, статус официального вердикта, обязательного к исполнению, такое мнение приобретало, только будучи опубликованным в главном печатном органе ЦК — «Правде». Но нельзя было позволить себе игнорировать и другие печатные издания — мало ли по чьей инициативе могла появиться та и или иная критическая публикация?
У Александра Галича есть песня «Вальс-баллада про тещу из Иванова», которая как раз посвящена теме судьбы художника, пытавшегося следовать своим путем:
Ох, ему и всыпали по первое,
По дерьму, спеленутого, волоком!
Праведные суки, брызжа пеною,
Обзывали жуликом и Поллоком[82].
Раздавались выкрики и выпады,
Ставились искусно многоточия,
А в конце, как водится, оргвыводы —
Мастерская, договор и прочее…
Он припер вещички в гололедицу
(Все в один упрятал узел драненький)
И свалил их в угол, как поленницу —
И холсты, и краски, и подрамники…
Вот именно подобные последствия и имел в виду зрелый и поживший Анчаров, выставляя столь резкую оценку предвзятому и непродуманному мнению: «мы можем страшно повредить чему-нибудь».
Как мы видели из рассмотрения творчества крупнейших официально признанных художников советского и, в частности, сталинского периода — им многое разрешалось в случае, если они проделывали положенное количество поклонов и реверансов в сторону официальной линии. Но молодым художникам этого «не светило» совершенно: они могли или рисковать попасть под обвинения в каком-нибудь очередном «изме» и навсегда расстаться с живописью, или, ломая себя, строго следовать по разрешенной и одобренной канве. Даже уйти в андеграунд, то есть работать дворником или истопником, на досуге предаваясь любимому занятию (за что впоследствии Борис Гребенщиков назовет своих ровесников «поколением дворников и сторожей»), в сталинские времена было затруднительно: от недоброжелательных доносов никто не был застрахован. Кроме того, как мы уже говорили, для полноценной деятельности художнику необходимо много такого, чего домашний любитель живописи был лишен: прежде всего, ни о каком выставлении своих работ, конечно, мечтать не приходилось.
Представляется, эта обстановка была не последней в ряду причин того, что многообещающий начинающий художник Михаил Анчаров впоследствии так и не смог найти своего места в живописи. Осознание того вреда, который он мог наделать своей — вполне искренней — статьей, если бы ее опубликовали, пришло к нему, несомненно, именно на этом этапе. Но, чтобы в этом разобраться, надо было сначала закончить институт и изнутри понять, что представляет собой ремесло художника.
К этому времени в жизнь Анчарова входит Татьяна Ильинична Сельвинская — дочь известного советского поэта Ильи Сельвинского, в будущем известная художница. Семья Анчаровых поддерживала отношения с женой Ильи Львовича, Бертой Яковлевной Сельвинской, потому, скорее всего, молодой Анчаров был знаком с Татьяной издавна. Сблизились они, вероятно, после окончания войны, когда Анчаров вплотную занялся живописью, и у них с Татой, с малолетства бравшей уроки живописи, появились общие интересы. К тому же в 1948 году она уже поступила в МГХИ им. Сурикова (в просторечии — Суриковский институт), где преподавал В. Н. Яковлев и куда собирался поступать Анчаров.
Илья Львович Сельвинский (1899– 1968) — известный советский поэт. Имел редкую национальность «крымчак» — так называют малочисленную этническую группу, проживавшую на территории Крыма, исповедовавшую иудаизм и говорившую на диалекте крымско-татарского языка (по одной из версий, крымчаки вместе с близкими им караимами представляют собой потомков хазар, по другой — обособившуюся группу иудеев, переселившихся с Ближнего Востока во времена римских гонений). Сельвинский имел бурную и неровную биографию: во время Гражданской войны воевал в составе РККА, в двадцатые годы был одним из основателей литературной группы конструктивистов, публично спорил с Маяковским (после самоубийства последнего каялся). В тридцатые годы писал стихотворные драмы, в качестве корреспондента «Правды» участвовал в челюскинской эпопее, в 1937–1938 годах подвергся резкой критике от имени Оргбюро ЦК, но ареста избежал. С 1941 года участвовал в Великой Отечественной, сначала в звании батальонного комиссара, затем подполковника. В 1943 году был вызван в Москву, где его принудительно демобилизовали и подвергли разносу за некоторые публикации (по версии критика Бенедикта Сарнова, был спасен от ареста лично Сталиным с иронической репликой: «С этим человеком нужно обращаться бережно, его очень любили Троцкий и Бухарин»). Вернулся он на фронт только в апреле 1945 года. Как мы уже говорили (см. главу 2), Илья Львович Сельвинский в довоенное и послевоенное время вел поэтический семинар для студентов ИФЛИ и потом Литинститута им. М. Горького, из которого вышло большое количество известных впоследствии поэтов, в том числе и стоявших у истоков авторской песни.
Дочь Ильи Львовича Татьяна Ильинична Сельвинская (р. 1927) — известная художница-сценограф и живописец, выпустила три сборника стихов. Детство ее прошло в Доме писателей в Лаврушинском переулке и в писательском поселке Переделкино, среди выдающихся людей, таких как Борис Пастернак, Корней Чуковский, Генрих Нейгауз, Леонид Леонов, Святослав Рихтер и других. С 11 лет училась у одного из самых известных ныне советских художников Роберта Фалька. Оформила более 150 (по другим сведениям, около 200) спектаклей в ведущих московских и региональных театрах, написала более 700 портретов и более 3000 картин. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1994), почетный член Российской академии художеств (2012). Детское прозвище Тата потом останется за художницей на всю жизнь, став чем-то вроде ее псевдонима — оно отражено даже в имени официального сайта художницы.
Анчаров и без того не слишком верил в свои силы и боялся поступления в художественный институт, а кампания, инициированная статьей Сажина, эту неуверенность усилила. Всем стало казаться, что сейчас последуют оргвыводы, что Яковлева, единственного, у кого Анчаров желал учиться, уволят из преподавателей Суриковского института.
Летом 1948 года Тата Сельвинская, будучи на практике в Крыму в поселке Козы (ныне — Солнечная долина Судакского района), пишет Михаилу несколько писем. В письме от 2 июля она передает слухи по поводу института, которые действительно могут напугать:
«Перемены в институте будут страшнейшие. Директором — Федор Богородский!!! Снимают 19 штук учителей!!! Ужас!!! Но, вероятно, будет интересно учиться (в том случае, если меня не выгонят из института)».
Она и сама побаивается перспективы, открывающейся перед ней в институте:
«Еще забыла рассказать, чем дышу. Дело в том, что дышать нечем. Запугали меня здесь насмерть такими фразочками: 1) если рисунок будет лучше живописи — графический факультет обеспечен; 2) если будете писать акварелью (а я как раз ею пишу) — графический факультет обеспечен; 3) если не будет ни рисунка, ни живописи — выгонят из института. Одним словом, боюсь работать, боюсь не работать, замучили меня совсем. Благо море под боком: никогда не поздно утопиться».
Под влиянием этих слухов Анчаров засобирался поступать в институт попроще — на художественный факультет Государственного института кинематографии (ныне — ВГИК), где кафедрой живописи и рисунка как раз заведовал упомянутый Татьяной член-корреспондент Академии художеств СССР Федор Семенович Богородский. Бывший чекист и член Ревтрибунала, Богородский прославился портретами дореволюционной босоты и революционных матросов, а в 1946 году получил Сталинскую премию за картину «Слава павшим героям». Из такой характеристики понятны три восклицательных знака, сопровождающих его упоминание в письме Сельвинской. Сам институт кинематографии Татьяна характеризует кратким: «А ГИК довольно ужасен. Конечно, советовать не хочу, в особенности, когда меня не спрашивают, но все же никогда не вредно высказать свое мнение».
Несмотря на такой отзыв, Анчаров подал документы в ГИК, о чем свидетельствует сохранившийся в его архиве «Экзаменационный лист». Тем временем ситуация в Суриковском налаживается, и в письме от 14 июля Татьяна успокаивает Михаила:
«Теперь поговорим на более серьезные темы. Директором будет Модоров[83]. Заведующим живописным факультетом — В. Яковлев. И вообще я Вам советую подавать и в наш институт, а ближе к экзаменам разберетесь. Особенно бояться ГИКа Вам не следует, т. к. обычно туда попадают те, которых не приняли к нам. Что касается знакомств, то самое близкое знакомство у меня с… Фальком (!) (см. примечание далее — авт.). Сами понимаете. Кроме того, Яковлев Вам всегда сумеет помочь, лишь бы он замолвил за Вас слово до просмотра экзаменационной комиссией. Да еще как зав. он (Яковлев) вообще всемогущ».
О Роберте Рафаиловиче Фальке (1886–1958), известном советском живописце и первом учителе Т. И. Сельвинской, стоит рассказать подробнее: вероятнее всего, именно он упоминается в повести «Записки странствующего энтузиаста» в качестве «пыльного» учителя подруги. Р. Фальк работал в собственной оригинальной манере, соединившей пути русского модерна и авангарда с классикой.
Через увлечение авангардом пришел к пониманию старых мастеров, а в конце жизни записал: «Только теперь мне кажется, что я созрел для настоящего понимания Сезанна… Как грустно и обидно! Прожил целую жизнь, а только теперь понял, как надо по-настоящему работать». Р. Фальк был в первые годы советской власти одним из создателей системы художественного образования и профессором ВХУТЕМАСа (учебное заведение, впоследствии переименованное в МГХИ им. В. И. Сурикова), причем в его мастерской студенты учились вполне классическому рисунку и приемам живописи. После возвращения из творческой командировки во Францию в 1938 году был объявлен «формалистом» и исключен из числа официально признанных художников. В годы оттепели его имя начало было снова звучать на публике, но уже после смерти, на печально известной выставке «30 лет МОСХа» в 1962 году, где Хрущев (понимавший в живописи, наверное, еще меньше Сталина) устроил настоящий разгром художникам, наибольший высочайший гнев вызвали картины именно Фалька. Несмотря на такое официальное неприятие, многие заслуженные художники того времени считали Фалька своим учителем.
Илья Эренбург, который в своей книге «Люди, годы, жизнь» посвятил Роберту Фальку много теплых слов, писал о работе художника в годы опалы:
«Он работал до самой смерти, исступленно, мучительно, уничтожая холсты, в десятый раз замазывая; соскребал краски, нараставшие, как струпья, и снова писал; в пятый, в десятый раз возвращался к той же модели, к тому же натюрморту. Он работал и когда его выставляли, и когда перед ним закрылись все двери; работал, не думая, выставят ли его холсты, — говорил не потому, что перед ним был набитый людьми зал, а потому, что у него было много что сказать».
К тому времени (в 1947 году Татьяне Ильиничне исполнилось 20 лет) она уже была замужем и по мужу носила фамилию Иванова. С этим связана одна забавная деталь, которую она описывает в этом письме:
«Теперь о Сельвинской. Дело в том, что письма, присланные авиапочтой, выдаются только по паспорту, а я паспорт еще не меняла. А тут еще мне прислали два письма на Иванову, и на почте их не отдают. Поэтому я придумала блестящий выход из положения: я, как Иванова, напишу доверенность Сельвинской на получение писем. В конторе мне обещали поставить печать. Редкий случай, когда я настолько доверяю самой себе».
В третьем письме Анчарову из Крыма от 23 июля 1948 года есть интересная подробность: судя по всему, Анчаров сообщил Сельвинской своем письме-отклике в «Комсомолку», но Татьяна Ильинична в грош не ставила теоретические споры о направлениях и ярлыках в живописи:
«“Комсом. правду” мы, конечно, читали и совершенно с нею согласны. Не совсем понимаю, в каком духе написана Ваша статья и в чем заключаются Ваши возражения. Написать об этом Вы почему-то не сочли нужным».
Влияние кампании на кадровые перестановки еще, судя по всему, неясно, но особых тревог у Сельвинской уже нет:
«Кроме того, не совсем понятны ваши колебания относительно выбора института. Не понятно, почему Вам непременно нужен окольный путь вместо прямого. Не зная Ваших работ, трудно что-нибудь сказать, но ведь у Вас есть одобрение В. Яковлева?
Кстати о нем. В связи со статьей в “Комсом. Правде” в Москве заварилась дикая каша. Никто ничего не понимает и не знает, чем все это кончится. Ходят такие предположения, что все вообще останется на своем месте.
Ничего определенного, во всяком случае, нет. Так что решайте сами, как Вам поступать».
И в последнем крымском письме от 28 июля неприкрытое раздражение на нерешительность Анчарова:
«Очень прошу меня извинить, но как-то не могу сочувствовать Вам по поводу ГИКа. Я совершенно не понимаю, почему Вы туда подали раньше, чем в наш институт. Кроме того, всегда можно забрать заявление. В. Яковлев наверняка будет преподавать у нас».
Видимо, не без давления Сельвинской Анчаров наконец преодолел колебания и подал документы в Суриковский: расписка в получении документов датирована 23 августа 1948 года. Сохранилось заявление «заместителю проректора т. Кузнецову» от 15 октября 1948 года, в котором «студент 1 курса» Анчаров просит разрешить «факультативную сдачу теоретических предметов, ввиду того, что все они проходились мною в Архитектурном институте и Военном ин-те иноязыков Кр. армии».
С поступлением в институт он не перестает подрабатывать — согласно «Трудовому соглашению» с Московской швейной фабрикой от 3 декабря 1948 года, Анчаров обязуется оформить заводскую доску почета, в том числе выполнить надписи и орнаменты, а также передать «рабочие размеры для столярных работ», за что ему полагается «восемьсот /800/ рублей».
Позднее в его судьбе принимает участие Илья Сельвинский, который 4 июля 1950 года пишет записку Владимиру Луговскому[86]: «Дорогой Володя! Рекомендую тебе прекрасного молодого переводчика т. Анчарова. Если есть возможность, поручи ему, пожалуйста, какую-нибудь Чехию или Венгрию». Почему были названы именно эти страны — бог весть, ибо ни чешского, ни венгерского языка Анчаров не знал, но в поэтических переводах всегда существовала практика переложения по подстрочнику, и, вероятно, у Анчарова это хорошо получалось.
Сохранились черновики его переводов армянской поэтессы Сильвы Капутикян[87], сделанные в том же 1950 году:
Не запомнить нам такой тишины,
Мы идем с тобой, не разнявши рук.
Что же мы с тобой так холодны
Будто стали мы далекими вдруг,
Будто бы не мы видели сны,
Будто бы не нам не разнять рук
В этот поздний час, час тишины.
Уже после поступления в институт, в октябре 1949 года, Анчаров оформляет развод с Суриковой. Решение о разводе они приняли еще раньше: об этом свидетельствует заявление Натальи Александровны Анчаровой, «проживающей по адресу Тетеринский пер., д. 12, кв. 28», о согласии на расторжение брака, адресованное «в Народный суд Молотовского района г. Москвы» от 22 апреля 1949 года. Полугодовая задержка наверняка есть следствие отвращения Михаила Леонидовича к бюрократическим процедурам: сохранилась недатированная записка Натальи, которая начинается словами «Миша! Тебе следует пойти на прием к судье Молотовского района, приемные часы <…> в среду приема нет. Иметь с собой 100 рублей и передать следующее заявление…».
Наталья Александровна Сурикова закончит Медицинский институт и впоследствии станет уважаемым детским хирургом. Елена Гроднева напишет о своей матери в воспоминаниях о встрече с отцом в 1965 году:
«…Пытался объяснить, почему так все вышло в жизни, почему они с мамой расстались, кто виноват. Вот так же и я (нет, я не говорю, конечно, о таланте, всего лишь о схожести характеров), когда хочу что-то объяснить, стараюсь докопаться до мелочей, додумать за других людей, вскрыть причины их поступков, подтянуть факты, а на самом-то деле все оказывается не так. И причины не те, да и поступки выглядят в итоге не так, потому что все люди разные, чувства и мысли тоже только их и больше ничьи, короче, “чужая душа — потемки”, а психологи всё врут.
Тема их развода была мне тогда безразлична. Восемнадцатилетие — счастливая, безмятежная пора. Семейные проблемы взрослых меня пока не интересовали, тем более что жизнь мамы наладилась. Она уже стала кандидатом медицинских наук (“Хирург от Бога”, — говорили про нее коллеги) и снова вышла замуж. Этот человек стал для меня настоящим отцом: заботливый, добрый, он уделял мне очень много времени. Мы с ним и на лыжах катались, и в Коктебеле через Кара-Даг ходили, и задачи по физике он помогал решать…»
И еще одна деталь из воспоминаний Елены Георгиевны: «…в 1972 году 28 марта (в день Его рождения!) у меня родился сын Артем. Когда я была в роддоме, мама написала мне в записочке: “И все-таки — 28-го!”» Да простят нас читатели за, может быть, несколько чрезмерный пафос, но как тут не вспомнить анчаровское «нас без слез покидали женщины, а забыть не могли вовек».
Глава 4
В поиске
Конец сороковых — начало пятидесятых годов для Анчарова было временем активного поиска себя. Он продолжал искать то главное, чем стоило заниматься, в чем можно себя выразить. Все окружающие, включая и его самого, в это время считали таким занятием живопись — сказалось и давнее увлечение, и похвалы преподавателей, и дружба с Юрием Ракино до войны, и знакомство с настоящим, неподдельным художником Василием Яковлевым, и, главное, собственный несомненный талант. Но уже к окончанию института Анчаров начинает склоняться к тому, что живопись не настоящее его призвание. Учеба в Суриковском не столько помогла, сколько, как мы вскоре увидим, отвратила его от карьеры художника.
А настоящего призвания он не видел. Любой наблюдатель со стороны сказал бы, что молодой человек разбрасывается и впустую тратит время и силы, увлекаясь то рассказами, то картинами, то вообще техническими или биологическими идеями — темами, для которых у него нет ни минимального образования, ни таланта. Анчаров сам лучше всех описал это свое состояние в повести «Золотой дождь»: «…я обнаружил в себе странное качество — метаться, когда все хорошо, и твердо стоять на ногах, когда терять нечего».
Все студенты всех времен солидарны в том, что им в процессе обучения навязывают много лишнего. Самые умные потом жалеют, что пренебрегали тем, что им казалось ненужным, как это мы видели на примере Аркадия Стругацкого, понявшего, что изучение японской культуры в ВИИЯКА как раз «и было самым важным и интересным».
Студент Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова Михаил Анчаров в этом ряду не исключение — скорее наоборот: он относился к самым непонимающим. В «Записках странствующего энтузиаста» он потом вспоминал:
«Были еще подсобные дисциплины, которые на искусстве не сказывались, но на отношениях и, стало быть, на стипендии сказывались. Перспектива, анатомия, технология живописи и, конечно, история искусства — русского и зарубежного».
И из обычной своей любви к хлестким парадоксам добавлял:
«Хотя, вообще-то говоря, было непонятно, как без истории искусств создавались шедевры Греции, Индии, Китая, Японии, Египта, как создавались иконы, когда еще истории искусств не было».
Для Анчарова, который уже к тому времени историю искусств знал дай боже любому, неприемлемым ее изучение быть никак не могло (отметим, что в итоговой выписке из зачетной ведомости, приложенной к его диплому МГХИ, за обе истории искусств — отечественную и общую — ему поставят «отлично»). Он возражал не против самого факта, а против того, как и зачем это делалось (из «Записок странствующего энтузиаста»):
«Казалось бы, образованный художник — хорошо. Но оказывалось, что и здесь, как у всякой медали, есть оборотная сторона. Потому что это было не образование художника, а медаль. Напоказ. К экзаменам. Ничем другим из истории искусств тогда пользоваться не удавалось.
Я не знаю, может ли медаль иметь десятки сторон, но у этой медали — было. Посудите сами. Из всей истории искусств ничем пользоваться было нельзя. По разным причинам. Ни темами, ни сюжетами, ни манерой, ни стилем, ни композицией. Чему можно было учиться? Кто когда родился, и несколько истрепанных мнений? Причем это относилось и к советским картинам. Нельзя было писать, как у Василия Яковлева, у Дейнеки, у Пластова, у ПетроваВодкина, у Кончаловского, у Корина, у Гончарова — это самые известные, но и так далее. У одного слишком гладко, у другого слишком свободно, и у всех вместе — разнобой, разнобой.
Для чего же история искусств? Для трепа? Для зависти? Для птички-галочки в отчете? Это было странное время, когда главным было болтать о Школе с большой буквы. Болтать, а остальное — ни-ни. А можно было только нечто репино-образно-мазистое. Ни темы, ни сюжеты, ни композиция, ни страстность — бедный Репин, — а нечто среднемазистое в переложении Федора Федоровича и иже. А главный Теодор только порыкивал:
— Сязан им нужен, понимаете ли, Сязан. Пикассосы хреновы».
В тех же «Записках странствующего энтузиаста» Анчаров замечательно расскажет о том, как студентов уверяли, что Ван Гог не знал анатомии:
«Один культурный и воспитанный знаток говорил на лекции перед нами, олухами, что Ван Гог и Гоген дилетанты. Почему? Они не знали анатомии. <…> Это надо же, Ван Гог и Гоген — дилетанты, потому что анатомии не знают. Дитю понятно, что анатомия не входила в их эстетическую систему, их картинам анатомия мешала, они пользовались другой выразительностью. А что выражали? Души изменчивой порывы. Анатомии не знали! Да эти “шкилеты” за пару месяцев… по любому атласу… Анатомии не знали! Надо же! Они ж от нее отказались, как такие же дилетанты Эль Греко и Рублев! А профессионал кто ж? Отставной от искусства прохиндей?»
Особенное возмущение у Анчарова даже много лет спустя вызывало учение о перспективе, которое вдалбливали студентам чисто формально. Не надо долго искать, чтобы найти нарушения перспективы даже у крупнейших классических художников, не раз подчеркивает Анчаров в «Записках странствующего энтузиаста», где этой теме посвящено немало страниц:
«Профессор Нехт приносил фотографии с картин классиков, расчерченные перспективной сеткой, и показывал такое количество нарушений, что выходило, непонятно, почему они классики. Но мы-то знали — классики — закон. А Нехт — случайность».
В повести «Роль»[88], написанной им уже в середине восьмидесятых, Анчаров в авторском отступлении очень внятно сформулирует отношение к тому, что в него пытались вдолбить в институте, на следующем примере:
«Таня вошла в пустую башню и укрылась от ветра.
Господи, я даже не знаю, как в эту башню заходят! Сейчас пишу и все время спотыкаюсь на технических подробностях. То ли в справочник лезть, то ли снова ехать собирать материал… Какой материал? “Материал” для того, что будет дальше, весь собран и живет во мне. Из-за него и пишу. А как в башню заходят?.. Крамской посмотрел на картину Сурикова “Меншиков в Березове” и сказал: “Если Меншиков встанет, он пробьет головой потолок избы…” Лев Толстой посмотрел на “Переход Суворова через Альпы” и сказал: “Войска движутся по родам оружия — уланы, гусары и прочее. Значит, у каждого отряда свой цвет мундиров. Художник обязан это знать”. А Суриков ответил: “Мне нужно, чтобы синие мундиры шли вперемешку с красными…” Какой-то специалист по перспективе установил, что в “Утре стрелецкой казни” Суриков передвинул храм Василия Блаженного ближе к кремлевской стене, чем на самом деле он стоит… И что по закону перспективы Ермак в картине “Покорение Сибири” висит в воздухе, и ноги его не достают дна лодки, и что если убрать переднего казака, то это будет видно… А я спросил: “А зачем убирать переднего казака?” Специалист по перспективе не знал этого, и у меня в институте начались неприятности, и мне надо было выбирать между специалистом перспективы и Василием Ивановичем Суриковым… Вообще Сурикову не везло. Лучшая его картина “Степан Разин” специалистами по перспективе была признана худшей. Потому что в картине было неясно, куда именно плывет ладья Степана Разина. Хотя в том, что неизвестно, куда она плывет, и была вся суть сюжета картины. Не картины, конечно, а всего лишь ее сюжета, но тем не менее. Вообще художникам не везло. Нестерову кричали, что если отрок Варфоломей повернется лицом к зрителю, то золотой круг вокруг его головы встанет поперек его лица вертикально, и как же он будет видеть… А у Рембрандта в “Ночном дозоре” до сих пор ищут — откуда падает свет на происходящее в картине, чтобы луч упал на девочку в толпе стрелков? Никак не могут понять, что свет у Рембрандта идет не к картине, а от картины. И что вообще, если от картины не идет свет, то нет либо зрителя, либо картины, и разговор не состоялся… А как входят в башню элеватора? Как надо, так и входят».
Заканчивались такие конфликты одинаково. В «Записках странствующего энтузиаста» профессор Нехт «…бледно улыбнулся и поставил мне, нет, не двойку, двойка — это пересдача, а тройку. А это избавляло его от встречи со мной, а меня — от стипендии на полгода, и надо было писать натюрморты в салон — бра и канделябры и, желательно, фрукты. Где-то они и сейчас висят».
Каждую такую инвективу в адрес тогдашнего обучения художественному ремеслу Анчаров заканчивает ироническим «Так и учились. Говорят, сейчас лучше».
Не все споры с преподавателями, разумеется, заканчивались столь безобидно. Уже в феврале 1949 года опекавший его Яковлев, который в это время болел, вынужден был вмешаться в конфликт Анчарова с неким И. И. Орловым, «преподавателем живописи», который, ни много ни мало, запретил ершистому студенту посещать занятия. Письмо Яковлева директору Ф. А. Модорову написано официальным языком, полнится оборотами вроде «…повели борьбу во имя высоких идеалов социалистического реализма…», «…той антипартийной группы художественных критиков, чья враждебная деятельность…» и так далее — многоопытный Яковлев, очевидно, понимает, с кем имеет дело и в какой тональности вести разговор, чтобы сразу заставить оппонентов замолчать.
Письмо заканчивается просьбой принять «М. Анчарова и парторга курса Н. Тихонова и старосту курса Е. Жигуленкова — они обрисуют тебе сущность вопроса более точно». К письму приложена дружеская записка неустановленному лицу (имя адресата повреждено), очевидно, занимающему какой-то пост в администрации, также с просьбой принять «парторга курса Н. Тихонова и нашего старого знакомца Мишу Анчарова» по вопросу о том, что «некоторые педагоги вновь начинают старую песню, проповедуя импрессионистический дилетантизм». Вопрос, если вдуматься, довольно странный для того Анчарова, каким мы его знаем. Но, если вспомнить письмо в «Комсомольскую правду», которое было написано Анчаровым не далее как полгода назад, вполне вероятно, что тогда он еще не оставил привычки зачислять все непонятое в категорию недопустимого и вредного. Если наложить на это излишнюю категоричность преподавателя и его неумение обращаться со студентами — причем, подчеркнем, студентами, искренне старающимися разобраться, — то формулировка причины конфликта становится не так уж и важна.
В «Записках странствующего энтузиаста» есть один момент, касающийся практики в Переславле-Залесском, много говорящий и о характере Михаила Леонидовича в тот период, и об отношении советского государства к своему прошлому:
«Город Переславль-Залесский. Монастырь. Озеро. Фабрика кинопленки. Летняя практика. Храм Александра Невского, облупленный. Ботик Петра Первого — я его так и не видал. Зато видел, как в небольшом храме Растрелли приоткрылась железная дверь с засовами и табличкой “Охраняется государством” и оттуда вышел человек в ржавом фартуке — реставратор, наверное.
Я заглянул в приоткрытую дверь, услышал металлический визг, будто ножи точат, и увидел мозаичный пол, по которому волокли ящики с пивом, и гвозди и жесть скребли мозаику, и она визжала,
— Вы что же это делаете? — спросил я. И эхо в полутьме: ете, ете… ете…
— Здесь склад, — ответил мужик из полутьмы. И эхо — лад… ад… ад…
Я прибежал к профессору композиции Василь Палычу, болезненному человеку с железной волей, и рассказал, что видел — во мне било ключом общественное негодование.
— Не суйся, — сказал профессор. — Твое дело — композиция».
Почему-то на следующий год после поступления Анчарова попытались забрать в армию. Извилистые пути мысли бюрократов от Минобороны (а может, и от какого-то другого ведомства) нам неведомы — казалось бы, орденоносный фронтовик, уже недвусмысленно отказавшийся от карьеры в рядах силовиков… В архиве сохранилось письмо на бланке лауреата Сталинских премий, действительного члена Академии художеств СССР, Народного художника РСФСР, профессора В. Н. Яковлева от 17 ноября 1949 года с весьма лестной характеристикой ученика: «талантливый юноша», «мы вправе… ждать, что из него вырастет мастер, достойный нашей эпохи». Заканчивается письмо следующими словами:
«Кроме того, Анчаров знает китайский язык, что чрезвычайно редко встречается среди художников.
Иметь квалифицированного мастера, который в дальнейших наших сношениях с Китаем мог бы являться там представителем нашей культуры, — несомненно дело и политически полезное».
Навряд ли Анчаров при его характере пригодился бы на роль «представителя нашей культуры», но письмо, очевидно, возымело действие, и от Анчарова отстали.
В институте Анчаров не только спорил с преподавателями. Он оставил глубокую память в целом поколении отечественных художников — выпускников Суриковского института, учившихся одновременно с ним. Галина Аграновская вспоминала (Аграновская, 2003):
«Как-то мы были в гостях у художника Николая Андронова[89]. Толя (Аграновский — авт.) пел свое и несколько песен Миши. Хозяин, человек строгий и скупой на похвалу, пришел в восторг от “МАЗа”. Спросил, кто автор. Услышав, что Михаил Анчаров, сказал, что они были однокурсниками в Суриковском. “Он был самый талантливый из нас, я удивлялся, что бросил он на середине, исчез…”»
Почти через полвека, когда профессорами и преподавателями станут уже даже не сокурсники Анчарова, а их ученики, выпускница МГАХИ им. В. И. Сурикова 1993 года, скульптор Елизавета Семеновна Фертман в разговоре с одним из авторов этих строк вспомнит, что им рассказывали о способе рисования, который изобрел Анчаров. А важнейшее свидетельство о том влиянии, которое оказал Анчаров на само преподавание рисунка, мы услышали из уст заслуженного деятеля искусств РСФСР, почетного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской спустя 60 лет после описанных событий: «Меня научил рисовать Миша Анчаров». Выдающаяся художница имела именитых учителей — от упоминавшегося Роберта Фалька до известного театрального художника, создателя сценического образа шекспировских героев Александра Григорьевича Тышлера, но именно Анчарова она и в 90 лет вспоминает как главного учителя рисования.
Не удовлетворившись принятыми методиками, которые им вдалбливали в институте, Анчаров действительно изобрел свой собственный способ рисования. Описанию того, как он к этому пришел и в чем прием, условно названный им «линиями» или «переломами», заключался, посвящено много места в «Записках странствующего энтузиаста», куда мы и отсылаем любопытствующего читателя, чтобы не цитировать источник целыми страницами[90]. Здесь отметим только одно: подобно физику Гейзенбергу, который когда-то самостоятельно переизобрел матричное исчисление, понадобившееся ему для описания законов квантовой механики, Анчаров самостоятельно открыл способ, который, конечно, существовал и до него, просто никто никогда не пытался его выделить в качестве самостоятельного приема и включить в программу художественного образования. В «Записках странствующего энтузиаста» он пишет:
«— Врубелем увлекся?.. Зря… — сказал профессор. — Он многим головы заморочил.
И я вспомнил, где я видел нечто подобное. Только в двух работах Врубеля. Потом я нашел еще и третью, “Тамара на смертном одре” — черная акварель прекрасного лица с закрытыми глазами и “Всадник” — неистовый конь и пригнувшийся к гриве человек, тоже черная акварель. Потом, несколько лет спустя, я увидел, что лицо “Сидящего демона” написано так же. Остальное тело было написано обычно. Нужный цвет на нужном месте. По анатомии. Хотя какая у демонов анатомия — сравнивать не с кем. Но это потом, когда “Сидящего демона” наконец впервые после войны выставили в Третьяковской галерее, чтобы мы все видели. А тогда, когда я открыл эти “переломы”, эту картину почему-то не показывали. <…> Однажды он велел своим ученикам сделать по репродукции “Джоконды” рисунок ее рук. Скопировать в рисунке фрагмент картины. Это было необычное задание. Но старик знал, что делал. Ни у кого не получилось. Грубятина или жалобная растушевка. Тогда я одной его ученице рассказал про “переломы”, показал их на натуре и спросил: видишь? Она сказала: “Вижу…” — и засмеялась. Я сказал: “А если попробовать?” — “А ты пробовал так копировать?” — “Никогда…”
Она попробовала. Вечером она позвонила мне по телефону. Она плакала и твердила: понимаешь, получается… понимаешь».
Потом Анчаров находил следы своих «линий» и «переломов» у ЭльГреко и Веласкеса, у Рембрандта и даже у Леонардо да Винчи.
Несмотря на все его споры с преподавателями, поначалу репутацию в институте Анчаров завоевал отличную. В 1950 году студенту II курса Анчарову Михаилу Леонидовичу выдали такую характеристику:
«Студент АНЧАРОВ проявил большие способности в области живописи и рисунка и имеет хорошую успеваемость. Особо следует отметить отличные результаты летней практики, выполненная тов. Анчаровым жанровая композиция в настоящее время экспонируется в Академии художеств СССР. Как коммунист тов. Анчаров принимает большое участие в жизни института».
Анчаров потом много раз обращался к своему представлению, что творчество и вдохновение являются универсальным механизмом создания нового в любой области человеческой деятельности, — это можно найти в каждом его прозаическом произведении. В конце концов эта идея вышла из рамок анчаровского творчества, стала общепринятой, и ее, наверное, можно причислить к главным и бесспорным положительным итогам эпохи. Идея стирала различия между научным и художественным видением мира, которое тогда еще вызывало беспредметные и бессодержательные споры о том, «кто лучше: поэт или ученый» (к дискуссии «о физиках и лириках» начала шестидесятых мы еще вернемся).
Осознав важность этой мысли, Анчаров решает попробовать, как это выглядит на практике — применение методов творчества к смежным областям, — и ему показалось, что получается. В «Самшитовом лесе» он напишет про себя в то время:
«И надо было ждать, когда идеи признают производительной силой, а ждать Сапожников не мог, его бы разорвало, и была такая полоса и такая жажда придумывать, что он каждый день высказывал идеи, которые потом назовут “пароход на подводных крыльях, конвертолет и видеозапись”. И до сих пор еще в журналах “Техника — молодежи” и “Наука и жизнь” появляются давние, отгоревшие сапожниковские новинки, но уже и многие люди умерли, которым Сапожников мог показать журнал и сказать: “А помните?”…»
Очень характерная для Анчарова небрежность: «конвертолетов» не существует, есть «конвертопланы». Ну и как тут серьезно относиться к такому вот изобретателю, который даже терминологию толком выучить не может?
Пытаясь применить свой творческий метод к малознакомым областям, Анчаров заблуждался в одном. Он изучал живопись до войны и после нее, и самостоятельно, и под руководством Яковлева, и в институте, каким бы кривым обучение в нем ни было, оно давало главное, что обязано давать любое обучение: погруженность в питательную среду, откуда и рождается новое. Не из идей, не из принципов и знания механизма открытий, а из питательного бульона, пересыщенного раствора, в котором и происходит кристаллизация нового. Если вы перечитаете «Самшитовый лес» или «Записки странствующего энтузиаста», то увидите, что в предыдущей фразе намеренно употреблена лексика, характерная для Анчарова, потому что так виднее, из-за чего ему удалось кое-что сделать в живописи, еще больше — в песнях или в прозе, но так и не удалось реализовать эту «жажду придумывать» в отношении науки и изобретательства. Хотя ему и очень хотелось убедительно показать на практике, как именно истинно творческий человек «может быть кем угодно, даже кинооператором» (цитата из «Теории невероятности»), но Анчаров совершенно упускает из виду, что для возникновения внутренней «питательной среды» в любой области нужно учиться не меньше, чем он это делал в отношении живописи.
Тем не менее его попытки проникнуть в чуждые ему области заслуживают не осмеяния, а внимания и тщательного разбора — почему, вы увидите. Здесь мы, как уже много раз делали, нарушим хронологические рамки повествования, потому что большая часть идей пришла к Анчарову именно в рассматриваемый период, но затем он излагал и продвигал их на протяжении всей жизни.
Анчаров всю жизнь избегал навязывать свои взгляды и как-то их специально рекламировать. Эта позиция выражена в «Самшитовом лесе» в образе изобретателя Сапожникова, который был полон идей, но никому не пытался их «продать» и даже не стремился застолбить за собой авторство, только ходил и предлагал «в пространство». Хотя ему многие объясняли, что такое отношение автоматически переводит его изобретения и идеи в разряд несерьезных: «У Сапожникова было много идей, но он их не скрывал, потому никто его и слушать не хотел. Серьезными идеями не бросаются, их приберегают для себя, а несерьезные — кому они нужны». В «Теории невероятности» Анчаров бросит фразу, которая многое объясняет в его отношении к этой стороне жизни: «Счастье — это когда можно выдумывать и бросать идеи пачками и не заботиться о том, что они не осуществятся». Анчаров вместе со своими персонажами полагал, что общество должно само дозреть, причем не просто до идей — до самого способа их производства, отказаться от всего лишнего и наносного, что всегда сопровождает процесс внедрения любой идеи в практику.
Это полностью утопическое представление немало повредило и самому Анчарову. Хотя его повести и романы обычно оканчивались на оптимистической ноте: общество прозревало, амбициозные оппоненты переходили на сторону ранее гонимого, изобретения волшебным образом признавались — но в жизни, увы, этого не происходило и в обозримом будущем вряд ли произойдет. История знает (или забыла) огромное количество прозорливых изобретателей, которые или действительно были не ко времени, или просто не сумели пробиться.
Известно ли читателю, например, о том, что телевидение изобретали, наверное, с десяток раз в разных странах, начиная со второй половины XIX века? И лишь только одному Владимиру Зворыкину на рубеже 1930-х удалось пробиться в толерантной ко всем новшествам Америке. Бесполезно говорить о не готовой технической базе, не созревших социальных условиях и т. п. — есть много изобретений, для которых в момент появления еще «не созрели условия», но потом они были подхвачены (жидкокристаллические дисплеи, литиевые аккумуляторы, солнечные батареи, микросхемы и т. п.). Здесь же подхвачено было именно изобретение Зворыкина, который, разумеется, тоже «стоял на плечах гигантов» — а именно российского профессора Бориса Львовича Розинга, построившего прототип телевизионной системы еще в 1912 году, учеником которого и был юный Зворыкин. Конечно, Зворыкин полностью переработал идеи Розинга, и его изобретение вполне самостоятельное. Но ему бы нипочем не войти в историю, если бы в него не поверил богатый предприниматель Давид Сарнов (кстати, тоже российского происхождения). А до этого Владимир Козьмич лет десять пытался внедрить это изобретение в разных фирмах, но везде получал отказ.
Сапожников на его месте давно бы сдался и стал ожидать «пока общество созреет». И телевидение, вероятно, возникло бы все равно, но усилиями совсем других людей и позже, а Сапожников бы потом только восклицал «ах, как я все угадал!» (как это делал сам Анчаров в отношении вполне очевидной уже во времена его молодости идеи записи телевизионного сигнала). В непонимании того, что сама идея даже вместе с разработкой экспериментального образца (до чего герои Анчарова, как правило, все равно не доходили ввиду технической безграмотности автора) — исчезающее малая доля всей необходимой работы для массового внедрения, и кроется главная уязвимость позиции Анчарова. Стоит, правда, заметить, что как раз в те годы, когда Анчаров задумывал «Самшитовый лес», на Западе распространилось представление о «венчурном финансировании» — инструменте поддержки начинающих изобретателей и предпринимателей. Но, во-первых, от советских реалий это отстояло настолько далеко, насколько возможно, во-вторых, за получение поддержки таким путем тоже надо бороться, а не ждать, пока придет богатый дядя, протягивающий пачку денег за одну только красивую идею.
Анчаров отнюдь не возводил дилетанта на вершину творческого процесса, как это может показаться при поверхностном чтении его прозы. Он ратовал за профессионализм, но выступал против сопутствующего специалистам снобизма в отношении непрофессионалов (из «Самшитового леса»):
«Что есть дилетант?
Обычно подчеркивают его безответственность. Дела толком не знает, а уже лезет с рекомендациями. Увы, это правда. Но у дилетанта есть и другая сторона — безбоязненность в соображениях. Хорошо это или плохо? А никак. Все зависит от дальнейшего. Дилетант не запутан в подробностях и легче отрывается на свободную выдумку. А дальше либо он увязывает догадку с тем, что известно, и перестает быть дилетантом, либо не может увязать. И тогда остается тем же, кем и был, — дилетантом. <…>
Думали, что солнце всходит и заходит. А когда Коперник догадался, что это не так, он был дилетантом. А когда все увязал и подтвердил — стал профессионалом. Когда химик Пастер догадался, что микробы причиняют болезни, он был дилетантом в биологии, а когда доказал это — стал профессионалом в новой науке.
Поэтому не страшно, когда дилетант выдумывает, страшно, когда он настаивает, чтобы реальная жизнь разом перестроилась под эту выдумку».
Надо сказать, многие изобретения в реальности действительно делались дилетантами, что может служить блестящим подтверждением идей Михаила Леонидовича. Яркий пример этого представляет одно из самых значимых изобретений в новейшей истории — постройка телеграфа Самюэлем Морзе. Великий изобретатель до того, как увлекся телеграфом, был, между прочим, признанным художником-портретистом и даже основателем и президентом существующей до сих пор Национальной академии дизайна в Нью-Йорке — чем не анчаровский типаж? Отличие, однако, Морзе от Сапожникова в том, что бывший художник не ждал, когда кто-то более технически подкованный подхватит его идею и загорится воплощать ее на практике, — он все сделал сам, по мере необходимости привлекая компетентных консультантов со стороны.
Проще всего показать истинное место, которое занимают практические результаты анчаровского увлечения изобретательством, подробно разобрав самый известный пример, в пропаганду которого он сам вложил немало сил.
Анчаров до конца жизни так и не понял, почему идея «вечного двигателя Сапожникова» не заинтересовала специалистов. Подробнее, чем в «Самшитовом лесе», где представлена только голая идея генерации энергии за счет всегда существующих ее потоков, эта конструкция была представлена Анчаровым в статье, опубликованной в 1987 году в журнале «Студенческий меридиан» под рубрикой «Мастерская 2030»[91]. Принцип работы описан в статье следующим образом (см. иллюстрацию):
«Если аммиачным газом наполнить пустотелый диск и начать его вращать на пустотелой оси и одновременно охлаждать, то от центробежной силы газ соберется к краям диска, образуя нужное небольшое давление, и от охлаждения превратится в жидкость. Если же теперь по краям диска сделать косые отверстия и снять охлаждение, то вырвавшийся газ провернет диск на оси, так как диск стал реактивной турбинкой. А если этот газ собрать под колпак и пропустить сначала через обычную трубку-змеевик, охлаждаемую водой, и этот охлажденный газ впустить через ось в тот же полый диск, который, вращаясь, снова создаст давление все той же центробежной силой, то цикл замкнется, и все начнется сначала, то есть нужен только стартер, чтобы раскрутить диск и превратить его в турбину, а дальше двигатель станет работать сам, так как перепад температур между воздухом и водой сохраняется, а аммиак, становясь то газом, то жидкостью, совершает работу. И можно, подключив динамо[92], получать электричество».
Сейчас по описаниям в интернете можно в пять минут установить, что идея «вечного двигателя Сапожникова» есть не что иное, как давно известная идея теплового насоса, изобретенного еще в середине XIX века австрийским инженером Петером Риттер фон Риттингером по теоретическим представлениям знаменитого физика лорда Кельвина. Из поздней повести «Козу продам» (1988), мы узнаем, что Анчаров был об этом осведомлен: «Еще я мог предложить фактический вечный двигатель, на который в реальной жизни никто не обратил внимание, но его чертеж и идею опубликовали в журнале «Студенческий меридиан». И начали поступать письма. Оказалось, что идея теплового насоса, как его называли, не моя и не нова – и хрен с тем, чья она: лишь бы он был осуществлен. И ссылались на патенты и профессора, который этим занимается».
Практическое воплощение эта идея нашла впервые как раз в те годы, когда над ней размышлял Анчаров, — в 40-х годах ХХ столетия, когда изобретатель-энтузиаст Роберт Вебер построил тепловой насос для отопления собственного дома. По сути — и по конструкции тоже — это холодильник наоборот: отдавая в окружающую среду холод (то есть поглощая рассеянное тепло), можно получить энергии больше, чем затрачено. В наше время это всего лишь один из многочисленных способов сбора рассеянной энергии из окружающей среды — наряду с гидротермальными станциями, солнечными батареями, электростанциями приливными, волновыми, ветровыми и т. п., правда, используется он не для выработки электроэнергии, а для отопления (почему — см. далее). Сейчас любой может приобрести установку теплового насоса для отопления загородного дома — они выпускаются и отечественными, и зарубежными фирмами. Такая установка будет работать либо, как у Анчарова, от перепада температур воздух-вода при наличии поблизости водоема, либо, при его отсутствии, от перепада температур грунт-воздух.
Кроме всего прочего, в изложенном в статье виде конструкция неработоспособна: необходимо поддерживать температуру в емкости с газом (поз. 4 на рисунке) на той тонкой грани, когда от небольшого сжатия за счет центробежной силы аммиак уже превращается в жидкость. Сама по себе температура на этом уровне поддерживаться не будет — при малейших изменениях в окружающей среде газ либо слишком нагреется, либо слишком остынет. Нужен регулятор, а регулируемые элементы в схеме отсутствуют (в схеме современного теплового насоса на приведенном далее рисунке роль такого регулятора играет компрессор). По всей видимости, именно подобные разъяснения потребовались от авторов заявки: «Мы сочинили и отослали заявку. К заявке отнеслись серьезно. Ничего не поняли. Нам ее вернули, но не с отказом, а с просьбой разъяснить. На этом дело и заглохло», — рассказывает в статье Анчаров. В представленном автором виде конструкция демонстрирует голую идею, а идеи, как известно, не патентуются, иначе находилось бы большое количество охотников подать заявку на таблицу умножения или алгоритм извлечения квадратного корня.
А почему тепловой насос с его дармовой (без кавычек) энергией так и не получил того распространения, о котором мечтал Анчаров? Это произошло по той же причине, по которой никакой из методов утилизации рассеянной (низкопотенциальной) энергии пока еще не стал играть сколько-нибудь заметную роль в энергобалансе человечества. Эти методы рекламируются как «экологичные», то есть не вредящие окружающей среде, но при ближайшем рассмотрении это не совсем так. Например, при достаточно масштабном использовании перепада температур в водоемах вы их фактически перемешиваете, нарушая естественную стратификацию слоев с различной температурой и меняя среду обитания водных организмов. Совершенно безболезненно отбирать энергию у среды не получается.
Но эта причина не главная. Наземные тепловые насосы вынуждены собирать тепло с огромной в сравнении с отдачей площади. Вариант теплового насоса для отопления загородного дома вроде показанного на схеме требует несколько сотен метров труб теплообменника, закопанных ниже глубины промерзания и распределенных на достаточной площади, чтобы они сами не проморозили грунт. Например, для установки теплового насоса производительностью 10 киловатт (отопление коттеджа средних размеров) в земле необходимо выложить контур длиной 350–450 метров, для укладки которого потребуется полностью перекопать участок земли площадью около четырех соток. Если имеется водоем, то перекапывать не нужно, но к сотням метров труб теплообменника добавляется длинный соединительный коллектор (дома ведь не стоят непосредственно у кромки воды) и грузы, чтобы теплообменник не всплывал. А если еще и поставить задачу преобразовывать полученное тепло в электричество — хотя бы просто перевести установку на самообеспечение энергией, — то это еще больше усложняет и удорожает конструкцию. К каждому станку, как о том мечтал Анчаров, такую конструкцию не приставишь.
То есть второй по порядку, но не по значению препятствующий фактор — дороговизна и самого оборудования, обычно весьма сложного и громоздкого по устройству, и его монтажа на месте эксплуатации, или, говоря экономическим языком, большие единовременные капитальные затраты. Причем затраты живыми деньгами или на условиях беспроцентного займа — использовать коммерческий кредит не получится, так как проценты могут превысить выгоду от применения установки. Любая установка по использованию рассеянной энергии — солнечные батареи на крыше, ветряк в саду или тепловой насос под домом — будет окупать себя десятилетиями, то есть за сроки, сравнимые с предельными сроками эксплуатации. Конечно, ситуация может поменяться при принципиальном росте цен на органическое топливо, но до этого еще очень далеко. Заметим, что наибольшее распространение все подобные источники энергии получили в Европе, где электричество дорого, а государства субсидируют строительство таких установок в индивидуальном порядке.
Многое из сказанного — хотя бы о необходимых огромных площадях — можно было бы выяснить и тогда. Литературную задачу Михаил Леонидович выполнил с блеском, но совершенно зря обижался на невнимание к научно-техническому содержанию своих творений. Отметим еще такой момент из статьи «Бесплатная энергия?!». Анчаровская фраза «может быть, для охлаждения годится и обдув — тогда это наземный транспорт» показывает, к сожалению, что физику школьного уровня автор этих слов усвоил плохо. Подводящий тепло поток воздуха возникает за счет движения самого «наземного транспорта», то есть за счет его собственной энергии. Получается вечный двигатель без всяких кавычек, а таковые, как известно, существовать все-таки не могут. И, конечно, специалисты, на возбуждение интереса которых и рассчитана статья Анчарова, не будут рассматривать всерьез предмет, сопровождаемый столь безграмотными утверждениями, — это только укрепит всеобщее мнение, что литературу в толстых журналах можно читать для развлечения, но рассматривать ее как источник научно-технических идей не стоит.
Автор известной ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) Генрих Саулович Альтшуллер(1926–1998) на этот факт также сетовал и полагал, что бывшая на пике популярности как раз в те времена научная фантастика обязана пропагандировать технические идеи (и даже сам публиковал научно-фантастические рассказы под псевдонимом Генрих Альтов). В чем расходился с ведущими фантастами-современниками, полагавшими фантастику все же в первую очередь литературой, то есть «о человеке и его проблемах», а не о том, как устроен фотонный двигатель. Однако, если рассмотреть ТРИЗ и особенно ТРТЛ (теорию развития творческой личности) технически образованного Альтшуллера внимательно, то можно поразиться их сходству с идеями Анчарова, пришедшего к тому же самому с другой стороны — от искусства.
Но сама по себе идея заимствования энергии из окружающей среды, до которой Анчаров дошел самостоятельно, гораздо важнее технических деталей конструкции его «вечного двигателя». Идею сбора рассеянной энергии, заложенную в «вечный двигатель Сапожникова», можно поставить в ряд с другими блестящими предвидениями нашего героя: сейчас весь мир как раз активно работает над различными воплощениями альтернативой энергетики. В те «времена высоких энергий» (как выразились сотрудники журнала «Изобретатель», рассматривавшие изобретение) утилизация рассеянной энергии применялась только там, где она была абсолютно необходима, как солнечные батареи в космосе или ветряки на полярных станциях. И практически до конца ХХ столетия основная ставка делалась на новые высокопотенциальные источники — особенно вдохновлял современников Анчарова термояд, как не требующий дефицитного сырья и теоретически даже не загрязняющий окружающую среду радиоактивными отходами. Не их вина, что из блестящего старта мирной термоядерной программы так пока и не вышло ничего путного — слишком велики оказались трудности на этом пути, а случившаяся позднее чернобыльская катастрофа надолго отбила охоту заниматься ядерной энергетикой вообще. Меж тем первые грозы над нефтяной экономикой прогремели еще в 1970-е годы, во время «арабского» нефтяного кризиса. Потому-то сейчас никто не видит другой перспективы, кроме как становиться на «путь Сапожникова», все больше обращаясь к той самой рассеянной, «низкой» энергии, о которой столь пренебрежительно отзывались собеседники Анчарова.
Обо всем этом Анчаров даже не подозревал, но интуицией Михаил Леонидович обладал просто потрясающей: из обрывков разговоров, газетных заметок, научно-популярных очерков и просто слухов он сумел отфильтровать главную, даже центральную проблему современности уже тогда, когда она еще давала самые первые незаметные всходы.
Стоит также обратить внимание на анчаровскую формулировку «когда идеи признают производительной силой». Действительно, во времена индустриализации и у нас, да и на Западе тоже во главу угла ставили исключительно материальные ценности. В настоящее время, когда словосочетание «интеллектуальный капитал» стало привычным, уже никого не удивляет, что компании Apple и Microsoft, не имеющие никаких собственных производственных мощностей, числятся в рекордсменах по капитализации, обогнав традиционных лидеров — глобальные нефтяные империи Shell и ExxonMobil. Этот поворот произошел сам собой с началом информационного века, где именно идеи и их носители стали играть определяющую роль, а интеллектуальное достояние становится важнее материального. Анчаров, конечно, поворота к информационному веку не предвидел (его не предвидел в таком масштабе вообще никто), но саму идею уловил еще тогда, когда она была совершенно неочевидной.
И в еще большей степени эта способность улавливать главные тенденции времени относится к его чисто научным идеям. Он предлагал решения проблем, которые еще даже не были поставлены в качестве актуальных. И пусть сами эти решения нам сейчас кажутся наивными и дилетантскими, но, как известно, правильная постановка вопроса — уже половина ответа.
Анчаров в «Самшитовом лесе» очень точно сформулировал разницу между открытием в науке и изобретательством в технике: «Открытие — это то, что природа создала, а изобретение — это то, чего в природе не было, пока ты этого не придумал». Эта разница подразумевает принципиально отличные подходы к той и другой области, поэтому с научными идеями Анчарова разобраться гораздо сложнее, чем с техническими, — уж очень наивными они на первый взгляд выглядят. Сначала нужно отметить, что наука и техника в отношении к дилетантам различаются диаметрально. Можно изобрести тепловой насос, ничего не зная о Кельвине, цикле Карно и термодинамике, как это сделал Анчаров. Дилетант Морзе точно так же изобрел телеграф, исходя из единственной подслушанной в случайном разговоре идеи, что путем электричества можно передавать сигналы на теоретически ничем не ограниченное расстояние. Но нельзя выдвинуть действительно научную гипотезу, ничего не зная о том, что творится в данной области науки в данное время — не погрузившись в «питательную среду» полностью, как это произошло с Анчаровым в области живописи. И никакой свежий взгляд сколь угодно гениального творца-дилетанта тут не поможет — в этом оппоненты героев Анчарова были правы. Такой творец слишком многого не знает и упускает существенные нюансы ситуации. В результате чаще всего получается, что либо самой проблемы в научном смысле не существует (повторим, что правильная постановка задачи — определяющий этап ее решения[93]!), либо наш «творец-дилетант» городит чепуху, вообще не имеющую отношения к предмету обсуждения. И вместо разговора по существу получается то самое «болботание», которое так ненавидел Зотов-дед из романа «Как птица Гаруда».
За примером того, что может натворить зарвавшийся дилетант в науке, далеко ходить не требуется, — вспомним известного математика (и очень неплохого математика, кстати, даже академика в своей области), который сам, наверное, верит, будто бы открыл альтернативную историю человечества — «Новую хронологию». Он был настолько убедителен, что под его напором дрогнули многие весьма умные люди — за исключением, разумеется, настоящих ученых, как историков, так и многих других затронутых им специальностей. По счастью, все это осталось лишь на уровне «фолк-хистори» (то есть литературной имитации научной деятельности в области истории), но легко представить себе вред, который мог бы нанести этот убедительный шарлатан, если бы заставил себе поверить какого-нибудь государственного деятеля. Мы это ведь уже однажды проходили — в виде академика Т. Д. Лысенко и его соратников, разгромивших отечественную биологию почти до основания. И если вы думаете, что такое возможно было лишь в советские времена, то не поленитесь разыскать в интернете совсем недавнюю историю «выдающегося ученого» Виктора Ивановича Петрика — по сути тот же случай, только масштабы поменьше и последствия не столь катастрофичные: в наше время ученые могут себе позволить игнорировать слишком уж одиозные симпатии властей предержащих.
По всем этим причинам к дилетантам в науке нужно относиться с большой долей предвзятости — здесь та ситуация, когда лучше оставить в безвестности одного реального самородка, чем угрохать кучу времени и ресурсов и последовать в ложном направлении, рискуя навсегда оказаться в отстающих. Повторим, что это относится именно к науке — в технике один талантливый дилетант уровня того же Морзе вполне способен оправдать существование сотен неудачников, а в науке одно ошибочно принятое решение может надолго закрыть целое направление.
Рассмотрим подробнее под таким углом одну из научных идей Анчарова, которую он не переставал пропагандировать всю жизнь. В повести «Голубая жилка Афродиты» Анчаров упоминает о некоей «третьей сигнальной системе», которая, по его представлениям, должна заведовать вдохновением:
«…Стало быть, один художник от другого отличается каким-то особенным богатством внутренней жизни, которое нельзя свести ни к интеллекту, ни к эмоциональности; ни ум, ни темперамент еще не делают художника, хотя и нужны ему, как всякому человеку. И вот, занявшись тогда поисками этой особенности, я убедился, что ее, особенность эту, можно определить одним словом — вдохновение. Я понял, что это некое душевное состояние, свойственное только тем, кто может изобретать эти приемы, а не копирует их, и только в тот момент, когда он их изобретает.
Что же заведует в мозгу вдохновением? Ежели оно есть, должен быть и механизм. Первая сигнальная система заведует сношениями с внешним миром, рецепторы — глаза, уши и прочее. Вторая заведует речью. Опять не годится. Описать свои ощущения может каждый, а изобрести нечто новое — только некоторые. И тогда мне пришло в голову, что должна существовать третья сигнальная система, заведующая вдохновением, то есть особым способом мышления, которое отпущено многим, но возникает редко. И в эти моменты человек добивается результатов, которых ему никаким другим путем не добиться.
Парнем я тогда был неглупым, хотя и наивным до изумления.
Изложил я все эти соображения в письме, снабдил большим количеством цитат — высказываний великих мастеров, описывающих это состояние, и отправил в Академию наук. И получил оттуда ответ — он у меня и сейчас хранится. Суть ответа такова. Третьей сигнальной системы быть не может, потому что о ней ничего не говорится у Павлова, а кроме того, мысль о ней не нова, ее высказывали академики — приводились фамилии, — но после соответствующей критики они отказались от этой мысли.
Ну тут я сразу успокоился. Потому что времена были такие, что после соответствующей критики отказывались от собственных родителей, не то что от мысли. И я, конечно, сразу успокоился. Если ученые, экспериментаторы своим ходом пришли к этой мысли, стало быть, третья сигнальная существует, а остальное — дело не мое. Мое же — искать способы развивать ее практически, если ее можно развить».
Позднее в романах «Самшитовый лес» и «Как птица Гаруда» Анчаров также упомянет об этом своем «открытии», с некоторыми другими подробностями: например, что он включил «цитаты — от Пушкина до Менделеева, от Шопена до Авиценны» («Самшитовый лес»).
В 1952 году студент Суриковского института М. Анчаров действительно направил описание этого своего, как он полагал, «открытия» в адрес лично Сталина (настолько важным он его считал!). В романе «Самшитовый лес» он об этом говорил так:
«Сапожников, конечно, понимал, что самому Сталину это письмо читать недосуг, может, кто из помощников в двух словах доложит, но и это вряд ли. Возможно, перешлют его на консультацию к специалистам. И тут уж хочешь не хочешь, специалист должен ответить по существу, получив сапожниковское письмо из такой инстанции».
12 декабря Анчаров получил вполне вежливый ответ от Академии наук на четырех машинописных страницах, главную мысль которого он в «Голубой жилке» излагает не совсем верно — в ответе совершенно справедливо предлагалось сначала попробовать свести реакцию художника к действию первой и второй сигнальных систем. И хотя в романе «Как птица Гаруда» Анчаров издевается над этим ответом, нельзя не признать, что реакция научного учреждения была вполне оправданной. Наличие первой и второй сигнальных систем — не выдумка Павлова, а итог многолетних опытов и наблюдений. Анчаров занимался не наукой, а метафизикой — выдумывал новые сущности путем абстрактных размышлений над неочевидными и совсем не общепризнанными фактами, даже не пытаясь их подкрепить целенаправленными экспериментами или хотя бы разработать методическую основу для проведения таковых. Он демонстрирует не только слабое владение предметом, но и непонимание того, как устроена наука.
После неудачи с «третьей сигнальной системой» Анчаров больше не пытался официально беспокоить специалистов своими идеями, но при случае мог выложить их в личном разговоре. Биофизик Александр Тамбиев[94] в беседе с С. Новиковым рассказывает, как он впервые познакомился с Анчаровым в квартире в Лаврушинском переулке в конце 1950-х:
«…Миша тогда меня удивил, высказав одну очень интересную мысль и перспективную, которая могла быть отправной точкой для серьезных исследований о раке. И мы несколько часов прополемизировали на эту тему, и надо сказать, что я сначала сопротивлялся этой точке зрения. Потому что я, откровенно говоря, думал, ну что это вот? Он же не биолог и не медик? Хотя мысль сама по себе интересная. Сначала она мне показалась даже абсурдной, потом в споре выяснилось, что очень хорошее здравое зерно в ней есть. <…> И в конце, когда мой уже спор подходил к концу, это даже не спор, а дискуссия, и эту мысль наконец мы все признали. Я сказал, что, Миша, если будут проведены исследования в этом направлении, то это могут дать совершенно великолепные научные результаты, и даже, гляди-ка, может быть, тебе когда-нибудь дадут Нобелевскую премию. Ну, на что он замахал руками, засмеялся, сказал: “Боже, что ты. Если эта идея будет осуществлена и человечество, так сказать, будет облагодетельствовано этой идеей, ну, где-то, где-то там мелькнет моя фамилия, мне этого вполне достаточно”».
То есть специалисты могли признать его идеи интересными, но и только. Как и эта идея о раке, о которой рассказывает Тамбиев, они никакого продолжения не получали и практических последствий не имели.
Так что же тогда с этой «третьей сигнальной системой» — не стоит времени, затраченного на прочтение этого раздела нашей книги?
Вся эта метафизичность перестает иметь какое-либо значение, когда мы начинаем рассматривать идею Анчарова не в контексте физиологии и биологии, как он сам пытался это делать, а в другом, более широком контексте, которого тогда, на рубеже 1950-х, в значительной степени еще не существовало.
Сложнее всего понять, куда именно отнести эту теорию Анчарова. Интуитивно ясно, что в рамки одной нейрофизиологии, к которой относится учение Павлова о первой и второй сигнальной системах, представления Анчарова не умещаются. Уточнений и расширений, которыми дополнила учение Павлова наука этология, тогда еще не знали. Ближе всего была психология, в ее рамках феноменом творчества занимались отечественные ученые Лев Семенович Выготский и Александр Романович Лурия, а также некоторые немецкие ученые, в том числе ученик Фрейда Карл Юнг. То есть, если уж встраивать все это в рамки тогдашних научных представлений, следовало бы отнести теорию Анчарова к ведомству психологии. Но в СССР она целых тридцать лет, с 1936-го по середину 1960-х, была под фактическим запретом!
Несомненно, Анчаров мог бы найти многое, подтверждающее его взгляды, в достижениях психологической дисциплины, получившей название эйдетики. В ее рамках рассматривался способ мышления наглядными образами, в отличие от абстрактно-логического. Было доказано, что эйдетическим мышлением обладали многие ученые (Никола Тесла, Альберт Эйнштейн), художники (Врубель, Модильяни), музыканты (Моцарт), а изучавшие это направление психологи показали, что в определенном возрасте у большинства детей эйдетическое мышление доминирует над абстрактно-логическим. Причем этим направлением занимались довольно широко как раз в России (Л. С. Выготский и А. Р. Лурия), но основная эйдетическая научная школа связана с Германией (Э. Йенш), где нацисты попытались приспособить ее достижения к своей идеологии. В результате эйдетика получила клеймо «фашистской науки», исследования в этом направлении были запрещены, до сей поры об этом мало кто у нас знает, и, разумеется, никак не мог узнать об этом Анчаров в конце сороковых, когда размышлял над своей «третьей сигнальной». Позднее, в романе «Самшитовый лес», эйдетический тип мышления главного героя Сапожникова будет описан с почти клинической точностью, и даже может закрасться сомнение: а так ли не был осведомлен автор об этой дисциплине? Несомненно, Анчаров просто описывал свои собственные ощущения, не подозревая, что это уже кем-то исследовано и разложено по полочкам.
Но этого мало. Волновавшими Анчарова вопросами занялась кибернетика, в том числе теория связи и теория информации, которые начали развиваться как раз в те годы, но еще далеко не в Советском Союзе, где до середины 1950-х кибернетика была под запретом (подробнее об этом см. главу 3).
После долгих поисков обнаружилась наконец научная дисциплина, к которой идеи Анчарова о творчестве ближе всего. У нас она по-прежнему не признается как отдельная наука, но на Западе существует единый термин: cognitive science, в буквальном переводе «наука о мышлении» (или «наука о познании»). У нас подобные ученые числятся по ведомству психологии, любимой Анчаровым нейрофизиологии, лингвистики и, через них, даже философии (философы считают «своим» и, например, упоминавшегося психолога Л. С. Выготского).
Есть такие философские дисциплины под общим названием теория познания (эпистемология и гносеология), без которых не обходится ни одна законченная философская система, — они также имеют отношение к предмету разговора. Например, профессор из СПбГУ Татьяна Черниговская, как раз специалист по cognitive science, числится в редколлегиях философских журналов. Отнесение к философии идей Анчарова может показаться натяжкой, но стоит вспомнить формулировку философа Бертрана Рассела, который так говорил о социалистическом учении: «Социализм, поскольку он есть политическое и экономическое учение, не относится к области истории философии. Но в руках Карла Маркса социализм приобрел философию»[95]. Точно так же Анчаров, сам того не подозревая, вкладывает философское содержание в идею механизма творчества. В этой мысли мы, кстати, совершенно не оригинальны: в 1988 году очевидную попытку привязки анчаровских идей к философии (разумеется, с канонически марксистских позиций) предпримет профессионал — преподаватель философии из Киева С. Грабовский[96].
Еще одно подтверждение своей теории о скачкообразном, «внелогическом» характере творческого мышления Анчаров мог бы найти у Томаса Куна, автора знаменитой книги «Структура научных революций» (1962). В ней американский философ науки вводит понятие о парадигме (исторически сложившейся системе воззрений) и о развитии науки как скачкообразном процессе смены парадигм. Согласно Куну, научная революция как смена парадигм не подлежит рационально-логическому объяснению: «Парадигмы вообще не могут быть исправлены в рамках нормальной науки. Вместо этого… нормальная наука в конце концов приводит только к осознанию аномалий и к кризисам. А последние разрешаются не в результате размышления и интерпретации, а благодаря в какой-то степени неожиданному и неструктурному событию, подобно переключению гештальта[97]. После этого события ученые часто говорят о “пелене, спавшей с глаз”, или об “озарении”, которое освещает ранее запутанную головоломку, тем самым приспосабливая ее компоненты к тому, чтобы увидеть их в новом ракурсе, впервые позволяющем достигнуть ее решения». Как видите, это почти дословно совпадает с идеями Анчарова, различие только в том, что Анчаров имел в виду особенности творческого мышления отдельной личности, а Томас Кун размышлял о развитии науки в целом. Причем Кун начал задумываться над своей «Структурой научных революций» в конце 1940-х — как раз в те же годы, когда Анчаров «изобретал» свою «третью сигнальную систему». Но в СССР книга Куна была переведена лишь в 1977-м и была известна лишь в среде специалистов, с которыми Анчаров не имел точек соприкосновения.
Между прочим, философия, в отличие от естественных наук, вполне терпит дилетантов и их теории — более того, она во многом из таких теорий и состоит. В истории философии полно ученых, монахов и священнослужителей, писателей и поэтов, юристов и политиков, просто умных людей, и лишь немногие из них говорили о себе: «я — философ».
Но тут нужно отчетливо понимать, в какое время все это высказывалось: дело не в «критике», при которой «отказывались от собственных родителей», а в общей парадигме. Наукообразие своим идеям Анчаров придавал не «зачем-то», а потому что в те времена приставка «научный» была синонимом слова «истинный». Марксизму-ленинизму единственному дозволялось быть наукой об обществе, и все представления о человеке и его поведении должны были быть строго с ним согласованы. Значит, все, что было (или объявлялось) выходящим за его рамки, оказывалось «ненаучным», то есть не имело права на существование. А так как многие идеи в этот самый марксизм-ленинизм укладывались с трудом, то человеку, придумавшему что-то новое, ничего не оставалось, как причислить свою находку к естественным наукам, любым способом обязательно подогнав под материалистический взгляд на мир. Попытайся Анчаров претендовать на вклад в философию, это для него могло окончиться в лучшем случае исключением из института, но никак не привело бы к признанию его взглядов.
К тому же Анчаров был нормальным советским человеком, у которого слово «философия» ассоциировалось с навязшим в зубах марксизмом-ленинизмом и потому вызывало отрыжку, и подходящий для изложения своих представлений язык ему просто было негде взять — отсюда и попытки придать своим взглядам наукообразие, изложив их в терминах естественных наук. Анчаров вполне мог бы вести диалог с философами, но подобный диалог был в те времена неосуществим, и для него просто не нашлось бы собеседников. Профессиональный философ скажет, разумеется, что «Анчаров — плохой философ». Ну, конечно же, плохой — а как ему было стать хорошим, не после чтения «Краткого курса»[98] же?
Не только Анчарову не посчастливилось пересечься с немногочисленными своими современниками, которые этой самой философией начали заниматься всерьез в пятидесятые годы — кружок философов, включавший М. К. Мамардашвили, А. А. Зиновьева и других, желавших двигаться вперед представителей этой дисциплины, еще только складывался в годы, когда Анчаров обдумывал свои идеи. Но и тогда, и в последующие годы этот круг представлял собой вполне изолированный оазис специфического знания, почти не повлиявшего на культурный контекст эпохи: философию власть имущие не понимали, не любили и предпочитали не дразнить народ, который мог бы невзначай сделать вывод о том, что классики марксизма-ленинизма в чем-то были неправы. Идеи Анчарова еще не раз пересекутся с современной ему философской мыслью: например, в области теории «смеховой культуры» М. М. Бахтина, о чем подробнее мы поговорим в главе 7.
В таком широком контексте значение представлений Анчарова о творчестве стоит рассмотреть подробнее — подобно идее сбора рассеянной энергии, они весьма актуальны и в наше время, причем намного больше, чем кажется с первого взгляда. Переведенные на язык подходящих дисциплин, они вовсе не выглядят высосанными из пальца метафизическими измышлениями — наоборот, видно, что это плод глубоких обобщений, осмысления реально идущих в обществе процессов и проблем; некоторые из них в то время были еще даже не поставлены как следует. А то, что они не изложены языком образованного ученого или философа, скорее достоинство, чем недостаток, — так они оказались доступнее широким массам и оказали большее влияние, чем работы профессионалов.
Для начала отметим, что, уравняв любые занятия по единственному признаку — наличию элементов творчества, идея идентичности механизмов производительного труда в любой области человеческой деятельности была крайне плодотворной в условиях общества, в котором испокон веков существовало классовое разделение. С приходом советской власти, поставившей богатых и знатных на одну доску с неимущими, классовые различия обратились стратификацией по престижности занятий: «учись, а то дворником будешь!» А мысль о том, что дворником тоже можно быть талантливым и незаменимым на своем месте, вновь возникшую классовую напряженность снимала окончательно. Анчаров писал об этом исключительно наглядно (из повести «Этот синий апрель»):
«Черт побери, ведь это же великолепно, стать великим дворником! Вы представляете, что я тогда сделаю с вашим двором? Вы же перестанете ездить на курорты, а туристы из-за границы будут за год записываться в очередь, чтобы попасть к вам во двор. Или я пойду в разносчики заказов — я буду звонить в ваши квартиры и приносить сахар и сосиски, и на лестнице будет стоять хохот от моих дурачеств, исчезнут ссоры домохозяек, двери, ожидая гостей, будут распахнуты, как улыбки, дети будут висеть гроздьями у меня на рукавах, хмурые пенсионеры станут танцевать, как кролики, все работающее население в этот день перевыполнит план на миллион процентов, а их начальники в растерянности станут снимать шляпы перед курьерами».
В результате подобных представлений поколение, которое встретило закат советской империи, было в целом избавлено не только от имущественного, но и от любой другой разновидности снобизма. Если еще в сталинское и хрущевское время к высокопоставленным чиновникам более чем уместно употреблять определение «советские вельможи», то уже в семидесятые-восьмидесятые годы к занимаемым должностям отношение стало повсеместно скорее ироническое.
Стоит также обратить внимание читателя на то, что идеи Анчарова о творчестве, механизме мышления и создания нового знания или образа не являются вполне материалистическими. Более того, само представление о том, что произведение искусства принадлежит именно автору-творцу, а не является результатом некоего навеянного свыше «божественного вдохновения», окончательно устоялось только в Европе в XVIII веке. Оно вытекало из естественного для уже бесповоротно буржуазного общества положения, когда «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»[99], причем именно вытекало, а не наоборот: потребовался юридический субъект — носитель авторского права. Но существование такого субъекта никак не было философски обосновано — деятели Просвещения отбросили обоснование роли автора-творца как само собой разумеющееся в рамках их материалистических и атеистических воззрений. И если бы они попытались это сделать, то тут же наткнулись бы на существенные противоречия такому примитивному взгляду на источники творчества: откуда берутся образы в голове творца?
Анчаров неоднократно подчеркивал, что произведение искусства не создается по обдуманному плану (из «Записок странствующего энтузиаста»):
«…как только я пишу картину, которую я заранее вообразил, то картина не получается, и я несчастлив. А как только я пишу картину, весь смысл и колорит которой сотрясается от каждого удара кисти, то у меня выходила картина, о которой я и не мечтал, и я был счастлив».
Но приятие существования любого явления при отсутствии его материалистического объяснения переводит это явление в сферы веры, духа, а не материального мира. Это стандартный прием человеческого разума, и он единственный помогает снять противоречие между неоспоримым существованием необъяснимых явлений и требованиями рациональной науки. В этом деле главное, что нет никаких оснований предполагать, будто число таких необъясненных явлений станет уменьшаться с развитием науки. А значит, и место веры, чувства, интуиции (в том числе и в науке) всегда будет существенным. Самого Анчарова признание факта не вполне материалистического направления его мыслей, вероятно, возмутило бы, потому что он совсем не только из-за конъюнктурных велений времени потратил много сил на пристегивание этих идей к естественно-научному, рациональному знанию — сочиняя сказки о явлении некой Красоты ученику богомазов, он тем не менее искренне полагал себя материалистом и атеистом.
Но Анчаров мог бы спать спокойно — он был далеко не первым, набредшим на противоречия в строго материалистической картине мира. Даже в царице наук — математике, казалось бы, полностью основанной на рациональном мышлении, материалистические корни прослеживаются далеко не всегда. Если абстрактные идеализированные сущности вроде «параллельных прямых» или «равностороннего треугольника» еще можно считать существующими исключительно в человеческом сознании (и не существующими вне его), то давно найдены чисто математические объекты, которые были открыты, а не изобретены. Популярный пример представляет множество Мандельброта[100] и родственные феномены, которые весьма изумили ученых своими свойствами. При этом они существуют где-то вполне объективно, вне человеческого сознания, и не перестали бы существовать, даже если человечества и ученых-математиков совсем бы не было. И вместе с тем они не имеют никакого материального воплощения, то есть представляют собой чистую идею в духе учения Платона[101].
В этом же русле лежит и анчаровский образ Красоты из сказки об ученике богомазов вместе с его идеей «третьей сигнальной системы». «Скачки», «озарения» и «вдохновение» в рациональном смысле ничего не объясняют, потому что не дают формального описания механизма явления — его анализа, который можно превратить в модель и неоднократно воспроизвести ее в эксперименте, получив одинаковые результаты при одинаковых исходных данных. Иначе рациональная наука работать не умеет, и «третья сигнальная система», существует она или нет, ничего здесь не меняет — это просто другое название очередного явления, которое не вмещается в рациональную науку. Зато оно очень хорошо вписывается в платоновский мир идей — если допустить, что интуитивное знание, подобно множеству Мандельброта, уже где-то существует и анчаровский художник-творец его открывает, а не творит в полном смысле этого слова.
Разумеется, то, что вы прочли, не претендует на академическое объяснение сложнейшего феномена творчества, а лишь призвано продемонстрировать, в каком широком поле представлений, далеко выходящих за рамки примитивного рационализма и материализма, можно рассматривать эту тему. Отсюда следует также, что Анчаров в философском плане оказывается куда больше платонистом, чем материалистом, даже если он сам об этом и не подозревал.
А если постараться совсем отвлечься от безуспешных анчаровских попыток присоседиться к материалистическому взгляду на мир, то его «третья сигнальная система» как механизм творчества оказывается очень актуальной, когда заходит вопрос о том, как устроено человеческое мышление вообще. Этот вопрос как раз во времена Анчарова дискутировался во вполне практическом аспекте — при рассмотрении проблем, в которые совершенно неожиданно для ее творцов уткнулась уже упоминавшаяся дисциплина под названием «искусственный интеллект». Крупнейшие математики того времени, энтузиасты искусственного интеллекта, среди которых были знаменитейшие Алан Тьюринг и Андрей Колмогоров, не смогли преодолеть барьер традиционного представления о том, что процесс мышления можно разложить на элементарные логические операции.
Математикам пришлось уже в 1970–1980-е годы самостоятельно приходить к тому же выводу, к которому пришел Анчаров еще тогда, когда о вычислительных машинах слышали лишь немногие специалисты. А именно к выводу о том, что процесс мышления не подчиняется логике, не может быть разложен на элементарные операции, а происходит скачком — путем внезапного «озарения», приступа «вдохновения». Конечно, у Анчарова были предшественники, в том числе известный физик Анри Пуанкаре и Эйнштейн, на которого Анчаров ссылается в повести «Сода-солнце»:
«Я счастлив, что у Эйнштейна я нашел такое признание: “Открытие не является делом логического мышления, даже если конечный продукт связан с логической формой”». А уже позднее, в 1980-е, английский физик и математик Роджер Пенроуз попытался объяснить скачкообразный характер творчества с позиций квантовой механики.
Положа руку на сердце, рассуждения Пенроуза (они подробно изложены в уже упоминавшейся книге «Новый ум короля»), хотя и подкреплены отнюдь не дилетантским знанием математики, физики и всех остальных сопутствующих дисциплин, в основе своей не очень сильно отличаются от рассуждений Анчарова о «третьей сигнальной системе». Как и Анчаров, Пенроуз вынужден ограничиться словесным описанием возможного пути решения, без какой-либо конкретики. Скорее всего, проблема творчества вообще не может быть решена в рамках современной науки. Незаслуженно недооцененный советский математик и философ Василий Васильевич Налимов говорил, что подобные — то есть связанные с человеческим мышлением — проблемы в рамках человеческого разума могут быть лишь осознаны, а для решения их требуется как минимум некий «метаразум»[102]. То есть такой, который сможет взглянуть на человека со стороны, подняться над его уровнем. Так как из мыслимых сущностей подобное по силам лишь богам, то и проблема, очевидно, в обозримое время решения иметь не будет.
Нельзя тут не упомянуть факт, который наверняка очень понравился бы Анчарову: суть проблемы искусственного интеллекта вполне квалифицированно ухватила еще в первой половине XIX века дочь Байрона Ада Лавлейс, которую называют первым в истории программистом вычислительных машин. В 1842 году (!) она писала: «Аналитическая машина не претендует на то, чтобы создавать что-то действительно новое. Машина может выполнить все то, что мы умеем ей предписать. Она может следовать анализу, но она не может предугадать какие-либо аналитические зависимости или истины. Функции машины заключаются в том, чтобы помочь нам получить то, с чем мы уже знакомы» (выделено нами — авт.). Главный идеолог искусственного интеллекта Алан Тьюринг знал об этих возражениях, но, как легко понять из текста его знаменитой статьи[103], так и не сумел их опровергнуть, предложив путь обхода в виде знаменитого теста Тьюринга. Ясно, что этот тест (игра в имитацию разумного поведения) проблемы не решает, и нового знания имитатор Тьюринга все равно выдумать не сможет никакими силами. То есть разумным его поведение не будет, даже если оно будет очень напоминать таковое. Понадобилось почти полтора века, считая от гениального прозрения леди Лавлейс, для того, чтобы на рубеже 1980-х ученые наконец осознали эту истину в полной мере.
Все это совсем не означает полного провала и закрытия тематики искусственного интеллекта в компьютерных науках. Люди просто избавились от обольстительного представления о возможности создания искусственной цивилизации «думающих машин». Сентиментальные робокопы и злобные терминаторы окончательно перекочевали в ведомство фантастического кино и литературы, а пресловутые «базы знаний» и «интеллектуальные алгоритмы» теперь скорее идут по рекламному ведомству. Тема искусственного интеллекта приобрела наконец строго научное содержание — вполне по Тьюрингу, как задача имитации отдельных сторон человеческого мышления, тех, которые представляют собой по сути рутинную задачу и поддаются разложению на элементарные кирпичики. Таковых сторон оказалось на удивление много — это и игра в шахматы, и многие задачи распознавания образов, и даже некоторые приемы игры на бирже. В результате компьютеры уже сейчас могут управлять автомобилем при парковке лучше человека, а появление законченного киберводителя сдерживается сложностями больше юридическими, чем техническими. Все такие задачи не содержат элементов творчества, а если в человеческой интерпретации и содержат, то эти элементы могут быть исключены путем применения хитрых алгоритмов и грамотного использования основных преимуществ компьютера перед человеком — быстродействия и отсутствия ошибок. Всем понятно, что машина играет в шахматы не так, как человек, — ну и что из этого, если она может легко обыграть чемпиона мира? То есть в конечном итоге оказалось, что и Анчаров прав в своем выделении творчества в особое чисто человеческое качество, но и наука тоже не сдалась, придумав для некоторых задач обходной путь «имитации разума».
Надеемся, мы убедили читателя в том, что освобожденные от псевдонаучной шелухи идеи Анчарова можно и нужно рассматривать вполне всерьез. Но главный результат и значение его размышлений лежат даже не в русле конкретных идей, пусть даже самых плодотворных, а в куда более общих сферах, к чему мы еще вернемся, когда будем рассматривать позднюю анчаровскую прозу.
И напоследок — судьба еще одной из анчаровских идей, которую он высказал уже в конце жизни. Интервью «Великая демократизация искусства» 1984 года (Интервью, 1984), которое мы цитировали и еще будем цитировать неоднократно, получило свое название от последних слов, в которых Анчаров говорит: «В искусстве чемпионов не бывает. …Каждый, каждый — вот в чем смысл авторской песни. Великая демократизация искусства». Именно это и произошло с искусством уже на наших глазах. Сначала, еще во времена Анчарова, обнаружилось — для того чтобы приблизить поющего поэта к публике, достаточно иметь такое простое и демократичное устройство тиражирования, как магнитофон. И сразу все посредники — в виде издательств, типографий, заводов грампластинок, редакторов, студий звукозаписи, профессиональной цензуры — оказываются лишними. В наше время то же самое произошло с почти любой разновидностью искусства — интернет позволил неограниченно распространять тексты, музыку, фильмы непосредственно самими авторами. И уже не редкость, когда авторское, самодеятельное видео на «Ютубе» перекрывает по популярности все профессиональные телеканалы. Иными словами, то, что случилось когда-то с авторской песней в СССР, теперь распространилось на весь мир и на все искусство — произошла та самая «великая демократизация искусства».
Мы уже упоминали, что во время обучения в институте Анчаров не переставал подрабатывать, в том числе и литературным трудом. В апреле 1952 года он попадает в больницу с диагнозом острой дизентерии — видимо, сказалась привычка питаться кое-как и тем, что подвернется по руку. Во время пребывания в больнице он внезапно для самого себя напишет стихотворную трагедию о Леонардо да Винчи. Почти через три десятка лет Анчаров включит ее в свой роман «Дорога через хаос». Вот что он рассказывал об этом в интервью журналу «Студенческий меридиан» в 1981 году[104]:
«…Мне было интересно, нельзя ли как-нибудь стимулировать те особенности, которые мы называем способностями, талантом, гениальностью и так далее. Вот почему мне был интересен Леонардо — как максимальное из того, что я знал в этом плане. Ибо сколько ни отбирать гениальных людей буквально в любой области, в любом сочетании, — в первой десятке будет назван Леонардо. А в искусстве — в первой пятерке. Остальные могут меняться, но Леонардо будет назван. И если попытаться понять что-то в нем, в его творчестве, то можно будет понять и про нас, грешных, обыкновенных людей.
— Михаил Леонидович, строки о Леонардо действительно пришли к вам в больнице?
— Совершенно верно. До этого я увлекся просто его биографией и не думал писать о нем, тем более пьесу, тем более трагедию, тем более в стихах. Я интересовался им как человеком творчества. А творчеством, самим механизмом творчества, если можно так выразиться, я интересовался всегда. И пройти в этом смысле мимо Леонардо невозможно, потому что это первый образец, причем универсальный образец. И увлекаясь изобретательством, и биологией, и бог знает чем, эпохой Возрождения в том числе, я искал какие-то ключи к творчеству, — как я потом обозначил их для себя, — ключи полета. Толчком же послужила подготовка к юбилею Леонардо в 1952 году, — вон когда еще вся эта история затевалась. Со мной произошло то же самое, что и с моим героем, но только в других обстоятельствах. Стихи — во всяком случае, песни — я писал всегда, но в тот период я был так перенасыщен Леонардо, всем его обликом, подробностями его жизни, окружающей обстановки, что доработался до полного нервного истощения и попал в больницу. И там однажды ночью мне пришла в голову строчка: “тяжелое дыхание трагедии”. Я вдруг почувствовал какой-то ритм, и тогда же возникла строфа, которая в пьесу не вошла:
Тяжелые крутые подбородки,
Лбы низкие прикрыты волосами.
Все отпрыски фамилий знаменитых:
Медичи, Сфорца, Борджа, Малатеста.
Проламывают головы друг другу,
За два дуката отравить готовы,
И каждый норовит в государи…
Вот какие это были стихи, из которых возникло все остальное. Я тогда занимался живописью, историей живописи эпохи Возрождения, и от перенасыщения, видимо, и пошла вот такая кристаллизация.
Я сам был перепуган — уж не с ума ли сошел, все думал, с какой стати я, живописец, буду все это писать? Песни одно, а трагедия, сами понимаете, это совершенно другое. И — не смог удержаться…»
В пьесе Леонардо изображен пацифистом, сожалеющим о том, что непрестанные войны мешают ему заняться единственно достойным делом — поиском «веселых секретов мирозданья»:
Лев X
Что толку в том, что ты силен, как бык,
Что ростом чуть не выше Голиафа?
Вдвойне позор, когда в могучем теле
Скрывается дрожащий бабий дух.
Мужчина — воин! Так велел господь,
Создавший нас по своему подобью.
Мужчина от рожденья до надгробья
Войною дух свой пестует и плоть!
Леонардо
Войной за что?.. Ведь если создан я
По образу и божьему подобью,
То не затем, чтоб умножать надгробья,
Ведь это может делать и змея.
Нет, я боец!.. Но кистью и резцом
Я не калечу божии творенья,
Я создаю Вселенной повторенье,
Недаром бога мы зовем творцом.
Лев X
Ты богохульник!
Леонардо
Нет, синьор, художник!
Интересен также следующий диалог между Леонардо и наемником Микелотто, в котором Анчаров устами первого выражает свое отношение к патриотизму и космополитизму и моральной подоплеке этих понятий:
Леонардо
О, Микелотто? Капитан? Ах, старый друг!..
Я вижу, здесь собрались патриоты…
Микелотто
Точь-в-точь как вы, маэстро.
Леонардо
О, как я! Вот человек без предрассудков.
Микелотто
Как и вы…
Леонардо
Без родины…
Микелотто
Я человек вселенной.
Леонардо
Ты человек той части во вселенной, В которой больше платят!
Микелотто
Как и вы!
Леонардо
Врешь, Микелотто… Разница большая:
Мне платят, чтобы я работал.
Тебе же — чтоб не изменял.
Я продаю князьям свою работу,
Ты, Микелотто, верность продаешь.
Есть разница? А?
Конец пьесы — обычный для Анчарова «хеппи-энд»: Леонардо, преданный покровительствовавшим ему папой Львом X, принимает покровительство французского короля Франциска I и счастливо заканчивает свои дни в кругу обожающих его учеников. Здесь Анчаров в угоду своему замыслу исказил реальные события и выстроил их в нужной ему последовательности: римский папа Лев X действительно покровительствовал Леонардо, так же как и Франциск I в последние годы жизни. Но папа Лев Х его не предавал, а изображенная в конце пьесы сцена захвата Милана французскими войсками, при которой реальный Леонардо действительно присутствовал, произошла гораздо раньше, чем Лев Х стал папой, а Франциск I — королем Франции.
В финале пьесы ученик Леонардо по имени Франческо в присутствии Франциска I говорит:
…Закрылись навсегда глаза орла.
Он долго чересчур глядел на солнце.
Он видел то, чего мы не видали,
О чем только мечталось в тишине.
Он разглядел для нас такие дали,
Которые мы видели во сне.
Потеря подобного человека оплачется всеми.
(Король Франциск плачет.)
Если вспомнить рассказы, которые Анчаров рассылал в редакции в 1948 году, и стихотворные переводы, которые так понравились Илье Сельвинскому, то становится ясно, что литературные занятия все больше увлекают Анчарова.
Летом 1949 года Анчаров уезжает на практику в Переславль-Залесский. В направленном ему туда письме от отца содержится многозначительная приписка: «Привет Тате». Иными словами, родители вовсе не возражали против появления в жизни сына Татьяны Сельвинской, которую к тому же давно знали.
Татьяна Сельвинская, поступившая в Суриковский институт на год раньше, сопровождала Анчарова почти все время обучения, была его единомышленником и «лакмусовой бумажкой» для опробования идей. Неудивительно, что в конце концов они поженились. Валентин Лившиц[105] в своих воспоминаниях, о которых далее, правда, утверждает, что брак был гражданским, но сама Татьяна Ильинична вспоминает про Анчарова как про своего мужа. В письмах 1948 года, которые мы уже цитировали в предшествующей главе, Татьяна обращается к Анчарову с высокопарным «Вы», а в письме из Таллина от 1952 года уже с интимным «ты» и обращением «Дорогой Мишечка!». Если еще вспомнить рекомендательную записку Сельвинского Луговскому, которую мы также упоминали в предшествующей главе, то, вероятнее всего, они окончательно сошлись осенью 1949 или в начале 1950 года, после развода Анчарова с Натальей Суриковой. Анчаров поселяется с Татой в квартире Сельвинских в Доме писателей в Лаврушинском переулке, 17, квартира 44[106].
О жизни Анчарова у Сельвинских не осталось никаких свидетельств, кроме единственного упоминания в воспоминаниях Валентина Лившица:
«Когда Анчаров вспоминал свою жизнь в семье Сельвинских, он чаще всего говорил не о взаимоотношениях, а о гениальности поэта Сельвинского, приводя как пример записку, писанную Сельвинским своей дочке, которая перед уходом в институт могла забыть позавтракать. Вот эта записка:
Дорогая моя Танька,
Парочку яиц — достань-ка,
Хочешь, ешь, а хочешь, пей,
Облупив от скорлупей».
Галина Аграновская в своих воспоминаниях пишет, какое впечатление на них произвел Анчаров при знакомстве с ним в 1953 году (Аграновская, 2003):
«Старый Новый год в ЦДЛ. За соседним столом семья Сельвинских. Илья Львович с женой и очаровательной дочкой Татой. Привлек мое внимание в этой компании ладно скроенный, широкоплечий брюнет с темными глазами. Обменялись наши столы поздравлениями с Новым годом, а когда пара, Тата и брюнет, пошли танцевать, Илья Львович спросил меня и мужа: “Как вам мой зять?” Толя сказал: “Впечатляет”.
Я спросила: “Можно поздравить?” — на что Илья Львович ответил: “Посмотрим…” — “Чем занимается ваш зять?” — “Художник, как и Тата”. Вернулись за стол молодые. Илья Львович познакомил с зятем. “Анчаров” — крепкое рукопожатие, внимательный взгляд, часто моргающие глаза, что-то вроде тика. Не улыбнулся. Показался мне мрачноватым.
Через несколько лет знакомство произошло заново в Малеевке. Нас кто-то представил друг другу, а я напомнила, что мы уже знакомились, и когда именно, при каких обстоятельствах. На это Анчаров заметил: “А, вот когда! Так я влюблен был. Когда я влюблен, ничего вокруг не замечаю”».
Но влюблен в эту пору, к которой относится разговор в Малеевке, он был уже не в Сельвинскую, а в Джою Афиногенову, которая жила в том же писательском доме в Лаврушинском переулке.
Подробнее о Джое Афиногеновой мы расскажем в главе 5, потому что это знакомство относится уже к следующему этапу в жизни Анчарова. А пока все-таки закончим с Суриковским институтом и попытаемся ответить на главный вопрос: почему же Анчаров при всем его незаурядном таланте так и не стал художником?
О том, до какой степени его измучила атмосфера занятий в Суриковском, можно заключить из такой сцены, описанной в «Записках странствующего энтузиаста»:
«А я поставил холст, где был вылизанный контрастами портретик девочки в панаме, — свет, тень, носик вертикальный, ротик горизонтальный, и стал мастихином швырять краску на фон, на лицо, на фон, на лицо, на фон, на лицо — ту краску, которую мне в эту секунду захотелось, какую показалось, что выражает сиюсекундное мое настроение, на фон, на лицо, на тень, на свет, на носик, на ротик. А приятельница мне шепотом:
— Что ты делаешь? Что ты делаешь!.. А потом:
— Ультрамарин не сюда… выше…
— Здесь?
— Правей.
— Не могу больше, — говорю. — Не могу.
И проткнул панамочку мастихином. Так и учились. Сейчас, говорят, лучше».
В 1953 году скончался его добрый гений — В. Н. Яковлев, который во многом поддерживал его в конфликтах с очень уж одиозными преподавателями. В «Записках странствующего энтузиаста» Анчаров так описывает один из последних разговоров со своим учителем:
«— Знаешь, — сказал Николай Васильевич Прохоров, — чем Микеланджело отличается от своих эпигонов? В том числе нынешних?
— Еще не знаю.
— Тем, что его герои корчатся от внутренней муки и движения их тел — лишь последствия внутреннего напряжения… А эпигоны думают, что причина их движений — внешняя. Для истинного художника внешняя причина — ничтожная… Для Микеланджело причина взрывного движения “раба” — корчи духа, а для эпигонов причина — веревки, которыми он связан.
— Да уж, — говорю.
— Поэтому герои Буонаротти — искренние, а у эпигонов — позеры… Мощным движением он берет в руки лопату.
— Не лопату, — говорю. — Газету.
— Да… газету, — сказал Прохоров. — Искусствоведы знают, как писать, а пишем почему-то мы. Ох, искусствоведы… Амикошонства не выношу.
— А что это?
— Амикошон — это такой друг, который обнимает тебя за шею голой волосатой ногой и у носа шевелит пальцами.
Я это запомнил и такой дружбы не полюбил.
— Кстати, мысль “кто умеет писать — пишет, кто не умеет писать — учит” приписывают Бернарду Шоу, а она принадлежит Чистякову. Академизм не тем плох, что мышцы изучает, перспективу, историю искусств — почему не изучить, а тем, что думает, будто, изучив некую систему взглядов и приемов, станешь художником.
— Да уж… — говорю я с лютой горечью, потому что знаю — этот разговор последний.
— Что сказал Микеланджело, когда увидел, как живописцы копируют его “Страшный суд”?
— А что он сказал?
— Он сказал: “Многих это мое искусство сделает дураками”. И ушел из института. А потом умер.
— И я остался в искусстве один».
Анчаров, конечно, преувеличивает по поводу своего одиночества — у него еще оставались и бывшие о нем достаточно высокого мнения сокурсники, и изобретенный им метод рисования, и, несмотря на всю его ершистость, отличные характеристики, выданные институтом. Его, возможно, добила история с дипломом, когда ему трижды пришлось менять выбранную тему:
«Я кончил Художественный институт через год после того, как Сталин умер, стало быть, более тридцати лет тому назад. И я был на площади в день его похорон. Венки, венки, прикрытые снегом. Тогда вдруг снег пошел. И я увидел неподвижные фигуры и внутреннюю жизнь людей, стоявших молча у венков в снегу. И я увидел групповой портрет эпохи. Я, конечно, взял это видение на диплом и принес эскиз. У меня его сразу же зарубили. Впервые тогда все услышали что-то о культе личности.
Тогда я взял на диплом про то, как Ломоносов с обозом идет с севера в столицу. И принес эскиз, который мне тоже зарубили по той же причине.
— Культ, говорят, личности.
Тут я впервые почувствовал неладное.
Я честно ездил в запланированные поездки и собирал этнографические этюды для одежды и обоза, у меня и сейчас валяются рисунки розвальней и кокошников. Но и этот эскиз зарезали.
— Культ, говорят, личности.
А у меня лично и был культ этой личности, и я лично не понимал, почему я на это не имею права. И я был в растерянности.
Ладно, думаю. Обращусь к такой фигуре, которую по всем вычислениям параметрологов и определителей ни к какому культу не отнесешь.
Был у меня такой человечек, от личности которого и от его судьбы душа сжималась, — Икар. Но не мифический, а реальный, исторический, летописный, тот самый холоп, который прыгнул на созданных им самим крыльях, и упал, и был смят временем и испугом жрецов, и крылья его были сожжены под формулу: “человек — не птица, крыльев не имать”. Тут, думаю, никто ничего сказать не сможет.
Сказали.
Не сразу, правда, но сказали. Видно, долго аргументы подбирали, потому что сказали уже дома, когда я институт закончил, и кому-то остро не понравилось, что вот он сейчас полетит, потому что он личность.
То есть я вдруг понял, что где-то созрела достаточная злоба не на культ, а на личность».
На мемориальном сайте вы можете увидеть то, что сохранилось от всех трех упомянутых здесь дипломных работ Анчарова. Эскиз «Похорон Сталина» производит странное впечатление на нашего современника, которому не один раз приходилось читать воспоминания о всеобщей скорби, охватившей буквально все население страны, — даже тех, кто к Сталину относился, мягко говоря, не очень. Александр Галич в одной из своих песен выразил это отношение так: «Все стоим, ревмя ревем — и вохровцы, и зеки…» Мы знаем о давке, случившейся во время прощания в районе Трубной площади, где погибли люди. Однако нам все равно представляется что-то возвышенно-патетическое, в стиле парадных портретов маршалов кисти Яковлева. Власть тогда максимально отгородила себя от народных масс, и члены Политбюро представлялись этакими небожителями, неподверженными обычным человеческим слабостям.
А на картине Анчарова — не всесильные руководители партии, а обычные люди с обычными человеческими чувствами: скорбью, непониманием, как жить дальше… О том, кого именно хоронят, напоминает только антураж Красной площади и человеческое море за спинами собравшихся. Неким диссонансом выглядит негритянское лицо в центре композиции — скорее всего, так Анчаров пытался ввести в картину политкорректный элемент «всемирной скорби». И тем не менее что-то более далекое от образа «вождей народа» представить себе трудно. Думается, что пресловутый «культ личности» в устах преподавателей был только предлогом — нельзя было допускать, чтобы население думало о своих «вождях» как об обычных людях, таких же, как все остальные.
Наиболее законченный из многочисленных набросков темы о Ломоносове, покидающем родное гнездо для учебы в Москве (сохранилось более пяти таких эскизов, представляющих раскрытие темы в разных ракурсах), — куда более патетичен. Анчаров здесь пытается образно выразить некий «разрыв с прошлым» — юный Ломоносов как бы порывает со всей этой лапотно-мещанской Русью и устремляется «вперед к сияющим вершинам знания». Законченной работы, если она и была, не сохранилось, но, судя по эскизам, она была бы существенно ниже того уровня, который мог себе тогда позволить Анчаров: слишком «заказная» по теме. А «заказные», конъюнктурные работы у него никогда не получались, ни в живописи, ни в литературе, ни в песнях, как мы еще увидим: вспомним его собственное признание «как только я пишу картину, которую я заранее вообразил, то картина не получается». Так что отвергли эту тему у дипломника Анчарова, наверное, не зря, а вот предлог в виде «культа личности» (если только Анчаров его не сам придумал позже) действительно странный — представленный образ Ломоносова более чем политкорректен по тем временам.
А вот «Летун» великолепен. Эту картину иногда называют «Крылья холопа» — по названию песни Сергея Никитина на стихи Давида Самойлова, которые хочется здесь привести полностью, настолько они хорошо укладываются в предложенную Анчаровым тему:
Стоишь, плечами небо тронув,
Превыше помыслов людских,
Превыше зол, превыше тронов,
Превыше башен городских.
Раскрыты крылья слюдяные,
Стрекозьим трепетом шурша.
И ветры дуют ледяные,
А люди смотрят, чуть дыша.
Ты ощутишь в своем полете
Неодолимый вес земли,
Бессмысленную тяжесть плоти,
Себя, простертого в пыли,
И гогот злобного базара,
И горожанок робкий страх…
О божья, и людская кара!
О, человек! О, пыль! О, прах!
Но будет славить век железный
Твои высокие мечты,
Тебя, взлетевшего над бездной
С бессильным чувством высоты.
Позднее страстный почитатель творчества Михаила Анчарова Андрей Козловский, известный автор и исполнитель, один из тех, кто органически сочетает в своем творчестве традиции авторской песни и рока, напишет песню на ту же тему:
Вот и крылья разметал, вот и весел.
Смех, какая пустота в поднебесье.
Снизу город ржавых крыш нарисован,
Сверху ты над ним паришь невесомо.
Сохранившийся угольно-пастельно-гуашевый набросок «Летуна» на обороте незагрунтованного листа оргалита, который представлен вашему вниманию, — очевидно, также лишь эскиз, с которого должна была быть выполнена законченная картина. Но именно этот набросок неоднократно выбирался из всех картин Анчарова иллюстраторами его литературных произведений и дисков с записями песен, как один из самых характерных для анчаровского творчества. Впервые это произошло еще при жизни Анчарова в 1985 году в «Студенческом меридиане» при публикации упоминавшейся повести «Роль». В январе 1988 года, подбирая картину для конверта пластинки «На краю городском… на холодном ветру», Анчаров так охарактеризует картину составителю будущей пластинки М. В. Крыжановскому:
«Он до сих пор летит, а за ним позади телевизионные эти, как они, антенны на крыше. А он летит, вот так! До сих пор летит. Ни хрена ему не сделаешь, летит и всё. Вот летит и всё! Была огромная картина, я ее делал, делал, а потом ее дома порвали что-то…, а потом я сообразил как, и всё уместилось, как хотелось. Как я только догадался про телевизионные дела, так всё стало на свои места. Это сейчас картина. Это не фокус, что он летит там, исторически. Это не фокус. Он сейчас летит».
Возможно, Михаил Леонидович художественно приукрасил и упростил историю с дипломом, но, независимо от причин, три последовательно отклоненные темы — это все-таки чересчур. Поэтому ему пришлось браться за четвертую и выбирать ее так, чтобы уж наверняка. В приложении к диплому, который он получит 14 июля 1954 года, в выписке из зачетной ведомости, в качестве дипломного проекта указана работа под названием «Начало дружбы». От этой работы сохранились эскизы (некоторые из них представлены на мемориальном сайте) и черно-белая репродукция, которая воспроизводится здесь. Картина изображает советских солдат в освобожденной Маньчжурии и может служить в качестве отличной иллюстрации к сценарию «Баллада о счастливой любви», который Анчаров напишет пару лет спустя, в деталях совпадая с одной из описанных там сцен (к сценарию мы еще вернемся).
При защите диплома картина оценена на «посредственно», и это, наверное, справедливая оценка, потому что слишком уж она выглядит «заказной», подогнанной под политическую задачу. Но кто виноват, что Анчарову не позволили сделать что-то на уровне, которого он, без сомнения, к тому времени уже достиг? Он явно пошел по пути наименьшего сопротивления, уже не заботясь ни об оценках, ни о репутации, — лишь бы закончить институт. Обратите внимание на оценки «хорошо» по специальным предметам («рисунок», «живопись», «композиция») — и это у студента, на работы которого сбегался смотреть весь институт?!
Висящее в воздухе объяснение, почему после защиты диплома Анчаров почти забросил живопись, которое высказывал не то он сам, не то кто-то из его друзей, — он не смог найти в живописи свой собственный стиль. По его картинам, если их рассматривать вперемешку, так, как они представлены на сайте, поиски своего пути очень заметны. Там соседствуют все возможные стили, характерные для художников — его современников: от чистого реализма в подражание Яковлеву и совершенно соцреалистических портретов колхозниц до почти абстракции (но только почти — выходом за пределы формы Анчаров никогда не увлекался). Но можно все-таки выделить некий ряд характерных именно для него работ: городских пейзажей, портретов разного времени, жанровых зарисовок на темы Благуши. Если относить их к какому-то течению, то это, скорее всего, будет классический импрессионизм — недаром все почти без исключения художники — старшие современники Анчарова, у которых он учился, так или иначе в молодости прошли школу Серова и Коровина.
Но не столь важно, к какому именно «изму», как выразился бы сам Михаил Леонидович, это его творчество относить. В его работах благушинской тематики («На прогулке», «Пара», «Гуляющие»), в помещенной там же миниатюрной работе «Фонарь» (размером всего 15х16 сантиметров), в многочисленных видах из окна на благушинский двор[107], во многих портретах — читатель может посмотреть их на сайте по указанному в предисловии К читателю адресу — отчетливо видны все признаки оригинального авторского стиля. Если все-таки очень надо как-то его классифицировать, то можно было бы попробовать приставить определение «романтический» к любому из подходящих направлений («реализм», «импрессионизм» и т. д.), но… «короче говоря, если бы живопись можно было описать словами — она была бы не нужна». И вместо многословных комментариев к этим картинам отметим, что свой стиль Анчаров все-таки нашел, только не пожелал в этом признаться самому себе.
Валентин Лившиц впоследствии искренне изумлялся анчаровскому мастерству рисовальщика:
«Захожу я однажды в комнату к нему и вижу, он сидит у окна с холстом и красками и рисует двор, а там весна, грязный снег и машины, стоящие на стоянке. Если бы мне рассказали, я бы никогда не поверил, поэтому, прошу вас, поверьте: на то, чтобы нарисовать машину на холсте, Анчарову хватало двух мазков — один мазок низ машины, другой мазок верх, и машинка — готова. А еще он мог взять лист бумаги, поставить на нем точку, а вокруг провести линию. Потом брался циркуль, и проверялась эта линия, и оказывалось, что это круг с центром в этой точке».
Так что дело не в ненайденном стиле: он не увидел, как этот стиль развить и куда его можно пристроить в рамках, которые задавало официально признанное изобразительное искусство тех лет. И не только тех, заметим — советская живопись заново была загнана в жесткие соцреалистические рамки после уже упоминавшегося скандального разгона Хрущевым выставки в Манеже в 1962 году. Немногие ставшие известными художники, оставшиеся независимыми и в этой атмосфере, либо почти полностью пребывали во «внутренней эмиграции», как Роберт Фальк, либо, как сверстник Анчарова Эрнст Неизвестный или более молодой Михаил Шемякин, вынуждены были все время бороться с гонениями и в конце концов покинуть страну. Анчарова такой путь не устраивал: он бескомпромиссно отстаивал свои идеалы перед лицом конкретных дураков, приспособленцев и бюрократов, но совершенно не был готов на борьбу с «системой» в целом. Ему нужно было признание, публика, выставки — а не комната, заставленная «пыльными холстами», которые он «никогда не продаст», как у изображенного в «Записках» «учителя подруги». Не способен он был и к серьезным компромиссам: стиль жизни тех советских грандов живописи, которые рисовали напоказ одно, а для себя — совсем другое, также не годился для прямодушного и открытого Анчарова, который органически не переваривал вранье и с трудом мог заставить себя рисовать даже просто на заказ, если ему лично что-то не нравилось. И уж совершенно точно, без каких-то «наверное» или «скорее всего», Анчаров не смог бы существовать в эмиграции.
Может быть, Василий Яковлев, если бы он был жив, сумел бы направить Анчарова на путь истинный. Но он умер, а Анчаров, не встречая больше никакой поддержки, посчитал, что «остался в искусстве один». Вот потому-то страна и потеряла весьма многообещающего художника — он не смог найти не собственный стиль, а собственное место в ряду других… не художников, конечно, а скорее «представителей советского изобразительного искусства».
Глава 5
Сценарист
Все последующее десятилетие, вплоть до начала шестидесятых, жизнь Анчарова невозможно рассматривать без Джои Афиногеновой[108]. Она была его настоящим спутником жизни, то есть одновременно Музой, любимой и единомышленником, поддерживавшим мужа в его начинаниях. И кто знает, как бы сложились жизненные обстоятельства Михаила Леонидовича, если бы не горький и преждевременный конец истории их взаимоотношений. Но, как мы увидим, даже само по себе трагическое окончание этой истории в конечном итоге послужило определяющим фактором, сформировавшим Анчарова как писателя.
Обстоятельства его знакомства с Джоей, по собственным словам Анчарова в пересказе Галины Аграновской, выглядят следующем образом (Аграновская, 2003):
«Пока я варила кофе, сытый и порозовевший Миша вдруг, без всякого повода, заговорил о Джое: “Знаете, как я познакомился с Джоей?” Не стану закавычивать его рассказ, ибо его речь, паузы, интонации особенные не передать на бумаге. Потому расскажу, как помню.
Будучи в браке с Татой, он жил в семье Сельвинских в Лаврушинском переулке. Вышел днем купить папирос. На его глазах упала с велосипеда девушка. Разбила колени. Он взял ее на руки и отнес в поликлинику Литфонда, в подвале этого же дома в Лаврушинском. Дождался, пока ей окажут помощь, спросил, куда ее отнести, — ступить на ноги она не могла. Оказалось, что нести недалеко, жила она в соседнем подъезде. Вот его слова: “Была она легкая, как ребенок”. Сбегал в аптеку за анальгином… и никогда уже не вернулся к Тате. Рассказ его, гораздо более подробный, был какой-то отстраненный, только частое мигание век выдавало боль. Закончил он так: “Вот такая сказка…”».
В изложении Валентина Лившица история выглядит короче, но очень похоже (Лившиц, 2008):
«Джоя ехала на велосипеде, упала, разбила ногу, Анчаров вышел за куревом и принял участие в упавшей девушке, отнес ее в медчасть, расположенную в том же доме, а потом отнес домой, так как жила она тоже в этом же доме».
Валентин Анатольевич Лившиц (р. 1939, инженер-системотехник) вместе с родителями[109] в 1956 или 1957 году переехал в соседнюю с Джоей квартиру (номер 35) на Лаврушинском. Хотя он был несколько моложе их обоих по возрасту (в 1957 году Валентину исполнилось восемнадцать лет, Джое — двадцать, Анчарову тогда уже было тридцать четыре), он очень близко сдружился с молодой парой. В своих воспоминаниях он пишет: «…я провел рядом с ним то ли шесть, то ли семь лет, как я считаю, лучших моих лет, потому что день начинался либо с моего прихода к Анчаровым, либо со звонка Анчарова с вопросом, почему я не иду, и заканчивался часов в шесть утра следующего дня, когда мы либо шли вместе из гостей, либо провожали вместе засидевшихся у Анчаровых гостей и шли вместе с ними на улицу ловить им такси и стрелять нам сигареты».
Причем все время знакомства Лившица с Анчаровым они называли друг друга на «вы»: «…мы с ним так и не перешли на “ты”, хотя пили “на брудершафт” бесчисленное количество раз. Все наши знакомые, в том числе и вся моя компания, познакомленная мною с Анчаровыми, давно перешла с ними на “ты”, все обвиняли нас с Мишей в “пижонстве”, а мы ничего не могли с собой поделать:
— Мишенька, вы не передадите ли мне хлеб?
— Валечка, вы с нами завтра поедете?»
Их отношения еще больше укрепило увлечение Валентина Анатольевича авторской песней — со времен школьного туристического кружка он был знаком с Юрием Визбором и Адой Якушевой, позднее познакомился с молодым — всего на год старше Валентина — Владимиром Высоцким. Значительной частью сведений о жизни Анчарова в период проживания в Лаврушинском совместно с Джоей мы обязаны ярким и содержательным воспоминаниям Валентина Анатольевича, с полной версией которых читатель может ознакомиться на мемориальном сайте Анчарова.
Романтическая история знакомства с Джоей, по всей видимости, придумана Анчаровым на основе действительных событий, точно так же, как потом он придумает фрагмент из истории своих отношений с Натальей Суриковой для дочери Елены. Так как Валентин Лившиц слышал ее от обоих фигурантов, то Джое история, вероятно, тоже нравилась. Что-то из реальных обстоятельств тут, очевидно, присутствует, но в действительности все было совсем не так быстро и красиво, но, без сомнения, тоже весьма романтично.
Джоя Афиногенова родилась 24 февраля 1937 года и была дочерью очень известного в ту пору драматурга Александра Афиногенова.
Александр Николаевич Афиногенов (1904–1941) был драматургом, как охарактеризовал его Дмитрий Быков, «чрезвычайно советским»[110], и хотя в 1937 году его временно исключили из ВКП(б) и Союза писателей, таким и остался. Был близким другом Бориса Пастернака. В 1938 году Афиногенова неожиданно для него самого восстановили в партии, а с началом войны он становится деятельным руководителем литературного отдела Совинформбюро. А. Н. Афиногенов в молодости был приверженцем «революционного театра», а в тридцатые годы, наоборот, боролся против Пролеткульта в пользу классической драмы. Был высоко оценен Максимом Горьким, переписывался с ним до конца его жизни, посылая свои пьесы на рецензии. Правдиво отразил настроения в обществе рубежа тридцатых в пьесах с говорящими названиями «Ложь» и «Страх» (1931).
«Страх» автором дважды переписывался, так как первую версию запретила партийная цензура. Говорят, узнав о том, что «Ложь» заслужила отрицательный отзыв Сталина, А. Н. Афиногенов обзвонил театры и попросил снять пьесу с репертуара — не потому, что боялся, а потому, что искренне считал себя не вправе действовать вопреки «интересам партии». После истории с исключением из партии он несколько пересмотрел свои взгляды на партийное руководство искусством, но остался лояльным советским писателем.
Его самая популярная пьеса «Машенька», впервые поставленная в Театре Моссовета в 1941 году, очень понравилась и публике, и тогдашнему истеблишменту, в дальнейшем она много раз ставилась на сценах отечественных театров и оказала большое влияние на советскую драматургию. В отличие от «пролетарских» пьес Вс. Вишневского и Н. Погодина, которые полны «партийного огня, пролетарской зычности, биения индустриального пульса» (собственные слова Вс. Вишневского), «Машенька» ставит во главу угла личные отношения — в пьесе рассказывается о взаимоотношениях старого академика Окаемова и его пятнадцатилетней внучки Маши. Пьеса имела ошеломляющий успех с первой постановки и продолжает свою театральную жизнь до настоящего времени.
Илья Эренбург в своем романе воспоминаний «Люди. Годы. Жизнь» цитирует слова, которые Афиногенов записал в своем дневнике: «Если б искусство писателя состояло в умении наблюдать людей — самыми лучшими писателями были бы доктора и следователи, учителя и проводники вагонов, секретари парткомов и полководцы. Однако — этого нет. Потому что искусство писателя заключается в умении наблюдать себя!» Если не знать автора, то эти слова можно было бы приписать Анчарову, настолько они напоминают некоторые места из его прозы. Но не стоит спешить обвинять Анчарова в плагиате — просто эта идея, подобно многим другим, высказанным Анчаровым, тогда «носилась в воздухе».
Афиногенов был женат на американской коммунистке Дженни Мерлинг (в СССР ее звали Евгенией Бернардовной). Вот что пишет о ней драматург Исидор Шток в своих воспоминаниях[111]:
«…приехала в СССР в начале тридцатых годов с одной из актерских бригад. Встретилась с Александром Николаевичем, да так в Москве и осталась. Бросила сцену (она была танцовщицей), изучила русский язык, стала верной подругой и помощницей мужа. У Дженни был деятельный характер, она была очень принципиальна в отношениях с людьми, обладала прекрасным литературным вкусом. Александр Николаевич всегда советовался с женой, читал ей первой свои пьесы. Весь “переделкинский” период жизни Афиногенова был организован ее стараниями. Она бережно охраняла режим труда Александра Николаевича, старалась сделать его пребывание в Переделкине уютным. Дружеская атмосфера, царившая на даче, во многом поддерживалась благодаря такту и спокойствию Дженни».
Осенью 1941 года писателя вместе с женой, беременной вторым ребенком, решили направить в командировку в США — возможно, агитировать за открытие Второго фронта. 29 октября 1941 года[112], накануне командировки, А. Н. Афиногенов на несколько минут забежал в свой кабинет в здании ЦК на Старой площади и погиб, став единственной из всех находившихся в здании жертвой бомбежки — один из очень немногих случаев, когда немецким бомбардировщикам удалось прорваться к центру Москвы. Дженни пришлось уехать в Штаты одной с Джоей и новорожденной дочкой Сашей.
В 1948 году из-за нарастающего напряжения в отношениях между недавними союзниками Дженни с детьми пришлось вернуться. Вот как Валентин Лившиц передает рассказ Джои о последовавших за этим событиях (Лившиц, 2008):
«Всю войну они с сестрой и мамой (мама была известная американская танцовщица) прожили у бабушки-миллионерши в Америке, а перед самым закрытием “железного занавеса” приплыли в Советский Союз на пароходе “Победа”, который был не что иное, как “Герман Геринг”, взятый Советским Союзом у Германии в счет репараций. На этом пароходе плыл из Америки также гоминьдановский генерал, который не смог договориться о чем-то в Америке и теперь хотел попробовать договориться с большевиками.
Кому-то было совсем не нужно общение этого генерала с большевиками, и этот кто-то устроил диверсию на борту парохода. Ночью запылал пожар, горела огромная коллекция фильмов, находившаяся в кинобудке. Джоя Афиногенова спала в отдельной каюте, а Саша (сестра), то ли пяти-, то ли шестилетняя, спала с мамой. В момент пожара Саша проснулась и умудрилась выбраться на палубу, мама же девочек не выбралась, вероятно стало плохо с сердцем, и она задохнулась (старшая сестра никогда не могла простить младшей, что она не разбудила мать)».
Валентин Лившиц так описывает характер Джои:
«Итак, Джоя Афиногенова была: молода (ей 17 лет), красива (Джоя была жгучая брюнетка с тонкими, изящными чертами лица и тоненькой очаровательной фигуркой), обеспечена (за ней стояло наследство ее отца), имела квартиру (4-комнатная квартира семьи Афиногеновых, № 34 по Лаврушинскому, где жили Джоя, Саша и их бабушка[113]). Кроме того, Джоя была чертовски своенравна, и если чего-то хотела, то своего добивалась всегда. И вот, как мне говорила сама Джоя, она решила, что Анчаров будет ее мужем, решила она это за тот час, который прошел с момента их знакомства».
Однако были и препятствия, причем препятствия серьезные, вспоминает Валентин Лившиц:
«Первое — Джое было только 17 лет, а брак с несовершеннолетней по советским законам был невозможен, вернее, возможен лишь при ее беременности и согласии родителей на этот брак. А поскольку родителей у Джои не было, у нее был опекун, и вот тут-то таилось самое страшное — второе обстоятельство. Опекуном у сестер Афиногеновых был друг их отца. Беда для Миши Анчарова была в том, что этот друг-опекун одновременно был еще и членом Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, и первым секретарем Союза советских писателей, и звали его Александр Фадеев[114], и если бы он захотел, то Мишу Анчарова растерли бы в пыль дорогие органы и никаких следов не осталось бы».
И продолжает:
«И вот при таких условиях Миша и Джоя принимают решение. <…> Миша из квартиры Джои никуда не уходит и остается в ней жить, завтра же они вместе идут к Фадееву и просят его разрешить им расписаться (именно это слово произносили и Миша, и Джоя), а после того, как они распишутся, он поможет им получить путевку в санаторий Литфонда в Геленджике, где они и проведут свой “медовый месяц”.
И представьте себе, несмотря на всю бредовость этой затеи, все у них получилось, и впоследствии всю свою жизнь Михаил Леонидович Анчаров был уверен, что будет всё так, как этого хочет Джоя <…> (кстати, мне Миша доверительно говорил, что так, как он трусил, сидя в приемной у Фадеева, когда Джоя ушла к опекуну в кабинет, он не трусил никогда)».
Еще раз повторим: в воспоминаниях Валентина Лившица и Галины Аграновской описывается история, изложенная так, как ее рассказывали сами действующие лица. Тут следует еще раз отметить ту черту характера Михаила Леонидовича, от которой он никогда так и не избавился до конца, — по отношению к окружающей жизни он был еще большим идеалистом и романтиком, чем в творческих сферах. Ему было скучно воспринимать жизнь как она есть — со всеми этими бытовыми подробностями, не всегда приятными особенностями поведения реальных людей. Поэтому из реальных историй, которые в жизни могли длиться годами и обрастать множеством очень разных подробностей, Анчаров всегда брал то существенное, что позволяло создать нужный образ, а остальное просто отбрасывал. Близкий знакомый Анчарова Владимир Сидорин[115] вспоминал: «Рассказчик он был потрясающий. Он рассказывал такие истории и байки, с таким юмором и так живописно, что все сразу видели то, что он рассказывал». Иными словами, рассказы в компании друзей и знакомых о своей жизни он творил точно так же, как свои стихи или прозу, подменяя действительность придуманными образами. Надо заметить, что это свойство характера Анчарова ни разу никому не повредило, кроме него самого: он чаще всего представлял людей лучше, чем они были на самом деле (а если уж кто-то представлен дураком или негодяем, то можно быть уверенным, что так оно и было). Но его собственная беда заключалась в том, что Анчаров и сам в конце концов начинал верить придуманным им образам и нередко жестоко ошибался.
Реальная подоплека истории знакомства Анчарова и Джои приоткрывается, если учесть многочисленные воспоминания, которые свидетельствуют, что они были знакомы издавна — вероятнее всего, почти с самого возвращения Джои в СССР в 1948 году, когда ей было одиннадцать лет. Это неудивительно, если вспомнить, что отец Джои Александр Афиногенов и отец Татьяны Илья Сельвинский принадлежали к одному кругу. Знакомый Джои и Анчарова архитектор Андрей Косинский[116] вспоминает, как Джоя, с которой он познакомился почти сразу после ее возвращения в СССР, пригласила его в Переделкино (вероятнее всего, это 1948 или 1949 год):
«…летом я поехал туда на дачу и оказался в очень милой компании. Там были кассилевские дети, была там Наташа Леонова, была там Таня Сельвинская, и был там Миша Анчаров, который тогда еще только ухаживал за Таней Сельвинской».
О самой Джое в этом возрасте Андрей Станиславович пишет:
«Джое было тогда лет двенадцать-тринадцать, но она уже была абсолютно сформировавшаяся дама, говорившая по-русски и по-английски в равной мере одинаково, была достаточно начитанна, и я, будучи значительно старше, не чувствовал с ней разницы в возрасте».
То же самое качество юной Джои отмечает Лев Алексеевич Шилов[117], выросший в Переделкино на даче своей бабушки Лидии Сейфуллиной:
«…она была как-то очень отделена от своих школьных сверстников. Она уже прочитала всю мировую литературу, и, представляете, вот такой девочке учиться в пятом-шестом классе?»
Лев Шилов рассказывает и том, как произошло знакомство Джои с Анчаровым:
«Девочка была очень миловидна, добра, красива, мечтательна и лет в тринадцать-четырнадцать или в двенадцать-тринадцать она влюбилась в Михаила Анчарова, который только что вернулся с японского фронта, командир батальонной разведки[118], женился на Тате Сельвинской, возобновил свою прерванную учебу в Художественном институте. И пел свои песни. И конечно, все были в панике: “Что такое Михаил Анчаров — охотник за писательскими дочками…”»
Далее Лев Алексеевич пишет о том, что им запретили встречаться и года два Анчаров с Джоей, вероятно, действительно не виделись.
То, что было дальше, приоткрывается содержанием двух найденных в архиве Анчарова писем, датируемых июнем 1951 года. В это время Анчаров, закончивший третий курс Суриковского института, был на практике во Владимире. 15 июня Джоя пишет Анчарову письмо, которое начинается следующими словами:
«Здравствуй, “старик”!
Знаешь, я была на тебя уже зла и решила, что, когда наконец получу твое письмо, отвечу тебе не раньше чем через две недели. Но не выдержала и пишу в тот же день. Теперь я хочу покончить с делами. Как дела с Ф.? Ничего. Может, я наделала немного глупостей, но каяться буду потом, когда приедешь. Вообще все окончилось ничего. Он вызвал к себе Т., ее отца и бабушку. О чем он говорил с бабушкой, не знаю, только она была очень расстроена».
И в конце письма:
«Итак, остаюсь Ваша неудавшаяся ученица, на которую вы потратили зря так много времени (это тебе за надпись на картине). Целую и люблю. Д. Пиши чаще, или… Я так по тебе соскучилась».
Под «Ф.», очевидно, имеется в виду тот самый генеральный секретарь и председатель правления Союза писателей Александр Фадеев, официальный опекун Джои Афиногеновой (о нем несколько слов ниже). Под «Т.» в письме Джои фигурирует, разумеется, Татьяна Сельвинская, с которой Анчаров тогда жил в квартире ее родителей (квартира 44 по Лаврушинскому, 17). Реконструкция истории дальнейшего знакомства Джои и Анчарова, с учетом описанных в этом отрывке событий, не представляет труда. Влюбленной в Анчарова Джое летом 1951 года как раз исполнилось 14 лет. Очевидно, в одну из встреч со своим опекуном она, ничтоже сумняшеся, выложила все о своих чувствах. Грозный Фадеев вызвал хорошо ему знакомого Илью Сельвинского с Татьяной, а также бабушку Джои и, вероятно, очередной раз вложил им по первое число. Сам виновник в это время пребывал на практике и разноса счастливо избежал. Возрастом Джои объясняются и слова в воспоминаниях Валентина Лившица: «если бы он захотел, то Мишу Анчарова растерли бы в пыль дорогие органы и никаких следов не осталось бы».
Подпись «Ваша неудавшаяся ученица» в конце письма свидетельствует, что Анчаров пытался учить Джою живописи, но потерпел неудачу. Иными словами, они встречались неоднократно, хотя о наличии каких-либо супружеских измен со стороны 27-летнего Анчарова с 14-летней девочкой, пусть и рано повзрослевшей, говорить не приходится. До поры их отношения, очевидно, были вполне целомудренными, а Татьяна, со своей стороны, очевидно, это понимала, потому относилась к этому знакомству внешне спокойно.
Анчаров в ответе Джое от 21 июня заметит: «Т. рассказывала мне подробно обо всех делах твоих с Ф. и т. д. — конечно, наделала глупостей, ну бог с тобой». Более того, в этом ответном письме Анчаров пишет «Т. хочет недели на две приехать погостить сюда с 1-го числа — хорошо бы тебе удалось бы приехать с ней хоть на пару деньков». В итоге встречи опекуна, очевидно, успокоили, и, вероятно, Татьяна сыграла в этом не последнюю роль. Такими отношениями объясняется и наличие фотографии, где обе женщины присутствуют вместе с Анчаровым (см. предыдущую главу).
Тем не менее Анчаров с Джоей в этих письмах договариваются о том, как скрыть переписку от близких. За этим еще не стоит прямого обмана, но тон писем (дважды повторенное Джоей «люблю» и «я так по тебе соскучилась»), а также анчаровское «люблю и тоскую» и «представляю себе, что было бы, если бы я получил письмо при ней» не оставляют сомнений в том, что письма не для посторонних глаз.
Но Джоя росла, а планы ее не менялись. Без сомнения, именно к этим сложностям в жизни дочери относится неопределенная реплика Ильи Львовича Сельвинского в ответ на поздравление Галины Аграновской в 1953 году: «посмотрим…» Окончательный разрыв с Татой произошел, вероятнее всего, весной 1954 года, когда Джое исполнилось 17 лет. Именно к тому времени следует отнести изложенную Лившицем историю с визитом к опекуну: «мне Миша доверительно говорил, что так, как он трусил, сидя в приемной у Фадеева, когда Джоя ушла к опекуну в кабинет, он не трусил никогда». После этого Анчаров уже не мог не жениться на Джое официально.
Александр Александрович Фадеев (1901–1956), или «писательский министр», как его называли, не имеет прямого отношения к биографии Михаила Анчарова, за исключением того, что был опекуном Джои, но о нем хочется сказать несколько слов как о характерной фигуре той эпохи. А. А. Фадеев вырос на Дальнем Востоке, где в 1918 году вступил в РКП(б), в семнадцатилетнем возрасте уже был комиссаром полка, в 1920-м участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. В 1926-м написал роман «Разгром» о становлении советской власти в Уссурийском крае, который вместе с «Молодой гвардией» позднее включат в школьные хрестоматии. С 1926 года и до конца жизни руководит писательскими организациями разного уровня — сначала РАПП, потом Союзом писателей СССР. Одновременно делает партийную карьеру — еще до войны избран в состав ЦК партии.
Фадеев причастен ко многим репрессиям в среде советских писателей, причем всегда строго выдерживал текущую «линию партии» со всеми ее зигзагами. Но одновременно пытался поддержать и спасти Мандельштама, публично критиковал Пастернака, но в кругу друзей обожал читать его стихи, и так со многими другими. Эта двойная жизнь привела его в конце концов к тяжелому нервному расстройству. Уже после смерти Сталина Фадеев в статье в «Литературной газете» вдруг обрушивается с жестоким разносом на писателя Василия Гроссмана, которого до этого всячески поддерживал и даже отстаивал перед Сталиным. Вот что пишет об одной из последних встреч с Фадеевым Илья Эренбург в своих воспоминаниях: «Фадеев без звонка пришел ко мне, сел на мою кровать и сказал: “Вы в меня не бросите камень… Я попросту испугался”. Я спросил: “Но почему после его смерти?..” Он ответил: “Я думал, что начинается самое страшное…” Он это повторил потом много раз: ему хотелось каяться». В 1956 году, вскоре после ХХ съезда, Фадеев застрелился у себя на даче. В газетах в качестве официального диагноза объявили «приступ алкоголизма», хотя, по свидетельству Эренбурга, Фадеев до самоубийства три недели не пил, а приводил дела в порядок.
Но смертью Фадеева его отрицательное влияние на советскую действительность не закончилось. В 1946 году, затевая «Молодую гвардию», Фадеев был искренне увлечен историей молодых подпольщиков, совершенно самостоятельно создавших целую организацию для борьбы с фашистами в их глубоком тылу. Он писал роман, а не хронику, к тому же в жанре «соцреализма», где не грех приукрасить реальные события, потому не особенно старался придерживаться фактов, собранных к тому же не слишком аккуратно. Сталин прочел роман только через пару лет и возмутился отсутствием там «руководящей и направляющей» (в понятиях сталинского режима никакой самодеятельности не допускалось — все должно было происходить строго под руководством партии). Потому в 1951 году Фадеев выпустил вторую редакцию романа, где показал руководство подпольной организацией со стороны ВКП(б). Вот эта вторая редакция три с половиной последующих десятилетия и представляла официальное истолкование событий, связанных с реальной «Молодой гвардией». В результате были незаслуженно оболганы или забыты одни ее герои и превознесены другие, искажена мотивация поступков персонажей и т. д. и т. п. Сейчас любой может ознакомиться с историей настоящей «Молодой гвардии» на одноименном сайте, но вред конкретным людям, нанесенный навязанной сверху версией, уже не исправить.
Разумеется, бабушка Джои Антонина Васильевна была против этого брака, как и многие другие знакомые и родственники. Можно только представить себе, насколько были недовольны отец и мать Анчарова, давно знавшие семью Сельвинских. Есть свидетельство, что мать Таты Берта Яковлевна Сельвинская попрекала Анчарова тем, что он воспользовался их добрым отношением, чтобы проникнуть в писательские круги. Подобные истории — самая благодатная почва для сплетен, и население переделкинского поселка вместе с обитателями писательского дома на Лаврушинском не один год с удовольствием перемывало кости всем действующим лицам.
Анчаров этой стороны человеческих отношений никогда не понимал и не принимал. Он знал, что перед собой он честен и заниматься «охотой за писательскими дочками» не собирался, а остальное его не волновало: «бабские сплетни» относились к наиболее ненавидимой им стороне жизни. Оправдываться перед кем-нибудь у него и в мыслях не было — к своей репутации Анчаров был абсолютно равнодушен, за что впоследствии жестоко поплатится еще не раз. Причем, судя по всему, они с Джоей в этом своем отношении к «общественному мнению» были вполне единодушны. А то, что их любовь была совершенно невыдуманной, можно считать твердо установленным фактом.
«Открытый дом» — такая характеристика звучит практически во всех многочисленных воспоминаниях о периоде жизни Анчарова в Лаврушинском переулке совместно с Джоей. Многие вспоминают о том, как у них в одной из комнат на полу лежала шкура белого медведя, как Джоя купила в комиссионке и подарила Анчарову цыганскую гитару XIX века, как в эту компанию все время притаскивали разных людей. Живопись тогда Анчаров забросил почти совсем — Андрей Косинский, который поддерживал знакомство с Анчаровым долгое время, вспоминал:
«…я никогда не видел его живопись. Только иногда, когда я просил его, он вынимал что-нибудь откуда-то из-за шкафа и показывал. А так картины у него в то время как-то не присутствовали в жизни».
Крепко ударили его преподаватели Суриковского. Тут надо еще заметить, что Михаил Леонидович всегда равнодушно относился к природе и абсолютно не участвовал во всеобщем увлечении пешим туризмом, охватившим тогда все слои интеллигенции. Уютно он себя чувствовал только в городе.
Татьяна Яковлевна Злобина[119], которая познакомится с Анчаровыми уже на рубеже шестидесятых, назовет его «типичным урбанистом» и будет удивляться, как им всем хватало здоровья на то, чтобы вести привычный для тех времен образ жизни:
«А тут это просто было, так сказать, времяпрожигание, что называется. …Я сейчас с тихим восторгом вспоминаю, как меня на это хватало: пойти в 9 часов на работу (я работала в издательстве “Иностранная литература”, где перевешивала табель с места на место) и прийти в 6 вечера. Потом рвануть домой, быстренько сготовить, обиходить ребенка, накормить, все постирать, все сделать. И всю ночь гулять до утра.
И оттуда, прикорнувши на часочек на этой медвежьей шкуре, поехать на работу. И вот так по трое суток подряд. Это же какое надо было иметь лошадиное здоровье! Я себе даже не могу это представить, как нас хватало. И на все нас хватало, конечно. Вот и Джойка, длинный мундштук, сигарета, поднос в руках, либо с напитками, либо с ее фирменными гренками из духовки. Американские эти гренки, когда хлеб там, кетчуп или помидорка, сыр сверху, это запекалось, выносилось, сжевалось в одно мгновение вот».
Ей вторит искусствовед Ирина Алексеевна Романова, также часто бывавшая в этой компании:
«Ну, вообще он, конечно, образ жизни вел совершенно, ну, как бы сказать, анти, анти на все. Вот они с Джоей могли днями не выходить из квартиры. Прокуренный этот воздух… без еды толковой. Я говорю: “ну, хорошо, Миша, ну, а как же Джоя-то, она женщина, ну, что-то приготовила?” Да ну что ты? Она, говорит, у нее есть этот лимонадик, она печеньице закусила, и все дела, и ничего ей не надо».
Очень живописно рассказывает об этом периоде Валентин Лившиц, который был рядом с Анчаровыми все эти годы:
«…все менялось со скоростью смены картинок в калейдоскопе. Раз: пришел Юра Визбор. Вечер слушаем Мишу, он поет для Юры, компания внимает. Потом Юра поет для Миши, расходимся в 6–7 утра. Два: приехал из Ленинграда Женя Клячкин — все то же самое, но уже с Клячкиным. На следующий день звонит Петровская[120], что к ней приведут Городницкого (приведет Юра Визбор), все наши (Анчаровы и Лившицы) собираются и идут в “Ударник”, на знакомство с Городницким. Потом Злобина откуда-то выкапывает Туриянского, первый день пьем (синоним “поем и слушаем”) у Петровской, на другой день все перемещаются к Анчаровым. У Анчаровых компания решает, что ей не хватает свежего воздуха. Я захожу домой к себе, беру ключи от дачи, и компания, вся какая ни есть, на электричке, едет на “42-й километр” Казанской железной дороги. Дача тогда не перестроенная, холодная. Печка только в кухне. Человек 20 или 25. Ведро шашлыка, замаринованное прямо в дороге. Ящик водки и ящик воды. Зажигаем печку. Дыму полная кухня. Все сидят в пальто. Шашлык жарится прямо в топке печи. Кто-то (не помню, кто сидел “на раздаче”) протягивает руку назад, вынимает бутылку водки, разливает ее на 25 стаканов-кружек и пустую ставит в ящик. 20 тостов один за другим, ящик водки пустой, и мы налаживаем кого-то (кто приехал позже на машине и еще трезвый), он берет пустой ящик и едет в город Жуковский обменивать пустую тару на полную. Так дня два-три. Спят, кто где может. Не раздеваясь. Заканчивается “гульба” так же неожиданно, как она и начиналась. Все собираются, толпой идут на станцию, уезжают в Москву, от вокзала по своим квартирам, помыться, побриться, привести себя в нормальный вид».
Александр Тамбиев так вспоминал о Джое:
«Она была очень интересной женщиной внешне. Она была прекрасно сложенной, невысокой, с хорошей очень фигурой, интеллигентным лицом. Но вот не любил и не люблю курение, а она все время курила. Она была очень умна. Но говорила она немного, что ее с хорошей стороны характеризует. Она не была болтушкой, как бывают женщины, не дают никому сказать слова, все время тарахтят и тарахтят. Нет, она говорила немного и достаточно интересно. И очень много слушала, впитывала в себя».
При всех ее достоинствах домохозяйкой Джоя была никакой и к тому же с некоторыми не слишком приятными замашками, которые в те времена называли «барскими» (Лившиц, 2008):
«В это время семья Анчаровых жила на деньги, которые получала Джоя Афиногенова, как долю от переиздания и исполнения произведений ее отца. Должен заметить, что деньги это были немалые, если Джоя могла позволить себе, чтобы такси ждало ее у подъезда во дворе по полдня, с тем чтоб поехать по комиссионным, где тогда только и можно было купить какие-нибудь модные вещи. Больше того: если вечером нам надо было куда-нибудь ехать и требовалось такси, то при звонке на бюро вызова достаточно было сказать фамилию — “Афиногенова”, и такси находилось мгновенно.
Питались, правда, Миша с Джоей небрежно, из кулинарии, но опять-таки не от безденежья, а от того, что Джоя готовить не любила и не хотела. <…> Гладить Джоя тоже не любила, посуду мыть не выносила, стирать не хотела. Не забывайте, что она выросла в другой стране и знала, что существуют посудомоечные машины, стиральные машины и гладильные машины и тому подобные.
Но Анчаров был существо неприхотливое. Он ел, что дают, и ходил в том, во что его одевала Джоя, а Джое было проще прикупить в “комке” какой-нибудь новый джемпер для Миши, чем постирать его старый».
Иосиф Гольдин (о котором далее) впоследствии так излагал в письме к Анчарову точку зрения Джои на бытовые проблемы: «…если у вас есть импульс, вы пишете даже в дизентерийном бараке, а если нет, то никакой суп этот творческий импульс не вызовет». Джоя здесь, конечно, точно уловила ту черту, которая в принципе присуща любому творческому человеку, — когда стремление к работе доминирует над всем остальным. К Анчарову это относилось даже больше, чем ко многим другим, — он действительно был абсолютно нетребователен в быту. Но с облегчением принять эту черту за реальное положение вещей и вовсю ее эксплуатировать, упрощая себе жизнь, — согласитесь, все-таки будет ошибкой, за которую рано или поздно придется расплачиваться. И последний период их совместной жизни, к сожалению, покажет всю справедливость этого положения — у Джои, в отличие от многих других жен в подобной ситуации, ведь даже не было оправдания в виде собственного занятия, которое могло бы поглощать все ее время.
Общий стиль и отдельные подробности их жизни весьма выразительно отражены в воспоминаниях Валентина Лившица об обстоятельствах его первого знакомства с семьей Анчаровых:
«Через какое-то время к нам зашла наша новая соседка, зашла то ли за папиросами, то ли за чем-то еще. Кстати, папирос и сигарет у Анчаровых всегда не хватало, у Миши и Джои в большой комнате стояла огромная напольная ваза индийской работы, в которую бросали все недокуренные “бычки”, и впоследствии, когда ночью уже нигде достать курево было нельзя (тогда в Москве ночью никакая торговля не работала), расстилались на полу газеты, высыпалось содержимое вазы и крутились самокрутки, а иногда там попадались и сигары, которые курил только Миша, как он, шутя, про себя говорил “пижон и джентльмен”. Я однажды попробовал “на бессигаретьи” выкурить эту “Гавану” и кашлял часа два, сообщив “Михал Леонидычу”, что у меня в горло как будто ножку от стула вставили».
Галина Аграновская с мужем возобновили знакомство с Анчаровым, судя по всему, в конце пятидесятых (Аграновская, 2003):
«А после Малеевки, зимой, они бывали у нас дома несколько раз. Навестили и мы их в Лаврушинском один раз. Зашли после Третьяковки[121], куда водили детей, наших сыновей. Быт их был крайне неустроенный. Большая неухоженная квартира. Украшением служили несколько хороших работ маслом и акварелей. Чудесный портрет Джои. Оказалось — Мишины. На наши комплименты реплика автора: “Да ладно вам. Видно, что в Третьяковке только в буфете и были”. Угощали нас едой из кулинарии. Вышла к столу сестра Джои, неприветливая, Мише говорила колкости. Попрекала, что забыл купить лекарства бабушке. Миша отмалчивался, Джоя сестру не останавливала. Осталось впечатление, что Миша в доме не вполне свой. Мне было его жалко, о чем я и сказала дома Толе. “Джоя тоже не излучает счастье”, — заметил мой муж».
Как видно, отношения и самого Анчарова, и Джои с бабушкой и сестрой Сашей складывались непросто. В конце пятидесятых (Александра Александровна позднее говорила, что это произошло в 1959 году, очевидно, когда Евгения Исаевна — мама Михаила Леонидовича — уже умерла) они устраивают обмен: отец и младший брат Илья с женой и сыном переезжают в Лаврушинский, а родственники Джои — в Мажоров переулок.
В 1954–1955 годах Анчаров возобновляет свою драматургическую деятельность, начатую еще в 1951 году стихотворной пьесой «Леонардо», о которой мы уже писали. На этот раз он пишет прозаическую трагедию «Франсуа» — о Франсуа Вийоне, человеке с тяжелой судьбой, считающемся основоположником всей французской лирической поэзии. Образ независимого и гонимого, но невероятно талантливого Франсуа Вийона, перед которым преклонялись поколения поэтов от конца Средневековья и до романтиков XIX века, был одним из самых любимых у Анчарова. Сохранилась машинописная копия текста трагедии с дарственной надписью Джое Афиногеновой в ее день рождения 24 февраля 1955 года. Пьеса никуда не пошла, о тогдашних попытках опубликовать или поставить ее ничего не известно, и лишь в 1988 году Анчаров включил текст трагедии в повесть «Стройность», которая была напечатана в первом посмертном анчаровском сборнике «Звук шагов»[122].
Однако пьесы пьесами, но надо было искать себе источник пропитания, и в 1955 году Анчаров решает попробовать себя в качестве сценариста. Не исключено, что в этом направлении его подтолкнул второй опекун Джои — Александр Григорьевич Зархи, который к тому времени уже был маститым кинорежиссером, лауреатом двух Сталинских премий за фильмы «Депутат Балтики» (1936) и «Разгром Японии» (1945), поставленных им совместно с другим известным режиссером Иосифом Хейфицем.
Дебют Анчарова-сценариста оказался весьма удачным. В том, что фильм «Баллада о счастливой любви» так и не был поставлен, авторы сценария виноваты меньше всех — вмешались, как пишут в страховых договорах, «обстоятельства непреодолимой силы». Роль соавтора Семена Иосифовича Вонсевера, о котором мы мало что знаем, можно оценить, сравнивая сценарии, в которых он участвовал вместе с Анчаровым, с написанными без его участия, и об этом мы еще скажем несколько слов. Сейчас важно только отметить, что, зная жизненные обстоятельства Анчарова и его творчество, несложно заключить, что вся идея, сюжет и образы могли принадлежать только ему. Сценарий был опубликован в журнале «Искусство кино» (№ 6 за 1956 год), и это была первая серьезная литературная публикация Михаила Анчарова (правда, и единственная на последующие несколько лет). Текст сценария ныне размещен на неоднократно уже упоминавшемся мемориальном сайте, где с ним можно ознакомиться.
События сценария «Баллада о счастливой любви» происходят в хорошо знакомой Анчарову Маньчжурии, причем действие охватывает четверть века — с начала двадцатых годов, когда «зона КВЖД» принадлежала СССР как преемнику царской России, до победы над японцами в конце Великой Отечественной. Эта страница отечественной истории практически не затрагивается обычным школьным курсом, потому малоизвестна широкой публике. По этой причине, если вы соберетесь читать сценарий, имеет смысл освежить в памяти основные вехи истории Маньчжурии в ХХ веке (вкратце они изложены в главе 3 нашей книги) — это поспособствует лучшему пониманию смысла тех или иных сюжетных ходов. Сам сюжет о любви китаянки Мэй и россиянина Василия излагать мы не будем — лучше прочесть «Балладу» самостоятельно, потому что там «проходных» сцен, несущественных для понимания остального, не так уж и много, а в пересказе эти детали неизбежно потеряются. Можно придраться к искусственной и чересчур символичной концовке (финалы сюжетов у Анчарова вообще не очень получались), но в данном случае это было легко исправимо минимальными усилиями режиссера, даже без существенной переделки сценария.
В современном понимании «Баллада о счастливой любви» — мелодраматический боевик, местами его даже можно назвать остросюжетным. Легко себе представить этот сценарий, перенесенный куда-нибудь в Голливуд: если убрать коммунистический антураж и искусственно внесенную тему о «дружбе народов», то почти ничего больше менять не надо, даже место действия можно оставить. Что интересно, при такой трансформации сценарий ничуть не теряет ни в сюжете, ни в центральных образах. Этот мысленный эксперимент показывает, что все потуги авторов на «соцреалистические» обобщения — лишь искусственная мера для вящей «проходимости» сценария в инстанциях и их можно безболезненно отбросить без ущерба для главной задачи.
Фильм по сценарию собирался ставить режиссер Станислав Ростоцкий[123]. Из его выступления на заседании художественного совета Центральной студии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, где в апреле 1956 года прошло обсуждение сценария, видно, что Ростоцкому сценарий очень импонировал:
«Главное новое в нем то, что искусство в течение длительного периода занималось лишь изложением, то есть излагало какую-то сумму идей, не пытаясь внести что-то в эту сумму, а высокое искусство должно заниматься сочинением.
И пусть это удача или нет, но авторы пытались заняться сочинением. Как идею — я вижу это перед собой. И вот почему я хочу работать по этому сценарию.
Это будет хорошая картина, сделанная по принципу того, что все люди вовлекаются в борьбу пассивно, то есть не собираясь бороться, но обстоятельства заставляют их принять участие в каком-то деле.
И в данном случае люди простые, маленькие, вовлекаются в борьбу абсолютно сознательно, твердо понимая, что борются за собственное счастье и что в нашу эпоху, в наши дни, невозможно бороться за собственное счастье, если ты не борешься за счастье вообще».
В эти годы советское искусство потихоньку пыталось выбраться из-под того самого «партийного контроля», в котором поневоле когда-то пришлось разочароваться Александру Афиногенову. Отсюда два знаменательных момента в выступлении С. Ростоцкого. В начале он иронизирует:
«Я, правда, с удовольствием отметил, что выступавшие здесь два редактора не сказали ни о том, что в этом сценарии не показана первичная комсомольская организация, ни о том, что здесь нет профсоюза, я им за это очень благодарен, потому что в противном случае мы все-таки потеряли бы на это какое-то время».
А в конце добавляет о навязшей в зубах соцреалистической сверхзадаче:
«И не надо говорить о дружбе народов. Это надо в аннотации писать, чтобы он скорее проходил все инстанции».
Следует отметить, что в этом сценарии уже проявились некоторые характерные черты Анчарова-писателя. И классическая русская литература, и ее наследница советская всегда тяготели к сложным многоплановым образам, наличию скрытых смыслов, иногда напрямую к приемам «эзопова языка» — намекам на реальные события и лица, о которых нельзя было сказать впрямую. В этом смысле Анчаров был достойным наследником Маяковского, у которого никаких таких «скрытых смыслов» и «вторых планов» вы не найдете: то, что написано, то и имеется в виду. Ростоцкий это отметил в своей речи: «…здесь нет многих подтекстов, нет вторых планов. Их действительно нет. Но, может быть, это здесь закономерно. <…> …здесь символ вырастает из абсолютно конкретных событий, конкретных людей, из очень маленькой истории маленьких людей».
Так почему же сценарию, достоинства которого никем всерьез не оспаривались, так и не удалось превратиться в фильм? Упомянутые «обстоятельства непреодолимой силы» заключались в том, что к концу пятидесятых отношения с Китаем необратимо испортились. Формально случилось то, что леворадикальный Мао Цзэдун отверг возможность союза с относительно либеральным Хрущевым и не простил ему критики Сталина, которого почему-то считал своим единомышленником. На деле причины, конечно, гораздо глубже, но это не имеет отношения к нашему повествованию — существенно, что в конце пятидесятых любые намеки на то, что «русский с китайцем братья навек»[124], уже не допускались.
Правда, кинорежиссер Александр Саранцев[125], знавший всю эту кухню изнутри, считал, что все равно фильм мог бы выйти на экраны, если бы не одно обстоятельство:
«И вдруг кому-то из режиссеров… пришла в голову идея совместных постановок. А здесь вот русские и китайцы, друзья, материал такой вот о любви… А раз совместная постановка, то это командировки заграничные и все такое. И режиссер решил совместную постановку делать с китайцами. Так, чтобы актриса там, фактура, массовки там, ну все.. И написали предложение, послали сценарий китайцам, а там, видно, уже в это время в недрах китайского истеблишмента, наверное, уже зрели идеи по отношению к советским руководителям, к Хрущеву… Короче говоря, китайцы завернули. Сказали, что надо подумать. Я не знаю формулировку, но они погасили эту идею, и она, конечно, моментально погасла и у нас. Вот уж пойти наперекор китайцам, так-то может и поставили бы, а уж когда предложили, а те отказались, то все это дело распалось. Распалось, но по политическим мотивам. Так вот подрезали крылья Анчарову сразу, потому что он сразу остался без работы, и притом это был удар, психологический удар. И притом надо же было на что-то жить. Вот это на моей памяти был первый удар у него в судьбе. А дальше начались какие-то лихорадочные поиски, что-то такое сделать, потому, что вроде и курсы кончил и все такое…»
Успех «Баллады» в кинематографических кругах позволил Анчарову в 1955 году поступить на официальную работу в Сценарную студию Главного управления по производству фильмов Министерства культуры СССР. С 8 октября 1956 года он числился в Сценарных мастерских этой студии в должности «референта-сценариста». В течение почти всего последующего десятилетия он писал сценарии для кино, и по ряду признаков можно заключить, что его в этом качестве весьма уважали. Хотя практический итог всей этой деятельности невелик: ни одного фильма по собственному оригинальному сценарию Анчарова, без соавторов и отдельного литературного источника, так и не было поставлено — вплоть до его прихода на телевидение в семидесятые годы. Исключением была «Апассионата», о которой мы еще вспомним, но и это не совсем анчаровский фильм, потому что персонажи этого фильма — исторические фигуры, и сюжет основан на воспоминаниях М. Горького и других источниках. И вот в этой полосе неудач — при таком-то удачном начале! — хочется разобраться подробнее.
После «Баллады» следует «Солнечный круг», заявка на который была подана в сентябре 1956 года. Это типичный анчаровский сюжет: некий лейтенант, изобретатель по призванию, возвращается с Дальнего Востока домой, встречает в поезде старика и девушку, поступает на завод, изобретает солнечную электростанцию, строит ее, параллельно снова встречается с девушкой, испытывает всяческие душевные терзания, крахи и подъемы и так далее, вплоть до оптимистически-счастливого конца, который станет традиционным для Анчарова.
В мнениях рецензентов по поводу «Солнечного круга» положительные оценки присутствуют наряду с отрицательными: единодушно отмечается удачная линия главной героини Маши, но отмечены нестыковки в поступках и образах остальных персонажей, включая главного героя Христофора.
Например, авторитетный Евгений Габрилович[126] пишет, что «сценарий необычайно рыхл», полон «сцен случайных, необязательных, невыразительных», ругает язык диалогов, но при этом отмечает, что образ Маши «очень трогателен», «много в нем подлинного очарования». То есть сценарий не отвергается с порога, но требует серьезной доработки.
Анчаров учел замечания, но до конца удовлетворить заказчиков так и не сумел. В октябре 1957 года сценарий направляется на рецензию не менее опытному, чем Е. Габрилович, сценаристу Алексею Каплеру[127]. По результатам очередного обсуждения от имени директора сценарной студии автору направляются новые замечания о том, что «Вы во многом прислушались к советам членов редколлегии», однако в сценарии «убедительно складывается только одна линия, связанная с личной жизнью героя», а «история строительства гелиостанции и связанные с ней чувства героя — абстрактны, словесно обозначены, не стали предметом драматургии, неясны в своем существе».
Работу над «Солнечным кругом» пытались продолжать и далее (в архиве Анчарова сохранились замечания от имени того же директора Сценарной студии, датированные январем 1958 года, которые по существу почти не отличались от предыдущих). В итоге судьба сценария складывается неудачно: судя по тому, что основное действие происходит в Армении, с самого начала «Солнечный круг» предназначался для киностудии «Арменфильм». В Ереване сценарий попробовали переработать самостоятельно и сделали это так, что Анчаров отказался считать его своим. В июне 1958-го его направляют в командировку в Ереван, очевидно, для снятия недоразумений, но, судя по всему, сделать удовлетворяющий всех вариант так и не получилось.
Судя по повторяющимся претензиям к «Солнечному кругу», причина неудачи совершено очевидна: Анчарову отлично удаются портреты конкретных людей и их отношений, но тут он весьма смело вторгается в область технических проблем и связанных с ними конфликтов — то есть на территорию, которая ему, мягко говоря, незнакома. Зрители и читатели воспринимают чудеса в любимых романах и фильмах как должное: мы уже двести лет без малого верим в Соколиного Глаза у Фенимора Купера, который выбирает, попасть ли ему из кремневого дульнозарядного гладкоствольного ружья в центр летящей картофелины или только ее слегка задеть! Как и сегодня без протеста воспринимаем героев кинобоевиков, своими ногами (!) улепетывающих от взрывной волны, которая, как известно, распространяется со сверхзвуковой скоростью. Мы верим чертовщине у Булгакова, в путешествия во времени или в переход между параллельными мирами в фантастических романах, потому что чувствуем органичность и обоснованность таких приемов, но никогда не простим, если автор недостоверно покажет ход физического эксперимента или опишет недостаточно убедительное техническое устройство.
Фигурально выражаясь, Анчарову все время хочется написать слова «эпохальное научное открытие» и поставить на этом точку, полагая, что подобный штамп самодостаточен, дополнительных разъяснений не потребует и можно спокойно перейти к изложению внутренних переживаний героя. Но без убедительного обоснования, в чем же, собственно, заключается «эпохальность», любые переживания по этому поводу теряют всякий смысл.
Через десяток лет в послесловии к сборнику фантастических повестей Анчарова критик Всеволод Ревич[128] напишет об этом:
«При изображении вымышленных творческих работников романисты, драматурги, кинематографисты зачастую попадают в тупик, как только дело доходит до показа результатов творчества их персонажей. Легче всего написать, что имярек — гениальный поэт или гениальный ученый, куда труднее привести стихи гениального поэта или теории гениального ученого. Лучше уж совсем обойтись без примеров, тем более что далеко не всегда произведение требует подобной конкретизации. Но уж если автор желает приводить примеры из деятельности своего героя, он обязан быть убедительным, иначе его просто уличат в обмане».
Иными словами, критерий очень простой: так не могло быть ни при каких условиях, и все на этом заканчивается.
В своей ранней прозе Анчаров уже умеет избегать излишних подробностей, а исторические эссе, вкрапленные в текст этих повестей, довольно убедительны. Там Анчаров почти не пытается ставить научно-технические проблемы в центр сюжета, наоборот, за некоторыми исключениями старается подать их максимально размыто, только как повод для человеческого конфликта. В сценарии же «Солнечного круга» автор ко всему создавал не фантастику, а претендовал на реалистическое изображение своих современников, потому любая научно-техническая «клюква» особенно бросалась в глаза, бесповоротно обрушивая всю интригу, которой читатель или зритель сразу переставал верить. Можно привести в пример вышедший спустя несколько лет роман «Иду на грозу» Даниила Гранина, где действие тоже происходит в научной среде, но в нем самый придирчивый специалист не найдет и следа какой-либо «клюквы» (правда, Даниил Александрович имел техническое образование, так что ему было легче). Абстрактное представление о технической и научной областях, о том, как в реальности делаются открытия и внедряются изобретения, так и останется на всю жизнь самым слабым местом в творчестве Анчарова (если не считать политики, в которой он разбирался еще хуже).
К этому же времени относится сценарий мультфильма «Гриб и роза», приуроченный к Московскому фестивалю молодежи и студентов 1957 года — одному из знаковых событий хрущевской оттепели. В сценарии под «розой» подразумевается эмблема фестиваля: цветок с пятью лепестками, символизирующими пять континентов. Исчерпывающая характеристика сценария, пожалуй, то, что это яркая иллюстрация к тому, что заказные произведения у Анчарова никогда не получались. Если кто-то захочет разобраться самостоятельно — текст сценария (как и многих других, упомянутых в этом разделе) доступен на анчаровском сайте.
К 1957 году относится пьеса «Соловьиная дорога», которую Анчаров отправил на конкурс на лучшую пьесу года Министерства культуры РСФСР. Сюжет пьесы сводится к любовному треугольнику, возникшему во фронтовом госпитале, и последующему развитию этой интриги с уже традиционным хеппи-эндом. Возможно, в отдельных сценах Анчаров оказался вполне на уровне, но в целом пьеса получила негативный отзыв жюри и в число номинантов конкурса не вошла. Вероятно, Анчаров сам понимал, что этот блин у него вышел комом, потому что следов сюжета и образов героев этой пьесы в дальнейшем его творчестве не замечено. Есть, правда, одно исключение: в рассказе «Два постскриптума», который будет опубликован в журнале «Вокруг света» в феврале 1966 года, как и в пьесе, герои во фронтовом госпитале играют в «бутылочку». И хотя заметно, что рассказ написан гораздо более «подкованным» литератором, чем пьеса, он также относится к числу не самых удачных опытов Анчарова.
Куда интереснее замысел сценария «Луна над Благушей», заявка на который была подана 22 июля 1959 года. Для нас он представляет интерес прежде всего тем, что по сюжету во многом совпадает с будущей «Теорией невероятности»: здесь появляются фронтовик и физик Алеша (в сценарии он носит фамилию Воронцов), внучка деда-игрушечника Катя, профессор Ржановский, Катарина, сказка про встречу с Красотой в сугробах, благушинский антураж, на фоне которого все и происходит. Встреча с русским разведчиком — «блондином с усиками» в немецкой форме, который узнает Алешу в критический момент в тылу врага, в сценарии лучше обоснована сюжетно, чем в романе: здесь Алешу с другом Ванькой Семиным (в романе последний отсутствует) засылают на территорию, занятую немцами, для организации дистанционного взрыва объекта.
Более конкретны в сценарии, чем в романе, намеки на секретную работу Алеши у Ржановского, явно связанную с запуском первого космического корабля. Не рискуя слишком ошибиться, можно предположить, что эта линия сюжета есть следствие близкого знакомства автора с Валентином Лившицем, отец которого как раз в это время занимался чем-то похожим, а чем точно — ни сын, ни тем более Анчаров знать, конечно, не могли. Эти намеки в «Теорию невероятности» не перекочевали полностью — может быть, Анчаров, наученный критикой «Соловьиной дороги», старался затушевать необязательные научно-технические подробности специально, а может, это следы редакторского карандаша, — что было на самом деле, сейчас установить уже невозможно.
В сценарий «Луна над Благушей» включена песня, которую Анчаров вспоминал крайне редко (сохранились лишь две фонограммы с ее исполнением):
Я сижу, боясь пошевелиться,
На мою несмятую кровать
Вдохновенье, радужная птица
Опустилась крошки поклевать.
Не грусти, подруга, обо мне ты,
Видишь, там в космической пыли
До Луны, до голубой планеты
От Земли уходят корабли.
Надо мной сиреневые зори.
Подо мной планеты чудеса.
Звездный ветер в ледяном просторе
Надувает счастья паруса.
Я сижу, боясь пошевелиться.
День и ночь смешались пополам.
Ночь уносит сказки небылицы
К золотым кремлевским куполам.
Заявку оценили, заключили договор, по которому Анчарову в случае принятия сценария выплачивался гонорар в 40 тысяч рублей (дореформенных), и даже выплачивался аванс (всего в процессе работы киностудия выплатила три четверти полной суммы)[129].
В течение следующего года (до августа 1960-го) Анчаров создает пять вариантов сценария «Луна над Благушей», переделывая его в соответствии с замечаниями рецензентов киностудии «Мосфильм». На каком-то этапе к фильму прикрепляют режиссера Г. С. Габая[130], но поставить картину так и не удалось.
Что же не понравилось рецензентам на этот раз? Резюмируя многочисленные протоколы обсуждений и официальные письма от киностудии «Мосфильм», направленные Анчарову в течение 1959–1960 годов, можно отметить, что члены Художественного совета и редакторы объединений «Мосфильма», рассматривавшие сценарий, сначала «единодушно отметили, что сценарий “Луна над Благушей” чрезвычайно интересен как по своему замыслу, так и по тем путям художественного решения этого замысла, которые в нем намечены. Сценарий написан в приподнято-романтической, несколько условной манере, в нем есть целый ряд очень сильно написанных сцен».
Однако «рядом со сценами хорошими в нем есть сцены слабые, решенные схематично и поверхностно», есть сцены «лишние», неясным «является и образ главного героя сценария — Алексея», который «на протяжении всего сценария … ничего, по сути дела, не совершает, а только присутствует при героических поступках других».
Сценарий «перегружен событиями», «характеры отдельных персонажей не развиваются в действии», «герои часто действуют по авторскому произволу, эпизоды возникают неожиданно и вне логики развития действия», «встречи героев, нужные Вам для построения тех или иных эпизодов, не обладают даже элементарной достоверностью, которая необходима для произведения, претендующего на широкий и правдивый показ жизни», имеют «привкус искусственности, нарочитости»… и так далее.
И если до этого момента многие претензии, несомненно, обоснованны, то уже на втором варианте автору начинают напрямую рекомендовать, как именно нужно построить тот или иной сюжетный ход, отчего и более терпеливый, чем Анчаров, человек начал бы лезть на стенку. Нетрудно догадаться, чем все это закончилось: в письме от 14 января 1961 года за подписью председателя Художественного совета Третьего творческого объединения М. Ромма Анчарову сообщают, что «и последний — пятый вариант сценария, несмотря на проделанную автором работу, запустить в производство не представилось возможным», и «объединение приняло решение действие договора от 22 июля 1959 года прекратить, а израсходованную сумму гонорара списать в убыток».
Если сравнить «Солнечный круг» с «Луной над Благушей», то заметно, что во втором случае Анчаров уже не пытается глубоко вникать в научно-технические дела, в которых, несмотря на знакомство с А. Л. Лившицем, понимает по-прежнему немного, — акцент переносится (как, несомненно, следовало сделать бы и в первом случае) на личные отношения, отчего «Луна над Благушей» значительно выигрывает. Однако суть претензий остается прежней: «случайность», «необязательность» эпизодов, «необоснованность» событий и действий персонажей и так далее.
Вам это ничего не напоминает? Конечно — перед нами как бы импрессионистическая живопись, в которой тщательно выписанные детали, существенные для реализации авторского замысла, чередуются с невнятными, размытыми и необязательными образами фона, вся задача которого — придать полотну колорит в нужной гамме. Но то, что «на раз» реализуется в живописи (и даже в литературе это выполнить не так уж и трудно), очень сложно воспроизвести средствами кино — оно требует тщательной продуманности каждой сцены и ее связи с остальными. Не будучи специалистами в кинематографии, мы не рискнем утверждать, что импрессионизм в кино вовсе невозможен (скорее всего, знатоки легко приведут нам примеры обратного), но уверенно можно предполагать, что это совсем не то, чего могли ожидать на киностудии «Мосфильм» образца 1959 года. Еще раз процитируем художественное кредо Анчарова, которое он позднее выразит в повести «Роль» (полностью цитату см. в главе 4): «А как входят в башню элеватора? Как надо, так и входят». Разумеется, в повести технические детали могут быть не важны, и в «башню элеватора» могут заходить «как надо», но в кино в нее можно заходить только единственным образом, и, условно говоря, рецензенты добивались от Анчарова, чтобы он показал, каким именно. А ему это было скучно и для реализации своего замысла совершенно не нужно. Режиссер Александр Саранцев, много лет знавший Анчарова и пытавшийся реализовать какие-то совместные проекты, давал такое объяснение подобным недостаткам его драматургии: «У Мишки была такая штука. Он иногда позволял себе и в других вещах совершенно не мотивированные монологи или диалоги. Вот когда это в книге, там автор все это сводит своим состоянием поэтическим или стилем речи. А в пьесе они лезут сразу. Тут даже не специалист может обнаружить много вещей».
Обратимся к еще одному сценарию Анчарова, написанному, как и «Баллада о счастливой любви», совместно с Семеном Иосифовичем Вонсевером, но спустя шесть лет после дебюта. Сценарий, о котором мы уже упоминали в связи со службой Анчарова на Дальнем Востоке, назывался «До свидания, Алеша» и был представлен на «Мосфильм» в 1961 году. Никаких следов обсуждений этого сценария не сохранилось, и причин, почему он не был поставлен, мы не знаем, сам Анчаров никогда и нигде о нем не упоминает, но полный текст «мосфильмовского» варианта имеется (он также выложен на мемориальном сайте), так что предмет для разговора есть.
Действие сценария «До свидания, Алеша» разворачивается опять на Дальнем Востоке, на этот раз на советской территории в короткий период после окончания войны с японцами. В центре сюжета — мальчик Алеша, который ненавидит японцев, потому что они убили его отца на войне. В начале картины Алеша пытается кидать грязью в японских военнопленных, потом японский солдат Таро спасает мальчика, который чуть не утонул во время купания, потом они вместе ходят на рыбалку. Параллельно развивается конфликт между японскими солдатами — бывшими рыбаками и крестьянами — и офицерами, некоторыми японцами предпринимается попытка побега, развивается роман между матерью Алеши и советским командиром группы охраны и так далее. Сценарий наполнен бытовыми деталями, как всегда у Анчарова, идеализированными и приподнятыми в сравнении с реальной жизнью, но представленными весьма ярко.
Здесь нет и следа той «случайности», «необязательности» или «необоснованности» эпизодов, которые критиковали рецензенты ранее. Единственное, к чему можно придраться в сценарии, — невнятная концовка: когда японцев репатриируют на родину, во время посадки на пароход рыбак Таро не находит ничего более остроумного, чем отомстить офицеру Кадо, спустив с него штаны. Задумка автора понятна: Анчаров пытался придумать нечто в рамках клоунады, опустить фашизм, показав, что тот может быть смешным и жалким (подробнее о феномене «смеховой культуры» в произведениях Анчарова см. в главе 7). Но получилось, на наш взгляд, не очень — ожидаешь чего-то более значительного и символичного.
Но главное не в этом — в обоих сценариях заметно положительное влияние соавтора. В одном из сохранившихся документов 1956 года С. И. Вонсевер фигурирует как «продюсер», из чего можно заключить, что первоначально он был приглашен в соавторы как сотрудник киностудии, имевший необходимый опыт для оформления литературного замысла в виде сценария и, возможно, ориентировавшийся в обстановке на Дальнем Востоке. Но, сравнивая оба сценария с его участием с другими кинематографическими задумками Анчарова, можно видеть, что совместные работы гораздо более цельные и лишенные той «импрессионистической» неопределенности отдельных сцен, так возмущавшей рецензентов Сценарной студии.
Прежде чем окончательно переквалифицироваться в прозаика, Михаил Леонидович в 1961–1962 годах сделал еще несколько сценарных набросков: «Два часа до счастья», «Черные стебли», «Список приглашенных». «Черные стебли» (совместно с В. П. Каплуновским[131]) — чисто конъюнктурный сюжет о конголезских студентах в Москве, лишенный даже намека на реальность, может служить лишней иллюстрацией к тому, что попытки захода в политику у ненавидевшего ее Анчарова — самые провальные эпизоды его творчества. К этому сценарию была написана песня с таким же названием, которая и самому Анчарову не слишком нравилась (Интервью, 1978):
«Это песня из несостоявшегося фильма. Не совсем чужого мне, так как я писал сценарий вместе с режиссером. Это было в год или на следующий год после убийства Патриса Лумумбы. Вот почему сценарий писали про Африку… Какие-то строчки удачные там есть, а так песня мне не нравится».
Кстати, в этой песне обнаруживается самоповтор, чем Анчаров в стихах до некоторых пор[132] занимался крайне редко: строки «Будет счастье звенеть мечами, / Будет литься вино рекой…» заимствованы из «Русалочки», с заменой одного слова («бокалами») на другое («мечами»), необходимое для рифмы, но лишающее эти строки того приподнятого настроения, которое они создавали в оригинале.
В «Двух часах до счастья» и в «Списке приглашенных» (судя по сюжету, выросшего из «Соловьиной дороги») заметны наброски будущего романа «Самшитовый лес», а некоторые сцены из них войдут в роман «Теория невероятности». «Список приглашенных» Анчаров позднее (1968 год) пытался предложить в виде пьесы для постановки в Московском драматическом театре им. Н. В. Гоголя, а в 1973 году — на телевидение, но тоже неудачно.
Сохранился документ, свидетельствующий, что Анчаров совместно с Анатолием Аграновским после относительно удачного «Иду искать» (о чем подробно рассказывается в следующем разделе этой главы) возьмется за еще один сценарий, под названием «Хвастун». Сценарий был посвящен Святославу Федорову — впоследствии всемирно знаменитому глазному хирургу, которого в те годы преследовали за рискованные эксперименты с искусственными хрусталиками, и только благодаря вмешательству журналиста Анатолия Аграновского ему удалось в конце концов перевестись в Москву и получить кафедру в 3-м медицинском институте. В 1968 году Анчаров получит письмо от киностудии «Беларусьфильм» с сообщением, что «по вашей просьбе» срок сдачи «пролонгирован до 15 марта 1968 года». Скорее всего, сценарий так и не был закончен — слишком много хлопот другого рода было у Анчарова в конце шестидесятых.
И еще одну точку соприкосновения с кино мы находим в биографии Анчарова в эти годы: чуть ли не единственный раз за всю жизнь он выступает в роли критика[133], опубликовав рецензию на фильм «Алые паруса» режиссера А. Птушко. Зная, насколько Анчаров любил Грина, мы понимаем, что он просто не мог пройти мимо такого случая. Рецензия была опубликована в журнале «Советский экран», № 15 за 1961 год. Анчаров выражает в ней восторг самим фактом экранизации «Алых парусов», но ругает исполнение:
«В фильме режиссеру в основном удалось передать романтику гриновской повести… <…> К сожалению, в некоторых эпизодах режиссеру изменяет вкус. Так, нарочито театральная пышность эпизодов в замке, грубоватый юмор сцены драки в кабачке отяжеляют сказочно-романтическое повествование. <…> В образ романтического героя, созданный В. Лановым (Грей), трудно поверить потому, что он однопланов, в нем нет юмора и нет движения мысли, нет мечты и непосредственности. Поэтому в сцене, где в волшебном утреннем лесу капитан встречает спящую девушку-поэзию, Грей-Лановой ведет себя прозаически: он смотрит на девушку почти снисходительно, а потом почему-то неуклюже бежит к лодке. <…> Грею не повезло и в сценарии. Жалко, что вся сцена покупки шелка сведена к насмешке над приказчиком. Здесь утеряно главное — раздумья Грея. Жалко также, что из фильма исчез мотив бочонка с вином, который должен открыть Грей, “когда будет в раю”. <…> Вызывает возражения грубоватая, прямолинейная трактовка авторами фильма образа отца Грея, почему-то самодура, бьющего слуг и судящегося с крестьянами, хотя у Грина сказано, что отец судился с соседями. Эти потери досадны и вряд ли обоснованны…»
Думается, что все любители Грина, которым довелось посмотреть фильм «Алые паруса», согласятся, что в фильме плохо все: режиссура, сценарий, игра актеров, примитивные комбинированные съемки. Если в картине все-таки что-то и есть хорошего, то оно обусловлено исключительно внешностью пятнадцатилетней Анастасии Вертинской, представлявшей собой идеальную Ассоль, — по крайней мере до тех пор, пока она не начинала двигаться и говорить, причем говорить голосом актрисы Нины Гуляевой, озвучивавшей эту роль, так как юная дебютантка владеть голосом еще не умела. Недаром сама Вертинская, позднее проявившая себя как замечательная актриса мировой известности, обе свои дебютные роли в кино (вторая — главной героини в «Человеке-амфибии», через год после «Алых парусов») не любила, — она еще просто не умела держаться перед камерой. Поэтому можно утверждать, что Анчаров, отмечая «отдельные недостатки» фильма, явно корректировал оценки через фильтр своего отношения к оригиналу. К месту вспомнить одну даму, которая, посмотрев уже в немолодом возрасте телефильм «Д'Артаньян и три мушкетера», сказала: «Я так люблю Дюма, что могу даже без отвращения смотреть и эту телевизионную чушь».
Кроме собственных сюжетов, Анчаров работает над экранизацией и интерпретацией чужих произведений. Эти опыты оказались более удачными — три его главные попытки в этом направлении принесли результат в виде поставленных фильмов, получивших известность.
Один из таких проектов вырос из дипломной работы Джои, в конце пятидесятых заканчивавшей ВГИК. Сюжет «Апассионаты» подсказан реальной историей, опубликованной в очерке Максима Горького после смерти Ленина в 1924 году, — о том, как Ленин слушал Бетховена. К нему авторы сценария подключили размышления вождя о состоявшейся в том же 1920 году встрече с Гербертом Уэллсом[134]. Ленин, недавно оправившийся после ранения, приезжает навестить Горького и жалуется ему на Герберта Уэллса, не поверившего в будущее России. Горький, знавший о пристрастии Ленина к музыке, пригласил знакомого пианиста Исайю Добровейна, который исполняет «Аппассионату» Бетховена, после чего Ленин произносит монолог о том, что именно «Аппассионата» напоминает ему о доброте в мире, где царит зло. В финале Владимир Ильич, погруженный в размышления, спускается по лестнице под звуки «Лунной сонаты».
Короткометражный (продолжительностью 40 минут) фильм «Апассионата» был поставлен в 1963 году режиссером Юрием Вышинским, и ему была присвоена первая прокатная категория, что означало повышенные гонорары в том числе и сценаристам. В качестве авторов сценария в титрах фильма указаны: Д. Афиногенова, М. Анчаров и Ю. Вышинский.
Ленина в «Апассионате» играл артист МХАТа Борис Александрович Смирнов, которому и до этого приходилось исполнять роль вождя в пьесе Погодина «Кремлевские куранты». Вскоре после выхода на экраны в еженедельнике «Неделя» появился рассказ авторов сценария о создании фильма[135]. В этой публикации приводится интересный эпизод, свидетельствующий об отношении советских людей к Владимиру Ильичу.
Съемочная группа в гостях у супруги Горького Екатерины Павловны Пешковой:
«Она достала старинный поднос и кофейный сервиз — белые с синими цветочками чашки. “Вот из этих чашек мы пили кофе в тот вечер, — сказала она. — Я вас угощу кофе из этих самых чашек”. Каждый из нас волновался, когда перед нами расставили маленькие чашки, и, наверное, у каждого был невысказанный вопрос — не ленинская ли чашка досталась ему. Наконец кто-то не выдержал, спросил. “Вон, по-моему, она, — сказала Екатерина Павловна и показала на чашку, стоявшую перед Борисом Александровичем, — у нее немного другой рисунок”. Надо было видеть лицо Смирнова в этот момент».
В рецензии на фильм, опубликованной в «Искусстве кино» в сентябре того же года[136], автор Б. Медведев отмечает как блестящий успех роли Ленина в исполнении Смирнова, так и недостатки фильма, главным из которых он считает статичность роли Горького и других персонажей (кроме роли Добровейна, которого играет пианист Рудольф Керер), из-за чего в обеих главных темах — непонимание Уэллсом перспектив советского государства и музыка Бетховена — «беседа двух больших, так глубоко уважающих друг друга и так всегда прислушивающихся друг к другу людей превратилась в монолог одного из них». Рецензент, правда, свои претензии адресует не сценаристам, а актерам Владимиру Емельянову, Дарье Пешковой и исполнителю роли шофера Ленина Марку Бернесу, но замечает, что именно «создатели фильма не нашли» для них «ни по-настоящему впечатляющих слов, ни по-настоящему действенных ситуаций. Все они — только слушатели. Все они лишь присутствуют при ленинском монологе, который мог бы с полным основанием превратиться в острые и горячие диалоги…» Современникам тем не менее фильм понравился. Валентин Лившиц, с позиций сегодняшнего дня относящийся к «вождю мирового пролетариата» резко отрицательно, так комментирует обращение к образу Ленина (Лившиц, 2008):
«Я так думаю, что если я сегодня пересмотрю фильм, меня многое покоробит в нем, но тогда я воспринимал его (да и не только я, а еще много-много зрителей) очень положительно. Нынешние люди ведь не могут и представить, насколько сухо и казенно было в то время на экране, и “Аппассионата” была явно свежим ветром, была глотком чистой лирики на фоне ширпотреба тогдашнего времени. Не забывайте, что если про “злодея” Сталина хоть что-то сказали на ХХ съезде, то про главного, как мы теперь знаем, “злодея”, Владимира Ильича Ульянова-Ленина, никто никогда ни одного слова в официальной прессе не напечатал. Так и плыл над страной миф о добром дедушке, которого обманул страшный горский бандит».
Второй сценарий, получивший блестящее завершение, — экранизация повести Василия Аксенова[137] «Звездный билет», выпущенная в прокат под названием «Мой младший брат». Режиссером-постановщиком фильма, вышедшего на экраны в 1962 году, был уже знакомый нам Александр Зархи, который, вероятно, и привлек Анчарова. В титрах авторы сценария значатся в следующем порядке: Василий Аксенов, Михаил Анчаров, Александр Зархи. Фильм собрал звездный (с учетом будущей славы) состав актеров: в главных ролях довольно известная актриса Людмила Марченко, уже всенародно знаменитый Олег Ефремов, молодые дебютанты Олег Даль и Александр Збруев, Андрей Миронов в этом фильме сыграл свою вторую кинороль. Композитором фильма был молодой Микаэл Таривердиев, впоследствии прославившийся музыкой к культовым советским фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Идея повести и фильма, несомненно, близка Анчарову: главному герою Димке после выпускных экзаменов в школе приходит в голову мысль махнуть куда-нибудь подальше от столицы, на уговоры старшего брата о том, что к жизни нужно относиться серьезно, он не поддается. Четверо друзей, включая влюбленную в Димку девушку Галю, посчитав популярные тогда поездки советской молодежи на Север, в Сибирь и на целину слишком банальными, отправляются в Эстонию, где их ждет множество жизненных испытаний. В сюжете старший брат Димки физик Виктор представляет очень типичный для тех лет образ ученого, гибнущего при очередных секретных испытаниях.
В 1986 году в сборнике, посвященном памяти рано умершего Олега Даля, будет опубликована статья Анчарова, в которой он вспоминает, как начиналась работа над фильмом:
«Это было в 1961 году. Меня тогда позвали делать сценарий по чужой повести. Как литератор я был почти неизвестен: один сценарий, напечатанный в “Искусстве кино”, и песни, которые я сочинял и пел сам. Повесть была популярная, режиссер — тоже, и я понял: все удачное в фильме будет принадлежать автору и режиссеру, все неудачи будут мои. Но выхода не было, такие были мои тогда дела. Это был фильм “Мой младший брат”.
Я пришел к режиссеру А. Зархи, который глядел на меня недоверчиво. Он полулежал в кресле, накрыв ноги пледом, и держался как последний римский патриций среди варваров. Ну, если ему так нравилось! Мы поболтали о том, о сем, и он дал мне серию мосфильмовских фотопроб, где претенденты на какие-нибудь роли в каких-нибудь фильмах показывали, как говорится, “товар лицом” и старались этим лицом “не ударить в грязь”.
То ли режиссер уже отобрал среди них главных героев, то ли еще нет, но по тому, как он комментировал фотопробы, я понял, что наши мнения о внешних обликах персонажей не совпадают. Про одного он сказал, что его будет играть такой-то. Но поскольку я не совсем его себе представлял, то спорить было не о чем. Да и фотографии здесь не было. Его дело, ему снимать.
Есть мнение, что внешность обманчива. На самом деле она обманчива либо когда обманывают, то есть если человек надевает на себя маску, либо когда сам не умеешь смотреть. Если же этого не происходит, то внешность говорит многое. Почти все.
Из всех фотопроб я остановился на двух. Я не знал, конечно, как эти мальчики сыграют свои роли, но я знал, что смотреть на них будет интересно.
Эти лица выражали поэтику и поэзию всей повести в целом. Так я режиссеру и сказал и рад, что не ошибся. Это оказались Александр Збруев и Олег Даль».
Фильм «Мой младший брат» был оценен современниками и остается до сих пор одним из самых популярных советских фильмов начала шестидесятых. По данным Госкино, в СССР его посмотрели 23 миллиона зрителей. Фильм, конечно, не дотягивает до популярности рекордсменов того десятилетия: «Человека-амфибии», «Свадьбы в Малиновке», «Гусарской баллады», комедий Гайдая, но в общем ряду «Мой младший брат» выглядит вполне достойно, занимая в рейтинге советских фильмов 1962 года место по соседству с такими нашумевшими в те годы картинами, как «Девять дней одного года», «Семь нянек» или «А если это любовь?».
Еще один тоже заметный, но менее удачный опыт Анчарова-сценариста появился в результате его сотрудничества с Анатолием Аграновским. Снова воспользуемся воспоминаниями его жены Галины Федоровны, которые мы уже неоднократно цитировали. По ее словам, Анчаров появился у Аграновских несколько неожиданно (Аграновская, 2003):
«Звонок мужу со студии Горького. Просят написать сценарий по его очеркам о молодых ученых. “Незаменимые” — под таким названием вышла у Толи книжка, оформленная художником Сидуром. Толя категорически отказался, у него уже был опыт — два неудачных, по его мнению, фильма. Студия настаивала, и он предложил купить право на экранизацию, говоря, что сценарист из него никудышный. На это редактор студии рекомендовала соавтора, хорошего сценариста. “Нет, и еще раз нет!” — не спросив даже, что за сценарист. Звонки, меж тем, продолжались. У мужа в это время застопорилась острая, с малыми шансами на публикацию статья, и на очередной звонок он, по его собственным словам, “дал слабину”.
В назначенный день я открыла дверь и увидела Анчарова с дамой. Не успела я подумать, до чего он некстати, без звонка, да еще и не один, как он представил свою спутницу — редактор студии, а он и есть — сценарист.
Позже Миша рассказал, что сам просил работу на студии, приносил наброски своего сценария и был отвергнут. Случайно услышал, что ведутся переговоры с Аграновским, настоял на своем участии, но поставил условие — не говорить Толе, что именно он претендует на соавторство. На вопрос, зачем темнил, сказал, что после “Аппассионаты” (которая шла по телевидению) мы не позвонили, и он подумал, что не понравилось. “Решился на инкогнито. Сам расскажу, что пропадаю от безденежья[138], буду бить на жалость и уговорю хоть договор заключить, чтобы аванс выдать, а там видно будет…”»
Галина Федоровна далее рассказывает, что этот визит относился ко времени его расставания с Джоей (то есть к 1964 году) и Аграновский дает согласие на совместный сценарий, войдя в положение Михаила Леонидовича, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Очевидно, она все-таки совмещает во времени несколько событий. Согласно сохранившимся документам, первый вариант сценария А. Аграновского и М. Анчарова под названием «Большой старт», предназначенный для хорошо уже знакомого Анчарову Третьего творческого объединения «Мосфильма» под руководством Михаила Ромма (а не киностудии Горького, как в воспоминаниях Аграновской), был возвращен на доработку с условием закончить второй вариант к 25 апреля 1963 года. То есть начало совместной работы относится ко времени, когда о расставании Анчарова с Джоей еще речи не шло и, вероятно, она даже еще не знала о своей болезни.
Галина Федоровна так описывает их совместную работу:
«Во время обсуждения Толя жаловался: “Я не успеваю за его сумбуром”. Я предложила начать с завтрака, сомневаясь, что соавтор сыт с утра. Что и подтвердилось — приглашение было принято, а завтрак сметен до крошки. В этот день просидели они до позднего вечера, с перерывом на обед. Слышны были в основном напористый голос Миши и редкие спокойные реплики Толи.
С того дня засел в нашем доме Анчаров на несколько месяцев, с небольшими перерывами. Рабочий процесс проходил так: Толя за машинкой, Мишин напористый сумбур, от которого машинка то и дело переставала стучать. Начинались дебаты, во время которых Миша вышагивал километры (он вообще редко присаживался), посыпая пеплом пол. Курил он, по безденежью, папиросы “Прибой” и, только получив аванс за сценарий, перешел на “Беломор”. К вечеру уставали и брались по очереди за гитару <…> После обеда я выгоняла соавторов гулять, не меньше часа. Уже похолодало, одет был Миша не для прогулок, отбивался страшно. Открывал окно, закатывал рукав рубахи до плеча, высовывал руку на мороз со словами “Я погулял”. Доказывал, что у него на свежий воздух кислородная аллергия. Я была тверда — доставала теплую Толину куртку, запасные сапоги и выталкивала их на улицу. В дверях Миша говорил, что возможен летальный исход. Уходя, они уже хором скулили у порога: “Возможен летальный исход!” Потом перемигивались: “Ну ничего, покурим часок в подъезде…”»
Сценарий фильма под окончательным названием «Иду искать!» повествовал о советском ученом-ракетчике Андрее Гусарове, который еще во время войны был отозван с фронта и занялся испытаниями ракет на жидкостном реактивном двигателе. Он с соратниками проходит весь путь от первых неудач до запуска искусственного спутника Земли. За фигурой главного героя (которого играет Георгий Жженов) легко угадывается Сергей Павлович Королев. Проводя эту параллель, не следует, однако, забывать, что сама фамилия Королева тогда была еще засекречена. Создателям появившегося после смерти конструктора «Укрощения огня» (1972) было можно уже открыто использовать факты его биографии. А Аграновскому с Анчаровым приходилось выдумывать все детали от начала и до конца, в чем оба были не слишком сильны: Аграновский как журналист вообще всегда писал о реально существующих людях, а Анчарову персонажи, хотя бы отчасти не списанные с натуры, до поры также не особенно удавались. Кроме того, они оба были не слишком подкованы в технической области. Хотя в этом случае они и имели грамотных консультантов, в силу секретности те все равно не могли им рассказать все, «как оно было».
Тем не менее третий вариант сценария заслужил положительный отзыв с «Мосфильма». Однако фильм был поставлен не в Москве, а в Минске, на киностудии «Беларусьфильм». Режиссер фильма Игорь Добролюбов вспоминает, как ошеломило его предложение снимать эту картину[139]:
«…Ромм, узнав о моих проблемах, совершает фантастический поступок: из руководимого им мосфильмовского объединения он присылает на “Беларусьфильм” для меня подарок — сценарий “Иду искать”, написанный драматургами Анатолием Аграновским, специальным корреспондентом “Известий”, журналистом такого высокого уровня, что ему позволялось самому определять для себя тематику, и Михаилом Анчаровым, одним из первых бардов в Советском Союзе — очень популярным, при этом тихим, деликатным, скромным.
Сценарий прошел на ура: выдержал он “одобрямс” “Мосфильма», “одобрямс” объединения Михаила Ильича, поставившего подпись “утверждаю”. Неудивительно, что вопрос о его запуске был решен мгновенно. <…> Я настолько трепетно относился к сценарию, что пыль с него сдувал — вот как было написано, так слово в слово и снимал.
Анатолий Аграновский, чрезвычайно опытный и умный человек, построил с Мишей Анчаровым сюжет таким образом, что проблема как будто раскрывается и в то же время не до конца. Скажем, Королева забирают с фронта в тыл продолжать работать над ракетой. Но это сценарный ход — якобы Сергей Павлович воевал. На самом деле исторически известно, что он, как и многие величайшие ученые, сидел в лагере…»
Игорь Михайлович напрасно сетует, что в сценарии не показана реальная история Королева с его пребыванием в лагерях, — это не самое главное из того, что упущено, как в этом фильме, так и в аналогичном по тематике «Укрощении огня». То, что и Туполева, и Королева, и многих других в силу острой необходимости в конце войны выдергивали из лагерей и шарашек, разумеется, не могло быть показано в фильме, предназначением которого было прославление величия советской науки. Но, повторим, это не самое главное, потому что вся история отечественной космонавтики не то что в пропагандистских фильмах, а даже в обстоятельных воспоминаниях и научно-популярных очерках тех времен представлялась искаженной, лишенной существенных деталей. На их авторов, во-первых, давила завеса секретности, не позволявшая обнародовать многие подробности — например, то, что космические ракеты были лишь модификацией межконтинентальных баллистических ракет для доставки ядерного оружия. Во-вторых, это замалчивание роли разработок немецкого ученого фон Брауна, чьи «Фау-2», между прочим, легли в основу не только советских баллистических ракет, но еще в большей степени и американских, и даже китайских, — то есть вообще всей мировой космонавтики. И, в-третьих, это обстановка непрестанной межведомственной грызни и конкуренции за ресурсы, что было существенной деталью любого крупного советского проекта тех лет.
Невозможность отражения этих и других, не столь значительных подробностей (например, сведений о многочисленных неудачных запусках) объясняет, почему конфликты, показанные во всех этих произведениях, получались такими искусственными, — сценаристам и авторам очерков приходилось их буквально высасывать из пальца. Это касается даже более обстоятельного «Укрощения огня», в котором все равно искусственность фигуры главного конструктора и сопровождавших его жизненных обстоятельств заметна невооруженным взглядом, несмотря даже на блестящее исполнение этой роли Кириллом Лавровым. А что касается фильма «Иду искать!», то надо учесть, что это вообще был первый киноопыт подобного рода[140], никаких существенных подробностей о развитии советской космонавтики еще не публиковалось, и его авторы вынуждены были привлекать собственную фантазию на каждом шагу, лишая сюжет минимального правдоподобия. И тем самым их замысел был обречен на неудачу, каких бы компетентных консультантов они ни привлекали.
В фильме «Иду искать!» участвовали несколько популярных уже тогда или ставших таковыми впоследствии актеров: упоминавшийся Георгий Жженов, Лев Дуров, Борис Новиков, Владимир Носик (сыграл свою дебютную роль) и многие другие. Премьера фильма прошла 14 ноября 1966 года, и еще до нее в «Литературной газете» появилась рекламирующая фильм рецензия Всеволода Ревича, который хвалил идею фильма и ругал единственный, на его взгляд, недостаток: слишком шаблонные образы противников, «стоящих на пути научно-технического прогресса». Он писал[141]:
«Можно ценить их (конструкторов — авт.) и даже преклоняться перед ними за выдающийся технический талант, за трудолюбие, но сами по себе эти качества еще не заслуживают того, чтобы обозначать их высоким словом “подвиг”. Подвиги рождаются только в борьбе. А борьба предполагает противников.
Кто же они, эти противники? Прежде всего — люди, их, к сожалению, всегда немало, — стоящие на пути научно-технического прогресса. Но мне кажется, что как раз эта сторона дела не нашла убедительного решения в картине. Несколько перекарикатуренный Кучумов не выходит за рамки почти гостовского “консерватора-бюрократа”…»
В общем-то знакомая нам по рецензиям на описанные ранее анчаровские сценарии претензия, которая подтверждает, что научно-технические конфликты у Анчарова убедительными не получаются, а отрицательные герои выходят штампованными и шаблонными.
В неудаче фильма, конечно, сыграла свою роль и неготовность молодого режиссера, получившего сценарий по протекции симпатизировавшего ему Михаила Ромма. В чем Игорь Добролюбов впоследствии честно признавался:
«Снимал я в совершенном остолбенении. Аграновский и Анчаров знакомили меня с учеными, чтобы я мог пройти на эти самые синхрофазотроны и куда-то еще. Ученые беседовали со мной — но я ничего не понимал, за исключением того, что это были чрезвычайно интересные люди, фантастические люди. К Сергею Павловичу Королеву (СП — так они его назвали между собой) все относились с огромным уважением, причем каждый и сам представлял собой совершенно определенную величину в современной физике — это были настоящие ученые, и когда я попадал в их компанию, то просто немел, молчал, как соляной столб. Они дискутируют о чем-то, а я сижу и слушаю — кромешное дело…»
Через несколько дней после премьеры появилась рецензия в еженедельнике «Советское кино»[142] за подписью некоей В. Есиной, которая постаралась разобраться в недостатках фильма:
«Авторы фильма и артист Г. Жженов, исполняющий роль главного героя, стремятся уверить нас, пожалуй, в одном: что Гусаров — в общем самый простой, обычный человек, разве что более упорный в достижении своей цели. Но, право же, самые простые, обычные люди не строят ракет. Их строят самые простые, обычные люди… плюс еще что-то. “Что-то” самое непростое, самое необычное. Вот это “плюс еще что-то”, вероятно, и делает человека тем, что мы называем личностью. Артист Жженов играет, как сейчас принято говорить, в очень современной сдержанной манере. Но сдерживать-то нечего! Якобы подтекст. А “текста” нет. Что-то как будто все время подразумевается за его молчанием. А подразумевать нечего. Приходится сдержанно играть пустоту».
Всеволод Ревич и через много лет не откажется от своей в целом положительной оценки фильма. В своей статье, посвященной творчеству Анчарова[143], он напишет:
«В скромной по постановочным эффектам картине “Иду искать”, поставленной И. Добролюбовым в 1965 году[144], они с А. Аграновским первыми создали обобщенный образ конструктора космических ракет, сыгранный Георгием Жженовым, образ куда более человечный и привлекательный, чем аналогичная фигура в помпезном и, по-моему, фальшивом “Укрощении огня”».
Но оценка этого фильма как достижения или, наоборот, провала его авторов уже не могла никак повлиять на дальнейшую судьбу Анчарова — к этому времени он уже отходит от сценариев и вовсю занимается прозой, дебют в которой у него оказался тоже исключительно удачным. О чем мы расскажем в следующей главе, а пока остановимся на одной печальной истории, к сожалению, бросившей тень на всю оставшуюся жизнь Михаила Леонидовича.
Эпиграфом к этой истории могут послужить слова Высоцкого: «Я ненавижу сплетни в виде версий…» Вообще-то комментировать ее сколько-нибудь подробно не стоило бы вовсе, но приходится — почему-то и в наши дни находятся люди, которым неймется поднять этот случай из полувекового праха, отряхнуть и преподнести аудитории как нечто сенсационное. Сама по себе история и впрямь поучительная и даже не то чтобы характерная для тех лет, — скорее, выделяющаяся из общего ряда. Но именно такие случаи формировали атмосферу эпохи: они служили той же цели, что и громкие политические кампании конца тридцатых и сороковых годов. Население еще хорошо помнило «ежовые рукавицы» тех времен, но постепенно начинало смелеть и все громче критиковать власти, так что ему надо было периодически напоминать, кто в доме хозяин. И истории, подобные излагаемой далее «вгиковской», несмотря на всю свою абсурдность (а если точнее — именно благодаря ей), не давали забыть о том, что все находятся под незримым колпаком. Той же цели служили громкие писательские процессы 1960-х: процесс Бродского и Даниэля-Синявского, столь же мало обоснованные, как и излагаемый случай. Иными словами, «Большой Брат следит за тобой!».
Беда в том, что при этом у конкретных людей без особенной на то причины (они не были ни диссидентами, ни даже сколько-нибудь серьезными оппонентами режима) ломались судьбы, и хвост последствий тянулся за ними всю оставшуюся жизнь. Это касается не только незаслуженно пострадавших от действий властей, но и тех, кто был лишь косвенно вовлечен в события. Среди последних оказался и Анчаров. Причем поворот этого сюжета, касающийся Анчарова, связывают с именем Фриды Вигдоровой[145], которая и тогда, и впоследствии во всех кругах советского общества совершенно заслуженно имела безупречную репутацию. Фрида Абрамовна поучаствовала в судьбе Анчарова, конечно, совершенно непреднамеренно, и ее участие скорее раздуто нашими современниками, которым выгодно иметь такой контекст для вящей правдоподобности.
В различных воспоминаниях эта история излагалась и комментировалась не менее нескольких десятков раз, потому, если читатель позволит, мы не будем здесь излагать все многочисленные версии происходившего. Тем более что «воспоминатели» часто путаются в деталях, противореча и друг другу, и иногда самим себе. Краткое резюме из их рассказов следующее.
В первое воскресенье октября 1958 года несколько студентов четвертого курса сценарного факультета ВГИКа дома у одной из сокурсниц, Наталии Вайсфельд[146], праздновали день рождения курса. Они устроили капустник: аудиоспекталь — юмористическую пародию на революционные пьесы с участием узнаваемых исторических персонажей, включая Ленина. Хозяйка, по ее словам, пригласила своего знакомого Алексея Симонова (сына писателя Константина Симонова), у которого был редкий еще в тогдашнем быту магнитофон (мнения о том, кто принес магнитофон, в разных источниках разнятся). В числе гостей была и учившаяся на том же курсе Джоя Афиногенова, которая привела своего мужа. В спектакле прозвучало несколько рискованных фраз, вложенных в уста персонажей, в том числе и Ленина. Вайсфельд особенно настаивала, что «весь наш капустник не был фрондой, не имел острой политической подоплеки. Именно это-то было особенно обидно потом, уж лучше бы страдать за идею, а не за балабольство»[147]. В конце вечера Анчаров предложил: «Что-то, ребята, вы не такое насочиняли, сотрите-ка на всякий случай!» И запись вроде бы стерли.
Собственно история на этом закончилась, и начались ее последствия, которые для многих участников оказались катастрофическими. Через некоторое время их по очереди стали вызвать на допросы к следователям Лубянки, а в конце концов состоялось комсомольское собрание, в результате которого «Вайсфельд, Иванова, Трифонова, Валуцкого, Смирнову и почему-то Шорохова (комсомольского руководителя факультета, в капустнике не участвовавшего — авт.)» исключили из института. Правда, к 1963 году восстановили всех, кроме Шорохова (по свидетельству Наталии Рязанцевой[148], взбесившего начальство своими настойчивыми попытками добиться правды).
А после разгона последовало то, что уже напрямую касается Анчарова. По творческим вузам были разосланы закрытые назидательные письма об этой истории, одно из которых скопировала Фрида Вигдорова и показала Наталии Вайсфельд. В письме, по словам Наталии:
«…говорилось, что из присутствующих на нашей вечеринке “нашелся лишь один человек, который понял всю глубину идеологического падения студентов сценарного факультета и сообщил в соответствующие инстанции о том, что произошло на квартире у Н. Вайсфельд. Был он человек взрослый, прошедший суровую школу жизни”. И фамилия сообщалась — М. А.».
Впоследствии кинорежиссер Александр Муратов (муж известного режиссера Киры Муратовой) в своих воспоминаниях утверждал, что о том же самом им с Шукшиным проговорились (!) гэбэшники на совместной пьянке (!!!)[149].
Интересно, что в этой истории, кроме Михаила Леонидовича, был еще один, по всей вероятности, незаслуженно пострадавший: Дая Смирнова, к тому времени уже профессиональная актриса, сыгравшая несколько ролей в кино[150]. Во время разбирательства она себя вела, по свидетельству Наталии Рязанцевой, необычно: посещением собраний манкировала, в обсуждениях не участвовала, от сокурсников отдалилась. Почему-то сокурсники сначала (еще до распространения сведений из закрытого письма) решили, что именно она — доносчик. Излишне говорить, что подозревать Смирнову оснований не больше, чем Анчарова, к тому же она пострадала не меньше остальных, а в определенном отношении даже больше: по словам Рязанцевой, она была единственная, за чье исключение из комсомола почти единодушно проголосовали все сокурсники, принципиально не голосовавшие за исключение остальных «провинившихся». Такова цена, которую Дая заплатила за свое демонстративное неучастие в разборках. И хотя впоследствии многие считали своим долгом лично принести извинения, Дая Евгеньевна даже ВГИК потом закончила заочно, у Алексея Каплера.
И еще один штрих к этой истории: в отличие от Вайсфельд и некоторых других пострадавших, Наталия Рязанцева никогда не была уверена в вине Анчарова. В своих воспоминаниях[151] она говорит об этом так: «Мы почти уверены, что это был Анчаров, но — “почти”. Так я и сказала киноведам, и это попало в печать. А вдруг — не он? Страшно оговорить человека, когда его уже нет в живых. Это вполне мог быть кто-то другой — или другая… Не всё тайное становится явным».
Легко понять Фриду Вигдорову, которая не могла не показать пострадавшим текст письма в надежде, что это позволит им хоть как-то разобраться. Легко понять пострадавших, которые на фоне своего душевного состояния разбираться ни в чем не стали, а с ходу поверили в навязываемую им версию. Про Анчарова они знали только, что он муж Джои с таинственным военным прошлым, как-то связанным со СМЕРШем. О степени их «осведомленности» говорит упоминание Вайсфельд, что он «работал начальником лагеря в Маньчжурии», приведенное якобы с его слов, сопровождаемое, правда, оговоркой «приврать он любил». Название «СМЕРШ» звучало вполне зловеще, о деталях никто осведомлен не был, и люди того времени скорее поверили бы в любые преступления причастного к этому страшному учреждению человека, чем задумались: а с чего вдруг «компетентные органы», принципиально не выдававшие имен своих стукачей (причем, как мы увидим, это не просто обычай, а строгое формальное правило), станут открыто распространять фамилию осведомителя?
Особенно неправдоподобно выглядит «случайная оговорка по пьянке» в интерпретации А. Муратова — если что-то подобное имело место в действительности (а те, кто читал любые «воспоминания» Муратова, согласятся, что доверять ему следует с большими оговорками), то это, по сути, прямое свидетельство намеренного вброса с целью перевода стрелок на ни в чем не замешанного человека. И еще в этой истории умиляет бытовавший всю советскую эпоху и сохранившийся до сей поры стойкий и убедительный миф о том, что «гэбэшников бывших не бывает»: якобы все, причастные к службе в органах, давали подписку о пожизненном обязательстве доносить на всех окружающих. Даже, наверное, сантехники и уборщики, а уж лейтенанты-переводчики с китайского — так наверняка…
К чести подавляющего большинства тех, кто Анчарова знал близко, — они ни на секунду этому поклепу не поверили. Валентин Лившиц, как раз в эти годы дневавший и ночевавший у Анчаровых, так комментировал причины такого отношения:
«Первое: в компании, где мы с Анчаровыми вращались, про которую я писал, люди подобрались достаточно диссидентски настроенные. В высказываниях себя никто не сдерживал. Вдумайтесь: Галич, Клячкин, Туриянский. У Иры Петровской — библиотека отца (на самом деле деда — авт.) (председателя ЦИК Украины Григория Ивановича Петровского), там были запрещенные стенограммы съездов партии, из которых было видно, кого расстреливала советская власть, — и не только это. В этой компании книги Солженицына, книги Булгакова, книги Евгении Гинзбург (мама Василия Аксенова, просидевшая 17 лет) появлялись задолго до их публикации. За “Хронику времен культа личности” Евгении Гинзбург давали 5 лет, а в это время у меня она лежала дома. Все это знал и видел Миша. Он всегда сторонился этих дел. Он сдерживал особо рьяных. Он был старше и умнее. <…>
Второе: Анчаров был при всем своем уме очень прямой человек. Эта тема про донос при мне была затронута только однажды. На вопрос: “что там происходило?” он сказал, что по этому доносу его вызывали тоже. Он там сказал, что не придал этому значения, тем более что эту запись обещали стереть тут же. А раз записи не будет, то и разговаривать не о чем. <…> Анчаров был в жизни человек, который врать не умел по определению. Он тут же проговорится и попадется. …Могу предположить, что если бы Анчаров “настучал”, он сказал бы об этом открыто. Дескать, я считаю, что это подрыв власти, а власть у нас народная, и я допустить этого не могу. Вот такой он был человек…»
Всеволод Шиловский (режиссер телесериала «День за днем») в своих воспоминаниях скажет:
«Во ВГИКе после одного из капустников под удар были поставлены многие студенты. И вдруг появилась так называемая версия, что Анчаров в этом виноват. Это была ложь, кому-то удобная, но шлейф тянулся всю жизнь. На самом деле человек, прошедший фронт, смерть, не мог совершить даже близко похожего поступка».
Сам Анчаров на эту тему не распространялся, но и не скрывал от близких людей. Нина Георгиевна Попова, которая выйдет замуж за Михаила Леонидовича в 1969 году (подробнее о ней см. в главе 8), рассказывала: «Вот эта вся история, которая вгиковская, по-моему, первое, что он рассказал. У него так болело и он так мучился и так страдал этим, потому что это ужасно. Их уже никого нет. Это травма в его жизни, это для него было чудовищным…»
Режиссер Николай Лукьянов[152][152], который в 1988 году собирался ставить фильм по анчаровской повести «Прыгай, старик, прыгай!» (проект не удался, но не по вине Лукьянова), услышал эту историю из уст одного из пострадавших, Владимира Валуцкого. Валуцкий и через много лет был убежден в вине Анчарова, а Лукьянов, хотя с Анчаровым до этого знаком не был, относился к нему слишком с большим пиететом, чтобы поверить в такую версию с ходу. И в одно из посещений Анчарова, во время посиделок за коньяком, Николай Валентинович осмелился спросить напрямую об этой истории[153]:
«Вот так вот запросто подошел к человеку, которого, между прочим любил до ужаса, и вопросил, стукач ли он? Не мог больше терпеть это минное поле между нами. Трезвый бы, конечно, не спросил никогда, потому что понятна глупость вопроса — какой действительный стукач ответит на это утвердительно?
И вот что он мне поведал. Историю эту вгиковскую помнит очень хорошо, потому что его тоже таскали, как одного из слушателей. И он дал всем этим ребятишкам достаточно высокую оценку и объяснил, что ничего предосудительного в действиях их не нашел, поэтому и не принял меры. Вот и всё. Он знает, кто настучал на ребят, но не скажет… он, Миша, не сплетник и никогда им не был».
Лукьянов далее комментирует: «Как в анекдоте: то ли у него пальто украли, то ли он украл, в общем, что-то такое было. Удобная позиция для “доброжелателей” — в случае чего, просто намекнуть».
Тем не менее, повторим, пострадавших при той сумятице, которая творилась у них в головах, понять несложно. Труднее понять, зачем заслуженному президенту Фонда защиты гласности Алексею Кирилловичу Симонову, которого, по его собственным словам, эта история задела только косвенно, понадобилось в настоящее время дважды (в 2013 и в 2015 году) возвращаться к ней в весьма уважаемых и читаемых средствах массовой информации. И при этом оба раза настоятельно акцентировать внимание на имени Анчарова, не остановившись даже перед публикацией частного письма скончавшейся к тому времени Вайсфельд. Наталия Ильинична, разумеется, имела право на любое собственное мнение, но поскольку к ней уже обратиться за разъяснениями невозможно, ответственность за его обнародование лежит на том, кто публикует.
Ведь документально доказать ничего нельзя по вполне объективным причинам — согласно разъяснениям, которые получил (по другому поводу) один из авторов этой книги от следователя ФСБ, факт негласного сотрудничества с «органами» подлежит раскрытию не ранее чем через пятьдесят лет после смерти того, кто сотрудничал. Уже поэтому история с обнародованием имени доносчика по собственной инициативе КГБ выглядит неправдоподобно. И недаром в период перестройки и после нее никто не пытался заниматься обнародованием имен «стукачей» (хотя нельзя сомневаться, что искушение было у многих): слишком легко тут ошибиться и навредить ни в чем не повинному человеку — один только наш случай представляет яркую иллюстрацию к этому очевидному тезису. Возникает ощущение, что тут преследуется какая-то специальная цель, но мы по примеру Анчарова сплетнями и домыслами заниматься не будем.
В разное время некоторыми высказывалась версия о том, что своей «подставой» власти мстили Анчарову, который, несмотря на свою показную лояльность к режиму, в стройных рядах советских писателей всегда выглядел белой вороной. Но, во-первых, положа руку на сердце, такое можно сказать о любом крупном писателе или поэте. Классический пример: ортодоксальный коммунист Иван Ефремов, который умудрился, практически не выходя за рамки разрешенного и даже не ставя перед собой прямой цели критиковать существующий режим, написать вполне антисоветский «Час быка». А нередко разногласия с официальной линией достигали еще большей остроты, напрямую переходя в политическую плоскость, — чего у Анчарова не было совершенно, его расхождение с официальной доктриной было весьма серьезным, но носило абстрактный, теоретический характер. Это сейчас нам понятно, что Анчаров методично разрушал основные положения официального учения, ставившего во главу угла коллективные, «классовые» интересы и действия и совершенно игнорировавшего личность и ее значение. А тогда и сам Анчаров это до конца не понимал, и большинству его читателей в глаза совершенно не бросалось, что перед ними именно оппозиция официальному учению. Потому власти и коллеги по цеху не могли, конечно, принять его «за своего», но и мстить ему было совершенно не за что.
Во-вторых, в 1958 году, когда произошла эта история, Анчаров был известен публике лишь как автор некоторых «самодеятельных» песен. Он еще не опубликовал ни одного из своих программных прозаических произведений, и о его каких-то там «крамольных» теориях просто никто не знал, кроме близких знакомых. Так что он, очевидно, просто случайно попал в поле зрения тех, кто затевал всю историю, и показался удобной фигурой, на которую можно указать для примера, противопоставив ее «заговорщикам» и тем внося в их ряды еще больший разлад.
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — сказал автор Анны Карениной. Отчего в отношениях Джои и Анчарова в начале шестидесятых наступает кризис? Одна из причин лежит на поверхности: Михаилу Леонидовичу материальное положение всегда было глубоко безразлично. К деньгам он относился примерно так же, как к сплетням, и в течение всей жизни так не смог до конца понять, зачем вообще нужен такой общественный институт, как деньги: есть деньги — хорошо, нет денег — и бог с ними, не стоит обсуждения. Молодая Джоя легко приняла этот стиль отношения к деньгам, но она отталкивалась совсем от другого уровня: если у Анчарова собственных денег никогда, по большому счету, и не было, то Джоя, наоборот, никогда не испытывала в них серьезного недостатка. И уже к концу 1950-х над семьей начинают сгущаться тучи: у Джои иссякает источник средств, на которые она могла себе позволять ездить на такси и гулять по комиссионкам, — авторские права на пьесы отца, согласно законодательству тех времен, должны были истечь еще в 1956 году. Есть предположение, что Джое какое-то время помогали американские родственники, но если такая помощь и могла пробиваться через весьма плотный к тому времени «железный занавес», то едва ли регулярно.
Это, конечно, не единственная и, как мы увидим, даже не главная причина обострения отношений внутри семьи Анчаровых, но гадать тут и бессмысленно, и неэтично по отношению к давно умершим людям. По имеющимся фактам можно предположить, что Джоя, которую все вспоминают как талантливого человека, так и не смогла этот свой талант реализовать, что привело ее к тяжелой депрессии, многократно усугубленной известием о неизлечимой болезни. Татьяна Злобина уверена, что Джоя тогда начала принимать наркотики, и даже рассказывает, как они с Ириной Петровской в сумочке Джои обнаружили шприц. Но воспоминания знакомых не дают полного ответа на истинные причины кризиса: просуммировав все мнения, можно только утверждать, что те, кто однозначно винит во всем Анчарова, неправы. И, конечно, большинство возлагает вину на появившегося в это время в их компании Иосифа Гольдина, что тоже не совсем правда — он явно послужил только «спусковым крючком» для разрешения давно назревшей ситуации. Иосифа Гольдина привел к Анчаровым Валентин Лившиц:
«В институте, где я учился, старше меня на два курса, был студент Иосиф Гольдин. Был он “активист”, как это тогда называлось, член комитета комсомола института, младшекурсники его боялись, был он “суров и справедлив”, умен, невысок, неспортивен. Этакий еврейский мальчик из провинции, рвущийся к высотам знаний с принципиальностью во взглядах.
<…> Короче, очень скоро Гольдин стал моим хорошим другом, потом узнал, что я с “самим” Анчаровым знаком, пристал: “возьми меня с собой к ним, я буду тихий, как мышка”. А вы не взяли бы? Как говорится в “Белом солнце пустыни”: “Однако сомневаюсь я”. Вот и взял я его с собой к Анчаровым.
А он остался у них ночевать. В пять утра метро не ходит, так и прижился».
Вероятнее всего, появление Гольдина у Анчаровых произошло в конце 1963 года, во время встречи Нового года. Вначале Гольдин был, как он сам признавался, абсолютно очарован масштабом личности Анчарова и его идеями о механизмах творчества как главных движущих силах общественного развития. Сохранилось обширное письмо Гольдина к Анчарову, написанное после попытки Джои летом 1963 года совершить самоубийство, в котором он писал:
«Полгода назад — или уже больше — познакомился с вами нормальный парень: полнейшая эклектика, как по части стремлений, так и по части отношения к жизни. Сидел я эти полгода и день за днем становился человеком. Вначале вы меня задавили, как обвал. Потом стало полегче».
Иосиф Соломонович Гольдин (1939–2000) в дальнейшем стал известен как автор идеи глобального информационного пространства, в котором, по его мысли, общение людей разных стран напрямую между собой должно предотвращать войны. Эту идею он пытался реализовать практически — многие его вспоминают, как организатора первых в истории телемостов СССР — США. Первый такой мост прошел еще в 1982 году (с советской стороны режиссером был Юлий Гусман) и никакого влияния на политическую обстановку не оказал — с нашей стороны его проведение, по некоторым сведениям, вообще было засекречено. Владимир Познер, который впоследствии перехватил эту идею и стал ведущим известных публичных телемостов «Познер — Донахью», писал об этом проекте: «…если говорить о произведенном впечатлении, то и в Америке, и в СССР оно было минимальным, “мосты” эти не только не стали событием, они очень скоро забылись в обеих странах. Я объясняю это тем, что они не являлись подлинными по сути, это было искусственное общение с заранее установленными правилами, не соответствовавшими реальному положению вещей».
В середине 1980-х Гольдин побывал в психиатрической больнице им. П. П. Кащенко, откуда его вытащили академики Раушенбах и Велихов, причем не очень ясно — то ли это было политическое преследование, то ли реальный врачебный диагноз. По свидетельству Познера, Гольдин был «не диссидент, но и не “homo soveticus”». Удивительно, но, упершись в идею общения на больших экранах, Гольдин так и не оценил, кажется, значимости интернета, который в конце его жизни уже был достаточно развит. Умер Гольдин от сердечного приступа в гостинице Владикавказа, где пытался оказать влияние на установление мира в Чечне.
В чем-то Гольдин с его идеалистическими взглядами на «народную дипломатию», несомненно, напоминает Анчарова, из общения с которым многое почерпнул. Его идеи об обретении взаимопонимания при личном общении напрямую перекликаются со многими местами из анчаровской прозы. В упомянутом письме Гольдин, в частности, пишет: «Мне показалось, что можно наконец осуществить тот синтез художественного и научного мировоззрения, который почувствовал в вас». Какое-то время Анчаров его привечал, просил его развлекать так и не нашедшую себе занятия Джою, сопровождать ее на каток и даже вроде бы собирался написать с Гольдиным совместный сценарий, который должен был называться «Наша весна». Андрей Косинский вспоминал: «И Миша такой воодушевленный говорит: “Мы с ним пишем научно-фантастический роман…”»
Гольдин очень точно уловил главную идеалистическую черту Анчарова — не принимать реальности «как она есть», а стараться приспособить окружающее к своим воззрениям, но в конце концов ее не принял. С откровенной иронией он пишет:
«Когда, восприняв животом какую-то информацию и не попытавшись выяснить ее объективный смысл, начинаете приводить мир в гармонию с вашим личным ощущением истинной его картины (иногда для этого нужно взять рельс и проломить пару черепов), вы становитесь опасным для общества — оно должно защищаться».
Гольдин впоследствии заслужил репутацию «городского сумасшедшего». Он имел удивительную способность заражать своими «завиральными» идеями людей самого разного уровня: например, увлекшись в семидесятые годы суггестологией — отраслью психологии, изучающей механизмы внушения и гипноза, — он не только выступает организатором Первого международного симпозиума «Бессознательное», но и по предложению академика А. И. Берга создает Комиссию по исследованию резервных возможностей человека в Научном совете по кибернетике при Президиуме РАН СССР. То же самое произошло с идеей телемостов, которой он сумел увлечь посла СССР в США А. Ф. Добрынина. Вот эта его способность вызывать доверие у очень разных людей, очевидно, и была причиной того, что ему было суждено сыграть роль «спускового крючка» в отношениях Джои и Анчарова.
Если те, кто имел дело с Гольдиным в восьмидесятые годы, вспоминают про него с уважением, то все без исключения знакомые Анчарова ничего хорошего про молодого Гольдина вспомнить так и не смогли. Ирина Романова называет его «мерзопакостная личность» и «ничтожество», Татьяна Злобина — «слизняк» и «приживалка», Диана Тевекелян (о ней подробнее см. в главе 7) — «злодейским человеком», Андрей Косинский высказывает предположение, что именно Ося Гольдин приучил Джою к наркотикам. Хотя если про наркотики вообще правда, то они, скорее всего, появились совершенно независимо от Гольдина, он, возможно, просто помогал их доставать.
Это становится особенно ясно, если учесть, в каком душевном состоянии Джоя находилась к этому времени — к лету 1963 года у нее уже диагностировали рак, дважды облучали кобальтовой пушкой, а в сентябре должны были облучать третий раз. В силу этих фактов понятно, что и ее попытка самоубийства с помощью таблеток, и предположительные наркотики в ее жизни, и непрерывные конфликты с Анчаровым на бытовой почве (да-да, в последний период совместной жизни сработала та самая мина неумения и нежелания вести хозяйство, о которой мы говорили ранее, очень возможно, усугубленная недостатком средств на поддержание прежнего стиля жизни), и последовавший разрыв отношений — все эти неурядицы лишь фон, на котором развивалась настоящая трагедия.
Окончательный разрыв произошел в 1964 году. Сохранилась записка, написанная Джоей перед уходом, в которой она просит прощения и пишет: «Мне из этой каши уже не вылезти. Просто больше нет сил» (сейчас нам очевидно, что это относилось к ее болезни). Гольдин в это время снимал комнату у какой-то хозяйки, и Анчаров сначала бросается искать Джою. Валентин Лившиц вспоминает (Лившиц, 2008):
«Практика у меня летом была, дежурил я в воскресенье в лаборатории одного НИИ, где еще до института техником работал полгода, вдруг звонок с проходной: “Лившиц, выйди в проходную, тебя тут мужчина спрашивает”.
Выхожу.
Миша Анчаров стоит бледный. Спрашиваю:
— Что случилось?
А он меня спрашивает:
— Ты адрес, где Гольдин квартиру снимает, знаешь? Я говорю:
— Нет, да я его, наверное, уже больше года не видел. Да что случилось-то?
А Миша мне и говорит:
— Джоя к нему от меня ушла. Я говорю:
— Быть того не может. А Миша:
— Вот записка.
Дальше долго рассказывать, попробовали мы на такси проехать, определить в районе Первомайских улиц, где живет Иося, да я ничего не знал, да и Миша, как выяснилось, тоже».
Галина Аграновская заметит в своих воспоминаниях (Аграновская, 2003): «…я сказала мужу: “Вот и получил свой бумеранг Миша обратно, бросив в Тату…” Не дав мне договорить, Толя заметил: “Не стоит это обсуждать”».
Долго Джоя в съемной комнате, конечно, ютиться не могла. Она вернулась вместе с Гольдиным на Лаврушинский, и последующие два года они все жили в одной квартире: Анчаров с отцом, братом и его семьей, а потом и с Мариной Пичугиной, и больная Джоя с Гольдиным[154]. В 1966 году Джоя умерла в больнице. Андрей Косинский рассказывал о том, как Анчаров отреагировал на это событие:
«…приехал к Максиму[155] совершенно весь зареванный, и мы поехали в этот морг. Его туда не пускал сторож. Говорит, что она же там разрезанная. Он: “Я воевал, всё видел…” Сунул ему трешку. Зашел и всё увидел. А потом, в крематории была жуткая картина. Мишка стоял, его с обеих сторон поддерживали, а Ося, в таком пестром свитере, лежал на Джое, прямо в гробе. Очень картинно: ножки так, ручки так… Не двигался».
Друзья вспоминали, что после Джои осталось много долгов, а Андрей Косинский приводит о многом говорящую деталь их отношений после разрыва: «Мишка ей деньги подсовывал под дверь…» И Гольдин в упомянутом письме честно передает слова Джои о том, кто есть кто в ее жизни: «Она сказала, что если дело дойдет до прыгать или не прыгать с поезда, то Мишка это “свой”, а я — бабушка надвое сказала…»
Из «Самшитового леса»:
«Сапожников тоже видел это в последний раз.
— Сколько тебе надо денег?
— Триста рублей, — сказала она наугад, — взаймы.
— Взаймы… — сказал Сапожников. — Не говори глупостей… Я попробую. <…>
Потом Сапожников пришел домой и, чтобы ничего не слышать за стеной, включил радио. И тогда здесь, в комнате, он услышал японскую песенку о двух супругах, разлученных, которые умерли, и каждый год в какой-то праздник их души подходят к двум берегам Млечного Пути, и смотрят друг на друга через белую реку, и не могут встретиться никогда, — такая в Японии есть сказка».
В 1959 году умерла мать Анчарова Евгения Исаевна, в 1966-м — Джоя, в 1968 году умрет отец, Леонид Михайлович. В «Самшитовом лесе» есть короткий фрагмент, где Анчаров вспоминает о смертях этих самых близких ему людей в таких словах:
«Мать схоронили. Как и не было. Все разошлись. А Сапожников не мог понять, что мама умерла. И тогда не мог понять, и потом.
Пока мы про человека помним, он для нас живой. Вот когда забываем про кого-нибудь, то и живого как не было, умирает для нас этот человек, и в нас что-то умирает от этого, чтобы остальному в нас жить. Ужасно это все, конечно, но по-другому пока природа не придумала. Может, люди что придумают.
Вышел Сапожников из крематория, а уж перед дверьми другой автобус стоит, серый с черной полосой, другое горе очереди ждет и своего отпевания. Не знал тогда Сапожников, что в ближайшие несколько лет жена его умрет, проклятая и любимая, а потом и отец. Всех подберет серый автобус. Смерть, смерть, будь ты проклята!»
Глава 6
Авторская песня в поколении романтиков
Во второй половине пятидесятых — начале шестидесятых в советском обществе сложилась уникальная общественная атмосфера, с легкой руки известного в те годы поэта и писателя Ильи Эренбурга получившая название оттепели. Подробнее об этом явлении мы поговорим в следующей главе, а сейчас остановимся только на одной его существенной черте, к которой непосредственно причастен Анчаров. Популярный в девяностые годы писатель-фантаст Василий Звягинцев, чья юность пришлась на эпоху ХХ съезда, так характеризовал свое поколение[156]:
«Не следует забывать, что все четверо (героев книги Звягинцева — авт.) принадлежали к первому послевоенному поколению, и юность их пришлась на годы с совершенно особенной нравственной атмосферой, которая не походила ни на ту, что существовала предыдущие сорок лет, ни на ту, что опустилась на страну в конце шестидесятых. Но им и их ровесникам хватило и пяти-шести лет, чтобы навсегда приобрести иммунитет и к тщательно срежиссированному бескорыстному энтузиазму, и к циничному прагматизму последующих десятилетий.
Не зря среди их первых взрослых книг были Хемингуэй, Ремарк, Камю, Эренбург, Катаев, Солженицын, они читали наизусть стихи Евтушенко и Когана, слушали и пели сами песни Окуджавы, Городницкого, Галича, безошибочно ответили себе на прозвучавший из самых высоких инстанций вопрос: “Для кого поет Высоцкий?”
И, разумеется, даже “свой путь земной пройдя до половины”, они так и не научились говорить и поступать “как положено” и “как принято”».
Обратите внимание: в числе определяющих мировоззрение поколения факторов здесь названы «песни Окуджавы, Городницкого, Галича», а также Высоцкого. Иными словами, авторская песня (тогда еще чаще называвшаяся «самодеятельной» или «туристической») была одной из главных примет времени. Влияние Анчарова на эту область никогда никем не оспаривалось, хотя его роль и была основательно подзабыта. О некоторых корнях жанра мы уже говорили (см. главу 2), а сейчас сначала рассмотрим обстановку, в которой эти корни дали столь пышные всходы.
Мы уже отмечали в главе 2, что у авторской песни, ставшей в 1950–1980-е годы отдельным особым направлением отечественной культуры, было несколько независимых источников. Среди них и лучшие представители официальной эстрады (Марк Бернес, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов), и почти в одиночку представлявший целое отдельное направление Александр Вертинский, и, главное, явление, получившее название городского фольклора, в конце сороковых и начале пятидесятых необычайно распространившееся в студенческих, туристических и просто интеллигентских кругах.
Студенческо-туристический фольклор, который часто называют для краткости «городским» (хотя это не совсем точное определение), стал той питательной средой, почвой, на которой авторская песня росла и развивалась. Напомним, что вначале еще не было магнитофонов и единственной средой распространения неофициальных песен была изустная передача от одного самодеятельного исполнителя к другому. Песни того периода нельзя назвать авторскими, потому что аудитория с авторами почти не соприкасалась, — более того, зачастую автора просто не знали и не особенно им интересовались (именно это, в частности, произошло с песнями Аграновича, да и с ранними песнями Анчарова тоже).
Репертуар этого фольклора был необычайно широк — он вобрал в себя и чисто народные мотивы и классику песенной поэзии и романса, песни самодеятельные и профессиональных композиторов; встречаются песни на стихи поэтов Серебряного века, чье творчество официальной пропагандой не приветствовалось (например, Саши Черного).
Были очень популярны различные интерпретации «цыганочки» или частушек. К жанру «цыганочки» потом обращались многие представители авторской песни, а частушки ввиду простоты стихотворной формы и мелодического оформления постоянно пополнялись самодеятельным творчеством из интеллигентской среды. Среди них попадались настоящие языковые находки — к примеру, частушка, в которой приличная только первая строка «Полюбила Мишку я…», а все остальное есть вполне содержательные вариации на тему единственного матерного слова. Или вот такие шедевры тех лет (явно интеллигентские творения, замаскированные под народное творчество):
Я любила тебя, гад
Четыре месяца подряд,
А ты всего полмесяца,
И то хотел повеситься!
Мне миленок изменил
В полчаса девятого.
Через пять минут пришел,
А я уже занятая!
Мой миленок, старый хрыч,
Приобрел себе «Москвич».
Налетел на тягача —
Ни хрыча, ни «Москвича»…
Я сижу на берегу,
Мою левую ногу́.
«Не ногу́, дурак, а ногу».
Все равно отмыть не могу.
Пели также из еще дореволюционного студенческого:
А Лаврентий святой
С колокольни большой
На студентов глядит, ухмыляется.
Он и сам бы не прочь
Провести с ними ночь,
Но на старости лет не решается.
Через тумбу, тумбу раз,
Через тумбу, тумбу два…
Пели стилизации под блатные (напомним, что это было задолго до Высоцкого!):
Стою я раз на стреме,
Держуся за карман,
И вдруг ко мне подходит
Неизвестный мне граждан…
Он предложил мне франки
И жемчугу стакан,
Чтоб я ему поведал
Советского завода план.
Эта песня продержалась в репертуаре самодеятельных исполнителей несколько десятилетий, причем поющим ее было невдомек, что песня совсем не блатная и не народная, а самая что ни на есть авторская и сочинил ее в ссылке ленинградский филолог Ахилл Левинтон, арестованный в 1949 году на волне борьбы с космополитизмом.
Несомненно интеллигентские корни имеет и очень известная в те годы «Когда с тобой мы встретились»:
Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела,
И в парке старом музыка играла,
И было мне тогда еще совсем немного лет,
Но дел уже наделал я немало.
Лепил я скок за скоком, а после для тебя
Метал хрусты налево и направо,
А ты меня любила, но часто говорила,
Что жизнь блатная хуже, чем отрава.
Стихи в ней настолько законченные, что, несмотря на «народное» бытование в течение нескольких десятилетий, вариантов текста известно очень немного, и Андрей Макаревич в 2011 году поет ровно те же слова, что пел Владимир Высоцкий в начале шестидесятых. А вот автор этого шедевра за все эти годы так и не был идентифицирован — все позднейшие домыслы (Высоцкий, Андрей Тарковский и т. п.) отсекаются фактом, что известна эта песня как минимум с начала пятидесятых.
Вспоминали песенки периода нэпа (пародийная версия чрезвычайно популярного в предреволюционные годы мещанского романса, рассказывающего о самоубийстве фабричной работницы Маруси):
Из тучки месяц вылез,
Молоденький такой…
Маруся отравилась,
Везут в приемпокой…
Мотор колеса крутит,
Под ним бежит Москва,
Маруся в Институте,
Ах, Склифосовскага…
Из тех же времен пришла дворово-блатная «Мурка», известная более чем в 25 различных вариантах: от классического «жестокого романса» до фольклорно-еврейского. Первоначальный вариант, кстати, написан в 1923 году профессиональным композитором Оскаром Строком на стихи одесского поэта Якова Ядова (автора почти столь же знаменитых «Гоп со смыком» и «Бубличков»). Но затем песня пошла в народ, изменявший ее в зависимости от предпочтений конкретной социальной среды. Анчаров интерпретирует детское воспоминание о «Мурке», которую пела благушинская шпана, в своем оригинальном ключе (из повести «Этот синий апрель»):
«…и слышал, слышал, как пели страшные рассказы о проданных малинах, о киперах и медвежатниках, о фармазонщиках и уркаганах, о бери-мереойс и о Мурке, погибшей красоте».
И еще раз встречалась Маруся в необычайно популярной в те годы песне, автор слов которой так и не был установлен:
Цилиндром на солнце сверкая,
Надев самый лучший сюртук,
По Летнему саду гуляя,
С Маруськой я встретился вдруг.
По ходу дела герой песни Марусе изменяет, потом у него начинают болеть зубы, а Маруся как раз и оказывается зубным врачом:
В тазу лежат четыре зуба,
А я, как безумный, рыдал,
А женщина-врач хохотала —
Я голос Маруськи узнал.
Эта песня, с ее ненастоящими, какими-то по-детски упрощенными героями и ситуациями, производит невероятный комический эффект. Написана она, скорее всего, в двадцатые годы на мелодию когда-то известной песни в исполнении Владимира Сабинина «Гусары-усачи» («Оружьем на солнце сверкая…»), сочиненной еще в 1912–1913 годах.
Еще из фольклора тех лет нельзя обойти песни Алексея Охрименко, который в соавторстве с Сергеем Кристи и Владимиром Шрейбергом сочинил такие популярные шедевры, как «Венецианский мавр Отелло / Один домишко посещал…» (на мелодию «Имел бы я златые горы»), «Я был батальонный разведчик…», «Жил-был великий писатель / Лев Николаич Толстой…» и др. Ввиду легко запоминающейся мелодии, стилизованной под шарманку или гармонь, эти песни часто исполнялись в самых разнообразных кругах общества. Литературоведы доказали несомненное влияние песенного наследия этого трио на творчество Высоцкого[157]. Охрименко и его соавторы, как и многие другие сочинители городского фольклора тех лет, никогда на авторство не претендовали, к песенному сообществу, сложившемуся уже в магнитофонные шестидесятые, не примыкали, и потому их творения остались скорее в предыстории авторской песни, чем в ней самой. Их имена вообще стали известны только в начале 90-х годов благодаря публикациям и выступлениям единственного остававшегося к тому времени в живых участника — А. Охрименко.
Из популярных в те годы образчиков городского фольклора, уже формально имевших все признаки авторской песни, кроме написанной еще до войны «Бригантины», следует назвать «Глобус». Песня была написана в 1947 году будущим известным драматургом Михаилом Львовским[158] для дипломного спектакля студентов ГИТИСа по пьесе их преподавателя Леонида Малюгина «Старые друзья». В оригинале в песне было всего два куплета, причем часто цитируемые слова «Потому что нам нельзя без песен, / Потому что мир без песен тесен» в нем отсутствовали — они были сочинены безымянным «народным» автором позднее. Мелодия песни ведет свое происхождение от песни Михаила Светлова «За зеленым забориком»[159]. «Глобус» — может быть, единственный образчик городского фольклора сороковых — пятидесятых, который получил официальное признание и в шестидесятые годы часто исполнялся по радио «официальными» эстрадными певцами. Такой поворот эту песню погубил — она встала в ряд с мажорным официозом тех лет, интонационно мало чем отличаясь от тех же пахмутовских песен, весьма талантливо выполненных, но ничуть не соответствовавших настрою аудитории. И если студенты 50-х (Ю. Визбор, Ю. Ким) вспоминают «Глобус» ностальгически (а у Юлия Кима даже имеется прямая отсылка к ней: «потому что мир без песен пресен»), то в шестидесятые годы и далее в студенческих компаниях и на слетах КСП ее уже не исполняли.
Ни одно молодежное застолье тех времен — равно студенческое или просто интеллигентское, в среде ученых или инженеров, даже поэтов и литераторов — не обходилось без гитары и коллективного или сольного исполнения песен. Это, кстати, на много лет вперед определило форму существования и авторской песни тоже — она была рассчитана не на исполнение в концертных залах и, в общем, первоначально даже не на воспроизведение на магнитофонах, — записи позднее стали лишь способом ее распространения, но не бытования. Песня потому и получила в одном из вариантов наименование «самодеятельной», что предназначалась для исполнения непрофессиональными исполнителями под простую акустическую гитару в лесу у костра или на студенческой вечеринке в общежитии. В шестидесятые начинается эпоха тематических и авторских концертов по Домам культуры, возникают почти профессиональные коллективы — ансамбли, дуэты и даже целые хоры, — специализирующиеся на непризнанной официально авторской песне (была такая удобная официальная форма, как студенческая агитбригада, позволявшая маскировать под нее любые начинания такого рода). Но все-таки доминирующей формой существования жанра было индивидуальное авторское исполнение в небольших домашних или походных аудиториях.
Интересно, что в этой среде практически не имели распространения официальные советские песни, даже вполне достойные, вроде упомянутых лирических военных или песен из кинофильмов. Поэт Исай Кузнецов в своих воспоминаниях[160] свидетельствует: «Чисто советских песен не пели. Не сознательно, нет. Просто — не пели». Иными словами, не пели ничего из того, что звучало по радио (вспомним, как «Глобус» резко выпал из самодеятельного репертуара, получив официальное признание). Тем более что мы на этих страницах вспоминаем лучшие образцы советской эстрады, а в целом ее картина была вполне серая, скучная и полная официального натужного пафоса. Официальные песни проникали в фольклор лишь в виде переделок для шуточных гимнов и как часть распространенных в то время в студенческой и научной среде самодеятельных спектаклей-капустников. Например, на химфаке МГУ (а через него — и в некоторых других химвузах страны с соответствующими переделками текста) был распространен такой гимн химиков на мелодию «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»[161]:
Мы рождены, чтоб вылить все, что льется,
Рассыпать то, чего нельзя пролить.
Наш факультет (как вариант — «институт») химическим зовется,
Всю жизнь мы будем химию любить!
Все выше и выше, и выше
К вершинам наук мы идем.
И если с пути не собьемся (хор эхом дополняет: «сопьемся!»),
То значит, получим диплом.
Кроме того, по понятным причинам отсутствовали песни, затрагивающие политические темы. Политики избегали подсознательно — за это могли наказать и очень крепко. Она вошла в городской фольклор лишь на гребне оттепели, в конце пятидесятых с появлением песен Юза Алешковского («Товарищ Сталин, вы большой ученый…») и затем, конечно, Александра Галича. Известна частушка, которая могла появиться еще в тридцатых: «Ах, огурчики-помидорчики / Сталин Кирова убил в коридорчике», но, скорее всего, это позднейшее творчество — вплоть до ХХ съезда (не исключено, что после него тоже) за произнесение этих строчек вслух можно было угодить под расстрельную статью, и все советские граждане это прекрасно понимали. Максимум, что позволяли себе произносить вслух (но вполголоса и в проверенной компании) тогдашние студенты, были сравнительно безобидные куплеты вроде:
Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия,
И от министра Берия
Летят и пух, и перия!
Неотъемлемую часть городского фольклора составляла также возникшая на рубеже сороковых — пятидесятых туристическая песня, об обстоятельствах появления которой стоит сказать несколько слов отдельно.
Самодеятельный туризм (а другого в советской стране до некоторых пор, можно сказать, и не было) стал отечественной формой эскапизма, охватившего мир после Второй мировой войны. «Туризм в эти годы был не только и не столько спортом и развлечением, сколько мировоззрением», — свидетельствует современник[162]. Всеобщий послевоенный кризис мировой культуры на Западе привел к появлению хиппи, сквоттеров, битников, что в конце концов вылилось в молодежные бунты конца 1960-х. У нас ту же нишу заняли куда более безобидные туристы, альпинисты и байдарочники. Не было, наверное, ни одного студента 1950–1960-х, который хоть раз не поучаствовал бы в туристическом или альпинистском походе.
Упомянутый кризис мировой культуры заключается в словах «после Освенцима» — это название одной из глав «Негативной диалектики» немецкого философа Теодора Адорно[163]. В этой книге Адорно, в частности, констатирует утерю культурой неких устойчивых (абсолютных) оснований: «То, что могло произойти там, где живы все традиции философии, искусства и просветительского знания, говорит о чем-то значительном, а не просто о том, что дух, культура не смогли познать человека и изменить его. <…> После Освенцима любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой — всего лишь мусор. <…> В своих попытках возродиться после всего того, что произошло в ее вотчинах и не встретило сопротивления, культура окончательно превращается в идеологию… Тот, кто ратует за сохранение культуры, пусть даже виновной во всех грехах, пусть даже убогой, тот превращается в ее сообщника и клеврета; тот, кто отказывается от культуры, непосредственно приближает наступление эпохи варварства; и именно в этом качестве культура и разоблачила самое себя…» Известный отечественный философ Владимир Порус, рассказывая об эволюции философии науки в ХХ веке, поясняет[164]: «…перевернулись и несущие конструкции культуры. Перевернулись и не обрели новую устойчивость. Более того, в XX веке укрепилась идея о социально-исторической относительности этих конструкций, которая затем выродилась в отношение к культуре как к декорациям, меняющимся вместе со вкусами публики или с причудами некоего режиссера. В конце века уже стали как о чем-то неизбежном говорить о “конце культуры”, о “посткультурной действительности”…»
Этот кризис устоев европейской цивилизации начался еще после Первой мировой войны, когда заговорили о «потерянном поколении». Идеи эскапизма, ухода от тяжелого царства несвободы в личное пространство, столь ярко проявившиеся еще в романе Хемингуэя «Прощай, оружие», после Второй мировой получили ряд мощных дополнительных импульсов, сошедшихся в знаменитом романе Дж. Сэлинджера[165] «Над пропастью во ржи». Если герой хемингуэевской «Фиесты», написанной в промежутке между войнами, ищет «настоящих людей» (и, как ему кажется, находит) в совершенно оторванной от реальной жизни области — среди матадоров, ежедневно рискующих жизнью на потеху публике, то герой Сэлинджера идет гораздо дальше — он старается вообще порвать с обществом, которое не может ему предложить никакой достойной цели. Интересно, что сам автор романа пошел по стопам своего героя — гонорары за многочисленные переиздания позволили ему сорок лет прожить затворником в уединенной местности (городок Корниш в штате Нью-Гемпшир), в деревянном коттедже, куда доступ любопытствующим и журналистам был закрыт.
В СССР, разумеется, все эти общемировые процессы протекали иначе: очень яркая и привлекательная, хотя и навязанная «сверху», коммунистическая идеология не позволяла отвлечься на раздумья о каком-то там кризисе культурных устоев. Категоричный Т. Адорно, правда, утверждал, что культура в тоталитарных обществах уничтожена вовсе: «…если в восточных государствах вопреки болтовне от противного культура была уничтожена и в качестве средства господства превращена в халтуру <…> Административное варварство функционеров оказывается «по ту сторону» культуры именно потому, что мыслит себя культурой и представляет собственную не-сущность как бесценное культурное наследие; при этом функционеры от культуры забывают о том, что реальность этой культуры, ее базис вряд ли является чем-то более варварским, чем сама надстройка, которая разрушает реальность тем, что управляет ею, режиссирует ее». С этим можно спорить, но коммунистическая идеология в своих крайних формах действительно декларировала отказ от «буржуазной культуры» (под которой понималось абсолютно все, что не укладывалось в текущие установления партии). Борис Пастернак в «Докторе Живаго» называл то же самое «царством мертвой буквы» — замену культурных и моральных ориентиров постановлениями очередного пленума.
Поэтому, хотя значительная часть предвоенного и послевоенного поколения в СССР искренне приняла коммунистическую идеологию (правда, в переработанном и идеализированном виде), но эта вилка, нестыковка между традиционными культурными ценностями и новой идеологией, была одним из главных источников двоемыслия, ощущения потери ценностных координат, постоянного раздражающего разлада в мозгах. В результате и у нас, и на Западе проявились однотипные тенденции: западная молодежь пыталась обрести утерянные культурные опоры, а советская — как-то привести замечательные коммунистические идеалы в соответствие с удручающей действительностью. Формы и то и другое приняло похожие, разве что протест советской молодежи по понятным причинам не принимал форму открытого бунта. Но зато ненасильственному и недемонстративному эскапизму в Советском Союзе отдали дань едва ли не больше, чем на Западе, — популярность пешего туризма только одно из самых ярких проявлений этой тенденции, была ведь еще мода на «уехать куда-нибудь подальше», отмеченная, например, в упоминавшемся кинофильме «Мой младший брат» и во многих других произведениях той эпохи. А после реакции конца 1960-х, знаменовавшей наступление эпохи, которая впоследствии получила наименование «застоя», особенно распространилась мода на «внутреннюю эмиграцию», из-за чего Борис Гребенщиков и получил основание произнести свое знаменитое определение «поколение дворников и сторожей».
Профессии геолога, полярника, археолога — то есть тех, чья профессиональная деятельность была связана с путешествиями в дикие и отдаленные места, — имели особую привлекательность в глазах романтически настроенного современника. Выражением этих настроений стал, например, фильм Киры Муратовой «Короткие встречи» (1967) с Владимиром Высоцким в главной роли. Этот пласт общественной жизни и получил свое выражение в культуре в виде туристической песни, точно так же как хиппи и битники на Западе нашли свое выражение в рок-музыке. А в широком смысле вся авторская песня стала для «поколения дворников и сторожей» тем же, чем рок для «детей цветов» на Западе.
Поэтому пусть не обижаются приверженцы отечественного рока, но он все-таки явление вторичное, практически целиком заимствованное с Запада, а авторская песня — оригинальное отечественное изобретение. Аналоги авторской песни на Западе, как мы знаем, также существовали (шансонье во Франции, фолк-сингеры в Америке), но российские реалии с ними ничто не связывало. Уже в семидесятые годы у нас начали появляться авторы и исполнители на границе авторской песни и рока: таковы некоторые выступления Виктора Луферова, известный в те годы ансамбль «Последний шанс» и др. В настоящее время споры на тему противопоставления авторской песни и рока уже бессмысленны — во многих своих проявлениях они неотличимы, а если и разнятся, то только по некоторым формальным признакам, и то не всегда: электрогитары или акустические, наличие или отсутствие ударника и т. д.
Специально для ревнителей чистоты жанра заметим, что от рок-музыки, да иногда и от авторской песни тоже нужно отделять «попсу» — поп-музыка напоминает рок внешне, но по сути это та же бессодержательная и штампованная советская эстрада, которой так возмущались создатели авторской песни. Англоязычная поп-музыка от отечественной «попсы» несколько отличается в лучшую сторону — потому что там музыкальное и сценическое оформление в лучших образцах представляет оригинальное и совершенно не штампованное явление, а слова русскому уху все равно непонятны: типичный и хорошо у нас известный пример на грани рок- и поп-музыки — суперпопулярный квартет ABBA. Но это все-таки предмет отдельного разговора: договоримся пока, что подобные примеры представляют собой чисто музыкальное явление, а к авторской песне ближе такие рок-исполнители, как Боб Дилан, в 2016 году, как известно, получивший Нобелевскую премию по литературе, что уже автоматически ограждает его от обвинений в штампованности.
В 1966 году на «круглом столе» в еженедельнике «Неделя»[166] Анчаров так говорил о том, что штампы в авторской песне еще хуже, чем в профессиональной: «Упреки же, как мне кажется, вызваны тем, что сейчас образовался новый штамп так называемой туристической, студенческой песни, и так как они самодеятельные, то этот штамп еще хуже, чем на профессиональной эстраде, потому что штамп на эстраде не останавливает внимания, а тут останавливает. Пошла полоса салонной “тонкости” и инфантилизма. Штамп — это когда человек приписывает себе чувства, которых не испытывает, а берет напрокат. Отсюда либо жеманство, либо преувеличения, либо риторика. И эту смесь сантимента, риторики и жеманства называют юношеской романтикой… Спекулировать можно на чем угодно, на романтике — тем более».
Заметим, что появление в 90-е годы дешевых карманных плееров (метко прозванных в народе «дебильниками») и общедоступной домашней акустики достаточно высокого качества убило оригинальную авторскую песню гораздо вернее советской цензуры, так и не сумевшей с ней справиться, — в компаниях уже не поют, а только слушают, а современная авторская песня прочно встала в один ряд с прочими жанрами шоу-бизнеса. Совершенно аналогичная история произошла и с эскапистской «контркультурой» на Западе — она сама превратилась в товар. Полмира теперь носит джинсы (иногда и с напоказ разорванными коленками), а руководители компаний самого высокого уровня считают особым шиком выступить на публике в хлопчатобумажной майке с надписью.
Собственно авторская песня как отдельный жанр возникла в среде интеллигенции и связана с именами совсем не «самодеятельных», а вполне настоящих, иногда даже выдающихся поэтов. На упомянутом круглом столе «Недели» Александр Галич заметил, что «сочинение песен такого рода надо рассматривать как явление литературное», а Анчаров говорил: «По-видимому, нам будет трудно отвязаться от термина “самодеятельность”, но это нужно сделать. И дело вовсе не в амбиции. Просто это определенная форма устной поэзии». Булат Окуджава, Новелла Матвеева, Александр Галич — эти люди оставили глубокий след в отечественной поэзии середины ХХ века, а Владимир Высоцкий сам по себе представляет собой отдельный феномен отечественной культуры. Подчеркнем, что каждый из них начинал свой путь, не подражая кому-то конкретному, а независимо от остальных. Все они чувствовали, что стих не становится хуже от бытования в виде песни в авторском исполнении, а только выигрывает от этого. На круглом столе «Недели» Анчаров добавляет к своей мысли о «форме устной поэзии»:
«Иногда говорят: новая. Вообще говоря, новая, потому что забытая. Гомер называл себя певцом. Беранже писал песни в самом современном смысле слова. Для Пушкина “поэт” и “певец” понятия почти равнозначные».
Ориентация на «кухонную» или «походно-костровую» форму бытования, в духе привычного городского фольклора, есть важное отличие первой волны авторов, ставших классиками жанра (Б. Окуджавы, Н. Матвеевой, М. Анчарова, А. Галича, Ю. Визбора и даже профессионального актера В. Высоцкого) от их учеников, которые уже рассчитывали на микрофон и большой зал, иногда — на коллектив исполнителей, учились элементам сценического поведения и актерского искусства, нередко брали уроки гитарного аккомпанемента.
Мощным толчком к распространению подобной «профессиональной» авторской песни стал приезд в Москву в 1956 году французского артиста и шансонье Ива Монтана. Как свидетельствует Дмитрий Быков, хорошо лично знавший Новеллу Матвееву, песни Монтана «вовсю крутили по радио — по признанию Новеллы Матвеевой, именно эти песни в 1954 году не то чтобы подтолкнули ее к сочинительству, но доказали его правомочность»[167]. Песни Монтана и других французских шансонье оказали глубокое влияние и на Окуджаву.
Отличие французского шансона (здесь это слово употребляется в изначальном смысле, а не как синоним «блатной» лирики, по какому-то недоразумению получившей у нас это название в 90-е годы) от близкой к нему по духу отечественной авторской песни в том, что шансон был творчеством профессионалов для песенного рынка и, как и рок, исполнялся на «официальных» концертных площадках. У нас очень долго, практически до распада СССР, авторская песня развивалась совершенно параллельно «официальной» эстраде и вполне заслуживала названия «самодеятельной», хотя в ее создании могли участвовать профессионалы высокого класса. Несмотря на появление в советской «официальной» эстраде отдельных песенных шедевров, уровень звучавших из репродуктора песен во многом оставлял желать лучшего, так что здесь авторская песня выигрывала во всем. Лучшие авторы-исполнители отечественного рока (Макаревич, Шевчук, Гребенщиков и другие), появившегося позднее, также многое унаследовали от авторской песни.
Авторская песня иногда пробивалась и на официальные каналы — о печальной судьбе песни «Глобус», затасканной эстрадными исполнителями, мы уже говорили, но были и другие примеры. Так, еще в 1956 году по радио прозвучали песни Ады Якушевой, в 1962 году Юрий Визбор участвовал в создании музыкальной странички на радиостанции «Юность», а в 1964 году он вошел в число создателей единственного в своем роде звукового журнала «Кругозор». Многие песни были востребованы в театре и кино, где блистали Высоцкий, Окуджава (последний — иногда «под прикрытием» профессиональных композиторов), а также блестящий тандем Юлия Кима (под псевдонимом Михайлов) и Владимира Дашкевича. «Песня о маленьком трубаче» на стихи Сергея Крылова, с которой молодой Сергей Никитин традиционно начинал свои концерты, вошла в рекомендованный репертуар для школьников. Позднее, в семидесятые, произошла вообще удивительная вещь, когда, в основном благодаря исполнительскому мастерству Сергея Никитина, наоборот, в репертуар авторской песни совершенно естественно вошли песни профессионального композитора Таривердиева из кинофильма «Ирония судьбы».
Власти регулярно пытались авторскую песню «отменить», но клубы самодеятельной песни (КСП) продолжали существовать и множиться. В конце шестидесятых дело уже шло к официальному признанию московского КСП под эгидой горкома комсомола[168], но тут вмешалась высокая политика. В рамках общей тенденции к ужесточению режима, свертыванию оттепели и даже частичному пересмотру ее итогов под руку идеологам как нельзя вовремя подвернулся Александр Галич, устроивший концерт своих «антисоветских» песен на фестивале в Новосибирске в 1968 году[169]. После этого самодеятельная песня в глазах партийных идеологов стала прочно ассоциироваться с крамольным Галичем, и ее в первый раз попытались разогнать всерьез. Окончательно это сделать все равно не удалось — и песня, и возникшие вокруг нее сообщества-клубы все равно продолжали существовать и развиваться, и даже среди партийных кураторов у нее находились приверженцы.
Анчаров, как мы уже знаем, был первым автором жанра, осознавшим его особость (см. об этом главу 2). Мы знаем, что он начал писать и исполнять свои песни еще до войны — за много лет до тех, кто теперь по праву считается основателями жанра. Некоторое время (примерно с окончания войны и до середины 1950-х) он новых песен не сочинял, но, видимо, общая поющая атмосфера тех лет его в конце концов снова подтолкнула к этому занятию. То время как раз совпало со всеобщем распространением личных магнитофонов, благодаря чему песни быстро получили признание в среде поющей публики, а лучшие из них и ныне почитаются классикой жанра.
В главе 2 мы уже отмечали, что на рубеже 1960-х в продаже в советских магазинах почти одновременно появляется сразу десяток доступных по цене бытовых моделей магнитофонов разных заводов, и это хорошо коррелирует с пиком популярности авторской песни, который приходится на конец пятидесятых — шестидесятые годы. Тогда почти не было портативных моделей, которые можно было бы всюду таскать с собой, — вся радиоппаратура, включая и магнитофоны, была построена на громоздких и потребляющих много энергии радиолампах. Поэтому проигрывание записанной музыки еще не заменило живого исполнения — магнитофон использовался лишь в качестве удобного средства распространения песен, которые затем перехватывались самодеятельными исполнителями и исполнялись вживую. Интересно, что и в семидесятые годы, когда появились мобильные кассетные магнитофоны, никакого официального рынка записей для них не возникло, — они по-прежнему использовались для проигрывания и распространения неофициальной звуковой продукции: не только бардовской песни, но полуподпольных тогда рок-групп, западной музыки (которая нередко писалась с передач «вражеских голосов»). Распространены были также записи неофициальных выступлений писателей-сатириков, артистов или самодеятельных исполнителей с чтением не издававшихся легально стихотворных произведений и рассказов.
С современной точки зрения удивительно и необъяснимо, что советские органы, старавшиеся держать под контролем каждое копировальное устройство, способное к размножению текстов, при этом почти совершенно не контролировали магнитофонный самиздат. В советских организациях копировальные машины устанавливались в опечатанной комнате под строгую ответственность их работников, даже пишущие машинки на праздники убирались в сейф, а принтеры и ксероксы в частном пользовании появились только на излете перестройки, в самом конце 1980-х. В то же время магнитофоны с момента появления продавались совершенно свободно и даже, кажется, не были особо дефицитным товаром. Современные исследования явления самиздата упоминают производство магнитофонных копий в одной строке со всеми остальными способами и никак его не выделяют, хотя это явление ввиду простоты и дешевизны было намного более популярным, чем распространение письменных копий, и даже не особенно воспринималось как что-то незаконное. Кажется, не известно ни одного серьезного случая преследования именно за распространение нелегальных записей, хотя в этом можно было обвинить любого владельца магнитофона тех лет.
Исключением в области звукозаписи были только немногочисленные теневые дельцы, которые пытались наладить на дефиците популярных записей бизнес. Более всего из них известна деятельность Рудольфа Фукса (Соловьева), сделавшего довольно много подпольных записей, — в частности, открывшего для советской аудитории по сей день популярного Аркадия Северного с его псевдоеврейским «шансоном» (сочиненным частично самим Фуксом), есть сведения, что он пытался записывать и Евгения Клячкина. Нельзя не упомянуть и уникальную подпольную студию грамзаписи технического самородка Руслана Богословского, которая начала свою деятельность еще при жизни Сталина (и была ведь не единственной и даже не самой первой)[170]. Но и эти деятели, как и другие производители записей «на костях» (то есть на использованных рентгеновских пленках), привлекались к ответственности не по политическим обвинениям, а по линии ОБХСС, то есть за экономические преступления.
В эту обстановку всеобщего заинтересованного внимания к каждому новому явлению в «самодеятельной» песне непринужденно вписался и Анчаров. В течение следующего примерно десятилетия он создает около трех десятков песен, среди которых — наиболее известные его произведения в этом жанре. Датировать их довольно сложно не только потому, что Анчаров в этот период не вел никакой специальной тетради с датировкой, но и потому, что создание песни могло растягиваться на годы. Анчаров так говорил о процессе создания песни (Интервью, 1984):
«— Музыка и стихи у вас пишутся в разное время?
— В разное. Сначала делаются стихи. Они долго у меня вылеживаются. Мычу, бормочу что-то, хожу, — всё мелодия стихи не выражает, как чужие обноски. Знаете, как фрак с чужого плеча, сшитый не по мерке. А мне всегда важно было, чтобы мелодия, какая она ни есть, продолжала, развивала то, что, мне казалось, заложено в стихах.
— Чтобы она была продолжением стиха?
— Да. Продолжением интонации. Ищешь интонацию. Поэтому время написания стихов и время написания мелодии не совпадают. Да еще как не совпадают, годами просто. Стихи валяются годами, а потом догадываешься, как это можно сделать в музыке».
Проставленные нами даты создания песен основаны главным образом на записи уже упоминавшейся беседы М. Л. Анчарова с исследователями и архивистами авторской песни М. Барановым и А. Крыловым, состоявшейся 22 июня 1978 года. Ряд датировок был уточнен во время встреч с автором в 1986–1989 годах; они учтены в сборнике «Звук шагов». Позже отдельные даты были откорректированы на основе сохранившихся рукописных источников и вновь обнаруженных фонограмм.
Здесь мы не ставим перед собой задачу скрупулезно перечислить и охарактеризовать все песни Анчарова — заинтересовавшийся читатель может узнать о них и прослушать в оригинальном авторском исполнении на неоднократно уже упоминавшемся мемориальном сайте по адресу ancharov.lib.ru. Остановимся только на самых известных, без которых трудно представить себе не только творчество Анчарова, но и вообще обстановку оттепельного десятилетия.
Одной из первых появилась «Песня о психе из больницы Ганнушкина, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку», датируемая 1955–1957 годами. Эта песня — одна из самых любимых самим Анчаровым. Вот что он рассказывал о ее создании (Интервью, 1984):
«У меня была одна песня — “На Канатчиковой даче”. Она делалась так. Сначала я написал: “Солнце село за рекой, за приемный за покой” и так далее. Написал, дал прочесть одному знакомому. Он прочел:
— Слушай, какое тяжелое впечатление производит.
— А производит?
— Производит.
— Ну, так я этого и добивался.
— Знаешь, ощущение такое, что сидит он и забинтованную лапу качает.
Он ушел. А последнее уточнение мне подсказало, что я не того добился, чего хотел. Да — тяжелое, да — ранение, но что-то здесь было не то. И тогда я только догадался, что речь идет не о физическом ранении, а о душевной контузии. Я сам не знал до конца, кто у меня персонаж. И только когда он сказал, что лапу раненую качает… Нет, тут другая боль, и сбивчивость, все другое. Не физическая боль — душевная, духовная контузия. И вот я стал крутиться и искать какую-то строфу, которая бы это объяснила. Месяца два я искал эту первую строфу:
Балалаечку свою
Я со шкапа достаю,
На Канатчиковой даче
Тихо песенку пою.
А потом название, — прозаическая строфа, которая уже окончательно точку поставила. Не просто “Псих”, знаете, а “Песня о психе из больницы Ганнушкина, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку”. Он на этом зациклился, и это все — другое ощущение. Одно — дело ранение, другое дело — духовное ранение. Одно дело — духовное ранение, другое дело — духовное ранение, связанное все-таки с войной. Именно — пограничник. Эти ребята первые принимали бой».
Эту же историю немного иначе Анчаров излагает в «Записках странствующего энтузиаста».
Почти одновременно появляется и другая известная его песня «Кап-кап», которая до сих пор является одной из самых исполняемых песен Анчарова. Из Интервью, 1978: «“Кап-кап” и “Песня о психе» были написаны прямо подряд, с разницей в несколько дней. С них меня “прорвало”…» «Кап-кап» включена в роман «Теория невероятности» и в одноименную пьесу, поставленную в Московском театре им. Ермоловой в 1966 году. В телеспектакле «День за днем» (1971) звучал ее вариант на музыку И. Катаева[171], он же был размещен на пластинке фирмы «Мелодия» в исполнении В. Трошина.
Анчаров подробно рассказывал об истории создания этой песни на одном из своих последних публичных выступлений — в ДК «Металлург» 21 мая 1981 года:
«Я помню, был разговор с одной девчонкой. Я ее спросил: “А вот какую бы ты хотела песню заказать? — Не потому, что я хотел по заказу написать, это речь отдельная, это особый разговор, — а просто хотелось сориентироваться, будет ли постороннему человеку понятно то, что во мне, если сказать, как говорится, просто. — Вот какие тебе стихи нравятся? — А тогда были стихи самые разные, в том смысле, что были и переусложненные по форме, и просто примитивные. — Какие, говорю, на тебя действуют стихи? Бурные, переусложненные по форме или какие-то другие?” Потому что в ходу тогда было именно это, стихи считались элитарными, для, так сказать, своих, такой междусобойничек, как говорится, ну, а остальные — уж как приладятся. И вот она мне сказала — мне понравилось это — она сказала: “Мне бы хотелось слышать стихи — как жемчужинка”. То есть не примитивные и не усложненные по форме, а как-то так, как жемчужинка такая. Я говорю: “Что ты имеешь в виду?” — “Ну, не знаю… я только в переводах знаю, — ну, как японские танка”. Знаете, такие стишки в несколько строчек всего-то там… Страшно простые образы какие-то, просто обозначения. Там никаких очевидных метафор нет, там метафора скрытая. Проплывают рыбы и черепахи — и берет. То есть простота такой степени, понимаете ли, ну, какая-то сверхъестественная простота! <…>
Ну, я стал думать, готов я попробовать так вот или не готов? Показалось, что готов. Я вот эту самую песенку “Кап-кап”, совершенно непритязательную, внешне во всяком случае, — я не знаю, как она вами воспринимается, потому что прошло пятьсот тысяч лет, — эту песенку я писал месяца полтора. А там всего пять слов каких-то, они так наворачиваются, так и эдак… Но я хотел, чтоб она была литая. Ну, вот то, что я мог в то время, я это и сделал. Но все равно — живучая. Живучая. Значит, видимо, доходит что-то еще, и не просто так, что-то еще есть, чем простой набор обыкновенных слов».
К тому же времени (1955–1957 годы) относится и «Песня про низкорослого человека, который остановил ночью девушку возле метро “Электрозаводская”». Это тоже одна из самых известных песен Анчарова, она исполнялась в одном из знаковых спектаклей Московского театра драмы и комедии на Таганке «Павшие и живые» (поставлен в 1965 году). В этой песне Анчаров был одним из немногих, кто вслух поднял наконец «не существующую» официально проблему инвалидов войны — тех самых, кого, как мы уже знаем, в 1947 году лишили заслуженных «наградных», и вынужденных существовать на крохотную пенсию.
Всеволод Ревич писал об этой песне (В. Ревич, 2001):
«Героями песен в те пахмутовские времена были исключительно “комсомольцы — беспокойные сердца”, которые “расправив могучие плечи”, шествуют “солнцу и утру навстречу” и “все доводят до конца”. Невозможно представить, чтобы на официальной эстраде прозвучала бы обжигающая душу песня о безногом инвалиде войны — “Девушка, эй, постой!”. Современные молодые люди никогда и не видели этих горемык, которые привязывали себя ремнями к маленькой сбитой из досок площадке на четырех шарикоподшипниках и передвигались, отталкиваясь руками с помощью деревянных колодок, похожих на штукатурные затирки.
Осенью — стой в грязи, Зимою — по льду скользи…»
И эта инициатива Анчарова, которая не имела никакого отношения к его «завиральным» идеям о творчестве, а только лишь обращала внимание на существование где-то рядом вот такого уродливого явления, — не только не была подхвачена, но даже вообще, кажется, осталась никем не замеченной. Кроме, разве что, главного режиссера Таганки Юрия Любимова, посчитавшего ее одним из символов прошедшей войны.
А. В. Кулагин, сравнивая эту песню с «Песней о психе», пишет[172]:
«Характерные для творчества Анчарова “длинные” названия, традиция которых будет усвоена авторской песней, имеют здесь, как нам представляется, общую смысловую нагрузку. Оба названия внешне обманчивы. Пока мы не услышали песен, нам может показаться, что они будут шутливыми, что нам предстоит посмеяться над вцепившимся в свою фуражку и сопротивляющимся санитарам психом (чего стоит одно это слово) и над низкорослым любителем поприставать к девушкам на улице (здесь заведомо комичен уже контраст роста, не говоря о самой ситуации). И вот, настроившись на комический лад, мы слышим вдруг трагические монологи людей, чья жизнь искалечена войной — душевно или физически. А лучше сказать — и душевно, и физически».
В 1959 году Анчаров сочиняет «Цыгана-Машу», о котором мы также уже подробно писали (в рассказе о Благуше, см. главу 1). Всеволод Ревич объединял «Цыгана-Машу» с «Песней про низкорослого человека» и с некоторыми другими песнями Анчарова — по признаку неожиданного отличия затронутых в них тем от песенного мейнстрима того времени (в том числе большей части студенческо-туристического фольклора, добавим мы):
«Об этом петь? Об этом песня? Как и проникнутые глубоким сочувствием песни об изломанных судьбах “босявки косопузого” — цыгана Маши, погибшего на волжской высоте, затурканного психа, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку, послевоенных девчонок, вынужденных “капрон свой стирать в лохани”?..»
И в целом об этой стороне творчества Анчарова:
«…у него впервые возникла совершенно нетипичная для советской песни и, пожалуй, для всей советской литературы тема маленького человека, которая через некоторое время с такой силой прозвучит в “Матренином дворе” Солженицына, в кассиршах и тонечках Галича. В сталинское и послесталинское время одна из главных гуманистических традиций русской литературы оказалась отброшенной. Официально советскому человеку не полагалось быть маленьким. Образы нуждающихся, несчастных, сверхтерпеливых, униженных исчезли из литературы, одновременно из жизни исчезли милосердие, доброта, жалость, милость к падшим…»
А. В. Кулагин дополняет эту мысль:
«…важно еще и то, что Анчаров, кажется, первым в искусстве своего времени напрямую соединяет эту, традиционную для русской литературы, тему с темой войны».
Ну да, советская литература и поэзия тех лет, высокомерно полагающие себя наследницами великих русских писателей предыдущего века, как будто забыли о важнейшей теме эпохи «критического реализма», которую изучают даже в школе, — о проблемах «маленького человека». В советском государстве, разумеется, никаких «маленьких» людей быть не могло, соответственно, не существовало и связанных с ними проблем. И только одинокий голос Анчарова назойливо напоминал, что это не так, и историю творят именно такие «маленькие» люди, и проблемы у них совсем не маленькие, а вполне даже большие и серьезные.
Справедливости ради следует упомянуть, что в этом направлении у Анчарова все-таки были единомышленники и предшественники, хотя они и полностью игнорировались официальным искусством. В первую очередь стоит вспомнить «Песню слепцов» («Копейка») Михаила Светлова, написанную в 1936 году:
Ты живого меня пожалей-ка,
Ты слепого обрадуй во мгле.
Далеко покатилась копейка
По кровавой, по круглой земле!
Песню ввел в общественный оборот Сергей Никитин, написав к ней музыку в 1967 году, причем он был не единственным — сохранились записи, где «Песню слепцов» исполняет Анатолий Аграновский на другую мелодию.
К 1958 году относится «Песня про деда-игрушечника с Благуши», об истоках сюжета которой мы уже рассказывали (см. упоминание одного из первых литературных опытов Анчарова — рассказа «Помощник красоты» в главе 3). Здесь мистическая история с учеником богомазов, повстречавшим Красоту и поклявшимся ей служить, приобретает канонический вид — в таком виде эта история войдет в сценарий «Луна на Благуше», потом в роман «Теория невероятности» и в одноименный спектакль. Анчаров говорил, что «“Теория невероятности” началась с этого стихотворения, но сам стих я в роман даже не вставил…»
Песня «Об истине», написанная в 1959 году, представляет собой одно из программных произведений автора. В ней Анчаров в образной форме нехитрыми словами передает свое отношение к окружающему миру:
…Ты, дым папирос,
Надо мной не кружи.
Ты старою песенкой
Не ворожи.
Поэт — это физик,
Который один
Знает, что сердце —
У всех господин.
Не верю, что истина —
В дальних краях,
Не верю, что истина —
Дальний маяк.
Дальний маяк —
Это ближний маяк,
Но мы его ищем
В дальних краях…
Песню «Об истине» Анчаров никогда не помещал в своих прозаических произведениях, рассматривая ее именно как песню, где слова нельзя рассматривать в отрыве от музыкального сопровождения и авторского исполнения. Зато в виде песни это, без сомнения, одна из вершин творчества Анчарова.
Песня вошла в спектакль «Теория невероятности» Театра им. Ермоловой, причем Анчаров отмечал (Интервью, 1978):
«Андрей Эшпай писал музыку к пьесе “Теория невероятности”. Но, интересное дело, он не тронул мелодии моих песен. Он написал музыку только к спектаклю в целом, а песни пошли с моими мелодиями. Он их только аранжировал».
Многие, знавшие Анчарова в те годы, в своих воспоминаниях отмечают глубокое впечатление, которое на них производила «Песня про циркача, который едет по кругу на белой лошади, и вообще он недавно женился» (1959). Галина Аграновская (Аграновская, 2003): «Много потом мы слушали Мишу. Мне больше всех нравилась его песня “Мажет девочка губы в первом ряду”». Песня потом вошла в телеспекталь «День за днем» (в варианте на музыку И. Катаева), этот же вариант был размещен на пластинке фирмы «Мелодия» в исполнении В. Никулина.
В 1981 году в интервью «Резонанс слова» журналу «Студенческий меридиан» (которое мы уже цитировали, рассказывая о стихотворной трагедии «Леонардо») Анчаров в ответ на реплику интервьюера расскажет о создании этой песни:
«— Михаил Леонидович, для меня, как и для многих наших читателей, знакомство с вами началось с песни. Вот с этой:
Губы девочка мажет
В первом ряду.
Ходят кони в плюмажах
И песню ведут..
— У этой песни полное название “Песня про циркача, который едет по кругу на белой лошади”. Это однажды в цирке я увидел циркача на такой лошади. Конная тренировка без всяких видимых поводьев, шенкелей, хлыста, так сказать, полное слияние седока и лошади. И сидел такой очень прямой человек, как-то не по-цирковому обращающий на себя внимание. И казалось, что за ним еще что-то стоит. А потом я прочел, сейчас уже не помню, про него это было или не про него, но, кажется, все-таки про него, что это тяжелораненый человек, буквально восстановивший себя в общении с конем. Это был толчок. А после вспоминается всякое. Ведь как раз к тому времени конницу отменили как войско, люди прощались с лошадьми, целовали лошадиные морды, плакали. Пять тысяч лет существовало конное войско, и вот оно ушло. Кони остались как миф, как легенда, как красота. Как песня… Так вот, человек в цирке, он мне показался каким-то… Я не люблю слово “символ”. Пожалуй, образ. Оказывается, можно рассказывать о том самом неистовом сопротивлении бесчеловечности смерти, которой является война, можно даже в цирке, где обыкновенное, простое веселье. А он воздействовал красотой, каким-то мужеством».
«Песня про циркача», на наш взгляд, совершенно незаслуженно не привлекает внимания современных исполнителей — может быть потому, что в ней особенно сказывалась «энергетика» анчаровского исполнения, которую так трудно воспроизвести (об этой особенности авторского исполнения мы еще будем говорить). И тем не менее если «Об истине» с большим трудом можно оторвать от песенного бытования, то здесь стихи имеют вполне самостоятельную ценность, с кинематографической отчетливостью воспроизводя картины, которые хочет показать нам автор:
Черной буркой вороны
Укроют закат,
Прокричат похоронно
На всех языках.
Среди белого дня
В придорожной пыли
Медсестричку Марусю
Убитой нашли…
Отмененная конница
Пляшет вдали,
Опаленные кони
В песню ушли.
От слепящего света
Стало в мире темно.
Дети видели это
Только в кино.
На веселый манеж
Среди белого дня
Приведите ко мне
Золотого коня.
Я поеду по кругу
В веселом чаду,
Я увижу подругу
В первом ряду.
В начале семидесятых Анчаров вставит эту песню в спектакль «Голубая жилка Афродиты» (который был поставлен в Театре им. Пушкина, но «зарублен» Госкомиссией на приемке, см. главу 7). В опубликованных главах из неоконченного романа «Третье Евангелие — Евангелие Святого духа»[173] Анчаров вспоминал, как из его пьесы пришлось исключить песню из-за не очень понятной даже в те времена придирки одного театрального деятеля:
«И вот однажды он разразился пьесой, в которой были стихи. Стихи эти были песней, достаточно хорошо известной, да он и сам ее пел, и даже возрастные должностные лица ничего “такого” в ней не находили.
И вот вызвали Гошку в какое-то театральное ведомство. И там сидел человек, начальник, с глазами в щеточку. Пусть ни один начальник не настораживается, я его все равно не назову, потому что Гошка живет с ним в одном доме, кооперативном. А это знаете… чревато.
Он Гошке говорит:
— В ваших стихах есть строчки: “Отмененная конница пляшет вдали”. Вот это меня беспокоит…
Гошка спрашивает:
— А чем?
— Потому что непонятно — что это означает.
— Как непонятно, — говорит Гошка. — Песня военная. А в эту войну конницу отменили как род войск. Что вы! Такие страдания были! Люди с конями прощались… Морды им целовали… Знамена…
— Могут понять не так, — сказал начальник.
— Могут, — согласился Гошка. — Но чтоб правильно понять — написаны следующие две строчки. И после слов: “Отмененная конница пляшет вдали” идут слова “Опаленные кони в песню ушли…” Понимаете, вроде как на повышение…
— Так-то так, — сказал начальник и совсем сощурился. — Но ведь сначала-то прочтут первые две строчки.
И до Гошки-дурака дошло, что когда первые две строчки прочтут, то их поймут неправильно. И потом, когда они прочтут следующие две строчки, то они уже не перевоспитаются.
— А давайте мы выкинем всю строфу, — предложил начальник. Гошка сказал:
— Нет уж… Лучше выкинем всю песню.
— Ну что ж, — согласился начальник, — можно и так.
— А еще лучше, — говорит Гошка, — вычеркнем всю пьесу.
— И это можно, — сказал начальник.
На том и расстались. Теперь они живут в одном кооперативе.
Это было время, когда ученые шутили: “Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан”, — и предлагали название журнала “Знание — сила” заменить названием “Звание — сила”».
Нина Георгиевна Попова (подробнее о ней см. в главе 8) тоже вспоминала этот эпизод, называла пьесу и даже вспомнила фамилию чиновника (не то Сопегов, не то Сапегов), но больше ничего про него выяснить не удалось — он явно был каким-то третьестепенным бюрократом из структур, курирующих театры.
В эти же годы (1959–1962) написана одна из самых известных его песен: «Песня об органисте, который в концерте Аллы Соленковой[174] заполнял паузы, пока певица отдыхала» (иногда Анчаров заменял имя и фамилию словами «известной певицы»). Песня повествует об органисте, подчеркнуто не выдающемся («Рост у меня не больше валенка… И органист я тоже маленький»), поймавшем вдохновение и поразившем публику, которая ничего такого не ждала: «Все пришли слушать певицу, и никто не хотел — меня». Песня поражает энергетикой, когда слушаешь ее исполнение, сразу вспоминается фрагмент из интервью «Великая демократизация искусства» (Интервью, 1984): «Потому что я пел, а за ворот рубашки тек холодный пот. Я пел, закрыв глаза. Выкладывался полностью». В мелодии и ритмике песни отчетливо видны органные мотивы, которые впоследствии замечательно сумел уловить и усилить один из самых известных исполнителей авторской песни Александр Мирзаян[175].
«Песня об органисте», как и многие другие песни Анчарова, оказала большое влияние на авторскую песню в целом. А. В. Кулагин так пишет о ее влиянии на творчество Высоцкого[176]:
«Влияние на Высоцкого анчаровской “Песни об органисте, который в концерте Аллы Соленковой заполнял паузы, пока певица отдыхала” (1958– 1962) уже отмечено И. А. Соколовой, связывающей с нею появление песни “Певец у микрофона” (1971). Нам думается, что она отозвалась у Высоцкого и в следующем, 1972 году, в песне “Натянутый канат”. <…> …по ходу лирического сюжета герои, оба — художники (органист и канатоходец), благодаря своему искусству словно вырастают и в собственных глазах, и в глазах зрителей. “О, как боялся / Я не свалиться, / Огромный свой рост / Кляня…” — признаётся герой Анчарова, жаждущий “слиться” с людьми в зале. Канатоходцу же Высоцкого зрители, сидящие “раскрыв в ожидании рты”, кажутся с высоты “лилипутами”».
Правда, отмечает Кулагин: «...в этой песне слияния с публикой нет: хотевший “быть только первым” герой так и остается над ней и в финале гибнет, сорвавшись с каната».
«Баллада об относительности возраста» (1961) написана как некий итог: размышления человека, приближающегося к среднему возрасту («Я вспомнил вдруг, / Что мне уж тридцать восемь») о том, что пора бы вообще-то остепениться («Пора искать / Земное ремесло»). Но лирической герой песни, обращаясь к собаке по имени Кузьма Иваныч, отрицает такое существование и формулирует свою возвышенную цель:
…А знаешь ли ты,
Пестрая собака,
Как на Луну
Выходят сторожа?
Как по ночам
Ревут аккордеоны,
Как джаз играет
В заревах ракет,
Как по очам
Девчонок удивленных
Бредет мечта
О звездном языке?
Чтобы Земля,
Как сад благословенный,
Произвела Людей, а не скотов;
Чтоб шар земной
Помчался по вселенной,
Пугая звезды
Запахом цветов.
Я стану петь:
Ведь я же пел веками…
Собака по имени Кузьма Иваныч, маленькая пестрая дворняжка, принадлежала брату Илье. Ее вспоминают многие, бывавшие у Анчарова с Джоей в Лаврушинском в это время: «Очень симпатичный многоцветный песик такой, такая дворняжка очень симпатичная, очень приятненькая» (Татьяна Злобина). Когда Анчаров решил включить песню в повесть «Золотой дождь», «наверху» не поняли, что речь идет про собаку, и решили, что это намек, по словам Владимира Сидорина, «на какого-то Кузьму Ивановича, которого автор обозвал “собакой”». В текст повести вошли строчки «Романтика подохла, / Но нет, она танцует у окна…» Владимир Сидорин вспоминает: «Мы хохотали, прочитав это. А он говорит: “Ну и черт с ними! Главное, что песня все-таки опубликована…”».
Балладу про водителя большегрузных машин (сегодня мы персонажа этой песни назвали бы «дальнобойщиком») с коротким названием «МАЗ», написанную в 1960–1963 годах, вспоминают практически все знакомые Анчарова в те годы. Анчаров обычно объявлял ее: «МАЗ. Это такие грузовики большие», этим самым превращая название в ту самую «прозаическую строфу», дополняющую стихотворный текст. Сам Анчаров на упоминавшемся вечере в ДК «Металлург» так рассказывал о создании этой песни:
«У меня есть <…> такая песня — “МАЗ”. Это такие большие грузовики. Написал одну строфу, и она у меня застряла, и несколько лет я не мог к ней вернуться. И не мог понять почему. У меня там [были] такие строчки: “Видишь, что-то такое, не помню, какие-то слова, — на паперти неба МАЗ трехосный застрял в грязи” <…> И я застрял. В той же самой грязи. Сдвинуться не могу! Что такое?! И года через полтора или два я вдруг понял: всего одно словечко — на паперти — из другой оперы! Я чувствовал, что я напишу оду этому МАЗу, понимаете, этому водителю МАЗа, потому что где-то во мне зрели строчки, о которых я даже не подозревал. “Знаешь, крошка, зачем я гордый? — Позади большой перегон”. Я еще даже не знал об их существовании! Но я знал, что родится именно такое отношение к этому всему. Ну и возвысил — словесно, литературно, книжно, — “Знаешь… — видишь — чего-то там — на паперти неба…” Эта паперть… это пошел уже нафталин. В данном контексте. В другом контексте это, может, и хорошо. И только когда я догадался написать: “…У самого неба МАЗ трехосный застрял в грязи”, тогда это дело пошло. Оно пошло трудно, по-другому, но я наконец как бы начал осиливать на словах эту тему, которая сначала была без слов… В общем, она зарождалась неизвестно как».
Литературоведы отмечают, что сама по себе песня является одним из примеров жанра баллады в авторской песне. Она повлияла на многих современников и была, безусловно, одной из самых популярных авторских песен в те годы (в главе 4 мы отмечали, какое впечатление, согласно воспоминаниям Галины Аграновской, она произвела на художника Николая Андронова — при том что он услышал песню не в авторском исполнении). Ленинградская актриса Тамара Кушелевская[177] вспоминала:
«А в тот вечер он пел всё. Но больше всего меня в тот вечер “добило” то, что я и до сих пор пою при случае, если мне нужно где-нибудь блеснуть, — песня Анчарова “МАЗ”. Потрясающая песня “МАЗ”. Причем я переняла его манеру. И однажды был такой случай. Я потом подружилась с его родным братом Илюшей Анчаровым, который тоже прекрасно пел. Они еще жили в Лаврушинском переулке одной большой семьей. Миша жил со своей семьей и Илюша со своей. Я пришла в гости к Илюше. Я выучила эту песню “Нет причин для тоски на свете…” — “МАЗ”, и, когда я пела, абсолютно переняв его манеру, он приоткрыл дверь (он там пришел) и слушал, не заходя. Он боялся спугнуть. Потом, когда я спела, он открыл дверь и сказал: “Как же ты собезьянничала точно. Я просто услышал все свои интонации…”»
О влиянии этой песни на Высоцкого в статье «Высоцкий слушает Анчарова» писал А. В. Кулагин:
«Песня Анчарова “МАЗ” (1960–1963) была Высоцкому очень хорошо памятна, о чем свидетельствует строка из его наброска “Машины идут, вот еще пронеслась…”: “…Быть может, из песни Анчарова — МАЗ, / Груженный каспийской селедкой”. Сам Анчаров говорил даже, что слышал концертную запись Высоцкого, где тот пел “МАЗ”; правда, такая пленка пока не обнаружена. Вл. И. Новиков отмечает сходство героя “МАЗа” и героя “Дорожной истории” Высоцкого. Но, возможно, именно этому анчаровскому произведению Высоцкий обязан игрой слов в песне “Кто за чем бежит” (1964): “Номер первый — рвет подметки как герой, // Как под гору катит, хочет под горой // Он в победном ореоле и в пылу // Твердой поступью приблизиться к котлу”… Сравним у Анчарова: “Крошка, верь мне: я всюду первый — // И на горке, и под горой…” …Помимо самого мотивы “горы/горки”, здесь общим является и уже знакомый мотив желания быть “первым”».
Всеволод Ревич, отмечая контраст между героями анчаровских песен и газетным «официозом», говорил о том же самом влиянии песни «МАЗ» на творчество Высоцкого (В. Ревич, 2001):
«И даже очень-очень “главный чин”, начальник автоколонны, персонаж одной из лучших песен Анчарова “МАЗ”, герой труда по всем газетным стандартам, обрисован совсем не по-газетному… Право же, наши трудяги заслужили лучшую участь, чем щедро представленные в их распоряжение замызганные забегаловки, случайные спутницы и непременные “полкило” водки. Вроде бы — ни единой жалобы, но из каких-то подтекстовых глубин возникает щемящая партия человеческого одиночества, ничем не заполненной душевной пустоты.
Может быть, именно в “МАЗе” сильнее всего проявилось умение автора слиться с героем, заговорить его языком, “схватить” присущую только ему лексику. Этим приемом впоследствии будет виртуозно пользоваться Высоцкий, который никогда не был альпинистом, но как никто другой проник в психологию восходителей. То же самое можно сказать про его песни, спетые как бы от имени спортсменов, солдат, пилотов и так далее».
Всеволод Ревич далее отмечает:
«И еще одно резко выраженное начало вылезает на первый план в песенной лирике Анчарова — антимещанское. Его герой ненавидит обывательщину яростно, можно сказать, физиологически. В этих местах обычно целомудренная муза Анчарова готова взорваться любой грубостью».
«Мещанский вальс» (1961) тоже можно считать одной из программных песен Анчарова, только на этот раз речь идет о тех явлениях, которые он полагает главными препятствиям на пути осуществления своих положительных идеалов. В песне в иронической форме рисуется картина благостного мирка мещанского благополучия, подчеркнуто замкнутого в своих масштабах:
Микроулица микроГорького.
Микроголод и микропир.
Вечер шаркает «микропорками»…
Микроклимат и микромир.
Антимещанская тема была одной из основных в общественном сознании «оттепельного» периода, и подробнее мы поговорим об этом явлении со всей его противоречивостью в следующей главе. Сейчас заметим только, что противопоставлению мещанского мировосприятия творческому и активному отдали должное многие заметные деятели культуры того времени: ранний Василий Аксенов в повести «Коллеги», Новелла Матвеева («Колбасникам тайным и явным / Поэты противны»). Стругацкие написали на антимещанскую тему целую повесть «Хищные вещи века». И, хотя Борис Натанович под конец жизни в нескольких интервью повторил, что «мне теперь мир “Хищных вещей” не кажется плохим», мы позволим себе ему не поверить: отрицательные стороны зажравшегося общества потребления, показанные в этой повести, и сегодня выглядят так же уродливо, как и полвека назад. Анчаров позже (1966) посвятит этой теме отдельную балладу, которая так и называется «Антимещанская». В ней, как во многих его прозаических произведениях, как раз и проявится в полной мере та самая «яростная» и «физиологическая» ненависть к мещанству, о которой говорил Всеволод Ревич в приведенной цитате.
Песня «Любовницы» (1963–1964), написанная тоже в рамках темы «маленького человека», повествует о трагедии женщин его поколения, потерявших возможность обрести нормальную семью. «Это о девушках нашего возраста, ну а наш возраст в общем-то военный», — говорил Анчаров. Кроме всего прочего, эту песню можно привести как пример блестящего умения Анчарова выстроить цельный образ в немногих словах:
Приходи, приходи скорей!
А не то на слепом рассвете
Ты услышишь хрип батарей
И меня не успеешь встретить.
Песни «Белый туман» (1964) и «Цыганочка» (1964) несложно сопоставить с событиями времен разрыва с Джоей Афиногеновой. «Белый туман» — простая для исполнения и идеально выдержанная по стилю песня, ее любят современные исполнители. Тамара Кушелевская вспоминала:
«…Потом он спел “Звук шагов, шагов…”. У нас в театре репетировался спектакль “Круговорот”, и я попросила эту песню для спектакля. Он сказал: “Хорошо”. Я не знаю, платили ему или не оплатили авторские, но он мне дал. Я сказала: “А ноты?” — “Нот нет. Выучивайте с голоса”. Мы сидели с ним в уголочке, и он пел: “Словно лодка проходит по камышам…” и “В тех шагах, шагах и твои шаги, в тех шагах, шагах и моя печаль…” Мне понравилось очень сочетание звуков: в камышах — шагах, в тех шагах, шагах и твои шаги. Что-то было очень необычное, необычные стихи. И я пела, мы пели, наверное, год эту песню его в спектакле, в миниатюре, которая называлась “Круговорот”. Это имело успех».
По поводу «Цыганочки» Всеволод Ревич замечал (В. Ревич, 2001):
«Для анчаровского героя любовь — это шквал, землетрясение, лавина. И счастье, и разлуку он переживает так же интенсивно, как и все остальное.
И стала пятаком луна —
Подруга полумесяца,
Когда потом ушла она,
А он хотел (в оригинале “решил” — авт.) повеситься…»
А. В. Кулагин пишет о «Цыганочке» в связи с Высоцким:
«Заинтересованное внимание проявлял он и к песне Анчарова “Она была во всем права…” (1964). Исполняя собственную песню “Она на двор — он со двора…” (1965 или 1966), Высоцкий перед нею напел несколько строк анчаровской песни и этим сам указал источник своего произведения. <…> Но песня эта… притягивала его — вероятно, в самом деле своей эмоциональностью, цыганскими интонациями. Заимствования из нее несколько раз встречаются в творчестве Высоцкого рубежа 60–70-х годов. Так, тавтология в анчаровской метафоре “И были черные глаза / Пустынными пустынями” явственно отзывается у Высоцкого в песне “Мне каждый вечер зажигают свечи…” (1968): “В душе моей — пустынная пустыня, — / Ну что стоите над пустой моей душой!”; олицетворение “И дом подъездом жмурится” он развернет в зачине стихотворения “Рты подъездов, уши арок и зрачки оконных рам…” (начало 70-х). А легкое расширение Анчаровым известного фразеологизма в строках “Устал считать себя козлом / Любого отпущения” не послужило ли Высоцкому “сигналом” к свободной и богатой нюансами игре с тем же фразеологизмом в “Песенке про Козла отпущения” (1973)…»
Январем 1964 года датируется песня «Аэлита». Ее не особенно любят исполнители, вероятно, из-за нарочито грубоватой тональности, взятой автором с самого начала: «Мужики, ищите Аэлиту!» Поскольку «Аэлита» Алексея Николаевича Толстого сегодня былой популярностью не пользуется, следует сказать несколько слов об истоках образа, которые делают куда более понятной и саму песню, и ее контекст в повести «Голубая жилка Афродиты» (см. главу 7), куда текст «Аэлиты» будет Анчаровым включен с некоторыми купюрами.
Алексей Николаевич Толстой (1883–1945) — русский и советский писатель, «коммунистический граф», как его иронически называли. Имел техническое образование, до революции 1917 года писал рассказы, был военным корреспондентом. В 1923 году вернулся из эмиграции, после чего с ходу влился в ряды большевистского писательского истеблишмента и никогда не давал повода усомниться в верности «генеральной линии партии». После смерти М. Горького в 1936 году временно (до назначения А. А. Фадеева в 1938 году) возглавил Союз писателей. В течение двух десятилетий (1921–1941) писал трилогию
«Хождение по мукам» о Гражданской войне, в которой утверждал нравственную победу красных над белыми. Автор прекрасного исторического романа «Петр I» (за который его хвалили даже идейные противники из эмиграции), а также двух фантастических романов: «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина», ставших классическими образцами советской научной фантастики. «Гиперболоид» Толстого очень часто вспоминали во второй половине ХХ века в связи с изобретением лазера.
При рассмотрении творчества А. Н. Толстого часто забывают, что он, кроме всего прочего, автор замечательной сказки для детей «Золотой ключик, или Приключения Буратино», написанной им в 1936 году на основе существенно переработанного сюжета сказки «Пиноккио» итальянского писателя XIX века Карло Коллоди. Возможно, эта сказка, любимая многими поколениями детей, не раз экранизированная, многократно использованная другими писателями и даже авторами песен, персонажи которой обрели самостоятельное существование в крылатых выражениях, фразеологизмах и анекдотах, — иными словами, сказка, прочно вошедшая в культурное сознание эпохи, останется самым значительным произведением «коммунистического графа».
Роман «Аэлита», опубликованный в 1924 году (и затем десятки раз переиздававшийся), описывает полет на Марс инженера Лося и красноармейца Гусева. Роман неоднозначный, эклектичный по идеологии и нравственным установкам, отражает метания Алексея Толстого, как раз в эти годы вернувшегося из берлинской эмиграции и решавшего, как ему лучше вписаться в большевистскую Россию. Современному читателю его читать просто незачем. Но роман тем не менее выжил, и совсем не из-за основной фабулы, которая сейчас, признаться, смотрится несколько диковато.
Об этом прекрасно написал Всеволод Ревич в книге «Перекресток утопий», посвященной советской фантастике[178]:
«Все это давно неактуально, и если бы в книге действовали только Гусев и Лось, она вряд ли бы устояла на полках. Роман выжил благодаря образу, которого Чуковский и другие (критики — авт.) не замечали. Когда мы начинаем искать символ вечно женственного, марсианка Аэлита непременно приходит на ум. Аэлита — изящество, ум, красота, любовь. На последних страницах романа образ Аэлиты расширяется до вселенских масштабов, до образа идеальной женщины вообще: “…Голос Аэлиты, голос любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной…” <…> В книге скрыт какой-то секрет, плохо поддающийся литературоведческому препарированию. Почему образ Аэлиты так поэтичен? Ведь автор вроде бы не дал нам проникнуть в ее душу, не поделился ее мыслями или чувствами. Мы рассматриваем ее все время со стороны. Даже портрет дан наброском — постоянно подчеркивается хрупкость, пепельный цвет волос, да голубовато-белый — кожи. Но это не мешает нам видеть ее совершенно отчетливо, гораздо отчетливее, чем, допустим, расплывчатого Лося. Любой иллюстратор нарисует Аэлиту без затруднений, и у всех она окажется разной, но похожей. <…> А ведь задача, которую поставил перед собой автор, необычайно сложна: надо было сотворить привлекательный образ неземного существа — чуждого нам, но в то же время близкого и понятного».
Вот эти черты «идеального женского образа» и оказались настолько близки Анчарову, что он выразил их в песне. Всеволод Ревич далее продолжает:
«Мужики, ищите Аэлиту,
Аэлита — лучшая из баб…
Нарочито грубоватой лексикой М. Анчаров подчеркивает, что Толстой создал образ идеальный и реальный одновременно. Маститые литературоведы могут сколько угодно утверждать, что наивысшая удача (романа “Аэлита” — авт.) — Гусев. Но что-то не припоминаются ни пионерские отряды, ни кружки любителей фантастики имени товарища А. И. Гусева. А вот певучим именем марсианки называются малые планеты, молодежные кафе, вокально-инструментальные ансамбли, даже фены для укладки волос и стиральные машины[179]. Наверное, все же неслучайно автор назвал книгу именем “хорошенькой и странной” женщины. Таких, как Гусев, в литературе было множество, Аэлита и по сей день остается в гордом одиночестве».
В том же 1964 году написана, возможна, самая известная песня Анчарова «Баллада о парашютах». Она вошла в повесть «Золотой дождь» и в спектакль «Теория невероятности» и была известна далеко за пределами обычной аудитории авторской песни тех лет. Песню до сих пор можно услышать от ребят, вернувшихся с военной службы в десантных войсках, а один из авторов этой книги в семидесятые годы слышал ее от членов студенческого строительного отряда «Эдельвейс», избравших ее своим гимном (удивительно, но, кажется, никто тогда не задумался, что вообще-то «Эдельвейс» был подразделением немецкого вермахта).
Ставя в «Балладе о парашютах» в один ряд два наименования разных немецких подразделений («А внизу дивизии “Эдельвейс” и “Мертвая голова”»), Анчаров был неточен. Понятно, что названия эти были тогда на слуху у каждого, но это части принципиально разные. «Эдельвейс» — горные стрелки, то есть подразделение чисто армейское. И Высоцкий потом в песнях к фильму «Вертикаль» употребит это название в правильном контексте («И парень тот — он тоже здесь, / Среди стрелков из “Эдельвейс”») — как противников наших горных отрядов, собранных и обученных, как мы знаем (см. главу 2), Николаем Николаевичем Биязи в 1944 году специально для противодействия этому самому «Эдельвейсу». А «Мертвая голова» — общее название подразделений СС, которые несли охрану концлагерей и в боевых действиях на фронте участия не принимали, они осуществляли только карательные функции. Их зловещая эмблема (череп и скрещенные кости) часто необоснованно приписывается всем войскам СС, хотя среди последних были и обычные военные части, которые к главным преступлениям нацизма считаются, согласно определениям Нюрнбергского трибунала, не причастными. Но перечисление этих «дивизий» в одном ряду могло у Анчарова быть и вполне намеренным: таким образом он хотел показать, что те, кто сам преступлений не совершал, а только им содействовал, для него все равно навсегда остаются врагами.
А. В. Кулагин находит прямые аналогии между «Балладой о парашютах» и «Песней летчика» Высоцкого:
«Нам думается, что в “Песне летчика” (1968) Высоцкий следует за анчаровской “Балладой о парашютах” (1964) не только “на тематическом уровне” (И. А. Соколова), но и на уровне мифопоэтической образности, когда и десантник, и летчик оказываются в раю — причем в обоих случаях, явно или завуалированно, возникает мотив препятствия на пути погибшего воина в рай. У Анчарова в посмертную судьбу героя вмешивается сам Господь:
— Эй, ключари,
Отворите ворота в Сад!
Даю команду —
От зари до зари
В рай пропускать десант.
Подобно тому как у Анчарова небесные ключари, видимо, не хотели пропускать десантников, “архангел” предупреждает героев Высоцкого: “В раю будет туго!” — но они настойчивы в своем желании:
Мы Бога попросим: “Впишите нас с другом
В какой-нибудь ангельский полк!”
Оттолкнувшись от лирического сюжета “Баллады о парашютах”, Высоцкий оригинально развивает мотив участия летчиков в “ангельском полку”, продолжая обыгрывать христианскую символику (“А если у них истребителей много — / Пусть впишут в хранители нас!” и т. п.). Близки друг другу и сами герои двух поэтов, простые парни, один из которых (у Анчарова) — благушинский атаман, а другие — Сергей и его напарник (у Высоцкого) — не случайно сравнивают воздушный бой с карточной игрой (“Сережа, держись! Нам не светит с тобою, / Но козыри надо равнять”); зная творческий интерес Высоцкого к социальному “низу”, нетрудно предположить, что лексика карточных игроков — знак принадлежности героев в их прежней, мирной, жизни к этому слою. Вообще у обоих поэтов лирический сюжет движется как бы от “низкого” к “высокому”: от воющих как суки в мороз автоматов — к серебряным стременам и копью (Анчаров), от карточных козырей к ангельскому полку (Высоцкий); подобно тому как анчаровский Гошка ближе к финалу ассоциируется со своим “тезкой” — святым Георгием (“Пока этот парень / Держит копье — / На свете стоит тишина”), герой Высоцкого тоже обретает полное имя, звучащее в высоком стилевом контексте (“Сергей, ты горишь! Уповай, человече, / Теперь на надежность строп!”)».
Замечательна история одной из самых образных песен Анчарова — «Село Миксуницу» (1964). Из Интервью, 1978:
«Это был сон. Это село мне приснилось. Мне приснилось какое-то молдавское село под названием Миксуницу, какое-то такое райское, такое золотое село… Тут вообще забавная вещь. Мне удалось написать в песне какие-то приметы этого села, например, “женщины — птицы, мужчины — как львы…”. Я не сон описывал, не сюжет сна, а просто пелись такие слова про этот сон. Потом поехал я как-то зимой в Дом творчества, в Малеевку, и там как раз писал вторую часть “Сода-солнце”. Сделали мне путевку, что-то я подзаболел тогда… Попросили там попеть — какая-то большая группа писателей — я народу там мало знал… Причем оказалось, что большинство их из Молдавии. Я что-то попел. А потом сказал, что, между прочим, у меня есть песня про Молдавию. Я им эту песню спел. Называлась эта песня тогда “Село Микшуницу”. Когда я пропел, они сказали мне: не Микшуницу, а Миксуницу, или наоборот, я уже сейчас забыл. В общем, они меня поправили. Я спросил: “А что это такое?” А они говорят, что это цветок такой. Вот и спрашивается: я в Молдавии никогда не был, молдавского языка не знаю начисто, ну сложился там какой-то образ, но почему мне во сне приснилось молдавское слово “миксуницу”? А они совершенно не удивились. Это, говорят, цветок такой. После этого я переделал название в песне и стал петь его правильно».
Еще одна очень известная песня Анчарова написана в 1965 году и полностью называется «Баллада о танке Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте». В песне снова проявилась выдающаяся способность Анчарова к передаче полноценных образов немногочисленными словами:
Впереди колонн
Я летел в боях,
Я сам нащупывал цель.
Я железный слон,
И ярость моя
Глядит в смотровую щель.
Я шел, как гром,
Как перст судьбы,
Я шел, поднимая прах;
И автострады
Кровавый бинт
Наматывался на трак.
Я пробил тюрьму
И вышел в штаб,
Безлюдный, как новый гроб.
Я шел по минам,
Как по вшам.
Мне дзоты ударили в лоб.
Здесь вновь использован опробованный Анчаровым еще в «Сорок первом» прием нерифмованной строфы, которая знаменует собой резкий поворот сюжета в сторону стилевого возвышения:
И вот среди раздолбанных кирпичей, среди разгромленного барахла я увидел куклу. Она лежала, раскинув ручки, в розовом платье, в розовых лентах, — символ чужой любви, чужой семьи… Но я на куклу не смог наступить И потому убит…
(В повести «Этот синий апрель» текст в этом месте несколько изменен, но мы ориентируемся на авторское исполнение, которое представляется более законченным.) И далее Анчаров, как и в «Балладе о парашютах», использует светлый и узнаваемый религиозный образ:
И занял я тихий
Свой престол
В весеннем шелесте трав,
Я застыл над городом,
Как Христос,
Смертию смерть поправ.
И я застыл,
Как застывший бой.
Кровенеют мои бока.
Теперь ты узнал меня?
Я ж любовь,
Застывшая на века.
А. В. Кулагин замечает по поводу такой концовки:
«Нужно оценить поэтическую неожиданность и смелость этого образа под пером художника, живущего в стране государственного атеизма. <…> …у Анчарова сравнение военной машины с самим Христом возвышает воинскую судьбу до мифологического уровня. Здесь автор следует традиции русской поэзии двадцатого века, измерявшей евангельским масштабом крупнейшие катаклизмы новейшей истории, будь то революция (“Двенадцать” Блока), Гражданская война (“Доктор Живаго” Пастернака) или сталинские репрессии (“Реквием” Ахматовой)…»
Случаев, когда автор песен (вообще говоря, не только песен) выступает от лица персонажа из области, которой он сам никогда не занимался, немного. А выступлений от лица неодушевленного предмета, как в этой песне, — вообще единичные случаи, встречаются они только у Высоцкого, Визбора и Анчарова. При этом песня бывает столь убедительна, что созданные образы воспринимаются читателями и слушателями как реальные факты биографии автора, — общеизвестны подобные случаи с Высоцким, часто выступавшим от имени персонажей очень разных профессий. То же случалось и с Анчаровым — мы уже упоминали, что его за своего принимали десантники, танкисты и разведчики. С песней о танке Т-34 и связан миф, что Анчаров был танкистом, причем это даже увековечено в камне.
В подмосковной деревне Шолохово, на Дмитровском шоссе, в 17 км от МКАД есть музейный комплекс «История танка Т-34». Там перед зданием музея установлен один из сохранившихся образцов этой модели, и на мраморной плите внизу постамента выбита измененная цитата из анчаровской песни. А в экспозиции музея и в проспекте-буклете можно встретить такое сообщение: «Стихи на мраморной доске перед танком принадлежат танкисту, писателю и поэту Михаилу Анчарову».
Происхождение этого мифа отчасти раскрыто в романе «Записки странствующего энтузиаста». Группа литераторов в поезде вспоминает о годах Отечественной войны. Один из персонажей говорит:
«— Я в войну был мальчишкой, а потом я стал летчиком-испытателем, и вот теперь поэт…
— А я войну помню плохо, я была еще маленькая, но я не могу забыть постоянный голод в нашей семье… Мой отец был конструктором знаменитого танка Т-34… — сказала вторая.
И села.
— Ира… — говорю. — У меня есть песня про танк Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте… Ира, я даже не подозревал…
А я уже забыл, как эта песня начинается. Она написана очень давно. Я попытался несколько раз вспомнить слова, но не мог. Поэтому я сказал: “Прости…” И поцеловал ей руку. Но все-таки конец вспомнил. <…>
— Гоша, — сказала она и долго молчала, а потом говорит. — …Дай мне эти слова.
— Конечно… — говорю.
А меня уже колотун бьет. Потому что я тоже человек и не всё могу вынести…»
Ира из романа — это писательница и поэтесса Лариса Васильева (1935–2018), дочь одного из конструкторов танка Т-34 Николая Кучеренко, основатель (2001 год) и президент музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34». Из этой истории понятно и происхождение цитаты, и даже можно предположить, почему она неточная: наверняка Лариса Николаевна воспроизводила ее по памяти, а между началом восьмидесятых, когда проходила писательская поездка в Тольятти, и 2001-м, когда открыли музей, все-таки прошло немало времени.
В 1966 году были подряд написаны «Антимещанская», «Про радость» и одна из программных анчаровских песен «Большая апрельская баллада». Они (вместе с так и не ставшей песней «Балладой о двадцатом веке») должны были войти в поэму, с которой Анчаров, по его собственному признанию, так и не справился (Интервью, 1978): «Это я писал поэму. Поэму не осилил. Несколько больших кусков из нее стали песнями. Это “Про радость”, “Большая апрельская баллада”, “Антимещанская”. Это все из этой поэмы. А какие-то куски так и остались стихами». Анчаров потом вставит текст этой несостоявшейся поэмы в роман «Сотворение мира», где она составит отдельную стихотворную главу под названием «Даешь человеков!», однако этот роман так и не был опубликован при жизни автора.
Про «Антимещанскую» мы уже упоминали в связи с «Мещанским вальсом». Нужно еще сказать, что эта песня заканчивается оптимистическими строфами, одними из самых возвышенных в песенном творчестве Анчарова:
А я говорю:
Спокойствие, мальчики!
Еще не сказаны
Все слова.
Батальоны все спят,
Сено хрупают кони,
И труба заржавела
На старой цепи.
Это тощая ночь
В случайной попоне
Позабыла про топот
В татарской степи.
Там по синим цветам
Бродят кони и дети…
Мы поселимся в этом
Священном краю.
Там небес чистота,
Там девчонки — как ветер,
Там качаются в седлах
И старые песни поют.
В нескольких вариантах авторского исполнения последняя строка звучит как «…и песню “Гренаду” поют» — явная отсылка к знаменитому стихотворению Михаила Светлова, которое так замечательно выразило настроение и идеалы его современников, воевавших в Гражданскую. «Гренада» в этих словах — синоним той же «старой песни», образ одного из тех якорей, на которых держится все мировоззрение поколения. Очень показательно, что в интерпретации Виктора Берковского песня «Гренада» стала одной из самых известных песен, исполнявшихся самодеятельными авторами, — хотя, возможно, Анчаров об этом варианте и не знал.
Всеволод Ревич приводил эти строки как пример, говоря о лирическом идеале Анчарова (В. Ревич, 2001):
«А теперь вернемся к лирическому идеалу. То там, то здесь в стихотворениях Анчарова возникают образы прекрасного мира, хотя и нельзя сказать, что этот мир отличается чрезмерной государственной или социальной определенностью. Пожалуй, его главная примета — синие небеса. Словно в нашей жизни так уж никогда и не бывает чистого неба. А вот, поди ж ты, мы хорошо понимаем, что поэт имеет в виду другую, недоступную нам синеву <…> Да, там обязательно должно быть что-то старинное — песни, корабли. Как у Грина, со стихов которого и начался Анчаров-песенник еще в восемнадцатилетнем возрасте. Грин выдумал Лисс и Зурбаган, Анчаров выдумал блаженное село Миксуницу, что вовсе не означает, будто таких населенных пунктов нет на свете. Ведь этот мир не географическая точка, а состояние души. А следовательно, там может поселиться каждый. Без документов. Его осколки беспорядочно разбросаны в реальной действительности, их можно отыскать, при желании, конечно, и это делает анчаровскую романтику не беспочвенной. Даже если станет совсем тошно, надо только напомнить себе:
…Спокойствие, мальчики!
Еще не сказаны все слова…»
Последние две строфы песни явно выделены из остальных — при переходе к ним меняется размер стиха, ритм и стиль исполнения. Анчаров потом отдельно включал их в свою прозу (последней строфой заканчивается, например, повесть «Поводырь крокодила»). Вошла одна из этих строф и в песню «Слово “товарищ”» из телеспектакля «День за днем» (на музыку И. Катаева), причем с изменениями в тексте:
Батальоны встают,
Сено хрупают кони,
И труба прокричала
В пехотной цепи.
И морозная ночь
В заснежённой попоне
Вдруг припомнила топот
В далекой степи.
В таком виде эти слова потом звучали по радио и телевидению, и многие помнят именно этот вариант, но надо знать, что этот текст к песне, которую исполнял сам автор, отношения не имеет — тема и настроение у нее совершенно другие.
В песне «Про радость» доминируют те же оптимистические настроения:
Мы рваное знамя
«Бээфом» заклеим,
Мы выдуем пыль
Из помятой трубы.
И солнце над нами —
Как мячик в аллее,
Как бубен удачи
И бубен судьбы.
Последние строки песни перекликаются с такими же настроениями в известной «Вакхической песне» Пушкина, из которой Анчаров напрямую заимствует последние строки, только слегка их видоизменив (у Пушкина:
«…Да здравствуют музы, да здравствует разум! …Да здравствует солнце, да скроется тьма!»):
Отбросим заразу,
Отбросим обузы,
Отбросим игрушки
Сошедших с ума!
Да здравствует разум!
Да здравствуют музы!
Да здравствует Пушкин!
Да скроется тьма!
«Большая апрельская баллада», по замыслу Анчарова, должна была выразить настроения его поколения (из выступления в лениградском клубе «Восток» 19 апреля 1967 года):
«Все говорят о поколениях, сплошь и скрозь… И как-то я в один прекрасный момент почувствовал, что я тоже имею право говорить про поколения. Пока мы были мальчишками, нам твердили, что про нас еще рано говорить. А потом, когда уж совсем подросли, вроде уже и поздно про нас говорить…»
Из выступления в ДК «Металлург» 21 мая 1981 года:
«Эта песня называется “Большая апрельская баллада”. Это для меня в некотором роде итоговая была песня. Это баллада о нашем поколении. Сейчас модно стало про поколения говорить, но как-то они все-таки делятся: военное поколение, хотя нет описания военного… А наш возраст он какой-то такой, знаете, — про детей середины века. Мы в каком-то смысле не отцы и не дети, а где-то посередине застряли. Вот об этом песня».
А. В. Кулагин, говоря о военной тематике в песнях Анчарова, заметит:
«Анчаров задал новую планку творческого осмысления войны, и не будет натяжкой вложить, помимо прочего, и этот смысл в строки его программной “Большой апрельской баллады”: “Нас ласкала в пути / Ледяная земля, / Но мы, / Забывая про годы, / Проползали на брюхе / По минным полям, / Для весны прорубая / Проходы…”»
Песня «Большая апрельская баллада» действительно стала итоговой в его песенном творчестве. После нее Анчаров написал еще несколько песен, включая широко известную «Песню о России» (1971), но она была написана не как самостоятельное произведение, а на заданную тему и с конкретной целью (Интервью, 1978):
«Эту песню я хотел включить в “Драматическую песню” — в спектакль театра им. Пушкина[180]. Но режиссер Равенских ее туда не взял. Потом она пошла на телевидении в телеспектакле “День за днем”, а Равенских, задним числом, ее включил в спектакль “Русские люди” (спектакль Малого театра по пьесе К. Симонова — авт.)».
Анчарову принадлежит еще несколько текстов песен, которые он сам исполнять не пытался, а стали они известны как песни профессиональных композиторов в исполнении профессиональных исполнителей (упомянутая песня «Слово “товарищ”» как раз из них). Самая известная из этих песен — «Стою на полустаночке» (на музыку И. Катаева) из телеспектакля «День за днем», которую в сериале исполняла Нина Сазонова, а затем Валентина Толкунова. Благодаря ей песня стала известной всей стране и вошла в постоянный эстрадный репертуар, исполнявшийся по радио.
Александр Саранцев вспоминал, как Толкунова впервые появилась в их компании:
«…Трое пришли. А с ними пришла совершенно очаровательная девка. Такая красивая и голосина! Как она запела, и эти шибздики сразу отвалились куда-то. Она только появилась. Еще никто ее не знал. Ну, Анчаров — восторженный человек, я — тоже. Мы наговорили ей кучу пророчеств, потому, что факт налицо. И обаяние и голосина. Она молодая была и симпатичная очень, да еще и интонация не эстрадная. Потом она уже привычная стала. Звук ее. А в то время, когда она появилась, сама тема, сама интонация голоса, то, что в подтексте звуков таится, там настолько это русское. Я не знаю, кто она по национальности, но там настолько это сразу понятно. Это была Валентина Толкунова. И я уверен, что эту песню он написал для Толкуновой».
Песня «Стою на полустаночке» в исполнении Толкуновой получилась действительно неплохо, но на общем уровне советской эстрады семидесятых она не слишком выделяется. Как и остальные стихотворения, написанные Анчаровым-текстовиком и использованные профессиональными композиторами (всего их около десятка — кроме И. Катаева, музыку писали М. Минков и С. Томин[181]), она выпадает из основного русла анчаровского творчества, и едва ли он сам так уж гордился этой стороной своей деятельности. Впрочем, вот какой случай вспоминала редактор Д. В. Тевекелян[182] (подробнее о ней будет сказано в главе 7), относящийся к концу семидесятых годов:
« …Мы (авторы и редакция журнала “Новый мир” — авт.) ездили в Павлов Посад. Мы много вместе ездили, но вот это особенно была интересная поездка. И ездил с нами, такой был поэт Михаил Львов, наверное, знаете, он был заместителем главного редактора “Нового мира”. Он был одним из самых яростных противников этой литературы вообще и Анчарова в частности, а выступали вместе. Ну, видим, жуткий цех, несчастные женщины, потные, страшные, замученные жизнью до крайности. Не знаем, что им говорить и о чем вообще говорить. Такой шум в ткацких цехах, невыносимая обстановка. Ну, в перерыве это все происходило. Думаю, неужели он сейчас начнет свои баллады… ну, что делать-то? И он спел “На полустаночке”, что воспринималось дивно. Потому что они знали песню, очень любили. Львов потом мне говорит: “Как, это его слова?” Я говорю: “Ну, раз поет, значит, его, наверное”. Каждый сам говорил, пел там свое, все каждый сам делал. “Как, — говорит, — это его слова?” Я говорю: “Конечно”. “А я, — говорит, — думал, народные”. Это же комплимент колоссальный, когда поэт такое говорит о другом поэте. Но это ничего не исправило тем не менее, конечно…»
Возможно, единственная, бытовавшая в среде авторской песни именно в интерпретации И. Катаева, — упомянутая «Песня о России».
В среде любителей авторской песни бытовало представление, что песни лучше всего исполняет их автор. Сейчас это представление в значительной степени размылось — во-первых, потому что многих авторов уже нет в живых, во-вторых, вследствие значительно изменившейся в сторону профессионализма исполнительской культуры. И старые авторы-исполнители уже не всегда вписываются в требовательные вкусы новой публики. Да и во время расцвета жанра существовало довольно большое количество исполнителей, которые авторский вариант изменяли, улучшали, выявляли в нем новые грани и нюансы, и нередко такая исполнительская версия распространялась и полностью замещала авторскую. Иногда исполнитель позволял себе чересчур изменить, переосмыслить и украсить авторский замысел, так что от первоначальной песни мало что оставалось (сейчас такое замещение называется «кавер-версией»). Но такое самовольство публикой решительно не приветствовалось, даже если исполнитель по своим профессиональным качествам во всем превосходил автора.
Именно поэтому к профессиональным переделкам авторских песен, например, для кинофильмов или спектаклей сами авторы нередко относились скептически. Вспомним, как Анчаров с уважением отозвался о композиторе Андрее Эшпае, который в спектакле «Теория невероятности» сохранил анчаровские мелодии исполнявшихся песен, и с иронией — о Катаеве, переделывавшем его мелодии для «День за днем». Конечно, были случаи, когда обе стороны находили точки соприкосновения, и получалось удачно — так, композитор фильма «Белорусский вокзал» Альфред Шнитке сам настоял, чтобы в фильме звучала мелодия Булата Окуджавы (и в титрах было указано его имя), и лишь аранжировал ее для исполнения оркестром. А вот тот факт, что «Ваше благородие, госпожа удача», знаменитая песня того же Окуджавы из «Белого солнца пустыни», поется именно на мелодию профессионального композитора Исаака Шварца, осознается далеко не всеми — настолько Шварц искусно воспроизвел в ней все характерные для Окуджавы интонации. Точно так же профессиональный композитор Владимир Дашкевич (автор симфоний и теоретик музыки!) почти неотделим от Юлия Кима в совместно созданных песнях для кинофильмов.
Высоцкий в этом смысле представлял собой крайний случай — его, кажется, в то время никто и не решался ни переделывать, ни исполнять, — получалось заведомо хуже. Нотами невозможно записать многие нюансы исполнения — так, Юлий Ким как-то отмечал, что Высоцкий умел петь согласные, что в музыке считается невозможным. Но, как мы уже говорили, Высоцкий во всем — исключение, самостоятельное явление искусства, стихи, музыка и исполнение у него представляют неразрывное и законченное целое. Попытка улучшить его в любой части: хоть в музыке, хоть в стихах, хоть в исполнении — обычно необратимо портит его песни. И по сей день, спустя почти уже четыре десятилетия со дня кончины поэта, находится немного исполнителей из числа даже самых профессиональных и известных, которые могли бы хотя бы приблизиться к должному уровню в исполнении его песен. В наше время возникла определенная мода на Высоцкого, потому оценить справедливость предыдущей фразы несложно, посмотрев по телевизору любой из ежегодных концертов его памяти.
С Анчаровым было сложнее. Как и большинство самодеятельных авторов, он не был образованным музыкантом и композитором (хотя и окончил, в отличие от многих, музыкальную школу). В отличие от Высоцкого, он не был и артистом от природы, не умел вживаться в образ и изображать чужие личности. Он всегда и во всем: в образе водителя-дальнобойщика, свихнувшегося пограничника, безногого инвалида или даже танка Т-34 — представлял одну-единственную личность: выступал от себя самого, того художника и поэта, который творит эти самые образы, и мог достоверно изображать только те чувства, что испытывал сам. Он был именно художником, а не артистом и даже не в полном смысле слова писателем или поэтом: вспомним, что персонажи, отличные от самого себя, и в прозе и в песнях у него лучше всего получались тогда, когда он рисовал их с натуры.
Потому и та личность, которая представала перед зрителями во время исполнения им собственных песен, была уникальной и неповторимой. Повторим очень выразительную характеристику из воспоминаний Галины Аграновской: «Избалованная песнями и романсами на великолепные стихи, которые пел муж, я все же не услышала, какой слабый стих у этой песни. Заворожила мелодия, энергетика голоса, манера петь (выделено нами — авт.)». Потом, освободившись от этого почти гипнотического воздействия и начиная разбирать его песни на составляющие, слушатели замечали недостатки отдельно стихов, отдельно музыки, отдельно исполнения… и возникало искушение что-то исправить, подать лучше, спеть гармоничнее, выразительнее. И ничего не выходило! Что-то непоправимо портилось, и песня разрушалась.
По этой же причине Анчарова очень часто пели у костра и в домашних компаниях, так сказать, для собственного удовольствия, но довольно редко рисковали исполнять в концертной обстановке. Он был автор исключительно камерного толка и сам не любил выступать со сцены (Интервью, 1984):
«Концерты я вообще терпеть не могу давать. Ну нет у меня этого куража. Сидишь на сцене, как дрессированная обезьяна. По самолюбию бьет. Я никогда не боялся, но просто — ты сидишь, народ сидит, а ты обязан исполнить. Я по своему характеру пою когда мне хочется, а когда не хочется — палкой меня колоти. <…> Как говорится, мы за столиками, а ты ходи вокруг с зурной и песнями. Петь неудобно, из-за сцены подталкивают… Это я не люблю. И мне перестало хотеться. Нет, нет, свой характер уже не переделаешь. Причем, казалось бы, самый благородный случай: тебя хотят послушать, было бы не обидно, а вместе с тем с тобой не считаются. <…> Вам понравилось, вы похлопали, я рад. Если вы не похлопаете, я же буду огорчен и пристыжен. Но вы похлопали, значит, я работал честно, насколько мог. Дальше начинается уже цирк. Давай, давай еще — орут. Из лучших побуждений, но тем не менее. Я самолюбивый, — нет, не самолюбивый — обидчивый, и все это меня так обижало, что уже петь не хотелось… Так что с эстрады я не очень любил петь. А в комнате пел безотказно, — много народу или мало. Потому что — мысль, заинтересованность».
Еще больше, чем со сцены, не любил Анчаров выступать в студиях перед микрофоном. Галина Аграновская о телевизионной передаче с участием Анчарова (Аграновская, 2003):
«Надо сказать, в той передаче он был нехорош, скован и пел плохо, вернее, не плохо, а что-то потерялось в сравнении с исполнением в домашних стенах. И песни спел “нейтральные”. Мы его поздравили потом, как-никак — дебют на телевидении. По его словам, он себя не видел (передача, естественно, шла в записи). “Мурыжили меня пять часов, кому пою — не вижу. Я человек не публичный, выкинул это хреновое телевидение из головы раз навсегда”».
Ему был нужен живой и непосредственный контакт со слушателями — они его подпитывали своей энергией и вниманием. При этом он публику не разглядывал — наоборот, пел, полузакрыв глаза. Именно в этот момент и рождалась его песня, начинала жить полнокровной цельной жизнью. Подобное бытование было уникальным качеством именно анчаровских песен — он был в полном, его любимом смысле слова Певцом, где решающую роль играет не только триединство стихи-музыка-исполнение, но и не меньшее (а может быть, наоборот, и большее) — личность автора-исполнителя.
Отсюда легко понять, почему в любом опосредованном звучании его песни проигрывали многим другим. Их воздействие ослабляло уже посредничество магнитофона — многие из тех, кто не привык к специфике авторской песни, песни Анчарова в записи не воспринимали совершенно. А с экрана или со сцены в чужих устах и тем более на чужую музыку они превращались во вполне рядовые «песни из спектакля такого-то». И даже в немногих удачных таких опытах, ставших популярными (как «Песня о России» в исполнении Валентина Никулина и «Стою на полустаночке» в исполнении Валентины Толкуновой, обе на музыку И. Катаева), автора почти не чувствуется — тот любимый нами Анчаров, основатель жанра, который «КапКап», «МАЗ» или «Там в болотах кричат царевны…», здесь растворяется в чужой и, в общем, стандартной ауре представителя советской масскультуры.
Об уникальности анчаровского исполнения говорили многие, знавшие его в те годы.
Ирина Романова[183]:
«…самое главное, мне кажется, это интонация его. Ведь никто не может спеть так, как он пел. Песни его казались гораздо значительнее, когда он пел их сам. Причем, знаете еще, магнитофон не давал такого представления. Когда мы сидели все вокруг, а он сидел в не очень удобной позе и пел вот это. Это, понимаете, все равно никак не передашь».
Владимир Сидорин:
«Во-первых, энергетика бешеная совершенно, причем не показная энергетика, он всегда пел, слегка закрыв глаза и вообще сдерживая как бы себя, без внешних проявлений, ни на кого не смотрел, но это из него просто “перло”, грубо говоря. Такая бешеная энергия…»
Валентин Лившиц:
«…песни в его исполнении сразу производили впечатление значительности происходящего… когда в руки брал гитару Анчаров, это превращалось в “открытие”, “откровение”, и плевать на то, что я слышал “МАЗ”, предположим, тридцать пятый раз, знаю его наизусть, сам его пою в разных компаниях, все равно — СОБЫТИЕ!»
Александр Городницкий[184]:
«У Анчарова была удивительно обаятельная, уже утраченная ныне, “цыганская” темпераментная манера исполнения. В сочетании с сильным низким, “подлинно мужским” голосом она придавала особый колорит его песням. Да и гитара в его руках была старинная, инкрустированная, как мне тогда показалось, каким-то серебром и перламутром, чуть не из прошлого века».
Уникальную гитару, подаренную Джоей, вспоминают многие из знакомых (Валентин Лившиц):
«Эту гитару я прекрасно помню. Старинная гитара мастера Краснощекова с серебряной “головкой” и перламутровыми вставками на ладах, грушевого желто-красного дерева, купленная Джоей Афиногеновой в подарок Мише у цыган театра “Ромэн”».
Валентин Анатольевич точно подметил главную особенность анчаровского исполнения:
«Хочу подвести черту. Итак, почему всеми слышавшими Анчарова он сразу воспринимался не как представитель поэтов-песенников, а как новое искусство удивительной силы воздействия на окружающих. (Была такая секция в Союзе Писателей СССР. Секция поэтов-песенников. Говорили, что они вроде не поэты, а так… рангом похуже. “Труба пониже, и дым пожиже”). Но дело в том, что за Мишиной спиной при написании и исполнении своих текстов стоял вековой опыт, попрошу принимать это весьма серьезно, повторю — “вековой опыт” воздействия на окружающие народные массы всех “этих”, как сейчас уничижительно произносится: акынов, бардов, менестрелей, трубадуров и т. д. (древних шаманов, колдунов, магов). Мне кажется, что философия потеряла, а может быть, и не знала таинственной силы, которой владели все вышеназванные персонажи, а ведь они поднимали на битвы народы, укрощали бунты или вызывали бунты (в зависимости от того, что им было надобно). Вот такую, почти “мистическую”, особенность несло исполнение Михаила Леонидовича Анчарова».
И еще свидетельство о том же Александра Костромина[185]:
«…В журнале “Мир гитары” помещена статья В. Володина[186], статья очень хорошая, но содержит она, на мой взгляд, одно весьма спорное утверждение о том, что молодежь не интересуется песнями Анчарова потому, что он был плохим исполнителем своих песен, мол, Анчаров-исполнитель не дотягивал до Анчарова-автора. Я сейчас услышал ответную реплику из зала: “Ничего себе?!” Действительно, с точки зрения сценической, с точки зрения чисто эстрадной, исполнение было весьма посредственное: закрыв глаза, сидя на стуле, ни на кого не глядя… Мне довелось принимать участие в одном из последних его концертов (21 мая 1981 года в ДК “Металлург” — авт.)… и сидеть с ним рядом на сцене. Может, виной тому моя комплекция, но меня энергия, исходящая от этого человека, от его пения, практически сталкивала со стула. Это был уникальный энергетический поток. Я такого не встречал больше ни у кого, потому что большинство бардов поют все-таки сценично. Энергетика, которая от них исходит, — она натренированная такая, а он пел, сгорая при этом…»
Песни Анчарова плохо даются другим исполнителям потому, что они рассчитаны на Певца, причем с совершенно определенной, выраженной индивидуальностью, и войти в такой образ удавалось немногим. Когда его песни исполняли другие, ценилось именно то, насколько исполнителю удавалось воспроизвести авторские интонации, — как мы уже говорили, попытки что-то улучшить или прибавить от себя обычно заканчивались плохо. Поэтому складывалась парадоксальная ситуация, когда лучшие исполнители авторской песни бывали совсем не лучшими исполнителями песен Анчарова, — наоборот, последние нередко адекватнее всего звучали из уст тех, кто лучше всех Анчарова понял, проникся содержанием и смыслом его творчества, хотя, может быть, и не был виртуозом в музыкальном или артистическом отношении. Именно поэтому песни Анчарова так плохо звучали с экрана — допустить к микрофону непрофессионала в СССР образца 1970-х годов не могли, а профессионалы явно не справлялись.
Нет, адекватные исполнители Анчарова из круга авторской песни все-таки существовали (упоминать их не станем, чтобы никого случайно не забыть), но только позднее появились немногочисленные случаи удачных аранжировок анчаровских песен, о которых можно сказать, что они ничего авторского не потеряли и, наоборот, заиграли новыми красками и интонациями. И все они исходят из непрофессиональной или, скажем так, полупрофессиональной среды. Профессиональный исполнитель никогда не допустит, чтобы на первый план выходила личность автора музыки или стихов, — на эстрадных подмостках так не принято. И поэтому песни, звучащие по радио или на концертах, обычно в первую очередь ассоциируются именно с исполнителем: многие ли помнят, что у бессмертного хита Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» автор текста — незаурядный поэт Андрей Вознесенский? Это часто даже не указывается на современных сайтах, где можно послушать эту песню, — хотя Вознесенский сам по себе величина более чем заметная, но «Миллион алых роз» — это однозначно Алла Пугачева, и точка. А с Анчаровым такой номер пройти не мог — оторванная от личности автора, его песня теряла какую-то определяющую часть своей индивидуальности.
Людмила Абрамова-Высоцкая[187]:
«Но все-таки Окуджава гораздо ближе к эстрадной песне, к профессиональной эстрадной песне, а не к тому открытию, которое делает Володя. К этому открытию все-таки ближе Александр Вертинский. И Миша Анчаров — без композиторов-профессионалов, которые выделывают из его песен эстрадные номера. Пока Анчаров поет сам — он там, с Володей».
Мы уже не раз говорили, что песенное творчество Анчарова оказало глубокое влияние на его современников-бардов, даже приводили примеры такого влияния. Однако такое утверждение само по себе выглядит голословным и даже натянутым: при поверхностном взгляде в далекие теперь годы середины прошлого века фигура Михаила Анчарова выглядит одинокой среди активно сочинявших и исполнявших тогда свои песни Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Евгения Клячкина и других столь разных бардов. Кажется, что они действовали сами по себе, что их мало что связывало. Многие из этих авторов по разным причинам (частично мы попытались их раскрыть в предыдущем разделе) стали в результате более известны, чем Анчаров, и при взгляде из сегодняшнего дня вообще не очень ясно, какое место занимал Михаил Леонидович в этом кругу.
На самом деле многие из этих авторов были близко знакомы друг с другом и свои песни, иногда самые новые, пели во время неоднократных дружеских встреч. Свидетельств общения сохранилось немного, но мы приведем их, чтобы показать что взаимоотношения Михаила Анчарова с Булатом Окуджавой, Александром Галичем, Владимиром Высоцким, Юрием Визбором, Александром Городницким, Адой Якушевой и другими бардами были вполне реальными и плодотворными.
В «Анкете автора», которую Анчаров по просьбе архивиста М. Баранова заполнял в 1977 году, он назовет своих любимых бардов, причем в таком порядке: В. Высоцкий, Б. Окуджава, Н. Матвеева, Ю. Ким, Е. Клячкин. Писатель Аркадий Арканов[188] на вечере, посвященном 80-летию Михаила Леонидовича, так говорил о его отношениях с коллегами по цеху:
«…было чрезвычайно уважительное и очень человеческое отношение к коллегам, не было того, что зачастую происходит сегодня между людьми, работающими в одном жанре, когда возникает неприязнь, зависть чужому успеху, и отсюда недалеко и до ненависти, и до всякой гадости, которую могут делать люди друг другу, этого никогда не было. Хотя мне казалось, что Миша тихо где-то, про себя, может быть, внутренне испытывал нечто вроде, знаете, вот такого, даже не переживания, а некой, даже не подберу сейчас слова, некоторой такой затаенной легкой грусти от того, что он старше и Юры (Визбора — авт.), он старше и Кима, он старше многих, кто уже тогда, так сказать, имел публичный большой успех, превосходящий, может быть, даже тот успех, который имел Анчаров. И ему от этого было немножко грустно, но он никогда этого не высказывал».
Александр Костромин в выступлении на одном из вечеров, посвященных памяти Анчарова, высказался о его месте среди бардов. О многом из того, что тогда сказал Александр Николаевич, мы уже говорили ранее, но будет не лишним повторить это в рассказе о взаимоотношениях Михаила Леонидовича с его коллегами-бардами:
«Иногда в воспоминаниях о 60-х бурных годах авторской песни прослеживается мысль, что Михаил Анчаров в те годы шел на равных… и далее перечисляются хорошо известные и дорогие нам имена. Правда состоит в том, что он не шел в те годы на равных, а шел впереди. Он шел впереди как минимум на двадцать лет.
Потому что все, кто начал активно писать песни, все, так или иначе, начали это делать после ХХ съезда, то есть после 1956 года. Не считая ранних визборовских опытов туристских песен, не считая “Студенческой песни” Окуджавы (одной-единственной) — все началось после 1956–1957 годов. Известно, что Михаил Леонидович начал сочинять песни в 1937 году. И дело тут вовсе не в столь раннем начале. Дело в том, что он начал делать это осознанно, сформулировав задачу. В чем была задача?
Михаил Леонидович, тогда Миша, читал, как говорили, не книги, а библиотеки. И попалась ему книжечка Лео Фробениуса[189] о первобытных культурах, и прочитал он в ней слова, что искусство древних народов было преимущественно синкретичным. И слово “синкретизм” поразило его на всю жизнь и он сформулировал, что хочется спеть синкретическую песню. Синкретизм — это очень просто, это автор, исполнитель, театр — все в одном лице, включая даже танцы. Таким образом, первым источником песни Анчаров определил синкретическое искусство древних народов.
В источниках нового вида искусства, которые сформулировал (пока для себя) мальчик, школьник в 1937 году, второй источник — это Александр Степанович Грин. Романтика в чистом виде. В конце тридцатых годов “Алые паруса” Грина еще не были общим местом романтики, каковым они стали в шестидесятые годы. В тридцатые годы, когда книги Грина не переиздавались, он был знаковой фигурой. И первая песня Анчарова была написана на стихи из двух рассказов Александра Грина как раз в 1937 году. Далее — поэзия Веры Инбер и ее ранние стихи, на которые Анчаров написал песни: цыганский романс (“Все забуду, всех покину…”), “Месяц потерял свой блеск в тумане…”, “Быстро-быстро донельзя…”. Позже появились песни на собственные стихи, но автор, видимо, забыл их за ненадобностью, а магнитофонов, увы, не было.
Третий источник — фольклор, народная песня. И. А. Соколова в своей книге об авторской песне[190] в главе “Вначале был Анчаров” так сформулировала основные черты его песенного творчества, которые впоследствии стали основами жанра авторской песни: "раскованность, искренность, правдивость; “романтическая приподнятость” и, одновременно, некоторая “заземленность”; разговорная, просторечная лексика; предельная ясность и законченность в изложении, стремление в простоте искать глубину; словесное остроумие; удлиненность названия — особая строфа в прозе; разговор в песне от лица лирического героя; нестандартность лирического героя; прозаические вставки"».
По году рождения Анчаров и Окуджава почти ровесники (Окуджава родился в 1924 году). Оба в годы творческой деятельности жили в Москве и состояли в одной писательской организации. Несмотря на это, лично близко знакомы они не были. Галина Аграновская вспоминала (Аграновская, 2003):
«Это у нас дома единственный раз сошлись Булат, Миша и Толя (Анатолий Аграновский — авт.). Два раза, по просьбе Булата, Миша спел: “Тихо капает вода, кап-кап… Между пальцами года просочились, вот беда, тихо капает вода…”»
Позднее, в одной из частных бесед, Михаил Леонидович расскажет: «Приходит мой отец и мне прямо с порога сообщает: “Ты все говорил, “Кап-кап” твоя песня, а это Окуджава ее написал”. “Ага, — говорю я — точно, он…”» С годами об этой встрече, состоявшейся не позднее середины шестидесятых, Булат Шавлович, видимо, забыл. На вечере в ЦДРИ 21 апреля 1985 года Булату Шалвовичу в записке из зала был задан вопрос: «Как Вы относитесь к песням Анчарова?» — на который Окуджава ответил:
«Я их не знаю, к сожалению. Я знаю фамилию и знаю его по прозе, а песен я не знаю. Поэтому ничего не могу сказать. Я вообще с этим жанром очень плохо знаком, хотя сам [им] занимаюсь. Ну, так понемножечку, соприкасаюсь…» Такой же ответ дал Окуджава на подобный вопрос, присланный в записке на вечере в ВИНИТИ в 1986 году.
В одном интервью[191], отвечая на вопрос журналиста Е. Типикина: «Значит, все-таки вы были первым?» — Булат Шалвович ответил:
«Я не могу так сказать. До меня, как говорят, был Лермонтов, который пел некоторые свои стихи под гитару. Были Денис Давыдов, Полонский, Вертинский. Это традиция в русской поэзии, не говоря уже о древнерусской. И в наше время до меня были Михаил Анчаров и Юрий Визбор. Мне просто посчастливилось “прошуметь”».
Анчаров о творчестве Окуджавы и о нем самом знал немного больше. Вот как он говорил о значении и песнях Окуджавы (Интервью, 1984):
«Все, что я писал, было не на магнитофоне, а из уст в уста. Окуджава, появившись, оценил возможности и преимущества магнитофона. Он записался, и все пошло, и пошли его песни. Они душевные, они меланхоличные, они сразу завоевали всеобщее расположение. А оставшаяся в живых наша братия говорила мне: “Миша, ну что же ты, ты ведь первый”. Ну что же… Было соблазнительно пойти по линии таких песен, которые уже имеют успех, как у Булата. А успех они имели, мне самому очень нравились, во всяком случае тогда. Потом нащупал наконец свое. Через годок начали приходить собственные темы. И пошла полоса вот этих песен, если вы с ними знакомы: “МАЗ” — это было где-то в начале 60-х…»
Впрочем, наизусть песни Окуджавы Анчаров не помнил, но отчетливо понимал различия своего и Окуджавы песенного творчества. И знакомство с Окуджавой также не отложилось в его памяти. На своем последнем публичном выступлении в московском ДК «Металлург» 21 мая 1981 года Анчаров, отвечая на вопрос из зала: «Ваше отношение к Окуджаве, Вертинскому. Исполняли ли вы им свои песни?» пространно ответил:
«Нет. Я им песни свои не исполнял, потому что я ни с кем из них не был знаком. И сейчас с Окуджавой не знаком. Как-то так вот получилось, что совершенно на таких параллельных курсах идем. <…>
Это разные совершенно люди, сами понимаете… Это разные люди, разные дарования, разные направления. Странно, что просто мне в голову не приходило, автор записки объединил их под одним крылом, что ли, ну, не знаю, может быть, в обоих есть немножко такое петербуржское… такое вот начало, ленинградское, скажем так. Вот. Печальное какое-то такое, вот. Но это мне не свойственно. Я немножко… знаете, я не агрессивный, но я в обороне жесткий. Вот. Потому… так сказать… по-другому как-то пишу. Трудно со своей колокольни… судить о творчестве другого поэта. <…>
Я очень люблю слушать Окуджаву, очень. Печаль какая-то охватывает, грусть и так далее. Значит, действительно здорово! У него есть прекрасные вещи… там… “виноградное семечко” вот это вот (смех в зале) и так далее, вот. Простите, зернышко, да (смех еще дружнее). Ну, не важно. Дело же не в оговорке, это, действительно, прекрасная песня. Вот, понимаете, значит… Я люблю слушать, но я бы… не знаю, никакими силами меня не заставили бы это написать, потому что мне это не дано. Я просто это не могу. Без всякого кокетства. Мне это не дано. Я не умею вот так вот печалиться тихо. Я начинаю печалиться тихо, потом я зверею (дружный смех). Понимаете… если я печалюсь за кого-то… За себя там я могу ныть сколько угодно. Но мне кажется, что искусство… это кстати, к Окуджаве не относится совершенно, потому что там именно искусство, это, действительно, серьезное большое искусство… Но бывает, что человек думает так: дай-ка я изложу неприятные происшествия, которые со мной приключились, и будет хорошо. Хорошо не будет, искусство — не жалобная книга, понимаете? Не жалобная книга. Можно писать любые трагические вещи, но только, когда ты их преодолел, когда тебе есть сказать нечто большее, чем просто описание твоих неприятностей, понимаете? Вот. Ну, а моя натура такая, долго я могу ныть — ныть, страдать там, понимаете… <…>
Я предпочитаю поделиться, когда мне хорошо; я, значит, могу разделить с друзьями радость. А то, мне самому худо, да я еще и друзей на это повешу? Отлежусь как-нибудь. Вот. Ну, и отсюда, так сказать, совершенно другое направление. Понимаете? Потому что я могу там ныть сколько угодно, но когда накатывает песня, даже печальная, даже трагические какие-то вещи, когда накатывает песня изнутри, тогда-то я начинаю по дороге, понимаете ли, сопротивляться, и эта песня о сопротивлении тому, о чем написано. Вот это, просто такая… разные характеры. И чем больше разных характеров, тем лучше, господи. Сами понимаете, подохли бы со скуки, если б все одинаковые были (аплодисменты)».
Накануне вечера в ДК «Металлург», на встрече с его организаторами, Анчаров сказал примерно об этом же более кратко (записал И. В. Кобаидзе): «Есть разница между нами, то есть не между нами, а между двумя направлениями в авторской песне: одно — просит, другое — требует. Я, например, начинаю печалиться тихо, а потом зверею».
Кроме близких возрастных и биографических данных (участие в Отечественной войне, членство в партии и в Союзе писателей) некоторые пересечения Анчарова и Окуджавы можно обнаружить и в географии их творчества. Семен Гудзенко когда-то написал, что «У каждого поэта есть провинция. / Она ему ошибки и грехи, / все мелкие обиды и провинности / прощает за правдивые стихи». Мы знаем, что оба воспевали Москву: Булат Окуджава — Арбат, а Михаил Анчаров — окраинную часть Москвы, находящуюся около Измайлова, — Благушу.
Еще одно пересечение: у Окуджавы есть «Песенка о Барабанном переулке», в которой поется, что «В Барабанном переулке барабанщики живут…» Реальный переулок с таким названием в Москве находится прямо по соседству с родным Анчарову Мажоровым переулком, то есть именно на Благуше. Окуджава, конечно, реальный переулок в виду не имел: как мы уже писали, несколько переулков этого района сохранили названия, связанные с размещавшимися там когда-то казармами музыкантской роты Семеновского полка, отсюда и «барабанщики живут». Так что песня Окуджавы, как мог сказать бы Анчаров, не совсем о Барабанном переулке, вернее, совсем не о нем, но все-таки и о нем тоже.
Еще одно анчаровское упоминание Окуджавы, относящееся к середине 60-х годов, имеется в воспоминаниях Валентина Лившица (Лившиц, 2008):
«…В доме Ирины Петровской сидит компания, которая обычно была. Что-то выпиваем, что-то едим, Анчаров задумчивый. Все говорят: “Миша, ты чего?” Он говорит: “Ехал я тут в электричке…” Где, в электричке? Какая электричка? Анчаров и электричка — это два диаметрально противоположных явления… И вдруг Анчаров говорит: “Ехал я в электричке, слыхал частушку. Народ поет…” Все затихли. Анчаров говорит: “Ах ты, Муромец Илья — житель Карачарова. Раньше пели Окуджаву, а теперь — Анчарова”. Народ замолчал. Я говорю: “Миша, ну скажи, что ты это сам придумал”. Анчаров: “Да, нет. Народ поет”. Конечно, это он придумал сам…»
Небольшой штрих по части отношения Анчарова к Окуджаве недавно был обнаружен в записях барда Сергея Стёркина[193]. На выступлении в Минске в 1978 году после исполнения своей пародии на Окуджаву Стёркин рассказал слушателям следующее:
«Из-за этой пародии у меня был большой-большой скандал с Анчаровым. Ну вы знаете, кто это такой. Он в “Юности” печатался, пишет песни, неплохие, кстати сказать, песни. Мы выступали вместе, какой-то альманах был в одном доме культуры, я после него выступал и спел эту пародию. А потом мы все куда-то поехали, какая-то пьянка была грандиозная после этого дела… И там Анчаров мне долго и упорно: “Как вы смеете? Да Окуджаве вы все в подметки не годитесь!..” И страшно на меня обиделся. После, когда его куда-то приглашают выступать, он спрашивает: “А Стёркин там будет? Ах будет, тогда я не поеду…”»
Из этой истории понятно, что, хотя Анчаров к Окуджаве относился немного ревниво, но, безусловно, понимал, что уровень его поэзии значительно выше сочинений молодых бардов тех лет, и таким образом пытался просто защитить Окуджаву от малодостойных, как он считал, напевов.
В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов прошлого века авторская песня (тогда она так, конечно, не называлась) только робко выходила на сцены студенческих клубов и домов культуры и звучала главным образом на домашних дружеских вечерах и встречах. Вот свидетельство драматурга Михаила Львовского (того самого Львовского, который написал слова к песне «Глобус») о репертуаре того времени Александра Галича[194]:
«…Я вспоминаю огромное количество вечеров, которые провели его поклонники и друзья, столпившиеся вокруг рояля, за которым он сидел. Да, начинал он не с гитары, а скажем так, с вполне “салонного” фортепьяно… Его сразу же начинали упрашивать спеть что-либо. А он всегда соглашался. Что же он пел, аккомпанируя себе на рояле?
Быстро-быстро донельзя
Дни бегут, как часы.
Лягут синие рельсы
От Москвы на Чжан-Цзы…»
О конце этого «догитарного» периода песенного творчества Галича неоднократно в личных беседах рассказывал сам Михаил Леонидович. Такой рассказ записал по памяти один из авторов этой книги:
«“А знаете, как Саша Галич начал писать песни?” — как-то спросил он. После отрицательного ответа он рассказал: “В начале 60-х годов я был по “киношным” делам в Ленинграде. В одной гостинице со мной остановился Саша Галич, приехавший по таким же делам. Вечером он пригласил меня в гости к одной своей знакомой. Там был накрыт стол, мы немного выпили, и Саша, сев к роялю, стал петь какие-то салонные романсы. Я был с гитарой и, когда попросили спеть меня, исполнил несколько своих песен. Реакция дамы была, однозначно, в мою пользу, поскольку было сказано, что Сашино пение скучно и неинтересно. Мне кажется, что это его сильно задело. Позже, когда мы вернулись в Москву, я позвонил ему домой, а его жена Нюша (Ангелина Николаевна — авт.) мне говорит: “Мой-то бросил пить, достал гитару, сидит песни сочиняет…”»
Эту историю Михаил Леонидович повторял в разные годы неоднократно и рассказывал ее разным своим собеседникам. Запомнил ее и приводит в своих воспоминаниях, правда, с другими деталями, и Валентин Лившиц, который завершает пересказ таким эпизодом:
«…жена Галича сказала впоследствии Мише, что Галич, приехав из Ленинграда, полез на антресоль за старой гитарой, при этом он сказал следующую фразу: “Если Анчаров может! Я тоже могу!!”»
Александр Мирзаян, вспоминая о своем посещении Галича в 1974 году, приводит любопытное свидетельство Ангелины Николаевны о начале его песенного пути[195]:
«…это уже было, наверное, второе мое посещение его или третье. И пришли какие-то люди по делам. И она мне сказала: “Сашенька, пойдемте, чаю попьем”. И она мне стала говорить: “Это все Миша его подбил на это. Все Миша Анчаров. Он же начал писать с подачи анчаровской…”»
Еще одно свидетельство принадлежит журналисту и писателю А. С. Макарову в его неопубликованных воспоминаниях, написанных в 1990 году для выпуска газеты «Менестрель»[196], посвященного памяти М. Л. Анчарова:
«В шестьдесят пятом году за круглым столом “Недели” собрались мастера авторской песни, в прямом смысле отцы жанра и живые его классики, — так вот, Александр Аркадьевич Галич откровенно признался тогда, что к сочинению собственных баллад его подтолкнул успех Анчарова-барда. Успех давний, не осознанный самим поэтом, случившийся, так надо полагать, в самом что ни на есть узком богемно-приятельском кругу».
Знакомство Анчарова и Галича состоялось, видимо, в доме Аграновских в начале 1960-х годов. Галина Аграновская в своих воспоминаниях пишет (Аграновская, 2003):
«Сейчас многие пытаются (будут пытаться и впредь) проследить развитие этого жанра — авторской песни. Кто от кого пошел? Кто раньше начал? Мне кажется, нет тут спора. Хронологию не проследишь. Предтеча — жизнь. Она не скупилась на темы…
И все же свидетельствую: Толя спел Саше (Галичу — авт.) песню Анчарова, которая называлась длинно (почти у всех песен Анчарова длинные названия) — “Песня про пограничника, который в больнице имени Ганнушкина не отдавал санитарам свою пограничную фуражку”. Саша восхитился, попросил спеть еще раз. И много времени спустя у нас дома мы услышали его новую песню: “Право на отдых, или Баллада о том, как я навещал своего старшего брата, находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах”».
Уже в восьмидесятые годы в личной беседе с И. А. Резголем и одним из авторов этой книги на вопрос, какие песни Александра Аркадьевича ему особенно запомнились, Анчаров ответил, что ему очень нравится песня про шофера и начальника, попавших в больницу после аварии, и поинтересовался, не знаем ли мы ее текст полностью. Перед очередной нашей встречей мы распечатали текст «Больничной цыганочки» на машинке и прочли его Михаилу Леонидовичу вслух (в то время он уже плохо видел).
Сохранилась домашняя запись, на которой Галич поет запомнившуюся Михаилу Леонидовичу «Больничную цыганочку», несколько других своих песен, а также песню «Про маляров, истопника и теорию относительности». Анчаров при этом присутствовал, и они с Галичем пели свои песни друг за другом, чередуясь с Анатолием Аграновским — хозяином дома, в котором велась запись. Стоит отметить, что песня «Про истопника…» была исполнена тогда впервые (об этом говорит сам А. Галич) и не имела еще своего полного, удлиненного (в «анчаровском» стиле) названия. Эта песня стала настолько популярна, что даже Анчаров, редко исполнявший песни других авторов, включал ее в репертуар своих домашних концертов.
Татьяна Злобина рассказывала об их встречах в квартире Ирины Петровской:
«Вместе с Анчаровым мы ездили за Галичем и [Анчарова] запускали, чтобы, не дай бог, [Ангелина Николаевна] не увидела женские рожи, молодые, по сравнению с ней. Вот мы запускали туда Мишу Анчарова с кем-нибудь из мужиков, так сказать, чтобы была возможность вырваться Александру Аркадьевичу, так сказать, из ее цепких ручек. И нам это пару раз удавалось, в общем-то, когда мы слушали Галича, Анчаров не очень при нем пел, тут уже Галич занимал площадку. Вообще пробиться, когда Галич занимал площадку, было кому-то трудно. А мы, открывши “варежки”, только слушали, чтобы никто не мешал и никто не встрял».
Завершая тему «Галич и Анчаров», можно с некоторой долей вероятности предположить, что события, о которых вспоминал Анчаров, последовали уже после сочинения «Леночки» — первой «авторской» песни Александра Галича, а встреча с Михаилом Леонидовичем в Ленинграде лишь показала ему кратчайший путь, подсказала ему форму и способ для реализации его песенных замыслов.
Знакомство Анчарова и Визбора, как вспоминает В. А. Лившиц, произошло в доме уже упоминавшейся Ирины Петровской, любительницы горных лыж и яхтсменки, предположительно в начале 60-х годов. Из тех же лет история одной из их встреч, замечательно рассказанная Львом Александровичем Аннинским[197]:
«… Встречался (Анчаров — авт.) и с Визбором. Я был свидетелем одной из таких встреч. В типично московскую квартиру (кажется, это состязание бардов устроил у себя телекомментатор Любовцев) набилось человек тридцать. Домашнее угощение не предусматривалось: каждый принес то, что счел нужным. Не лишенный юмора хозяин устроил из принесенного выставку: поставил шеренгой дюжину бутылок коньяка, а на пробку последней водрузил маленький мандаринчик — единственную закуску. Я описываю этот врезавшийся мне в память натюрморт, потому что он кажется мне характерным для эпохи 60-х годов с ее “кухонными сидениями”: это не было пиршество, не потому, что нечего было купить к столу (как раз тогда — было): но собрались не за тем; даже и бутылки, боюсь, были не все выпиты, хотя сидение было рассчитано на всю ночь. Всю ночь я не выдержал, но первую половину состязания прослушал.
Анчаров и Визбор сидели друг против друга с гитарами в руках. Стол был пуст (даже магнитофона не припомню), а кругом плотным кольцом сидели, стояли и, по-моему, лежали на полу слушатели. Визбор как младший — начал. Спел три песни и почтительно умолк. Анчаров выдержал маленькую паузу, и тоже спел три песни, и тоже замолк, вежливо склонив голову. Меня почему-то тронула именно эта взаимная щепетильность. Песни-то я и так все знал, песни были не внове; интересна была — обстановка. И поведение — вот это подчеркнутое уступание места. Почти претенциозная учтивость.
А контраст фигур был поразительно ярок. Контраст манеры петь. Контраст всего. Живой, рыжий, светящийся, весь какой-то “пушистый” Визбор и Анчаров — сдержанный, приторможенный, корректный, как бы застегнутый на все пуговицы. Не помню, как он был одет, ощущение такое, словно он в протокольном черном костюме.
Он был не просто красавец. Он был, если можно так выразиться, концертный красавец: правильные черты лица, гладко зачесанные блестящие черные волосы, спокойная прямая осанка; фрак “просился” к его фигуре, человек с такой внешностью был бы хорош и как дипломат на приеме, и как иллюзионист на арене, и как… резидент в “стане врага”».
Судя по сохранившимся записям, Юрий Иосифович, знавший и певший в те годы вместе со своими сочинениями песни многих авторов, хорошо знал и неповторимо исполнял песни Михаила Леонидовича. В частности, «Тяжело ли, строго ли…», «Цыгана Машу», «Быстро-быстро донельзя…», «Мещанский вальс».
Их общение в 60-х годах проходило и в ставшей теперь знаменитой комнате Визбора в доме на углу Неглинной и Кузнецкого Моста, в которой он тогда жил вместе с Адой Якушевой[198]. В своих воспоминаниях она пишет[199]:
«В нашей комнате во всю стену висела карта Союза, и каждый вновь приходивший к нам оставлял на ней автограф. <…> На этой карте расписались Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, Василий Аксенов и Лев Аннинский, Валентин Никулин и Вениамин Смехов. Ну, а про бардов и говорить не приходится. На Неглинке бывали Булат Окуджава, Михаил Анчаров, Александр Городницкий…»
Ленинградец Валерий Сачковский (подробнее о нем далее) вспоминал, что именно благодаря Юрию Визбору, позвонившему Михаилу Леонидовичу и пригласившему его прийти попеть, он смог в Москве записать на свой магнитофон песни Анчарова в его исполнении.
В конце шестидесятых годов Анчаров и Визбор стали соседями по кооперативному дому 31/22 на углу Садовой и нынешней Малой Дмитровки. По свидетельству многих, они часто ходили в гости друг к другу. Писатель Аркадий Арканов, живший в том же доме, рассказывал:
«Но вот что касается взаимоотношений с Юрой, то он пел и Юрины песни с такой же охотой, но при этом говорил: у Юрки это лучше получается. Юрка приходил часто к нам туда, к Мише, и тогда он просил Юру, чтобы тот исполнил свои песни, что, кстати сказать, Юра и делал. Но действительно, никакого такого соревнования в смысле сбора успеха и аплодисментов, не было замечено с моей стороны ни у того, ни у другого, абсолютно достойно и прекрасно они исполняли там пару, две-три песенки, о чем-то мы говорили, что-то выпивали, а потом, допустим, после Юры пел две-три песенки Миша, потом мы опять о чем-то говорили, какие-то рассказывали байки, что-то вспоминали. Кстати, Кима песни пели, и Миша их очень любил, и тоже однажды исполнили одну знаменитую песню Кима, а потом он сказал: Ты знаешь, Аркан, у Юрки это лучше получается, кимовская песня…»
Через несколько лет Визбор сменил адрес и переехал жить в другой дом, а в сентябре 1984 года его не стало. Вот что, относящееся к истории их соседства, рассказал в 1987 году Михаил Леонидович:
«Визбор умер, и вскоре на собрании нашего кооператива стали делить его квартиру: там кому-то надо расшириться, кому-то еще что-то. Ко мне пришли и рассказали, что Юркиной дочери негде жить. Я тогда выступил на этом собрании, как пошли разговоры о дележе, и говорю: “На войне за такие дела к стенке ставили. Это ж как с мертвого сапоги стаскивать. Это ж мародерством называется”. Они сразу притихли…»
Подробнее об этом же рассказывала Татьяна Юрьевна Визбор в выступлении на «Анчаровских чтениях — 2016»:
«Когда папа со своей женой актрисой Женей Ураловой получили трехкомнатную квартиру в этом доме, они временно взяли меня жить к себе в семью, потому что мама жила в однокомнатной квартире со своим мужем Максимом Кусургашевым, другом моего отца, его сокурсником и однокашником. Квартира на пятом этаже “хрущобы” была малюсенькая — четырехметровая кухня, четырнадцатиметровая комната. И в этой комнате были одни кровати — мамина с Максимом, моя, потом родился мой брат Максимка, сестра Даша, а потом еще жил с нами старший сын Максима, который спал на рояле “Беккер”, потому что стелить ему было больше некуда. А уроки я делала или на балконе (у меня все время промокашки улетали), или на крышке рояля. Но кто бы мне сказал тогда, что я плохо живу? И при этом дом был более чем гостеприимным — к нам приезжали и приходили Евгений Клячкин, Александр Городницкий, Юрий Кукин, Геннадий Шпаликов заходил и оставался у нас ночевать на кухне, Игорь Михалев и многие другие.
Еще раз скажу, что кто бы мне сказал, что я плохо живу, но родители решили, что мне будет лучше пожить с отцом в нормальных условиях. <…> Жили мы всегда не очень легко, и когда отец после развода с Женей остался на улице Чехова в однокомнатной квартире, он, естественно, хотел прописать меня там, чтобы она была и моей тоже. Отец пытался добиться аудиенции у Промыслова. Помните, кто такой был Промыслов? Это был такой типа мэр, они все любят называться председателями, наверное, какой-нибудь председатель Москвы, председатель Моссовета, я забыла его титул. Но отец ничего не добился, вернее, ему было отказано, потому что мы были разнополые существа, а у нас, по тогдашнему законодательству, отец и совершеннолетняя дочь не могли существовать в однокомнатной квартире… У нас тогда не наследовались квартиры, и мое дело было одним из первых, когда это стало меняться. <…> По правилам, всегда, когда освобождалась квартира по той или иной причине, — человек уезжал, умирал, или что-то еще с ним случалось, то квартира переходила в кооператив, и они решали на общем собрании, кому она будет принадлежать. То есть она не наследовалась, никакие родственники, дети, сироты, никто не входил в это число. Она отдавалась, а на очереди стояли в этом же кооперативе люди, которым хотелось, например, разъехаться или отселить ребенка, и они получали эту квартиру. Это потом я все узнавала, потому что мне в то время было абсолютно плевать на все эти квартиры, я отца потеряла… А ситуацию, на самом деле, решил Михаил Леонидович, как человек абсолютно непреклонного авторитета, фронтовик, он применил этот образ. Он одним из первых выступил на этом собрании и сказал: “Я считаю, если мы будем выкидывать наших детей на улицу, это все равно, что во время войны снять с убитого товарища сапоги, то есть это я приравниваю к мародерству”. После этого выступления проблема была решена. Потом еще выступили и Арканов, и Каневский, и Лямпе — мне потом рассказывали… Но несомненно то, что в моей жизни Михаил Леонидович сыграл абсолютно человеческую роль, при этом не будучи ближайшим другом отца. Я только знаю, что он очень трогательно относился к маме (Ариадне Якушевой — авт.). Вообще очень многие мужчины-поэты относились к отцу хорошо из-за того, что у него жена была поэт. Юрий Ряшенцев считал, что “Адка-то значительно интереснее писала”. Михаил Леонидович, между прочим, считал то же самое, что бесконечно приятно».
Одна из запомнившихся встреч Анчарова с Адой Якушевой состоялась в его квартире в Лаврушинском переулке. В 1963–1964 годах Якушева руководила вокальным ансамблем МАИ «Надежда», участником которого был Валентин Лившиц, как мы знаем, друживший с Михаилом Леонидовичем и живший в соседней квартире. Валентин Лившиц рассказывает про то, как проходила эта встреча:
«За столом мы были втроем. Пели Миша с Адой по очереди. Я тихо млел. Потом Миша спел “Кап-кап”. Ада сказала: “Миша, это же женская песня. Можно я ее спою?” Взяла гитару. Мы с Анчаровым наперебой подсказывали слова. Пела Ада так, как только она умела петь, чуть мяукая, так здорово. Действительно стало сразу понятно, что песня женская. Класс ее не пропал, просто песня получила дополнительные очки. Анчаров был в полном восторге (про меня и говорить нечего). Но все в этой жизни кончается. Кончился и этот вечер. На завтра Миша дал мне листок бумаги, с напечатанным текстом песни “Кап-кап” и какими то очень трогательными словами, посвященными Аде. На следующей репетиции я передал его Аде».
Сохранилась запись, на которой песню А. Якушевой «Я шагаю дорогой длинной…» Михаил Леонидович поет в присутствии автора и говорит после исполнения: «Вот такая песня. Блестящая, по-моему!..» В интервью «Великая демократизация искусства» он рассказывал об этом так (Интервью, 1984):
«…Однажды в одной компании оказались Ада Якушева и я. Я ведь со всеми знаком только шапочно, да я и старше. Я ей сказал, что мне нравится одна ее песня. Она ее спела. Я сказал: “А знаете, как эту песню можно по-мужски спеть?” — И эту же самую песню спел на свой манер — настырно, агрессивно. Получилась мужская песня. Она очень смеялась. Но некоторые ее песни спеть так было нельзя, мне не удавалось. Они очень трогательные были, по-женски. Хорошая поэтесса…»
И еще несколько слов Михаила Леонидовича из беседы 1987 года о Ю. Визборе:
«Юрку Визбора я знал совсем молодым, а вот недавно на магнитофоне услышал запись одной из последних его песен, которая меня потрясла. Я “вкатал” ее в свой роман “Стройность”. Кажется, она Визбором недоделана, и кто-то дописал последние строфы[200]. А начало Юркино: “А функция заката такова: / Печаля нас, возвысить наши души. / Спокойствия природы не нарушив, / Переиначить мысли и слова…”»
Об истории знакомства Анчарова и Высоцкого рассказывает Людмила Владимировна Абрамова-Высоцкая[201]:
«В самом конце зимы шестьдесят пятого года Любимов в Таганском театре начал подготовку к спектаклю об участии интеллигенции, литераторов, поэтов в Отечественной войне. Ему хотелось, чтобы эта поэтическая композиция была достаточно широко представлена малознакомыми публике, новыми для публики именами, образами, голосами. И он искал стихи и песни о войне, где только мог. И на встрече с теми людьми, которых ему удавалось затащить в Таганку… Еще композиция была не готова. Еще он только нащупывал какие-то тексты, какие-то ходы. И каждый раз, когда кто-то приходил прочитать или спеть, собирались актеры из труппы.
И вот один раз, у Любимова в кабинете, собрались, чтобы послушать нескольких исполнителей. Галича самого не было, но кто-то его песни исполнял. Я не могу сейчас вспомнить кто. И мы с Володей пришли. Кто-то исполнял песни Галича, кто-то… может даже Булат Шалвович был, не помню, боюсь соврать, но был Миша Анчаров.
Конечно, мы с Володей знали некоторые его песни, конечно, в детские годы в школе орали его гриновскую песенку: “…с первым ветром проснется компас”, конечно, постарше [пели] его: “…лягут синие рельсы…”, знали и “Балалаечку свою…”, но увидеть первый раз Мишу Анчарова, я думаю, это было так же значительно, как для тех, кто впервые в жизни видел Высоцкого, когда уже Высоцкий исполнял “Баньку” и “Охоту на волков”.
А тогда был шестьдесят пятый год. Володя только полсезона проработал в Таганке, и еще не было ни “Баньки”, ни “Охоты на волков”. Таганка ведь начиналась с Брехта, с брехтовских зонгов. В Таганке пели и читали стихи. Володя был еще очень молод, и не то чтобы он сознательно искал, какой должна быть песня, что он сам ждет от поэзии, от самого себя, но все-таки это были годы ученичества.
Он был очень внимателен ко всем, кто пел, и прислушивался ко всему, но когда запел Миша — это вот потрясение, буквально с первого звука голоса, с первого жеста приподнятой головы и снизу вверх закрытых век… По-моему, первую песню Миша спел — “Безногий вальс”[202], потом “Губы девушка мажет в первом ряду…”, ну и потом, конечно, “…Гошка летит, благушинский атаман…”, и даже “Органиста” он тогда спел.
Мы были потрясены, как все, которые Мишу видели. Прошла длинная жизнь, длинная жизнь, полная сильных впечатлений. Я ведь много кого видела, как поют. Я видела, как поет Вертинский, я много раз видела, как поет Володя, я видела, как рождаются [его] песни, но я знаю, что все люди, которые видели Мишу, помнят это как ожог, как взрыв, всегда! Я больше не встречала таких людей.
Было время, когда о Володе очень злые статьи появились: “О чем поет Высоцкий?”[203] Как раз в это время его пригласили выступить в Доме ученых и спеть что-нибудь. Пригласили до статей, конечно, но приглашения не отменили. И Володя знал, что там должен был быть Миша, на этом же вечере должен был петь Миша. И хотя, конечно, ощущение оскорбления от этих статей было очень сильным, но все-таки Володя решил пойти туда. И даже не для того чтобы петь, а для того чтобы послушать, как будет петь Миша.
Мы поехали после спектакля. Был какой-то из коротких спектаклей, очень может быть даже, что “Пугачев”. Боюсь соврать. Мы приехали, когда концерт уже частично прошел. Они там сидели в большом буфете, возле красивой стеклянной стены Дома ученых. Когда мы пришли, то сразу увидели, что Миша сидит за столиком, подошли к нему, он держал для нас место, и оказалось, что он уже спел. Мы сели за столик. Володя сказал, что он петь не будет, что он устал на спектакле. Мы просто сидели и говорили. Я думаю, что Миша читал эти статьи или слышал, по крайней мере, [знал] про всю их грязь и брань.
Ведь он был старше Володи. Знаете, это было совершенно незаметно. Эти пятнадцать лет — это было незаметно. Вы понимаете, что это — пятнадцать лет? Это не просто, что Миша вернулся с войны, когда Володя пошел в первый класс. Дело не в этом. Это другое поколение. Это совершенно было незаметно. Я даже думаю, что мы с Володей никогда не думали о том, насколько Миша старше и вообще старше ли он. Надо было его видеть. Он был страшно молодым человеком. Но все-таки это было другое поколение. Он был старше и опытней.
Он не стал говорить, Володя, не обращай внимания, мол, дурак написал, дурак, подлец опубликовал. Об этом не было ни слова. Он просто начал разбирать ту песню, которую он очень любил. Он несколько Володиных песен любил, и в том числе особенно “Нейтральную полосу”. Но вот из старых ему особенно нравилась “Их было восемь”[204]. Он разбирал несколько строчек, как они построены, что в них особенно ценно. Самая лучшая строка: “Ударил первым я тогда — так было надо…” И вот вообще отношения — восемь, двое. Он говорил, что это по-настоящему мужественная песня. Потому что в статье говорилось, что Высоцкий пишет блатные песни. Так мы сидели. Тут еще кто-то стал подлетать к Володе с бокалами, фужерами и стаканами, а Володя в это время не пил совсем. И он сказал: “Я не пью, я не буду пить”. А вот эта настойчивая публика, которой непременно хотелось не просто выпить, но поднести выпить Высоцкому, она не отходила, и Миша поставил локоть на край стола. Володю спросили: “Почему же вы не пьете, Владимир Семенович? Почему, почему?” Миша поставил локоть на край стола и сказал: “Это его хобби!” Мишин такой вот взгляд сбоку и голос — это действовало как ветер, как солнечный ветер — их отнесло.
Потом мы вышли, поймали такси и поехали домой. Поздно уже было, довольно поздно. Был спектакль, и Володя был очень усталым, настолько усталым, что, ложась, он не мог расстегнуть пуговицы на рубашке. А рубашка такая крахмальная, и он не мог расстегнуть эти пуговицы. Я говорю: “Дай я расстегну, Володичка”. Он: “Нет, я так” и лег на спину. И я лежу и боюсь, потому что я чувствую, что ему плохо. Я кошу глазом и вижу, как у него над сердцем вот эта крахмальная рубашка нерасcтегнутая вот так вот ходуном ходит. Потом он встал, не зажигая света, потому что у нас очень яркий фонарь качался под окошком. Он только отодвинул штору и, не зажигая света, сел за стол. И я почти сразу заснула. Я увидела, что он пишет, значит, хорошо, значит, все в порядке. Очень скоро он меня разбудил и с гитарой, но вот только не в голос, а у него была такая манера — когда надо было тихо, он просто пальцами лады перебирал, а струн не трогал. То есть ему было понятно, он уже музыку слышал, а я слышала только его голос. И он показал мне этот текст, как бы несколько первых строчек он так шепотом спел, а потом показал текст:
Их восемь — нас двое, — расклад перед боем Не наш, но мы будем играть!
Сережа, держись! Нам не светит с тобою, Но козыри надо равнять.
Вот ту старую песню, о которой говорил Миша: “Иду с дружком, гляжу — стоят, — / Они стояли молча в ряд, / Они стояли молча в ряд — / Их было восемь” — вот эту песню Миша разбирал. И как продолжение этой песни, как благодарность Мише, который сумел помочь, встать рядом, поддержать, не то что не унизить, смешно об этом говорить, но как-то, наоборот, поднять. Это замечательная песня. Замечательная песня:
Я знаю — другие сведут с ними счеты,
Но, по облакам скользя,
Взлетят наши души, как два самолета,
Ведь им друг без друга нельзя.
Архангел нам скажет: “В раю будет туго!”
Но только ворота — щелк… [В. Высоцкий]
…И сказал Господь: “Эй, ключари,
Отворите ворота в Сад!..” [М. Анчаров]
Вот, эти души, как два самолета, они мне были дороги, страшно, безгранично. Эта песня, посвященная старшему другу и почти учителю. Дело не в том, что когда, скажем, Володя услышал [анчаровскую] “Цыганочку”, он написал: “А клены длинные росли — / Считались колокольнями…”, хотя это, конечно, ученическое упражнение на Мишину тему. Дело даже не в том, что через много лет он напишет свои “МАЗы”, которые, конечно, тоже диалог.
Они не очень часто друг другу пели. Я подозреваю, что я знаю почему. То есть было что петь друг другу и хорошо петь, но я знаю, почему не слишком часто. Я думаю, что прежде всего Володя боялся очень сильного влияния. Он, конечно, никогда бы не стал подражать, но шоковое впечатление, которое Анчаров мог производить на людей, тем более на впечатлительных, на полюбивших людей — его надо было беречь.
Потом мне хочется вспомнить еще, когда уже и Володи не было, когда уже я работала в музее. Рассматривая Володины фильмы, вглядываясь в его актерскую работу в кинокартинах, в заснятое, к сожалению, очень малое количество его театральных ролей, в Доне Гуане, в пушкинском тексте я ловлю какие-то интонации, которые даже вот голосом, тональностью напоминают Мишин голос.
Я очень редко об Анчарове говорю, потому что я очень боюсь, что это будет непонятно. Его мало знают. Он не гнался за успехом. Он был беспредельно не тщеславен. И очень демократичен, как автор, как поэт. Его песни очень демократичны. Но сам он был — элита из элит. Он был аристократ в самом высоком смысле этого слова. Но все помнят, кто его видел, как он был красив. Но я скажу — это не то, красив — это не то слово. Не тот уровень и не то качество. Он был прекрасен. И все, что он делал, — это был Миша Анчаров».
Анчаров тоже вспоминал о том, как произошло его знакомство с Владимиром Семеновичем[205]:
«…Однажды мне принесли пленку с записью одного московского менестреля. Меня поразили и голос, и эмоциональная напряженность, и манера исполнения: чувствовалась талантливая рука. Я спросил, кто это парень? Мне сказали — Владимир Высоцкий. Тогда он только начинал петь… А потом мы встретились с ним в московском Доме ученых на каком-то учено-артистическом мероприятии с участием, как это теперь принято говорить, “интересных людей” (твою мать! Как будто бы есть неинтересные!). Он сидел в другом конце зала, ему кто-то что-то сказал на ухо и кивнул на меня: вон тот, мол. Владимир тут же подошел ко мне — за спиной гитара, на лице сдержанная улыбка: “Так это вы и есть Анчаров?” Я говорю — ага. “Тот самый?” Тот самый. “А я, — говорит, — на ваших песнях учился, я их давно знаю и пою, могу хоть сейчас спеть”. Петь, говорю, не надо, а то нас выставят из Дома ученых — у вас ведь голос ого какой!.. Весь вечер мы проговорили с ним о песнях. Много спорили, что-то доказывали друг другу… Он был настоящим мастером и все, что касалось песен, понимал с полуслова, его ничему не надо было учить — это вздор! — ему достаточно было сказать, что у него хорошо получается, а всё остальное он понимал сам. Это свойство больших художников. Потом, спустя некоторое время я слушал пленку с записью его концерта, на котором он спел мою песню о водителе МАЗа, о таком разбитном, видавшим виды парне (она была тогда очень популярна), при этом он все-таки вставил — эдак многозначительно, — что поет песню своего учителя Михаила Анчарова. А мне и тогда, уже, ей-богу, было неловко это слышать, потому, что он был самородком, самостоятельно родившимся мастером…»
К сожалению, упомянутая здесь запись исполнения В. Высоцким песни «МАЗ» не сохранилась. Несомненно, однако, Высоцкий эту песню знал. Об этом свидетельствует стихотворный набросок Высоцкого (который мы уже цитировали выше): «Машины идут, вот еще пронеслась — / Все к цели конечной и четкой, — / Быть может, из песни Анчарова — “МАЗ”, / Груженный каспийской селедкой»[206].
Одну из песен Высоцкого пел и Анчаров. Речь о «Песне о госпитале» («Жил я с матерью и батей…»). По словам Андрея Крылова[207], в его собрании имелась фонограмма исполнения Анчаровым этой песни, однако эта запись была утрачена, и другая пока не обнаружена. Выбор Анчаровым для исполнения именно «Песни о госпитале», возможно, не случаен, а продиктован близостью ее темы с анчаровской «Песней о низкорослом человеке…». Это отмечает А. В. Кулагин в упоминавшейся статье «Высоцкий слушает Анчарова», где он напишет, что «Песня о госпитале» (1964), герой которой потерял на фронте ногу, вероятно, навеяна созданной ранее песней Анчарова о солдате, тоже лишившемся на фронте ног. Из сохранившихся фонограмм совместных выступлений Анчарова и Высоцкого несомненный интерес представляет запись исполнения песен М. Анчаровым, В. Высоцким, И. Кохановским и Е. Клячкиным, сделанная дома у журналиста Марка Дубровина 26 марта 1965 года. В тот вечер все названные пели поочередно по нескольку раз, возможно, передавая гитару друг другу. Всего тогда Высоцкий спел сорок семь песен, Анчаров — тринадцать, Клячкин — семь и Кохановский — три песни.
Если судить по фонограммам, то следующее совместное выступление Анчарова и Высоцкого состоялось во время большого вечера «Так рождается песня», организованного Олегом Чумаченко[208] в зале Центрального лектория Политехнического музея в Москве 5 апреля 1966 года. Фотография с этого выступления, на которой Анчаров и Высоцкий сидят на сцене рядом, помещена в начале этого раздела.
После кончины Высоцкого в интервью и на выступлениях Михаила Леонидовича неоднократно спрашивали о его отношении к Владимиру Семеновичу и его песням. Вот некоторые из вопросов и ответов на них Анчарова (Интервью, 1984):
«— Воздействовало ли на вас как-нибудь творчество Высоцкого?
— На меня — нет. Просто я был раньше. Я раньше сложился. Но мне он очень нравится.
— А после не было воздействия?
— Нет. Он мне очень нравится, но я не знаю всех его песен…
— Их всего семьсот.
— Тем более. Я не уверен, что все они хороши. Не может быть, чтобы у настоящего поэта было все ровно. С некоторыми песнями я по идеям не согласен. Но это не имеет для данного разговора ни малейшего значения. Это огромного дарования человек. А когда появляется поэтическое явление — в любом искусстве, — я начинаю не подражать, а удирать. Мне нужно свою тропочку отыскивать. И каждый должен делать так. Не то что рационально — а ну как я соригинальничаю и удивлю мир злодейством, — нет, это ерунда. Рационально может быть только одно: если ты поэт, то не имеешь права идти вслед, в колею, и быть похожим.
Потому что если ты похож сознательно (бессознательно тоже бывают такие вещи), то ты и не можешь быть поэтом.
— Понятно, что вы не могли подражать ему.
— Наоборот, я бегал от него.
— Вы ведь были первым.
— Не только поэтому. Дело в том, что бегать надо даже от самого себя. Сделал какую-то вещь, сложилась она, на твой взгляд, ты ей хоть как-то доволен, — следующую вещь делая, ты уже должен от той убегать, а не развивать успех. Иначе будет самоповторение. Потому что в следующий момент ты уже другой, а делаешь вид, что ты прежний. Ты же живешь. Двух мгновений не бывает одинаковых, а тем более двух переживаний, а тем более — выражающих их двух разных песен. Если ты “застолбил”, то ты уже впадаешь в ремесло. Приемчик нащупал — и дуешь. От себя-то бегать приходится в каждой следующей вещи, а уж не убегать от другого — это просто немыслимо, самолюбие не позволяет. Стыдно. Э, брат, это ты не свою песню поешь, чужую… А у Высоцкого талант огромный, особенно в тех песнях, что я слышал».
На выступлении Анчарова в ДК «Металлург» 21 мая 1981 года вопросы о Высоцком, присланные в записках из зала, были зачитаны ведущим и организатором вечера Виталием Акелькиным[209] подряд:
«— Нам кажется, что Владимир Высоцкий в самом начале своего творчества испытал ваше влияние. Что вы думаете об этом и вообще о творчестве Высоцкого?
— Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к его творчеству?
— Не могли бы вы вспомнить о ваших встречах с Высоцким?»
Анчаров ответил на все сразу:
«Во-первых, размеры дарования. Я считаю, что это огромное, гигантское дарование у этого человека было. Даже как-то странно говорить “было”. Оно при нем осталось, вот. Я вообще думаю, что дарования такого размера не умирают, а только рождаются. И думаю, что это не в переносном смысле, а так — чисто делово, практически. Потому что если человек достаточно полно сливается с тем, что он делает, то не просто дело его переживает, а он просто живет, циркулирует, возобновляется, обновляется. То есть с ним происходит то же самое, что с живым существом. Это о размерах дарования.
Теперь… Ну, какие встречи? Встреч много было. Примерно до… Я вам сейчас скажу. Даже не соображу, до какого года. Вот когда он женился — в семидесятом, что ли. И потом как-то нас судьба развела. Потом больше не встречались. Хотя, так сказать, мне передавали его доброе мнение обо мне, ну, я надеюсь, что ему передавали мое доброе мнение о нем.
Ну, какие встречи были? Я тогда довольно часто в Таганке бывал, там несколько песен у меня взяли для спектакля… Как же он назывался? (Ведущий: “Павшие и живые”?) — Да, “Павшие и живые”. Одну песню там пускали в записи просто, со сцены. Только она громкая такая была, вот. Так сказать, не тихая. А вторую Золотухин пел. “Девушка, эй, постой!”, про безногого. Ну и на этой почве познакомились… Там я как-то сразу все понял, что потенции огромны, что надо не мешать ему и раскрывать.
Что касается самого направления, как вам сказать?.. Вот те песни, которые я слышал в те времена, мне нравились. Как нравились? Это я сказал, так сказать, “во первых строках моего письма”, потому что это не просто нравились — это настоящее было. Он одной фразой, понимаете, делал то, что для других потребовалось, понимаете, с десяток фраз. Они страшно емкие. Опять тот же разговорный язык, доведенный… верней, когда слышишь, как из разговорного языка вытащены его поэтические возможности, художественные…
Потом песни. Я настолько отошел от всего этого, что и песен мало уже слышал. Мне говорили, что у него чуть ли не 500 вещей. Вот. Я такого количества, конечно, не знаю, то есть, очевидно, не знаю большинства, потому что за то время было написано, если так в десятках, сотнях, я думаю, с сотню песен было написано, вот. Какие-то отдельные песни я слышал и потом. Вот, например, великолепная совершенно песня про этих вот, про акробатиков, про цирк. (Ведущий: — “Диалог у телевизора”.) Это у телевизора? А-а, ну я думал — в цирке. Ну, неважно. Значит, вот эта пара разговаривает между собой. Ну что вы! Это сделано так, знаете ли, только руками разводишь! Вот. Блистательно сделано! Причем обоих жалко. Понимаете? Вот… Причем… (посмеивается) причем жалко, ну, как вам сказать, даже не столько по общей ситуации, а по той мути, из которой оба они не могут вырваться. Когда там написано… когда там есть такая строчка, если я не ошибаюсь, только не придирайтесь, я оговариваюсь, это не намеренно все, могут просто ошибки… там… “Придешь домой — там ты сидишь”. Знаете, в этом сказано гораздо больше, чем в длинных трудах по бракоразводным процессам, понимаете! (Аплодисменты.) Вот это та потрясающая емкость, понимаете, рука поэтическая… “Приду домой — ты там сидишь…” Ничего не надо объяснять, понимаете? Вот суть происходящего между ними. Она ему свои какие-то разговоры, он свои какие-то… Но дело не в аргументах, а дело в том, что они не знают, что друг с другом делать. Понимаете. Потом прекрасную песню слышал на пластинке. Она такая непритязательная, на первый слух, но это очень глубокая песня, настоящая, крупная песня. Это “Москва — Одесса”. Слушайте, да там все поет! Там ритм поет! Прекрасная песня! Вот это я слышал. Еще какие-то несколько, немного, врать не буду…»
Приведем упоминания Анчарова в сохранившиеся фонограммах выступлений Высоцкого:
«В одном из выступлений он представил “Песню самолета-истребителя” так: “Песня называется “Смерть истребителя в тридцати заходах”. Это такая баллада с длинным названием, как у Анчарова”»[210].
«И вот еще одна шуточная песня. Называется она так (очень длинное название): “Лекция о международном положении, прочитанная пострадавшим на 15 суток за мелкое хулиганство своим сокамерникам”. Это раньше Миша Анчаров очень любил называть длинно свои песни. Я это делаю очень редко. Ну, неважно. Песня еще длиннее, чуть-чуть»[211].
«Я чуть было не забыл спеть вам шуточную песню, которая называется длинно. Вот Анчаров… до того… до того, как говорится, как он начал писать там “Соседи по квартире” или там “Жильцы по дому”. (Я уже не помню, как это… там серий 28 на телевидении), он до этого писал песни. И у него песни были хорошие, названия были длинные, такие, как вот теперешние телепередачи. Песни… правда, я очень любил его песни. Он про Благушу писал — “Благушинский атаман”, по-моему. “О парашютах” у него есть баллада. Он, по-моему, воевавший человек, достойный уважения, в общем, такой… И я эту песню, которую сейчас вам покажу, назвал тоже ужасно длинно. Это так: “Лекция о международном положении, прочитанная посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство своим сокамерникам”. Вот так вот она называется»[212].
«…Я вообще очень всегда коротко называю песни… Но был еще один человек, он назывался Анчаров, — он писал песни раньше тоже, потом стал писать всяких “Соседей по квартире”, “Наш дом” — произведения эпохальные. А тогда он писал песни. Но у него были названия иногда длиннее, чем песни. Правда! Про Благушу писал. “Парашюты напряглись и приняли вес”, помните, да? “Баллада о парашютах” была у него…»[213].
Александр Городницкий — известнейший поэт и бард, представлять его читателям этой книги не требуется. Он неоднократно вспоминал о своем знакомстве с Михаилом Анчаровым[214]:
«С Михаилом Анчаровым и его песнями я впервые познакомился в 1963 году, когда во время очередной командировки в Москву через каких-то знакомых случайно попал на одно из частых в те поры песенных сборищ в непривычно просторную квартиру потомков Григория Ивановича Петровского, председателя большевистской фракции Государственной думы, в печально известный “Дом на набережной”, населенный зловещими тенями убивавших и убиенных.
“Ну, где этот ваш мальчик из Ленинграда?” — услышал я голос в передней, и в комнату шагнул плотный, как борец, черноволосый, коротко стриженный мужчина с правильными чертами лица и внимательными, часто моргающими глазами.
Из всех его песен тогда я знал только ставшую уже народной “От Москвы до Шанси”, а в тот вечер впервые услышал и “МАЗы”, и “Органиста”, и “Тихо капает вода: кап-кап…”, и многое другое. Яростная экспрессия этих песен на фоне мужественного облика их автора, опаленного пороховым дымом великой войны (я подумал, что он и моргает так часто оттого, что глаза были раньше обожжены), и его рассказов о парашютно-десантных войсках производили сильнейшее впечатление».
А вот как момент их знакомства в квартире Ирины Петровской запомнился Валентину Лившицу (Лившиц, 2008):
«При знакомстве с Городницким произошел смешной случай. Когда мы пришли к Петровской (мы — это Миша, Джоя, я и моя жена Наташа) — там уже был народ. Шли мы с Лаврушинского пешком, не спеша, идти очень недалеко, но почему-то мы все же опоздали. Так вот, когда пришли, поздоровались, Юра Визбор уже был там, и было еще несколько незнакомых лиц. Они представились Анчарову, ну, допустим, Коля, Витя, Саша. Анчарову перед встречей сказали, что из Ленинграда, чтобы познакомиться с ним, приедет Алик Городницкий. Анчаров ждет человека по имени Алик, а его нет. Идет общий треп, Визбор что-то поет, потом Миша что-то поет, проходит часа полтора, наконец Миша не выдерживает и говорит:
— Ну где это ваше молодое дарование, вечно они опаздывают?
Визбор:
— Кто опаздывает, Миша?
Миша:
— Ну, этот ваш Городницкий, или как его там.
Визбор:
— Да вот же он. (Городницкий в молодые годы не любил, когда его называли Алик, и представлялся Сашей, поэтому Анчаров и не понял, что Городницкий давно тут.)
Ну, тут Анчаров говорит:
— Давай заново знакомиться. Давай почеломкаемся (любимая Мишина фраза, когда он попадает в какую-нибудь неправильную ситуацию). Бери гитару, спой что-нибудь.
Алик Городницкий:
— Миша, я не пою. А вы разве моих песен не слышали?
Анчаров:
— Слышал, но в очень плохом исполнении.
Визбор:
— Ну, спасибо, Анчаров. Ведь, кроме меня, никто его песни еще не поет.
Анчаров:
— Юра, ну извини. Давай почеломкаемся. Я не тебя имел в виду, а что я имел в виду, я сам не знаю. Давайте, ребята, лучше выпьем.
И все с хохотом идут к столу, при этом Таня Злобина громко говорит: “Это не хуже, Анчаров, чем твое выступление на тему: вот и Таня Злобина пришла, такая беленькая и чистенькая, как будто только что побрилась”. Все хохочут еще громче, и громче всех сам Анчаров, попавший очередной раз впросак».
Продолжим цитировать воспоминания А. Городницкого:
«Мы подружились, и он дал мне прочесть рукопись только что написанной “Теории невероятности”, которую никто тогда не брал печатать. Первые же строки вызвали у меня скептическую улыбку недоумения. Повесть начиналась так: “Недавно я влюбился. Я совсем юный — мне сорок лет”. “Вот старый хрен, — подумал я (мне тогда было неполных тридцать), — он еще влюбляется! В его-то возрасте! И не стыдно ему об этом писать?” Повесть, однако, захватила меня почти так же, как песни. Была в ней какая-то стихийная сила личности яркой, мятущейся и нестандартной, не вписывающейся в привычный мне стереотипный уклад. <…> Живописные его работы также обнаруживали несомненный талант, но при этом как бы отсутствие профессионализма. Он был тогда подобен витязю на распутье — короткая оттепель конца пятидесятых опьяняла его, бывшего фронтовика, множеством неожиданно открывшихся ему дорог и возможностей. Чем заняться всерьез? Песнями? Живописью? Литературой? Все удавалось ему. В то время он часто выступал, и выступления эти неизменно сопровождались шумным успехом».
Несмотря на это утверждение А. М. Городницкого, публичных песенных выступлений Анчарова было не очень много, а записей этих выступлений сохранилось совсем мало. Анчаров и Городницкий вместе участвовали в уже упоминавшемся концерте «Так рождается песня» в лектории Политехнического музея в Москве в 1966 году. В годы после ухода из жизни Михаила Леонидовича Городницкий неоднократно публиковал статьи, посвященные его памяти. В одной из них он отмечал[215], «что темпераментные, не “книжные”, написанные подлинным языком песни Анчарова незаслуженно забыты». Там же он написал:
«В одной из песен этого замечательного и неповторимого автора есть такие слова: “Мы бескровной войны чемпионы”. Если знаменитый “гамбурский счет” Виктора Шкловского применить и к авторской песне, то можно с уверенностью считать, что одним из безусловных чемпионов этой бескровной войны за людские души и сердца, войны, которая еще продолжается, был и остается Михаил Анчаров».
Отметим, что в те годы, о которых вспоминает Александр Моисеевич, он еще не переселился в столицу и жил в Ленинграде. В городе на Неве Михаил Леонидович бывал часто, но его песни в начале 60-х годов были там известны лишь в записях. Вспоминает В. К. Сачковский[216] (май 1996 года):
«…В 1964 году к нам в Ленинград пришли пленки с записью Анчарова, но очень плохого качества. И вот мы на пару с Лосевым поехали “в Москву за песнями”. Походили по всяким адресам… Представляете людей, которые живут своей жизнью, у которых — свои хлопоты? Вдруг заявляются два оболтуса, которые жаждут песен, жаждут общения, а людям — не до общения, у них тут свои проблемы. И я говорю: “Ну что, звоним Визбору…”: “Юра, мы — в Москве, приехали сюда пообщаться, песни послушать, а не получается никаких контактов”. — “Ладно, ребята, не расстраивайтесь, приходите по такому-то адресу сегодня во столько-то, вас встретят”. И началась обычная московская конспирация. Встретили нас у остановки, проследили, идет ли за нами “хвост” или нет, прошли какими-то дворами… Оказывается мы попали на… У Аркадия Арканова и Григория Горина в этот вечер было первое выступление на телевидении, и все их друзья собрались на этой хате… Посередине комнаты стояла узкая тахта, на которой возлежала красивейшая такого японо-китайского плана женщина. Кроме этой тахты, каких-то табуреток, лавок и дощатого стола, ничем не покрытого, ничего не было. На столе стояла водка и пельмени. Все. Больше ничего.
Пришел Арканов — оказывается, это был его дом. Горин был, Визбор, мы, еще люди, которых я не запомнил. Говорят, они стали известнейшими режиссерами, кинодеятелями. Пел Юра Визбор, тогда он очень любил “Гренадеров” — кимовский цикл, свои, Городницкого. Своих он тогда спел очень мало. Потом мы попели, народ раскрепостился, я к Визбору подхожу и говорю: “Знаешь, Юра, у вас в Москве есть такой Миша Анчаров, песни его мне страшно нравятся. Ты его знаешь?” — “Знаю”. — “Слушай, а ему позвонить можно?” — “Почему же, можно”. — “А нельзя его сюда вытащить?” — “Неудобно, это праздник Аркадия…” — “Аркадия я беру на себя”. Отвожу Аркадия, его обрабатываю, а мы уже попели, он уже к нам проникся уважением… “А что, интересные песни? Давай приглашай, послушаем!” И вот пришел Миша Анчаров и выдал свой первый концерт. Он у меня записан. И когда мы вышли в пять часов утра на Большую Садовую, с гитарой, с этим рюкзаком с магнитофоном весом в двадцать килограмм — я начал орать песни, чем ужасно поразил Анчарова… Он вспоминал это за год или полтора до смерти…[217]
Когда я привез запись Анчарова из Москвы, все слушали, Клячкин очень восхищался песней “МАЗ”. Но когда я ему сказал, что Анчаров — интеллигент, художник, он сразу переменил мнение: “Плохая песня!” Я говорю: “Почему плохая?” — “Ну если бы ее написал шоферюга, была бы хорошая”. Я говорю: “Женя, ну пойми же, хорошая или плохая песня не зависит от того, кто написал ее”. Он два месяца осмысливал (почему-то у него срок был такой — два месяца), потом приходит: “Хорошая песня!” И начал ее петь на концертах».
Кроме «МАЗа», Е. И. Клячкин[218] иногда пел на своих выступлениях в последующие годы и «Песенку про психа…», и «Любовниц», и «Кап-кап», и «Мещанский вальс», и «Сорок первый». Знакомство Анчарова и Клячкина произошло, как понятно, позже начала 1964 года, времени, когда он слушал записи Сачковского. Возможно, оно состоялось поздней осенью того же года, поскольку есть их совместная фотография, сделанная в Ленинграде, как на ней написано, в праздничный день 7 ноября 1964 года.
Встречались они и в Москве. Валентин Лившиц вспоминает (Лившиц, 2008):
«Страна жила на кухнях: Галич, Анчаров, Высоцкий, Ким, Клячкин (кстати, когда из Ленинграда в Москву приехал Клячкин, его привезли к Анчаровым). Та же компания. Женя, только выспавшийся с дороги, полный стол выпивки и закуски — это наши девочки умели организовать мгновенно — и песни, песни, песни…»
О неоднократных приездах Евгения Исааковича в Москву, встречах дома у Анчарова, а также у Ирины Петровской и в других местах вспоминает и Татьяна Злобина:
«…Потом мы устраивали состязания бардов, сводили вместе Клячкина, Анчарова, Городницкого, Юрочку Визбора. И они тогда вырывали друг у друга гитары и говорили: “А вот это, а вот это, а вот это”. Это было великолепно. Вот на моем дне рождения одном были четыре барда. Точно помню, что был Анчаров, был Юра Визбор, был Женя Клячкин. Кто четвертый, не помню. Кто-то еще был четвертый. Причем у меня маленькая комната была, в коммуналке, 19 метров, длинненькая такая. Мы все сидели в два ряда. То есть кто-то за спиной поющих на диване. И вот эти поющие, вырываемые друг у друга гитары, вообще, когда они начинали выпендриваться друг перед другом — это было великолепно <…>. Это был где-то 1965-й или 1966-й год, 9 июля».
Несколько раз бывал в те годы в Ленинграде и Михаил Леонидович. В частности, дважды выступал с концертами в знаменитом ленинградском клубе песни «Восток», базировавшемся в ДК работников пищевой промышленности.
19 апреля 1967 года он участвовал в абонементном концерте вместе с ленинградцем Борисом Полоскиным и москвичом Игорем Гординым, выступавшими в первом отделении. Все второе отделение было предоставлено М. Л. Анчарову. Вели этот концерт музыковед В. А. Фрумкин[219] и литературовед Ю. А. Андреев[220]. В тот вечер Анчаров спел 15 песен. Комментируя, он называл повести и спектакли, в которых они звучали, а также развернуто ответил на несколько вопросов ведущих.
В. Фрумкин:
«У нас в записках интересуются: Правда ли, что вы начали писать песни еще до войны? И еще просили вас рассказать об импульсах, которые вас натолкнули на сочинение песен».
М. Анчаров:
«Сейчас расскажу об импульсах… (смех в зале). Песни я действительно начал писать давным-давно, и, так сказать, являюсь Мафусаилом этого жанра. Вот. Перед войной начал пробовать писать песни. Первая песенка, если не изменяет память, была написана на слова Грина, вот. <…>
Потом были еще какие-то песни, сначала на чужие слова, потом я догадался, что могу проделывать это сам не хуже, потом, в войну, значит, мало просто было стихов, не попадались как-то, а ребята просили песен. Тогда пошли уже… такой основной косяк песен, но юношеских, — я их сейчас не пою, они, по-моему, не то слезливые, не то сопливые… (смех, оживление в зале), а они какие-то очень все такие, такие, знаете, навзрыд, но так и полагается в двадцать, там, один, два года, так, видимо, полагается, все этим должны переболеть, — очень такие душещипательные! Но их извиняет только одно, что во время войны таких песен никто не писал, но, как вам сказать? — не по качеству, естественно — на качестве, как вы сами понимаете, не настаиваю — по направлению какому-то, потому что всё лучшее, что было написано во время войны, было написано на военно-патриотическую тему, и это правильно! Но мне пришло в голову, что ведь, в общем-то, война-то ведь ведется за мирные ценности, за прежний дом, за прежние радости, за то, чтобы было хорошо там, куда вернешься! Значит, надо было какие-то, мне так казалось, довоенные мальчишеские ценности, так сказать, сохранять, и, во всяком случае, ребята вокруг меня радовались этим песням. Меня это вполне удовлетворяло, и я на большее не претендовал. Ближайшие знакомые говорили, что, видимо, это искренне, и просили еще. Вот и всё. Потом они получили широкое распространение какое-то, и некоторые бродят до сих пор, считаются фольклором. Ну, после войны мне не захотелось писать. Как бы вам сказать? Противопоставлять было нечему, уже война-то кончилась, а эти песни, песни военных времен, были такие, вот… ну, сохранить ту ноту домашности, что ли, и человечности, ради которой весь сырбор-то был, мирные ценности. Ну вот, а после войны их отстаивать было не нужно, они как-то уже не пелись, о чем-то о новом писать я еще не знал, да, кроме того, уж очень удручали песни, которые сразу после войны пошли, — они были уже не военные, но и еще не мирные, а так, какая-то серединка непонятная. <…>
Ну вот, а потом, значит, прошло уже много лет, вдруг пошли… снова возобновился интерес к каким-то, вот, военным, вот, этим песням, кстати сказать, тут странная вещь произошла: через много лет возобновился интерес и к тем песням, которые я делал. Они заново начали появляться, и к военно-патриотическим, понимаете, какая вещь, то есть это совпало — вдруг стали опять петь “Землянку”, например, — блестящая совершенно песня! Просто фронтовые песни стали петь, где-то, очевидно, людей потянуло, так сказать, на другом витке, что ли, к тому же самому к чему-то, тогда я начал писать заново, где эти две вещи, видимо, так пытался, во всяком случае, объединять. Частично я, вот, вам их показывал сейчас…»
На этом концерте присутствовал и Е. И. Клячкин. Диалог, состоявшийся между ними в заключительной части выступления, сохранила фонограмма:
Е. Клячкин (из зала ведущему Ю. Андрееву): «Юра! Не подсовывай записки, там есть целый список, тринадцать песен! <…> Раз в пять лет приехал в Ленинград, и мы ему задаем вопросы!
М. Анчаров: «Раз в два! Я ж у тебя был два года назад!»
Конкретные детали этого выступления запомнились участнику концерта Б. П. Полоскину[221]:
«Во время выступления Анчарова я был за кулисами. Он очень волновался. Пел сидя. Как только опустился на стул, к нашему ужасу, стал крутить колки тщательно настроенной нами гитары. На посиделках завладел всеобщим вниманием, говорил значимые слова, восхвалял женские качества Дроздецкой. Попели. Я спел свою “Музыка ждет”. По окончании песни он ткнул пальцем в мою сторону и убежденно воскликнул: “А он не сволочь!” Приглашал в гости к себе в Москву. Я попытался воспользоваться его приглашением, но встреча не состоялась. Он извинился и через порог сказал, что ждет прихода женщины».
Еще раз Анчаров приезжал в Ленинград в конце 1968 года, где участвовал в еще одном абонементном концерте в клубе «Восток», состоявшемся 18 декабря, в котором, кроме Анчарова, выступали ленинградские авторы и исполнители. Сохранилась запись дружеского застолья 20 декабря в доме у кого-то из ленинградцев, во время которого Михаил Леонидович восторженно высказывался о песнях Е. Клячкина:
«Когда Женька поет чужие слова или Женька поет свои слова — это не имеет значения. Здесь Ее Величество Поэзия в первом лице. Над ним нимб золотого перелива. И всё! Когда происходит вот эта нота, обрываются кишки и ничего понять уже больше нельзя. Ты думаешь, я знаю, почему на меня действует “Баллада про короля”[222]? Он-то, наверное, думает, что стихи хорошие, или думает, что музыка хорошая. Это всё пустяки. Отдельно стихи хорошие существуют, отдельно музыка хорошая существует, есть великие композиторы типа Шостаковича, а когда вдруг происходит вот это самое, вот это самое — я не знаю, как это назвать, — вот это самое, когда вдруг мурашки по коже, волосы дыбом по всей шкуре у меня встают, я знаю, что я этих людей люблю, потому что род человеческий продолжается… Это будет неправильно, если вы сейчас засмеетесь. Во мне говорит хмель, но это хмель такой, как вам сказать, это хмель человеческий. Я знаю одно, я сейчас живу в гостинице “Дружба”. Я выхожу на улицу — вижу снег. По снегу идут малыши с чернильницами в мешочках и с портфелями. Я знаю, что своей толстой задницей готов их загораживать до смерти. Так вот, когда происходит поэзия, она вот это самое и есть. Она своей задницей загораживает человечину от смерти.
Когда он поет, он произносит эту ноту, он загораживает человечность от человеков. И когда Женька поет “Про короля”, он загораживает человечность от человеков.
Человеки они ведь обыкновенные. Нормальное профсоюзное деяние совершается. Но тут возникает человечность, тогда надо стоять насмерть… Когда он поет, когда Женька поет, я думаю так: мы стареем, но ничего не кончается, есть мужики, которые могут встать в стойку и загородить вот эту святую ноту — я не знаю, как она называется — ну не знаю, как она называется. Называют ее поэзией, одни называют ее религией. Мне совершенно начхать, как она называется. Это вопрос терминологии. Семантика, генезис, всякая хренология… Раз она есть, значит, она есть. Когда Женька работает — я всё понимаю. Когда он работает чужие слова, Женька работает свои слова…»
Нет сомнений, что Михаил Леонидович и Юлий Черсанович были знакомы, вместе участвовали в концертах середины шестидесятых годов, пели свои песни в присутствии друг друга. В многочисленных интервью Кима упоминание Анчарова нам не встречалось, нет упоминаний о нем и в интервью и беседах Анчарова. Об одной личной встрече Анчарова и Кима вспоминал Владимир Сидорин:
«…в тот период, когда он с Джоей расходился, у него была кочевая жизнь. Мы ездили с ним по разным местам. Юлий Ким был тогда женат на внучке Якира. Мы были у Якира, был такой случай. Анчаров пел. Он везде меня возил. Помню, что там был Ким, была его жена и был Якир. Для нас сын легендарного Якира тоже, конечно, был очень интересен. <…> Анчаров очень доброжелательно относился ко всем, кто занимался песенным творчеством <…>».
Андрей Крылов в заметке, посвященной памяти Михаила Леонидовича, вспоминал, как при подготовке одного из номеров самиздатской газеты «Менестрель», посвященной юбилею Юлия Кима, он попросил Анчарова написать приветствие юбиляру. Михаил Леонидович написал восторженное поздравление, которое, к сожалению, опубликовано не было и позже затерялось. Как пишет Андрей Крылов, сожалеть о том, что это осталось непрочитанным, вместе со всеми нами должен и тогдашний юбиляр…
О доброжелательности Анчарова по отношению к своим коллегам по сочинению песен, причем значительно более младшим, свидетельствует поэт и бард Владимир Бережков[223]:
«…Была встреча с Анчаровым. Я всегда боялся знакомства с большими людьми, чтобы не испортить впечатление от стихов. Но меня неожиданно и совершенно запросто затащили к нему домой, и он сам и окружающие его вещи наложились на его песни, как катализатор. (Не могу только вспомнить, какая у него была гитара!) Мужественный и таинственный, со странным голосом, в то время он был впереди всех и затмил для нас Окуджаву и Визбора. Да, было такое время в Москве! Загадочна жизнь кумиров в голове человеческой!
Я спел свои ударные песни — “Хана”, “Старика” и “Песню о счастье”, ему посвященную (да и с его интонациями!). Философские изыскания инстинктивно пропустил. “Ну, — сказал он, — так и пиши — будешь первым!” Больше я с ним не встречался вплоть до последнего, почти перед самой его смертью, концерта. Подходить не хотел — он уже плохо видел и вообще, думал, не узнает. Ну и волновался — встреча с юностью, большой человек… Как подошел — не знаю, разговора не помню — одна только фраза: “Я слушал твои песни. А где же ты сам был все это время?”»
Из этого младшего поколения поющих поэтов, кроме Владимира Бережкова, наиболее близкими к Анчарову были и остаются Александр Мирзаян, в течение многих лет исполнявший анчаровские песни на своих концертах, и Вероника Долина[224], познакомившаяся с Михаилом Леонидовичем в середине восьмидесятых и посвятившая ему стихотворение. Долина вспоминала, что по ее просьбе он написал ей рекомендацию для вступления в Союз писателей. Назовем здесь и уже упоминавшегося Андрея Козловского (см. главу 4). Своим учителем считает Анчарова поэт и бард Алексей Морозов[225], тоже посвятивший ему свое стихотворение.
Глава 7
Прозаик
Середина шестидесятых годов у Анчарова — самый плодотворный период. Как будто внезапно распустился цветок его таланта, доселе прятавшийся в бутоне. Напомним еще раз фрагмент из повести «Этот синий апрель», где рассказывается о том, как Гошка Панфилов пишет рассказ, навеянный ему сном. Заканчивается этот рассказ следующими словами:
«Когда однажды он очнулся и увидел, что выброшен на грязный заплеванный пол пустой комнаты своей бывшей квартиры — без дома, без семьи, без денег, без работы, без перспектив, без положения, без сил, без желания работать, — и только тогда стало ясно — или сейчас или никогда. Надо писать. Созрело.
Это случилось через семнадцать лет после того сна».
Если отсчитать семнадцать лет от 1947–1948 годов — времени первых литературных опытов Анчарова, попадаем как раз на 1964–1965 годы. Дополнительное подтверждение: «грязный заплеванный пол пустой комнаты», что со всей очевидностью указывает на время ухода Джои, то есть на тот же 1964 год. Просто удивительно, сколько всего и в каком ураганном темпе он успел сделать за последующие два-три года. Разбирать сделанное мы будем не спеша далее, а здесь для иллюстрации стоит просто привести хронологию.
– 21 апреля 1964 года — художественным советом 3-го творческого объединения киностудии «Мосфильм» одобрен сценарий кинофильма «Иду искать» (см. главу 5).
– Июнь 1964 года — в журнале «Смена» (1964, № 11, 1–15 июня) напечатан рассказ «Барабан на лунной дороге».
– Ноябрь 1964 года — в журнале «Смена» (1964, № 21, 1–15 ноября) опубликован рассказ «Венский вальс».
– 4 мая 1965 года — в газете «Московский комсомолец» опубликован фрагмент повести «Золотой дождь».
– Май 1965 года — повесть «Золотой дождь» опубликована в журнале «Москва» (№ 5).
– Август-сентябрь 1965 года — журнал «Юность» (№ 8–9) публикует роман «Теория невероятности».
– 14 сентября 1965 года — подписан договор с Театром драмы и комедии на Таганке на постановку пьесы «Поводырь крокодила». Пьеса должна быть предоставлена театру не позднее 1 июня 1966 года.
– 25 октября 1965 года — в еженедельнике «Неделя» (1965, № 44) опубликован рассказ «Корабли».
– 1 декабря 1965 года — подписан к печати сборник «Фантастика» (1965, вып. III) c повестью «Сода-солнце».
– 10 декабря 1965 года — подписан договор с издательством «Молодая гвардия» на издание книги «Теория невероятности» (роман и повесть о современности). Рукопись представлена.
– Февраль 1966 года — в журнале «Вокруг света» (№ 2) напечатан рассказ «Два постскриптума».
– 4 апреля 1966 года — премьера спектакля «Теория невероятности» в Московском театре им. М. Н. Ермоловой.
– 30 октября 1966 года — в издательстве «Молодая гвардия» подписана к печати книга «Теория невероятности», включающая и повесть «Золотой дождь». Сразу, в 1967 году, будет переиздание.
– 27 декабря 1966 года — принят в Союз писателей СССР.
– 4 февраля 1967 года — подписан в печать сборник «Фантастика» (1966, вып. III) с повестью «Голубая жилка Афродиты».
– Май 1967 года — в журнале «Москва» (1967, № 5) публикуется повесть «Этот синий апрель».
Иными словами, за три года, с апреля 1964-го по май 1967-го, Анчаровым созданы и опубликованы: один сценарий (совместно с А. Аграновским), четыре повести («Золотой дождь», «Сода-солнце», «Голубая жилка Афродиты», «Этот синий апрель») и роман («Теория невероятности»), четыре рассказа, написана пьеса —инсценировка «Теории невероятности». Кроме того, за эти же годы создано полтора десятка песен, среди которых самые известные у Анчарова «Белый туман», «Цыганочка», «Баллада о парашютах», «Песня от танке Т-34», «Большая апрельская баллада» и др., состоялся с десяток публичных выступлений на концертах в Москве и Ленинграде, а также на радио и телевидении, песня «Про низкорослого человека…» взята для спектакля «Павшие и живые» нового театра на Таганке.
К 1963–1967 годам относится и большинство домашних записей его песен. Просто ураган какой-то — такой темп с трудом мог бы выдерживать и более молодой человек, а Анчарову, напомним, еще в 1963 году исполнилось сорок.
И на этот же период, заметим, приходятся самые крупные личные трагедии: расставание с Джоей (1964) и ее смерть (1966), а также смерть отца Леонида Михайловича (декабрь 1968 года). Несомненно, Анчаров относился к тем людям, которые в период несчастий не впадают в отчаяние и не опускают руки, а наоборот, максимально собираются и начинают действовать. Более того, можно высказать осторожное предположение, что Анчарову для эффективного творчества нужно было получить толчок, далеко выводящий его из состояния душевного равновесия. Анчарову, десять лет жившему почти в тепличных условиях, снова пришлось всерьез взглянуть на себя со стороны, начать заново разбираться в своих отношениях с внешним миром, а в сорок лет такое проходит куда болезненней, чем в двадцать. Ничем, кроме совпадения дат и размышлений над его биографией, это предположение не подтверждается, но ведь подобное вообще в нашем национальном характере: «пока гром не грянет…», «пока жареный петух не клюнет…» — именно в кризисных ситуациях наш человек проявляет свои лучшие качества.
Безусловно, в состоянии, которое сам Анчаров весьма доходчиво описал как «…выброшен на грязный заплеванный пол пустой комнаты своей бывшей квартиры — без дома, без семьи, без денег, без работы, без перспектив, без положения, без сил, без желания работать…» — никто сколько-нибудь продуктивно работать бы не смог. И тут ему повезло встретить Марину Пичугину. В период знакомства с Анчаровым Марина еще училась на четвертом курсе Института иностранных языков, а впоследствии работала переводчиком.
Марина Константиновна через много лет расскажет в интервью о том, что они с Анчаровым познакомились у Куреневых[226]:
«Была тогда его бродяжническая жизнь квартирная. Потому что на Лаврушинском уже жил другой человек — чтобы не жить за стенкой, не глотать обиды и слезы про себя, по компаниям ходил. …у Куреневых мы познакомились. Три дня мы побродили по Москве. Была фраза: “а если вы станете моей женой, мы будем вместе…” На что я сказала — “да”. Миша сказал, что ему нравятся очень многие женщины. На что я ему сказала: “да, вам это идет». Через три дня мы, так сказать, стали вместе. Я ушла на вечерний, пошла работать в Интурист. И началась моя трудовая деятельность, и Мишина трудовая. …я вымыла комнату [после] пьяных гостей, посадила его писать. [Сначала] был круг московских знакомых, где он с гитарой пел допоздна, тоже пил, старался не возвращаться домой. Но потом осел. “Теория невероятности” уже была готова, она была написана, как-то вот».
И, кстати, в этом интервью Марины Пичугиной есть интересная подробность про совместную жизнь в квартире на Лаврушинском, когда Джоя с Гольдиным туда вернулись. Издалека может показаться, что в подобной обстановке у Анчарова жизнь должна была превратиться в сущий кошмар, но ничего такого не было, и можно с уверенностью предположить, что личные качества Марины Константиновны тут сыграли не последнюю роль:
«Джоя с Осей за стенкой, в первой комнате. Мы с Мишей во второй комнате. Мы старались не общаться. У нас были совершенно не враждебные, а очень дружелюбные отношения. Потому что она была рада, что Миша, в конце концов, не в канаве, а дома занимается».
Это подтверждает и Александр Тамбиев:
«Марину я очень хорошо запомнил внешне. …она уже на правах хозяйки была на наших посиделках тоже. И мы продолжали ходить к Мише, а не к Джое. И я подчеркиваю, что вот такой острой вражды между Джоей и Мишей, бывшим мужем, по-моему [не было], они мило разговаривали, и не было каких-то таких жалоб там».
Галине Аграновской и ее мужу Марина очень понравилась (Аграновская, 2003):
«Как-то попросился в гости: “Приду не один. Это смотрины. Требуется ваше мнение”. И привел третью свою женщину (после Таты и Джои) — Марину. Очень она нам приглянулась. Молодая, высокая, тоненькая блондинка с правильными чертами лица. Видно было — Мишу обожает. Бывали мы у них в гостях несколько раз в новой квартире, на углу улицы Чехова и Садовой. Это уже был дом, семейный, ухоженный женской рукой. И на стене висел портрет Марины, Мишина работа, красивый и похожий на хозяйку. Невольно вспомнила я тот его давнишний семейный уклад в доме Джои. Ничто не совпадало, кроме портретов, писаных Мишей с этих, таких разных, женщин. И еда была домашняя, с пирогами и соленьями. Я еще тогда обратила внимание, в тот первый визит, на магазин “Кулинария” на первом этаже их дома и подумала: опять Мишу из “Кулинарии” кормят. И ошиблась. На наши похвалы Марине Миша сказал: “Она у меня пока на испытании…”»
А вот в компании, где Анчарова без Джои так и не смогли себе представить, к Марине отношение было настороженное.
Татьяна Злобина:
«И когда уже там появилась Марина, значит, когда в одной комнате были Джойка с этим Осей, в другой комнате Анчаров с Мариной, уже мы перестали там бывать. И Анчаров практически у нас остался только в записях. Уже живьем мы виделись довольно редко. То есть он с Мариной приходил к Ирке, Марину мы знали, поскольку именно Галька Куренева познакомила Марину с Анчаровым. Марина очень амбициозная девка была, желала только выгодно выйти замуж за известную личность и вообще, так сказать, сделать брачную карьеру, вот. Но у нее ничего не получилось. Потому что, как у нее характер такой. Анчаров называл ее — “комиссар”, “мой комиссар”…»
Ирина Романова:
«И он мне говорил, вот Марина, вот Марина, вот она все вымыла, она поставила пишущую машинку, она заправила чистый лист бумаги, сказала: “Мишка, садись, пиши”. Я говорю, это все замечательно, а ей-то все это зачем?.. А он говорит: “Я возвращаюсь на один и тот же аэродром”. Я говорю: “Ну, хорошо, вот ты вернулся на аэродром, а ей-то зачем это все?”»
Есть разночтения в мнениях, был ли зарегистрирован официальный брак. Некоторые уверены, что не был, и большая часть знакомых это также отрицает. Но сама Марина Константиновна говорила, что сменила фамилию на Анчарову и у нее даже по этому поводу были трудности с дипломом. Так как в СССР сменить фамилию взрослому человеку можно было только через брак, очевидно, регистрация все же имела место.
В те годы круг знакомств Анчарова обновился — Марина Константиновна («мой комиссар», по определению Анчарова) открытого дома не держала, и старые знакомые из круга Ирины Петровской ходить к ним постепенно перестали. Хотя по-прежнему Анчаров изредка посещал «Дом на набережной», но и там появлялись новые люди. Кроме Григория Куренева и Владимира Сидорина, одной из самых заметных личностей в этой компании был Андрей Саверский, инженер и самодеятельный художник (сохранился его набросок, запечатлевший некоторых лиц из этого круга). До своего отъезда на восстановление Ташкента после землетрясения 1966 года эту же компанию посещал архитектор Андрей Косинский, воспоминания которого мы уже неоднократно цитировали. Он познакомил Анчарова с писателем и журналистом (корреспондентом «Огонька») Максимом Калиновским, который, по словам Андрея Станиславовича, причастен к первым анчаровским публикациям в журналах.
К этому же кругу принадлежал и Николай Воробьев, художник, автор заставки к первой публикации повести «Этот синий апрель» в журнале «Москва»[227]. В 1965 и 1966 годах на Новый год Николай присылал Анчарову поздравительные письма, иллюстрированные своими рисунками. Часто бывали в этой компании и барды: Туриянский, Клячкин, Визбор, Городницкий.
22 марта 1967 года Анчаров вступил в жилищный кооператив «Молодежь театров», а ровно через два года, 20 марта 1969-го, переехал в новый 17-этажный дом-башню, построенную на углу улиц Малой Дмитровки (тогда — улицы Чехова) и Садово-Триумфальной, по адресу ул. Чехова, 31/22, квартира 80. Среди соседей по дому у него окажутся Юрий Визбор, режиссер Марк Захаров (дверь в дверь на том же этаже), писатель Аркадий Арканов, одна из сестер Вертинских и еще многие другие известные деятели театра, кино и литературы.
Сосед по дому Аркадий Арканов так рассказывал о своих личных впечатлениях от встреч с Анчаровым в те годы:
«Как правило, на нем был, если мне не изменяет память, пуловер. Вот такой вот пуловер и рубашечка, все, никаких там галстуков, никаких пиджаков я на нем никогда не видел, может быть, в каких-то местах других он был в пиджаке, но я его в пиджаке не видел, и ощущения дипломата я не чувствовал. Был очень прост, он был очень добр, он всегда обнимал меня, и у него была очень интересная манера говорить. Во-первых, у него был тик, он часто очень моргал глазами во время разговора. И, может быть, он понимал, наверное, что это тик, и, может быть, он не хотел оставлять какого-то неприятного впечатления от близкого общения с ним. И поэтому он говорил, это было обращено к тебе, то, что он говорил, а голова всегда у него была несколько вправо повернута. И вот он так моргал слегка, так сказать, заикаясь, с таким тиком, и смотрел куда-то, такое ощущение, что смотрел в сторону, но он в этот момент разговаривал с тобой, и ты это четко ощущал. Вот его взгляд все равно ты ощущал на себе. И он всегда, когда мы встречались, он обнимал меня, хлопал по плечу, значит, мы с ним обязательно что-то выпивали, это было непременно, но я никогда не видел Михаила Леонидовича и в его обществе себя в состоянии какого-то развала, абсолютного, так сказать, распада человеческой личности, никогда этого не было, никогда. Я помню, что Миша, кстати сказать, пел свои песни по просьбе, и делал это он охотно».
В рассказе о творчестве Михаиле Анчарова невозможно обойти тему поколения, которое ныне получило общее название «шестидесятников». Современный читатель, конечно, легко разберется в анчаровских героях и идеях и без этого, но, скорее всего, не сможет понять, насколько глубоко все его произведения вписаны в контекст эпохи, насколько они неотрывны от тем, занимавших его современников.
«Шестидесятников» иногда вспоминают ностальгически, иногда ругают, с одной стороны, без особых оснований обвиняя их в «потере державы», с другой — ненамного более осмысленно упрекая в «половинчатости» и неготовности пойти до конца в противостоянии властям. Между тем, большая часть заметных представителей этого поколения не шла на прямой конфликт с властями не из-за какой-то там «половинчатости» или, тем паче, «трусости», а совершенно сознательно — они ничего не имели против самой идеи, легшей в основание Советского государства. Всеволод Ревич, типичный представитель этого поколения, в упоминавшейся ранее статье, посвященной Анчарову, писал:
«Мы — это те, чья юность или по крайней мере отрочество, сознательное детство совпали с Отечественной войной. Андрей Битов как-то съязвил: мол, наше поколение несколько переэксплуатировало свое военное детство. Что поделаешь — более героического времени на нашу долю не выпало. Зрелость началась после ХХ съезда КПСС. Наверное, мы последнее поколение, которое еще верило, что старые ценности пригодны к употреблению, хотя и требуют серьезного ремонта, и первое, которое на собственном опыте убедилось в том, что ремонт-то нужен капитальный».
В дополненной части этой статьи В. Ревич спорит с теми, кто в девяностые годы критиковал шестидесятников (Ревич, 2001):
«Они жалеют нас, убогеньких, всерьез собиравшихся строить социализм с каким-то там человеческим лицом, когда теперь любой недоумок знает, что всякий социализм — чудище обло, озорно, огромно, а уж лаяй-то, лаяй[228], не хуже озверевших овчарок из лагерной охраны».
Положим, с тезисом о «капитальном ремонте» Анчаров был согласен всегда, только автор статьи писал эти слова в конце 1980-х, когда они имели вполне конкретное политическое содержание, а Анчаров ничего сиюминутно-политического в виду никогда не имел — его интересовали куда более глубокие материи. И несмотря на это не слишком серьезное отличие, относящееся уже ко времени, когда и сами шестидесятники стали разбредаться по группкам разной политической направленности, творчество Анчарова совершенно адекватно общим настроениям того времени. Более того, не пытаясь умалить влияние других лидеров поколения, все-таки признаем, что именно творчество Анчарова было одним из главных факторов, эти настроения формирующим и придающим им законченные и узнаваемые черты.
Мы уже говорили, что после победы в тяжелейшей войне народ поверил, что теперь-то все будет иначе. Это настроение замечательно отражено в песне Анчарова «Баллада о мечтах». Но чаяния народа быстро были загнаны в глубокое подполье — власти совершенно не были нужны самостоятельно думающие и, главное, принимающие решения личности. Непреднамеренно помог и Запад, начавший холодную войну: «происки врагов» не надо было выдумывать, они были вполне реальными, и накапливавшиеся ядерные арсеналы также не были выдумкой советской пропаганды, в результате чего паранойя и шпиономания достигли почти размаха военных времен. Личность, индивидуальность никогда не была в таком загоне, как в послевоенные времена, ей противопоставлялся «здоровый коллективизм», лозунги «незаменимых людей нет», «один в поле не воин» и тому подобные ходовые выражения времен всеобщей уравниловки. Хрущев в силу своей малообразованнности, полностью унаследовал эти положения сталинской идеологии и даже в некотором роде усугубил их, попытавшись, например, окончательно запретить личные крестьянские хозяйства или разогнав оригинально мыслящих художников, выбивавшихся из основной массы представителей «соцреализма».
Такова была генеральная линия советской власти. Но Хрущев не был Сталиным с его несгибаемой волей и умением контролировать все, до чего удается дотянуться. К сожалению Хрущева, ХХ съезд и его критика «сталинских перегибов» совершенно непреднамеренно породили целое поколение с новым мышлением. Хрущев, конечно, ничего такого не желал, но предотвратить и хотя бы предусмотреть не сумел. Такие попытки пришлось предпринимать его преемникам, но было уже поздно — канонические основы советского строя линяли на глазах.
Ключевым моментом в этом новом мышлении было признание права человека на свое отношение к миру. Не всегда ясно осознаваемое, оно, как говорят литературные критики, «проходит красной нитью» даже у самого коммунистического из писателей-фантастов Ивана Ефремова, у вполне лояльных к режиму ранних Стругацких, в неоспоримо «соцреалистических» ранних произведениях Аксенова и Трифонова. Для Анчарова это было самым главным — без права на личные отношения с миром никаких творцов, разумеется, не бывает. В повести «Золотой дождь», говоря о дне наступления Победы в Великой Отечественной, он напишет знаменательные слова:
«Это был день, когда все люди думали одинаково и ни один не был похож на соседа. Это был день, когда люди не нуждались в подозрительности и во всей огромной Москве не было ни краж, ни ограблений. Это был день счастья, потому что все поняли: равенство — это разнообразие».
Конечно, прагматичный человек иронически усмехнется, прочитав это, но Анчаров этот исторический момент ощущать иначе не мог: право на индивидуальность было краеугольным камнем всего его мировоззрения, а человектворец, со всей своей непохожестью на других, стоял в центре его вселенной. Мы уже не раз говорили, что в этом заключается главное расхождение Анчарова с официальным учением, которое во главу угла ставило коллектив, классовое сообщество, а индивидуальность подчеркнуто игнорировало.
С другой стороны, в сознание «шестидесятников» прочно вошло неприятие всего материального. Возникнув еще в двадцатые годы, без сомнения, как конформистская уступка властям, оно постепенно стало одним из определяющих черт поколения. Стремление к материальному благополучию или хотя бы его внешним признакам: дачке, занавесочкам на окнах, цветочкам на подоконнике, коврам на стенах — презрительно клеймилось словом «мещанство». С мещанством боролись, его высмеивали, от него открещивались. В уста вождя мирового пролетариата в фильме «Апассионата» в 1961 году Анчаров с Джоей Афиногеновой вкладывают презрительную характеристику не принявшего советской России Герберта Уэллса: «Мещанин!» — настолько понятен был современникам этот символ всего злого, равнодушного и жадного в человеке.
Между прочим, «антимещанское» направление не есть оригинальная выдумка прокоммунистически настроенного российского общества или тем более ход официальной пропаганды. Эта тенденция, чуждая большинству западных обществ (включая «страны народной демократии» и заодно заметную часть национальных советских республик), вообще свойственна российской культуре издавна; она не противоречила, например, идеям православия.
Правда, критики со стороны находили в самом марксизме признаки «мещанства», но это отдельный вопрос — нам важно, что сама критика велась ровно с тех же позиций. Философ Владимир Порус писал об этом явлении[229]:
«Поэтому, например, критика буржуазной культуры — индивидуалистической и эгоистически-потребительской — велась не только с марксистских или большевистских позиций. Ей отдали дань мыслители России, прошедшие через искушения марксизмом, позитивизмом, ницшеанством или шпенглерианством. Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков видели в “марксистском социализме” разновидность идеологии “мирового мещанства”, по сути враждебного культуре, но использующего ее, как бациллы используют питательный бульон для собственного размножения. По-своему, но так же резко отрицали “мещанскую культуру” А. Ф. Лосев и П. А. Флоренский, А. А. Богданов и Г. Г. Шпет. Русские философы (и те, кого большевики изгнали из России, и те, кому удалось или пришлось остаться) остро ощущали неизбежность краха “старого мира” и пытались разглядеть контуры “мира нового”».
Может показаться удивительным, что при таком основательном философском бэкграунде в конце концов в российском обществе возобладали «правые», идеи которых лежат в русле протестантской этики, где не существует самого понятия «мещанства» и связанных с ним отрицательных коннотаций. Но это не что иное, как качание маятника: советская власть ведь действительно сделала все, чтобы наглядно показать все отрицательные стороны социализма, и надо было как-то выходить из этого тупика. Есть надежда, что в недалеком будущем не только в России, но и в мире маятник начнет обратное движение и желанный компромисс будет найден: слишком много отрицательных сторон наглядно продемонстрировало теперь уже «общество потребления» со своей стороны.
Позднее многие (в том числе, кстати, и Анчаров), поняли, что принимали видимость за суть: бездуховность с успехом может прописаться в хижине нищего, а в богатом дворце власть имущего будет царить самая что ни на есть творческая атмосфера. В анчаровском рассказе «Корабль с крыльями из тополиного пуха»[230] между героями, девочкой-подростком и молодым человеком постарше, произойдет следующий знаменательный разговор:
«Тут я обрадовалась, что меня назвал по-старому — Шоколадка, и рассказала ему про все. Почти… Про Салтыкова-Щедрина, про здравый смысл, про мещанство и стала ему читать цитаты из Салтыкова-Щедрина. А он все слушал и говорил:
— Да… да… Здорово… Отлично…
А потом вдруг сказал:
— Перечти еще раз.
Я обрадовалась, что он согласен со мной, и еще раз прочла. Там был такой отрывок, описание затхлого мещанского быта — скука, половики на скрипучем полу, за окном ветка белая от зноя, на пустой улице куры возятся в пыли, из кухни запах дыма, самовар ставят и оладьи пекут. Подохнуть можно. А он подумал и говорит:
— Какой великий художник… Чего бы я не дал, чтобы в таком домике пожить. Хоть пару месяцев, что ли, а?
Вот тебе и здравый смысл!»
Налицо прогресс: «половики на полу» (так же, как, вероятно, и классические кружевные занавесочки с геранью на подоконнике) — уже не признак мещанства, а что-то совсем внешнее, которое может быть как признаком мещанства, так и «хорошей жизни», — с равной вероятностью. Иными словами, «мещанин» — не в наборе внешних признаков, а внутри человека. Сейчас то, что Анчаров называл «мещанством», называется иначе — «общество потребления», и ничего хорошего в нем по-прежнему нет. Пожалуй, «человек потребляющий» — действительно ведущая проблема человечества, корень многих и многих зол, в этом идеалисты-шестидесятники были совершенно правы. Образ вечно жующего мещанина с персональной машиной для доставки его отяжелевшей тушки на личную дачу сменился на образ офисного менеджера, у которого в глазах евроремонт, новый айфон и отдых на Мальдивах, — но больше-то ничего не поменялось!
Антимещанская тема еще раз напрямую появится в рассказе Анчарова «Лошадь на морозе», опубликованном в 1983 году[231][231]. Здесь чувствуется другой, чем в ранних анчаровских повестях и песнях, подход к теме: там «мещанин» обычно представлял собой голый символ (точнее даже — антисимвол), абстракцию, а в рассматриваемом рассказе мещане выглядят нормальными, живыми людьми, у которых только в голове не хватает чего-то обычного, человеческого. Анчаров показывает житейски достоверный конфликт поколений и иронически заостряет сюжет, когда пенсионер вместо ожидаемых «Жигулей», на которые ему как раз пришла открытка, покупает старую лошадь и помещает ее в принадлежащий ему гараж, до этого занятый машиной сына с невесткой. В довершение всего он пишет завещание, где этот гараж вместе с лошадью отходит его друзьям и внуку. Разница в подходах к мещанству довольно существенная: в рассказе «Лошадь на морозе» нет той «яростной», «физиологической» ненависти, о которой говорил Всеволод Ревич, здесь Анчаров допускает даже намек на возможность перевоспитания «заблудших» — в финальном эпизоде рассказа сын с невесткой уже, кажется, искренне пытаются понять своего отца, его друзей и поддержавшего их внука с подругой.
Но принципиальное бескорыстие, бесспорно, прочно вошло в идеалы поколения. Аналогию этому уникальному времени, когда образ свободы был совершенно не отягощен материальными заботами, можно, наверное, попробовать поискать, скажем, в эпохе раннего христианства, однако, скорее всего, такого явления все-таки не было раньше нигде и больше никогда не будет, потому что так не бывает вообще, — способность евангельского Христа накормить пятью хлебами пять тысяч человек, оказала ничуть не меньшее влияние, чем проповедуемые им духовные ценности. Это было представление о коммунизме, куда более живом и близком к реальности, чем растасканные на опостылевшие лозунги воззрения идеалистов-революционеров начала XX века. Шестидесятники были действительно уверены, что вполне можно построить царство свободы, не обремененное ничем материальным, отмахиваясь от официальных программ «построения материально-технической базы коммунизма» как от чего-то самого по себе разумеющегося, заданного «по умолчанию».
Самого Анчарова легко поймать на подобных противоречиях: сцена в «Теории невероятности», когда молодая девушка примеряет первые в ее жизни туфли на каблуке, неявно предполагает, что такие туфли кто-то делает, и кто-то их продает, и кто-то покупает, а значит, зарабатывает для этого деньги… И почему-то в реакции девушки Кати на новые туфли Анчаров видит трогательную красоту, а стремление приобрести машину — это, разумеется, сплошное мещанство, лучше погонять Гошку Панфилова до аэропорта на велосипеде… Но мы, его тогдашние читатели, совершенно не видели в этом никаких противоречий — нам было понятно с полуслова, о чем нам хотел сказать автор!
Удивительно, но в параллельном мире, где поднималась советская промышленность, где ковался ракетно-ядерный щит и взлетали космические ракеты, да и в приближенных к власти литературно-художественных кругах, где число доходных мест было ограничено, а попасть в эту сферу хотелось очень многим, — в этом деловом мире шли ведомственные и персональные войны за должности, заказы, за премии, звания и просто за доступ к кормушке. Потому что эти должности, звания, премии и медали в те времена означали далеко не фиктивные материальные блага: от закрытых распределителей дефицитных продуктов и вещей до, например, получения книг в личную библиотеку по списку Книжной палаты и доступа на закрытые просмотры зарубежных фильмов. Советская власть, пропагандировавшая принципиальное бескорыстие, за время своего существования придумала огромное количество способов выделить и поощрить своих верных слуг, благо дефицитная экономика к этому предоставляла все возможности.
Более того, в эту возню приходилось встраиваться даже тем, кто действительно совсем не имел в виду никаких особых материальных благ, а просто хотел сделать что-то новое. «Плановая» экономика по самому принципу устройства отторгает инновации. Чтобы что-то изменить в плане любого завода, утвержденном, как правило, на много лет вперед, требовалась санкция уровня министра. То есть бумага с инициативой, допустим, начальника конструкторского отдела завода должна была по инстанциям достигнуть самого верха, потом спуститься вниз с соответствующим распоряжением об изменении плана завода. А так как этот план хотя бы по идее был увязан с планами всех производств всей страны, то надо было пересчитывать и их, но делать это никто не собирался. И подобная инициатива не имела никаких шансов на прохождение обычным путем. Шансы появлялись только в случае, если «наверху» имелась «лохматая лапа», которая «проталкивала» бумагу по инстанциям. Валерий Федорович Гусев, бывший главный конструктор Казанского завода ЭВМ, рассказывал[232]: «Я за свою жизнь сделал примерно четыре довольно крупные разработки. На каждую разработку уходило шесть-семь лет. Из них лет пять уходило на то, чтобы лбом пробивать стенку, и максимум два года уходило на реальную работу». В результате и «плановая» экономика хромала на обе ноги, в ситуации всеобщего дефицита продолжая клепать устаревшие и малоэффективные вещи, и ее устройство само подталкивало к засилью блата и местничества. Позднее, на излете советской власти, когда поистерлась память о репрессиях сталинского времени, все это превратилось в обыкновенную коррупцию.
Но идеалы от этого парадоксальным образом не страдали. Оттепель продолжалась чуть более десяти лет (ее начало — откровения Хрущева на ХХ съезде в феврале 1956 года, когда стало можно и даже нужно критиковать «перегибы культа личности», а ее фактическим окончанием принято считать вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году), но имела огромные последствия для культурной жизни страны. Шестидесятники верили, что вполне можно построить коммунизм, где «каждому по потребностям, от каждого по способностям», волшебным образом переделав человека, который вдруг поймет, что «счастье каждого — это счастье всех». Через тридцать лет этот идеализм и станет главным рифом, о который разобьется утлый челн с идеалами «шестидесятников» — после 1991 года у многих, ранее горячо приветствовавших свободу, появится ощущение, что их банально кинули, а страну распродали за бесценок иностранным толстосумам.
В книге «Перекресток утопий» Всеволод Ревич скажет:
«Нелепо думать, что шестидесятники представляли собой монолит единомышленников. Они (мы) были очень разными. Анчаров представлял собой, так сказать, радикально-романтический фланг. Какое-то время он был не одинок. Стругацкие в “Полдне”, Аксенов в “Коллегах”, даже Войнович в ранних рассказах отразили не столько ту жизнь, которая их окружала, сколько ту, которую они хотели бы видеть не в далекой дали “Туманностей”, а сейчас, сегодня. У большинства оптимизм долго не продержался. А вот Анчаров не сдавался».
А ведь никто и не обещал, что можно оснастить бригантину алыми парусами, не построив сначала текстильной и красильной промышленности, не только нацеленных на самые необходимые потребности, но и способных удовлетворить взыскательный вкус капитана Грея. И такая «расширенная» промышленность сама по себе в рамках «плановой» экономики, где никому ничего не нужно, построена быть не может. То, что место под солнцем легче получить в отсутствие реальных достижений — в результате одних политических интриг (а сохранить его более-менее надолго можно вообще только таким способом), — советские люди поняли еще в сталинские времена. Конечно, в рамках этой системы что-то делалось, и иногда возникали даже очень интересные направления — такие, как свой совершенно особый путь построения компьютеров или оригинальные космические проекты. Но это следует отнести исключительно за счет наличия особой прослойки (хотя, к сожалению, и не очень большой) людей, которые умели управляться в политическом гадюшнике, действуя в интересах общества, а не только своих личных. Именно им мы обязаны всеми достижениями Советского Союза, которыми стоит гордиться.
Была еще один интересный вопрос, который находился в центре внимания того времени, особенно в Советском Союзе. «Шестидесятники» его сами не очень сознавали, так как он никогда не формулировался и не дискутировался открыто и, даже, кажется, ни разу не был подвергнут анализу и оценкам впоследствии. Он был связан с неожиданно возникшей возможностью выстроить социалистическое общество на по-настоящему научной основе, которую предложила популярная тогда кибернетика.
С появлением атомной бомбы авторитет науки, хотя и получившей во многих странах беспрецедентную государственную поддержку, постепенно стал утрачиваться. Выяснилось, что наука далеко не всесильна: она, в частности, не умеет не только предотвращать социальные конфликты, но даже и сколько-нибудь достоверно предсказывать направление развития общества, не говоря уж о том, чтобы им управлять. Замечательно иронизировал по поводу всеобщего преклонения перед наукой американский писатель Курт Воннегут, обращаясь в 1974 году к выпускникам колледжа:
«Мы будем чувствовать себя в несравненно большей безопасности, если наше правительство будет вкладывать деньги не в науку, а в астрологию и хиромантию. Мы привыкли надеяться, что наука спасет человечество от всех бед. И она на самом деле старалась это делать. Но хватит с нас этих чудовищных испытательных взрывов, даже если они производятся во имя защиты демократии. Нам остается надеяться теперь только на суеверия. Если вы любите цивилизацию и хотите ей помочь, то станьте врагом истины и фанатиком невинной и безвредной чепухи. Я призываю вас уверовать в самую смехотворную из всех разновидностей суеверия, а именно, будто человек — это пуп Вселенной, с которым связаны самые заветные чаяния и надежды Всемогущего Творца»[233].
Из повести Анчарова «Голубая жилка Афродиты»:
«И тогда оборачивается ярость сбитого с толку человека на ученых — куда вы завели нас, ученые люди? Вы придумали самоварчик и керосинку и думаете, что я счастлив, и тем ограничили мои желания, и вот я бью себе подобного насмерть и даже зверье развожу на убой».
Коммунистическое учение, претендовавшее на почетное еще недавно звание «единственно научного», конечно, очень долго и яростно сопротивлялось признанию своей беспомощности в этом отношении. Поэтому оно после недолгого и довольно вялого отторжения решило взять на вооружение последний всплеск надежды на разумное, объяснимое и предсказуемое построение общества, который заключался в кибернетических идеях. По своей глубинной сути кибернетика идеально стыкуется с ортодоксальным коммунизмом — оставив ему всю идеологию, все эти рассуждения о борьбе классов, незаслуженном присвоении прибавочной стоимости и прочие благоглупости канонического марксизма-ленинизма, она выдвигает реально научный образ управляемого общества. Точнее, только одной его составляющей — экономической, — но ведь, согласно марксизму, именно экономика является базисом, все остальное есть лишь зависимая от него надстройка.
Привлекательность кибернетики была в том, что она гарантировала истинную научность (без кавычек) предлагаемого ею устройства общества — а значит, и предсказуемость, и управляемость, и даже оптимальность в строго математическом смысле. Спорить с этим было намного труднее, чем с коммунистическими догмами, которые имели довольно очевидные нестыковки с реальностью. Настолько труднее, что, узнав о проектах кибернетически управляемой экономики в СССР (проект Китова-Глушкова, позднее получивший название ОГАС — ОбщеГосударственной Автоматизированной Системы управления народным хозяйством), американцы забеспокоились всерьез — ведь именно в управляемой плановой системе для подобных проектов существовали все условия.
Однако, узнав, к какому итогу приводит лозунг «Кибернетику — на службу коммунизму», еще больше забеспокоились советские власти: автора первоначального проекта глобальной кибернетической системы управления страной Анатолия Ивановича Китова исключили из партии и уволили из рядов вооруженных сил. А перехватившего его идеи Виктора Михайловича Глушкова, которого первоначально поддерживал председатель Совета Министров А. Н. Косыгин, отстранить было труднее, потому его проект просто спустили на тормозах.
Здесь не место анализировать все причины краха кибернетического подхода к управлению обществом, обозначим только основные. Конечно, проект не мог быть реализован уже по не самой главной, но существенной причине огромного объема затрат, — по признанию самого Глушкова, требуемые ресурсы превышали атомный и космический проект вместе взятые.
А частичные проекты такого рода (например, внедрявшиеся буквально из-под палки АСУ уровня министерства и отдельных предприятий) не имели особого смысла и себя не окупали[234]. Но все-таки провал ОГАС в реальности произошел по иной, более общей причине: никто из находившихся у власти не желал выпускать из своих рук такой удобный рычаг воздействия на общество, как экономика и ее идеологические интерпретации.
Теоретически же подобный проект вполне осуществим — совершенно независимо от советских ученых в начале семидесятых его попытался реализовать английский кибернетик Стаффорд Бир в альендовском Чили (начатый проект «Киберсин» развалился после пиночетовского переворота в 1973 году). Но только теоретически, потому что человеческое общество в этом варианте превращается в машину — придаток к бездушному компьютеризированному механизму управления экономикой. Это уже даже не казарменный социализм — это намного хуже. Узнаете сюжет? Ну, конечно, это та самая вселенная победившего компьютерного интеллекта, у которого люди низведены до положения рабов, — сюжет, который неисчислимое количество раз обыгрывался в фантастике, начиная с нашумевшего в те годы «Эдема» Станислава Лема, который был посвящен теме кибернетически управляемого общества напрямую.
Анчаров очень тонко чувствовал эту тенденцию и высмеивал всеобщее преклонение перед возможностями компьютеров. Тогда всерьез пытались заставить компьютер писать стихи и сочинять музыку, и это было уже смешно, но Анчаров шел даже дальше: в спектакле «Теория невероятности» он пародирует чаяния сторонников искусственного интеллекта в следующем диалоге между идейным ученым Митей и поэтом Памфилием:
«МИТЯ. Да, дети могут родиться и без любви. Дайте мне словарь и машину, запрограммирую…
ПАМФИЛИЙ. А стоит ли хлопотать? В крайнем случае сотворите искусственного человека…»
Эти мотивы разбросаны по анчаровской прозе повсеместно — вспомним его теорию о механизме творчества (см. главу 4). В повести «Голубая жилка Афродиты» Анчаров напишет: «Может быть, я против науки? Упаси боже. Я против ее самоуверенности».
Анчаров еще от Грина перенял ненависть ко всему машинному, подменяющему человеческое. Елена Стафёрова в своем выступлении на «Анчаровских чтениях — 2018»[235] говорила об этом так:
«Грин испытывал неприязнь не к самим машинам как таковым, он боялся, что человек может уподобиться машине. Рассказ “Серый автомобиль”, странный, мрачный, трагический. Грин так и не дает однозначного ответа, что же именно погубило героя — то ли враждебные человеку механизмы, тайну которых он раскрыл, то ли психическое заболевание, жертвой которого он стал. Последний монолог героя произносится в клинике для душевнобольных, автор намеренно перемешивает в его речи явный бред и глубокие откровения. Сидней убежден, что машинное начало постепенно вытесняет начало человеческое, что автомобиля не было бы, “если бы некая часть нашего существа не была механической”. Прислушиваясь к себе, он ужасается: “Я полумертв сам, движусь, как машина; механизм уже растет, скрежещет внутри меня, его железо я слышу”.
Если во времена Грина главными символами технического прогресса, ведущими к обезличиванию человека, были самолет и автомобиль, то анчаровским героям приходится окунаться в споры физиков и лириков, а также возражать адептам кибернетики, которая “второпях объявила, будто человек — это тот же компьютер, только посложней — усовершенствованный”. Зотовы, герои романа “Как птица Гаруда”, как всегда, на стороне живой жизни: “Это все со страху и сгоряча. Жизнь не вычислишь. Она вывернется”, — убежден дед Афанасий, для которого смысл полета Гагарина в том, что “не машина в небо Юру несет, а он на ней едет”. Виктор Громобоев от имени семейства Зотовых полемизирует с заместителем директора крупного завода, который убежден, что вскоре машина научится думать и распознавать образы: “Образы родятся в живом человеке. А когда он их превращает в плоть, воплощает в подобие, они становятся обликами, и тут их может различать машина. <…> Вам кажется, что вы найдете самое последнее лучшее правило, облечете его в термин, и тогда жизни из машинной программы уже не вывернуться. <…> Вы останетесь с носом”.
Но вот вслед за бурными 60-ми наступают 70-е годы, и теперь оппонент Зотова — обыкновенная буфетчица, которая из-за буфетной стойки наблюдает, что происходит с людьми: “Толкутся возле меня весь день, а я присмотрелась. Один зашел — портфель, другой зашел — шляпа, третий — галстук. Бывает, трактор зайдет или станок, а чаще — либо канистра, либо сверло, либо запчасть. А чтоб человек зашел — этого не было. Чего не видела, того не видела, врать не буду. Мать говорила, отец человеком был. Не помню. Значит, последний скончался в сорок пятом”».
Вернемся к науке в целом. Упершись в невозможность прогнозировать социальные процессы, наука вслед за сильно потесненной ею религией потеряла возможность генерировать идеалы и в конце концов — уже в наше время — постепенно оказалась в унылой роли служанки общества потребления. Коммунисты, кстати, тоже не понимали, что отсутствие видимых стимулов деятельности в их идеально сытом обществе всеобщего равенства есть его главный недостаток. За них эти стимулы пришлось придумывать писателям-фантастам, и последние тоже не нашли ничего, кроме идеала самой науки — неограниченного познания. А тут и наука утеряла свое место на пьедестале, и призывать к «неограниченному познанию» стало смешно. Ничего нового на это место с тех пор не пришло и даже всерьез не было предложено — никем, кроме Анчарова, который с самого начала знал, «что хорошая жизнь лежит не столько вне человека, сколько внутри него» («Голубая жилка Афродиты»). Анчаров эту катастрофу идеалов предвидел, потому и уповал на всеобщий поворот к творческому пути познания вместо пресного рационального «научного» подхода и служению Красоте взамен мещанских устремлений к обустройству быта.
Причем служению с вполне практической целью воспитания «нового человека», у которого смыслы жизни «встроены» изначально и которому не требуются какие-то внешние стимулы и идеалы. Елена Стафёрова показывает это на примере героя повести «Сода-солнце»:
«Герой, как и автор, абсолютно убежден, что воздействие произведения искусства меняет человека кардинально, ибо “когда человек воспринимает искусство, это уже другой человек, не повседневный”. О том, как искусство преображает людей, написана “Песня об органисте…”. “И тогда я подумал, — говорит Сода-солнце, — что если сейчас человек иногда бывает таким, то когда-нибудь он таким будет всегда. И если для того надо стать музыкантом, художником или поэтом — в общем, органистом, то я хочу им стать, чтобы тормошить души и готовить те времена, когда люди наследственно станут такими, какими они сейчас бывают в момент творчества”».
«Шестидесятнические» идеалы пришли на смену старым «революционным» и какое-то время существовали и активно эксплуатировались. Отличие их от традиционно-коммунистических в том, что они не представляли собой какую-то определенную философию, связанную с чьим-то именем (Христа, Маркса, Ленина), а возникли стихийно из желаний «низов». Анчаров лишь немного доработал эту общепринятую модель, введя в нее мощную движущую силу в виде творческого подхода, доступного всем и каждому. Это обстоятельство легло на существовавшие представления об идеальном обществе легко и свободно и существенно их дополнило. Однако, хотя у Анчарова было и остается большое количество приверженцев, никакого практического выхода эта инициатива не имела и уже в конце века вроде бы ушла в историю вместе с недолго существовавшим «идеальным коммунизмом» шестидесятников. Но тут стоит задать вопрос: а навсегда ли она ушла?
В этом отсутствии новых идеалов есть главная причина того, что, по выражению Анчарова, «самое точное описание цивилизации нынешнего типа» заключается в формуле законченной глупости: «Назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили» (из повести «Козу продам»). И, к сожалению, за тридцать с лишним лет, прошедших с тех пор, как были сказаны эти слова, цивилизация европейского типа очень далеко успела продвинуться по этому пути и пока не собирается с него сворачивать. Но уже видны горизонты, за которыми принимать решения придется, и тут, наверное, будет уместно вспомнить, что идеалы существуют по-прежнему и никуда они не делись. Человек религиозный находит идеалы в Боге, ему не требуется что-то изобретать и придумывать, а человеку светскому, деисту или вообще атеисту, приходится их искать самому. И если только не воспринимать шестидесятнические идеалы как руководство к действию (такое мы уже, слава богу, проходили!), то они ничуть не хуже любых других, когда во главу угла ставятся лучшие человеческие качества, отличающие «царя природы» от животного.
В начале 1960-х Анчаров написал песню «Про поэзию», к названию которой при исполнении обычно добавлял: «Это был такой идиотский спор насчет того, кто лучше — “физики” или “лирики”. Ну, я, естественно, за “лириков”»:
Снега, снега…
Но опускается
Огромный желтый шар небес.
И что-то в каждом откликается
Равно с молитвой или без.
Борьба с поэзией…
А стоит ли?
И нет ли здесь, друзья, греха?
Ведь небеса закат развесили
И подпускают петуха.
На дискуссии «о физиках и лириках» стоит остановиться подробнее — она является такой же яркой и неотъемлемой приметой оттепельного периода, как фильм «Застава Ильича», выступления поэтов и бардов в Политехническом, ефремовский «Современник» или телевизионный «Клуб веселых и находчивых». Тем более что Анчарова дискуссия затрагивала непосредственно, так как находилась «в струе» его давних идей о механизме творчества: хотя он в ней публично не участвовал, предмет не мог его не заинтересовать.
Но каким бы ни казался нам сейчас сам предмет дискуссии, она знаменовала собой две существенные тенденции в советской действительности. Во-первых, заметно возросший интеллектуальный уровень общества. В двадцатые годы общественные дискуссии велись вокруг вопросов вроде: должен ли быть «пролетарский художник одновременно и художником и рабочим?» (утверждение идеолога Пролеткульта В. Плетнева. Эту строку лично Ленин прокомментировал исчерпывающим «Вздор»). Или можно ли «рекомендовать пролетариату музыку Чайковского», коли «в ней очень много чуждых нам элементов?» (другой идеолог Пролеткульта В. Полянский). Согласитесь, что спор о том, какой из подходов актуален для современника: рационально-прагматический («физики») или образно-поэтический («лирики») — все-таки находится на качественно ином уровне, чем взвешивание количества «пролетарского» в искусстве.
Во-вторых, сам факт, что дискуссия была полностью инициирована «снизу». Никакие идеологические инстанции ее не санкционировали, не вмешивались по ходу дела и даже не предпринимали попыток навязать какую-либо «официальную» точку зрения. Это тоже было ново: в СССР с начала тридцатых годов не проходило общественных дискуссий, начатых без подачи «сверху» или по крайней мере не одобренных в инстанциях (заметим, кстати, что то же самое, пусть и в меньшей степени, будет характерно для эпохи «застоя»). Совершенно честное изложение своего мнения в центральных (!) печатных изданиях и поляризация этих мнений почти без оглядки на «единственно верное учение» (кроме, конечно, определенного процента тех, кто всегда готов следовать за линией руководства) имели большое значение для формирования атмосферы времени. У Тарковского фильм «Зеркало» начинается метафорой «я могу говорить» — это и есть, среди прочего, отражение той атмосферы, общественного климата, в формировании которого дискуссия «о физиках и лириках» сыграла заметную роль.
Была и еще одна даже не причина, а скорее, фон, на котором разворачивалась эта дискуссия: вполне серьезная научная проблема механизма мышления, вставшая в актуальную повестку дня как раз в те годы, когда кибернетиками активно обсуждалась возможность создания искусственного интеллекта. Эту проблему мы уже затрагивали в главе 4 (в разговоре о «научных» идеях Анчарова) и еще затронем ниже в связи с первыми прозаическими произведениями Анчарова.
Свое название дискуссия получила от стихотворения Б. Слуцкого, которое было напечатано в «Литературной газете» 13 сентября 1959 года:
Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
Мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
Наши сладенькие ямбы…
Но публикация этих стихов случилась уже спустя полторы недели после начала самой дискуссии. Хронология событий подробно изложена в брошюре советского литературоведа Бориса Соломоновича Мейлаха[236]:
«Возникла эта дискуссия после напечатания в “Комсомольской правде” 2 сентября 1959 года статьи И. Эренбурга “Ответ на одно письмо”. Это был ответ на обращение к писателю студентки Ленинградского педагогического института Нины В., где она рассказывала о своем конфликте с неким инженером, — конфликте, в котором затем многие увидели симптом времени. “Как-то я попыталась прочитать ему стихотворение Блока, — писала корреспондентка. — Он нехотя выслушал, сказал мне, что это устарело, ерунда и теперь другая эпоха. Когда я ему предложила пойти в Эрмитаж, он разозлился, он там уже был, и вообще это неинтересно, и опять, что я не понимаю нашего времени. Конечно, он умный и честный работник, все его товарищи о нем высокого мнения, и я могла часами слушать, когда он говорил о своей работе, он мне помог понять значение физики, но ничего другого в жизни он не признает…” Рассказав об этом, корреспондентка спрашивала: как следует оценить такую позицию и верно ли, что интерес к искусству вытесняется в наш век могущественным научным прогрессом».
Отсюда уже видно, что проблема была поставлена поверхностно: для того чтобы ответить на вопрос, вытесняется ли интерес к искусству (неважно чем), надо сначала определить, какое именно искусство имеется в виду. К середине ХХ века искусство уже достаточно явно поделилось на коммерческую «попсу» и элитарное «настоящее» искусство, не обошел этот процесс и Советский Союз, хотя и в несколько деформированном виде. Причем разделить эти явления однозначно не всегда можно: многие чисто развлекательные по своему назначению (условно «плохие») явления искусства оказывали влияние на массы не меньшее, а иногда и большее, чем тщательно проработанные произведения талантливых и глубоко образованных авторов. Не углубляясь далее в эту бездонную тему, которую мы поневоле еще затронем не раз, все-таки констатируем, что участники дискуссии априорно отметают подобные вопросы, как бы соглашаясь по умолчанию со снобами, старательно делающими вид, что «попсы» не существует вовсе и рассматривать ее смысла не имеет. А зря: стоило бы как минимум разобраться с научной фантастикой. С одной стороны, она в то время рассматривалась исключительно как явление развлекательное и к «настоящей» литературе не причислялась, с другой — многие считали, что именно НФ должна стимулировать ученых и инженеров на новые открытия и изобретения. Налицо целая отрасль искусства (пусть и «попсового», но весьма влиятельного — вспомним популярность Жюля Верна), которая адресована как раз «физикам».
Продолжим цитировать Б. С. Мейлаха:
«Заканчивалась статья [Эренбурга] расплывчатой фразой: “…я верю, что победят страсть, воля, вдохновение тех, которые обладают не только большими познаниями (то есть в области точных наук. — Б. М.), но и большим сердцем”. Реакция читателей на статью была исключительно быстрой и активной. Уже через девять дней — 11 сентября — газета опубликовала серию откликов. В большинстве их поддерживалась позиция Эренбурга, защищалась необходимость всесторонне развитых интересов в обоих областях — науке и искусстве — для гармонического развития личности (другие вопросы в откликах пока не затрагивались). Сторонники этой точки зрения в дальнейшем не раз ссылались на выступление читательницы Э. Поповой, в котором им особенно импонировали слова: “Убеждена, что и там, в космосе, человек будет бороться, страдать, любить, стремиться шире и глубже познавать мир. Человеку в космосе нужна будет ветка сирени!” (Броская метафора — “ветка сирени в космосе” — в дальнейшей дискуссии мелькала многократно, создавая иллюзию решения сложной проблемы.) Многие авторы первых откликов были согласны с Эренбургом, с его критикой узкой специализации — этой “болезни века”, с критикой тех специалистов, которые, будучи хорошими знатоками своего дела, остаются все же недопустимо ограниченными людьми.
На вопрос о том, чем объяснить “дефекты” духовного мира, которые встречаются у представителей технической интеллигенции, тогда давались наивные, а порой и ложные ответы. Одни участники считали, что такие люди “оказываются черствыми, холодными по отношению к искусству, к прекрасному” потому, что у них вообще нет настоящей одаренности и одержимости чем бы то ни было — в том числе и самой наукой. По ходу их рассуждений получалось, что если какой-либо специалист равнодушен к искусству, то он вообще не обладает качествами “настоящего” человека. Другие читатели доказывали, что именно “горячая страсть к науке” и вытесняет все остальные интересы, в том числе интерес к искусству».
Из этих строк понятно, что Анчаров имел все основания называть дискуссию «идиотской».
Главным этапом в развитии полемики стало провокационное письмо известного ученого-кибернетика Игоря Андреевича Полетаева[237], который подписался просто «инженер Полетаев» и под этим именем в одночасье стал известен всей стране. Вот как излагает это событие Б. С. Мейлах:
«Однако не эти и другие подобные проблемы оказались в центре первой фазы дискуссии. Она пошла в основном по другому, искривленному руслу, проложенному парадоксальным в своей целенаправленности, ставшим притчей во языцех, сотни раз цитированным письмом И. А. Полетаева, напечатанным 11 октября в “Комсомольской правде”.
“Можно ли утверждать, — спрашивал Полетаев, — что современная жизнь все больше следует за художниками и поэтами”, и категорически отвечал: “Нет. Наука и техника создают лицо современной эпохи, все больше влияют на вкусы, нравы, поведение человека. Темп жизни стал иным, чем во времена, когда создавалось так много шедевров. Может быть, поэтому в наши дни шедевры и стали появляться реже…” Развивая эту мысль и используя возникшие в начале дискуссии имена Баха и Блока как символы искусства, Полетаев далее утверждал: “Мы живем творчеством разума, а не чувства, поэзией идей, теорией экспериментов, строительства. Это наша эпоха. Она требует всего человека без остатка, и некогда нам восклицать: ах, Бах! ах, Блок! Конечно же, они устарели и стали не в рост с нашей жизнью. Хотим мы этого или нет, они стали досугом, развлечением, а не жизнью… Хотим мы этого или нет, но поэты все меньше владеют нашими душами и все меньше учат нас. Самые увлекательные сказки преподносят сегодня наука и техника, точный, смелый и беспощадный разум. Не признавать этого — значит не видеть, что делается вокруг. Искусство отходит на второй план — в отдых, в досуг, и я жалею об этом вместе с Эренбургом”.
Я назвал это выступление Полетаева парадоксальным. Это действительно так. Во многих откликах автор письма был охарактеризован как человек бескультурный и т. п. Его письмо из-за своих эпатирующих, иронически-пренебрежительных слов о Бахе и Блоке, как будто намеренно рассчитанных на то, чтобы поддразнить почитателей искусства, действительно давало для этого повод».
Сейчас мы знаем, что письмо И. А. Полетаева было не «как будто», а действительно «намеренно рассчитано на то, чтобы поддразнить почитателей искусства». Спустя 20 лет после этих событий заведующий лабораторией Института математики СО АН СССР Игорь Андреевич Полетаев опишет эту историю. Его заметки уже в наше время опубликованы его сыном[238]. Как пишет Андрей Игоревич:
«В конце своей жизни И. А. Полетаев хотел написать некий сборник правдивых биографических анекдотов под названием: “Инженер Полетаев и другие Великие Люди” (Издательство “Недомыслие”). И хотя труд сей не только не увидел свет, но и не был толком написан, фрагмент о диспуте в архиве присутствует».
О характере автора заметок говорит уже первый абзац, да и дальнейший текст:
«Итак, не мешайте мне, я для вас сочиню чистую правду. Правдивость моя не подлежит (моему) сомнению, а скромность (немалая, учтите) запрятана под так называемым “юмором”, к которому всегда прибегают люди робкие, если приходится демонстрировать нахальство (и правильно делают, я считаю, ибо — куда же еще деваться?). <…> Объективно о дискуссии я знал далеко не все, знал просто мало. Но вот — то, что происходило со мной и вокруг.
В октябре 1959 года, в один из рабочих дней (я служил в звании инженер-подполковника в одном из военных НИИ) ко мне обратился один из моих сотрудников — Толя Толпышкин (если не путаю фамилию после стольких лет) и показал статью в “Комсомольской правде” (числа не помню). В статье какой-то науч-журналист со смаком рассказывал о теперь известном “чуде в Бабьегородском переулке” — псевдооткрытии, сделанном на заводе холодильников при испытании нового образца продукции: радиатор холодильника отдавал в виде тепла заметно больше энергии, чем потреблял электрической из сети питания («чудо», привлекшее внимание Игоря Андреевича — все тот же переизобретенный Анчаровым тепловой насос, о котором рассказывалось в главе 4 — авт.). Журналист — автор заметки — ликовал: к. п. д. больше 100% — и выкрикивал печатные лозунги.
На самом деле никакого чуда не было, и “советская промышленность не получит очень скоро сколько угодно даровой энергии”, как обещал автор. Дело в том, что термодинамика — для многих трудная и непопулярная глава физики. Случилось так, что ее я знал (но это уже другая история про моего руководителя юных лет проф. Б. Н. Клярфельда) и пытался Толе рассказать о цикле Карно и его обращении. Газету с заметкой я взял с собой, негодуя на очередную журналистскую безответственность. В троллейбусе по пути домой я еще раз прочел заметку. Все было ясно, и от скуки я стал читать остальной текст газеты (как правило, я не читал “Комсомольскую правду”). Тут я наткнулся на “подвал” с сочинением И. Г. Эренбурга, не помню заголовка, номер у меня впоследствии украли, восстанавливать я не пытался. В этом “подвале” содержался поучительный ответ маститого писателя на письмо некой “Нины X”. Нина жаловалась инженеру душ на своего возлюбленного (“мужика”, как ныне говорят уважающие себя дамы) за то, что он, будучи деловым инженером, не желает вместе с ней восторгаться шедеврами искусства, отлынивает сопровождать ее в концерты и на выставки и даже посмеивается над ее восторгами.
В своей статье Илья Григорьевич полностью солидаризировался с заявлениями “Нины” супротив “Юрия” (так звали ее “мужика”). Юрий, дескать, “деловой человек”, душа его (раз не ходит в концерты и по музеям) не развита, она (душа) — целина, корчевать ее надо, распахивать и засевать. И все такое прочее. Гос-споди, чушь какая!!!
Сначала я просто удивился. Ну как такое можно печатать! Именно печатать, ибо сначала я ни на секунду не усомнился в том, что И. Г. Эренбург печатает одно, а думает другое (не круглый же он дурак, в самом деле, с этой “душевной целиной”). Потом усомнился. А может, дурак? Потом решил: вряд ли дурак, просто хитрец и пытается поддержать загнивающий авторитет писателей, философов и прочих гуманитариев дурного качества, которые только и делают, что врут да личные счеты друг с другом сводят. На том и остановился.
В этот день вечером я остался дома один: жена, дочь и сын ушли куда-то. Единственная комната, в которой мы вчетвером много лет ютились, осталась в моем распоряжении — редкое везенье. Чувствуя, что я, дескать, исполняю гражданский долг, вытащил свою “Колибри” (немецкую портативную пиш. машинку) и аккуратно отстукал на ней письмо в редакцию “Комсомольской правды”, постаравшись объяснить их ошибку по поводу “чуда в Бабьегородском”… Кончил. Посмотрел на часы — еще рано. Кругом тихо, и дел у меня нет срочных. Вставил еще один листочек под валик и напечатал полстранички “В защиту Юрия” — о статье Эренбурга и письме “Нины”. И черновик, и напечатанная заметка хранятся у меня в папке под названием “Герань в космосе”. Оба варианта отличаются за счет редакторской правки, хотя немного (ну скажем у меня: “…не исправишь чтением стихов Блока и даже Эренбурга”, в печати “и даже Эренбурга” вычеркнуто; вычеркнуто также “…бедного Юрия, которого автор придумал в назидание читателю” и др.). В заключение я написал листок, разъясняющий, что о “чуде” я пишу всерьез, а об Эренбурге так, ни для чего, ибо сие меня не касается, ибо по специальности я — инженер (сам себя обозвал, можно сказать!). И подписался так же: И. Полетаев (инженер).
Письмо в три листка было отправлено и забыто мною. Через неделю, что ли, пришла открытка от какого-то бедняги, сидящего в редакции над чтением писем. Он “благодарил”, как положено, и все. Но в конце была фраза, которую я по наивности недооценил: “…высказывания об Эренбурге нас заинтересовали, и мы их, возможно, используем в дальнейшем”. Или что-то в этом роде. Наплевать и забыть.
Прошла еще одна неделя. В воскресенье в номере “Комсомольской правды” целая страница оказалась посвящена обсуждению читателями статьи И. Г. Эренбурга о “Нине”. В северо-восточном углу оказалась моя заметка “[Несколько слов]” — пропущено редакцией — “[в] В защиту Юрия” (оставлено редакцией). Узнал я об этом в понедельник, придя на работу.
Оказалось что-то вроде грома среди ясного неба! Не вру, два или три дня интеллигенция нашего НИИ (и в форме, и без) ни фига не работала, топталась в коридорах и кабинетах и спорила, спорила, спорила до хрипоты. Мне тоже не давали работать и поминутно “призывали к ответу”, вызывая в коридор, влезали в комнату. Для меня все сие было совершенно неожиданно и, сказать по правде, — непонятно».
Конечно, «инженер Полетаев» оказался не единственным, кто так рассуждал (хотя потом и вспоминал, будто бы редакция публиковала одни письма «против»). Но уровень его единомышленников! Б. С. Мейлах пишет:
«Любопытно, что Полетаев вовсе не оказался одиноким, и поэтому его выступление никак нельзя назвать случайным. Экспансивный заголовок одной из статей: “Я с тобой, инженер Полетаев!” — выражал мнение целого ряда его единомышленников, утверждавших, что страна сильна учеными, инженерами, математиками, а не приверженцами поэзии, что расчет орбиты космической ракеты — процесс несравненно более вдохновляющий и сложный, чем создание художественных произведений, и т. п.
Конечно, в таких рассуждениях проявлялась полнейшая эстетическая безграмотность, в них не было ни малейшего уразумения задач и сущности искусства».
Впрочем, ненамного лучше выступали его оппоненты. Вновь цитируем Б. С. Мейлаха:
«“Тов. Полетаеву его точка зрения на науку, технику и искусство кажется, на первый взгляд, чрезвычайно оригинальной и новой, — иронически заметил в своем отклике инженер В. Камев. — А на самом деле и сто и тысячу лет назад настоящей культуре приходилось вести борьбу с такими “новаторами”. У каждого века свои болезни, но всегда и всюду прекрасное не мирилось с равнодушием…” Из выступлений, в которых позиции скептиков подвергались более внимательному разбору, назовем, например, статью кандидата философских наук М. Ковальзона “Человек дела и дело человека” (12 ноября 1959 года), самим своим заголовком обращавшую внимание читателей на важность основной проблемы дискуссии, связанной с духовным миром современника. Сторонники “человека дела”, — писал М. Ковальзон, — забывают о главном: а зачем нам “дело” и зачем нам нужны “люди дела”? Разве “дело” является целью человеческих стремлений?.. Целью развития является человек! А развитие производства, науки, искусства… это лишь средства и условия для всестороннего развития и расцвета личности”. Ковальзон ставил под вопрос наличие духовных потребностей у “людей дела” и утверждал, что если эти потребности и имеются, то ограничиваются “примитивной духовной пищей”. Иными словами, как раз той самой масскультурой, “попсой”, о которой мы говорили ранее».
Доказать, что мешавшие «инженера Полетаева» с грязью сторонники «лириков» на самом деле даже не подозревали, в какой глубокой луже они по большей части сидели, несложно. Все дело в том, что, как пишет его сын, сам Игорь Андреевич: а) знал английский, немецкий, французский, итальянский, чешский, польский и японский языки, а также со словарем читал на шведском, греческом, китайском и венгерском, б) имел абсолютный слух и музыкальное образование, всю жизнь осваивал все новые музыкальные инструменты, в) дома собрал огромную коллекцию записей классической музыки, также очень любил песни Шарля Трене и Ива Монтана, г) занимался скульптурой, живописью, съемками любительских фильмов, прикладными искусствами (дутьем из стекла). При всем этом он был действительно крупным ученым-кибернетиком, большой карьере помешал только его принципиальный нонконформизм: например, он всю жизнь, даже работая на Минобороны, уворачивался от вступления в партию, мотивируя это в собственном стиле: «Я не готов по той причине, что не уверен пока в материальности электромагнитного поля». Как пишет А. И. Полетаев, «этого было достаточно, чтобы нормальный агитатор отстал и, выйдя, покрутил пальцем около виска». Полетаева менее всех «людей дела» можно было бы обвинить в отсутствии «духовных потребностей» — важнейшим содержанием его научной деятельности был анализ общемировоззренческих следствий победного шествия кибернетики и, что еще важнее, стимулирование на подобный анализ своих коллег по науке.
Позднее дискуссия читателей переросла в настоящую дискуссию профессионалов (уже на страницах «Литературной газеты», «Литературы и жизни», журналов «Москва», «Иностранная литература», конечно, «Нового мира» и др. изданий). Всего за почти пять лет, которые продлилась дискуссия (до 1964 года), в ней приняли участие академики, литературоведы, журналисты, писатели и поэты и даже иностранные авторы (Ч. Сноу и М. Уилсон).
Вот что Игорь Андреевич пишет о своем реальном отношении к этой дискуссии:
«Из споров “физиков” и “лириков” я вынес убеждение, что никто не играет честно, что никто никого не то что “не принимает”, но даже не понимает и, что хуже! — не тщится понять. Единственное стремление — самоутвердиться и возобладать. Это что — первичная природа живого? Может быть. Но разумом и честью это не пахнет. Впрочем, никто не знает, что такое “разум”, а тем более “честь”. Эвфемизмы, не более. А я знаю не больше других на эту тему. <…>
Что же я отстаивал (а я-таки “отстаивал” нечто) в этом споре? Я это помню, и я готов “отстаивать” и ныне. Вероятно, то, что я отстаивал, кратко можно назвать “свободой выбора”. Если я или некто X, будучи взрослым, в здравом уме и твердой памяти, выбрал себе занятие, то — во-первых — пусть он делает как хочет, если он не мешает другим, а тем более приносит пользу; во-вторых, пусть никакая сволочь не смеет ему говорить, что ты, дескать, X — плохой, потому что ты плотник (инженер, г…очист — нужное дописать), а я — Y — хороший, ибо я поэт (музыкант, вор-домушник — нужное дописать).
Есть охотники “по перу”, а есть “по шерсти” (и собаки, и люди), а есть еще и рыболовы. Не беда, если они не будут ходить на ловлю все вместе или не будут все вместе обсуждать успехи, не беда, если они не будут не только дружить, но даже встречаться — охотник с рыболовом и т. п. Беда начнется, когда дурак, богемный недоучка, виршеплет, именующий себя, как рак на безрыбье, “поэтом”, придет к работяге инженеру и будет нахально надоедать заявлением, что он “некультурен”, ибо непричастен к поэзии. Именно это и заявлял Эренбург, да будет ему земля пухом».
Это переводит всю дискуссию совершенно в иную, куда более обширную, плоскость. То, над чем ломали копья ее участники, можно было бы переформулировать более корректным образом так: происходит ли вытеснение научным подходом интереса к художественному осмыслению мира? Или уж совсем по-анчаровски выделяя самое существенное: чей подход более продуктивен, художника или ученого? А вопрос о «свободе выбора» стоит столько, сколько существует человеческая цивилизация, и сейчас он столь же далек от разрешения, как во времена библейских пророков и античных философов. В советские времена развернуть дискуссию в сторону спора о «свободе выбора», конечно, было невозможно. Никто не понял (и в условиях СССР понять и не мог), что именно стояло за позицией И. А. Полетаева, а если бы понял, то никакой дискуссии не состоялось бы: слишком сильно это затрагивало табуированные темы из области политики и философии, в том числе основы материалистического мировоззрения и социалистического строя.
Этой стороной вопроса Анчаров никогда особенно не интересовался, и потому оппонентами их с Полетаевым считать нельзя: его занимал именно вопрос о доминировании мышления художника или ученого — отсюда и его «Ну, я, естественно, за “лириков”». У Анчарова дискуссия о «физиках и лириках» упоминается не только в комментарии к песне, но и в романе «Теория невероятности», и в повести «Сода-солнце», опубликованных через несколько лет после «пика» этой дискуссии. М. Бинчкаускас в специально посвященной данной теме статье[239] напрямую связывает эти упоминания с размышлениями Анчарова о философии научного открытия. Он пишет:
«По мнению Анчарова, выяснять нужно не столько то, что сейчас для нас важнее: физика или лирика (ибо в действительности они лежат в совершенно разных плоскостях, что и дает повод для различных недоразумений и споров), сколько то: как эти сферы взаимосвязаны, насколько взаимозависимы. То есть заниматься следует: а) выяснением важности науки непосредственно для искусства в специфической для него, искусства, плоскости; б) выяснением, с другой стороны, важности искусства для науки, важности художественного начала в плоскости специфической именно для науки. И, в частности, именно роль “лирики” для “физики”. Это и есть тот аспект проблемы, который предстает перед нами в “Теории невероятности” и в “Сода-солнце”».
Там же М. Бинчкаускас отмечает, что:
«…необычайный интерес вызвало такое ответвление дискуссии, как обсуждение проблемы “Достоевский и Эйнштейн”, то есть вопроса о плодотворности воздействия творчества Достоевского на мышление Эйнштейна-исследователя. <…> К его обсуждению и примыкает интересующая нас проблематика романа и повести Анчарова (хотя имена Эйнштейна и Достоевского здесь почти не упоминаются). Просто Анчаров берет вопрос шире: не влияние какой-либо конкретной художественной индивидуальности на творчество какого-нибудь конкретного исследователя, а воздействие эстетического (здесь и далее выделено автором статьи — авт.) сознания на творческое мышление ученого. <…> Научная мысль исследователя продвигается вперед причудливыми, затейливыми переходами, неожиданными скачками ассоциаций, внезапными как бы озарениями интуиции; формы ее движения, иначе говоря, сходны с формами движения мысли художественной. <…>
Когда в “Теории невероятности” героиня говорит: “Сейчас без физики не проживешь”, Алексей Аносов, от лица которого ведется повествование, сам, кстати, физик, да еще работающий над проблемами сверхточных измерений, думает: “Откуда ей знать, дурехе, что сейчас без поэзии не проживешь! Была бы поэзия, а остальное приложится. Когда есть поэзия, люди горы сворачивают. И в области физики тоже”. <…> Другой герой романа, поэт Г. Панфилов, говорит: “Лирика — это особый способ мышления” <…> И затем он выражает уверенность в том, что “человечеству предстоит качественный скачок в самом методе мышления”. Сам же “скачок”, внезапности в переходе к новому методу мышления, как полагает Панфилов, не должны удивлять: история науки вообще движется в существенных моментах “неожиданными скачками”, принципиальные “открытия приходят внезапно” — с точки зрения, разумеется вчерашних понятий, прежних традиций, соответствующей науки, ибо, как говорил Эйнштейн: “Открытие не является делом логического мышления, даже если конечный продукт связан с логической формой”. Это тоже цитата из “Теории невероятности”».
Заключает свою статью М. Бинчкаускас так:
«Искусство оплодотворяет науку (“без поэзии не проживешь даже в физике”), открытия совершаются по принципам мышления в существе своем художественного — таков смысл этой детали и такова главная мысль М. Анчарова, красной нитью пронизывающая интересующую нас проблематику в “Теории невероятности” и “Сода-солнце”».
Таким образом, можно принять, что основные механизмы творчества у художника и ученого одинаковые (и с этим Полетаев, особенно в конце жизни, не мог бы не согласиться), но в то время этот тезис был совсем не очевиден. И как раз Анчаров много сделал для утверждения этой точки зрения, о чем мы уже говорили ранее и будем говорить еще в связи с его прозаическим творчеством.
Начался этот период деятельности у Анчарова с публикации не слишком удачного рассказа «Барабан на лунной дороге» (журнал «Смена», 1964, № 11, 1–15 июня). Рассказ основан на полностью выдуманной истории о советских туристах, встретивших во Франции парня — ударника в ресторанном оркестре, которому после войны в юном возрасте выпала несчастливая доля оказаться за границей. Ни единого пересечения с событиями жизни самого Анчарова здесь мы не находим, и уже неоднократно отмечалось, что Анчаров во всем был художником и отлично воспроизводил людей и события с натуры, а вот «из головы» у него до некоторых пор получалось гораздо хуже. Здесь эта особенность проявилась в полной мере: начиная с неправдоподобных деталей (разумеется, советских туристов на стриптиз никогда не водили и наверняка даже прямо не рекомендовали посещать такие мероприятия) и заканчивая не слишком мотивированной демонстрацией, которую устраивает этот парень на публике, непонятно что и кому доказывая. Даже если Анчаров основывался на чьем-то рассказе о поездке во Францию, то слишком многое додумал, чтобы оставить хотя бы видимость правдоподобия. Однако написан рассказ ярко, живым и непосредственным языком, потому мы уже в нем можем разглядеть некоторые черты будущего блестящего прозаика. На то, что сам Анчаров считал рассказ неудачным, указывает отсутствие его следов в дальнейшем творчестве — обычно удачные, по его мнению, приемы и сюжеты он использовал и в дальнейшем.
До этого оставалось совсем недолго: уже в ноябре в том же журнале «Смена» появился рассказ «Венский вальс» — «заявка» на «Теорию невероятности». Сам рассказ почти дословно вошел в роман, потому излагать его сюжет отдельно не имеет никакого смысла: он посвящен отношениям Алеши и Катарины, есть там и Краус, и пресловутый «блондин», который «чертовски аккуратен». Рассказ, конечно, производит совсем другое впечатление, чем насквозь искусственный «Барабан на лунной дороге» — он глубже, намного достоверней в образах и бытовых деталях, видно, что многое из рассказанного автор пережил сам.
Сам роман «Теория невероятности» был опубликован в журнале «Юность» в августе-сентябре 1965 года. Публикацию сопровождали специально подготовленные рисунки автора, что большая редкость во все времена. К сожалению, во всех последующих переизданиях эти рисунки выпали, потому мы подготовили специальную электронную версию романа, где эти рисунки имеются (ее можно свободно скачать с мемориального сайта, из раздела «Проза и песни»).
Как мы теперь знаем, сюжет «Теории невероятности» был у Анчарова уже отработан в процессе работы над сценарием «Луна на Благуше». Учел он в романе и многие замечания рецензентов к его сценариям — почти исчезло научно-техническое обоснование работы главного героя Алеши, то есть те части сюжета, которые у Анчарова были традиционно слабым местом. Так что к роману можно предъявить претензию, скорее противоположную той, что рецензенты предъявляли к «Солнечному кругу» (см. главу 5): там ругали за многочисленные недостоверные технические детали, а здесь профессиональная сторона жизни главного героя, его неудачи на работе обоснованы как-то уж совсем бледно. Ни к чему не привязана сцена встречи раненого Алеши с «чертовски аккуратным» блондином в немецком тылу (в сценарии он направляется, как мы помним, что-то там взрывать), непонятно содержание его работы с Ржановским (сценарий отчетливо намекает на запуск космической ракеты). Отсюда и налет некоторой импрессионистичности в построении сюжета романа: Анчаров, судя по всему, освобождается от всего лишнего, что могло бы помешать главной линии, — сценарий «Луна над Благушей», собственно, и не пошел потому, что в нем это главное направление не было выдержано до конца и все время расплывалось в подробностях и побочных, необязательных сценах. Но вот что характерно: те сюжетные неувязки, что в кино, вероятно, бросались бы в глаза, читатель в романе и даже зритель в спектакле совершенно не замечает!
И очень много действительно невероятных совпадений: Катя оказывается дочерью Шурки-певицы, внучки того самого деда-игрушечника, которых прекрасно знал Алеша в детстве, в сцене гибели Шурки в Вене присутствует также знакомый Алеше антифашист Краус и так далее, вплоть до того, что Катя оказывается невестой Мити, основного идейного оппонента главного героя по работе. Все это в обычной, реалистично-бытовой литературе выглядело бы искусственной натяжкой, и критики немедленно начали ругать роман именно за эти, как им представлялось, «недостатки». Сегодняшний придирчивый читатель, возможно, и обратил бы внимание на некоторые выпадающие моменты: на показной, плакатный пафос сцены с тем же «блондином» в тылу у немцев, на непонятно к чему привязанную сцену «молитвы» (по-другому не скажешь!) Гошки перед портретом Ленина. Но тогдашний читатель в «Теории невероятности» никаких натяжек не находил, и объяснялось это просто: явление совершенно не принадлежало литературному мейнстриму. Анчаров сделал заявку на собственное литературное направление и потом подтвердит ее своими последующими произведениями.
Если сравнивать Анчарова с его кумиром Александром Грином, то первое впечатление («безусловно, есть что-то общее») после обдумывания сменяется сомнением — а в чем, собственно, это общее заключается? Грин творил фантастику, почти все его сюжеты — описание необычных событий в необычных обстоятельствах, реалистичны у него только люди, в эти обстоятельства поставленные. Анчаров же писал совершенно реалистичную прозу, у него необычность — наоборот, в характерах и действиях людей. В фантастичности «Бегущей по волнам» сомневаться трудно, в то время как в анчаровской «фантастической повести» «Сода-солнце» (о которой далее) ничего фантастического, кроме главного героя, по сути и нет. И тем не менее их произведения из одного ряда: их роднит и общая романтическая атмосфера, которой так не хватало читателю шестидесятых, и установка на «чудеса своими руками», которые у Анчарова реализованы совершенно реалистически: имеются в виду сцены покупки Памфилием туфель или устройства неприкаянной семнадцатилетней Кати в экспедицию. Современному читателю ночная велосипедная поездка в аэропорт может показаться надуманной, но читатель шестидесятых в этом ничего необычного усмотреть не мог: и денег в самом деле на такси у многих не хватало, и взять и вот так внезапно сорваться на другой конец страны — тоже вполне в духе того времени.
Однако главное, что почерпнул Анчаров от Грина, — это тема творчества и влияния искусства на человека. В выступлении на «Анчаровских чтениях — 2018», которое мы уже цитировали, Елена Стафёрова привела множество примеров этому из творчества обоих писателей: например, она проводит параллели между «Песней об органисте» вместе с повестью «Сода-солнце», и рассказом Грина «Черный алмаз», где во время выступления скрипача перед каторжниками «герой испытал подъем чувств, обрел вкус к жизни» и в результате бежал с каторги. А потом этот бывший каторжник пишет скрипачу письмо со словами, которые мы могли бы встретить в устах любого из героев Анчарова:
«Искусство-творчество никогда не принесет зла. Оно не может казнить. Оно является идеальным выражением всякой свободы, мудрено ли, что мне, в тогдашнем моем положении, по контрасту, высокая, могущественная музыка стала пожаром, в котором сгорели и прошлые, и будущие годы моего заключения». И так со многими произведениями этих писателей, что делает их настоящими единомышленниками, несмотря на разницу эпох и обстановки.
Если искать другие параллели Анчарову в литературе, то, кроме Александра Грина, напрашивается светлый и совершенно не «по-американски» склонный к романтизму писатель О. Генри. Настроение его «Королей и капусты» и рассказов, многие из которых заставляют сразу вспомнить гриновское «делать чудеса своими руками» (как трогательные до слез «Дары волхвов», например), очень похоже на настроение ранних анчаровских повестей. С большой, конечно, разницей, обусловленной принципиально разным жизненным опытом: у О. Генри отрицательные персонажи отсутствуют сознательно, он умеет находить и находит положительные черты даже у бандитов, а Анчаров о существовании фашизма забывать не собирается.
«Теория невероятности» произвела на читателей ошеломляющее впечатление, которого никто, включая и самого автора, несомненно, не ожидал.
«Юность» завалили письмами восхищенные читатели, Анчаров какое-то время даже пытался на них отвечать. В сохранившемся и, видимо, так и не отправленном его ответе читательнице (или читателю) по имени Н. Литвер от 28 января 1966 года хорошо видно некоторое смятение, которое он испытывает от неожиданно свалившейся популярности:
«…Большое спасибо за теплые слова о “Теории невероятности”. Извините, что отвечаю с таким опозданием. Долго писать, почему так получилось — и уезжал, и болел, и работал, и еще многое другое личное. А главное, совершенно не был подготовлен, что вообще придется отвечать на письма. Пишу их медленно и плохо, мне проще написать этюд. Действительно, моя прежняя специальность — художник. <…> О прозе догадался только сейчас, очень увлекся…»
Режиссер Николай Лукьянов, которого мы уже цитировали в главе 5 в связи со вгиковской историей, был тогда еще совсем молодым человеком:
«В 65-м во мне произошел эстетический солнечный удар, безвозвратно поменявший всю дальнейшую жизнь. В журнале “Юность” напечатали “Теорию невероятности” неведомого до тех пор Михаила Анчарова, и по-старому стало жить неинтересно. Нет, я понимаю, что в наше циничное время это выглядит дебильством: не может, мол, какая-то повестушка со стишками и рисуночками кувыркнуть мировоззрение шестнадцатилетнего отрока настолько, что отрок провел нравственную ревизию своего морального облика и заговорил анчаровским слогом, к слову сказать, очень простым и заразительно афористичным. Повесть эту написал Поэт-романтик и Мыслитель, это видно было с полглавы и с первого же стихотворения».
Главный редактор «Юности» Борис Полевой[241] также пишет Анчарову теплое письмо, датированное 23 сентября 1965 года, которое здесь стоит привести полностью:
«Дорогой Михаил Леонидович!
Ну вот и кончили мы печатать Вашу повесть. Должен Вам сказать, что уже в самом процессе ее выхода мы поняли: это несомненно Ваш успех. Действительно, очень романтическая, молодая и ясная получилась вещь. Не предвещаю Вам больших похвал в критике. Критика сейчас гугнивая, простудная, высматривает главным образом, за что бы это автора тяпнуть побольнее. Но читательский успех, и в особенности у молодежи, как мне кажется, повесть уже имеет. Очень рад за Вас. Не забывайте нас и в дальнейшем. И, ей-богу, очень неплохи Ваши рисунки. Это редкий симбиоз, когда автор и художник — одно и то же лицо, причем преуспевающий и дополняющий себя в обоих жанрах. Я знал только один такой случай: мой покойный друг Игорь Курчатов был великим кулинаром и в свободное время чудесно изготовлял шашлыки. Причем как в делах атомных, так и кухонных весьма преуспевал. Ваш Б. Полевой».
Добавим, что критика и в самом деле оказалась «гугнивой», как и предсказывал Борис Николаевич, но об этом далее.
Премьера спектакля «Теория невероятности» в Театре им. Ермоловой состоялась в апреле 1966 года. Для инсценировки Анчаров убрал из романа часть не годящихся для сцены эпизодов (например, ту самую доставку Кати в аэропорт на велосипеде) и, наоборот, добавил и развил другие сцены. Поставил ее режиссер Яков Губенко (который впоследствии стал известен как организатор Московского еврейского театра-студии). Алешу сыграл прекрасный артист Владимир Андреев[242], и это была одна из главных удач спектакля. О второй удаче мы уже упоминали — композитор Андрей Эшпай не тронул анчаровских песен, которые так и звучали в спектакле в авторском исполнении. В «Неделе» (1966, № 22) критик А. Асаркан заметил по этому поводу: «Спектакль ермоловцев идет в ритме и в атмосфере песен Анчарова».
Несмотря на то что спектакль состоял почти из одних монологов и диалогов, при минимальном числе собственно игровых сцен (и при этом главная героиня в основном выступает в роли слушательницы — Татьяна Говорова с этой нелегкой ролью справляется очень неплохо), зрителю заскучать не давали ни на секунду — как выразился А. Асаркан в своей рецензии, авторы «сконструировали такой спектакль, чтобы у зрителя щемило сердце и наворачивались слезы от переживаний и сочувствия, но чтобы при этом зритель не переставал торопиться вдогонку за действием». В 1972 году спектакль «Теория невероятности» был переведен на пленку и пополнил собой ряд замечательных фильмов-спектаклей советского времени — сейчас этот жанр, кажется, забыт совершенно. Поэтому в послужном списке актеров и режиссера его следует искать именно как фильм-спектакль. Его, кстати, несложно найти в интернете и посмотреть полностью.
Еще раньше, чем «Теория невероятности», в июньском номере 1965 года журнала «Москва» выходит повесть Анчарова «Золотой дождь» (а еще до этого, 4 мая, был опубликован ее фрагмент в газете «Московский комсомолец»). Так что, формально говоря, именно ее следует считать первым, за исключением пары рассказов, прозаическим произведением Анчарова. Но, учитывая богатую предысторию «Теории невероятности» (в основе которой, как мы помним, еще рассказ «Помощник красоты» 1947 года), «Золотом дожде» правильнее будет сказать — «первым опубликованным». Повесть, несомненно, написана незадолго до публикации, и ее можно рассматривать как следствие того переосмысления своих отношений с жизнью, которое Анчаров был вынужден сделать после краха отношений с Джоей.
Она более характерна для последующего анчаровского творчества — при видимом отсутствии единого сюжета все события оказываются связаны воедино личностью лирического героя, излагающего случаи из своей жизни и связанные (не всегда явно) с ними размышления. Повесть глубокая и вдумчивая, очень многие очевидные для современников вещи в ней предстают с совершенно неожиданной стороны: там и нестандартные ответы на вопросы: «а за что, собственно, мы на самом деле ненавидим фашизм?», и «а почему именно мы победили?», и сама война с необычных, не характерных для того времени ракурсов, и непростая мирная жизнь с ее очень разными изгибами. И своего героя (альтер эго самого автора) Анчаров не щадит, признаваясь и в слабостях и в глупостях.
В повести «Золотой дождь» есть один эпизод, в котором Анчаров вспоминает обычную для молодых людей привычку таскать с собой разные мелочи на память. Мобилизованный герой повести в том числе оказался обладателем:
«…вырванной из книги о челюскинцах акварели художника Сварога, акварели изящной, легкой, журнальной, в манере “маэстро”, в прозрачных затеках цвета сепии. Я рылся недавно в старых бумажках, вывалил их из полотняного мешочка с проржавевшими от орденских колодок дырками и выбрасывал какие-то справки, военные литеры, фотографии забытых людей и оставил только эту акварель Сварога, потому что на обороте я еле разобрал полустершуюся (одни следы от карандаша) надпись, сделанную в сорок втором году одним мальчиком-солдатом, здорово игравшим на гитаре. У него был роман с официанткой Зиной, и от нее он услышал эту песню:
Если б добрым молодцам красные кафтаны,
Если бы звенели завсегда карманы,
Если б дно морское узнать да измерить,
Если б можно было красным девкам верить,
Если б Волга-реченька да вспять побежала,
Если б можно было жить начать сначала!
Если б можно было! Сначала начать жизнь никак нельзя. Но можно продолжить ее по-другому. В результате, правда, все равно будет почти то же самое, от себя не убежишь…»
Акварель упоминается в повести еще раз, когда ее герой оказывается на передовой:
«И еще я успел закурить. Бумаги у соседа справа и у соседа слева не нашлось. Сварога мы раскуривать не стали, потому что вспомнили челюскинцев. Мы не пожалели денег на хорошую жизнь и свернули длинную цигарку легкого табака из мятой десятки, которая нашлась у соседа справа».
Изрядно потрепанная и разваливающаяся на сгибах репродукция акварели Сварога с почти не различимыми на обороте стихами нашлась в бумагах Анчарова. В повести Анчаров строчки стихов переставляет местами. На самом деле стихотворение Алексея Константиновича Толстого, датированное 1854 годом, полностью выглядит так[243]:
Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала!
Кабы можно, братцы, начать жить сначала!
Ой, кабы зимою цветы расцветали!
Кабы мы любили да не разлюбляли!
Кабы дно морское достать да измерить!
Кабы можно, братцы, красным девкам верить!
Ой, кабы все бабы были б молодицы!
Кабы в полугаре поменьше водицы!
Кабы всегда чарка доходила до рту!
Да кабы приказных по боку да к черту!
Да кабы звенели завсегда карманы!
Да кабы нам, братцы, да свои кафтаны!
Да кабы голодный всякий день обедал!
Да батюшка б царь наш всю правду бы ведал!
На повесть «Золотой дождь» в «Комсомольской правде» по горячим следам (30 июня 1965 года) откликнулся довольно доброжелательной рецензией начинающий критик Валерий Гейдеко[244]. Валерий Алексеевич по возрасту, без сомнения, принадлежал к целевой аудитории повести, и его реакция показательна. Не отметив ни одной отрицательной черты повести (вопреки тому, как это обычно принято у критиков), Гейдеко заканчивает рецензию следующими словами:
«Повесть М. Анчарова на сорока журнальных страницах говорит еще очень о многом: о любви и красоте, долге и убежденности, целеустремленности и упорстве. И, как всякое настоящее произведение искусства, повесть служит великой и гуманной цели — пробуждать чувства добрые. Не одного человека она заставит задуматься, принудит к пристрастному и строгому самоотчету, продиктует более требовательное отношение к себе. Это всегда строгая и серьезная проверка: дает ли произведение пищу читательскому уму, наводит ли на размышления о жизни, о месте и целях человека в ней. Повесть М. Анчарова такую проверку выдерживает».
В январском номере журнала «Москва» за 1966 год появилась обстоятельная рецензия на оба произведения сразу. Подписана она опытным критиком Юрием Томашевским[245], но оставляет ощущение недоработанности — смысл произведений излагается достаточно прямолинейно, и в конце концов так и остается непонятным, нравится автору прочитанное или нет. Однако в этой рецензии есть один момент, на который стоит обратить внимание, — критик пытается разъяснить смысл названия романа: «Итак, “Теория невероятности”. Герой романа после множества самых неожиданных встреч и событий приходит к мысли, что слепая случайность — это не просто видимость, она вызвана каким-то, порой ускользающим от нашего взгляда, внутренним законом».
Формулировка как будто из учебника физики — этот вопрос еще перед Второй мировой очень волновал научное физическое сообщество, ошеломленное новооткрытой квантовой механикой, объекты которой имеют вероятностную природу (а это ни много ни мало все элементарные частицы, составляющие наш мир!). Получалось, что все в нашей Вселенной происходит по воле случая, с чем не хотел согласиться Альберт Эйнштейн, в своем споре с другим великим физиком Нильсом Бором произнесший знаменитое «Господь Бог не играет в кости!». Анчаров был бы с ним согласен: воспитанный в духе канонического материализма, он именно это и хотел показать — что случайностей в жизни не бывает, все происходит по каким-то скрытым закономерностям. Отсюда и его необычное для литературы тех лет построение сюжета, в котором все в конце концов оказываются связаны со всеми.
В мае 1967 года в журнале «Москва» опубликовано центральное прозаическое произведение Анчарова тех лет — повесть «Этот синий апрель». В 1969 году она будет издана в издательстве «Советская Россия» отдельной небольшой книжкой с оформлением обложки и иллюстрациями Анчарова. Графические мотивы авторского оформления обложки повести «Этот синий апрель» использованы в оформлении мемориального сайта Анчарова и обложки этой книги.
Повесть замыкает трилогию от лица всех трех ключевых героев Анчарова: «Золотой дождь» написан от лица художника Кости Якушева (по прозвищу «да Винчи»), «Теория невероятности» — от лица физика Алеши Аносова, а «Этот синий апрель» повествует о жизненном пути поэта Гошки Панфилова. «Этот синий апрель», как и «Золотой дождь», — повесть насквозь биографическая, при ее чтении сразу чувствуется (а при внимательном изучении во многом подтверждается документально), что в ней почти нет полностью выдуманных эпизодов и героев, все они представляют зарисовки с натуры, пусть и преломленные через воображение художника, — то, что особенно хорошо удавалось автору. Легко распознаются многие реальные лица из биографии Анчарова.
От этого повесть значительно выигрывает в литературных достоинствах даже по сравнению с яркой и куда более сюжетной «Теорией невероятности», где многие эпизоды при внимательном рассмотрении выглядят все-таки искусственными и надуманными, и сразу можно отличить, что вот это художник рисовал с натуры, а вот это выдумал. В повести «Этот синий апрель» такие неровности практически отсутствуют — перед нами цельный образ, почти лишенный характерной для Анчарова импрессионистической размытости.
К повести «Этот синий апрель» приложила руку талантливый литературный редактор Диана Тевекелян[246], работавшая тогда в журнале «Москва». Не в последнюю очередь благодаря именно ей повесть получилась такой незаурядной по своим литературным качествам. «Теорию невероятности», которая была написана раньше, Диана Варткесовна не контролировала, а «Золотой дождь» тоже прошел через ее руки, но там почти ничего не менялось в сравнении с авторским текстом. Через много лет в уже упомянутом интервью она расскажет: «Тогда, когда писалась “Теория невероятности”, мы были не знакомы». Потом Анчаров к ней пришел с рукописью «Золотого дождя»: «…посмотрела, сказала: “какая-то белиберда”». А потом оказалось, что, наоборот: «…я очень многому сама от него научилась. Потому что на стыках совершенно не съезжающихся кусков у него обнаружилось новое художественное качество. У него вообще проза со своей очень сильной интонацией». И «с “Золотым дождем” очень мало что менялось по сравнению с тем, что он сделал. В общем, изменения, к сожалению, чисто цензурные. Там просто была война, и там были жесткие какие-то вещи о войне, цензура кидалась». В повести «Стройность» Анчаров упомянет о том, как цензура тогда заставила выкинуть упоминание о вошебойках (см. главу 2).
А над повестью «Этот синий апрель» они работали совместно довольно долго:
«А потом, значит, он засел за “Синий апрель”. Родилась замечательная первая глава, вылезла у него сразу, а дальше все застопорилось. Вот тогда с этим возиться пришлось уже по-настоящему. Потому, что надо было и придумывать, как монтировать, придумывать, что делать и на чем вылезти, вот. И началась вот эта вот работа, на довольно долгие годы. Он поработал, и действительно очень много вылезло».
О песнях, включенных в тексты ранних повестей Анчарова, Тевекелян говорила, что
«…это было сделано для тональности вещи. Для того чтобы проза звучала немножко иначе, чем ей положено звучать. Это действительно этим достигалось. В “Золотом дожде” мы просто взвешивали буквально каждую песню, куда она ложится и как она прозвучит в этом месте. И то же самое было потом в “Апреле”, даже в “Самшитовом лесе” мы к этому прибегали, новые вещи уже, там меньше».
Спустя много лет в своих беллетризованных воспоминаниях[247], где Анчаров предстает под условным именем Вадима, Диана Варткесовна напишет:
«В журнале напечатали повесть Вадима. Споры вокруг не утихали долго, но были чисто литературные. Почему-то бурлящую литературную молодежь шестидесятых задевала личность автора: взрослый, неприкаянный, говорит много и откровенно, не стесняется размышлять больше об искусстве, чем о происходящем рядом. Раздражающе многозначителен. И проза какая-то чудная, вроде бы все как у людей — сюжет есть, выстроен, характеры вполне понятные, но это словно бы внешний пласт. Как у старых живописцев. Только у этого, кроме едва уловимой упругости фразы, ее музыкальности, которую не вычленишь, не заставишь стать осязаемой, за плечами еще война. И она, хотя ни одного описания боя в повести нет, дышит в любом эпизоде, диалоге. А как сделано — не поймешь.
Ровесники Вадима тоже почувствовали некий неуют. В уже установившуюся систему отношения к войне входило что-то боковое, легкомысленное, что-то литературно-романтическое. Главное — сама война вроде бы подразумевается, но где она, в чем? Где тягости окопной жизни, преодоление страха, смертельной опасности? Вместо этого какие-то нелепые рассуждения, что вышел, к примеру, человек за хлебом и встретился в очереди с другим человеком, так это два мира встретились, и не важно, кто эти люди, важно, что каждый из них — вселенная… А потом — кто он сам-то, автор? Почему так поздно прорезался? Только что чужие сценарии переделывал, крохами с чужого стола кормился…»
Как выяснилось из общения с почитателями Анчарова, захотевшими ознакомиться с романом Дианы Тевекелян «Интерес к частной жизни», где образ Вадима-Анчарова занимает одно из центральных мест, без пояснений они эту книгу адекватно не воспринимают (характерная реакция: «Да она ему просто завидует!»). Во-первых, книга — не просто воспоминания, а все-таки роман, потому не нужно воспринимать образ Вадима буквально (примерно так же, как нельзя судить о реальной Наталье Суриковой по образу Нади в повести «Этот синий апрель»). Хотя книга Тевекелян во многом основана на реальных событиях из литературной жизни шестидесятых — восьмидесятых годов, и многие известные персонажи там представлены под настоящими именами, а связанные с ними события изложены документально точно, это не должно дезориентировать. Основная линия романа — история взаимоотношений некой Натки, альтер эго автора, ее близких и Вадима —дополненная и расширенная переработка некоторых реальных событий в соответствии с художественной задачей автора. Именно поэтому и главная героиня, и Вадим выставлены под вымышленными именами и лишь отчасти напоминают реальных прототипов. Действительные события там легко переплетаются с придуманными эпизодами, часто нарушается хронология событий, которые происходили в реальной жизни Анчарова.
То есть перед нами не живой Анчаров, а некий реконструированный на основе его личности условный персонаж. И если вы прочтете роман внимательно и полностью, то поймете, что никто там никому не завидует, героиня романа и Вадим — единомышленники, отсюда и столь большое внимание, уделенное этому образу на фоне более знаменитых реальных современников Дианы Тевекелян. Автор намеренно преувеличивает некоторые стороны характера настоящего Анчарова, показывая, как героиня романа все время пытается освободиться от влияния этого невероятно притягательного человека и его завиральных идей, но так и не сможет сделать этого до самого конца, пока не обнаружит, что это и ее собственные идеи тоже. И при этом заметно, что от живого Анчарова в образе Вадима осталось немного: очень мало упоминаний о нем как о барде и почти совсем ничего как о художнике.
Об Анчарове-писателе в интервью она скажет так: «…он очень много нового сделал, Миша, в литературе, на самом деле, если говорить по-серьезному. И ничто из этого не прозвучало и не заставило к нему относиться как к крупному писателю». Тевекелян, находившаяся внутри литературного процесса, здесь имеет в виду отношение коллег — профессиональных литераторов, но не принимает во внимание влияние анчаровских книг на современников-читателей. А ведь таких примеров, когда писатель, вроде бы причисляемый к слабым, оставляет за собой в культуре широкий след, совсем немало — хрестоматийный пример представляет Александр Дюма. И это при том что Анчаров никак не был литературно слабым писателем: у него бывали ошибки и промахи, но скорее от упрямства и нежелания встраиваться «в литературный процесс», чем от недостатка таланта или усидчивости.
17 октября 1967 года датирован экземпляр пьесы «Этот синий апрель», сохранившийся в РГАЛИ. Она должна была быть поставлена в Театре им. Ленинского комсомола (сохранился даже список текстов песен для спектакля), но постановка не состоялась.
Одна из самых удивительных особенностей ранних анчаровских произведений — не сразу осознаешь, насколько они невелики по объему. И роман «Теория невероятности», и повесть «Этот синий апрель» имеют объем приблизительно по 5–5,5 авторского листа — это совсем немного, сотня с небольшим стандартных машинописных страничек. Исходя из обычных представлений того времени, «Теория невероятности» на полноценный роман совсем не тянет. Но анчаровская проза настолько насыщенная, что, повторяем, этого просто не замечаешь — в том же «Синем апреле», если бы автор поставил задачу «налить воды», материала хватит на три полноценных романа, и еще, наверное, останется на небольшой сборник рассказов. Эта особая лаконичность, предельная сжатость анчаровской прозы также не была понята его современниками-профессионалами, относившимися к нему свысока-снисходительно, как к непутевому младшему братику. А Анчаров со своей стороны столь же равнодушно отнесся к этой стороне своей репутации и не сделал ничего, чтобы этот стереотип преодолеть.
Где-то в середине 1964 года (если судить по письму А. Стругацкого, которое мы цитировали в главе 2) Анчаров знакомится со Всеволодом Александровичем Ревичем, молодым критиком, который тогда начинал специализироваться по фантастической литературе (мы уже неоднократно цитировали статьи В. Ревича, посвященные Анчарову). В это время происходила оживленная война внутри фантастического жанра: старая гвардия во главе с Владимиром Немцовым и Григорием Адамовым отстаивала ультраконсервативное направление под названием фантастика «ближнего прицела», где главной задачей фантастической литературы считалась популяризация достижений современной советской науки и техники. Против них выступили даже такие консервативные монстры, как Александр Казанцев и Николай Томан.
Но главным знаменем нового направления стал Иван Ефремов, который примером «Туманности Андромеды» показал, что можно писать совершенно другую фантастику, больше похожую на литературу, где во главу угла ставятся все-таки люди и их отношения, а не фотонные двигатели. В этом же русле работали все наиболее известные фантасты шестидесятых и семидесятых: братья Стругацкие, Дм. Биленкин, В. Журавлева, А. Днепров, И. Варшавский, Г. Гор и другие, позднее к ним присоединился популярный и поныне Кир Булычев. К концу шестидесятых они окончательно рассорились с консерваторами Казанцевым и Томаном, сторонники которых на время почти перекрыли молодежи возможность публиковаться, оставив отдушину в виде издательства «Детская литература».
В 1964 году «новая» фантастика была на самом подъеме. Есть подозрение, что Анчаров был не в курсе этого поворота, так как во время его молодости «научная фантастика» была представлена в лучшем случае политическими агитками в виде «Пылающего острова» А. Казанцева — произведения отчасти талантливого, но лишенного даже намека на принадлежность к «большой» литературе. На такую фантастику Анчаров, естественно, обращал внимания не больше, чем на доклады очередного пленума, да и не он один: «хвост» представлений о фантастике как о литературе не вполне настоящей, второсортной, чисто развлекательной тянется вплоть до наших дней. Сейчас это представление легко опровергается: достаточно привести примеры «Мастера и Маргариты», «Собачьего сердца», произведений Александра Грина или западных писателей Рэя Брэдбери, Джорджа Оруэлла, Курта Воннегута или Хорхе Луиса Борхеса, чтобы понять, что фантастическая форма для выражения совсем не фантастических проблем явилась чуть ли не центральным направлением всей литературы как минимум второй половины ХХ века. Но если и сейчас это предубеждение вытравить окончательно не удается, то тогда оно было доминирующим и к тому же старательно культивировалось властями, чуявшими именно в фантастике самого опасного конкурента массовой, расхожей версии официальной идеологии.
Всеволод Ревич, горячий поклонник и защитник фантастики «новой волны», сумел заинтересовать этим направлением Анчарова. В специальном выпуске бардовской газеты «Менестрель» (июль-октябрь 1990 года), посвященном памяти М. Анчарова, В. Ревич расскажет об этом эпизоде подробно:
«— Научная фантастика, — выдал Анчаров одну из своих сентенций, — это не литература, это изложение тезисов, разложенное на голоса.
Я занимался фантастикой и разделить подобную точку зрения не мог, хотя был с ней согласен.
— Ты прав, если говорить о плохой фантастике. Но беда ее в том, что фантастику сочиняют бездари и дилетанты.
— Вот-вот, ее любой дурак сочинить может…
— А талантливые и опытные писатели, — продолжал я, — не хотят с ней связываться, потому что думают о ней, как ты.
Это была тонко рассчитанная лесть. Миша был полностью согласен, что эпитеты моей последней фразы относятся и к нему, хотя он написал, вернее, опубликовал к тому времени всего одну повесть — “Золотой дождь” в журнале “Москва”. Затем я добавил столь же тонко рассчитанное оскорбление:
— Впрочем, некоторые и хотели бы, но даже не представляют, с какого бока к ней, к фантастике, подойти. Тут ведь нужны особые способности. Воображение, то-се… Это мало у кого встречается. У тебя, например, едва ли что-нибудь получилось бы… Стилистика не та…
— Ну, если бы я действительно захотел… — медленно сказал Анчаров, обдумывая ситуацию.
— А что ж, попробуй. У меня есть месяц до сдачи сборника. Там как раз не хватает листа. Лист за месяц сможешь создать?
— Наверно, смогу, но я… У меня другие планы…
— Хватит трепаться! Через месяц даешь мне печатный лист. Место я тебе оставляю, так что ежели не сдашь, ты меня подведешь, понял?
Через месяц он принес три листа с хвостиком, и рассказ (точнее, повесть — авт.) “Сода-солнце” был впервые опубликован в молодогвардейском сборнике “Фантастика. 1965”[248]».
Михаил Леонидович, проникшись, пошел на указанному направлению прямо в лоб — думается, не один читатель, прочитав повесть «Содасолнце», задумывался: а чего тут, собственно, фантастического? А ничего на самом деле, кроме шуточного допущения о том, что дьявола придумали те, кто увидел в темноте пещеры первое в истории зеркало, которое неизбежно было кривым. Но сама повесть, наполненная и легкой иронией, и ненавязчивыми лиризмом, и, разумеется, как обычно у Анчарова, серьезным размышлениями над жизнью и творчеством, читателям полюбилась. В конце девяностых «Сода-солнце» первым из анчаровских произведений попала в интернет в электронной копии[249], и до сих пор многие начинают с нее знакомство с творчеством писателя.
В книге «Перекресток утопий» (которую мы уже цитировали) Всеволод Ревич заметит по поводу «фантастичности» трилогии:
«Оригинальности произведений Михаила Анчарова вряд ли кто-нибудь не заметит. Необычно поступил он и со своей фантастикой, прочертив рядом с тремя нефантастическими повестями (“Теория невероятности”, “Золотой дождь”, “Этот синий апрель”) фантастическую параллель, состоящую тоже из трех названий (“Сода-солнце”, “Голубая жилка Афродиты”, “Поводырь крокодила”, 1966–1968). И хотя фантастическими их назвал сам автор, фантастика Анчарова настолько своеобразна, что у многих, возможно, возникнет сомнение, можно ли “Соду-солнце”, например, отнести к фантастике. К привычно-обычной, безусловно, нельзя. Но такое утверждение — наивысший комплимент, который можно сделать автору. <…> наверное, Анчаров и сам чувствовал, что его реалистические повести отражают время не с той полнотой, как, например, “городские” повести Ю. Трифонова. Вот тут-то фантастика и пришла ему на выручку, в ней он мог прекраснодушничать, сколько его авторской душе угодно. А так как основная тема Анчарова, смысл жизни для него и для всего человечества — творчество, и не просто творчество, а творчество по законам красоты, то его герои постоянно творят. Творят у нас на глазах. Даже забавные розыгрыши Соды-солнца — Памфилия в НИИ тоже творчество.
И хотя никто не назвал бы фантастику Анчарова научной, он, между прочим, показал иным так называемым научным фантастам, что такое настоящая выдумка, настоящая фантазия, настоящая эрудиция. Теории, которые выдвигают его герои (то есть сам автор), не только незаемны, но и так убедительно обоснованы, что, например, мне, дилетанту, трудно даже судить, выдумка это или правда. Гошка, например, утверждает, что мастера, строившие Кремль, были непосредственно связаны с Леонардо да Винчи, а в более позднем “Самшитовом лесе” герой доказал ни много, ни мало знаменитую теорему Ферма…»
В упоминавшемся специальном выпуске газеты «Менестрель» Всеволод Ревич выскажет такое мнение об анчаровской «фантастике»:
«“Жилка” еще менее походила на привычные образцы, а завершение трилогии — “Поводырь крокодила” — было и вообще ни на что не похоже. Еще при первом чтении “Сода-солнца” у меня зародилось подозрение, впоследствии полностью подтвердившееся. Никакой фантастики он не читал.
И в своих суждениях об этой литературной дисциплине целиком основывался на проверенном принципе: “Не читал, но осуждаю…” Свою фантастику он изобретал, так сказать, на голом месте. Просто ему казалось, что она должна быть вот такой».
Режиссер Николай Лукьянов очень точно заметил по поводу появления анчаровской фантастической трилогии:
«Начиная с повести “Сода-солнце” и до смерти Михал Леонидыч изобретал и исследовал еще один им придуманный жанр — что-то типа фэнтэзи, но с анчаровским привкусом милой сентиментальности, что придавало особое очарование его прозе».
В повести в развернутом виде сформулирована идея излечения смехом от зла и пошлости, которая у Анчарова появлялась еще в неопубликованном сценарии «До свиданья, Алеша». Если анекдотом, пародией что-то можно уничтожить, «опустить», то туда ему и дорога, а истинное, настоящее не боится осмеяния:
«— Какая разница, — сказал он, и лицо у него стало светлое и отрешенное. — Смех и слезы, дорогой учитель. Нет ничего на свете, дорогой учитель, над чем нельзя было бы посмеяться. И легче всего над слезами. Даже над трагедией Шекспира можно. Может быть, смех — это единственное, что нас отличает от животного. Смеется только человек.
— Ну подумайте, что вы говорите, — сказал я. — С вами всегда влипаешь в нелепые дискуссии. Вы же прекрасно знаете, что есть вещи, над которыми не посмеешься. Тот же “Гамлет”, например. Иначе я не знаю, что такое смешно.
Это была моя ошибка — которая по счету?
— Ерунда. Вы знаете, что такое смешно, — сказал он спокойно. — Вот, например, идет трагедия “Гамлет”. Принц Гамлет читает монолог “Быть или не быть”. И тут у него падают штаны… И дальше он читает монолог, придерживая штаны… А они падают и падают… А еще смешней, если они падают, когда принц проклинает свою мать, а за стенкой лежит труп Полония. А штаны все падают… падают…
— Перестаньте…
— А еще смешней, если штаны падают во время поединка с Лаэртом… Я уже давно смеялся каким-то дрожащим козлиным смехом — я представлял себе дуэль без штанов, а в горле у меня закипали слезы. Оказывается, над Гамлетом (над Гамлетом!) можно было смеяться. Я перестал блеять и посмотрел на него. У него широкий рот был искривлен в улыбку, а по щеке бежал ручеек. Мне казалось, что я гляжусь в зеркало».
В повести «Поводырь крокодила» Анчаров выразится еще афористичнее: «настоящая клоунада — это не тогда, когда зрители смеются над клоуном, а когда клоун смеется над зрителями».
Концепция «смеховой культуры» (карнавала) принадлежит старшему современнику Анчарова Михаилу Михайловичу Бахтину (1895–1975), теоретику культуры, у которого Анчаров мог бы почерпнуть многое для оформления этих своих идей. Идея клоунады, смеха как защиты от темного, пошлого и злого начала в человеке, появившаяся в «Сода-солнце» и затем повторенная в других произведениях Анчарова, могла бы считаться дословно заимствованной из Бахтина. Согласно его теории, смех, карнавал и праздник, в которых отсутствует официальность, условности и догматизм, представляют собой бытие в наиболее чистом виде. Однако Анчарову негде было ознакомиться с этими идеями: Бахтин еще до войны был ошельмован, почти запрещен и вновь появился в общественном поле зрения только в середине-конце шестидесятых. То есть Анчаров теоретически мог познакомиться со взглядами Бахтина не ранее конца шестидесятых годов, если бы узнал об их существовании. Но тогда у него самого концепция «клоунады» уже вполне сложилась, так что, несомненно, он дошел до нее самостоятельно, заимствовав идею из первоисточника: в интервью газете «Московский комсомолец»[250] в 1980 году, в ответ на стандартный вопрос «Какие литературные имена определили ваш творческий путь?» Анчаров назовет Александра Грина, Пушкина и Франсуа Рабле: «Размахом и яростным жизнелюбием подействовал Рабле, его “Гаргантюа и Пантагрюэль”».
И все-таки центральной из трех анчаровских фантастических повестей следует считать «Голубую жилку Афродиты», опубликованную через год с небольшим после «Сода-солнце», в сборнике «Фантастика-66» (выпуск 3). Повесть хорошо проработана сюжетно, содержит великолепные зарисовки персонажей, и, кроме того, она — самая «фантастическая» из всех анчаровских повестей (к ней в определенной степени приложим даже термин «научно-фантастическая»). Причем, хотя повесть и короткая, она разрабатывает сразу два глобальных фантастических сюжета: прилет инопланетян на Землю и возможность реализации неких «лучей счастья», благодаря которым все люди становятся вдруг мирными и добрыми.
Эти темы неоднократно эксплуатировались в фантастике, начиная еще с Герберта Уэллса, и если трактовка прилета инопланетян бывала очень разной, то в отношении «лучей счастья» приговор почти всегда был однозначным, причем независимо ни от времени, ни от политических пристрастий: избавив человека от присущей ему агрессивности (а творчество, как и стремление к познанию, есть не что иное, как сублимированная агрессия), вы одновременно превращаете его в послушное и счастливое животное. Зло нельзя отменить декретом или загородиться от него психотронным излучением — человек может только сам осознать зло и победить в собственной душе. Это одна из ключевых идей повести — из нее следовало, что никакой «хорошей жизни» не будет, пока люди сами себя не переделают.
В финале повести наконец-то прилетевшие «настоящие» марсиане во главе с прекрасной инопланетянкой тут же выделяют из толпы встречающих поэта Памфилия, предсказавшего их появление. Здесь легко угадываются отсылки к уже упоминавшемуся образу Аэлиты из романа А. Н. Толстого (см. главу 6). Чтобы у читателя не оставалось сомнений, Анчаров далее включил в повесть текст песни «Аэлита» (с купюрами).
В «Голубой жилке Афродиты» много еще чего интересного с точки зрения даже только одной фантастики — например, одно из первых появлений в отечественной литературе идеи особой нетехнологической цивилизации, которая пошла по пути совершенствования внутреннего мира человека. Кстати, у Анчарова такая цивилизация может выйти в космос — он даже придумал этому примитивно-рациональное обоснование в виде легкодоступных источников энергии, которых земное человечество было изначально лишено. И здесь же одни из лучших лирических страниц его прозы, когда он рассказывает о посещении Костей Якушевым дачи некоего знаменитого режиссера (за которым легко угадывается Александр Довженко). Образ юной гостьи этого режиссера представлен настолько достоверно, что кажется нарисованным кистью художника, а не пером писателя.
Идея нетехнологического развития человечества (или фантастического аналога такового) потом неоднократно использовалась в литературе в самых разных формах. Известны и реально существовавшие (например, в средневековой Японии), и искусственно сконструированные фантазией авторов романов в стиле фэнтези общества, посвятившие себя служению прекрасному[251]. Обычно у писателей-фантастов отношение к таким обществам ироническое, если не строго отрицательное, — они закрыты для посторонних, устроены строго иерархически при полном бесправии «низов» (кому-то ведь надо обслуживать верхушку, занятую поисками этого самого «прекрасного») и в общем имеют все признаки вырождения. Подобное общество легко родит фашизм: коли есть привилегированные, понимающие в прекрасном, и есть основная серая масса, то перед вами готовое фашистское общество. В реальной Японии ведь тоже так было — всем известно, чем кончилась Вторая мировая война, развязанная со стороны Японии как раз наследниками тех самых, кто видел смысл жизни в любовании цветущими ветками сакуры на фоне силуэта Фудзи.
Логичная тенденция развития общества, полностью посвятившего себя самосовершенствованию каждого индивидиума в отдельности, — постепенный переход в бестелесное состояние и распад общества на отдельных автономных особей. Эта модель тоже не раз использовалась в фантастике: например, она блестяще представлена в фантастической саге современной писательницы Яны Завацкой «Квиринские истории». Такое общество быстро теряет смысл совершенствования и развития — у Завацкой наглядно показано, как с потерей биологического тела у сагонов (так они названы в романах цикла) пропадают желания, стремления и идеалы, и немыслимо совершенный разумом представитель такой расы, который может по желанию оказываться в любой точке вселенной и в мозгу любого обычного человека, вынужден посвятить себя поискам смысла своего существования. И если бы сагоны полностью забыли, что у них когда-то были эти стремления и чувства, то они бы давно самоубились, окуклившись внутри собственного разума, — с распадом общества исчезают и внешние стимулы существования, даже конфликты теряют всякий смысл. Но сагоны помнят об этой стороне своего когда-то цельного бытия и безуспешно пытаются ее восстановить или хотя бы понять своим уже полностью рациональным сознанием, нанося при этом немало вреда человечеству. Они даже умереть по-настоящему не могут, потому что оторванный от материального носителя разум потенциально бессмертен. Эта довольно детально разработанная модель представительницы младшего по отношению к Анчарову поколения (Яна Юльевна Завацкая родилась в 1970 году) служит блестящим развитием анчаровских идей о том, что только человек в человеческом теле и с человеческими чувствами может иметь понятные смыслы существования, в противном случае получается всесильный, но бездушный робот. Неизвестно, читала ли Яна Юльевна в молодости Анчарова, но она, несомненно, из его благодарных последователей, и отчетливый религиозный оттенок ее романов ничуть этому утверждению не противоречит.
Разумеется, Анчаров все это подробно не расписывал. Его идеал мало чем отличался от других моделей «интеллигентского коммунизма» — существовавшего в воображении поколения шестидесятников коммунистического общества, освобожденного от всех недостатков реального социализма, — того самого, воспетого ранними Стругацкими и Иваном Ефремовым. Горбачевский «социализм с человеческим лицом» — производная именно этого шестидесятнического представления об «идеальном коммунизме». Отличие Анчарова и от основной массы его современников, занимавшихся въедливым поиском ошибок и недостатков в существующей системе, и от тех немногих, кто догадывался выстроить новый положительный идеал взамен утерянного, в том, что его совершенно не интересовали ни научно-технические, ни бытовые, ни политические подробности. В «Голубой жилке Афродиты» в рассказе от лица художника Кости Якушева он напишет о себе самом:
«Я читал тогдашние фантастические романы и, пропуская межпланетные битвы, обледенения планет и кибернетические ужасы, все эти хлесткие выводы из недостоверных данных, искал в этих монбланах выдумок те места, где автор рассказывает, как, по его мнению, выглядит хорошая жизнь. И вот тут-то начиналось самое постылое, если не сказать ужасное.
Основная масса прогнозов по части хорошей жизни, если отбросить камуфляж и увертки, сводилась либо к безделью, либо к экзаменам.
Безделье в этих случаях обеспечивалось автоматикой, а экзамены — услужливыми стихийными бедствиями, а также авариями все той же автоматики, то есть все той же тренировкой, а вернее сказать — дрессировкой личности на предмет встречи с неожиданными неприятностями, без которых авторы не представляли себе хорошей жизни. Мне казалось, что все это можно было назвать хорошей жизнью только по недоразумению.
И никому из них почему-то не приходило в голову, что хорошая жизнь лежит не столько вне человека, сколько внутри него. Потому что ежели бы мы полностью зависели от жизни внешней и не обладали бы дискретностью и самостоятельной неповторимостью, то мы бы и изменялись полностью с изменением внешних условий, и тогда нельзя было бы говорить о человеческом виде. Да что там о человеческом! Тогда бы картошка, посаженная в тропиках, становилась бы, скажем, ананасом, чего, как выяснилось, не происходит.
Были, конечно, фантазеры, которые показывали, как должна выглядеть хорошая жизнь, если человек к ней внутренне подготовлен. Но таким авторам отказывали в научности, и потому к ведомству фантастики они не принадлежали. Александр Грин, например».
Если перечислять все подобные находки и другие оригинальные идеи, заложенные в повесть «Голубая жилка Афродиты», то ее можно цитировать постранично, поэтому мы здесь заниматься этим не будем, а отошлем читателя к оригиналу, который он может найти на многократно упоминавшемся мемориальном сайте. Отдельной электронной версии этой повести на широко доступных интернет-ресурсах долгое время не существовало — точнее, в известных электронных библиотеках издавна существовали копии молодогвардейских сборников «Фантастика» за все годы, но ведь еще надо было знать, что повесть там можно найти, потому что поисковые системы ее не обнаруживали. Поэтому для мемориального сайта была специально подготовлена копия, по тексту идентичная первой публикации в «Фантастике-66», но дополненная прекрасными иллюстрациями Галины Бойко и Игоря Шалито из трилогии, о которой идет речь далее.
«Голубую жилку Афродиты» Анчаров мечтал поставить в кино, но случилось так, что она была поставлена в виде спектакля в том же Театре им. Пушкина. Произошло это в 1972 году, и больше ничего об этом неизвестно, кроме удостоверяющей сам факт постановки строки в биографии режиссера — Геннадия Яловича[252] и слабых намеков на то, что спектакль запретили.
Некоторую ясность на историю со спектаклем «Голубая жилка Афродиты» пролила Нина Попова, которая тогда была замужем за Анчаровым (подробнее о Нине Георгиевне см. в следующей главе):
«Генка Ялович делал, он талантливый человек был очень, но мало того что к Анчарову относились исключительно плохо в главном управлении культуры, они ко всем бардам плохо относились. Один артист, который играл главную роль, пришел на сдачу спектакля, но сказать, что он лыка не вязал, это ничего не сказать. Вы можете представить, что мы показали, хотя Генка хороший спектакль сделал. И на этом нас закрыли. Вот и всё, что произошло. Все были очень увлечены и с удовольствием репетировали. Спектакль был такой красивый, музыкальный, романтичный, просто прелесть. И всё. Вот пришел артист в стельку пьяный, совсем в куски пьяный пришел, а мы скакали по сцене. А я пела “я ночью шла по улице”. В общем, доигрались. Это было чудовищно. Мы постарались все, как страшный сон, забыть. Генке вообще запретили ставить, хотя напился не Генка Ялович, а этот артист».
В 1968 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник фантастических повестей Анчарова[253], куда, кроме двух названных, вошла его третья фантастическая повесть «Поводырь крокодила». Из фантастических повестей Анчарова она менее всего известна и при жизни автора больше ни разу не переиздавалась. В ней Анчаров несколько переборщил с клоунадой главного героя и многочисленными метафорами, потому повесть нужно признать неудачной — в ней нет ни ярких образов, ни тщательно прописанных сцен. Повесть интересна как собрание, некоторое «резюме» анчаровских идей, иллюстрированных диалогами и монологами разных персонажей. Пожалуй, главная мысль «Поводыря крокодила»: «талантливыми могут быть все», потому что «что такое неталантливый человек? Это человек, талант которого лежит не в той области, в которой он трудится».
Выраженная театральность повести, состоящей из отдельных сцен в статических декорациях и длинных диалогов персонажей, может быть объяснена сохранившимся договором с Московским театром драмы и комедии от 14 сентября 1965 года, подписаным директором Н. Л. Дупаком и автором М. Л. Анчаровым, в котором «“автор” обязуется представить “театру” пьесу под условным названием “Поводырь крокодила”». Пункт 2 договора гласит, что «указанное произведение должно быть сдано автором не позднее 1 июня 1966 года…». По всей вероятности, первоначально «Поводырь крокодила» существовал в виде пьесы и лишь перед выходом молодогвардейского сборника был переделан в повесть. Причина, по которой пьеса в театре на Таганке «не пошла», остается неизвестной — возможно, Анчаров в 1966 году ее так и не доделал, отвлеченный на другие замыслы, возможно, пьеса не понравилась Юрию Любимову.
Содержит повесть и многочисленные исторические интермедии с участием известных персонажей: «словутного певца» Митусы, Леонардо да Винчи, Шекспира, Бетховена и других. Интермедии призваны показать, что сильные мира сего совершенно зря не слушают поэтов-певцов. Это тоже давняя идея Анчарова о том, что именно поэты есть главные действующие лица в истории: «Короны попадали, отмерцав, — / История счет ведет по певцам» — так он выразился еще за несколько лет до повести в песенке «Весенняя ночка».
В каком-то смысле «Поводырь крокодила» — одно из самых глубоких и насыщенных произведений Анчарова и одновременно одно из самых слабых литературно. Однако читатель глубины повести не видит: «Поводырь крокодила» производит впечатление легковесности, которой выраженные в ней идеи, несомненно, не заслуживают. Вспоминается характеристика, которую дала Анчарову близко знавшая его Ирина Романова: «…он на всех какое-то производил впечатление легковеса, а таковым он не был».
Сохранился черновик письма-заявки директору издательства «Советская Россия» Е. А. Петрову и главному редактору по художественной литературе В. П. Туркину[254] от 1972 года, в котором Анчаров просит:
«…рассмотреть вопрос о переиздании в 1973 году… однотомника моих избранных произведений в составе:
1. Золотой дождь
2. Теория невероятности
3. Этот синий апрель
4. Сода-солнце
5. Голубая жилка Афродиты
6. Поводырь крокодила».
Анчаров указывает, что «книги получили очень широкий литературный и общественный резонанс», и напоминает, что «к тому же 1973 год — это год моего 50-летия». Такой сборник действительно был издан, но из перечисленных Анчаровым шести названий — то есть всей прозы, написанной им к тому времени, за исключением рассказов, — в него вошли только первые четыре[255]. Неясно, было ли это сделано по каким-то литературным соображениям, но, скорее всего, сказались существовавшие в то время лимиты издательства на объем.
В послесловии к сборнику 1973 года Всеволод Ревич написал:
«Если можно обобщить замысел произведений М. Анчарова в одной фразе, то, вероятно, это развернутые монологи о смысле жизни. Но можно также сказать, что это монологи о смысле творчества, о том, что творчество, подобно рембрандтовскому золотому дождю, оплодотворяет жизнь. В понимании героев М. Анчарова и его самого смысл человеческой жизни — в творчестве, а творчество — это служение истине и красоте, но не каким-то абстрактным, холодным, мраморным с прожилками, а живым и серьезным истине и красоте».
Странно, но рассказы Анчарова критики никогда особо не выделяли, делая акцент на его более крупных прозаических произведениях. Однако тем, кто рискнет издавать Анчарова в будущем, мы бы посоветовали обратить внимание и на эту сторону его творчества. Именно в ней полностью развернется другая грань Анчарова-прозаика, отличающая рассказы от его произведений более крупного формата: он покажет, что умеет не только делать зарисовки с натуры, но и выводить вполне достоверных персонажей самых разных занятий и характеров.
Может быть, рассказы потому и малоизвестны, что они публиковались в случайной периодике, почти не переиздавались и собрать их под одной обложкой никому не приходило в голову[256]. Между тем, наряду с явными провалами начинающего автора, такими как «Барабан на лунной дороге», о котором мы уже рассказывали, раз от раза рассказы Анчарова становятся крепче и законченней. О рассказе «Венский вальс» — фактически собранных в отдельный сюжет фрагментах уже готовой к тому времени «Теории невероятности» — мы также говорили выше. «Венский вальс» Анчаров, кстати, пытался переделать в сценарий, о чем осталось единственное свидетельство — письмо за подписью некоего И. Гуськова от 12 июня 1965 года, в котором автор пишет о каких-то интригах на киностудии, хвалит анчаровские произведения и обещает отстаивать постановку «Вальса». Рассказ будет перепечатан в молодогвардейском сборнике «Приключения-69»[257].
В октябре 1965 года буквально по следам «Теории невероятности» печатается рассказ Анчарова «Корабли»[258]. Он резко выделяется по тональности и литературным достоинствам на фоне плакатного «Барабана на лунной дороге» и вполне может стоять в одном ряду с более крупными его произведениями этого времени. Рассказ основан на реальных событиях того периода, когда Анчаров проживал в одной квартире с Джоей и Гольдиным, а также с отцом и семьей брата Ильи, и они с племянником Валерием наблюдали, как во дворе их дома на Лаврушинском строился корабль. А потом Виталька (так Валерия Ильича зовут в рассказе) вдруг поступает в Ленинградское военно-морское училище и уезжает из Москвы[259].
Рассказ полон очаровательных, выпуклых, типично анчаровских бытовых отступлений, которые можно цитировать целыми абзацами, потому что каждое содержит отдельную историю:
«Офицерская учеба в этом году была в помещении моего института. В Старом здании. У студентов были каникулы, и аудитории стояли пустые, только двоечники шушукались в коридорах. Странное, непередаваемое ощущение: спутанность времен, и затронуты какие-то важные струны. Ведь все позади: и армия, где протрубил семь лет, и институт — еще шесть лет, и вот они снова появились как во сне, и его можно потрогать, этот сон, и он не рассеивается. Стенные газеты в коридорах, где клеймят не сдавших зачеты и призывают вступать в факультетский джаз, и грохот стульев в аудиториях, когда команда — смир-но… и протяжное… товарищи офице-эры… Я поднимаюсь и ем глазами начальство, которое идет к кафедре. Это Васька Гордеев, которому я когда-то выписывал увольнительную в город и однажды дал по физиономии, когда он заснул на посту, и он меня благодарил за это. Странно, не правда ли? Но это было в 43 году, и он отделался оплеухой и не пошел под трибунал. И вот теперь он мое начальство на две недели, и на носу у него пенсне, как у нашего покойного генерала, и я ем его глазами и две недели буду слушать, как он преподает мне военные новшества, а потом напишу контрольную, и он, может быть, поставит мне зачет. А через две недели он позвонит мне по телефону и скажет: “Слушай, надо бы встретиться”. “Факт, — скажу я. — В одном городе живем. Глупо”. И опять встретимся на следующих офицерских сборах».
«Он из любой мыльницы в два дня делает приемник и — в чулан его, как только он заговорит. Виталька ищет лучший вариант. Слава богу, хоть кончились взрывы и фейерверки. Однажды у него на кухне вспыхнула вата, и он выкинул ее в окно. А потом пришел пенсионер с прожженным плащом, запахло судом и горелым капроном, и пришлось платить за плащ. Вот молодежь пошла! Разве мы такие были. Мы с его отцом были не такие. Мы на свалке за линией электрички отыскивали пули и выплавляли из них свинец на газовой плите. Однажды из пули вылез какой-то стержень и развернулся серой пальмой.
— Ложись! — крикнул я.
Мы кинулись на пол, раздался взрыв, и нам влепило свинцом: ему в мочку уха, мне в ладонь».
Рассказ «Корабли» становится в один ряд с «Золотым дождем», представляя собой ту грань анчаровской прозы, где он выступает прекрасным художником — рисовальщиком с натуры. Рассказ будет перепечатан в 1969 году в альманахе «Мы — молодые»[260], один из составителей которого — уже упоминавшийся критик Валерий Гейдеко, и в 1970 году — в сборнике из одиннадцати рассказов, печатавшихся в разное время в «Неделе»[261].
А вот вышедший в 1966 году в февральском номере «Вокруг света» рассказ «Два постскриптума» почти настолько же выдуман из головы, как и «Барабан на лунной дороге», и в нем сразу проступает слабое место автора, когда он пытается изображать то, чего не знает и никогда не видел. И поступки бывшего белоэмигранта, который столкнулся с наступающей советской армией на Дальнем Востоке, и фронтовая обстановка, в которой его, переодевшегося в советскую форму, принимают за своего, и конечный эпизод, когда ему уже в середине шестидесятых вдруг дают советское гражданство, — все выглядит неправдоподобно. И хотя рассказ «Два постскриптума» сделан значительно крепче с литературной точки зрения, чем первые неудачные сочинения автора, — отдельные зарисовки в рассказе наполняют образ эмигранта некоторым объемом, делая его не совсем уж примитивно-плоским, и, как всегда у Анчарова, текст мастерски наполнен внутренним эмоциональным напряжением, — но искусственность фабулы разряжает это напряжение на «землю», не производя особенного художественного эффекта.
В начале семидесятых Анчаров опубликует несколько рассказов, которые по духу тоже следует относить к ранней анчаровской прозе. В 1971 году в «Литературной газете» публикуется рассказ «Мы к вам пришли»[262] на военную тему. Рассказ основан на полностью оригинальном сюжете, больше нигде Анчаровым не использовавшимся, и представляет собой толкование образа монумента Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке — Анчаров предлагает свою версию спасения ребенка советским солдатом[263]. Рассказ по-анчаровски поэтичен по стилю и характеристикам персонажей — у него мать ребенка не гибнет, как это было в действительности, а солдат оказывается разведчиком-минером, спасшим девочку с матерью из затапливаемого подвала. Читая этот рассказ, посвященный более чем политкорректной по тем временам теме, начинаешь понимать, почему советские власти так и не приняли Анчарова за своего: его воин-освободитель — простой солдат, выглядящий подчеркнуто не героически. А власть во все времена любила внушительные бронзовые символы, которые Анчаров намеренно разрушал, подчеркивая человечность, обычность героев.
В 1970 году в «Неделе» был опубликован рассказ «Лысый бугор»[264], который представляет собой историческую новеллу о Франсуа Рабле, во всем подобную историческим интермедиям из «Поводыря крокодила», и вполне мог бы войти в повесть. Здесь получила развитие линия «смеховой культуры»: конфликт творческого человека, пытающегося вылечить смехом недостойный мир: «Я — доктор. Я лечу смехом… Видишь ли, смех — это слабительное. Он помогает при запорах», — говорит главный герой рассказа. Образ трагического и бессильного клоуна в рассказе доведен до предельного символизма — Рабле спасает девушку, впавшую в летаргический сон, и влюбляется в нее, как в идеальный образ. Но, проснувшись, девушка оказывается вполне обычной и, поблагодарив Рабле, уходит с крестьянским парнем.
В декабре 1970 года в газете «Московский комсомолец» будет опубликован рассказ «Город под водой»[265] с подзаголовком «Отрывок из романа». Анчаров тогда уже начинал задумываться над темами, которые потом выльются в «Самшитовый лес», но в романе мы сюжета из этого рассказа не находим: они связаны только общим местом происхождения героев — городом Калязином. В рассказе это молоденькая девушка, которая приехала в родной город с целью работать экскурсоводом при местном музее, и случилось так, что ее первый рабочий день пришелся на эвакуацию жителей перед наступлением немцев. Девушка проводит экскурсию по уже опустевшему городу для нескольких слушателей, среди которых сотрудники органов, которые должны в последний момент взорвать мост через Волгу. Рассказ читается на одном дыхании, а характер и чувства вчерашней студентки переданы настолько достоверно, что, кажется, Анчаров рисовал ее с натуры — хотя этого быть не могло.
С Калязином Анчарова связывали ностальгические воспоминания о том, как он ездил туда в школьный лагерь от Электрозавода. Поэтому многие герои его прозы будут связаны с этим городом, в первую очередь — Сапожников из «Самшитового леса». Название рассказа «Город под водой» объясняется тем, что героиня, вернувшаяся после войны, встречает только половину Калязина с торчащей из воды колокольней, которая ныне является одной из главных туристических достопримечательностей: историческая часть города, как известно, ушла под воду во время строительства Угличской ГЭС. Неясно, намеренно или случайно, но в рассказе нарушена и хронология, и фактология: Угличскую ГЭС построили еще до войны (а затопление Калязина произошло еще раньше, в 1938–1939 годах, когда была закончена плотина), и к Рыбинскому водохранилищу, расположенному гораздо ниже по течению Волги, водохранилище на месте исторического Калязина не имеет отношения — это уже следующая ступень Волжского каскада. Но название рассказа — не только укор индустриальному веку, который посчитал электроэнергию важнее исторических памятников. «Город под водой» — символ старой мирной жизни, которая осталась лишь в воспоминаниях, и задача живущих — строить новую жизнь, которая будет не хуже, а лучше прежней. В чем-то рассказ перекликается с картиной Анчарова «После войны», о которой мы рассказывали в главе 3.
В 1971 году в той же «Неделе» (№ 3, 25–31 января) публикуется рассказ «Долгий путь через комнату» — наверное, один из самых ярких у Анчарова. Сюжет его вполне бытовой — история любви девушки из северной глубинки и провинциального парня. Здесь появляется один из будущих героев телеповести «День за днем» Виктор Баныкин (прообразом которого был реально существовавший Вячеслав Лысанов, см. главу 8). В рассказе нет ни плакатных образов мещан, от которых все зло в мире, ни противопоставляемых им людей творчества, все герои рассказа — самые обычные люди, в которых всего понемножку. Анчаров без восклицаний и символичных противопоставлений мастерски показывает, как может затягивать бытовая рутина, как естественное стремление к хорошим вещам становится самоцелью, как поиски самого себя в таком непостоянном мире запросто оборачиваются лживой игрой на публику. И в своем стиле демонстрирует действенный рецепт от всего этого — стряхнуть с себя все лишнее и наносное и перестать лгать самому себе и окружающим, даже если это поначалу кажется сложным и неудобным. В рассказе Анчаров ни разу не срывается на прямое морализирование с авторских позиций, что вообще-то для него не слишком характерно.
Еще один рассказ Анчарова — «Корабль с крыльями из тополиного пуха», опубликованный в журнале «Смена» в 1973 году, — мы уже цитировали, когда говорили о теме мещанства. Рассказ довольно большой (три четверти авторского листа) и отчасти напоминает «Корабли»: оба посвящены теме подростков. Но на этот раз перед нами не зарисовка с натуры, а целиком вымышленный сюжет, и этот прием здесь тоже срабатывает удачно. Повествование ведется от лица девочки-подростка, и в этом качестве образ героини оказывается на редкость живым и реалистичным.
Стоит пожалеть, что Анчаров больше не пытался развить свой талант в сторону темы подростков — несомненно, у него могло бы это получиться и в более крупной форме. Героиня рассказа «Корабль с крыльями из тополиного пуха» — обыкновенная школьница, и сама она, и события вокруг нее вполне соответствуют времени действия, то есть реалиям пятидесятых-шестидесятых годов, — в отличие от героев анчаровских повестей, которые обычно являют собой альтер эго автора и потому озабочены проблемами, которые волновали мальчишек тридцатых. Галина не размышляет над местом творчества в жизни и не слушает пространных лекций на тему искусства — она погружена в свои еще детские влюбленности и конфликты, которые Анчаровым показаны на редкость достоверно.
Анчаров несколько раз уже демонстрировал свое мастерство в области подростковой темы (в истории Алеши и Катарины из «Теории невероятности» и рассказа «Венский вальс», в сюжетной линии Нади и Гошки из повести «Этот синий апрель»), но там подобное углубление в подростковую психологию играло вспомогательную роль для основного сюжета и образов главных героев, а здесь оно приобретает вполне самостоятельное значение. В 1971 году «Комсомольская правда» под рубрикой «От 14 до 17» поместит интервью с Анчаровым[266], посвященное теме подростков, в котором Михаил Леонидович покажет свою незаурядную компетентность в этой области.
В 1974 году в журнале «Памир» (№ 3) был опубликован рассказ «Грузовик» также на тему подростков — на этот раз обычных для Анчарова довоенных мальчишек. Судя по сохранившемуся письму от 12 сентября 1973 года из редакции этого «органа Союза писателей Таджикистана», в Душанбе об Анчарове ничего не знали, но рассказ им понравился. Рассказ, пожалуй, послабее других — слишком уж прямолинейно показан конфликт убогих мещанских идеалов и «правильных» устремлений молодости. Но чувствуется, что рассказ написан уже опытным литератором — в нем нет ни примитивно-схематических образов, ни раздражающей плакатности, как это случалось с Анчаровым вначале.
И, наконец, последний рассказ, логически примыкающий к ранней анчаровской прозе, — «Другая сторона шоссе», опубликованный в 1977 году в пятом номере журнала «Советский экран». Он тоже посвящен теме подростков, в чем-то напоминает «Корабли» и вполне достоин занять свое отдельное место в ряду других анчаровских произведений.
В 1971 году в Театре им. А. С. Пушкина был поставлен спектакль «Драматическая песня» по пьесе, написанной Анчаровым вместе с режиссером Борисом Равенских[267], — инсценировке повести Николая Островского «Как закалялась сталь». Повесть в то время была хрестоматийной, ее проходили в школе как пример революционной сознательности, и она прославилась как самое издаваемое произведение советской литературы за все годы существования СССР. С современной точки зрения видно, что все трудности, которые преодолевает герой повести Павел Корчагин, есть почти исключительно следствие организационного хаоса, творившегося в первые годы советской власти, и геройствовать персонажам повести было совершенно необязательно (повесть автобиографическая, и характерно, что сам Николай Островский жестоко расплатился за свои трудовые подвиги в юности, скончавшись в 32 года от хронических болезней). Рецензии на постановку, естественно, были положительными, но рассматривать их не имеет смысла — они совсем не об Анчарове. В 1978 году «Драматическая песня» была поставлена заново в Свердловском театре юного зрителя.
По умолчанию считается, что за эту пьесу Анчаров взялся лишь ради заработка, и никакого следа в его биографии она не оставила. Но образ Павки Корчагина, несомненно, должен был Анчарову импонировать: и он сам, и герои его книг тоже — люди импульса, немедленного действия. Типичный модус операнди[268] анчаровского героя — вдохновенный порыв, единовременное действие без оглядки на обстоятельства и последствия, порыв, подкрепленный единственно внутренней уверенностью: все, что ты делаешь, нужно и правильно (вспомните сцену в повести «Этот синий апрель», где Гошка пишет свой первый рассказ). И все это один в один — образ Павки Корчагина, если отвлечься от одиозного революционного пафоса повести Островского. Поэтому Анчаров, работая над этой пьесой, несомненно, не испытывал никакого внутреннего дискомфорта и не считал ее навязанной обязаловкой, тягостным «домашним заданием» исключительно ради денег.
Роль Риты Устинович в спектакле «Драматическая песня» должна была исполнять молодая артистка Театра им. Пушкина Нина Попова, которая к тому времени вышла замуж за Анчарова. Из-за Михаила Леонидовича она, по ее словам, поругалась с Равенских и роль исполнять не стала:
«Равенских позвонил и начал орать, что что-то Миша наврал. Я уже не помню подробности. Я сказала, сейчас приеду. Причем я всегда была спокойной, сдержанной. Я выскочила, схватила такси, через три минуты я была в театре. Я так орала и так кричала, что все эти помощники его сбежались, и только что мы с ним в драку не полезли. И я послала его к черту и сказала, что не буду играть в этом спектакле. Развернулась и ушла. А дальше они выпускали спектакль, потом их представили на государственную премию. Почему он был обижен на Мишу, потому что там всё сделал Миша. …И когда составляли списки на Государственную премию, Миша был очень обижен. Равенских, во-первых, был очень ревнивый. У меня совершенно никаких отношений с Равенских не было, кроме того, что я в это время очень много играла и была такой у него первой артисткой. Но — ревнивый. И они Мишу на Госпремию не выставили. И Миша обиделся, больше не ходил на спектакль никогда».
В нескольких произведениях Анчарова («Сода-солнце», «Поводырь крокодила», позднее — в «Самшитовом лесе», в романе «Как птица Гаруда», в неопубликованной при его жизни пьесе «Слово о полку») упоминается «словутный певец» Митуса как автор, по мнению Михаила Леонидовича, знаменитого «Слова о полку Игореве». Благодаря историку Елене Стафёровой, которая указала[269] на истоки этих представлений, мы знаем, что возмущенный монолог, который произносит директор института из «Сода-солнце», подписывая приказ об увольнении Панфилова, имеет вполне реальные корни в действительно имевшей место дискуссии. Директор в повести говорит:
«Ну, хорошо, а зачем ему понадобился этот словутный певец Митуса, так называемый автор “Слова о полку Игореве”? Ведь он на нас обрушил всех профессоров-славистов. Они ведь слышать не могут о Митусе. И ради чего? Ради озорства. Разве он доказал авторство Митусы?»
Сама по себе версия, что «Слово…» создал в первой половине XIII века выходец из Галицкой Руси «словутный певец» Митуса, принадлежит не ученому, а писателю Алексею Кузьмичу Югову[270], одному из переводчиков и комментаторов «Слова о полку Игореве» (всего существует более ста переводов «Слова…» на современный русский язык, выполненных как известными поэтами и писателями, так и учеными-историками и лингвистами[271]). Как известно, единственная рукопись «Слова…» погибла в московском пожаре 1812 года, что дало дополнительную почву для множества различных толкований о ее происхождении, к тому же сгоревший раритет тоже не был оригиналом, а представлял собой список XVI века. По накалу споров и числу версий «Слово о полку Игореве», наверное, не имеет себе равных и как исторический документ, и как литературный памятник. «Эпоха Возрождения в Европе началась со “Слова о полку Игореве”» — так заостренно определил его значение Анчаров в повести «Поводырь крокодила».
Югов выдвинул свою версию о Митусе в 1944 или 1945 году и упорно отстаивал ее до конца своих дней. Ныне эта версия основательно подзабыта, так как не получила никакой поддержки со стороны ученых. Никаких других внятных версий об авторстве в широком общественном сознании тогда не существовало, а распространившаяся в семидесятые годы версия авторитетного академика Б. А. Рыбакова, приписывавшая авторство реально существовавшему киевскому боярину Петру Бориславичу, появилась для Анчарова слишком поздно. Митуса был идеальным кандидатом в авторы для Анчарова — выходец из народа, не привязанный вроде бы к княжеским дворам и церкви, смело критикующий сильных мира сего (у Югова Митуса «…своим высшим судом поэта судит всех князей — и современных ему, и ранее бывших! И эта гордость Митусы также говорит за то, что он сознает свою гениальность, знает, что он словутен в народе русском и что эта слава его есть броня и щит для него»).
Анчарова такой образ, несомненно, должен был привлекать, хотя в реальности такого Митусы, видимо, не существовало. Митуса, как полагают историки, был либо придворным поэтом-певцом князя Черниговского, либо церковным певчим, так что образ полностью придуман Юговым. Характерно, как указала Стафёрова, что в повести «Поводырь крокодила» цитаты из «Слова…» даются именно по переводу А. К. Югова.
Есть подозрение, что большая часть исторических экзерсисов Анчарова примерно так же исторически обоснованна, как и образ автора «Слова…». Но для его художественной задачи это столь же не важно, как возможность существования фотонного двигателя у фантастов: в отличие от недостоверности в чисто научных или технических подробностях, такой прием читателя совершенно не коробит, потому что так могло быть, пусть в действительности и не было.
В повести «Золотой дождь» есть одно программное для Анчарова высказывание:
«Никогда еще люди так не ждали чего-то. В воздухе носится какое-то великое “вот-вот”. Вот-вот в литературе появится герой, достойный подражания, вот-вот появится стих томительной силы, и не надо будет думать, нужна ли поэзия, вот-вот в науке появится основополагающее открытие, которое утихомирит тоску человека по человеку».
«Поводырь крокодила» будет полностью посвящен этой теме, в нем наступление Золотого века — не метафора, а реальность, пусть и фантастическая. Иными словами, Анчаров был неисправимым оптимистом, полагавшим, что наступление Золотого века — дело ближайшего будущего, он должен наступить волшебным образом буквально на днях, после всех ужасов фашизма люди просто не могут жить иначе. К этому он потом неоднократно возвращался, это, выражаясь критическими штампами, лейтмотив всей его прозы и — одновременно ее самое, возможно, слабое место. В отличие от Стругацких или Ефремова, подробно расписавших, как, по их представлению, должно выглядеть счастливое общество будущего, и тем завоевавших восторженное отношение читателей, Анчаров, повторим, не затруднялся подробностями, считая, что они совершенно не важны, коли есть главное: мир, где все Творцы, потому что в одночасье осознали правильность такого подхода к действительности. Потому его повесть «Поводырь крокодила» утопией назвать нельзя — слишком все там неубедительно обосновано.
Излишне говорить, что эти чаяния Анчарова могут быть полезны только в качестве идеала. Любое представление о доминировании того или иного рода занятий или одного образа мышления над другими ограниченно по своей сути: художник точно так же не может быть носителем абсолютной морали, как капиталист, рабочий или ученый (а мнения, что нужно поставить во главе Мирового правительства ученых, тогда тоже выглядели вполне свежими — в основном в связи с достижениями кибернетики, о которой мы уже говорили). Поэтому идеи Анчарова непригодны в качестве практической программы действий, как, вообще говоря, непригодны для этой цели никакие другие подобные идеи, рассматриваемые в отрыве от всех остальных: либеральные, коммунистические (в стиле марксизма-ленинизма или, скажем, маоизма), коммунистические (в стиле «шестидесятников»), либерально-социалистические, национальные или национал-социалистические, христианские или мусульманские всех оттенков и так далее.
Зато, повторим, в качестве идеала, противоречивого, недообоснованного и далекого от реальности, но доброго, не терпящего жестокости и принуждения и тем чрезвычайно привлекательного, эти идеи не просто нужны, а крайне необходимы. Если вообще можно разобраться в этой мешанине взглядов, убеждений, мифов, «научно обоснованных» или религиозных теорий — во всей этой эклектичной куче, которую представляет собой область человеческих представлений о том, «как надо жить», то ХХ век со всей очевидностью доказал, что истина, если она имеется, никак не может лежать в одной из названных областей. И анчаровские идеи тут не исключение. Если некая истина и имеется, то она где-то над этими частными «правдами», которые у каждого свои. Но до полного осознания этого еще далеко: постмодерн со своим политическим и моральным релятивизмом пока уверенно подрубает на корню любые попытки копнуть в эту сторону поглубже. И чтобы человечество могло вообще дожить до момента такого осознания, а не погибнуть, пытаясь друг другу что-то доказать, и нужны позитивные идеалы, подобные анчаровскому Творцу.
Все первые прозаические вещи Анчарова отличает особая афористичность, они полны неожиданных, нестандартных и иногда парадоксальных формулировок, дающих определения всему на свете, даже тому, что, казалось бы, определения не требует. Тем, кто читал это в юности, навсегда врезалось в память: «Произведение искусства отличается от факта на величину души автора», «Наука может научить только тому, что знает сама, а искусство даже тому, чего само не знает», «Индивидуализм под видом общего блага работает на себя, а индивидуальность, наоборот, — под видом работы на себя хлопочет об общей радости», «Если бы живопись можно было описать словами — она была бы не нужна», «Романтика — это отдаление от предмета на расстояние, достаточное для его обозрения», «Тоска — это несформулированная цель», «И я тогда понял, как получается фашизм. Сначала у человека длинными очередями из-за ограды отбивают крылья, потом делают его уродом, и лицо его становится похожим на череп, и тогда его только толкнуть, и он обрушивается на ребенка».
А также и то, что особенно нравилось целомудренным школьникам шестидесятых: «Любовь — тоже творчество, …от любви родятся дети». И так далее и тому подобное. Причем в этой подборке намеренно приведены афоризмы (и притом далеко не все), охватывающие только произведения середины шестидесятых, о последующих произведениях мы поговорим позднее, но и там без подобной афористичности не обошлось.
Это представляло собой цельное и незнакомое дотоле мировоззрение, причем поданное настолько доходчиво и просто, что, казалось, автор — ваш хороший знакомый и все, что он говорит, вы уже не раз слышали, но по скудости ума забыли и не могли сформулировать. А он пришел и напомнил, и наступила такая восторженная ясность в мозгах, что мир стал прозрачным и видимым до мельчайшей иголочки на лесной тропинке. Анчаров был незаурядным Учителем, свою харизму, которую все отмечали в исполнении его песен, он умудрился каким-то загадочным образом перенести на страницы прозы. Он учил не ремеслу, а более важным вещам — отношению к жизни, и многие его благодарные читатели тех времен через десятилетия скажут ему большое спасибо. Один из них — Василий Кожевников — в статье на сайте «Русская фантастика» отметил:
«А главное — Михаил Анчаров никогда не поучал, хотя и высказывал свои мысли остро, резко, разрушая удобные и обкатанные стереотипы мышления, хотя и размышлял о таких вещах, в которых заложен соблазн поучения…»
Для многих Анчаров стал «тем нужным словом в беседе души с жизнью», каким для капитана Грея из «Алых парусов» стала картина, изображавшая штормовое море.
Мы уже отмечали (см. главу 5), что отрицательные герои у Анчарова никогда не получались полнокровными и выпуклыми. Митя из «Теории невероятности» выглядит совсем не злодеем, его и отрицательным героем считать нельзя (недаром Катя до знакомства с Алешей ничего против него как потенциального мужа не имеет), а Глеб из «Самшитового леса», который по идее должен быть его аналогом, — вообще никакими отрицательными чертами не наделен, кроме излишнего скептицизма по отношению к творческому методу. А вот когда Анчарову нужно показать истинного злодея, настоящего властолюбца и воинствующую посредственность — он сбивается на карикатуру. Цельного образа не получается, злодеи выходят штампованными и шаблонными. Причем в «Голубой жилке Афродиты» Анчаров еще искренне старается каким-то образом придать образу сумасшедшего «марсианина» объем — иначе не объяснить, почему ему сначала все верят. Но все равно в конце сбивается на шаблон: «марсианину» власть над миром, оказывается, нужна, чтобы ему вылизывали… ну, понятно что именно скрыл автор за эвфемизмом «поясница». В поздних произведениях подобные персонажи уже выходили абсолютно бестелесными, голыми символами.
В ряду романтиков он в этом смысле не одинок: у Александра Грина злодеи большей частью тоже довольно примитивны. Обоим писателям явно было скучно терять время на проникновение в «психологию преступника» — их куда больше занимало положительное даже в тех людях, которые были назначены на роль оппонентов главных героев. Таким образом, зло у Анчарова оказывается предельно символизированным, вытесненным из реальности, как противостоящая ей угроза, которая существует «где-то там»: «на Марсе» или, в крайнем случае, «в странах загнивающего Запада», ибо основной рассадник зла, как был уверен Анчаров, уничтожен в ходе Второй мировой. И даже мещан, которые вроде бы рядом, он ненавидит вполне абстрактно: разве персонажи «Мещанского вальса» тянут на полноценных злодеев, которых нужно уничтожать, как фашистов? Такая предельная деперсонификация снижала литературный уровень многих его поздних повестей, но зато окрашивает его произведения в светлые тона, при этом отнюдь не превращая их в прекраснодушные «сопли с сахаром».
Критика тех лет ругала Анчарова за «развязность» (из статьи В. Гейдеко «Лирическая проза — день вчерашний?» в «Литературной газете», № 30 за 1971 год):
«Авторы “молодежных” повестей переступили эту черту. Они внесли в исповедь некую развязность, они были манерны (и уже потому неискренни). В какой-то степени процесс угасания исповедальной повести отразили произведения М. Анчарова. Даже этот писатель — интересный и самостоятельный — не оказался свободным от тех или иных расхожих приемов “молодежной” прозы (этот факт был в свое время замечен и доказан критикой, я сейчас только констатирую его)».
Положим, с тем, что подобный факт «доказан», можно было бы и поспорить (не с тем, что анчаровские повести используют приемы современной ему «молодежной» прозы, а с тем, что это черта отрицательная). В. Гейдеко, несомненно, намекает на обстоятельную статью «Современная повесть и юмор» критиков М. и А. Чудаковых в «Новом мире» (1967, № 7), где, в частности, «Теория невероятности», наряду с другими произведениями молодых авторов, приводится в пример того, как «ирония теряет фокус», а постоянная «готовность к самопародии» — «цель». Если уж критиковать «Теорию невероятности», то, возможно, за некоторую схематичность образов и формулировок, которые тем не менее оставались вполне узнаваемыми для современника. А статья молодых критиков (сегодня Мариэтта Чудакова и ее муж Александр Чудаков — известнейшие и уважаемые литературоведы) с сегодняшней точки зрения выглядит сетованиями школьного преподавателя литературы, который внезапно обнаружил, что у его учеников есть своя, в корне отличная от принятой трактовка образа Базарова.
Мы не станем тут много дискутировать, лишь заметим со своей стороны следующее. То, что Гейдеко называет «манерностью» и «развязностью», сейчас мы воспринимаем как просто особенность прозы тех лет, и не только прозы: фильмов или спектаклей тоже. Это то неуловимо общее, те узнаваемые нюансы атмосферы разгара оттепели, что связывают воедино «Звездный билет» Аксенова, «Теорию невероятности» Анчарова с фильмами «Застава Ильича» и «Я шагаю по Москве». Вышедший позднее фильм «Еще раз про любовь» по сценарию молодого Эдварда Радзинского — романтическая мелодрама и никакого отношения к анчаровской прозе не имеет ни по сюжету, ни по заложенным идеям, но сама атмосфера этого фильма такова, что его герои кажутся сошедшими прямо со страниц «Теории невероятности». Если В. Гейдеко захотелось назвать это «манерностью» и «развязностью», то Бог его простит, но мы сейчас ничего подобного в литературе и кино тех лет не находим.
А вот в другом своем замечании Валерий Алексеевич совершенно прав:
«Кстати сказать, каждое произведение живет не только само по себе, но и в ряду других книг как часть литературного процесса. Замечает это автор или нет, но на него влияют бесчисленные факторы, которые создают общественно-психологический климат времени: политические события в стране и за рубежом, открытия в науке, собственно в литературе, газетная хроника, перемены в моде — все это влияет в разной степени и на разных писателей неодинаково, но влияет безусловно».
И недооценка этого фактора Анчаровым, упрямо и принципиально позиционировавшим себя вне этого самого «литературного процесса», в дальнейшем не лучшим образом сказалась на его произведениях. В середине шестидесятых он точно попал в «общественно-психологический климат времени», но дальше климат изменялся и существенно, а Анчаров — нет.
Анчаров сумеет сделать еще на удивление много. Но превзойти себя самого середины шестидесятых ему уже будет, увы, не суждено — его поздняя проза, иногда более профессиональная и литературно выглаженная, все-таки не производит настолько яркого и непосредственного впечатления, как его ранние вещи. Хотя современный читатель этому рассуждению может и удивиться: лидерами рейтинга в разделе Анчарова электронной Библиотеки Мошкова являются «Самшитовый лес» и оставшийся практически незамеченным современниками роман «Как птица Гаруда». Об этих и других произведениях последнего периода анчаровского творчества мы поговорим в главе 9, а сейчас перейдем к одному из самых неоднозначно оцениваемых его достижений — телевизионным сериалам 1970-х годов.
Глава 8
Звезда телеэкрана
Телеповесть «День за днем» по сценарию Михаила Анчарова — первый отечественный сериал на советском телевидении. Такого жанра в стране еще не знали, и в мире он еще тоже не был распространен. До него по отечественному ТВ прошла английская «Сага о Форсайтах», которая еще воспринималась скорее как привычный игровой кинофильм, только растянутый на 26 серий. Сейчас признаки телесериала, отличающие его от кинофильма, пусть и многосерийного, всем понятны, несмотря на то что технологии съемок уже практически одинаковые: это в первую очередь малобюджетность, то есть доминирование павильонных съемок над натурными, а также отсутствие или минимальное количество дорогих компьютерных спецэффектов и общая растянутость сюжета, который никто не ограничивает во времени, — многие сериалы вообще не имеют закрытого финала и теоретически могут продолжаться бесконечно. Нередко современные сериалы представляют собой просто набор коротких (в одну сорокаминутную серию) отдельных законченных новелл, связанных только общим героями и тематикой.
Здесь к месту вспомнить Рэя Брэдбери с его романом «451 по Фаренгейту», вышедшим еще в 1953 году. В нем писатель на удивление реалистично описал современные сериалы, которые, по его задумке, вытеснили книжную культуру, уничтожаемую властями сознательно. Писатель живо показал деградацию общества, лишенного книг, общества, в котором мораль и этика формируются поверхностными и легко усваиваемыми штампами из сериалов про «тетушек». Сейчас мы понимаем, что предвидения писателя о механизмах тотального идеологического воздействия, которые несут в себе телесериалы, — точно так же, как и предсказания другого великого провидца — Джорджа Оруэлла — об эпохе «Большого брата», то есть о тотальной электронной слежке за гражданами, — все больше реализуются в действительности, хотя пока и не в таких крайних формах, как это намеренно показывали они. И о том, какую опасность несут в себе эти современные технологии для культуры, забывать не следует. Но Анчаров до начала этих крайних проявлений не дожил, потому оценивать его деятельность с подобных позиций будет уж совсем неправильно: в то время пророчества Брэдбери и Оруэлла смотрелись еще совсем отвлеченно, исключительно как фантастические метафоры-предупреждения (заметим еще, что роман Оруэлла «1984» относился к числу запрещенных в СССР произведений и его тогда мало кто знал).
На отечественном телевидении настоящая эпоха сериалов началась лишь в девяностых, с печально знаменитых «Рабыни Изауры» и «Богатые тоже плачут», которые успели стать своеобразным символом «антиискусства», то есть зрелища исключительно развлекательного, для домохозяек — вроде «попсы» в массовой музыкальной культуре. Снобистски настроенной постсоветской интеллигенции, воспитанной на классических образцах литературы и кино, даже не приходило в голову, например, провести параллели между этими сериалами и хорошо известными в СССР индийскими фильмами, которые в своей области иногда были истинными шедеврами. Просто народного театра «масок» с узнаваемыми «шаблонами», который когда-то во многих культурах — и европейских и восточных — был доминирующим, в России никогда не было, а настоящий — не заимствованный из Европы — отечественный театр начинался сразу с Фонвизина, учившегося у Мольера, и адресовался другой, образованной аудитории. Потому и индийский боевик «Месть и закон», имевший большой успех у советской публики конца семидесятых, и бразильскую «Рабыню Изауру» в девяностых, которые одинаково имеют корни именно в этом театре «масок», отечественная критика предпочитала игнорировать, зачисляя в разряд «вне искусства», который можно всерьез не анализировать и вообще не обращать на него внимания.
Это неправильно уже хотя бы потому, что такие вещи несли свою идеологию и культурные архетипы, распространявшиеся «в массах» куда быстрее и воздействовавшие на них эффективнее, чем прекрасные с точки зрения искусства, но элитарные произведения. Нет, никто не спорит, что с какой-то высшей точки зрения именно творческие вершины в каждой эпохе формируют ее культурный облик, который остается в памяти поколений, но общественную атмосферу здесь и сейчас все равно формирует «презренная масскультура», которую серьезные критики и исследователи старательно игнорируют. Достаточно назвать типично «масскультурных» «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо» — их героев несколько поколений российской молодежи полагали за свой идеал и равнялись на них в своих поступках, но мало кто решался «официально» ставить Дюма в один ряд с «великими писателями».
Что ж, с точки зрения популярности дебют Анчарова на телевидении оказался оглушительно успешным по всем, даже современным, критериям. Это вошло уже в закономерность: весьма хорошо был принят его первый киносценарий «Баллада о счастливой любви» (и только политические обстоятельства виноваты в том, что он не был поставлен), ярким метеором он ворвался в литературную жизнь шестидесятых — и уже тогда, заметьте, не получил надлежащего признания со стороны маститых литераторов-современников, зато заслужил искреннее признание читающей публики. То же самое было с анчаровскими песнями — правда, с поправкой на то, что здесь принимающие и отрицающие делились не по профессии: просто авторская песня в СССР так и не приобрела официального признания и даже неофициально многими продолжала считаться чем-то второсортно-дилетантским. А уж Анчаров с его неповторимым своеобразием исполнения у таких «непризнающих» не имел никаких шансов, хотя среди любителей и знатоков песни он был возведен на заслуженный пьедестал.
В этом смысле с появлением телесериала «День за днем» тенденция продолжилась и усугубилась в обоих направлениях: народ принял телесериал с большим интересом, а литературная и кинематографическая общественность — мягко говоря, с сомнением, причем на редкость единодушно. Это сильно повлияло на дальнейшую творческую жизнь Анчарова — он не в первый раз портил себе репутацию, принципиально не желая оглядываться на мнение окружающих, и на этот раз, как оказалось, непоправимо. Валентин Лившиц точно заметит в своих воспоминаниях (Лившиц, 2008): «меня всегда удивляла эта его особенность: “про других” он знал всё и очень правильно, а вот “про себя”…»
В 1969 году, предположительно в мае, Михаил Леонидович развелся с Мариной Пичугиной и в том же году зарегистрировал брак с Ниной Поповой, молодой артисткой Театра им. Пушкина.
Нина Георгиевна Попова (р. 1945) в 1966 году закончила Школу-студию МХАТ и пришла работать в Театр им. Пушкина. Рассталась с Анчаровым в 1975 году. После этого она еще играла во многих известных фильмах и телесериалах, а также в более чем 30 спектаклях. Заслуженная артистка России Нина Георгиевна Попова продолжает работать в Театре им. Пушкина и по сей день, она замужем за известным кинооператором Борисом Львовичем Брожовским («Спорт, спорт, спорт», «Алмазы для Марии», «Холодное лето пятьдесят третьего…»).
Дату знакомства с Анчаровым Нина Георгиевна запамятовала, зато обстоятельства помнит очень хорошо[272]:
«…ну я читала книги Анчарова, у меня вся семья читающая, мой старший брат приносил все журналы, мы были в восторге от “Синего апреля” и от других его повестей. Потом я репетирую “Обломова”, вхожу в кринолине, кто-то на меня смотрит, и я всё — это был Миша. И дальше очень быстро всё у нас происходило. Я сейчас понимаю, но тогда мне было 24 года. Я сейчас понимаю, что я была детский сад. А нам всем тогда казалось, что мы взрослые».
Об Анчарове Нина Георгиевна рассказала много интересных подробностей:
«Я знаю, что у него была страсть, когда он в сердцах всё дарил. У нас такое было. Сколько принял, столько и отдаю всё. Просто вплоть до одежды, всё с себя снимал, хочешь это, хочешь это, и всё раздавал. А дальше там, когда мы расстались, я просто никогда ни одной фамилии не назову, как одна артистка: “Знаешь, у тебя было то-то, это Миша мне подарил”. Я говорю: “Я очень рада”».
Писал Михаил Леонидович: «…рукой, лежа на боку. Говорит, Хемингуэй писал стоя — столик, и он стоя писал, а Миша лежа на боку, на левом. Тахта ли это, диван. Он потом садился к машинке и начинал печатать. Но одной машинки было мало, и одного стола было мало. У нас стояло два, я не знаю, как потом было, два стола письменных. Вот он от одной машинки к другой. А писал на боку лежа, и вот так только листы летели по всей квартире. Я могла прийти — вся квартира в белых листочках. Вот он так писал… как правило, рано утром. У него вообще был сбитый ритм жизни. Или рано утром, или поздно ночью».
«Бесконечно читал, он читал очень много, он читал всё. Он был вообще фантастически образованный человек».
«Абсолютно открытый дом, каждый мог прийти. Работал он в то время, когда люди еще спали или уже спали. А весь день он общался, поэтому дом был открытый совершенно. И кого там только не было.
— Вас это напрягало?
— У меня и сейчас открытый дом, я и выросла в открытом доме. Меня это напрягало, потому что мне утром надо было идти на репетиции, и работать, и сниматься. Я помню, гастроли, я играла вечером спектакль в Москве, потом садилась в поезд, ехала в Ленинград, играла спектакль в Ленинграде, садилась в поезд, приезжала… Про кавардак, который Миша устраивал за этот вечер и ночь, рассказать нельзя. А я не выношу, когда беспорядок, не потому что я такая чистюля, я не чистюля, просто не выношу, хочу, чтобы всё это было в порядке.
А еще, когда собаку — щенка ньюфаундленда завели, это цирк был. Я оставляла в холодильнике шесть баночек еды, писала по времени, когда и чем надо кормить, когда что надо делать. Если два дня меня нет, то на два дня раскладывала это. Я приходила, тут листы бумаги, тут какашки щенка, тут я вытаскиваю из-под собаки свои колготки, потом новая красивая кофта — он сожрал все пуговицы. Я говорю: “Миша, что ты развел?” А Миша лежит, он ничего не видит, он пишет. Конечно, уставала. А репетировать весь день, в 11 надо на репетицию, а потом на спектакль, хорошо близко. И это всё бегом. А потом полный дом народа и тусовка до утра, и вот так идешь. Напрягало ли? По молодости ничего не напрягало. Тогда сами же устроили проходной двор».
Старых знакомых Анчарова: Ирину Петровскую, Татьяну Злобину, Валентина Лившица, Андрея Саверского, Владимира Сидорина — Нина Георгиевна не помнит. Зато очень хорошо помнит режиссера Александра Саранцева:
«Саранцев появлялся очень часто. Он его очень любил и очень дружил с Мишей. Кстати, что-то на Саранцева тогда тоже нападали. Но он появлялся у нас и часто. Мы были у него, он получил квартиру на станции метро то ли Домодедовская, то ли Ореховская, был так счастлив. Я помню, что мы ехали очень долго. Я не поняла вообще, где я нахожусь. Он бывал часто у Миши… Он милый, приятный человек был, спокойный, в отличие от Михаила Леонидовича. От Михаила Леонидовича многие терпели…»
«…у Миши не было много друзей. Во-первых, у него был очень непростой характер. Так было, что сегодня вы все гении, а назавтра я гений, особенно после возлияния, а вы все второй сорт. И это на него находило, он себя преодолеть не мог. Это было, и не потому я говорю, что сейчас целая жизнь прошла. Я думаю, что это началось очень давно. Я думаю, что вообще его характер невероятно сложный, это, конечно, война».
«Он очень дружил с Клячкиным, который все время приезжал. Юра Визбор, мы жили в одном доме, они без конца бегали друг к другу. …Шиловский[273] был женат на Жене Ураловой[274], и она от него ушла к Визбору. Мы были студентами еще, я с ним дружила все время, с Севой. Народная артистка Украины, которой уже нет, Таня Назарова, потом я, Печерникова[275] и Севка Шиловский, и мы очень дружили. И потом Севка женился на Женьке Ураловой. И как сейчас помню, как они идут, он представил Женьку. А потом Женька начала сниматься и ушла к Юрику. И мы спускались друг к другу, Севка не участвовал. Он никогда потом не общался с ней, он обиделся».
Если окинуть взглядом творчество Анчарова по хронологии событий, то видно, что к началу семидесятых годов писатель подошел с ощущением необходимости перемен. Его произведения шестидесятых, как мы уже говорили неоднократно, насквозь пропитаны духом оттепели, составляют ее неотъемлемую часть. И не показателен ли тот факт, что со сворачиванием оттепели к концу десятилетия совпадает окончание анчаровского песенного творчества? Анчаров никогда ничего не имел против советской власти напрямую, не собирался диссидентствовать и публиковаться подпольно, но всегда считал, как мы уже цитировали, что «чем больше разных характеров, тем лучше». Он не обращал внимания на ярлыки: если он с уважением относился к песням Александра Галича до 1968 года, то и после, когда выступления Галича запретили, не перестал так же относиться. Однако разворот к тому, что теперь называется «эпохой застоя», резко сужал горизонты. Приходилось перестраиваться.
Одно новое литературное направление, возникшее в годы оттепели, с началом эпохи застоя не только не преследовалось (как это было с либерально-интеллигентской фрондой), но даже расцвело, негласно поддерживаемое «почвенниками» в партийной верхушке. Это направление — «деревенская проза» — дало немало прекрасных писателей, составивших цвет литературной жизни семидесятых и восьмидесятых. При этом произведения Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Василия Белова, Василия Шукшина, Владимира Солоухина, Вильяма Козлова и других «деревенщиков» по-своему имели ничуть не менее «антисоветскую» направленность, чем проза Александра Солженицына или песни Александра Галича. Они напрямую утверждали ошибочность коллективизации, сетовали на разрушение традиционной русской деревенской общины, возмущались затоплением земель и исторических памятников при строительстве гидростанций и не меньше интеллигентов-шестидесятников поучаствовали в создании общественного климата периода перестройки, в конце концов приведшего к падению советской власти и распаду Союза. Хотя уже к концу восьмидесятых они, за некоторыми исключениями, окажутся в консервативном лагере, то есть на диаметрально противоположном конце политического спектра, чем либералы-шестидесятники, но тогда это еще не очень ощущалось. Тем более что на общем диссидентском знамени в то время стояли имена Солженицына и Сахарова, и, как было осознано впоследствии, первый из них как раз и представлял «почвенническое» направление, родственное писателям-деревенщикам, к которым Солженицына иногда тоже причисляют, даже считают его основателем (за повесть «Матренин двор»).
Анчаров же сам был склонен к идеологии «почвенников», как он не раз доказывал в своей прозе и других направлениях творчества. И «деревенщиков» он очень любил и уважал (из повести «Роль»): «С тех пор столько воды утекло. С тех пор появилась великолепная деревенская проза. Великолепная не только потому, что в ней были описаны факты, которых горожане и знать не знали, а потому, что ее писали истинные художники». Правда, Анчарова радикально отличала ориентация на индивидуальность, а не на традиционную для российских почвенников всех времен[277] «соборность», присущую, по их мнению, российскому народу. Отличало Анчарова также отсутствие деревенских корней, отчего он, конечно, никогда не писал о проблемах традиционного уклада. Но, преломленные через восприятие городской интеллигенции, это были те же самые проблемы: связь времен, исторические корни единства русского народа, истоки национального патриотизма. При желании у него даже можно найти отголоски идеи, получившей название «русского мессианства». При этом Анчаров до конца дней оставался убежденным интернационалистом, и, как мы уже писали, сама по себе национальность для него ничего не значила, что выгодно отличает его от многих других представителей «патриотического» лагеря. Зато очень много значила идеологическая платформа, которая для него всегда оставалась незыблемо коммунистической (с теми, правда, принципиальными поправками к официальному учению, о которых мы говорили ранее).
Вот на этом фоне у Анчарова вместе с его давним знакомым режиссером-документалистом Александром Саранцевым возникает идея написать патриотическую пьесу, символизирующую связь времен. Саранцев впоследствии несколько сбивчиво рассказывал об истории ее создания[278]:
«Один раз я машину взял, студия-то рядом была, студия документальных фильмов, от улицы Чехова до Лихова переулка там… Я подъехал на машине. Говорю: “Поехали!” Он говорит: “Куда?” Я говорю: “Поехали в Сергиев Посад”. Он говорит: “Поехали, там музей посмотрим…”
Ну, короче говоря, мы поехали в Лавру, были в музее. А уже наметки какие-то были, опыт-то у нас военных лет. Мы в каком-то смысле из тех времен и поэтому крутились вокруг. Все персонажи, они так или иначе связаны с войной, тем более я-то никакой не драматург, но поскольку я уже работал на радио, там что-то такое делал, то опыт был. А самое главное, что у нас было ощущение, которое хотелось реализовать, и поэтому все было связано… А я еще тогда влез в “Слово о полку Игореве” и стал собирать, у меня до сих пор коллекция изданий, переводов, и вот меня как заклинило в машине. Я заорал: “Слово о полку!” А он моментально все сообразил, и стали мы, перебивая друг друга, кричать: стрела там в одном месте вылетает, а падает в другой эпохе. С другой стороны на сцену. Там вот такие вещи. Прием-то открылся, и тут уже все. Сколько было наговорено… По-моему, у меня там это есть или где-то в мешке у Мишки.
Потом сели [за работу]. Появился театр Маяковского, Гончаров, которому это понадобилось. Заключили договор, и мы бы ее доделали, эту работу, но просто так вот, как говорится… Потом вот приходил кто-то из других театров, говорили, что это гениально, надо отдать там и все это… Ведь там очень немного не доделано, совсем немного. По объему чуть-чуть надо было добавить и кое-что еще прописать, просто уточнение. Возможность была. Конечно мешало то, что я документалист же был. Я исчезал на неделю, на месяц, а когда я уезжал, там, конечно, все прекращалось. Потому что у Анчарова появлялись другие дела…»
Историческая фреска (как ее назвал сам Анчаров) «Слово о полку» была полностью опубликована в посмертном издании произведений Анчарова «Звук шагов» (1992). Как писала Елена Стафёрова:
«…перед зрителем одновременно разворачиваются события 1185 и 1941 годов (“Это было вчера, это было всегда — голова кружится…”), времена переплетаются, перекликаются голоса, и воин XII века Путята беседует с воином XX века Канатием о “Слове о полку Игореве” и о его авторе:
ПУТЯТА: Неужто помните?
КАНАТИЙ: Помним…
ПУТЯТА: Слушай… а про меня?
КАНАТИЙ: Что — про тебя?
ПУТЯТА: Про меня… ты знаешь?
КАНАТИЙ: Про тебя?.. Про тебя там ничего не написано… Сам знаешь…
ПУТЯТА: Да-а… (Замолчал.)
КАНАТИЙ: Чего? Чего ты?
ПУТЯТА: Да, ничего… обидно.
КАНАТИЙ: Обидно, конечно — я понимаю… Но про тебя там и вправду ничего не было. Да что там про тебя! — мы не знаем, кто и “Слово»-то это написал…
ПУТЯТА: Да как же не знаете-то?! Ведь это же…
КАНАТИЙ: Не зна-ем! Неизвестно нам ничего про него… И ты мне ничего не говори, пожалуйста. А то ляпнешь — с тебя взятки гладки, а мне потом отдуваться! Думаешь, поверит кто-нибудь? Дудки! Свидетелей же нет…
Рядом с Игорем, — продолжает Елена Стаферова, — постоянно находится некий безымянный Волхв, “карпатский воин”, который комментирует события, дает князю советы, предостерегает от ошибок. Читатель хорошо представляет себе цепь ассоциаций, которая у Анчарова связана со словом “волхв”: хранитель древней мудрости, “кудесник-чудесник”, наделенный даром преобразовывать действительность. Князь Игорь доверяет Волхву и прислушивается к его словам, но другие герои пьесы говорят о нем: “Проклятый карпатец… Галичанин отреченный… язычник…” Кстати, точно так же характеризует Митусу князь в “Поводыре крокодила”. В пьесе есть даже несколько прямых цитат из новеллы о Митусе. Но Волхв ни разу не будет назван по имени.
В финале пьесы Волхв приходит в 1941 год на помощь потомкам и просит генерала, под командованием которого измученные люди из последних сил держат оборону: “Дайте мне винтовку или нож — все равно…” Он предсказывает судьбу каждого из присутствующих, а в конце говорит и о себе:
ВОЛХВ: Муж у тебя будет учитель… На своем первом уроке в восьмом классе он прочтет “Слово о Полку Игореве”, которое написал я…»
Пьеса (или фреска) «Слово о полку» могла бы представить развитие той линии «переклички прошлого с будущим», которая прослеживается у Анчарова еще со времен занятий живописью, но она так и не была доведена до постановки. С Александром Саранцевым были еще попытки совместных проектов («Хлеб», «Час прилива»), но ни один из них также не был доведен до ума. И виной тут, несомненно, новое занятие, захватившее Анчарова полностью, — телесериал «День за днем».
Работа над телеповестью «День за днем» была начата летом 1970 года. Главный режиссер сериала Всеволод Шиловский в своих воспоминаниях[279] рассказывает о работе над сериалом:
«…За такими беседами, песнями вдруг родилась идея снять многосерийный телеспектакль. Сериалов еще не было. Ни “Семнадцати мгновений весны”, ни “Саги о Форсайтах”, которую мы называли “сага об овсайтах”.
Мы начали фонтанировать. Ссорились, как будто расходимся на всю оставшуюся жизнь. Крик стоял неимоверный. Попова привыкла потом. Но вначале она думала: сейчас они убьют друг друга. Миша был значительно старше меня, но он поставил себя так, что я никогда не думал о разнице в возрасте. Это удивительная внутренняя культура человека. В нем не было такого: вот я мэтр, ну, давайте поговорим. А с кем говорить-то? С горой, что ли?
Мы работали, но одна мысль не давала нам покоя. Ведь на телевидении не пропустят просто так. Я предложил:
— Давай я поговорю с Виктором Яковлевичем Станицыным[280]. Чтобы прикрыл он нас и был художественным руководителем.
— Да он не согласится! Ну как, втемную, что ли? Такой громадный человек.
— Ну, он же мой учитель. Он мне верит. И ни я, ни ты не можем его подставить.
Я поговорил с Виктором Яковлевичем. Это был непростой разговор. Но Станицын согласился. А это было очень важно. Потому что кто такой режиссер-постановщик Всеволод Шиловский? А вот художественный руководитель: Народный артист СССР, раз пять лауреат Сталинской премии, профессор В. Я. Станицын — другое дело. <…>
Надо было утверждать актеров. Баныкин, главный персонаж, его должен был играть молодой актер. Были разные предложения. Но я предложил Невинного. Слава тогда был худой, высокого роста. Талантливейший артист. В моей жизни было два похожих случая. В пьесе “Волоколамское шоссе” я предложил Георгия Буркова на роль генерала Панфилова. И это была его выдающаяся роль. Точно так же получилось с Вячеславом Невинным. С помощью Виктора Яковлевича Славу утвердили. После того как “День за днем” прошел, режиссеры других картин говорили, что им нужен положительный герой типа Невинного. В роли Баныкина было много импровизации, а фантазия у Невинного неуемная. И Слава был настоящим центральным героем.
С нами работала Лидия Сергеевна Ишимбаева, телевизионный режиссер, из пионеров телевидения. Это человек громадной культуры, любящий актеров, мастер своего дела. Я практически выпросил ее у Сергея Георгиевича Лапина[281]. И благодаря совместной работе с Ишимбаевой проходил телевизионную академию. Ведущим оператором был Борис Кипарисов. Много было замечательных операторов, но главный Кипарисов.
Я встретился с Лапиным, чтобы обсудить деликатный вопрос: сколько мы сможем платить артистам? Устроил на телевидении переворот, потому что за участие в телеспектакле платили концертные ставки, значительно ниже киношных. Мы договорились с Лапиным платить артистам по киноставкам. И к каждому съемочному дню оплачивать два дня репетиций. Это сыграло очень важную роль. Даже на эпизоды я имел право приглашать уникальных артистов. Постепенно установился состав. Тетю Пашу сыграла Нина Афанасьевна Сазонова. Дядя Юра был Алексей Николаевич Грибов. Так как Нина Попова работала в Театре им. Пушкина, очень много артистов было из Театра им. Пушкина. Леночка Ситко, Юрий Горобец играл художника, мужа Нины Поповой. Дзидра Ритенбергс, Кира Николаевна Головко. Михаил Николаевич Зимин был еще молод и хорош собой. И Леша Борзунов молодой. Ангелина Степанова, Михаил Болдуман, Марк Прудкин, Анастасия Георгиевская. Впервые на экране спел песню Валентин Никулин. И мой годовалый сын Илья есть в кадре. И получилось так, что у нас участвовало сто сорок четыре артиста из одиннадцати театров Москвы. Такого еще не было!
Съемки длились не восемь часов, как на кинофабрике, а три. С трех до шести. Без пятнадцати шесть артисты уже смотрели на часы и говорили:
— Спектакль!
И надо было выбивать машины, чтобы отправлять артистов в театры. Мне хотелось уйти от ощущения павильона, которое обычно присутствует в телеспектакле. На телевидении нет процесса озвучания, как в кино. И я придумал очень сложное для звукооператора дело и воплотил его в жизнь. Я писал отдельную звуковую дорожку со всем объемом шумов. Параллельные шумы идут без беседы, и только потом накладываешь звук. Если большая пауза между актерами, я вырезал эту паузу. Так возникло играющее радио в спектакле. Я все время придумывал подобные штуки. Это адский, каторжный труд. До сих пор эту каторгу никто повторить не может. И у зрителя было ощущение фильма, а не телеспектакля. “День за днем” все так и называли — фильм.
Когда пошел “День за днем”, энергетики никак не могли понять, почему падает напряжение. Они знали, если по программе — футбольный матч, хоккей, фильм, то им приходится добавлять напряжение. Ни футболов нет, ни хоккеев, а напряжение падает. Оказывается, страна смотрела “День за днем”. Пришлось добавлять напряжение во время показа сериала. И, как мне сообщили, на двадцать процентов падала преступность. И не где-нибудь, а в Грозном. Это рассказал мне Семен Семенович Опряткин на юбилее у Махмуда Эсамбаева. Около трехсот тысяч писем пришло от зрителей.
Мы сняли первые девять серий, и, к громадному сожалению, они очень понравились женам большого начальства. А это закон. Мужья думают, что они все решают, но заблуждаются. Все решают жены. Анчарова вызвали к руководству телевидения и сказали:
— Продолжайте.
Я был против, но Анчарова уговаривали, а он, в свою очередь, уговаривал меня. Кончилось тем, что мы сняли еще восемь серий. И дым был уже пожиже, и труба пониже, потому что мы уже вышли из материала. И еще раз мы собрали армию актеров. И музыка была замечательная. И сюжеты крутились. А на четвертой серии у Миши от напряжения случился микроинфаркт. Останавливать работу было нельзя, потому что существует производственный график студий “Останкино”. Что-то приходилось писать самому. Редакторы — Покровский и Ткаченко — стояли насмерть за эту постановку. Замечательные ребята, совсем непохожие на редакторов, потому что они болели за дело.
Были моменты идеологического нажима. В одной из серий была лирическая сцена, когда засыпает девочка, выпив бокал шампанского. И вдруг начинается салют. Она вскакивает:
— Что это?
Грибов ее успокаивал:
— Не волнуйся, это салют.
Дело было не в словах, а в ситуации. Невинный-Баныкин возвращался из Большого театра, где была встреча фронтовиков, сделанная монтажно с настоящим материалом. Очень сильная сцена. Невинный приходил домой и рассказывал, он был слегка выпивши. Безумно наивный и смешной. За пять минут до съемки вышел приказ: “Ни одного пьяного и курящего в кадре”. Я настолько растерялся, что все мысли улетучились. Слава Невинный подошел ко мне:
— Ты чего такой бледный?
— Ты не можешь быть пьяным в кадре. — И показываю приказ. Тут растерялся Невинный:
— А чего делать?
В такие секунды очень концентрируется мысль:
— А ты можешь не через пьяненького, а через человеческий наив передать свои чувства от встречи с легендарными людьми, с которыми ты только что общался?
— Я попробую.
И Невинный сделал. И Грибов сделал, без шампанского».
Нина Георгиевна Попова рассказывала в своем выступлении на «Анчаровских чтениях» в 2017 году:
«Кто первый предложил Михаил Леонидовичу делать этот “День за днем”, но вот убейте, я не могу вспомнить, стала у всех спрашивать. Шиловский говорит: Кузаков[282] такой был на телевидении, а другая моя подруга говорит, мол, где-то мы там отдыхали, и какой-то [человек] с телевидения предложил, и Миша схватился, начал работать. <…> первые шесть серий мы репетировали каждый день, и с нами, сначала, значит, Шиловский, потом все это показывали Станицыну. Все очень были заняты, все. И в театре Пушкина, и во МХАТе, и в других театрах, все очень много работали, тот, кто был постарше, — очень много играл, мы, молодые, играли еще больше, времени было очень мало, и с трех до шести в Останкино шли съемки. Каждый день. Как-то один раз Валя Никулин сказал: “Я так устал. У меня сегодня репетиция была с утра, вечером спектакль, сейчас съемка” — сказал Валя. А Невинный говорит: “У меня тоже сейчас была репетиция, и сейчас снимаемся, а вечером спектакль, и что?” <…>
Я считаю, что вторую часть [телефильма] просто не надо было уже делать, видимо, я так полагаю, но его уговорили, потому что это телевидение вцепилось руками, ногами, телесериал шел с таким успехом. <…> дом был проходной двор, приходило такое количество писем, но народ резко разделился…
Мне кажется, что это вообще получился вот такой “народный сериал”, какая-то часть интеллигенции смотрела, но не принимала это напрочь. И я их тоже могу понять. Потому что были тогда и Тарковский, и Марлен Хуциев, и так далее, и так далее — я не буду всех перечислять.
…Для Миши это был адский труд! Это весь дом был в листках, вот таких вот, он писал от руки, потом печатал это, весь дом, и это вот два года продолжался этот какой-то безумный [круговорот]…»
Позднее Нина Георгиевна добавляла:
«Миша вообще такой несколько приподнятый автор. У него с бытописанием проблемы были, а тут бытописание. Он все время туда вставлял, мне так кажется сейчас, немножко всё приподнято у него было. Ему первая часть нравилась, он писал с удовольствием. Вторую часть, она была не просто вымученная, это был кошмар. Шиловский тут ни при чем: через день звонили Лапин и Мамедов[283], они его просто доканывали, потому что я не знаю, сколько там тысяч писем было, их не считали, они мешками стояли. Но так как это было про простых, обычных, нормальных людей, то люди это смотрели с удовольствием. И на самом деле узнавали в чем-то самих себя. Ни в каком Алексее Николаевиче Грибове не было ничего напыщенного и придуманного. Он, наоборот, приземлял. И Сазонова тоже. Там была некая приподнятость комсомолки Жени Якушевой, я условно говорю про себя, так же как и Горобец…
Каждый месяц он должен был выдавать серию. Хоть ты тресни. Он написал одну серию, им очень понравилось. Давайте, напишите две. Он написал еще две. А дальше каждый месяц он должен, квартира на Чехова вся в листках. И эта куча листков, в которых он запутался, и, видно, в голове у него тоже было это. Потом опыта вообще никакого не было. Это был эксперимент. Сева, он был начинающий режиссер, да Сева тут ни при чем. Вторая часть — это было уже за гранью. Я понимаю, но выхода никакого не было, потому что его эти Лапин и Мамедов, Лапина я помню: “Давай, выдавай, пиши”. Писал, но уже писал так, вторая часть это действительно было плохо».
Примерно в это время у Анчарова среди прочих побывала Галина Щекина, которая на всю жизнь осталась его верной поклонницей и последовательницей[284]:
«Вот, мы когда поднялись, стали звонить в эту дверь-то, — выбежал такой человек, громкий. Он сильно кричит. Кричит:
— Мать вашу!.. За ногу! То-сё!!
Я вижу, что это Анчаров, потому как я его знала по фотографиям. Но почему-то он очень красный, он очень орет, я вообще понять ничего не могу. И странно — пробежал мимо. Я говорю в спину:
— Э-эй! Стойте, стойте! — Я понимаю, его надо остановить, потому что он ведь сейчас уйдет. А он — вроде как посторонний кто-то его позвал:
— Чего?! Чего надо? Я говорю:
— Поговорить…
— Чего — поговорить! Вот, ходят, блин, опять твою мать, опять пришли! Вчера ходят, сегодня ходят! Когда мы будем уже работать?! Опять — поговорить? Зачем — поговорить? Говори, зачем пришла?!
Я говорю:
— Я приехала из города Воронежа, просить аудиенции.
…Не знаю, почему я такое слово сказала. Наверное, потому, что я всё время читала Дюма, а там все время аудиенция была.
Он:
— Че-е-го?!!
А эта баба-то, которая рядом с ним стояла, говорит:
— Миша… Не кричи. Люди не в себе. Спроси, чего надо. Не кричи — видишь, не могут ответить.
Я не знаю, я ничего не сказала, — он беспрерывно орал. Я сказала какую-то “аудиенцию”, дальше молчу — не знаю, чего говорить.
Он говорит:
— Ну, ладно. Ты привезла мне рукописи. У тебя сценарии или песни? Мне про тебя звонили, да?
Я отвечаю:
— У меня ничего нету, у меня никаких рукописей… И сценариев нету…
— Дак чего же ты пришла-то?!
— Поговорить…
— Вот блин!..
А та тетка, которая рядом, — я вдруг вижу, что это тетка, которая в “День за днем” играла, что это не тетка как бы вообще, а героиня этого спектакля, которую звали Женя, а как в жизни-то ее зовут, я же не знаю, вижу — Женя стоит. Эта Женя берет, отдирает от коробки с чем-то лоскуток, и пишет на нем телефон, и говорит: “На, девочка, телефон, позвони ему завтра — он сейчас пошел на телевидение. Или ты завтра уедешь?”
— Нет, буду сидеть, пока не поговорю… Пока не поговорю, не уеду. Она:
— Видишь, Миша, человек из другого города. Вот ты что вот?.. Он:
— Да ладно учить-то меня! Вот ты тут с ними разбирайся, а я пошел. И мне:
— Завтра позвонишь! Я:
— Когда позвонить-то?
— Ну, позвонишь где-нибудь после обеда.
И пошагал к лифту. У него такой свитер крупной вязки и распахнутая дубленка. Шапки-то нету, а там мороз, мы ж оттуда только и все закоченели. Я говорю:
— Шапку наденьте…
Он опять:
— Что-о?!. <…>
…на другой день сразу начала звонить. Это было одиннадцатого февраля — день рождения отца, я дала телеграмму и поехала к Анчарову. На этот раз он был до изумления ласковый, даже тапочки дал.
И говорит:
— Ты прости меня, пожалуйста, что я вчера очень сильно орал, так мне неудобно, вот и перед Ниной неудобно, она мне всегда говорит, что я не могу себя держать в руках. Вчера пришел мужик и тоже прикинулся своим… Оказывается, это была такая же падла, какая загнобила Довженко. Падлы они все, приходят и начинают…
Я спрашиваю:
— А что он говорил-то?
— А вот! По-хорошему говорил, а потом оказалось, что наоборот. Он мне так объяснил, что к нему сильное отчаяние пришло.
А я же смотрю, и вижу, что кругом эта Нина, которая в фильме Женя, везде, на всех картинах, кругом нарисована. И эта стоящая в двери Нина, отрывающая клок от коробки и пишущая на нем телефон, и стоящая рядом в полный рост Нина на картине никогда, конечно, не забудется. Я уж тут поняла, что это тут коммунизм. Я понимала, что то, что он сочинил, то, что вымечтал, — это как бы вот эта картина. Но картину он ведь взял-то с нее, с живой Нины? Так что коммунизм не полностью как бы выдуман, а из жизни взят, просто вот тут, где Нина в полушалке на картине стоит — празднично; а тут она — просто будняя такая, но это ничего, это одно и то же. И больше меня не пугало ни то, что он орет, ни то, что у него, быть может, пустой угол бутылок и небритое лицо… Как мои родители говорят: “Все твои писатели, они алкаши запойные, что там с них взять. Журналисты все курят, а эти все пьют”. Вот что четко было сказано мне. <…>
Он меня вот так вот уговаривает, я говорю:
— Вы же что со мной разговариваете, как с больной? Я ведь серьезно спрашиваю — когда будет коммунизм?
Он говорит:
— Да когда хочешь, тогда и будет. Ну чего ты расстраиваешься? Зачем ты так волнуешься? Ведь если в тебя эта бацилла попала, она уже из тебя не выпадет просто так. Там, где ты будешь, — там и будет коммунизм. И писать ты начнешь внезапно. И ко мне привезешь свои первые рассказы, ладно? Ты не плачь, ты выходи замуж, живи спокойно, качай детей. А когда попрет, ты меня вспомнишь, что я тебе говорил, вспомнишь, только ты не расстраивайся…
Он мне так говорил, он меня за руки брал, он мне все показывал… Я не могу — я так была счастлива!.. Спрашиваю:
— А что же вы так со мной разговариваете, ведь я хуже вас? Вы известный писатель, вы…
— Дак а какая разница-то? Ведь никакой разницы нет. Мы оба живы, меня не убили на войне, тебя не убили на поезде, ты приехала, тут сидишь, Нинку вон тоже никто не убил — она белье гладит, видишь? Вон Нинка белье гладит, видишь, как все хорошо? Так вот это и есть коммунизм…»
Из современных отзывов зрителей на сериал «День за днем» на сайте
kino-teatr.ru:
«Я был совсем маленький, но, помнится, неотрывно, с бесконечным интересом, отслеживал хронику разворачивающихся событий (захватывало покруче лихого боевика). Не скажу, что в семь лет что-то понимал в особенностях взрослой психологии. Просто завораживала атмосфера уюта, задушевности, деликатности, справедливости — короче, правильности отношений, выстраивающихся между жильцами старой коммуналки, пленяла их человеческая порядочность и житейская мудрость. С той чудной поры Алексей Грибов для меня навсегда — дядя Юра, Нина Сазонова — тетя Паша. Иными словами, я сперва узнал дядю и тетю, а уж потом персонифицировал их творения с великими актерами. Так же и фамилию “Седого” я узнал много позже, как Эйбоженко. Невинный для меня опять же начался с Большого, а про Борзунова я всегда помнил одно — это Толич. И даже хоккеист Якушев для меня стал фамильным дублером Кости Якушева в исполнении Юрия Горобца» (В. Плотников, Самара, 2008 год).
«Смотрю сейчас этот сериал. Уже вторую часть до середины досмотрела, и так жалко, что скоро кончится. Так не хочется расставаться с героями, с той особой атмосферой, в которой они живут. Вроде и съемки павильонные, и черно-белый (ну по нынешним раскрашенным временам это же просто неприлично!), а с нетерпением жду вечернего часа, когда можно будет снова “пойти в гости” и к тете Паше, и к дяде Юре, и к Женечке Якушевой, и к Большому. Такой добрый и такой душевный фильм» (Эльза, 2009 год).
А вот что рассказывает одна из зрительниц:
«В начале семидесятых мы смотрели всей семьей, родители торопились с работы, чтобы успеть. Недавно посмотрела его по ТК “Культура” — и не поняла, чего мы все тогда так убивались. Полторы серии выдержала, дальше смотреть не стала».
У героя сериала Большого (его играет Вячеслав Невинный) был реальный жизненный прототип: Вячеслав Александрович Лысанов, который действительно работал испытателем автомобилей. Появился Вячек, как его звали друзья, в окружении Анчарова так (рассказывает Нина Попова): «Это у нас был друг, Славка Лысанов, Вячек. Он был испытатель машин, этих автомобилей. В сериале у них же у Невинного лаборатория, в которой они все время испытывали машины. И Вячек действительно такой большой, почему он его назвал Большой — под два метра ростом. С Таней Назаровой, которая Таню играет в «День за днем», мы однокурсницы и подруги. Она училась до студии, окончила медицинское училище. А в медицинском училище были все девочки и один мальчик, Юра Лысанов. А у него был старший брат, Вячек Лысанов, который окончил суворовское училище. Он обожал Мишу, с ума сходил по нему, он вообще ничего не понимал, когда видел Мишу. И вот так подружились все. Мы его с младых ногтей так ввели в дом, он был просто главным атрибутом в жизни Миши очень долго, таким другом необыкновенным. У Миши ведь не было много друзей». Подтверждает дружбу Вячека Лысанова с Анчаровым до самых последних лет жизни в своих воспоминаниях и ленинградский бард Александр Тимофеев (подробнее об этом — в следующей главе).
Первая серия (или, как ее называли сами создатели сериала, глава повести) была показана 9 декабря 1971 года. Интересно, что в журнале «Телевидение и радиовещание» (№ 3, 1972 год), где была помещен анонс телеповести, ее создатели сочли нужным объясниться перед зрителем по поводу незнакомого формата передачи. Редактор передачи О. Новопокровский писал:
«Пройдет немного времени, и мы узнаем, что родился новый жанр — телевизионная повесть. Почему я говорю: “Пройдет немного времени”? Потому что нужно время на осмысление, и потому что не каждый год рождаются новые жанры.
9 декабря 1971 года была показана первая глава повести, а утром 10-го уже были звонки в редакцию: “Смотрится с трудом… затянуто по ритму… обилие философии”. Удивляться этому не приходится — в телевизионной повести нет ни детективных сюжетов, ни краж, ни ограблений, ни убийств и погонь, а накал страстей разнесен автором на целых девять глав.
Интересный факт — когда-то случилась подмена интереса зрителя к своей собственной жизни интересом к жизни необыкновенного героя. Но жажда познать себя и своих современников была всегда. Это мы знали, приступая к работе.
Писатель М. Анчаров пришел на телевидение с повестью о наших современниках, о наших днях, которые, на первый взгляд, слишком обыденные, чтобы стать предметом художественного исследования. Но мы сознательно поставили задачу растянуть, замедлить быстротекущий ритм нашего века и дать возможность пристально посмотреть на современников. Девять серий — девять с лишним часов — дали такую возможность».
Сейчас к длинным сериалам, которые могут растянуться не на один год, уже привыкли, а тогда, как видите, пришлось объяснять очевидную вещь: то, что жизнь на экране можно показывать и в почти реальном времени, не ужимая сюжет в прокрустово ложе стандартного пленочного метража в одну-две серии. Есть легенда о том, что первоначально смонтированная версия знаменитого фильма «Унесенные ветром» занимала шесть экранных часов, из которых потом создатели с болью в сердце выкроили 220 минут, все равно превышавшие стандартные три часа в расчете на две серии. Теоретически неограниченное экранное время, которое предоставляет формат телесериала, еще долго не укладывалось в сознании режиссеров и зрителей, и только в двухтысячных, когда технологии съемок теле- и кинофильмов стали практически одинаковыми, а малобюджетность перестала смущать постановщиков, жанр сериала развернулся в полном масштабе. А вот Анчаров сумел сразу оценить идею, которая захватила его полностью. Другое дело, что он подошел к ее реализации в лоб, попытавшись показать именно повседневную жизнь, только пропущенную через некий романтический фильтр, как у него всегда и было. Подсказать и указать на ошибки было некому: создатели фильма были первопроходцами, их тоже увлекла необычность задумки. Поэтому столь разноречивы оценки, которые в дальнейшем получит телеповесть.
Вот что сам Анчаров писал о сериале в 1973 году[285], полемизируя с его критиками:
«…для меня, как, думаю, и для любого писателя, режиссера, актера, пришедшего на телевидение, вопрос звучит так. Как искусство должно выглядеть в этом загадочном ящике, который стоит у меня в комнате и который я могу выключить в любой момент? Вот в чем проблема… Как мне, автору спектакля или фильма, “зацепить” такого человека, сторонника “агрессивной” информации, которую он стремится скорее заполучить к чаю? Чем его “зацепить”, если я не хочу делать остросюжетную вещь, а хочу показать повседневную жизнь, текущую вокруг меня?
А показать ее, на мой взгляд, просто необходимо. Ведь острый сюжет — это история о случае аварийном. Не каждый день таковой в жизни человека возникает. Мне показалось обидным, что обычная, без происшествий, жизнь хорошего человека вроде бы большого интереса не представляет. По мнению некоторых, нормальный человек тогда только становится интересным, когда ему кирпич на голову падает. А между прочим, он эти самые телевизоры делает и вообще создает ту самую информацию, которую так жадно хочет заполучить.
Конечно, чисто психологически я понимаю человека, который требует увлекательного зрелища. Но почему-то этот человек убежден, что интересным может быть абсолютно все, кроме… него самого. Вот мне и захотелось доказать обратное. Захотелось доказать, что он сам по себе интересен — сидящий с женой у телевизора».
В предисловии к изданию текста первой серии «День за днем»[286] И. Кацев дополнительно разъясняет идею телеповести:
«…автор телеповести “День за днем” по-иному использовал принцип серийности. М. Анчаров отказался от привычного построения произведения, внутри которого каждая часть, предназначенная для отдельной демонстрации, имела определенную сюжетную завершенность. В телеповести нет четких завязок, кульминаций и развязок. Нет и считавшейся обязательной для телевизионного спектакля напряженности интриги. Наоборот, фабула предельно ослаблена, действие течет неторопливо, здесь множество локальных, как будто необязательных событий, поступков, разговоров. И оказывается, что эта медлительность развития сюжета, позволяющая ближе присмотреться к героям, “прирасти” к их заботам, интересам, надеждам, не менее захватывает внимание зрителя, чем стремительно разворачивающаяся интрига детективной драмы — жанра, в котором чаще всего делались многосерийные произведения.
Избранная автором форма повествования соответствовала раскрытию характеров персонажей — обыкновенных жильцов обыкновенной московской квартиры. Эта “обыкновенность” словно невидимыми токами близости связывала героев телеповести и зрителей. Контакт между ними, который укреплялся от вечера к вечеру, возникал именно потому, что в главных действующих лицах — Баныкине, тете Паше, Якушеве, Жене и других — мы почувствовали их неподдельную искренность и честность, душевную щедрость и нравственную чистоту, а главное — гражданственность убеждений, рожденные нелегким опытом разных поколений. Не будь всего этого в пьесе, спектакль неизбежно обернулся бы унылой обыденностью жизни, скучной приземленностью героев. Конечно, рассказ об “обыкновенном” не может исключать благородной задачи повествовать о личностях исключительных и поступках героических. Но несомненно, что доступность идеала делает его особенно дорогим для зрителя, а заразительная сила примера становится тем больше, чем острее он ощущает равенство возможностей любимого героя и своих собственных».
Вот что писала в марте 1973 года в журнале «Телевидение и радиовещание» член редколлегии «Огонька» Н. Толченова:
«— Где бы достать книгу Михаила Анчарова “День за днем”? — спросила недавно моя приятельница. — Очень уж хочется перечитать…
— Нет такой книги, — ответила я.
— Как нет? А экранизация откуда же взялась?..
Да, повесть Михаила Анчарова “День за днем” вот так “сразу”, с самого начала рождалась для телевидения и на телевидении. И это, по-моему, было одно из самых интересных, новаторских, плодотворных начинаний Центрального телевидения.
Жизненная глубина этого спектакля раскрывается тем убедительней, чем пристальнее начинаешь всматриваться во все подробности творческого замысла и его осуществления телевидением. Здесь, на мой взгляд, начинают обнаруживать себя все новые и новые аспекты таких творческих проблем, которые вплотную связаны с дальнейшими перспективами существования ТВ, и прежде всего с ростом его художественных возможностей…»
В 1981 году, в кулуарах после своего последнего публичного концерта в ДК «Металлург», Анчаров так излагал свое видение сути эксперимента, который он затеял:
«Сюжета в жизни не бывает. Сюжеты все сочиняются. В жизни бывают только истории, живые, человеческие, сопровождаемые бесчисленным количеством подробностей, уводящих в сторону от сюжета. Значит, нужно либо с ними бороться и выстраивать линейный какой-нибудь сюжет, там, типа дилижанса. Все собираются, там… какая-то куча народа собирается на телегу; вокруг опасность; они выясняют между собой отношения. В бесчисленных количествах этих дилижансов, обратных рейсов, порожних рейсов, черт их знает, сколько там… где внешние обстоятельства, из которых не вырваться, и люди рационалистически собираются по контрасту и выясняют отношения. Это в жизни бесчисленное количество подробностей, которые опускаются как несущественные, а для телевидения — это просто хлеб. Это вот та аура, вот та окрашенность происходящего. Бесчисленное количество случайностей, сквозь которых просвечивает направление движения… а-а… какой-то истории житейской. Понимаете? Значит, если с ними не бороться, а наоборот, озвучивать и расцвечивать, это становится художество».
Иными словами, замысел с любой точки зрения выглядит чрезвычайно привлекательно. Даже сама работа над сериалом протекала необычно: ни актеры, ни режиссер не знали, что будет в следующей серии. Анчаров потом говорил, что делал это с далеко идущей целью:
«Мне режиссер говорил: “Ну слушай, я же режиссер, ну мне-то ты можешь сказать, что будет дальше?” Я говорю: “Не-е, вот ты шел по улице и нашел листок из пьесы неизвестной. Ты можешь срепетировать этюд? Можешь. Вот так и репетируй”. — “Ну как же…” Я говорю: “Не лезь, не лезь!” Он мне там говорит: “Специфика телевидения…” Я говорю: “Где она, специфика телевидения? Если есть специфика телевидения, значит, есть и удачи. Покажи их, эти удачи. А их нет, значит, рано говорить о специфике”.
Я эту “специфику” только нащупал. И вот я писал, актеры не знали, что будут играть дальше, поэтому в полную мощь отыгрывали данный кусок данной серии. А я уж к ним присматривался: на что они способны, что им идет, что не идет, какие у них характеры. И дальше начал писать на них, как на людей, беря актерски у них только то… то немногое, что они могут, понимаете? Поэтому я именно копил характеры. Под конец оказалось, что они какие… вы не знаете исходный материал актерский. Там люди, которые… да и в жизни, и на сцене… практически почти ничего не могут сделать. А у них там характеры накопились даже на таком материале. А тем более когда Грибов, Сазонова и так далее. И они не знают. И я поворачивал, поворачивал, вертел это дело таким образом, что каждый раз они в новых проявлениях выступали.
То есть я им накопил личностей. И… Они сыграли личности там, где, если бы дать им в полном объеме, они бы вообще ничего не сыграли. Они бы начали повторяться с третьей реплики».
А вот с конечным результатом возникли вопросы. Можно сказать, что для Анчарова это был одновременно грандиозный успех (триста тысяч писем!) и столь же грандиозный провал. Из его друзей и знакомых «День за днем» не понял и не принял всерьез никто. Всеволод Ревич, работавший тогда в журнале «Советский экран» и вроде бы обязанный по должности откликнуться на постановку, предпочел промолчать, чтобы не ссориться с Анчаровым. Реакцию многих старых знакомых Владимир Сидорин в своих воспоминаниях выразил так:
«Как-то прошел какой-то его спектакль. Мы, на день рождения моего друга, сидели у него и всю ночь слушали анчаровские песни. Прослушали и поняли, что песни — гениальные. И на утро мы поехали в гости к Анчарову сообщить об этом. В это время уже пошли телесериалы. “День за днем” и другие. Тогда у него женой была Нина Попова. Со зрением у него было неважно. Он нас усадил, и она в роли секретаря стала нам читать письма трудящихся. В доказательство того, что наконец-то у нас свой Лев Толстой появился и эти все сериалы — это открытия. Я ему сказал прямо: “Миша, ты понимаешь, что если бы ты нам сказал, что нужны деньги… Это мы прекрасно понимаем. Каждый должен как-то существовать. Это не обидно. Но если ты нас за дураков держишь и говоришь, что тут-то вся сермяга, вот в этом, то мы этого не понимаем. Видимо, мы не доросли, и пройдет еще лет десять, и мы придем к тебе и скажем, что да, это гениально. Но пока мы пришли сказать тебе, что песни у тебя — гениальные. Мы остановились в своем развитии на этом”».
А вот весьма резкое мнение Марины Пичугиной (насколько это мнение справедливо, мы обсудим в главе 9):
«…ему казалось, что-то он напишет, поработает над идеей, и здесь вот будет потом сплошной праздник музыки, песни, живописи и тому подобное. Ну, это закончилось тем, что материал победил его. <…> Мише не надо было затевать такую длинную-длинную линию сериала, влезать в это. Человек, если работает на поденщине, он человек короткого дыхания для поденщины. А то, какое дыхание ему потребовалось там брать, и второе, и третье, и четвертое, и тому подобное. <…> Вот самые пронзительные песни, ясно, что это Анчаров в период его трагедии. Самые удивительного дыхания вещи, как “Золотой дождь”, так же в “Синем апреле” проскальзывают, в “Теории невероятности”. Человек, которому было больно, ежился, корчился, орал, вспыхивал опять надеждой миговой, краткой, потом опять что-то такое. Ну, для художника, творческого человека, вот это жизнь. <…> …как ему казалось, сейчас этот он возьмет барьер, напишет, будет много денег. А потом будет такая же вот свободная-свободная, вольная-вольная жизнь. <…> Вы можете быть согласны или не согласны, но… Миша сник и кастрировал сам себя вот этим сериалом, про который он потом сам под конец поверил, что он делает нечто стоящее».
Анчаров не умел относиться к своему творчеству легко и каждое начинание воспринимал абсолютно всерьез. Нет, он не делал себе скидок, но легко шел на компромиссы, все время боясь того, что кто-то «наверху» внезапно все поотменяет, как в его карьере случалось уже не раз (вот только что, накануне начала работы над сериалом, был снят с репертуара уже поставленный спектакль «Голубая жилка Афродиты»). Потому он был готов соглашаться на профессионального композитора Илью Катаева, корежить тексты собственных песен, чтобы сделать их более «проходными», писать откровенные шлягеры, которые якобы лучше звучали с экрана, и сделать еще много всего такого, только бы все «прошло» как надо. И восторженный прием, который оказала публика, его дезориентировал окончательно: он и в самом деле поверил, что получилось. Потому, например, взялся за вторую часть телеповести — за те самые добавленные по настоянию «сверху» дополнительные восемь серий, которые, по общему мнению, делать было уж совсем не нужно.
Самые негативные оценки дали именно те, кто хорошо знал его творчество. Они лучше остальных видели, что «День за днем» — сплошной самоплагиат, объединение эклектично надерганных фрагментов из его действительно великолепной прозы шестидесятых, слегка подогнанных под других героев и другой антураж. Возможно, это начинание вызвало бы куда более доброжелательную реакцию или прошло бы вовсе незамеченным, если бы до этого не было бы ни «Теории невероятности», ни «Голубой жилки Афродиты», ни «Этого синего апреля», на фоне которых сериал выглядит, мягко говоря, бледновато.
Иными словами, как первая в стране реализация нового жанра — многосерийного телевизионного фильма, телевизионной повести — «День за днем» оказался для советского телевидения событием, а вот как произведение творческое, без скидок на форматы и специфику, для самого Анчарова он был явным шагом назад. Сам Михаил Леонидович эту точку зрения так и не принял — в 1981 году, после концерта в ДК «Металлург», он так излагал свое видение ситуации:
«В результате было такое, города опустели. Впрямую. Ну, не может быть, чтобы чистая халтура… от чистой халтуры пустели города. А потом — мешки писем. Мешки. Думаю, вам бы пришли мешки писем вот такого содержания, вы бы не устояли. Знаете, как-то наплевать на все остальное. Меня ж хвалили не за то, что я красавец посредине телевизора и пою там: “Мы лесорубы, ха-ха-ха-ха!” Не за это хвалили…»
Характерно, что в этом разговоре он уходит от ответа на впрямую заданный вопрос: «Вам самому это нравится?» — вместо этого он многословно рассказывает про отличие киношного зрителя от телевизионного, про суть эксперимента с отсутствием сюжета (который он полагал удавшимся), жалуется на давление при работе над второй частью и опять же говорит о массовом признании и так далее.
В 1972 году вышла пластинка фирмы «Мелодия», на которой прозвучало восемь песен из первой части «День за днем», а в 1974 году, на еще одной пластинке, названной «День за днем: 2-я песенная сюита из телеспектакля», — еще шесть песен из его продолжения. Кроме них на пластинках были записаны вальсы, танго и вокализы, написанные для телеспектакля И. Катаевым.
Мы говорили ранее о том, что в песнях Анчарова, как никакого другого автора, важно единство стихов, мелодии и исполнения, причем исполнения вживую, в той камерной обстановке, для которой они были написаны. В песнях для сериала было грубо нарушены два из этих условий: от Анчарова остались только стихи, притом нередко искореженные цензурой или редакторами. Это тот компромисс, на который идти не следовало: оторванные от личности автора и доведенные до стандартного уровня исполнительского профессионализма, песни с точки зрения рядового зрителя обернулись вполне рядовыми эстрадными шлягерами, которые из знатоков мало кто заметил.
Причем создатели пластинки захотели песни еще «улучшить»: на пластинке они в значительной части представлены не в исполнении актеров сериала в том виде, в котором они звучали с экрана (где хотя бы звучанием голоса артиста были «подогнаны» под характер персонажа), а в исполнении Валентина Никулина, Валентины Толкуновой, Владимира Трошина, Льва Лещенко, Владимира Макарова[287]. Нет, ни единого плохого слова ни о ком из названных исполнителей, тем более о прекрасном актере театра «Современник» Валентине Юрьевиче Никулине (1932–2005) и незаурядной певице Валентине Васильевне Толкуновой (1946–2010), исполнивших большинство песен, мы сказать не хотим. Дело всего лишь в том, что таким образом песня еще дальше ушла от автора, а анчаровские песни от автора отрывать не получается. И хотя в сериале звучат почти два десятка песен Анчарова, в том числе многие хорошо уже известные в среде авторской песни и вошедшие в ее золотой фонд («Кап-кап», «Белый туман», «Песенка про циркача…» и другие), событием с этой точки зрения телесериал не стал. После выхода пластинки никто не побежал в магазин с воплями «Анчарова издали!» — как это было с польским сборником песен Окуджавы «Двадцать песен для голоса и гитары» (1970), каким-то чудом просочившимся на московские прилавки немного раньше, — иными словами, любители авторской песни ее просто не заметили. Сравните с «Иронией судьбы», в которой, наоборот, песни на стихи известных поэтов были написаны профессиональным композитором Таривердиевым, но в исполнении Сергея Никитина они быстро распространились именно в среде авторской песни. Это совершенно не значит, что у Анчарова песни хуже: просто их, повторим еще раз, не следовало настолько отчуждать от автора.
Анчаров с Валентином Никулиным неделю отмечали выход пластинки, как это запомнилось Нине Поповой: «Выпустили пластинку “День за днем”. И с Валей Никулиным (а Валя в большом количестве — это тоже отдельная песня) неделю гуляли. Через неделю я сказала — больше не могу. Вызвала Валину жену, сказала, разбирайся как хочешь, я больше не могу, и на сутки уехала к маме. Но, кстати, предположим, Миша много выпил (он мог очень много выпить), утром он вставал и писал. Он никогда в жизни не знал, что такое с утра продолжить это развлечение. Это он не понимал и не принимал вообще».
И еще один существенный момент следует отметить — начинание Анчарова не имело тогда никаких последствий. То есть телеповесть помнят, многие с искренней благодарностью и ностальгией, но ничего похожего больше на советском телевидении не предпринималось. За исключением выморочной (и вынужденной) попытки продолжения под названием «В одном микрорайоне» (1976 год), которую Анчарову, в общем, навязали «сверху»: дескать, коммунальные квартиры расселяются, так что нужно показать, что жизнь советского человека улучшается. В отличие от «День за днем», сериал провалился, несмотря на звездный состав актеров: Л. Броневой, И. Мирошниченко, Н. Подгорный, Р. Филиппов, молодой Н. Караченцов и даже знаменитый артист балета Марис Лиепа (который играет почти самого себя, только под другим именем). Наверное, недаром Всеволод Шиловский в своих воспоминаниях этот проект обходит.
Пожалуй, точнее всего определила причину неудачи автор рецензии в «Литературной России»[288] Н. Бабочкина: «“В одном микрорайоне” собрались многие хорошие, известные актеры. И все же приходится повторить: автор поставил их в трудное положение, не дав им настоящего драматургического материала». В этом ключ к пониманию и тихого осуждения со стороны знакомых и коллег, и провала «В одном микрорайоне», не имевшего даже оправдания в виде высокого телевизионного рейтинга, — в сериале нет ни грамма драматургии. То есть нет того самого сюжета, финала, которого всегда ждет зритель, злостно нарушен принцип «стреляющих ружей»[289], нет, по сути, и самобытных образов-характеров. В своих экспериментах Анчаров, пытаясь показать живую жизнь, слишком далеко ушел от традиции, а новое взамен предложить не сумел. В первой части «День за днем» люди у экранов еще узнавали самих себя и видели хорошую жизнь, какой она могла бы быть, а «В одном микрорайоне» узнавать перестали — настолько искусственным оказался мир этого сериала. То есть по большому счету эксперимент все-таки провалился.
О двух песнях («Многоэтажная окраина» и «Дети песни поют»), которые сопровождали сериал «В одном микрорайоне», даже вспоминать не хочется. Там и композитор почему-то был назначен другой — заслуженный, но еще более далекий от анчаровского стиля, чем Илья Катаев, — Марк Минков[290]. Если в первом сериале еще чувствовался тот автор песен Михаил Анчаров, которого мы любим и знаем, пусть и пропущенный через сито профессиональных композиторов и исполнителей, то для иллюстрации уровня того, что звучало во втором, достаточно процитировать заключительную строфу заглавной песни, которая звучит в устах жэковского слесаря (это был песенный дебют Николая Караченцова на экране):
Весь мир спасала от отчаяния,
И не боялась никого
Моя рабочая окраина —
Отчизна сердца моего.
Диана Тевекелян довольно метко охарактеризовала этот этап в жизни своего героя Вадима:
«Он не заметил, как в бешеной гонке “давай-давай!” начал выдыхаться. Сценарий, поначалу такой достоверный, добрый, становился от серии к серии навязчиво сентиментальным, слащавым. Вадим обижался, не понимал, почему актеры, недавно восторженно принимавшие роль, стали играть так, словно делали одолжение, вроде бы стали стесняться, тяготиться своим участием, а встретившись в ним взглядом, отводили глаза. Остановиться вовремя он не умел, отчаянно надеялся хоть ненадолго сохранить счастливую атмосферу любви и понимания».
Анчаров нарушил свой собственный принцип, который он когда-то формулировал в «Теории невероятности», вложив в уста Памфилия такие слова:
«Можно придумать такую страшенную судьбу производственника, что несчастья Лира покажутся детскими. И даже не придумать, а взять из жизни. Будут они вас трогать? Даже больше, чем история Лира. Будет это произведение искусства, равное трагедии “Король Лир”? Что-то не видно пока. Почему? Может, не хватает пустяка — Шекспира? Может быть, дело не в том, насколько велики несчастья или факты счастья, а в том, что поэзия трогает чем-то другим, опираясь на факты счастья и несчастья. И для нее факты счастья и несчастья — только средство общения, только общий для всех людей и известный им материал, на базе которого легче говорить о чем-то совсем другом?»
Вот именно это «совсем другое» в телеповестях Анчарова оказалось отсутствующим: он попытался показать «производственника» в естественной среде обитания, несколько возвысив планку обилием многозначительных философских монологов и диалогов, но за ними нет ни общей идеи, ни яркого образа, которые составляют главную изюминку его ранних прозаических произведений. А сами эти монологи и диалоги просто повторяют то, что уже было опубликовано им ранее. Причем в первый раз это звучало ярко и необыденно, а в сериалах — как необходимая для надлежащего фона интеллектуальная жвачка, большей частью вырванная из контекста и потому выглядящая неуместно и эклектично.
Так что, повторим, эксперимент по большому счету не удался, но это была все-таки достойная попытка мастера. Если выйти за пределы советского телевидения, то в наше время можно найти некоторые параллели с анчаровскими экспериментами в современных сериалах «для домохозяек». Еще их можно проследить в реалити-шоу, всем известным по передачам «Дом» и «Дом-2». Создатели реалити-шоу основывались на той же идее, что и Анчаров, — показать реальную жизнь, как она есть, но пошли намного дальше: в реалити-шоу нет профессиональных актеров (кроме ведущих), нет твердо заданных сценариев, репетиций и прочей постановочной атрибутики, хотя общий сюжет, направляемый рукой сценариста, все-таки присутствует. И, кроме того, Анчаров был идеалистом во всем, то есть и здесь тоже показывал идеалы (и ничего другого в условиях «соцреализма» ему бы не позволили), а реалити-шоу спокойно демонстрируют все изнаночные стороны жизни в неприкрытом расчете на низменный интерес обывателя: драки, конфликты и даже секс, за что их ругают и регулярно грозятся прикрыть. Потому наследниками сериала «День за днем» их назвать нельзя — скорее, это ироническая пародия на задумку Анчарова, доведенная до логического конца.
В 1975–1976 годах Анчаров выступил в несколько необычной ипостаси — он разработал сюжет и написал либретто оперы «Рыжая лгунья и солдат». Сюжет представляет собой обычную, но довольно закрученную мелодраму: солдат приезжает в отпуск, обнаруживает, что его невеста собирается за другого, встречает девчонку, способную понять и оценить глубину его чувств, и далее развивается их роман без особо яркого финала.
Музыку к опере написал молодой композитор Вячеслав Ганелин[291], а поставил ее в апреле-мае 1977 года в Московском камерном музыкальном театре легендарный режиссер Борис Покровский[292]. «Рыжую лгунью и солдата» называли «городской оперой» — она посвящена Москве и москвичам. Борис Покровский в своих воспоминаниях[293] так рассказывал о постановке этой оперы:
«Приведу пример из спектакля, который я ставил и как режиссер, и даже как художник, то есть сам создал обстановку для процесса актерских действий. В Московском камерном музыкальном театре нет сцены, кулис, стабильного оркестрового помещения, артисты выходят из публики; а этот спектакль даже играли среди публики. Спектакль называется “Рыжая лгунья и солдат”, опера Ганелина по либретто Анчарова. По ходу действия герои попадают то в метро, то в аэропорт, то в Третьяковскую галерею, а то и на улицы Москвы. Что надо для того, чтобы зрители поняли, что персонажи находятся на улице? На небольшом столбе — вывеска с названием улицы. Вся штука в том, что она настоящая, подлинная и поэтому легко вызывает ассоциации с московской улицей. А зал картинной галереи? Выносят и ставят на небольших щитах… солидные рамы от картин. А если настоящие картины? Они отвлекут от действия; публика начнет их рассматривать и оценивать. А нам не нужны сами картины, нам нужно определить лишь место действия! А метро? Здесь для изображения достоверного поведения пассажиров в метро достаточно палки, которую держат над головой актеры».
«Рыжая лгунья и солдат» по понятным причинам — спектакль для достаточно узкой и элитарной аудитории — не получила широкого резонанса, хотя немногие появившиеся рецензии были доброжелательными. Относились они, естественно, к музыке и постановке — в операх либретто всегда играло вспомогательную роль. Потому в творческом пути Анчарова это произведение имело второстепенное значение, оставшись лишь фактом его биографии.
В конце семидесятых была еще одна попытка Анчарова утвердиться на телевидении: телеспектакль «Москва. Чистые пруды» (премьера 21 февраля 1979 года). На этот раз никаких экспериментов: обычный телефильм, бытовая мелодрама. Фильм повествует о встрече двух уже немолодых людей: участкового врача Валентины Михайловны и мастера взрывных работ Жигулина. Они познакомились в самом конце войны, были вместе несколько дней, когда Жигулин устроил Валентину в своей квартире и даже расписался с ней в ЗАГСе. Затем они расстались на много-много лет — Жигулину взрывом оторвало ногу, и он не желал, чтобы Валентина связывала свою жизнь с инвалидом. Некоторая искусственность такого образа испортила всю картину. Как отмечал автор рецензии в газете «Труд»[294]:
«Желая подчеркнуть исключительность Сан Саныча Жигулина и его верной Сольвейг, они [М. Анчаров и режиссер В. Турбин] намерено лишили их простых человеческих чувств, логики поступков, всего того, что делает героев фильма понятными, близкими, узнаваемыми и интересными зрителю».
В 1978-м вышла «Краткая литературная энциклопедия», в которой Михаил Леонидович удостоился небольшой заметки:
АНЧАРОВ, Михаил Леонидович
(р. 28. III. 1923, Москва) — рус. сов. писатель. Чл. Коммунистич. Партии с 1950. Участник Великой Отечеств, войны. Окончил Ин-т иностр. языков Сов. Армии (1944) и Моск. худож. ин-т им. Сурикова (1954). Печатается с 1955. Роман «Теория невероятности» (1965, одноим. пьеса, 1967) и повести «Золотой дождь» (1965), «Сода-солнце» (1965), «Голубая жилка Афродиты» (1966), «Этот синий апрель» (1967), «Поводырь крокодила» (1968) составляют своеобразный цикл, объединенный общностью гл. героев. Автор сценариев фильма «Мой младший брат» (1962, совм. с В. П. Аксеновым), телефильмов «Аппассионата» (1963),«День за днем» (1972), пьесы «Драматическая песня» (1971, совм. с Б. И. Равенских) и др. Нек-рые произв. А. переведены на иностр. языки.
Анчарова действительно много и охотно переводили как на языки советских республик, так и на языки стран народной демократии. В течение 1960–1980-х годов вышли переводы его произведений на латышский, грузинский, чешский, словацкий, сербский, румынский, болгарский, немецкий и даже французский языки. Часть переводов была предпринята московским издательством «Прогресс», но куда большее количество их выпускали сами страны по собственной инициативе. Это легко доказывается фактом, что в 1989 году, когда СССР уже ничего никому не навязывал, был переведен на чешский язык и напечатан в Праге роман «Дорога через хаос», а «Теория невероятности» на сербском издана в Югославии, в городе Нови-Сад.
В 1976 году выходит радиоспектакль по рассказу «Венский вальс», который и сейчас можно прослушать на сайте «Старое радио» (audiopedia.su). В эти годы Анчаров пишет несколько текстов песен для кинофильмов («Побег из тюрьмы», «Предвещает победу»), в 1976 году совместно с Ильей Катаевым сочиняет даже целый вокальный цикл под говорящим названием «Комсомольцы» (состав: «Рабочие люди», «Здравствуй, земля», «Ветераны», «Комсомольцы»). Многие поэты его поколения грешили официозом, даже прослывший впоследствии «антисоветчиком» Александр Галич в свое время отметился текстом песни на тему комсомола, но ни у кого это не выглядело настолько чужеродно, как у вполне лояльного к советской власти Анчарова.
В 1975 году Н. Г. Попова от Анчарова ушла. Вскоре Анчаров женится на Ирине Ниямовне Биктеевой (1953–2004), которая тогда работала костюмером в Театре им. Пушкина, а позже, до рождения их сына, костюмером и гримером в Малом театре. Это еще больше отдалило Анчарова от старых друзей (Тамара Кушелевская):
«А вот последняя жена, она то ли гримершей была в Малом театре, не то костюмершей… Не знаю, почему он вдруг решил, что он должен уйти от интеллигентных девочек…
Дело в том, что Нина Попова сама его оставила…
Да, он очень страдал от этого. И он очень страдал от этого, не появлялся нигде и вообще…».
Ответ на вопрос Тамары Дмитриевны «почему он вдруг решил, что он должен уйти от интеллигентных девочек» совершено очевиден и прост до примитивности: «интеллигентные девочки» имеют свою жизнь, свои интересы, делают свою карьеру. А Ирина смогла полностью посвятить себя только Анчарову и была с ним все оставшиеся годы жизни, притом еще и придав им совершенно новый, дотоле незнакомый ему смысл, заключавшийся в рождении сына. До этого Анчаров любил детей абстрактно, на расстоянии: в 1947 году, когда родилась дочь Елена, родительские чувства в нем так и не успели проснуться, вытесненные войной и вихрем послевоенных впечатлений, метаниями еще не слишком уверенного в себе молодого лейтенанта в поисках основательного занятия. А сейчас уже вроде бы твердо стоящий на ногах известный автор прозы и сценариев вдруг понял, что все мире преходяще, кроме детей, за которых мы отвечаем. Александру Тимофееву он под конец жизни так и скажет: «В жизни меня больше ничего не интересует, кроме судьбы моего сына» (подробнее см. в следующей главе).
Собственно, одна такая попытка у него уже была — с Мариной Пичугиной, которая в отношении своей «домашности» походила на Ирину, но тогда Анчаров был еще полон планов и устремлений, он еще не все высказал и сделал, потому оказался не готов. А сейчас, после несколько неожиданного для него ухода Нины Поповой, растерявший связи с прежними друзьями и не обретший себе равнозначных новых, находящийся к тому же в заметном для посвященного творческом кризисе, Анчаров вдруг обнаружил, что домашняя и хозяйственная жена, жена-секретарь и жена-помощник — это то, чего ему, оказывается, все время не хватало. Несомненно, в том, что Анчаров уже к концу семидесятых перестает строить суетливые и отнимающие неадекватно много сил прожекты на телевидении и в театре, к тому же сомнительно воспринимаемые публикой, а возвращается к прозе, в которой успеет еще кое-что сделать, есть немалая заслуга Ирины Ниямовны, сумевшей обеспечить ему главное условие, важное именно в его уже немалом возрасте, — спокойную домашнюю обстановку.
Диана Тевекелян проницательно пишет об этом периоде в жизни своего героя Вадима:
«В эти дни, когда медленно распадалась его многосерийка, у актеров все чаще возникали неотложные дела, и они один за другим отказывались сниматься дальше — неблагодарные! — такая популярность им могла только присниться! — он все чаще задумывался над собственным неустройством. Устал себе доказывать, что он не как все, ничего ему не надо: ни домашнего уюта, ни общественного положения. Думать-то думал, но предпринимать реальные шаги ради собственного устройства было противно. А само по себе почему-то ничего не получалось».
С уходом Нины Поповой у Анчарова как-то резко закончился продолжавшийся четверть века период жизни «открытым домом». Он и до этого отдалился от круга друзей 1950–1960-х, знавших еще Джою Афиногенову и ее мужа Мишу Анчарова — автора замечательных песен, которого совершенно не готовы были воспринять как известного писателя и драматурга и тем более автора «народных» сериалов. А его упрямое нежелание признать эти сериалы неудачей разрывает и связи с большим количеством более поздних знакомых, которые не поняли и не приняли его активную деятельность на телевидении.
Михаил Леонидович никогда не стремился к дешевой популярности, но к середине семидесятых решил, что определенное право на известность он себе честно заработал — те самые «триста тысяч писем» зрителей тому подтверждение. И совершенно не понял, почему его друзья и знакомые относятся к этому с таким сомнением: он вообще, как мы уже знаем, не признавал за кем-либо права на критику своих произведений, кроме себя самого. Еще раз процитируем меткое замечание Валентина Лившица: «меня всегда удивляла эта его особенность: “про других” он знал всё и очень правильно, а вот “про себя”…» В результате, не желая выслушивать критические замечания в лицо, Анчаров тем самым построил барьер между собой и старыми знакомыми. И заодно сильно подпортил себе репутацию на всю оставшуюся жизнь: кому охота иметь дело с человеком, который смертельно обижается на каждое критическое замечание в свой адрес?
Судя по всему, Анчаров вообще не понимал значения слова «репутация», относился к нему с презрением и не считал нужным вникать в смысл стоящего за ним понятия: это было видно уже по его истории с Татой Сельвинской и Джоей. Он наивно полагал, что каждый раз на новом этапе репутация должна создаваться заново и никто не имеет права поминать ранее допущенные ошибки, от которых он сам легко отмахивался. Казалось бы, вгиковская история должна была наглядно показать, что в реальности от ошибок отмахнуться не так легко, но Анчаров потому так тяжело ее и переживал, что, не зная за собой вины, все равно так и не понял, почему эта история продолжает ему отзываться.
На его отношениях с друзьями сказалось еще и то напряжение, в котором он пребывал во время творчества. Нина Попова это прекрасно понимала:
«Миша тоже был очень контактный, даже слишком контактный, но Миша был и таким: сегодня ты гений, а завтра ты второй сорт. Он мог обидеть легко, это в нем было. И не от того, что он был плохой или хороший. Он был такой, какой был. Но я каждый раз, чем старше становлюсь, тем больше думаю, а куда, какой выплеск у человека должен быть? Не может не быть выплеска, когда в человеке всего так много. Это: ах, Володя Высоцкий был алкоголик, ах, Володя Высоцкий был наркоман. <…> Я просто сравниваю с собой: сейчас легче играть, роли меньше, а когда ты 2,5 часа вдвоем на сцене… И я выходила настолько опустошенная, что рефлекс был один — жрать. А потом надо прийти и выпить рюмку. Но другое дело, что я не пьющий человек, я выпила рюмку, и мне достаточно. А вот 2,5 часа Высоцкий или 2 часа Анчаров, или вот он пишет книгу, вот он это. В нем же всего, это чувствуется в его прозе, в его песнях, в его этих… Куда-то этот выплеск должен быть».
С этими событиями совпал глубокий кризис авторской песни, которую власти после 1968 года всерьез решили разогнать до основания. Точно так же, как российские власти в 2010-х опасаются «оранжевой революции», брежневскую власть напугала «пражская весна», и действия в обоих случаях очень похожи: не допустить и намека на возникновение какой-либо организованной оппозиции. В то время это означало прежде всего запрет на любое инакомыслие, критику властей и, следовательно, быстрое сворачивание вольностей периода оттепели. В том числе и такого яркого ее детища, как авторская песня, — недопустим был сам факт ее самодеятельности и неподконтрольности. Разогнать авторскую песню так и не удалось (причем как раз именно вследствие ее «самодеятельности и неподконтрольности»), но и таких почти официальных концертов в клубах и Домах культуры, с рекламой в печати и на телевидении, как это происходило в середине шестидесятых, до наступления перестройки больше не было. Потому и этот круг общения Анчарова оказался разорван, за исключением немногих друзей и знакомых, вроде изредка наезжавшего Евгения Клячкина или соседа по дому Юрия Визбора. Сказалось и еще одно качество характера Анчарова — он не умел жаловаться (мы уже цитировали его высказывание по этой теме в главе 6).
С другой стороны, отстранившись от обычного круга своих знакомых, бесхитростный, прямой и независимый Анчаров так и не смог вписаться в официальную писательскую среду. Суждение Нины Поповой о царивших в ней нравах напоминает некоторые места из «Мастера и Маргариты» Булгакова и «Хромой судьбы» братьев Стругацких:
«Я как вспомню этот Союз писателей и эти хождения, когда он заставлял меня идти в Дом литератора. Там совершенно непонятно было, как себя вести. Так как я была еще юная, меня потрясло. С этим ты здороваешься, с этим нет, потому что при всех друг с другом поздороваться нельзя, потому что если ты поздоровался, то тот на тебя обиделся. Они все вдрабадан пьяные были, пили там по-черному, падали. Он мне говорит: “с этим не здоровайся, с этим, и с этим… Ну всё, теперь я не знаю, что будем делать”. Какие-то совершенно у них дикие отношения были, у писателей».
Если вспомнить, как в молодости Анчаров боялся прослыть чьим-то учеником, то понятно, почему он решительно отмежевывался от возможности быть причисленным к какой-либо писательской группировке. Вспомним также, что он за всю жизнь написал всего две рецензии, и обе на фильмы, которые ему по разным причинам понравились: ни о ком из коллег персонально он не отзывался отрицательно, и в этом, кроме черты характера, было и стремление обезопасить себя от ввязывания в какой-либо чуждый ему конфликт, прослыть чьим-то сторонником и чьим-то противником. Он спокойно переносил и даже любил богемный стиль жизни, но не терпел и намека на какой-либо официоз в отношениях. А официоз своей ритуальностью, между прочим, затягивает почище богемы: надо ходить на встречи, собрания и юбилеи, высказывать публичные мнения, демонстративно подписывать и столь же демонстративно не подписывать коллективные письма, сторониться одних и привечать других — в общем, «крепить общественные связи», что Анчарову было совершенно поперек характера. Он ощущал себя нонконформистом, клоуном из «Сода-солнце» и «Поводыря крокодила», и так же, как и его герои, все время страдал от того, что окружающие не воспринимают его всерьез.
С братом Ильей отношения у них не портились (это подтверждает и Нина Попова), но встречи были редкими и вялыми. Тамара Кушелевская дружила с Ильей Леонидовичем больше, чем с самим Анчаровым:
«Несколько раз я его видела в доме у Илюши. Приходил мрачный, как туча. Тут же уходил. А когда появилась эта его жена, а потом она родила ему ребенка, и он как-то совсем замкнулся, закрылся.
Я считаю, что Миша был безумно сложным человеком. Миша не мог со всеми людьми ладить. Он был абсолютно отдален от друзей, от знакомых. Я не знаю, с кем он дружил близко и дружил ли вообще… Но до сих пор мне нравятся его песни. Илюшка знал все песни его, и когда мы собирались, то первое что мы просили, — это спеть Мишины песни. Мишины песни отличались и от Клячкина, и от Галича, и от Булата. В них всегда звучала какая-то боль, какая-то мысль…»
Потому в его удалении от общества, несомненно, было что-то общее с известными поступками некоторых знаменитостей, когда они уезжали подальше от привычного круга. Максим Кантор писал о об этом так[295]:
«И Гоген, уехавший на Таити, и Стивенсон, уехавший на Самоа, могли бы подтвердить, что для жизни, даже для сугубо интеллектуальной жизни, ни балы, ни вернисажи не обязательны. В конце концов, можно обойтись без общественной жизни. Толстой прожил самый плодотворный отрезок жизни в Ясной Поляне, далеко от столичного блеска, а Пушкин обязан болдинскому карантину едва ли не лучшим периодом творчества.
Людям свойственно растрачивать жизнь на пустяки — и никакая борьба с природой на необитаемом острове не отнимает у человека столько сил и времени, сколько забирают столичный этикет и светское лицемерие».
Глава 9
Последний штурм
Последний период деятельности Михаила Леонидовича охватывает целое десятилетие: с 1979 по 1989 год. В эти годы Анчаров занимается исключительно литературным трудом: если и были предприняты новые попытки выхода в область кино или театра, то не им самим, а по сторонней инициативе, как это было в 1988 году с режиссером Николаем Лукьяновым:
«В той книжке, “Приглашение на праздник”[296], раздобытой на чернобыльском развале, была повесть, помеченная 80-м годом, “Прыгай, старик, прыгай!”. Прочитал я эту повесть — и заболел светло и хронически, и выздоровлю, лишь когда смогу перенести ее на экран».
Но у Лукьянова, пытавшегося протолкнуть заявку на «Беларусьфильме» вплоть до самой кончины Анчарова, ничего не вышло.
С начала-середины 1980-х годов Анчарова не то чтобы совсем замечать перестали, но и былой известности уже не было. В январе 1988 года состоится такой разговор Михаила Леонидовича с его другом Вячеком Лысановым:
«МЛА: Я за это лето (то есть лето 1987 года — авт.), как товарищ Пушкин, испытал болдинскую осень. Накатал три романа, одну повесть. Напечатать не могу ничего.
В. Лысанов: А не берут почему, что говорят?
МЛА: Задай вопрос полегче… Вот я сам стараюсь понять, почему у меня не берут. Откуда у меня не берут, слева не берут или справа.
В. Лысанов: Ты что, в один журнал предлагал? МЛА: В разные предлагал, по разным журналам».
К моменту этого разговора из четырех романов, написанных Анчаровым во второй половине 1980-х, один («Как птица Гаруда») уже был опубликован, пусть и в журнальном варианте, еще два («Сотворение мира» и «Интриганка») при жизни опубликованы так и не будут, а вот «Запискам странствующего энтузиаста» еще придется ждать публикации два с лишним года, считая от времени первого поступления в редакцию в конце 1985-го. Повесть (вероятно, имеется в виду «Стройность») будет опубликована в журнальном варианте (под названием «Козу продам») через несколько месяцев после этого разговора. Картина, в общем, действительно, не слишком радостная: какому писателю захочется работать с таким «коэффициентом полезного действия», да еще и в конце жизни, когда силы стремительно уходят, а хочется еще столько сделать?
Причин тому не одна и не две, а много. О некоторых из них мы говорили: сказалось и чрезмерное увлечение телевидением, в котором Анчаров по большому счету потерпел неудачу, но при этом надолго — почти на десятилетие — практически выпал из «литературного процесса», еще как следует в нем не утвердившись. Кроме того, обидевшись на своих литературных знакомых, дружно осудивших его телевизионные эксперименты, он перестал с ними общаться, отчего почти потерял выходы на те литературные круги, где принимаются решения. К тому же эти круги за десятилетие успели смениться почти полностью, и хорошо знавших Анчарова людей там почти не осталось. А вот репутацию автора «попсового» сериала «День за днем» и откровенно вымученных его продолжений в этих кругах хорошо запомнили и пересматривать свое мнение не собирались.
И самое главное: за это время полностью сменился круг тем, интересовавших общество. Причем как со стороны официальных идеологических кругов, так и со стороны творческой интеллигенции, которая стремительно дифференцировалась по политическим векторам. Никого уже не волновала проблема «физиков и лириков», механизмов и эффективности творчества, взаимодействия личности и «масс». Уже начал блекнуть и расплываться в неопределенность шестидесятнический идеал социализма, без которого вопрос о том, как можно полностью проявить творческое начало в человеке, теряет всякий смысл: вдруг оказалось, что гигантская страна, которая вроде бы уже три с лишним десятилетия не воевала, не может себя прокормить и вынуждена закупать зерно у своих главных противников.
До «творческого начала» ли, когда не работают обычные повседневные стимулы к производительному труду, а любимая в народе поговорка тех лет гласит: «мы делаем вид, что работаем, а государство делает вид, что нам платит»? А тут еще сверху агитируют за «Продовольственную программу», которая так и не сумела восполнить всеми, включая и лучше других снабжавшихся москвичей, ощущавшийся дефицит продуктов питания. Популярный анекдот тех лет «Что такое: зеленая, гудит и колбасой пахнет? — Рязанская электричка!» отражал то, что больше всего реально волновало все слои общества: дефицит продуктов и их «кривое» распределение, когда большая часть свозилась в центр и «продовольственные туры» в Москву стали повседневной обыденностью для жителей ближней провинции.
Во второй половине 1980-х советские граждане с изумлением и острой завистью узнавали, что в типовом западном супермаркете количество наименований товаров составляет 25 тысяч: откуда столько?! Современный российский обыватель пренебрежительно хмыкнет на эту цифру, понимая уже, что половину из этих десятков тысяч товаров можно было бы не выпускать вовсе, а значительная часть оставшегося дублирует друг друга. Но в условиях, когда в продаже была (и к тому же не «была», а «иногда встречалась») одна на всех модель электрочайника, одна модель электроутюга, одна модель мясорубки (механической) и три-четыре модели холодильников разных размеров, продававшихся строго по предварительной записи, 25 тысяч наименований вызывали понятное головокружение. И когда все время занято стоянием в очередях, а голова — способами приобрести дефицитные товары, то проблема «вещизма» и «мещанства» неощутимо переходит в несколько иную плоскость, уже не столь однозначную. И в результате как-то так оказывается, что уже не до анализа проблем творчества.
Современный читатель может недоумевать: а в чем, собственно, разница? Дефицит существовал все годы советской власти, над ним издевались еще Булгаков и Зощенко в тридцатые годы, а очереди послевоенного времени были как бы и не побольше, чем в семидесятые. Но в тридцатые и сороковые мальчишки восторгались фотографиями летчиков и полярников, в пятидесятые и шестидесятые годы людей действительно волновали проблемы изобретательства и творчества, и ученые-физики с космонавтами были реальными героями поколения. А в семидесятые и восьмидесятые все это как-то довольно резко угасло: изменился общественный климат. Если проанализировать истоки тех технических достижений СССР, которыми справедливо гордятся сегодня, то выясняется, что все это — проекты, осуществленные или по крайней мере начатые до 1970 года. После из серьезных начинаний был разве что один «Буран»[297], и тот закончился (да и не мог, как потом выяснилось, не закончиться) ничем. Оттого этот период и назвали «застоем». Общество может какое-то время жить в режиме Павки Корчагина, если его уверить, что дальше — одни сияющие перспективы, но не очень долго: если оно не ощутит улучшений на собственной шкуре, то все призывы и лозунги вдруг как-то сами по себе окажутся утратившими смысл.
Это такой исторический урок по части идеалов: когда человек утрачивает смысл деятельности, когда он видит, что все его усилия положения не улучшают и нет никакой перспективы того, что оно в какое-то обозримое время улучшится, он разочаровывается и опускает руки. Общество, состоящее из разочаровавшихся людей, невозможно поднять из этого состояния никакими принудительными или косметическими мерами — здесь перестают работать даже стандартные и веками проверенные приемы отсылки к проискам внешнего врага, в которых человек обоснованно начинает сомневаться: если враг живет хорошо, а мы плохо, то, может быть, мы все-таки в чем-то тут неправы? И тогда — либо новая война для естественной реабилитации лозунгов спасения и восстановления Родины (но такая война в условиях ядерной гонки оказывается, слава богу, неосуществимой), либо своевременные реформы, на которые геронтократическое Политбюро по своей природе было неспособно, и в результате понимание их неизбежности «наверху» задержалось лет на пятнадцать-двадцать. А настроения «признания ошибки» тем временем продолжали крепнуть и потом сыграли роль спускового крючка в событиях рубежа девяностых с непредвиденными геополитическими последствиями в виде развала СССР.
В этой обстановке Анчаров возвращается к старым темам о механизмах творчества, об изобретательстве и искусстве, становлении творческой личности и историческом взаимодействии таких личностей через века. Конечно, он прав в том, что эти темы вечны и важность их от сиюминутной обстановки не зависит, а за приверженность светлым идеалам молодости его можно только уважать. И уж наверняка Анчаров не виноват в том, что общество изменилось, и притом не в лучшую сторону, но ясно, что испытывать от его новых произведений ощущение «эстетического солнечного удара», который пережил за пятнадцать лет до этого юный Николай Лукьянов, прочитав «Теорию невероятности», в эти годы было уже некому. А ведь его новые произведения по-своему замечательны и в иных обстоятельствах могли бы составить цвет литературной жизни времени — тем более что написаны они уже опытным автором, окончательно оформившим свой собственный, ни на что не похожий стиль.
В книге «Перекресток утопий» Всеволод Ревич напишет:
«Страна вползала в мрачную полосу застоя — Анчаров оставался романтиком. Я бы не осмелился утверждать, что занятый им блокпост был сооружением, отгораживающим автора от действительности, думаю, что в его собственном представлении он как раз находился на переднем крае. Но грань, отделяющая оптимизм от бодрячества или, может быть, даже от конформизма, очень тонка, и на какой-то момент автор незаметно для себя переступил ее, чем и объясняется неудача двух его телеспектаклей, о которых, к счастью, все давно забыли. И сам автор в последних произведениях вернулся к шестидесятническим настроениям, к любимым героям, умным, остроумным, добрым, влюбленным в жизнь и красоту, то есть к тому, в чем он был силен и чем остался в нашей памяти. Может быть, он не шагнул вперед, но и назад не отступил ни шагу».
Нет, Марина Пичугина все-таки была неправа, говоря о том, что «Миша сник и кастрировал сам себя вот этим сериалом». Он действительно чуть не перешел грань между оптимизмом и конформизмом, о которой говорит В. Ревич, но очень вовремя отступил обратно. И никакой такой «кастрированности» в его поздней прозе не наблюдается — некоторая оторванность от запросов времени, не более. Если поискать внимательно, то такое «обвинение» можно предъявить многим писателям и художникам, включая весьма выдающихся: Константин Паустовский тоже ведь не написал ничего ни особенно соцреалистического, ни наоборот, оппозиционно-диссидентского. А если еще вспомнить незаслуженно вычеркнутого из литературной жизни на весь советский период Николая Гумилева, которого все чаще ставят в число крупнейших русских поэтов, — он ведь тоже ни разу даже не намекнул на те проблемы, которые волновали его современников-коллег, как находившихся в оппозиции к советской власти, так и с восторгом ее принявших. И его стихи, насыщенные неземной музыкой слова, от этого ничуть не становятся хуже.
И если уж предъявлять к поздней прозе Анчарова претензии, то они будут заключаться примерно в том же, в чем заключались претензии к его ранним сценариям: автора заносит в области, в которых он разбирается поверхностно. Только если тогда это были наука и техника, обращение к которым не всегда выглядело совсем уж неправдоподобным, то теперь — политика и международные отношения, отраженные у Анчарова примитивно, как черно-белые карикатуры Кукрыниксов времен войны. Анчаров действительно рисовал мир таким, каким видел. Только то, что он знал досконально, представало перед читателем во всем многоцветье, а то, в чем он разбираться во всех подробностях нужным не считал, и выглядело черно-белым, лишенным оттенков и нюансов, — за это и критиковали его рецензенты на киностудиях еще в середине 1950-х.
И еще одно замечание: к концу жизни Анчаров начал заниматься самоповторами. В его повестях и романах все чаше встречаются почти не измененные фрагменты его ранней прозы, в которые подставлены другие действующие лица или обстоятельства. От этого поздние повести Анчарова много теряют в сравнении с ранними — читателю, хорошо знающему его ранние вещи, становится скучновато. Таким же способом он сам себе отрезал возможность переиздавать свои прекрасные рассказы семидесятых годов, по собственному признанию, большей частью использовав их сюжеты в более крупных произведениях (например, в романах «Третье Евангелие…» и «Интриганка»). Но взятые сами по себе, повторим, эти повести и романы ничуть не хуже ранних, и то, что они не нашли такого массового читателя, как пятнадцатью годами раньше, вина совсем не Анчарова. Зато у сегодняшнего читателя именно его поздние произведения, как мы увидим, вызывают наибольший интерес — повторы с сегодняшней точки зрения не заметны, а то же самое изложено в них гораздо обстоятельнее.
Елена Стафёрова обращает внимание на сходство многих взглядов Анчарова с идеями китайского мудреца даосской школы Чжуан Чжоу (или Чжуан-цзы — «учитель Чжуан»). Об этом мы еще будем говорить далее, а здесь, вслед за Еленой Львовной, хочется обратить внимание на следующее[298]:
«И уже совсем не удивляют совпадения в воззрениях мыслителей разных эпох на взаимоотношения мудреца и общества, в котором он живет. В понимании Чжуан Чжоу мудрец — это человек с целостными свойствами, а потому он “не пойдет против своей воли, не поступит против своего желания. Обретая то, о чем говорит, гордый, он даже не оглянется, хотя бы все в Поднебесной его прославляли. Утратив то, о чем говорит, он даже не обратит внимания, хотя бы все в Поднебесной его порицали. Хвала или хула всех в Поднебесной ничего ему не прибавит, ничего у него не отнимет”».
Это очень напоминает анчаровский принцип, который мы уже приводили в главе 3 (Интервью, 1984): «…если я чем-то горжусь в самом себе, так это тем, что во мне был всегда один соперник. Когда меня критиковали — в одно ухо впускал, в другое выпускал. Но когда сам себе не нравился — тут была битва кровавая». Анчаров, боясь зависимости от публики и не желая следовать, пользуясь выражением Высоцкого, в «чужой колее», свято соблюдал это положение, немного даже злоупотребляя доверием собственному внутреннему чувству прекрасного. Но зато мы не можем его упрекнуть в том, что он потакал вкусам публики: он действительно было впал в такой грех со своими сериалами, но не потому, что так можно было стать популярным, а потому, что ему самому казалось, что так правильно. И когда убедился, что это было ошибкой (хотя ни разу в этом напрямую не признался), то вернулся в литературу.
Почему его игнорировала литературно-бюрократическая верхушка? Нет, это не было прямой травлей или запретом, да и проявилось не сразу: «Самшитовый лес», опубликованный в престижном «Новом мире» в 1979 году, еще получил заслуженную, довольно оживленную и в целом доброжелательную критику. А вот дальше — как отрезало. В восьмидесятые годы Анчарова уже не преследовали за упоминания о вошебойках во время войны или за «отмененную конницу» — претензии были куда глобальнее. Анчаров оставался верным идеалам молодости, отфильтрованным через восприятие шестидесятника, но новому руководству уже не было дела до коммунизма и «проблем воспитания нового человека». Малограмотная бабка Дарья из «Прощания с Матерой» совершенно не коммунистического, но очень патриотичного писателя Валентина Распутина была ему понятнее, чем инициативные и образованные герои убежденного коммуниста Ивана Ефремова, «Час Быка» которого запретили сразу после издания, — уж больно напоминала атмосфера этой антиутопии советские реалии. И уж тем более никак не мог прийтись ко времени наивный герой интернационалиста Анчарова, рассуждающий о всемирном значении творчества даже не Рублева, а какого-то там итальянца Леонардо. А после 1985-го властям и литературным лидерам всех политических оттенков стало уже совсем не до Анчарова (подробнее об этом мы поговорим позднее). После смерти Анчарова в сообщении о кончине сразу нескольких писателей в «Книжном обозрении» (20 июля 1990) об Анчарове скажут так: «…к стыду своему и издателей, почитали, но не издавали».
Еще на рубеже восьмидесятых у Анчарова начало резко ухудшаться зрение. Можно себе представить, как он, живописец и писатель, переживал это состояние. Между прочим, мало кто осознал и оценил его подвиг: в состоянии прогрессирующей слепоты он умудрился написать еще несколько повестей и романов и до самой смерти не оставлял работы — не погрузился в депрессию, не отчаивался, когда его отказывались печатать, а боролся и с недоброжелательством, и с обстоятельствами. Конечно, следует отдать должное и Ирине, у которой на руках оказался и больной Анчаров, и малолетний сын — оба требующие безраздельного внимания. Поскольку плохо видевший, практически полуслепой Михаил Леонидович продолжал сочинять, но печатать придуманное, естественно, не мог, последние свои прозаические произведения он либо диктовал вслух Ирине, которая страницу за страницей печатала на машинке, либо наговаривал в микрофон домашнего магнитофона, а Ирина затем перепечатывала его слова на бумагу. Так они работали, по словам их сына Артема Михайловича, которому тогда было шесть-семь лет, с утра до вечера. В первом посвящении романа «Сотворение мира» об этом написано так: «Милому моему соавтору Анчаровой И. Н., без которой этот роман ни в коем случае не был бы написан».
В конце 1980-х Анчаров много времени летом проводит в поселке Валентиновка[299], на даче, находившейся там на улице Спортивной в доме 25а. Ныне поселок входит в территорию города Королева. С пребыванием на даче, очевидно, связаны слова в письме из редакции журнала «Знамя» от 17 июня 1986 года: «Никак не могли до Вас дозвониться». Телефона на даче не было, вернее, был, но общий — в конторе дачного поселка.
Как и первое появление, возвращение в литературу у Анчарова было стремительным: в феврале и марте 1979 года на телевидении еще показывают не слишком удачные «Чистые пруды», в то время как уже в апреле и мае в журнале «Студенческий меридиан» (№ 4 и 5 за 1979 год) печатается роман «Дорога через хаос», в сентябре и октябре в «Новом мире» (№ 9 и 10 за 1979 год) — «Самшитовый лес», а ровно через год, в сентябре 1980 года, в том же «Студенческом меридиане» (№ 9, 1980) — повесть «Прыгай, старик, прыгай!».
Как и полтора десятилетия назад, непонятно, когда он все это успел. В интервью «Вдохновение — это ощущение жизни» газете «Московский комсомолец» (июнь 1980 года) Анчаров скажет: «Что касается “Самшитового леса” — писал 15 лет». В то, что замысел основательно проработанного «Самшитового леса» (частично восходящий к так нигде и не поставленной пьесе «Список приглашенных»), появился в середине 1960-х и разрабатывался все это время, можно поверить. Но одновременно — еще две повести[300], притом на разные темы, с оригинальными героями!
Роман «Дорога через хаос» повествует о том эпизоде в жизни Анчарова, когда была написана стихотворная трагедия «Леонардо», и полностью включает ее текст. В романе автор, который, как мы знаем, в то время учился в Суриковском художественном институте, заменен на молодого парня из рабочих, самодеятельного художника, который захотел понять, в чем заключается секрет «гениальности» в искусстве. В интервью «Резонанс слова» журналу «Студенческий меридиан», которое мы уже неоднократно цитировали, Анчаров рассказал не только о том, как писалась стихотворная драма «Леонардо» (см. главу 4), но и о самом романе:
«Собственно, роман писался как бы в два приема, если можно считать приемом двадцатилетнюю работу над пьесой в стихах о Леонардо да Винчи, которая вошла в этот роман. Она писалась очень долго. Материал сверхобильный, сами понимаете — эпоха Возрождения и, конечно, Леонардо… А потом отбор материала, вначале такой отсев как бы по разуму, потом постепенный поэтический отбор, писание стиха, очень затянувшееся, все самому не нравилось, пока не показалось более-менее пристойным. А потом все думалось, что мы очень уж отдалены от той эпохи. И Леонардо не только временем, но и гением своим настолько выпадает из всего, что мы даже как-то внутренне боимся приблизиться к нему. Настолько кажутся несравнимыми эти величины — Леонардо и современный человек, тем более молодой человек. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что если ввести каким-то образом предысторию написания пьесы о Леонардо, то, может быть, он станет понятнее, чем я просто изображу самого Леонардо, и он от нас будет отдален и закрыт всей своей гигантской величиной. (Не в том смысле, что пишущий о Леонардо с ним сравнивается, нет, конечно.) В данном случае меня интересовал не столько сам Леонардо, сколько читатель, который будет это читать. Чтобы он не почувствовал очень уж недосягаемой такую вершину. Хотелось, чтоб была хоть ниточка, хоть волосочек, протягивающийся от читателя до такого, понимаете, Эвереста. <…>
По сравнению с реальной жизнью я сделал парня моложе. Ведь пришлось бы писать и о юности другой, и о войне, и о художественном институте, а для молодых это еще одна ретроспекция, еще одна отдаленность. И я верю, что где-то сейчас ходит такой же парень, и ему вот как нужна поддержка. Если он не испугается подходить к Леонардо не на четвереньках, по-рабски, а, конечно, снизу вверх, с глубоким уважением, как к огромной вершине, но к которой все-таки можно подойти, в нем растормозятся его собственные силы. Дело не в том, чтобы быть с гениями запанибрата, это бессмысленно, но в том, что в каждом человеке спят нераскрытые резервы и их надо раскрыть».
Одна из самых интересных сцен романа — совместный поход главного героя Николая с женой в Третьяковскую галерею. Жена Николая по прозвищу Княгиня представлена мелкой мещанкой, во всем подчиняющейся матери, но покровительствующий Николаю художник Костя Якушев советует взять в зал Сурикова именно ее. А дальше происходит следующее:
«…И в зал Сурикова. Картины тоже огромные — “Боярыня Морозова” как раз напротив двери.
Страшная какая-то. Нищий на снегу сидит. Ноги грубые. Поп хохочет. Черная женщина руку подняла, а на руке кандалы. Лицо красивое, только голодное.
На репродукциях все понятно было. Раскол, старая вера, новая вера. Слева противники, справа — союзники. Это я уже знал. Экскурсовод рассказывал еще до армии. А на картине все стало по-другому. Краски, краски. И страшная какая-то. В общем, понимаю — большая вещь. Но, в общем, не понравилось. Так Якушеву и доложу. Ничего не поделаешь. Каждому свое. О вкусах не спорят. В следующем зале “Иван Грозный”. Это я уже видел. А дальше вниз по лестнице еще тыща залов.
— Пойдем, — говорю, — обратно. А вперед идти — запутаемся.
Пошли обратно через верещагинский. Смотрю, а его картины какие-то рыжие стали. Как будто через желтый светофильтр. Смотрю — Княгиня моя отстала и назад глядит.
— Идем…
— Подожди… — говорит.
Оглянулся и я — куда это она смотрит? И вдруг сквозь просвет двери опять Морозову увидел. Не всю. Дверь мешала. И вдруг вижу — серебро.
На картине — зима, но серебряная и что-то напоминает. А что? Не могу вспомнить. И вдруг вспомнил — погоду напоминает, которая была, когда я от “Девушки с горностаем” уходил[301].
— Коля, я еще хочу посмотреть… Я так удивился, что говорю:
— Ну давай. Двинулись обратно.
— Коля, помедленней…
Пошли помедленней, а навстречу нам надвигалась великая картина. Чем ближе, тем более великая. Фигуры те же, а картина все лучше, все больше. Великая. Пока я не понял — цветом захлебываюсь. Как это можно — не знаю, только чувствую — печаль и стойкость, и как будто я мимо картины смотрю, а как-то все печаль и стойкость.
Подошли. Смотрели. То проходило, то снова подхватывало. Другие картины Сурикова смотрели, “Меншикова”, “Стрельцов”, портреты, и снова — на нее.
<…>
— Поехали к Якушеву… Я ему спасибо скажу.
— А я тебе.
— За что?
— За Сурикова.
— А я при чем?
— Если бы ты не оглянулась, я бы ушел.
— Посмотри… У девушки руки замерзли… красиво как. Нет, не то… Коля, ты меня любишь?
— Похоже, что так.
— Коля, мне кажется, что я летаю. Дай руку, прислони. Слышишь? Как сердце стучит?
— Не надо. Смотрят.
— Коля, наплевать.
— Наплевать.
Сидели, пока не стемнело. Нас никто не гнал. А когда стемнело — картина даже вблизи стала серебряная. Потом свет зажгли, и мы ушли.
— Дядя Костя, откуда вы узнали, что она цвет лучше меня видит?
— Не цвет. Колорит. Цвет в жизни, колорит в картине. Колорит — это музыка цвета. Ее сочинять надо. До женщины музыка быстрей доходит. Зато мы крепче усваиваем.
Это он как в воду смотрел».
Елена Стафёрова обратила внимание на сходство этого эпизода и рассказа Грина «Акварель» (из выступления на «Анчаровских чтениях — 2018»):
«…в рассказе “Акварель” сила искусства столь велика, что действует и на простые, неразвитые души. Рассказ начинается вполне обыденно и даже фарсово: муж украл у жены деньги себе на выпивку, жена обнаружила пропажу и кинулась его преследовать. Но вот от преследования он прячется в картинной галерее, и здесь происходит чудо: Клиссон и Бетси вдруг встречаются с картиной, “уничтожившей их враждебное настроение”. На одной из акварелей герои видят свой собственный дом, вполне узнаваемый, но в то же время неуловимо преображенный фантазией художника. Слыша похвалы картине, которые расточают ценители, увидев, как прекрасен, оказывается, их скромный дом, супруги задумываются о самих себе: “Их терзало опасение, что зрители увидят пустые бутылки и узлы с грязным бельем. Между тем картина начала действовать, они проникались прелестью запущенной зелени, обвивавшей кирпичный дом в то утро, когда по пересеченной светом тропе прошел человек со складным стулом”. Автор дает понять, что в жизни Клиссона и Бетси вряд ли что-то принципиально изменится, никакого перерождения не произойдет, но именно в этот момент они по-иному увидели мир вокруг и друг друга, и этот момент навсегда останется с ними. Что-то подобное происходит и с героями анчаровской “Дороги через хаос”, когда Николай и Княгиня долго сидят в Третьяковке перед картиной “Боярыня Морозова” и наконец Княгиня потерянно произносит: “Коля… что же это мы со своей любовью сделали?” Здесь тоже перерождения не произошло, в итоге героям не удалось ни сохранить семью, ни достичь полного взаимопонимания: “Полет, видно, тоже разный бывает. Душа у нее от той музыки цвета раскрылась, но душа неумелая, чем занять себя, не знала…”»
Не следует, наверное, гадать, кого именно из персонажей своей биографии изобразил Анчаров в этом романе: слишком все-таки далек в данном случае главный герой от самого автора. И хотя параллели напрашиваются, это будет неверным сопоставлением и может создать ложное представление о реально живших людях. Заметим однако, что здесь чуть ли не впервые (если не считать рассказов семидесятых) у Анчарова в прозе полноценно получаются не зарисовки с натуры, а обобщенные персонажи, рожденные воображением автора. Дальше таких персонажей будет больше: Сапожников в «Самшитовом лесе» уже не полное альтер эго автора, вплоть до совпадения деталей биографии, как главные герои ранних произведений, а вполне самостоятельный персонаж, даже родившийся в ушедшем под воду старом Калязине, а не на привычной московской Благуше.
«Самшитовый лес», который появился в «Новом мире» почти одновременно с «Дорогой через хаос» — с разницей меньше чем в полгода, многие обоснованно считают вершиной в творческой биографии Анчарова. В этом романе снова чувствуется строгая рука Дианы Тевекелян, заставлявшей Михаила Леонидовича выглаживать и переписывать текст. О романе можно написать очень много: в нем Анчаров свел воедино большую часть своих представлений о творчестве, изобретательстве, о роли и месте науки и искусства в реальной жизни. Роман включает любимые Анчаровым исторические отступления, содержит множество отсылок к биографии автора, к образам из его ранней прозы (в частности, к троице Аносов-Памфилий-Якушев), имеет отдельную и довольно детально разработанную любовную линию (журналистка Вика и Сапожников) и в то же время почти лишен характерной для ранней анчаровской прозы импрессионистической «небрежности» в проработке деталей и связях эпизодов.
В общем, перед нами добротно и основательно сделанная вещь, следующая лучшим традициям русской литературы и в то же время не лишенная элементов чисто анчаровского «литературного хулиганства», на которые мы натыкаемся с первых строк «от автора»: «Автор предупреждает, что все научные положения в романе не доказаны, в отличие от житейских фактов, которые все выдуманы». И тут же вместо эпиграфа:
«Сплетня
— Говорят, Сапожников петуха купил?
— Этого ему еще недоставало».
Можно написать не меньше пары страниц рассуждений о том, какое отношение петух в эпиграфе имеет к содержанию и смыслу романа: и ведь на самом деле имеет, и притом самое прямое, но спрятанное куда глубже, чем это подумалось правдинскому рецензенту А. Яхонтову, выцарапавшему из романа цитату: «Будит он нас, будит тысячи лет… А мы все не просыпаемся» (о рецензии Яхонтова см. далее). Но такой разбор одного только мотива из всего романа был бы несправедливым по отношению к другим подобным намекам и реминисценциям, встречающимся чуть ли не в каждом абзаце книги. В результате мы бы получили скучный текст, по объему превышающий сам роман, и читать его никто бы не стал, — сошлемся на высказывание самого Анчарова по другому поводу, которое мы уже цитировали: «…если бы живопись можно было описать словами — она была бы не нужна».
Поэтому лучше обратимся к критике, которая для «Самшитового леса» оказалась на удивление содержательной и обильной (возможно, повлиял сам факт публикации в «главном» литературном журнале). Лучшая, на наш взгляд, рецензия, появившаяся в журнале «Знамя» уже в феврале 1980 года, принадлежит известному литератору Александру Евсеевичу Рекемчуку[302]. Лучше всего привести рецензию почти целиком, с некоторыми купюрами во фрагментах, не касающихся Анчарова напрямую[303]:
«Глубиной мысли, неординарностью образного строя, свежестью языка дохнули страницы романа Михаила Анчарова “Самшитовый лес”.
Было бы весьма трудно пересказать сюжет и фабулу этой книги (если вообще подобный пересказ способен выполнить роль рецензии, а ведь случается…), извлечь из нее проблематику в чистом виде, обозначить конфликтную расстановку главных персонажей. “Самшитовому лесу” в большой мере присущ тот романический строй, который охарактеризован пушкинской строкой: “…даль свободного романа…” Здесь сплавляются в естественном художественном единстве время и пространство, безбрежность и, увы, краткость неповторимой человеческой судьбы, исторические кульминации и радость повседневного бытия, пронзительный миг воспоминания и столь же пронзительный миг прозрения, строгая мудрость и бесшабашное озорство шутки.
Роман М. Анчарова является одним из реализованных выходов нашей современной прозы на некое новое литературно-философское качество. Это “книга жизни» и ее главного героя Сапожникова, наладчика автоматических устройств, и в значительной мере самого автора, который это подтверждает вполне открытыми и прямыми обращениями к читателю: “…Я очень хотел написать эту книгу, и я написал ее. Я написал ее для тех, кто любит сложные проблемы. Я написал ее для тех, кто любит”.
Оба — Анчаров и Сапожников, при всем их нетождестве — люди, биография которых почти полностью совпадает с биографией страны, вмещается — притом через войну — в этот исторический срок. Практически жизнь каждого такого человека захватывающе интересна, а тем более жизнь интересного человека.
Сказав о войне, я должен договорить о ней. Военная тема занимает немного страниц в “Самшитовом лесу”, но они принадлежат к числу наиболее проникновенных и ярких. Неожиданно, в легендарной дымке, входят в повествование эпизоды и образы войны. Сапожников, Бобров, Цыган и Галка по прозвищу Рамона — чудесный девичий образ, один из двух женских образов романа, удавшихся настолько, что это заслуживает поздравлений. Они верхом. Они в тылу врага. Они обречены и бесстрашны… Пусть эти эпизоды написаны в угадываемой невооруженным глазом хемингуэевской манере, от этого не убудет достоинств героев и письма. И о них же будет сказано в авторской ремарке, откровенной и точной: “…Это растерявшиеся дети. Каждый думал, что после войны вернется на старое место. Но старое место было занято новыми детьми, которые требовали от вернувшихся быть живым идеалом и размахивать саблей. Вычеркнули из детства. И не дали доиграть в игрушки. И все усугублялось самолюбием, с которым младшие вымещали на них свои несостоявшиеся доблести. А те, кто вернулся, не решались сказать — пустите в детство хотя бы на годок”.
Но жизнь идет и длится, и при всем том, что унаследовано героями и обретено личным опытом, она, эта жизнь, в которой не соскучишься, подводит наших героев к современным феноменам, а один из них, главный на сегодняшний день и главный вчера и наверняка главный завтра, — научно-техническая революция. <…>
В век НТР наука стала непосредственной производительной силой, и, таким образом, работник науки стал непосредственным производителем во все более сужающейся сфере его специализации. Значит, именно вне пределов этой узкой специализации он должен мыслить, если приспособлен к этому нелегкому занятию, — мыслить широко, дерзко, смело.
Вот неполный круг научных и еще, если можно так выразиться, донаучных проблем, которыми одержим Сапожников, рядовой инженер, наладчик автоматических устройств: математика, древняя история, термодинамика, сравнительная мифология, генетика, эвристика, космогония, археология, кибернетика, атлантология… “Я не электроник. Я наладчик, — говорит о себе Сапожников. — Я обслуживаю весь белый свет”.
На этом, собственно, я мог бы и закончить рецензию, ибо все, о чем сказано выше, есть в романе Михаила Анчарова, оно и составляет идейное и художественное наполнение “Самшитового леса”.
Но есть еще один аспект, о котором умолчать нельзя, — нравственный. Устами одного из героев, “тайного атлантолога” Аркадия Максимовича Фетисова, автор сам обозначает ее классический литературный генезис: “Российская привычка пытаться дойти до сути, решать нерешенные вопросы… Великий обломовский диван… А потом к нам с тобой приходит Штольц, и уводит нашу Ольгу, и заводит торговую фирму. И счастлив, и им есть что вспомнить в конце жизни”.
Так вот, нынешние штольцы от НТР в повседневности, оторванной от их конкретных служебных обязанностей, не только диктуют свои условия комфорта — оклад такой-то, квартира такая-то, — и не только уводят чью-то Ольгу, бросив свою, и не только коротают досуг за какимнибудь изящным хобби, нет: они жуть до чего охочи порассуждать с общественных амвонов, печатно и устно, о нравственности и духовности, хотя бы обозначив это как “вопросы теории”. Именно понятия духовности и нравственности они считают лучшим прикрытием для своего цинизма и беззастенчивой житейской хватки. И, увы, из них не убегают, как из анчаровского “выжженного человека” Глеба “все микробы, полезные для организма” — все нужные микробы при них, и пищеварение у них отличное.
Им-то и противостоит Сапожников во всей своей силе и беззащитности — еще один блистательный “чудак” в нашей прозе, не скупящийся характеризовать сам себя: “Я не романтик… Я социалистический сентименталист. Карамзинист. Ибо пейзанки тоже чувствовать умеют. Я бедная Лиза…” Но также: “Увы… я материалист. Мистикам куда легче…” И еще, от автора: “Он теперь уже был немножко умный. И ему от этого было скучно. Потому что ему много раз объясняли, что умный — это тот, кто неоткрытый, а открытые только простофили. Что-то тут не совпадало с правдой, но что именно, Сапожникову понять было еще не дано”.
К счастью, образом Сапожникова не исчерпывается в романе круг хороших, совестливых и просто порядочных людей — их много. <…>
Принципиальной удачей в ряду персонажей “Самшитового леса” является образ Нюры, очерченный в романе на особый житийный лад. Ее поступки неожиданны так же, как и ее безыскусные афоризмы и пророчества, но они полны внутренней логики и жизненной правды. Каждое новое появление Нюры на страницах этой книги встречается читателем с радостью ожидания, в итоге всегда оправданной. Это и есть “второй из двух» женских образов романа, который заслуживает поздравлений. Есть еще и третий, достаточно протяженный и весьма значительный по отведенной роли, — Вики, возлюбленной, невесты и к финалу жены Сапожникова, но мне кажется, что он лишь контрастирует своей усредненностью и тривиальностью в соседстве с самим Сапожниковым, в соседстве с Нюрой и Галкой Рамоной.
В целом же все линии и перипетии этого “свободного романа” туго и прочно переплетены, давая совокупный образ заглавного “Самшитового леса”, в котором все деревья во глубине соединены корнями, а это, в свою очередь, образ народа. И с учетом исторического оптимизма, которым наполнен роман, образ всего человечества: “…весь кислород жизни — только от нас, и будущее небо стоит на наших плечах”. Это не только хорошо и красиво сказано, но и верно, ибо современная наука утверждает, что атмосфера нашей Земли вся “надышана” живым, живыми, жизнью».
Второй рецензией «Самшитовый лес» удостоила аж самая центральная из всех центральных газет — «Правда» в июне 1980 года[304]. Молодой литератор Андрей Яхонтов рассмотрел роман не столь глубоко, как его маститый коллега, но все-таки отметил важное: «Главная… идея романа состоит в утверждении прямой зависимости итогов творчества любого ученого от его нравственной позиции». Прокомментировать это можно так: да, и эта идея тоже главная. Наряду, наверное, с еще парой десятков таких идей, потому что у Анчарова «неглавных», второстепенных идей вообще не встречается: любая из них, даже сформулированная в нескольких фразах, все равно главная, например:
«Сапожников любил грубую пищу без упаковки, пищу, которую едят, только когда есть хочется, и ему не нужно было, чтоб его завлекали на кормежку лаковыми этикетками. Красочными могут быть платья на женщинах и парфюмерия. Пласты мяса и мешки с солью красочны сами по себе для того, кто проголодался, натрудившись. Потому что после труда у человека душа светлая. А у объевшегося душа тусклая, как раздевалка в поликлинике».
И так далее. А еще Яхонтов зачем-то стал выискивать недостатки. Нет, понятно зачем — так положено в рецензиях, только вот куда более опытный Рекемчук это делать не стал и был прав: потому что в «Самшитовом лесе» в недостатках так же легко заблудиться, как и в достоинствах. Яхонтов пишет:
«При “укрупненном” несфокусированном взгляде теряются и существенные подробности биографии героя. “Белым пятном” остается для читателя его первая женитьба. История Приска и Кайи никак не “проецируется” и на любовь Сапожникова и Вики. Объяснение, которое дает их женитьбе Нюра Дунаева: “Сроки исполнились…” — возможно, и удовлетворит фатально верящего в судьбу изобретателя, но, думается, читатель захочет большей психологической мотивированности столь серьезного решения. Воображением подобных авторских недомолвок не восполнить. Без четкой прописанности ключевых моментов провисают и другие сюжетные линии, теряется связь между ними».
Вот в этом Яхонтов решительно ошибся, он просто не заметил все объясняющего пассажа автора:
«Сапожников замечал: читаешь какую-нибудь книжку, будто интересно читаешь, увлечешься, про войну или про любовь, а потом вдруг дойдешь до одного места, где про это и уже только про это, и думаешь, а про все остальное думать неинтересно. А писатель дразнит, заманивает, — дескать, один раз про это рассказал, значит, жди другого раза. И каждый раз просчет у писателя, потому что сразу бежит глаз по строке, как обруч под горку, только слова камешками тарахтят да кустарник страницами перехлестывает, и уже нет ни смысла, ни толку. Значит, самого писателя в этом месте понесла вода, и, наверное, думал Сапожников, бросил писатель в этом месте рукопись и побежал к любовнице или схватил за рукав проходящую мимо жену, потому что зачем писать про то, без чего сию секунду не можешь? Секунда прошла — и нет ее, а в книжке надо только про то, что важно».
Анчаров сознательно предпочитал лучше оставить не до конца понятными связки и недомолвки, апеллируя к читательскому воображению (в наличии которого сомневается Яхонтов), чем, пользуясь расхожим выражением, «налить воды», которая вызовет скуку у читателя.
Но сам факт, что «Правда» отметила роман и при этом не обрушилась на него со всей мощью «партийной критики», а наоборот, отнеслась довольно доброжелательно, знаменателен. Анчаров еще не успел надоесть властям, в то время не потерявшим окончательно надежду возглавить и поощрить самые безобидные для нее тенденции, возникшие в потоке шестидесятнической культуры. Уже через пару лет, во время короткого правления Андропова, власть оторвется от народа совершенно, и эта тенденция закончится.
Нам известно, что молодой критик А. Яхонтов в момент написания рецензии с автором лично знаком не был. После публикации этой, в целом все-таки доброжелательной, рецензии в «Правде» Михаил Леонидович разыскал телефон Андрея Николаевича и сердечно поблагодарил за оценку, данную роману. Возможно, именно благодаря этой рецензии в 1981 году «Самшитовый лес» был издан отдельной книгой, да еще и массовым тиражом в 100 тысяч экземпляров.
Вполне возможно также, что заметка в «Правде» появилась специально для того, чтобы показать, что «наверху» не поддерживают точку зрения рецензента из «Литературной газеты» Леонида Коробкова[305], представлявшего консервативную группу писателей. Его рецензия пришла к читателю хронологически, вероятно, самой первой, так как была опубликована 6 февраля 1980 года[306]. Спорить с Коробковым куда сложнее, чем спорить с другими рецензентами: он попросту отказался считать «Самшитовый лес» художественным произведением, сведя все к голым схемам: «Быть лишь поводом для очередного авторского афоризма — такова функция Сапожникова и “на всю оставшуюся жизнь”», «Сапожников суть чисто техническое средство для того, чтобы прозаик мог высказать свои взгляды на…» и далее перечисление научных и технических проблем, затронутых в книге. Иными словами, Леонид Дмитриевич в романе ничего не понял, точнее, почти ничего — в начале он все-таки приносит автору благодарность за ряд «своих» страниц: «Я благодарен прозаику за свои страницы в его книге. Вряд ли важно, какие именно, тут, как говорится, “очень личное”. Важно умение нечто в обыкновенном человеке понять, то есть создать за него и для него». А дальше — сплошная, как сейчас говорят, «отрицаловка». Автору рецензии почему-то не приходит в голову, что таких «своих» страниц может быть много у каждого читателя и для многих «своими» покажутся как раз скучные для Коробкова описания и решения технических проблем…
Но в таких случаях никто никого и не приглашает к спору. Как, например, не приглашал к нему Виктор Сажин, автор статьи в «Комсомольской правде» от 6 июля 1948 года под названием «Против натурализма в живописи» (подробнее см. главу 3). Это только юный Анчаров, который через тридцать с лишним лет беспощадно констатирует, что с войны пришли «растерявшиеся дети», тогда с ходу полез в дискуссию, не разобравшись, как мы сейчас бы сказали, «в политической обстановке». Статья Коробкова — это тот же Сажин, и даже употребляемые ярлыки до боли похожи: «Живой “лес” искусства тронут здесь болезнью, имя которой — формализм», пишет Коробков в конце статьи. Хотя написана она побледнее — куда там этим идейным наследникам Жданова до, мягко выражаясь, полемической заостренности постановления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”».
Попутно отметим — и это нам доподлинно известно, — что, прочтя в профессиональной газете рецензию Коробкова, Михаил Леонидович решил, что после нее издание романа отдельной книгой, видимо, не состоится. Л. Коробков, прежде чем иронически сравнить «Самшитовый лес» с «Клумбой на опушке», побывал в гостях у автора романа и немного с ним пообщался. Вот как описал Анчаров их встречу в романе «Записки странствующего энтузиаста»:
«…Надысь, а может, даже лучше сказать, давеча, пришел ко мне незначительный эксперт из Воронежа. Он держался решительно и потребовал от меня четкого определения таких категорий, как трагедия, комедия и драма.
— А ортопедия? — спрашиваю.
— Такого понятия нет.
Он сразу стал называть меня на “ты” и, войдя, хотел снять ботинки. Но я не дался. Я не люблю амикошонства. Мне еще Прохоров Николай Васильевич, мой главный учитель живописи, в давние времена объяснил:
“Душечка, амикошонство — это такая дружба, когда тебя обнимают голой ногой за шею и шевелят у носа пальцами”.
— Я жду, — сказал он.
— Трагедия, — говорю, — это показ того, как человека затянуло и зачавкало в машину… Комедия — как человек из нее вывернулся… Драма — о том, как человек выворачивался, но и его затянуло более или менее… А, так сказать, ортопедия — о том, как человек над машиной смеется.
Он осознавал.
— Ну и что же, по-твоему, есть искусство? — неожиданно игриво спросил он. — Я требую формулировки.
— Пожалуйста, говорю. Искусство — это то, чего не могло быть, но было и что могло быть, но не было.
— Вот как… — задумчиво сказал он.
— А все эксперты приветствуют противоположные воззрения, — говорю. — Но теоретически приветствуют, не любя, зевая от скуки на самых высоких нотах, ибо самим читать неинтересно. Однако не сдаются и ждут, когда придет окончательный реалист и все уладит без вышеуказанных формул.
— От формалиста слышу, — сказал он.
— Формалист — это пустомеля, компьютерщик, — говорю. — А в вышеуказанных формулах бездна содержания. Если не понимаешь этого — не липни… Толстой и Шолохов реалисты?
— Могучие, — быстро ответил он.
— А почему?
— Да, почему?!
— Потому что ни Анны Карениной, ни Аксиньи не было.
— Как это не было? — ошеломленно спросил он. — А, впрочем, никто и не утверждает, что они были. Но были их прототипы.
— Вначале и прототипов не было, — говорю. — Они образовались позднее. Во время работы.
— А что же было?
— Видения, — говорю. — Видения… Сохранились признания Толстого и Шолохова — по телевизору мелькнуло в разное время. Однажды Толстой, лежа на кушетке после обеда, вдруг увидел локоток, туго обтянутый шелком, а потом и все остальное. А Аксинью до сих пор разыскивают по окрестным хуторам, хотя Шолохов прямо сказал, что Аксинью он выдумал. Но если ни Анны Карениной, ни Аксиньи не было, то над этим фактом стоит хотя бы задуматься.
Он задумался.
Потом он разнес меня в статье под названием “Клумба на опушке”. Название мне понравилось. Это будет название для одного из следующих романов».
И еще раз попадет «Самшитовый лес» в серьезные обзоры в 1982 году. В журнале «Подъем», по совпадению выходившем в Воронеже, на родине Л. Коробкова, публицист и литературный критик Павел Сергеевич Ульяшов[307] опубликует обстоятельную статью, посвященную разбору сразу нескольких произведений, в той или иной форме связанных с научно-технической революцией (Владимира Маканина, Владимира Жукова, Александра Проханова, Михаила Анчарова)[308]. Ульяшов, судя по его дальнейшей карьере, тоже не принадлежал к либералам-западникам, но, в отличие от поверхностного Коробкова, к роману отнесся серьезно и в целом доброжелательно. Из статьи стоит привести большую цитату, которая, на наш взгляд, довольно точно отражает сущность романа, при этом не замалчивая его отдельные недостатки:
«В этих парадоксах — характер героя, человека, “который изобрел, как надо изобретать, и считает, что это может делать каждый”. В этом — новизна образа Сапожникова как ученого-изобретателя и своеобразие художественного конфликта романа. Беда романа в том, что характер Сапожникова с трудом уловим в романе, он весь растекается, дробится в научных спорах, диалогах. Живой образ героя нам так и не удается вообразить. Может быть, автор не владеет даром живописания характеров? Возможно, но его, кажется, и не интересует эта задача. Автор увлечен изображением не характера, а идеи в контурах характера. Упорно заставляет он нас думать над вопросом: возможен ли в эпоху научно-технической революции такой тип ученого, как Сапожников? Возможны ли сегодня и в будущем индивидуальные гениальные открытия? Возможны ли во время узкой специализации Коперники и Пастеры? Автор утверждает: возможны! Но для этого надо раскрепостить научное мышление. Наука не должна быть элитарной. Стать великим ученым или изобретателем может тот, кто избежит тривиальных решений, откажется от магии узкого профессионализма, отбросит догмы. Роман М. Анчарова — развернутый трактат о вреде научного стереотипного мышления. Но только ли научного?!. Привычка к устоявшимся формулам мешает человеку во всех областях деятельности: в науке, на производстве, в культуре, в литературе и искусстве. Поэтому автора и его героя, считающего поклонение авторитетам в науке тормозом прогресса, нельзя не приветствовать (здесь и далее выделено автором статьи — авт.)!
Однако идея романа обрела бы эмоциональную силу, если бы она не только высказывалась теоретически (как то нередко происходит в романе), а слилась бы со страстями героев. Художественным изображением этих страстей автор пренебрег, о чем он прямо говорит в лирическом отступлении, предваряющем третью часть романа: “…Зачем мы так подробно излагаем все эти его (Сапожникова. — П. У.) соображения? Ведь нормально для художества рассказывать о страстях и вытекающем из них нравственном пути персонажа, полезном для читателя, — не так ли? Но дело в том, что Сапожников родился в XX веке, а не в каком-нибудь другом, а именно в этом веке было постановлено, что наука должна разобраться, почему человек никак не поумнеет и по-прежнему воюет с собой, с другими такими же образованными, как он, и со средой, в которой он живет и которую частично создал сам”.
Сапожников осложняет научные проблемы историческими и философскими изысканиями. Историческая ретроспектива, воссозданная в третьей части романа, — предание о Приске, Кайе, Савмаке, Спартаке, Митридате; поэтическое описание расцвета цивилизации и гибели ее вместе с Атлантидой — вся эта фантастическая мифология иллюстрирует мысль: человечество едино в своем развитии. Человек един и вечен, как самшитовый лес. Нет пропасти между древним греком, диким скифом или сарматом, и даже кроманьонцем и неандертальцем, — и сегодняшним цивилизованным человеком. Каждый из них — это ступень в развитии человечества».
В рецензии Ульяшова есть еще довольно много интересных моментов: в частности, он касается еще вопроса о соотношении понятий «дилетант» и «специалист» в «Самшитовом лесе». Поскольку мы уже говорили об этом в главе 4 в связи с научно-техническими идеями Анчарова, здесь на этом останавливаться уже не будем.
Но несколько слов к цитированным откликам придется все-таки добавить, потому что их авторы упустили, как нам кажется, одну ключевую линию в романе «Самшитовый лес», о которой нельзя не упомянуть. Речь идет об образе Нюры, которой в романе приданы какие-то, на первый взгляд, сомнительные черты:
«— А Нюру опять у Дунаева увели, — сказал Сапожников. — По-моему, она обыкновенная…
— Замолчи! — прервала его мама, не дав сказать последнее непоправимое слово. — Молчи. Ты ничего в жизни еще не понимаешь…».
При этом сам Дунаев в романе как-то подозрительно легко переносит измены жены. Нет, почему целомудренные советские критики обходили этот не самый важный момент в романе, понятно, но чего же мы вместе с юным Сапожниковым здесь не понимаем? Не случайно же Анчаров, рискуя конфликтом с цензурой, один из центральных женских образов романа, притом образ сугубо положительный, вдруг представляет в виде гулящей женщины?
Все разъясняется без дополнительных домыслов, если заглянуть в роман современной писательницы Оксаны Панкеевой «Пересекая границы»[309]. У нее в романе действует совершенно аналогичная пара из принца-бастарда Элмара и танцовщицы Азиль: он ее любит, и живет она у него в доме, но каждый вечер встречается с новым мужчиной, который ей в данный момент понравится. Но, в отличие от Анчарова, Панкеева сразу все разъясняет напрямую:
«Азиль — подкидыш, найденный у дороги кочующими хитанами, — не имела понятия, кто она такая, пока однажды один из любовников не задал вопрос, человек ли она вообще? А затем взял за руку и повел к магу, который и объяснил девушке, что она — нимфа. Правда, больше ничего вразумительного маг сказать не смог, так как люди знают о нимфах крайне мало, но Азиль и за это была благодарна. По крайней мере, она убедилась в том, что ее странности на самом деле совершенно нормальны для нимфы и что все идет как надо. <…> Впрочем, сейчас, когда Азиль прожила в столице почти три года, каждый мужчина почитал за великую честь удостоиться внимания танцовщицы и получить в придачу к незабываемой ночи еще и частичку природного волшебства нимфы, которое приносило только добро. Ну а женщины по-прежнему считали ее шлюхой, притом бесплатной и оттого особо испорченной. Что с них взять…»
Если вспомнить образ Громобоева — бога Пана, который появится у Анчарова уже в повести «Прыгай старик, прыгай!», то представление Нюры в качестве нимфы удивлять не должно. Должно удивлять лишь детальное совпадение основных черт анчаровской Нюры с танцовщицей из романа украинской писательницы: возможно, Панкеева и читала «Самшитовый лес», и даже заимствовала оттуда понравившуюся идею, но если нет, то это только говорит в пользу обоих авторов: надо же было так угадать типовые качества образа нимфы как не испорченной сладострастной шлюхи, а настоящей женщины, приносящей тепло и добро! Азиль у Панкеевой должна своевременно закончить этот свой этап жизни, после чего они с принцем спокойно поженятся («мы ждем, пока она созреет для брака», — отвечает Элмар на расспросы). С анчаровской Нюрой происходит то же самое, только более приземленно:
«Потому что все слышали, как Нюра просила у Дунаева прощения не за военные верные годы, а за довоенные беспутные.
И оказалось тогда, что никакая Нюра не глупая, а просто росла медленно, как дерево самшит, и так же медленно взрослела среди неосновательных скороспелок».
И в заключение этого обзора стоит напомнить, что анчаровский Сапожников обладает ярко выраженным эйдетическим — то есть конкретно-образным — мышлением. Описывая процесс изобретения подростком Сапожниковым компактных спасательных поясов, автор показывает это с почти документальной точностью:
«А Сапожников боялся, что учитель поймет, что он наврал, когда сказал насчет велосипедного насоса. Потому что главное было в том, что Сапожников разозлился. Насос просто подвернулся под руку в этот момент. А разозлился Сапожников потому, что ему жалко было кукольников, которые бродили по Франции со своими деревянными человечками, и всякая сволочь могла их обидеть, потому что они бедные, и за них заступиться некому и спасти, а они ведь никому ничего плохого не сделали, а только хорошее. И тут он придумал, как он их спасет, когда они все плывут на пароходе, и сволочи и кукольники, все. И вдруг капитан кричит: “Граждане! Тонем! Пароход тонет! Спасательных кругов на всех не хватит! Спасайся, кто может!”
И конечно, сволочи богатые расхватали все пробковые пояса, а кому не хватило, те начали надувать свои надувные. Дуют, дуют, а пароход тонет, а кукольники стоят кучкой и прижимают к себе деревянных человечков — и должны все погибнуть, потому что чудес не бывает. Ах, не бывает?! И тут Сапожников спокойно так открывает чемодан, и у него там весь чемодан набит плоскими широкими поясами, как у пожарников, в одном чемодане помещается целая куча этих поясов. И он говорит кукольникам: “Берите пояса”. А они говорят: “Спасибо, мальчик. Нам ничто не поможет. Чудес не бывает”. А Сапожников говорит: “Берите. Это конкретное чудо, и все рано или поздно объяснится. Это мне Аграрий сказал”.
Они берут пояса и надевают на себя, оборачивая, конечно, вокруг тела. И вдруг все видят: как только пояс обернут вокруг живота, так он уже надутый, а если обратно снять — он плоский.
Тут все кукольники с радостью надели пояса, прыгнули в воду и поплыли, а сволочи дрались из-за пробковых и надувных поясов, потому что ихний капитан приказал им: “Спасайся, кто может!” А кукольники плыли, плыли и поддерживали Сапожникова, потому что ему пояса не хватило, и они выплыли на берег к городу Калязину и обсохли на том берегу, где росло дерево самшит, только еще маленькое. Ну, тут залаяла собачонка Мушка, и миражи пропали. Сапожников закончил накачивать велосипедную шину, отвинтил насос, а на ниппель навинтил колпачок на цепочке. Вот как он изобрел спасательный пояс для того конкурса, про который им в классе объявил учитель. А остальное было просто. Надо было только сообразить, из каких материалов сделать пояс».
И как важный дополняющий эту идею фрагмент из диалога завуча с учителем физики:
«— Гений?! — вскричала завуч. — Гений? Этот недоразвитый?! На его счастье, педологию отменили! А помните, в шестом раздали таблички? И всего-то нужно было проткнуть иголкой кружочки с точками, а без точек не протыкать. Все справились, кроме него!
— Я тоже не справился, — сказал учитель».
О чем этот диалог — догадаются все, кому приходилось решать «тесты Айзенка», которые, как считается, должны показать «коэффициент интеллекта» IQ. Вот такой вопрос: «На столе лежат три яблока. Вы взяли два. Сколько у вас яблок?» Правильный ответ на этот вопрос может быть любым в диапазоне от «ни одного» (а кто сказал, что два яблока в руках — именно «у вас»? Может, вы их взяли для передачи кому-то еще?) до «трех» (потому что «у вас» — это может быть и на столе тоже). И «одно яблоко» тоже легко подогнать под правильный ответ, если допустить, что «у вас» — это только на столе (для наглядности замените стол на сумку, висящую у вас на боку). В реальности в различных вариантах теста Айзенка давно уже найдены грубейшие ошибки в «правильных» ответах (математик Виктор Васильев указал, что из 16 логических задач одного из вариантов автором теста неправильно решены 11), но даже не в этом дело — ответы несложно и откорректировать. Дело в том, что любой эрудированный человек в ответ на вопрос «укажите лишнее: Испания, Дания, Германия, Франция, Италия, Финляндия?» может дать не меньше шести правильных ответов (потому что каждое из шести названных государств чем-то отличается от других), а на самом деле их неисчислимое множество — в зависимости от того, что именно мы считаем критерием отличия. И даже ответ «здесь нет ни одного лишнего» тоже будет правильным, потому что все названные в наше время принадлежат к Европейскому Союзу. Тесты, подобные упомянутому Анчаровым «проткнуть иголкой кружочки с точками», в реальности к выдуманному плохо знающими свой предмет психологами «коэффициенту интеллектуальности» отношения никакого не имеют, а если что и измеряют, то исключительно уровень стандартности мышления.
Следует заметить, что Анчаров так увлекся идеей общности процессов творчества в любых дисциплинах, что не задумывается о существовании иных типов мышления, кроме свойственного именно художникам конкретно-образного. Если бы не наличие, например, абстрактно-логического мышления, то не существовало бы таких дисциплин, как математика, которая вообще почти не оперирует наглядными образами: она действует, манипулируя свойствами абстрактных сущностей.
Сапожников пытается свести математику к своему способу думать: «Еще по устному счету, нет чтобы сложить пять плюс семь равняется двенадцати, — он воображал столбик из пяти кубиков, надстраивал еще семь штук и, когда два вылетали поверх десяти, говорил — двенадцать». Но математики думают совсем иначе: для них важно именно то, что число — не кубики или палочки, а некая абстракция, с которой, договорившись о ее свойствах, можно выделывать всякие неочевидные штуки. При этом к подобного рода мышлению ничуть не менее приложима анчаровская теория об озарении и вдохновении, которую мы обсуждали в главе 4.
Мы уже говорили, что, судя по статистике посещений в электронных библиотеках, современному читателю больше всего нравятся «Самшитовый лес» и «Как птица Гаруда», которые тогда если и не остались совсем уж не замеченными, то произвели далеко не тот эффект, что в свое время «Теория невероятности» и «Золотой дождь». Об этом же говорят и комментарии: «Теорию невероятности» читают в основном ностальгически настроенные старые поклонники Анчарова, знающие его издавна и желающие вновь окунуться в атмосферу своей молодости. А молодые открывают для себя Анчарова, прочитав «Самшитовый лес», и приходят в неистовый восторг (отзыв из электронной библиотеки «Флибуста»): «…книга потрясающей глубины и настолько же потрясающей чистоты. Книга-крик, призыв! Люди, услышьте!!! Мы можем просто опоздать… Ее нужно включать в школьные и вузовские программы, дарить сильным мира сего, друзьям и врагам… Как стыдно становится после прочтения за то, как живем, что читаем, что смотрим, о чем мечтаем, куда идем…» В результате в рейтинге Библиотеки Мошкова один «Самшитовый лес» набрал столько же любопытствующих, сколько «Теория невероятности» и «Синий апрель» вместе взятые.
Осенью 1980 года в том же журнале «Студенческий меридиан» выходит повесть Анчарова «Прыгай, старик, прыгай!». В 1983 году автор включит эту повесть в сборник «Дорога через хаос», а в 1986 году она будет еще раз опубликована в сборнике «Приглашение на праздник», откуда ее выловит Николай Лукьянов, «светло и хронически» заболевший идеей перенести ее на экран. Но обстановка к тому времени изменится настолько, что экранизировать повесть, в которой нет ни громких разоблачений, ни даже внятной оппозиции зашедшей в тупик власти, уже никто не захочет. И совершенно зря — потому что, как и все идеи Анчарова, идея повести куда выше и шире, чем голое отрицание социализма казарменного типа, модное в конце восьмидесятых.
В повести «Прыгай, старик, прыгай!» появляется инспектор Громобоев — лицо, хорошо знакомое тому, кто через несколько лет прочтет роман «Как птица Гаруда». Идея повести на этот раз не так многозначна, как у романа «Самшитовый лес», и легко сводится к утверждению, что построить что-то новое, не обращая внимания на старое, не удается. Утверждение это в те годы звучало совсем не так банально, как в наши дни: вспомним, что в самой основе большевистской идеологии лежал тезис «до основанья, а затем». И им руководствовались несколько поколений их наследников — тех, кто осуществлял коллективизацию, взрывал монастыри и храмы, запрещал крестьянские подворья, навешивал ярлык «буржуазный» на достижения философии, науки, искусства, имевшие «дооктябрьские» корни.
Против «забвения прошлого» одинаково выступали писатели-«деревенщики» и многие представители либеральной интеллигенции. И довыступались, к сожалению, до того, что молодые реформаторы из команды Е. Гайдара сделали ровно ту же ошибку, что и ниспровергатели «буржуазных устоев» за семьдесят лет до них: увлекшись борьбой с административной системой, они забыли просчитать, что же именно надо уничтожать, а на что все-таки опираться. Нет, что бы там ни говорили, результат даже отдаленно не напоминает катастрофу 1917 года, но и очевидная всем пробуксовка реформ, и столь яростное сопротивление им, и та не очень добрая память, которую реформаторы оставили о себе в народе, — все связано именно с этим промахом. А ведь случилось это в том числе и потому, что Николаю Лукьянову не дали экранизировать «Прыгай, старик, прыгай!» — то есть хотя бы попробовать ввести в общественное сознание не только очевидную уже к тому времени необходимость реформирования общества, но и идею того, что любые реформы должны опираться на традицию.
Анчаров раскрывает эту тему в своей манере: он наглядно, с юмором показывает, как сложившаяся система отношений сопротивляется попытке вместе со строительством нового завода перестроить быт патриархального провинциального городка. Центральная фигура всей повести — упомянутый инспектор Громобоев. Он понимает, что результат будет куда лучше, если ничего не ломать, а аккуратно встроить новое в уже устоявшееся, стабильное старое.
Елена Стафёрова возводит идею повести к китайским мыслителям даосской школы (Стафёрова, 2017):
«Согласно этой концепции, недеяние руководителя (царя, полководца, словом, лидера) не означает бездействие: лидер не навязывает свою волю, а умеет действовать в согласии с природой человека. Поэтому внешняя пассивность руководителя внутренне активна и побуждает руководимых действовать, при этом создается впечатление, что все движется как будто само собой. “Лучший правитель, — говорит Лао-цзы, — тот, о котором народ знает лишь то, что он существует”[310]. Мудрые руководители, утверждает Чжуан Чжоу, “не упускают необходимого каждому, выдвигают людей, не упуская способностей каждого; видят все дела в целом и творят должное. Дела сами собой совершаются, слова сами собой произносятся, и Поднебесная развивается”[311]. Именно так действует Кутузов в романе Толстого.
Но ведь точно так же ведет себя и инспектор Громобоев из повести “Прыгай, старик, прыгай!”. Автор иронически называет его плохим инспектором и эксплуататором, за которого работают другие: “Он приезжал на новое место, кушал, спал, вовлекался в посторонние дела и так долго бездействовал, что заинтересованные лица начинали в отчаянии расследовать дело сами и доводить его почти до конца, а в конце приходил Громобоев и снимал пенки. Поэтому он был эксплуататором, и слава его была награбленным добром”. А затем следует лукавое разъяснение, которое все ставит на свои места: “Но если возмущенным жителям удавалось устроить так, что его отзывали за очевидную бессодержательность, то дело сразу останавливалось, и результатов не было. Оно еще некоторое время катилось по инерции, подталкиваемое горячими руками деловых людей, потом останавливалось и дымило почему-то, хотя все боялись признаться себе, что оно останавливалось из-за отсутствия Громобоева”. Могущество Громобоева велико (ибо на самом деле он не кто иной, как великий бог Пан), но это могущество скрыто от поверхностного наблюдателя, который видит только обыкновенного человека с брюшком и вечно улетающей шляпой.
В итоге Громобоеву удается перевернуть всю жизнь маленького городка, восстановить справедливость и в то же время защитить городок, который поборники “прогресса” хотят лишить его уникального и неповторимого лица. Оппонентом Громобоева в повести является директор строительства, который, не сомневаясь в праве человека властвовать над природой, стремится перекроить жизнь города по образцу стадиона со стеклянной крышей. Именно о таких преобразователях общества говорил Чжуан Чжоу: “Тот, кто с помощью крюка и отвеса, циркуля и наугольника придает вещам надлежащую форму, калечит их природу; тот, кто с помощью веревок и узлов, клея и лака укрепляет вещи, вредит их свойствам”. А потому нужно беречь и охранять “то, что скривилось без крюка, выпрямилось без отвеса, округлилось без циркуля, стало квадратным без наугольника; что соединилось без клея и лака, связалось без веревки и тесьмы”. Собственно, это и есть один из основополагающих принципов даосов: “позволить вещам быть самими собой”, не искажать их природные свойства. В этом и пытается Громобоев убедить директора: следует использовать заложенные в человеке таланты и возможности, а не идти им наперекор.
В этом отношении показательна история с внешне простым и непримечательным человеком по кличке Гундосый, который проходил мимо стройки, чтобы украсть ведро цемента, но неожиданно для руководства нашел красивый и экономичный способ протащить через территорию стройки огромный котел с выступом. От руководства же только и требовалось сказать: “Не мешайте ему!” Сложность задачи заключалась в том, что у котла был выступ, не позволявший его катить. “Но Гундосый не стал спорить с выступом, а сделал для этого выступа шесть ям. И в эти ямы стал попадать выступ, когда котел покатили с нестройными матерными криками”. Собственно, на самом деле это история вовсе не о котле, это притча о том, как следует работать с людьми. Вновь и вновь повторяет Анчаров свою любимую мысль (из романа “Как птица Гаруда”): необходима не “унификация людского поведения под один ранжир, поскольку человек не есть унифицированный патрон <…>, а наоборот, нужно использование разнообразных возможностей разных норовов-характеров для сложного, но единого поведения общества в целом”. Мысль Анчарова созвучна рассуждению Лао-цзы: “Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существами и не борется с ними”, а потому и мудрец “в делах должен исходить из возможностей; в действиях должен учитывать время. Поскольку он, так же как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок”. Впрочем, Громобоев и с директором тоже не борется, а исподволь, постепенно побуждает его по-новому взглянуть на окружающую действительность и в этом преуспевает. И вот наконец после истории с Гундосым “директору впервые пришла в голову шальная мысль, что если начать с охраны человеческой природы, то все остальное приложится”».
После этого яркого возвращения в литературу в публикациях Анчарова наступило затишье почти на пять лет — до 1985 года. За это время он успевает дать несколько интервью, публикует рассказ «Лошадь на морозе» (1983-й — мы его упоминали в главе 7) и участвует в своем последнем авторском концерте. Поэтому прервемся с рассказом об анчаровской прозе и посмотрим, каковы были его отношения в те годы с песенным сообществом, к возникновению которого он как-никак имел самое непосредственное отношение.
Проза Анчарова 1980-х имеет одно не сразу заметное отличие от предшествующей — она почти не содержит непременных ранее текстов песен, долженствующих иллюстрировать творчество героев. К тому времени потенциал старых песен он выбрал куда более чем полностью, отпустив их в свободное плавание на усмотрение телевидения и фирмы «Мелодия». И тем самым почти лишился авторства. Во время написания этой книги один «знаток» Анчарова спросил у авторов: так как правильно будет: «батальоны — встают или все спят? Труба — прокричала или заржавела?» И авторы не сразу поняли, что он имеет в виду искореженные самим Анчаровым варианты для «День за днем» на музыку И. Катаева, потому что им и в голову не приходило рассматривать их как альтернативные версии хорошо знакомых строф в авторском исполнении. После такого, конечно, использовать эти старые песни еще раз — только портить текст произведений, а новых песен Анчаров больше практически не написал, если не считать столь ненавидимых им самим «подтекстовок» на чужую музыку и для чужого исполнения. Некоторые стихотворные вставки в прозу сохранятся, но это будут либо немногочисленные новые стихи, либо неизвестные ранее варианты старых (подробнее об этом далее).
В мае 1981 года, незадолго до рождения сына Артема, Анчаров дал свой первый за предыдущие почти полтора десятилетия и последний в жизни концерт, который был организован группой его поклонников из московского клуба авторской песни в Доме культуры «Металлург»: Виталием Акелькиным, Борисом Гольдштейном и другими. На концерте Анчаров сам пел очень мало — его песни больше звучали в исполнении других бардов: москвичей Александра Костромина, Дмитрия Дихтера, Ибрагима Имамалиева из Баку. Зато Анчаров, отвечая на записки на самом концерте и после него, подробно рассказал о своем творческом кредо, об отношении к песням, к творчеству других авторов — частично мы эти его высказывания уже цитировали.
Здесь же хочется воспроизвести фрагменты его замечательного монолога о песне и поэзии:
«Неискренне писать песни просто нету смысла. Нет смысла. Понимаете, это все равно, что вот такое впечатление: ты пришел и провел вечер с кокетничавшей женщиной, она прекрасно держалась, и ты чувствовал себя, понимаете ли, что ты — кум королю и воинский начальник, распускал хвост павлиний, чувствовал, что ты ей нравился, она тебе это всячески показывала. Все было замечательно. Ты уходишь окрыленный: какая умница! Как здорово провели вечер! А потом ходишь: что-то жмет, жмет, жмет — что же такого было? Ну, что ж такое было? Что-то незаметное мелькнуло. Где-то в подсознании застряло. И потом вспоминаешь, что однажды, между прочим, так сказать, ты поймал ее взгляд, когда она на тебя смотрела в зеркало, а взгляд был о-ох какой! Совершенно другой. Так. Это промелькнуло, как случайность, а потом именно оно начинает расти, расти и открывает всю суть происходившего, дурацкого этого самого посещения, понимаете.
И вот в неискренней песне как автор ни хочет понравиться окружающим, где-то постепенно начинает возникать раздражение, что-то он кокетничает, что-то он отыгрывает. Или свою бурность и бравурность, или этакие мужские, понимаете ли… такое мужское распрямление плеч, выпячивание грудей, понимаете ли, белых и этакую, так сказать, надземность, понимаете, не от мира сего… <…>
У Маяковского есть статья, не знаю, раньше ее знали все, она была почти хрестоматийной, сейчас, кого ни спросишь, не знают, ну, наверное, вы знаете, потому что вы этим делом занимаетесь — “Как делать стихи”. Это он рассказывал, как у него получились стихи на смерть Есенина. Так вот это всегда сбивало с толку литературоведов, по крайней мере моего времени. Потому что вроде бы он — программный поэт, он всегда отчетливо знает, про что пишет, и здесь знал, на что пишет — на смерть Есенина, знает, что… а-а… стихом опровергнет, как говорится, не согласился с такой смертью и так далее. Об этом в стихе написано. А в начале он пишет, что у него не получилось ничего, потому что он жил в каких-то гостиницах, настроение было похоже на настроение Есенина, который покончил с собой, а… не было протеста внутреннего, какая-то близость, какие-то совпадающие моменты были, и однажды он шел по улице, где много людей, и вдруг в нем начал зреть ритм, какой-то: ра-ра-ра-ра-ра-ра врезываясь, ра-ра-ра-ра-ра-ра трезвость…
Какая “трезвость”? какая “врезываясь”? Какое имеет отношение к Есенину? Никому не известно! Искусствовед тут ломает ноги всегда, потому что… ничего себе начало программного стихотворения! А дело все в том, что он почувствовал ритм сначала, этот ритм начал примагничивать эти словечки, в данном случае “врезываясь — трезвость”, и пошел потом проясняться смысл, потому что это шло. И получился стих. Причем интересно, что в данном случае он четко знал адрес приезда. Но так как он был великий поэт, он не торопился, э-э… ну, в общем, он знал, о чем он напишет. Знал состав идеи. Но так как он был великий поэт, он не торопился эти идеи излагать, даже в рифму, а он ждал, когда придет вот то самое, которое их выразит. Но все-таки он точку приезда знал, пункт назначения. А сплошь и рядом есть стихи, где неизвестно, куда самый человек придет, конечный пункт неизвестен, но он начинает писать и по дороге догадывается.
Вот Есенин про Маяковского: “Маяковский — поэт для чего-то, а я — поэт от чего-то”. Ведь и так бывает. Целиком весь поэт “от чего-то”, вот. Ну, мне лично ближе вот эта штука, когда выяснение темы это есть финал работы, а не начало, вот так».
О том, каким Анчаров выглядел в глазах бардов в более поздние годы, рассказал ленинградский автор Александр Тимофеев[312]. Эта история подтверждает, что прототип Большого из «День за днем» Вячек Лысанов оставался другом Михаила Леонидовича до последних лет жизни. Рассказ Тимофеева, судя по дарственной надписи на подаренной ему Анчаровым книге, относится к ноябрю 1986 года, когда Анчаров уже редко выбирался из дома[313]:
«С Михаилом Анчаровым мы познакомились на 50-летнем юбилее его большого приятеля Вячека Лысанова, который стал прообразом главного героя “Большого” (его играл Вячеслав Невинный), многосерийного фильма по сценарию Анчарова (“День за днем”).
Вячек умеет устраивать праздники. Он соорудил длиннющий стол с винами и многочисленными обильными закусками. Народу много. Я оказался в комнате один с инструментом. После возлияний и возъеданий меня попросили спеть что-нибудь из Анчарова. Какой-то шутник попросил:
— Спой “Девчоночку фабричную”. Я отказался и спел “Органиста”.
По-моему, Анчаров оценил мой выбор. Потом я спел несколько своих мелодий, мы уже сидели рядом с Анчаровым, и он сказал мне странную фразу:
— Нас убивают и убивают, а мы воскресаем…
Дамы требовали песен, мои кончились, и я запел Визбора. Одна из песен Визбора — “Ах, какая пропажа, пропала зима…” так понравилась Михаилу Анчарову, что он в течение вечера пару раз потребовал ее повторить:
— Как же я ни разу не слышал этой песни? Ведь мы с Визбором в одном доме жили. Ну, конечно, так он ее спеть не смог бы.
Вообще в этот вечер Анчаров наговорил мне много полузаслуженных комплиментов. Я знал, что он учился живописи в Институте им. Сурикова, показал ему натюрморт, подаренный мной Вячеку. Он заметил:
— Ты больше этого натюрморта.
Было уже поздновато, Анчаров засобирался домой, мы с Томой и Катей пошли его провожать. Он пригласил нас к себе. Дома Анчаров вытащил откуда-то с десяток своих старых холстов и показал нам. Искусствоведам и художникам знакомо это чувство, когда по живописи на холсте виден как бы “калибр” художника. Несмотря на некоторую, как мне показалось, эскизность, видно было, что, займись он вплотную только живописью, он стал бы крупным художником, но он хотел сразу всего: песен, музыки, киносценариев, повестей, романов, живописи, конного спорта… Да еще на его долю выпала война. Помните его песню о десантниках? Анчаров достал из стопки книг толстый том в красном переплете и попросил меня прочитать вступительную статью. Наверное, я был в ударе и прочитал незнакомый текст достаточно артистично. Анчаров подарил нам с Томой романы и повести со своей подписью. Поговорили о проблеме “художник — общество”. Он заявил:
— Они не дождутся, чтобы я как все! А еще он добавил:
— Саша, у меня стихи еще идут, а музыка от меня ушла. А у тебя музыка. Что, если я пришлю тебе стихи, а ты напишешь на них мелодии?
Я с готовностью согласился. Договорились, что свяжемся через Вячека, он часто ездит в Питер. Когда мы стали прощаться, он вздохнул:
— В жизни меня больше ничего не интересует, кроме судьбы моего сына.
Рядом сидела молодая красивая жена. Мы вернулись к Вячеку Лысанову. Вячек сообщил:
— Он почти не встает с дивана, всё лежит и работает лежа.
И я понял, что Анчаров “щелкнул выключателем”. Вскоре его не стало. Почему я тогда же не попросил у него несколько стихов?
Может быть, потому, что он уже полулежал на своем диване. Катюша до сих пор вспоминает, что первым мужчиной, который поцеловал ей руку, был Михаил Анчаров».
В первом и втором номерах все того же «Студенческого меридиана» за 1985 год, после долгого перерыва, Анчаров публикует повесть «Роль». Вот это было действительно несвоевременно — действие повести проходит на фоне покорения целины, к чему отношение уже тогда было поголовно ироническое, если не сказать хуже: уже начинали появляться публикации, где освоение целинных земель теми штурмовыми методами, которыми оно делалось, впрямую называлось преступлением перед природой. Отчасти в своих мемуарах с этим согласился даже главный инициатор всей кампании Н. С. Хрущев. И хотя Анчаров писал повесть совсем не о целине, выбрать такой фон действия было ошибкой: к людям, которые там действуют, мы, зная подоплеку, относиться всерьез не можем, как не можем всерьез отнестись к героям сборника 1934 года «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» — хотя там тоже, несомненно, были и невыдуманные положительные персонажи, и героические поступки.
Справедливости ради нужно упомянуть, что целинная тема для Анчарова, вероятно, не совсем уж незнакомая — в повести он упоминает, что ездил на целину в командировку, будучи еще художником. Этот фрагмент его биографии не подтверждается документально, но вполне вероятно, что нечто такое произошло в действительности. Только впечатления, которые привез оттуда Анчаров, — это впечатления молодого городского жителя пятидесятых годов, а не ощущения много повидавшего писателя восьмидесятых. И фон, на котором происходит действие повести, получается каким-то уж слишком искусственным, и столь же ненатурально в него вписаны сцены переживаний актрисы, ищущей свое место в искусстве.
Анчарова трудно упрекнуть в очередном акте «бодрячества» и «конформизма»: он, как обычно, делал именно то, что хотел, без оглядки на то, как на это посмотрят из «высоких кабинетов». Неудачный выбор фона повести, конечно, непреднамеренная ошибка, связанная со все тем же упрямым и демонстративным пребыванием над «литературным процессом», которое иногда у Анчарова давало блестящие результаты, а иногда, как в этом случае, вело к попаданию «пальцем в небо». Никаких последствий, о которых мы бы слышали, повесть не имела и прошла незамеченной: о ее существовании не знают даже многие поклонники Анчарова.
Но если бы у повести была только одна целинная линия, о ней вообще бы лучше не упоминать, — неудача и неудача, с кем не бывает. В повести «Роль», однако, как во многих других произведениях Анчарова, есть и параллельный сюжет — конечно, рассуждения об искусстве и творчестве, ведущиеся от первого лица. И эта линия для автора явно главная — даже в предисловии в журнале читателя специально предупредили, что это повесть о творчестве, чтобы он не подумал, что она о какой-то там целине. Анчаров здесь говорит многое, чего не сказал раньше. Эти рассуждения пересекаются с аналогичной линией в еще не опубликованных «Записках странствующего энтузиаста», а кое-что заимствовано из уже напечатанной «Дороги через хаос», но в целом получается довольно стройная картина, ничуть не устаревшая и местами поражающая своей злободневностью и актуальностью. Один программный для Анчарова фрагмент, касающийся технических подробностей в искусстве, мы уже цитировали в главе 4, а здесь хочется процитировать еще несколько абзацев:
«Когда-то по радио разучивали песни — слова велели записывать, а чтобы запомнить музыку, ее проигрывали на разнообразных инструментах. Мне с детства запомнилась фраза: “А теперь прослушайте ту же мелодию, только на тромбоне”.
Так вот, для человека, которому открылась музыка звуков, эта фраза звучит как “красная синька” или “серебряная бумажка”. Потому что для него музыка, исполненная на скрипке и на тромбоне, — разная музыка. Мелодия одна, последовательность нот, а музыка разная».
«Репин — великий художник, но не колорист. Он без колорита обходился. Он другим брал. Поэтому, если бы его “Бурлаки” шли по бережку в пасмурную погоду, то изменились бы оттенки эмоций, но картина бы осталась прежняя — рваные нищие люди тащат на веревке корабль. Дело не в эмоциях, а в сути картины.
Но у колориста сама суть картины сотрясается от каждого удара кисти.
Неколорист написал бы “Стрелецкую казнь”. Репин так и предлагал Сурикову и даже нарисовал мелом повешенного на его просохшей картине. Но Суриков мелового повешенного стер тряпкой. Потому что он написал “Утро стрелецкой казни”. Кто-то так назвал, ему понравилось. Так как это чуть ближе передавало то, что он хотел написать. Не “казнь”, а “утро”.
Потому что, даже если говорить лишь о драме этой картины, то она не только в том, что одни казнят других, а в том, что они казнят друг друга при такой красоте вокруг. “Братцы, красота-то какая, опомнитесь, остановитесь быть зверьем!” — вот суть драмы этой картины. Но и драма — лишь часть сути. Потому что картина написана колористом. Потому что красивое утро мог бы даже не колорист написать, не композитор цвета — все равно было бы утро и было бы красиво.
Потому что суть колорита лежит далеко за пределами того, что в этой картине изображено. И до кого это дошло, тот счастлив и может стоять и балдеть у такой картины, даже когда сама драма уже перестала волновать — пригляделся, или драма в картине вовсе не очевидна, как во врубелевской “Девочке на фоне персидского ковра” в киевском музее. Магия».
За время «простоя» Анчаров опубликовал два рассказа. О посвященном антимещанской теме рассказе «Лошадь на морозе», опубликованном в 1983 году в февральском номере журнала «Студенческий меридиан», мы уже упоминали в главе 7. В 1985 году в «Неделе» (№ 13) печатается рассказ «Цель» на темы войны и милосердия к побежденным немцам. История этого рассказа опровергает иногда проскакивающую кое у кого мысль о наличии какого-то заговора «наверху», направленного против Анчарова. Рассказ был подан на четвертый Всесоюзный конкурс Союза писателей на лучший рассказ года, проходивший на страницах «Недели» и посвященный сорокалетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В № 3 за 1986 год «Неделя» опубликовала результаты:
«2111 — столько произведений поступило на конкурс. 21 — столько конкурсных рассказов было опубликовано на наших страницах. Жюри под председательством секретаря правления СП СССР Виталия Озерова подвело итоги конкурса на лучший рассказ. 1-ю премию решено не присуждать. Три вторые премии, по 750 руб. каждая, присуждены: Михаилу Анчарову за рассказ “Цель” (“Неделя” № 13, 1985 год), Анатолию Маркуше за рассказ “Лейтенантское счастье” (“Неделя” № 7, 1985 год), Олегу Смирнову за рассказ “Рассказ о Тюлькине” (“Неделя” № 19, 1985 год)».
Кроме того, в 1983 году в «Молодой гвардии» выходит сборник «Дорога через хаос»[314], куда, кроме романа с этим названием, включены повесть «Прыгай, старик, прыгай!» и повесть «Страстной бульвар». Стоит также напомнить, что в 1986 году в издательстве «Художественная литература» выходит «Приглашение на праздник», куда включаются все крупные произведения последних лет. Иными словами, никакого такого специального «заговора» не существовало: просто Анчаров, как мы отмечали ранее, со своими рассуждениями о творчестве очень уж не к месту приходился и литературным властям, и читающей публике.
Показательна история с публикацией интервью Анчарова в «Учительской газете», приуроченной к празднику Победы 9 мая 1986 года. Заметка предваряется следующим редакционным вступлением: «“Мне необходима ваша книга… пришлите хоть один экземпляр… помогите достать…” — сотни писем с подобными просьбами приходят со всех концов страны к Михаилу Анчарову всякий раз, когда выходят в свет его повести и романы. В годы войны Михаил Леонидович, как и многие писатели его поколения, с оружием в руках сражался на фронте. В канун праздника Великой Победы мы попросили писателя поделиться своими воспоминаниями».
Сохранился оригинал интервью, возвращенный Анчарову тогда еще журналистом, а ныне известным писателем Владиславом Отрошенко[315], подготовившим его для «Учительской газеты». Оригинал по объему вдвое больше опубликованного текста. В сопроводительном письме Отрошенко извиняется за сокращения: «Сначала заведующей отделом всё очень понравилось. Они были в восторге. Хвалили и меня и Вас. А потом уж и не знаю, кто распорядился, видимо, начальство, — но статью здорово обкорнали. Я бился за каждое слово. А когда статья вышла, я чуть не плакал от обиды и злости. Чтоб им всем пусто было. Одно только утешает, что хоть вообще опубликовали, что хоть какие-то крупицы Ваших мыслей дойдут до читателя. Очень Вас прошу, сохраните оригинал, я у Вас потом его заберу. Всё, что не вошло в эту статью, еще пригодится для большого материала о Вас и о Ваших книгах. Я еще повоюю. Как только появится возможность встретиться, чтоб записать монолог для “Советского музея”, дайте мне знать. А я пока буду договариваться с “Литературной газетой” на рецензию о “Птице Гаруде”, которая идет сейчас в “Студенческом меридиане”, а заодно и на большую статью о Вашем творчестве. В “Литературке” народ менее консервативный, чем в “Учительской газете”. Ей-богу, настало время сказать, что Вы большой и глубокий писатель, каких у нас мало. <…> к сожалению, от заведующей отделом мало что зависит, кругом полно всякого редакторского начальства, у которого свои соображения насчет творчества. Бог с ними. Такая у них паскудная работа — вычеркивать карандашиком то, что им почему-то не нравится».
Из-за такого отношения со стороны литературных мэтров последнему крупному роману Анчарова «Как птица Гаруда» пришлось испытать ряд перипетий, прежде чем он был опубликован окончательно. Из воспоминаний Дианы Тевекелян мы можем попытаться восстановить, что же произошло (хотя, как уже говорилось, с хронологией в романе Дианы Варткесовны «Интерес к частной жизни» не все гладко). Анчаров подал рукопись в «Новый мир», где работала Тевекелян, но там уже не было расположенного к нему главного редактора Сергея Наровчатова[316], его старшего ровесника, вышедшего из той же среды литературного сообщества вокруг ИФЛИ и семинара Ильи Сельвинского в Литинституте, из которого вышли Борис Слуцкий, Давид Самойлов и многие другие сверстники Анчарова, имевшие общее с ним военное прошлое. И Анчаров, и Тевекелян были поначалу уверены, что рукопись «пройдет». Диана Варткесовна, как всегда, помогала в работе на ней, но потом где-то «наверху» не заладилось, и в публикации было отказано. Тевекелян все равно так или иначе собиралась увольняться и устранилась от дальнейшей борьбы, а Анчаров жутко обиделся на весь мир и до самой своей смерти с Тевекелян больше не общался.
Поэтому роман «Как птица Гаруда» был опубликован не в престижном «Новом мире», а все в том же «Студенческом меридиане», рассчитанном совсем на другую аудиторию, и где публикацию пришлось растянуть аж на полгода[317]. Отдельной книгой он вышел только летом 1989 года в издательстве «Советский писатель»[318]. Роман, по замыслу Анчарова, должен был войти в трилогию о творчестве («Самшитовый лес», «Как птица Гаруда», «Записки странствующего энтузиаста»), которую автор потом посвятит своему сыну Артему. Но получилось так, что замыкающий трилогию роман «Записки странствующего энтузиаста»[319] вышел отдельным изданием на год раньше книги с романом «Как птица Гаруда».
Роман «Как птица Гаруда» все-таки был замечен в «литературных кругах», правда, только с одного фланга, который в то время уже успел зарекомендовать себя как радикально-консервативный. Рецензия появилась в журнале «Наш современник» в начале 1987 года[320] и была в целом весьма доброжелательной — еще бы, Анчаров и Ленина упоминает как имеющего право «говорить от имени» рабочего класса, и вообще «в романе представлена хроника рабочей семьи». Интересно начало рецензии, где описывается реакция читателей:
«Еще один парадокс М. Анчарова: большой его роман, хроника рабочей “династии” с начала XX века до наших дней, рабочей, подчеркнем, вышел… в тоненьком студенческом журнале. Вышел поневоле в шести (!) номерах, приковывая к себе внимание и вызвав обильнейшую почту. Сначала гневную — что, мол, вы такое затеяли. Затем, примерно с третьего номера, доверительно распахнутую и наконец восторженную. Что же произошло?»
А «что же произошло», кандидат философских наук Валентин Свинников, как нам представляется, понял не совсем. В своей рецензии он все время пытается подогнать свои впечатления от романа под соцреалистическую канву:
«Конечно, в романе просматривается во многих деталях именно образ жизни рабочего класса. Отчетливо видно, как он менялся, этот образ жизни, от условий и привычек, принятых на Пустыре за Благушей, окраине огромного промышленного города, до примет быта современных советских рабочих 70-х годов XX века».
Ну да, роман многоплановый, явно претендующий на нишу романов-эпопей, в которой отметились и Алексей Толстой с «Хождением по мукам», и Борис Пастернак с «Доктором Живаго», и более узкая по временным рамкам, но столь же масштабная по охвату военная трилогия Константина Симонова («Товарищи по оружию», «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются»), и Василий Гроссман с его романом «Жизнь и судьба», и еще многие-многие другие. То есть роман «Как птица Гаруда» можно попробовать упаковать в прокрустово ложе «романа о рабочей династии», но это ничего не скажет о том, о чем же он на самом деле написан.
А на самом деле роман снова о творчестве, в том числе, если хотите, о том, о чем Анчаров твердил уже издавна: каждый человек, независимо от образования, рода занятий и происхождения, — потенциальный творец. Привязка именно к «рабочему классу» есть дань позициям времен анчаровской молодости, когда поколение «ровесников Октября» объясняло себе, чем хороши идеалы, выразившиеся в тезисе «лишь мы, работники всемирной великой армии труда…». Анчаров никогда от этих идеалов отказываться не собирался, хотя в разных случаях они у него интерпретируются по-разному — в основном как противопоставление творческого человека мещанину, стремящемуся удовлетворить свои личные амбиции и возвыситься над окружающими. Потому появление «рабочей династии» Зотовых у него закономерно; но изюминка романа совсем не в том, что они из «рабочих», а в том, что они смысл жизни постигли, а мещанки вроде жены Сереги Зотова-первого Клавдии так и остались не у дел.
В романе есть герои, пришедшие из «Самшитового леса» (Сапожников, о котором мы наконец узнаем, как его зовут полностью — оказывается, Павел Николаевич), из ранних «благушинских» произведений (Гошка Панфилов). В романе обретает полнокровное существование Виктор Громобоев («бог Пан») из повести «Прыгай, старик, прыгай!», которому приписываются некоторые «фэнтезийные» черты, например способность управлять погодой. Перебирать все сюжетные ходы и идеи, заложенные в роман, так же непродуктивно и бессмысленно, как и делать это в отношении «Самшитового леса»: слишком их много, и все просятся на первый план.
В 1987 году Анчаров написал в «Студенческий меридиан» (№ 3, 1987) предисловие к опубликованным там рассказам того самого Владислава Отрошенко, который потом, через десятилетие-другое, станет известным и даже модным писателем. Предисловие резко отличается по форме от привычных литературных предисловий. В данном случае о представляемых рассказах ни слова, и даже фамилия писателя упоминается только один раз — в самом первом предложении. Зато из этого предисловия, посвященного разъяснению тезиса, который мог бы стать лозунгом крайнего идеалиста-романтика: «не сказка украшает жизнь, а жизнь украшает сказку», сразу понятно, что именно импонирует Анчарову в предлагаемых читателю рассказах.
9 апреля 1987 года в «Комсомольской правде» было опубликовано одно из последних интервью Михаила Леонидовича, в котором его расспрашивали обо всем: о песне, о знакомстве с Высоцким, о его ранних сценариях, о прозе. Интервью под узнаваемым названием «Этот синий апрель», опубликованное корреспондентом газеты Татьяной Хорошиловой, очень путаное, явно не авторизованное, разные события из жизни писателя там произвольно перемешаны по хронологии, но — очень доброжелательное, видно, что интервьюер относится к фигуре Анчарова с пиететом и даже восхищением. Разговор заходит, в частности, о сотрудничестве его с телевидением. Сначала журналистка цитирует самого Анчарова, а потом следует краткий пересказ того, что она сумела понять:
«“Меня волновали судьбы, скрытые за стенами коммунальной квартиры, и не устраивал взгляд на нее как на какой-то кастрюльно-склочный бедлам, где ничего значительного не может произойти. Вздор! Там живут люди, а жизнь людей значительна”.
После девятой серии опять потребовали продолжения, а он уже, по его словам, был пуст. Тогда его стали учить: не все время держите героев в квартире, отправьте на стройку, и вообще, почему они у вас живут в коммуналке, когда кругом строятся новые дома. “Хватит баловаться! — Анчаров взорвался. — Я не дрессированная обезьянка”. Хлопнул дверью и уехал с телевидения».
Что ж, такое краткое резюме довольно длинной, растянутой на несколько лет истории, наверное, в чем-то соответствует тому, как Анчаров сам воспринимал ее спустя десятилетие с лишним.
Последнее в жизни Михаила Леонидовича интервью было опубликовано 3 января 1989 года в «Пионерской правде», и было оно посвящено воспитанию детей — его сын Артем в это время как раз пошел в школу. В эти же годы публикуется довольно много анчаровских песен, заново или впервые — в соответствии с духом времени, которое вспомнило, что имеется такой популярный жанр, как авторская песня. А в 1989 году фирмой «Мелодия» была издана наконец пластинка «На краю городском… на холодном ветру…» (составитель М. Крыжановский) с записью 14 его песен, сделанной в 1967 году. На лицевой странице конверта — полюбившийся иллюстраторам анчаровский «Летун», на задней — довольно большая статья самого Анчарова о песенном творчестве.
Последнее из опубликованных крупное прозаическое произведение Анчарова — роман «Записки странствующего энтузиаста», как мы уже говорили, вышло в издательстве «Молодая гвардия» в начале 1988 года. Но перед этим Михаилу Леонидовичу пришлось вытерпеть довольно много.
Разговор с Вячеком Лысановым, который мы цитировали в начале главы, имеет следующую подоплеку. «Записки» (первоначально имевшие длинный заголовок «Город как мальчик, или Записки странствующего энтузиаста») еще 5 декабря 1985 года поступили в издательство, о чем свидетельствует редакционный штамп на первой странице рукописи. Уже знакомый нам кандидат философских наук Валентин Свинников написал на нее весьма доброжелательную внутреннюю рецензию, в конце которой сделал несколько не слишком существенных замечаний по доработке. Но что-то в издательстве заклинило, и публикация задержалась.
Что именно заклинило — долго гадать не приходится, и Анчаров тут совершенно ни при чем: в 1986–1988 годах уже начала спадать почти непроницаемая до этого завеса цензуры в виде Главлита, и все наперебой кинулись публиковать ранее запрещенные вещи. А отрыжка планового хозяйства в форме лимитов на бумагу сохранялась еще долго, потому толстым журналам и издательствам приходилось выбирать между неизданными произведениями Андрея Платонова, Михаила Булгакова или Анатолия Рыбакова — и сомнительной актуальности творениями Анчарова, который к тому же успел заработать неоднозначную репутацию.
Одним из первых прорывных журналов было «Знамя», где новый главный редактор Григорий Бакланов начал в 1986 году с повести Андрея Платонова «Ювенильное море» и долгожданной публикации романа Александра Бека «Новое назначение» — романа, из-за которого в свое время разразился скандал, дошедший до разногласий на уровне верхушки Политбюро, Совета Министров и Союза писателей. Вот в «Знамя» Анчаров и имел несчастье подать рукопись «Записок» как раз в начале 1986 года, когда в редакциях решались совсем другие вопросы. Из журнала 17 июня 1986 года последовал ответ, очевидно, полностью соответствовавший истинным настроениям в редакции: «К сожалению, Ваш роман “Записки странствующего энтузиаста” по своим задачам, по разработке темы, на нынешнем этапе для нашего журнала не подходит».
А вот сохранившаяся внутренняя рецензия журнала за подписью некоего А. Андрианова (датированная 17 апреля 1986 года) куда бледнее и поверхностней, чем упоминавшийся отзыв В. Свинникова из «Молодой гвардии». Только одно перечисление претензий Андрианова занимает целую машинописную страницу: «произведение… не состоялось», «оторванность от живой, конкретной действительности», «умозрительность подхода», «отсутствие четкой, ясной, ведущей мысли, идеи» (это у Анчарова-то!), «беспредметность полемичности» и так далее. Среди всего этого, как изящно выразился один современный блогер, «бессмысленного набора кириллических знаков» есть, впрочем, одна претензия, которую можно посчитать отчасти справедливой: «примат “голой публицистичности” над “изобразительностью”» — но даже и она в контексте всей литературной обстановки восьмидесятых считаться крупным недостатком никак не может.
Из всей поздней прозы роман «Записки странствующего энтузиаста», пожалуй, увлекательней всех остальных — в нем нет масштабности и сюжетной разветвленности романов «Самшитовый лес» и «Как птица Гаруда», зато очень много личных наблюдений и зарисовок с натуры, которые Анчарову неизменно удавались лучше, чем «выдуманное из головы». Роман посвящен поездке группы писателей на завод-автогигант в городе Тольятти, стоящем как раз рядом с местом, где находился хорошо знакомый Анчарову по учебе в ВИИЯКА Ставрополь-на-Волге, затопленный в 1953–1955 годах при создании Куйбышевского водохранилища (сама поездка состоялась, вероятно, в августе 1983[321]). Это символическое возвращение к истокам взволновало Михаила Леонидовича и вдохновило его на новые воспоминания и подытоживание пройденного. Многие места из этого романа документально точно описывают годы его учебы в Суриковском институте, и мы их уже цитировали, рассказывая о его взаимоотношениях с живописью (см. главы 3 и 4).
А вот концовка романа, скорее, относится к области фантастики и вызывает аллюзии с «Гадкими лебедями» Стругацких: герой спасает мир от ядерного апокалипсиса, поставив ультиматум, в котором, подобно гаммельнскому крысолову, обещает увести с Земли детей, если «это все не кончится», и затем, «…когда все старье передохнет, я верну на Землю детей, которые, воспользовавшись парадоксом Эйнштейна, повзрослеют только на год».
Комментировать отдельные линии романа так же бесполезно, как и делать это в отношении других поздних анчаровских произведений, — можно создать текст, больший по объему, чем авторский, и все-таки ничего не объяснить сверх того, что имеется в оригинале. Но один второстепенный фрагмент будет интересен любому, интересующемуся искусством:
«Меня с годами все более занимает само существование масскультуры. И я не верю теперь, что ее разливы и завалы коренятся в несовершенстве потребителя, и даже в несовершенстве изготовителя, и даже в капиталовложениях в масскультуру —наживаться можно и на подтяжках, и на Ван Гоге. А дело в том, что какую-то потребность не удовлетворяет вся остальная культура, которая, хотя и не масс, но тоже далеко не того. Какая же это потребность?
Дело в том, что вся остальная культура ничего не предлагает. Ага. Кроме как следовать какому-нибудь единственному образцу.
А масскультура — ширпотреб — разрешает не следовать образцам вообще. Вы, конечно, скажете, сир, что она потрафляет инстинктам толпы?
А кто будет им потрафлять? Ханжи, которые делают то же самое, в чем обвиняют толпу, но тихо? И все это знают. Одна бабка говорила:
— Если забот чересчур много, надо послать подальше их все. Пусть заботы сами о себе позаботятся.
Масскультурная толпа это и делает. Но искренне. В отличие от академика, для которого пользование чтивом — снисходительный отдых от забот, и в отличие от народного артиста, жаждущего получить портрет своих регалий, когда он уже достиг всего и нечего стесняться, чего уж там! Хороший вкус я доказывал всю жизнь, сколько же можно! И все видно.
А эксперт? Что ему вообще делать без масскультуры? Как ему вообще устанавливать правила, если не будет их нарушений?
Глубокоуважаемый шкаф, неужели вы не видите, что масскультура — это великолепно нащупанные потребности и убогие способы их удовлетворить? Значит, надо их удовлетворять лучше. Другого выхода просто нет».
В «Записки» включено одно из поздних стихотворений Анчарова «Проиграл я на райских выгулах…», написанное, как удалось установить, в 1984 году. Стихотворение в романе представлено как песня все того же Гошки Панфилова, одного из альтер эго автора, и проникнуто яростным оптимизмом:
Я планету от страха вылечил!
Каждый выжил в своем краю!
Мы — земля! Мы дети чистилища!
Непристойно нам жить в раю!
В апреле-мае 1988 года неизменный «Студенческий меридиан» публикует повесть «Козу продам» — журнальный вариант уже не раз упоминавшейся повести «Стройность», которая полностью выйдет только в 1992 году в сборнике «Звук шагов» (под редакцией Л. П. Беленького). В повести содержится довольно много интересных воспоминаний (частично мы их уже цитировали), и в ее полный вариант включена драма «Франсуа» о Франсуа Вийоне, написанная, как мы знаем, еще в 1955 году в подарок Джое Афиногеновой (как уже упоминалось, в журнальном варианте эта часть повести отсутствует).
Мы также рассказывали в главе 4, что в качестве предисловия к этой публикации был представлен большой фрагмент письма преподавателя философии из Киева Сергея Грабовского, содержащий попытку привязать анчаровские идеи к философии (конечно, с ортодоксально-марксистских позиций). Вместе с рядом дельных (хотя и довольно тривиальных) мыслей статья Грабовского содержит много пустословия и «воды», характерных для лексикона «преподавателей философии» в советские времена. Редакция даже сочла нужным извиниться за стиль автора письма: «Возможно, оно несколько тяжеловато для восприятия…» Анчаров фактом такого признания очень гордился и даже сочинил для украшения истории и рассказывал друзьям байку о том, что Грабовского и еще кого-то якобы уволили из преподавателей после поддержки анчаровских идей с философской точки зрения. Хотя этот факт ничем не подтверждается и в 1988 году едва ли мог произойти — в это время уже говорили и писали намного более крамольные вещи. Но попытка Грабовского все-таки являет собой действительно замечательный факт — свидетельство того, что Анчарова признавали за своего и хоть какие-то философы тоже.
Линия повести, посвященная всемирному экологическому кризису, хотя и выражена весьма эмоционально, но все-таки на довольно низком уровне, — Анчаров очередной раз смело вторгается в область, в которой глубоко не разбирается. И притом в этом случае нельзя сказать, что Анчаров на десятилетия обогнал современную ему человеческую мысль, как это было с идеей использования рассеянной энергии, возникшей у него в начале 1950-х, — в конце 1980-х об экологических проблемах не писал только ленивый, причем писал, как правило, на куда более основательном фундаменте. Кроме того, эта линия совместно с темой Франсуа Вийона смотрится уж как-то совсем чужеродно: наверное, можно извлечь из повести какие-то объяснения, как именно они стыкуются, но ощущение эклектичности повествования, произвольной случайности описываемого никуда от этого не денется.
Есть подозрение, что Анчаров делал такие вещи вполне сознательно: стыковал случайные темы в произвольном порядке, предлагая читателю нечто вроде воспетой им в «Самшитовом лесе» кунсткамеры, то есть набор отдельных, никак не связанных между собой тем, событий и артефактов. Следы такого подхода мы находим и в «Самшитовом лесе», и в «Записках странствующего энтузиаста» (что особенно возмутило рецензента из «Знамени» А. Андрианова), и, конечно, в романе «Как птица Гаруда». В общем-то, даже еще в «Золотом дожде» и «Поводыре крокодила» такую тенденцию можно найти, если внимательно покопаться. Не исключено, что это был такой специальный эксперимент, подозрительно напоминающий модернистские течения в живописи начала-середины ХХ века, которые в СССР презрительно клеймили «формализмом» (особенно если включить в него сюрреализм Дали). Однако в результате у Анчарова этот эксперимент не то чтобы не удался, — скорее, он не сумел его четко обозначить и доказать свое право на подобные эксперименты. Увы, в искусстве любят традицию даже больше, чем в замкнутой на себя науке: именно поэтому пришлось в свое время доказывать свое право на существование импрессионистам перед лицом академической школы живописи, потом у нас — жанру авторской песни и одновременно на Западе — рок-музыке. И осталось только одно — надеяться на субъективный критерий, о котором писал когда-то Анчаров, говоря о живописи: «художник, даже если он написал одну картину, которая может переломить жизнь только одного человека, — гений».
Последней прижизненной публикацией Анчарова стали фрагменты из глав неоконченного романа «Третье Евангелие — Евангелие Святого духа», опубликованные в журнале «Свет в степи», выходившем в Удмуртии[322]. В нем использованы сюжеты старых рассказов (например, «Корабль с крыльями из тополиного пуха», не слишком удачного «Два постскриптума», «Корабли»…), кое-как связанные в единое повествование. Это как раз к вопросу об анчаровском самоплагиате: одно дело, когда в «Дорогу через хаос» в виде составной части входит ранее не публиковавшаяся стихотворная трагедия «Леонардо», написанная за тридцать лет до этого, о существовании которой никто не подозревал, и совсем другое — когда автор вытаскивает и безжалостно вырезает куски из уже опубликованного (и иногда даже не один раз) и даже успевшего полюбиться читателю.
В 1989 году здоровье Михаила Леонидовича стало быстро ухудшаться: одному из авторов книги он говорил по телефону, что «едет на дачу, чтобы отдышаться от города, поскольку за зиму себя съел…». Сохранилась довольно длинная, продолжавшаяся около часа, съемка посещения Анчарова на даче несколькими авторами и исполнителями из КСП: Александром Костроминым, Галиной Крыловой, Александром Медведенко-Довом с Украины (тем самым, который дописал песню Визбора «А функция заката такова…», включенную в повесть «Стройность») и Дмитрием Дихтером. Анчаров сам уже ничего не исполнял, но охотно подпевал и подсказывал слова.
Всеволод Ревич в упоминавшейся статье из спецвыпуска газеты «Менестрель», посвященной памяти Анчарова, говоря о его фантастических произведениях, даст такую общую оценку анчаровскому литературному творчеству:
«Но, как известно, достоинства — это продолжения недостатков, и девственная незамутненность анчаровского сознания по части научно-фантастических стереотипов как раз и позволила ему создать совершенно оригинальную фантастику. Впрочем, это относится ко всем анчаровским повестям. Их не приткнешь ни к какому литературному ряду, не включишь ни в какую обойму. Но ведь так и должно быть в искусстве всегда — только свое. Тогда это — искусство.
Не так-то легко сформулировать, в чем, собственно, состоит она, эта анчаровская индивидуальность. Хотя она легко ощутима, но попробуйте перевести ее на литературоведческий язык… Мне, во всяком случае, в послесловии к анчаровской книге, которая тоже называлась “Сода-солнце” и вышла в 1968 году[323], этого сделать не удалось. Я больше нажимал на идейное содержание. Прекрасно понимаю, что ссылка на трудности — не оправдание. Трудно — не берись. Но, по-моему, подлинного своеобразия его места в нашей литературе еще не определил никто.
После выхода молодогвардейского сборника к фантастике в строгом смысле этого слова Анчаров не возвращался. Но я не стал бы уверенно утверждать, что герой, скажем, “Самшитового леса” сильно отличается от “Сода-солнца”. Только я уже в этом участия не принимал.
А что касается идей, то идеи во всех повестях Анчарова были общими. Сейчас мы бы их назвали общечеловеческими. Они просты. Как объясняет герой “Поводыря крокодила” ресторанной официантке: надо, чтобы окрошка была холодной, а шашлык — горячим. Только и всего».
Эпилог
11 июля 1990 года Михаил Леонидович Анчаров скончался. Один из авторов этой книги, Виктор Юровский, был в числе первых, узнавших об этом печальном событии. Далее его рассказ от первого лица:
«Последний раз живого Михаила Леонидовича мы вместе с моей женой Машей видели поздней весной 1990 года, когда заехали к Анчаровым по каким-то бытовым делам. Михаил Леонидович спал. Ира сказала, что он плохо себя чувствует, но на днях они уезжают на дачу, где, она надеется, ему станет легче.
11 июля 1990 года, часов в одиннадцать утра, у меня дома раздался телефонный звонок. Ира сказала: “Миша умер!” — “Когда, где, от чего?” — сумбурно спрашивал я, оторопевший от этой новости. Она стала говорить, что на даче в последнюю неделю Михаил Леонидович чувствовал себя плохо и попросил отвезти его домой в Москву, что она накупила продуктов, взяла машину и привезла его сюда. Каждое утро и вечер бегала в дачную контору и звонила ему по телефону. Он отвечал, что всё нормально. В то утро телефон не отвечал, хотя Ира звонила неоднократно. Она оставила Артема у соседей, а сама приехала в Москву и вот нашла его мертвым. Что теперь делать, она не знает. Я был в отпуске и сидел в Москве с больным отцом, а семья моя была на даче. Я приехал туда часа через два после ее звонка. Она со словами: “Вот посмотри” — подвела меня к закрытой двери большой комнаты. Войдя, я в метре от себя увидел спину крепкого, совершенно голого мужчины, застывшего сидя верхом на одной из ручек кресла. Своей рукой он тянулся к стоящему рядом на столе телефону. Самое ужасное, что это был Михаил Леонидович.
Закрыв дверь, мы пошли в Ирину комнату и стали обсуждать, что нужно предпринять в первую очередь. Пришла соседка из квартиры рядом. Сказала, что нужно позвонить в писательскую поликлинику и получить у них справку о смерти. Дозвонились, пришли какие-то Ирины подруги и поехали в эту поликлинику. Та же Нина Петровна Прокофьева (я познакомился с ней уже позже, в августе 2004 года, в дни, когда умерла Ира) стала вновь звонить в эту поликлинику, чтобы они договорились с моргом какой-нибудь больницы, куда можно отправить тело покойного.
Ей это удалось. Позвонили Ирины подруги, сказали, что справку им выдали, указав стандартную причину смерти — ишемическую болезнь сердца, списав диагноз из карточки Михаила Леонидовича. Узнав, что вскоре может приехать машина с санитарами из морга Боткинской больницы, я позвонил в Центр авторской песни, всё им сообщил, попросил приехать нескольких ребят, чтобы помочь вынести Михаила Леонидовича из квартиры. Вскоре приехали Саша Костромин и еще один наш человек, фамилию которого я никогда не знал. Через пару часов пришли два санитара из Боткинской. Они внесли в комнату носилки, переложили в них покойного, перевязали его какими-то ремнями и вынесли, без нашей помощи, из квартиры к лифту. В лифте, что меня поразило, носилки с телом поставили вертикально. Из лифта носилки, но уже в горизонтальном состоянии, вынесли мы с одним из этих санитаров, а второй побежал открывать машину, с виду обычный автомобиль “Скорой помощи”. Мы поклонились уезжавшей машине.
На следующий день, когда я приехал к Ире, там был человек из Союза писателей, отвечающий за организацию похорон. Он пообещал договориться о кремации, пообещал подготовить стандартный некролог для “Вечерней Москвы” от Союза писателей РСФСР и так далее. Кажется, все расходы на похороны Союз взял на себя — так мне запомнилось. Кремация почему-то была назначена на 16 июля (понедельник), то есть только на пятый день после смерти. А 14 июля, как я знаю, вышла “Вечерняя Москва” с маленьким черным квадратиком-извещением. Позже сообщение о кончине Михаила Леонидовича (в заметке “Траурный тембр звонков”, в которой вместе перечислены писатели, скончавшиеся за неделю: М. Матусовский, Лидия Гинзбург, В. Пикуль, М. Анчаров) было опубликовано в еженедельнике “Книжное обозрение” (20 июля, № 29). Сообщение о прощании 16 июля в Донском крематории в тот же день было напечатано в “Вечерней Москве”».
Как мы уже упоминали, памяти Анчарова был посвящен специальный выпуск газеты Московского КСП «Менестрель» (июль — октябрь 1990 года), в котором своими впечатлениями и воспоминаниями поделились Л. Аннинский, А. Городницкий, В. Долина, А. Дулов, В. Ревич и другие. В этом выпуске также были опубликованы отрывки из дневников Владимира Туркина, окончившего ВИИЯКА вместе с Михаилом Леонидовичем и впоследствии встречавшегося с ним в Москве, которые мы цитировали в главе 3, — там представлен совершенно другой, малознакомый нам Анчаров.
Ирина Анчарова преждевременно скончается в 2004 году. Виктор Юровский:
«Ира Анчарова умерла от тяжелой болезни. В нормальном состоянии она была замечательно добрым и хорошим человеком, но в периоды обострений теряла всякое самообладание. Тосковала ли она по Михаилу Леонидовичу? Без сомнения — тосковала, а я первые годы после его кончины даже не догадывался о ее болезни. Мы (московский КСП), как могли, старались помочь ей, оставшейся одной с девятилетним сыном, — оформили (условно) на работу в Центр авторской песни. Она приезжала получать эти небольшие деньги и была всем очень признательна. Я поддерживал с ней отношения и помогал по разным издательским делам. Она бывала у меня дома, общалась с моей женой».
В том же 2004 году на основе сохранившихся картин, фотографий и документов из архива Михаила Леонидовича, а также некоторых публикаций о нем был основан мемориальный сайт, место для размещения которого предоставил Максим Мошков, создатель и владелец первой в Рунете электронной библиотеки (по адресу Lib.ru). В создании картинной галереи принял участие Петр Трубецкой, создатель Фонда «Архив авторской песни», за одну ночь сделавший цифровые репродукции всех сохранившихся картин (позднее галерея была дополнена еще рядом репродукций картин и рисунков). Сайт живет и развивается, на нем регулярно размещаются новые публикации из анчаровского наследия, воспоминания о нем, фонограммы исполнения его песен.
Ежегодно проводятся мемориальные вечера, посвященные М. Л. Анчарову. В последние восемь лет они стали называться «Анчаровские чтения». Памятные встречи приурочены ко дню рождения писателя 28 марта. В разное время на них, наряду с бардами, выступали многие известные люди, которые его знали и сохранили светлую память о нем: писатели Аркадий Арканов и Анатолий Макаров, артисты Людмила Абрамова-Высоцкая, Рафаэль Клейнер, Александр Кутепов, Нина Попова, Никита Прозоровский, радиожурналистка Татьяна Визбор и многие другие. Никита Прозоровский, при участии автора и исполнителя песен Андрея Козловского, озвучил две аудиокниги: «Этот синий апрель» и «Теория невероятности» (куда включены подобранные из архивов Гостелерадио песни и музыка времен анчаровской юности). Еще несколько аудиокниг («Как птица Гаруда», «Прыгай, старик, прыгай!», «Самшитовый лес») самостоятельно подготовлены почитателем Анчарова Игорем Князевым. В социальной сети «Фейсбук» имеется анчаровское сообщество, модератором которого бессменно выступает Галина Щекина. В 2006 году в Новосибирске у молодежного театра «Глобус» в аллее выдающихся бардов России установлена мемориальная гранитная плита М. Л. Анчарову.
Много лет по инициативе Центра авторской песни идет кампания за установку мемориальной доски на доме по Мажорову переулку, в котором прошли детство и юность М. Л. Анчарова. Три раза организаторы этой кампании получали отказ от московских властей, о причинах которого приходится только гадать, настолько невнятно они сформулированы, — не помогли даже ходатайства Союза писателей Москвы и его руководителя Е. Ю. Сидорова, Общественной палаты РФ в лице ее секретаря академика Е. П. Велихова, письма поддержки руководителя партии «Справедливая Россия» С. М. Миронова, литературоведа Л. А. Аннинского, поэта и ученого А. М. Городницкого, режиссера и артиста В. Н. Шиловского.
Как выразилась одна анчаровская сверстница: «Анчаров же совершенно себя не рекламировал!» Однако и теперь, когда прошло почти три десятка лет после его смерти, находится много людей, которые его помнят, любят и призывают не забывать.
И десятки восхищенных отзывов от современных читателей в электронных библиотеках «Флибуста» и «Библиотека Мошкова»: «найти слова, которые могут передать всю глубину, силу и обаяние “Самшитового леса”, невозможно»; «открыла для себя этого великолепного автора…»; «оценивать не берусь, но обязательно вернусь»; «регулярно перечитываю Анчарова, стараюсь не чаще чем раз в три года»; «Анчаров — гений»; «не оторваться…»; «Считаю Анчарова лучшим нашим писателем ХХ века» и тому подобные… Среди них скромно затесалось два-три отзыва тех, кто Анчарова не понял и не принял, но это можно считать рекордным результатом для такой аудитории, не привыкшей сдерживать свои эмоции, как в положительную, так и в отрицательную сторону. И даже скучноватые с сегодняшней точки зрения «День за днем», судя по порталу kino-teatr.ru, находят своих современных почитателей.
Почему так?
В той эклектичной мешанине полярных политических взглядов и подходов к оценкам недавнего прошлого, смеси приспособленчества, отрицаний и разочарований, которую представляло советское общество к шестидесятым-семидесятым годам ХХ века, Анчаров был единственным, сумевшим не только выделить из коммунистической идеи все хорошее, что в ней содержалось, но и полностью очистить этот идеал от налипшей на него политической грязи и сохранить его в таком виде для потомков. Он был тем, кто сформировал и придал законченность идеалам целого поколения. Поколение это влияние не всегда замечало: его идеи настолько соответствовали ожиданиям, что тут же растворялись в воздухе, становились общим местом, и никто уже не помнил, что именно Анчаров сформулировал нечто, очевидное теперь для всех. Всеволод Ревич сказал об этом в своем выступлении на прощании с Анчаровым: «он многое в своих песнях и книгах предугадал, что другие потом подхватили и развили». Но место неофициального и непризнанного, но самого настоящего властителя дум поколения «шестидесятников» остается за ним навсегда.
И напомним еще одну его уникальную особенность: Анчаров ни разу не позволил вовлечь себя в политические дискуссии. Он от них даже не уворачивался специально: они его обтекали, не затрагивая. Он был искренним, даже несколько демонстративным патриотом России и одновременно твердо стоял за максимальное разнообразие мнений: занимать какую-либо конкретную позицию ему было бы попросту скучно. Он судил о людях по их творческому потенциалу, а не по возможной политической интерпретации их текстов. Поэтому он до конца дружил с Александром Галичем, а власть заставлял гадать, как же отнестись к такому феномену: вроде бы свой Анчаров, весь насквозь советский, но что-то такое есть у него, отчего становится неудобно за свои поступки, продиктованные сиюминутной «политической необходимостью».
Низкий поклон Вам, Михаил Леонидович, от Ваших благодарных учеников и почитателей!
Об авторах
Ревич Юрий Всеволодович (р. 1953) — инженер, журналист и писатель. В 1970 году окончил физико-математический класс школы № 182, расположенной на бывшей Каляевской (ныне Долгоруковской) улице, вблизи от дома на улице Чехова, где в то время жил Анчаров. В 1975 году окончил Московский институт тонкой химической технологии, в 1980–1990-е годы работал в Конструкторском бюро при Институте океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР, участвовал в океанологических экспедициях на судах научного флота. Занимался разработками океанологических приборов, разрабатывал аппаратуру различного назначения для институтов РАН и других учреждений, а также по отдельным заказам.
В конце 90-х стал активно печататься в журналах и газетах, в 2000 году перешел на работу в издательский дом «Компьютерра». Автор многочисленных статей и составитель сборников по тематике, связанной с историей и развитием информационных технологий. Сотрудничал в нескольких десятках журналов, газет и сайтов, автор и составитель тома энциклопедии «Компьютеры» издательства «Аванта+». Выпустил несколько книг для любителей электроники, из которых самая известная — «Занимательная электроника» — выходит в 2018 году пятым изданием.
Авторской песней интересовался со школьных времен, в чем большую роль сыграло личное знакомство отца, Всеволода Ревича, со многими известными бардами: Булатом Окуджавой, Михаилом Анчаровым и др. Во время обучения в институте и позднее, во время работы на кафедре, организовывал концерты С. Никитина, В. Егорова, А. Суханова, ансамбля «Берендеи» и др. В 1974 году влился в ряды Московского КСП, участвовал в организации больших и малых слетов, нескольких концертов и конкурсов.
В 2004 году, после смерти Ирины Анчаровой, по инициативе В. Юровского и А. Костромина стал хранителем части авторской коллекции картин М. Л. Анчарова, ведет реестр сохранившихся картин. Создатель и администратор мемориального сайта М. Анчарова.
Юровский Виктор Шлёмович (р. 1946) — инженер-экономист, библиограф. В 1964 году окончил известную московскую школу № 110, находящуюся у Никитских Ворот. С 1970 года, после завершения учебы на строительном факультете Московского инженерно-экономического института им. С. Орджоникидзе, до 1993 года работал в ЦНИИП градостроительства научным сотрудником, занимаясь районной планировкой, а в 1993–2018 годах — в плановом и арендном отделах проектной организации.
Еще в школьные годы от соученика впервые услышал песни М. Анчарова, поразившие своей необычностью, а позже и записи его песен. В студенческие годы был организатором песенных вечеров, в том числе В. Высоцкого, Ю. Кукина, И. Михалева, С. Стеркина, и руководителем институтского Клуба самодеятельной песни, принимал участие в создании Городского клуба песни (КСП). В 1965–1966 годах неоднократно присутствовал на выступлениях М. Л. Анчарова, исполнявшего свои песни, но личное знакомство состоялось лишь двадцать лет спустя.
В 1984 году был в числе составителей двенадцатитомного собрания сочинений Б. Ш. Окуджавы, подаренного автору Московским КСП на вечере в честь его 60-летия. В 1984–1986 годах работал над составлением сборника песен М. Л. Анчарова, который не был издан. В 1989 году в журнале «Советская библиография» опубликовал первую библиографию творчества М. Анчарова. Позже в этом же журнале были напечатаны подготовленные В. Юровским списки публикаций В. Долиной (1990), Б. Окуджавы (1990–1998, в соавт.), А. Якушевой (1993, в соавт.), В. Туриянского (1993), Г. Шпаликова (1998, в соавт.), а в альманахе «Мир Высоцкого» (1998–1999), соответственно, В. Высоцкого. В 2003–2013 годах был членом редколлегии, автором статей и библиографий альманаха «Голос надежды: Новое о Булате». В 1992, 2001 и 2007 годах был составителем сборников произведений М. Л. Анчарова, аудиодисков «Михаил Анчаров. Лучшие песни» (2000), «Баллада о двадцатом веке: барды поют песни М. Л. Анчарова и посвящения ему» (2011). С 1990 года — организатор и ведущий вечеров и чтений, посвященных Анчарову, с 2015 года — руководитель «Фонда увековечения памяти и сохранения творческого наследия М. Л. Анчарова».
Научно-популярное издание
Юрий Ревич, Виктор Юровский
МИХАИЛ АНЧАРОВ
Писатель, бард, художник, драматург
Главный редактор Эрик Брегис
Редактор Г. Л. Добин
Корректор Наталья Витько
Дизайн и вёрстка Эрик Брегис
Издательство «Книма»
ИП Бреге Е.В. ОГРНИП 314505002700051
www.knima.info
Подписано в печать 04.06.2018. Формат 70х100 1/16 Гарнитура «Academy». Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 38. Тираж 1000 экз. Заказ №