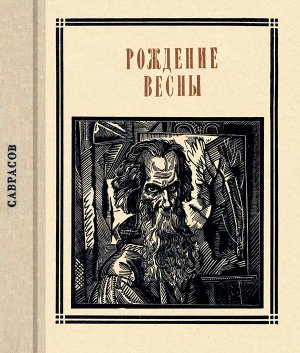
«В области искусства, в творчестве сердца, русский народ обнаружил изумительную силу, создав при наличии ужаснейших условий прекрасную литературу, удивительную живопись, оригинальную музыку, которой восхищается весь мир… Замкнуты были уста народа, связаны крылья души, но сердце его родило десятки великих художников слова, звуков, красок».
М. Горький
И в искусстве совершаются открытия, ломающие старые представления, открывающие неведомые ранее возможности в изображении окружающего мира.
Таким художником-первооткрывателем был Алексей Кондратьевич Саврасов, оказавший огромное влияние на развитие русской пейзажной живописи.
Он отказался от господствующего в ту пору представления о пейзаже, как о сочетании красивых линий и предметов. Долгие и упорные поиски привели его к новому пониманию прекрасного. Он стремился воссоздать природу в ее живой осязаемости, такой, какой видел перед собой.
Неприхотливый деревенский пейзаж, тонкая, наклонившаяся над обрывом березка, убогая хижина — вот что становится темой саврасовских полотен. Все здесь просто и безыскусственно. И в то же время все полно прелести и поэзии, все трогает и волнует каждого человека, любящего свою родину.
Прелесть того, что казалось обыкновенным, даже будничным, изображалось художником так проникновенно, что, глядя на его картины, люди словно заново открывали красоту своей земли. И остановившись где-нибудь на краю деревушки или на обочине дороги, думали: «Совсем как у Саврасова!»
Недаром творчество этого художника называют «весной русского пейзажа».
Однако подлинное признание пришло к Саврасову далеко не сразу. Жизнь, поначалу было улыбнувшаяся, обрушилась множеством невзгод и лишений. Долгие годы его преследовали нужда, одиночество, непонимание. Многие произведения художника были неверно истолкованы, а то и забыты.
Первая выставка работ Алексея Кондратьевича Саврасова состоялась лишь полвека спустя после его смерти — в 1947 году. За это время удалось разыскать многие саврасовские полотна, считавшиеся «без вести пропавшими», вернуть к жизни незаслуженно забытые. Вместе с тем стало особенно ясно значение творчества замечательного художника и педагога.
«Непутевый»
Алешка сбежал по скрипучим ступеням лестницы, хлопнув дверью, выскочил на крыльцо. И сюда долетал отцовский голос: «Ишь чего вбил себе в голову! Не будет этого — и никаких!» — На мгновенье голос оборвался: наверно мачеха попыталась вставить словечко, потом загремел с новой силой.
Давно отец так не бушевал. Всем досталось: и мачехе, и сыну, и Алешкиному дружку. Словно ветром сдуло его из-за стола.
«Может, где-нибудь поджидает меня?» — подумал Алешка, спрыгнул с крыльца и зашагал вдоль дощатого забора.
Воробья не было ни в соседском дворе, ни за углом, ни на плотине в устье Яузы.
Отсюда уже рукой подать до любимого Алешкиного места: зеленого мыса между Яузой и Москвой-рекой. Алешка туда и направился, подошел к самой воде, опустился на траву.
Тихо здесь. Только всплески весел лодочника нарушали тишину. А у Алешки в ушах все еще звучал гневный отцовский голос. Надо же, как распалился! Алешке уже показалось было, что все пойдет на лад. Отец будто помягчел. И вот на тебе!
У отца в Зарядье лавка. Торговля невелика. Больше форса, чем дела. Но Кондратий Артемьевич упрямо держался за купеческое звание. И сына сызмальства прочил за прилавок: «Подрастешь — помощником будешь!»
А Алешке только бы лист бумаги да карандаш — с раннего детства пристрастился к рисованию. Приткнется где-нибудь в укромном уголке, чтобы отцу на глаза не попадаться, — и вот уже карандаш пошел выводить стволы деревьев, рогатые сучья, вязать на них туманное кружевце листвы. Глядишь — за деревьями пролегла дорога, в небе поплыли облачка.
Алешка сам не знал, откуда что берется. Может, придумал, может, подсмотрел где-нибудь на берегу Москвы-реки или в Гончарах…
Название родного для Алешки уголка Москвы сохранилось с той давней поры, когда здесь располагалась одна из древнейших слобод — Гончарная. Тут селились ремесленники-гончары, выделывавшие изразцы для убранства кремлевских теремов и боярских хором.
Теперь в Гончарах изразцы не выделывали. У Таганки громоздились каменные склады и лавки богатых купцов. В округе жили торговцы помельче, продавцы, горожане — люд, так или иначе связанный с торговлей. В узких, кривых переулочках стояли небольшие деревянные домики — семья Алешки Саврасова занимала верх деревянного двухэтажного дома. Домики перемежались заборами, за ними огороды, сады.
Гончары — еще не окраина, но довольно отдаленный район, похожий на деревню. Летом — из-за обилия садов. Осенью — из-за грязи, подолгу не высыхающих луж — ни пройти, ни проехать.
Ну да осенью Алешке и ходить особенно некуда. Только в школу — начальную трехклассную. А она от дома неподалеку.
Ученье давалось Алешке легко, свободного времени хоть отбавляй!
Как-то после уроков он оказался возле каморки старика учителя. Дверь была приоткрыта. Алешка заглянул в каморку и глазам не поверил: учитель рисовал.
С тех пор Алешка часами торчал за спиной учителя; следил, как он трясущимися руками срисовывал из журналов картинки: незатейливые морские виды, багровое солнце, поднимающееся из-за гор.
Поначалу учительские картинки казались Алешке недостижимым мастерством: «Где уж мне так!» Потом осмелел.
Однажды пришел к учителю, что-то пряча за спиной. Постоял, переминаясь с ноги на ногу, и, решившись наконец, положил на стол свернутые трубкой листы бумаги.
Учитель развернул их, расправил, разложил на столе — ловко срисованные рассветы, закаты, бури на море.
— Алешенька! Шикарно! — просиял старик. — Тебе б по художеству пойти!
Учитель сказал то, в чем Алешка сам себе не решался признаться, но о чем втайне мечтал. После учительского одобрения ему вдвойне не хотелось отказываться от ненавистного отцу «художества».
Только вот как сломить его упрямство?
Алешка знал, что учитель сбывал рисунки — какие получше — на толкучке. Как-то старик похвастался выручкой: смотри, мол, не зря время трачу.
«Что, если и мне попробовать? — подумал Алешка. — Пожалуй, отец раздобрится, перестанет считать рисование пустым делом!»
Только как за это взяться? С чего начать?
О том, чтобы сразу отправиться с картинками на толкучку, Алешка и подумать не мог — боязно. Еще осрамишься, чего доброго, на смех подымут.
Он решил сначала пойти приглядеться…
На толкучке у Проломных ворот Китай-города он и встретился с Сашей Воробьевым, «Воробьем», как чуть не с первого дня знакомства окрестил его Алешка.
Теперь они и сами бы не сказали, кто кого первый приметил. То ли Воробей обратил внимание на голенастого Алешку в больших, не по росту сапогах — отцовские донашивал. То ли Алешка на тщедушного Воробья — он сидел на земле у самой стены и уплетал кашу из железной миски.
Паренек опорожнил миску, пересчитал оставшиеся «грошики» и подмигнул Алешке:
— Айда чаевничать!
Ребята гляделись в натертый до блеска самовар, как в зеркало, — и покатывались от смеха. Уж очень они там смешно выглядели.
Потом отправились глазеть на товары, выставленные в бесчисленных лавчонках, а то и разложенные прямо на земле: диковинные подсвечники, старые книги, невесть какой давней моды одежда, засиженные мухами литографии.
Допоздна ребята бродили по городу, толкуя о том, о сем. Напоследок уговорились снова встретиться.
В этот день Алешка узнал о своем новом друге не так уж много.
Правда, Воробей рассказал, что в Москве у него никого нет — приехал из деревни: страсть как хотел взяться за учение. Но о том, куда поступил учиться, ни словом не обмолвился. И Алешке не пришло в голову спросить.
О том, что Воробей состоит воспитанником Училища живописи, живет помощью — не слишком щедрой! — господ-попечителей, Алешка узнал позднее. И с этого дня давние надежды перестали ему казаться такими несбыточными. Воробью тоже нелегко пришлось, а вот добился-таки своего! Чем же он хуже? Может, и ему посчастливится!
Правда, в свой план Алешка друга не посвятил. Если получится, можно и рассказать. А пока ни к чему…
Алешка не мешкая взялся за дело. Забрался на чердак, подальше от отцовских глаз, и принялся срисовывать журнальные картинки. Рисовал гуашью — красками, похожими на акварель, но более плотными, непрозрачными из-за добавленных в них белил.
Когда все было готово, Алешка свернул картинки трубочкой и, заранее робея — как-то все обернется? — отправился на толкучку. Но продал картинки не там, а в лавчонке на Никольской улице. Так долго толокся перед глазами торговца, что тот сам его спросил:
— Что там у тебя?
Торговцу книгами приглянулись три рисунка: «Рассвет», «Закат» и «Извержение Везувия».
Он бросил на прилавок несколько монет. Алешка, не считая, сгреб серебро в ладонь и выбежал на улицу.
Если бы отец был дома, Алешка, пожалуй, тут же все ему и выложил. Но отец все не приходил. И Алешку стали одолевать сомненья: так ли все получится, как он предполагал, не рассердится ли отец? И посоветоваться не с кем…
Алешкина мать умерла около трех лет назад. А до этого долго болела. В памяти остались бледное, уставшее от боли лицо, тонкие, лежащие поверх одеяла руки. Да еще словечко, которое мать произносила, грустно улыбаясь, а отец резко, осуждающе: «Непутевый!»
Мачеху Алешка встретил, потупив глаза: ждал плохого. Но быстро оттаял. Татьяна Ивановна была заботлива и улыбчива. Да и отец как-то помягчел. Словно светлее стало в доме с приходом Татьяны Ивановны.
Алешка, недолго думая, рассказал о своей коммерции мачехе.
Татьяна Ивановна слушала внимательно. Потом пересчитала Алешкин доход. Кое-какую мелочишку ему выделила. Остальное спрятала.
— Пока от отца в секрете держать будем.
У Алешки радостно екнуло сердце: вот как все ладно обернулось! Теперь будет у него в доме союзник, с которым можно всем поделиться. И он — уж выкладывать, так все до конца! — рассказал мачехе и о своем новом дружке: как познакомились, где учится — все, что сам знал.
— Что же в дом-то не пригласил? — укоризненно покачала головой Татьяна Ивановна.
Алешка об этом и думать не смел. Все это время они с Воробьем встречались в каком-нибудь условном месте: в соседском дворе, на Яузской плотине. А если Воробей появлялся в Гончарах нежданно-негаданно — вызывал Алешку свистом. А теперь Воробей сможет просто взять и прийти. Тут было чему порадоваться!
Уже на следующий день Алешка затащил Воробья к себе.
Поначалу Воробей сидел словно аршин проглотил. Будто боялся, что его вот-вот выставят. Но Татьяна Ивановна была к нему так внимательна, с таким радушием следила, чтоб не пустовала его тарелка, что Воробей осмелел, заулыбался…
Алешкин дружок чуть не каждый день стал бывать в Гончарах. Правда, в отсутствие Кондратия Артемьевича…
А сегодня, то ли отец вернулся раньше обычного, то ли заболтались друзья — не заметили, как на лестнице послышались тяжелые шаги Кондратия Артемьевича. Алешка начал было строить планы, как Воробью незаметно выбраться на улицу, но Татьяна Ивановна позвала мальчиков к столу.
Ребята переглянулись, словно их застали на месте преступления, и, подталкивая друг друга, двинулись в столовую.
— У нас сегодня Алешенькин дружок, — сообщила Татьяна Ивановна мужу.
Кондратий Артемьевич метнул на Воробья острый взгляд из-под густых бровей и занялся едой, однако то и дело посматривал на гостя, словно изучая его.
Воробей опустил глаза в тарелку. У Алешки душа в пятки ушла.
Только Татьяна Ивановна как ни в чем не бывало потчевала всех, рассказывала о том, как нелегко приходится Алешкиному дружку — никого из близких нет в Москве. Потом, будто ненароком, сообщила, что недавно Алеша ездил с ним в Сокольники рисовать.
— Попусту время тратил! — заметил отец.
— У Алеши талант. Ему учиться надо, — вступился за друга Воробей.
Татьяна Ивановна поддержала гостя: учитель-де говорит, что надо бы Алешеньку определить в рисовальные классы.
— Не будет этого — и никаких! — вскипел Кондратий Артемьевич.
И пошла баталия…
Алешка не заметил, как Воробей поднялся из-за стола, вышел из комнаты. Опамятовался только, когда хлопнула входная дверь, — выбежал следом. Да поздно: дружка и след простыл…
Алешка сидел и смотрел на воду, на отражающиеся в ней облачка. Если бы не ветка, кем-то брошенная в реку, казалось бы, что вода стоит на месте.
Уже стемнело, когда он направился к дому. Постоял у двери — тихо.
Алешка незаметно прошмыгнул в свой закуток. Через несколько минут к нему заглянула Татьяна Ивановна:
— Завтра приведи Сашу: мы перед ним виноваты.
Искать Воробья не пришлось: на следующий день сам заявился. Хотел было улыбнуться, не получилось:
— Надо же мне было сказать такое!
— Подумаешь! — отмахнулся Алешка. — Отец и без тебя нашел бы, к чему прицепиться.
Воробей бросил на друга внимательный взгляд, словно проверяя, действительно ли он не винит его. И, очевидно, успокоившись, спросил:
— Что теперь делать-то будешь?
Алешка ответил не сразу.
Воробей к его коммерции относился неодобрительно: надо учиться, а не картинками торговать! А Алешка решил опять взяться за старое. Только заготовить картинок побольше, чтобы выручка была повнушительней. Может, тогда отец и смягчится.
— Чем его еще проймешь?
Воробей только вздохнул в ответ. Да и что он мог сказать? Попробовал замолвить за друга словечко — вот что получилось. Видно, в самом деле больше ничего не остается.
Алешка запасся бумагой и красками и принялся за работу — все свободное время пропадал на чердаке, к обеду, ужину — не допросишься. Поест наскоро и опять за свое.
Татьяна Ивановна ни о чем не спрашивала. Только с беспокойством посматривала на своего Алешеньку: не заболеть бы ему.
Когда Алешка укладывался спать, до него доносились тихие голоса родителей.
Больше говорила мачеха: «Надо решать с сыном, а то он извелся совсем. Да и не маленький уже — тринадцать лет стукнуло».
Отец отмалчивался или старался отделаться ничего не значащими словами: «Посмотрим», «Там видно будет».
А мачеха опять за свое…
Но в этот вечер Алешка не прислушивался к разговору в столовой. Он думал о завтрашнем дне: его работа подошла к концу.
Утром он свернул картинки поаккуратней и, выждав удобную минуту, выскользнул из дому.
На Никольской поджидал Воробей. Он вызвался сопровождать Алешку: вдвоем как-то сподручней.
Торговец встретил Алешку запросто: «Показывай свои творения!» Но взял только пять картинок. Оставалось еще семь. Их сбыли в розницу на толкучке.
Когда Кондратий Артемьевич уселся на свое раз и навсегда утвержденное место, Алешка выскочил из закутка и положил рядом с отцовской тарелкой смятую кредитку и горсть серебра:
— Вот! — сказал он срывающимся голосом. — За рисунки дали!
Татьяна Ивановна ахнула, чуть не выронила тарелку. Отец расхохотался, да так, что слезы из глаз:
— Ой, матушки, из мортир палят!
Потом примолк, застучал по столу большими узловатыми пальцами.
— Ладно, будь по-твоему, — сказал он наконец. — Маменьку благодари: уж больно за тебя ратовала…
И, не то осуждая Алешку, не то прощаясь со своими надеждами, еле слышно добавил: «Непутевый!»
Из первого биографического очерка о А. К. Саврасове, 1894 г.«Двенадцатилетнего Алешу Саврасова мы уже находим в Москве, так сказать, „самостоятельным художником“; так или иначе, а рисовать он к этому времени научился сам, без всяких руководителей, настолько, что рисунки его, большей частью гуашные, торговцы на Ильинской и Никольской, продававшие под воротами дешевые картинки, брали очень охотно (конечно, по крайне дешевым ценам) и считали их „ходовым товаром“».
А. Солмонов
Из протокола совета Московского художественного общества от 10 апреля 1844 года«Нижеследующие, вновь вступившие в Училище живописи ученики, внесли за себя согласно уставу…
Купеческий сын Алексей Кондратьевич Саврасов за 9 месяцев — с апреля по январь — 13 рублей 50 копеек серебром».
Особняк с колоннами
Карл Иванович прошелся по просторному, сияющему чистотой классу и, очевидно довольный осмотром, направился к выходу. Ученики гурьбой двинулись за ним. И Алешка, конечно, тут как тут. В дни, когда собирались всем классом, преподавателя шли провожать — так уж повелось.
На последней ступеньке лестницы Карл Иванович остановился и, сокрушенно покачивая головой, стал шарить в карманах сюртука.
Один из учеников бросился искать пропажу. Вслед ему летели советы, где она может оказаться.
Когда очки, наконец, были найдены, Карл Иванович уже стоял возле извозчика.
— Подсчитать бы, в который раз они возвращаются ко мне, — пошутил Карл Иванович и плотнее стянул толстый шерстяной шарф.
Извозчик покатил вниз по Мясницкой, а ученики все не расходились, гадая, что да как будет завтра…
Давно ли кажется Алешка впервые распахнул дверь особняка с колоннами? А теперь все ему здесь знакомо, как знакомы бесчисленные истории о житье-бытье Училища живописи.
Училище учредили всего за двенадцать лет до того, как туда поступил Алексей Саврасов, — в 1832 году. Душой дела был молодой художник Егор Иванович Маковский, объединивший кружок любителей живописи.
Но средствами они не располагали. Пришлось обратиться за помощью к людям состоятельным. Установили ежемесячные взносы. Кое-какие возможности открылись. Однако средств постоянно не хватало. То и дело приходилось обращаться за помощью к попечителям.
Один жертвовал гравюру, другой — ковер для натурщика, третий — гипсовый слепок головы бога Аполлона. А то и давал на временное пользование. Сегодня бюст стоял в классе — ученики его рисовали. Назавтра исчезал: к его владельцу съезжались гости, и бюст должен был занять положенное ему место где-нибудь в гостиной.
Изрядно намучились и с освещением. Какие занятия, если в классах сумрачно!
Наконец заказали сварить из железа люстру на двенадцать рожков. Света она должна была давать много. Да не учли ее веса. Едва подвесили — лампа сорвалась с крюка. Хорошо, что все, кто был рядом, вовремя отскочили…
За что ни возьмись, все давалось с трудом. Но особенно трудно было с помещением. В одном месте помешал обосноваться пожар, в другом — неуплата долгов, в третьем еще какая-нибудь оказия. И опять приходилось перебираться на новое место. С Ильинки перекочевали на Лубянскую площадь, оттуда — на Никитскую. С Никитской — к Страстному монастырю. Немало адресов переменило Училище, прежде чем присмотрели этот особняк с колоннами на Мясницкой.
У промотавшегося владельца особняк стоял в запустении. Долгое время в нем никто не жил. Новые хозяева, насколько позволяли средства, привели помещение в божеский вид — отремонтировали два зала, парадную лестницу.
Но долго еще не забывались слухи, родившиеся в то время, когда дом пустовал. В ту пору прохожие обходили его стороной, с опаской поглядывая на темные окна: поговаривали, что там живут черти.
Кондратий Артемьевич не преминул позлословить на этот счет, хоть и дал свое согласие на поступление сына в Училище и даже купил ему по этому случаю новую фуражку с кожаным козырьком. В глубине души Саврасов-отец надеялся, что Алешка не выдержит экзамена: ну какие такие таланты могли у него обнаружиться!
Но его надежды не оправдались. Алешкины способности были слишком очевидны, чтобы их не заметить. А больше от поступающего, по существу, ничего не требовалось. Достаточно было уметь читать-писать да разбираться в четырех арифметических действиях.
Программа общеобразовательных предметов в Училище была слаба. Да многие и смотрели на образование, как на пустяки, — умел бы владеть кистью. Сложилось это мнение невесть когда, и пошатнуть его было нелегко.
Алешка поступил в Училище в удачную пору. Только что приняли новый устав — учебная программа расширилась, приблизилась к программе, принятой в петербургской Академии художеств. Если раньше преподавание ограничивалось рисованием с натуры и копированием масляными красками, то теперь были введены скульптура, анатомия, пейзажная живопись и изучение перспективы.
Для ведения курса пейзажной живописи в Училище пригласили Карла Ивановича Рабуса.
Алешка узнал об этом от Воробья. Он был в курсе нововведений, хоть и поступил в натурный класс.
Однажды при Алешкином друге кто-то из «стариков» Училища расписывал достоинства Рабуса: с его мнением считаются первостатейные художники; он, пожалуй, самый образованный среди живописцев, дома у него обширнейшая библиотека, а на крыше маленькая обсерватория.
Воробей поспешил все пересказать Алешке. Вот, дескать, как тебе посчастливилось — к такому преподавателю попадешь!
Воробей хотел обрадовать Алешку. А у того душа в пятки ушла: как на экзамен идти к такому человеку — осрамишься, провалишься.
Но едва увидел Карла Ивановича — страхи забылись. Все в нем Алешке понравилось: и внимание, и спокойная доброжелательность, и даже смешная привычка снимать и надевать очки во время разговора.
Впрочем, Карл Иванович не любитель длинных разговоров. Его первая заповедь — ни дня без рисунка.
Поначалу в классе копировали эстампы — отпечатки гравюр. Чаще всего ставили пейзажи модного швейцарского художника Калама. Ландшафт у него всегда красив, перспектива точна. Все будто говорит: вот каковы законы «живописания природы».
Алешка старается усвоить эти законы. Но картины его не трогают, все, что на них изображено, кажется ему каким-то обманным, неподлинным, будто на самом деле все не совсем так. А может быть, просто набил оскомину, срисовывая журнальные картинки?..
Порой, сам того не замечая, Алешка начинает нарушать правильность ландшафта — привносит в неё что-то свое, пусть не такое складное, но живое, притягательное для Алешки, как притягательны поросшие травой низкие берега Москвы-реки.
Карл Иванович не порицал Алешкиных устремлений. Хоть в Академии его учили, что идеальный пейзаж должен быть далек от «грязной» обыденности, Рабус слишком предан искусству, чтобы рабски следовать привычным канонам. Слишком любит природу, чтобы отбросить прелесть скромного, обычного для глаза пейзажа.
Рабус не устает повторять: «Природа — наш первый учитель». А для того, чтобы живописать ландшафт, надо знать природу. У каждого дерева свой рисунок коры, свой цвет, даже ветви растут по-своему.
Карл Иванович изготовил для учеников рисунки пород деревьев, видов коры, кроны. Вот веточка, как будто погибла, вот появились едва заметные зеленые побеги — снова пробудилась к жизни.
В теплые дни Карл Иванович — он боится простуды — отправляется со своими питомцами за город писать с натуры.
О поездке Карл Иванович сообщает накануне: надо заранее договориться с возницей, чтобы ранним утром подъехал к Училищу.
Карлу Ивановичу отводится лучшее место, рядом с возницей: здесь не так трясет. В распоряжении учеников вся телега — и поехали! Куда-нибудь в Сокольники или на крутой берег Москвы-реки, откуда бы красовались сияющие вдали маковки кремля…
— Вбирайте в себя дыхание природы, — говорит Рабус, посматривая на работу учеников. — Прислушивайтесь к ее подсказке: она не обманет.
Но, оказывается, не так просто перенести на бумагу то, что видишь. Так и просится заученное, виденное на какой-то гравюре или картине.
И все-таки сквозь привычное, усвоенное проглядывает только что увиденное, подмеченное.
Вот эту способность видеть и, что, пожалуй, еще более важно, чувствовать природу, сразу усмотрел у Алешки Карл Иванович. Пожалуй, поэтому он так и требователен к нему. У Алешки есть свое, пусть еще скованное, неумелое, но есть, а это уже половина дела.
Но и у Алешки не всегда получается то, что надо. В такие дни он возвращается домой хмурый. И Татьяна Ивановна не слышит привычное: «Карл Иванович сказал… Карл Иванович сделал». Сама спросит — пасынок буркнет что-то невразумительное и спешит в свой закуток.
— У Алешеньки нелады, — сообщает Татьяна Ивановна мужу.
Кондратий Артемьевич вздыхает, будто огорчается. А сам думает: «Может, не все еще потеряно? Может, все эти „художества“ — просто мальчишеское увлечение? Пройдет время — отшумит, забудется…»
Но Алешка настойчив. То, что не получалось, становится достижимым — самому странно, как это не мог справиться с таким пустяком. Шаг за шагом постигаются законы «живописания природы».
А в отчетах Рабуса появляются скупые строки, говорящие о недюжинных успехах Алексея Саврасова. То он значится, как один из учеников, представивших лучшие эскизы, то его работа отмечается при выполнении заданных сюжетов по пейзажной живописи.
Воробей уже не раз сокрушался по этому поводу. Ему казалось, что Алешку хвалят чересчур часто, — это его может испортить. На правах старшего — все-таки год разницы! — он не переставал заботиться о своем друге.
Однажды Воробей даже рискнул сказать о своих сомнениях Карлу Ивановичу.
— Ваш друг заслуживает одобрения, — улыбнулся Рабус. Он давно понял, что застенчивому Алешке похвалы только прибавляют уверенности в своих силах. — Если хотите в этом убедиться, приходите на занятия. Милости просим!
В Училище давно поговаривали о выставке ученических работ, открытой для всех, кто интересуется живописью. Остановка, как и во всех начинаниях, была только в нехватке средств. Прежде чем удастся их раздобыть, пройдет немало времени.
Ну а пока Рабус решил открыть двери класса для всех учеников Училища — пусть приходят на обсуждение классных работ. Их авторам полезно услышать мнение товарищей.
Готовились к этому дню все. Надо было навести чистоту и порядок, и ученические работы развесить так, чтобы каждая заняла положенное ей место там, где лучше всего смотрится.
Наконец все готово.
Алешка ждал этого дня с нетерпением. Но когда ранним утром пришел в еще пустой класс посмотреть на «ландшафт Алексея Саврасова», недавней радости как не бывало. Алешка смотрел и не узнавал своей работы, будто ее подменили. Раньше все казалось ярче, законченнее. А сейчас виделись одни просчеты. И это надо бы убрать, и здесь исправить. Ну хоть беги к Карлу Ивановичу, проси снять картину!
«Работая программу на выпуск, Рабус имел кабинет рядом с Карлом Брюлловым; обоюдные советы, замечания сопровождали их работы; в один день они были выпущены из Академии, и оба получили золотые медали…
Как преподаватель Рабус был неоценим; глубокое знание и ясность мысли сообщали и ясность способу его изложения; он научал, увлекая слушающих, и не только ученики, но и опытные художники дорожили его советами… Курс его перспективы со многими подробными, большого размера рисунками любопытнейших сложных задач представлял плод собственных его соображений и необыкновенного развитого ума…»
Н. Рамазановскульптор и художественный критик
Возвращение
Когда Алексей поднялся из-за стола и направился к выходу, Татьяна Ивановна всплеснула руками:
— Ну вот! Только приехал — и уже уходить собрался! — Но поняв, что его не удержишь, сдалась: — Ладно уж, иди, коли не терпится…
Алексей спустился по шатким ступеням лестницы, остановился: как давно не был он здесь!
Весной, после окончания занятий в Училище живописи, ученики разъезжались кто куда — набираться новых впечатлений, самостоятельно работать на натуре. Алексей Саврасов отправился на любимую Карлом Ивановичем Украину, или, как тогда говорили, в Малороссию.
На тряской телеге колесил он по пыльным проселкам, вглядываясь в бескрайние ковыльные степи, останавливался в белых украинских селах, хуторах, окруженных кудрявыми рощами.
Все здесь было иное, словно другое солнце светило: краски сочнее, ярче, тени гуще. И южная ночь совсем не та, что опускалась над Гончарами.
Первое время Алексей лишь смотрел, словно боясь пропустить что-то из этого обилия нового. А потом с жадностью принялся за работу, заполняя альбомы и листы эскизами, набросками, зарисовками.
И все-таки в конце поездки потянуло назад, как из гостей, даже самых приятных, тянет домой.
Шагая по тихой московской улочке, Алексей с радостью и вместе с тем с удивлением смотрел на уже тронутую осенней желтизной листву, на еще не высохшую после недавнего дождя землю, на поблескивающие на солнце лужицы, словно сам не знал, как все это дорого для него.
Как-то само собой получилось, что, побродив вдоль Москвы-реки, Алексей направился на Мясницкую, подошел к Училищу. Заходить не имело смысла — там сейчас никого не было.
Потоптавшись взад и вперед возле особняка с колоннами, Алексей — минуту назад он сам не предполагал, что решится на это, — направился к Константину Герцу.
С Костей они дружили со дня поступления в Училище: вместе пришли на экзамен. И потом часто вместе проводили время. Когда всем классом отправлялись на натуру, садились рядом на задок телеги — это их постоянное место. А потом, устроившись по-соседству, писали этюды.
Но хоть Костя жил рядом с Училищем, в доме возле Меншиковой башни, и не раз приглашал приятеля зайти, Алешка под всякими предлогами отказывался. Он никогда не был боек в общении с людьми. А тут вдвойне робел. Его смущали Костины сестры. Особенно Софья — они познакомились на ученической выставке. После долгих хлопот выставка все-таки состоялась. Собрать необходимые средства помогла лотерея. Билеты распространяли ученики: обращались к состоятельным людям, стучались в двери редакций. На открытие выставки пришли и Костины сестры: Софья и Эрнестина.
Алексей, вспомнив о неловкости, которую испытал тогда, в нерешительности остановился у ограды дома. Пожалуй, он повернул бы обратно, если бы Костя не заметил его из окна:
— Я уж думал не увидимся до начала занятий!
Эрнестина встретила Алексея как старого знакомого.
— Какой загорелый! — ахала она, смешно морща веснушчатый носик. — Ну прямо малороссийский парубок! Садитесь и рассказывайте.
Алексей собрался было что-то сказать, но так и не сказал, — стал рассматривать висящие на стенах гравюры, картины в золоченых рамах.
— Ну что же вы! — напомнила Эрнестина.
— Не терзай человека, — вступился Костя и с таким дружелюбием посмотрел на Алексея, что тот сразу почувствовал себя свободнее.
Подсел к столу и стал рассказывать о том, что повидал в Киеве, на Днепре и у моря, в Одессе. Поначалу вышло не слишком складно, потом разговорился.
Но тут в комнату вошла Софья, и Алексей снова не знал, что говорить и куда девать руки.
Софья принялась разливать чай. Выражение строгой сдержанности не исчезало с ее лица, даже когда она улыбалась.
Алексей осторожно поднимал розовую чашечку и с такой же осторожностью опускал, стараясь не расплескать чай на блюдце.
Софью интересовала Одесса:
— Говорят, это русская Италия.
Алексей пожал плечами: он в Италии не был. В памяти осталась степь под Одессой, саженый малорослый лес…
— А море?
— Море… Такое же, как у Айвазовского, — не задумываясь, ответил Алексей.
Заговорили о живописце, который с таким мастерством изображает морскую стихию. Софья пожалела, что они лишены общества старшего брата Карла — живет за границей. Он человек не только высокообразованный — окончил Практическую академию, потом университет, — но и весьма сведущий в искусстве. Насколько ей известно, Карл высоко ставит Айвазовского — мог бы много о нем рассказать.
Наступило молчание. Алексей занялся чаем.
Но тут Костя вспомнил о Саше Воробьеве: кажется, он тоже в отъезде?
Алексей кивнул.
— Это правда, что он из крепостных? — поинтересовалась Эрнестина.
— Вольноотпущенный, — уточнил Алексей.
В отличие от чопорной и строгой петербургской Академии художеств в Московское училище принимались люди различных сословий, включая крепостных. Об этом нововведении не переставали говорить, его называли «смелым», «многообещающим»…
Тем не менее детям бедняков жилось трудно: на попечительское пособие не разойдешься.
Воробью нередко приходилось довольствоваться припасенным куском хлеба. Да и в родной деревне, куда он отправился на лето, наверное, было не легче.
— Как это печально! — посетовала Эрнестина на положение Саши.
Софья вздохнула.
Алексей, чувствуя, что сейчас снова наступит тягостное молчание, поднялся. Костя вызвался его проводить.
Едва они вышли на улицу, радость возвращения снова вернулась к Алексею. Да и Костя повеселел. Они разом заговорили, засыпая друг друга вопросами. Костя расспрашивал об учениках, с которыми путешествовал Алексей по Украине, — они отправились втроем. Алексею не терпелось узнать, что сделал Костя за лето, — он собирался писать этюды в Подмосковье. Потом вспомнили Карла Ивановича. Вот бы еще разок побывать у него на Садовой!
Перед отъездом Алексея они были приглашены к Рабусу на традиционную «субботу», когда у Карла Ивановича собирались художники, актеры, ученые. О чем только здесь не спорили, каких только вопросов не касались!
В тот раз Карл Иванович завел речь о том, как много сделала русская литература для познания родной природы. Одно за другим назывались имена писателей и поэтов. Но первое место отводилось Николаю Васильевичу Гоголю.
— Вот кто открыл для нас очарование природы Малороссии. Вы только послушайте!
Карл Иванович раскрыл «Вечера на хуторе близ Диканьки»…
В ту пору это было выдающееся произведение современности. Его привлекательность для художников была ни с чем не сравнима.
Карл Иванович читал и посматривал на забившегося в угол Алексея, словно именно для него раскрыл книгу.
Затем горестно вздохнул:
— А живопись, к сожалению, все еще не стала по-настоящему русской. Утешаемся видами Италии…
Потом кто-то сел за фортепьяно. Все притихли. Карл Иванович, осторожно ступая, чтобы не помешать музыканту, подошел к полке с книгами, взял большой плюшевый альбом. После каждой «субботы» там появлялись шуточные портреты гостей, мастерски сделанные рукой хозяина.
А Алексей все еще думал о том, что сказал его наставник, — действительно, до сих пор утешаемся заморскими красивостями. Не раз он вспоминал об этом разговоре и в поездке…
И вдруг Алексей заволновался: как-то Карл Иванович отнесется к его летним работам?
Задумчивые, широко расставленные глаза Кости смотрели на него с удивлением. Он был уверен в удаче друга.
— Удача приходит к тому, кто на нее не надеется! — ответил Алексей любимым изречением Карла Ивановича.
Рабус приучал учеников надеяться лишь на отменное изучение природы и своего ремесла, тут он был не только требователен, но даже придирчив.
Очевидно, это и породило ту смелость в работе с натуры, которая отличала все выполненное Алексеем за лето. Особенно это было заметно в карандашном наброске, сделанном в Киеве, — вид от одной из приднепровских балок в сторону Киево-Печерской лавры. Конечно, в нем не было той завершенности, которой отличались классные работы, — набросок есть набросок. Но зато появились свобода, уверенность, четкость рисунка.
Но все это будет сказано потом.
А в тот вечер Алексей не мог отделаться от чувства неуверенности. Оно не оставляло его и на следующий день, когда Карл Иванович после приветствий и расспросов надел очки и выжидательно посмотрел на потрепанную Алешкину папку с летними работами:
— Ну, показывай, что привез!
«Камень у маленького ручья»
Ученическая пора подходила к концу. Алексею предстояло готовиться к выходу на самостоятельную дорогу. А это было делом хлопотным. Училище пока что не имело права присуждать своим воспитанникам медали и звания. Ученические работы отсылались в Петербург, в Академию художеств. Совет Академии их рассматривал и решал: достоин ли живописец получить первое академическое звание.
А перед этим надо было еще выполнить целый ряд формальностей. И прежде всего доказать свое «свободное состояние» — получить увольнительное свидетельство от Московского купеческого общества, за которым все еще числился Алексей Саврасов.
Но не он сам должен был об этом хлопотать, а отец.
Еще год назад Алексей перед этим обязательно пошептался бы с мачехой: попросил ее подготовить Кондратия Артемьевича.
Теперь можно было обойтись и без этого. Отец смирился с выбором сына, перестал надеяться, что какая-нибудь случайность отвратит его от «художества».
Кондратий Артемьевич спокойно выслушал просьбу сына и на другой же день начал хлопоты о получении нужной бумаги. Будет ли, нет ли увольнительная, для него уже не имело значения: фактически сын давно поступил по «ученой части».
— Ответ не завтра жди! — единственно о чем предупредил он сына, зная, как долго тянутся такие дела.
Но Алексея это не тревожило. Его мысли были заняты главным: какие работы он представит в Академию?
Конечно, время еще есть. Но и картина создается не сразу. Это итог раздумий и поисков, многочисленных зарисовок, набросков, эскизов.
Излюбленная натура Алексея — вот она: подмосковные рощи, живописные берега Москвы-реки. Но в Академию нужно представить две работы. Хорошо бы различные по выбору темы, настроению. Для этого надо бы поехать куда-нибудь, набраться новых впечатлений, найти натуру, не только впечатляющую, но и близкую живописцу.
Училище помочь в этом не могло — опять все упиралось в недостаток средств. Оставалось одно: надеяться на помощь попечителей, любителей искусства или желающих прослыть таковыми. Конечно, зависеть от случайных мнений и вкусов нелегко и унизительно, но больше ничего не оставалось.
Мало того — начинающий художник порой был вынужден искать поддержку, приходить за помощью к людям состоятельным: не желаете ли иметь портрет супруги или дочери, приобрести картину для украшения гостиной?
Если художник отказывался от такого пути — часто ему приходилось отказываться и от своих замыслов.
Саврасову как будто ничего подобного не грозило.
Выставку летних ученических работ посетил генерал Лужин. Прошел взад и вперед по залу, поскрипывая сапогами. Остановился перед саврасовским ландшафтом «Вид Харькова с Холодной горы», посмотрел вблизи, посмотрел издали, двинулся к «Мельнице на Днепре». Потом вернулся к первому ландшафту. Снова посмотрел вблизи, посмотрел издали и высказал желание приобрести картину.
Карл Иванович был этим весьма обрадован, хотя и не считал его превосходительство тонким ценителем искусства. Рабус знал, как необходима поддержка его питомцу в период завершения ученичества, тем более, что к пейзажу многие до сих пор относились, как к второстепенному жанру. Карл Иванович не упускал случая воздать должное возможностям живописания природы. Он не преминул сделать это и сейчас.
Генерал весьма благожелательно выслушал его. И, уходя, сказал:
— Пусть-ка ваш юноша попишет свои ландшафты в моем подмосковном имении.
В тот же вечер Карл Иванович сообщил своему питомцу о приглашении.
У Алексея отлегло от сердца. Главная забота отпала: вот они, новые впечатления, новая натура, возможность спокойно работать!
Однако дни проходили за днями, отцовские хлопоты, как ни долго блуждали бумаги по инстанциям, благополучно завершились, а от его превосходительства не было ни слуха ни духа. Саврасову то и дело кто-нибудь доверительно сообщал, как живописна природа генеральского имения, или интересовался, когда Алексей собирается ехать. А он уже стал сомневаться, стоит ли принимать всерьез приглашение.
В конце концов Алексей решил, что о поездке не стоит и думать: видно, забыл генерал о своем обещании.
И вдруг ему сообщили, что Лужин просит его пожаловать к нему.
Во время разговора с его превосходительством Алексей то и дело посматривал на свой «ландшафт» — он красовался как раз напротив. Вероятно, из-за того, что пейзаж висел в изысканно обставленном кабинете, да еще в золоченой раме, он казался каким-то другим. Словно это и не он, Саврасов, писал его.
Генерал перехватил взгляд Алексея. Но расценил по-своему:
— В моем имении вы увидите куда более живописные места.
Но заговорил о своей псарне — генерал был страстным охотником и не мог отказать себе в удовольствии поделиться тем, что тешило его тщеславие. Только после этого он принялся расписывать красоты своего поместья.
Генерал начал с аллеи, ведущей к усадьбе. Потом перешел на раздольные поля и луга — не скупился на описания…
Но ни разу не упомянул об огромном, поросшем мхом камне-валуне в лесной глуши возле ручья.
Валун сразу завладел воображением Алексея. Каменная глыба казалась вестником давно минувших времен. И потом этот притихший лес, склонившиеся над камнем деревья…
Вот что он будет писать!
Саврасов так и назвал натурный этюд, который решил представить на суд совета Академии: «Камень у маленького ручья».
В совет императорской Академии художеств ученика Московского училища живописи и ваяния Алексея Саврасова
ПрошениеПредставляя при сем два написанных мною с натуры вида, всепокорнейше прошу совет императорской Академии художеств удостоить меня звания художника по живописи ландшафтной. При сем имею честь представить документы о свободном состоянии и свидетельство, что представленные мною картины произведены мною без посторонней помощи.
Алексей Саврасов
СвидетельствоУчилище живописи и ваяния Московского художественного общества ученику Алексею Кондратьевичу Саврасову в том, что представляемые им в императорскую Академию художеств вид Московского Кремля при восходе луны и этюд ландшафта «Камень у маленького ручья» с натуры действительно писаны им самим без другого личного пособия, в чем и удостоверяем подписями:
Академик Василий ДобровольскийАкадемик Михаил СкоттиАкадемик Карл РабусМосква, август 24 дня 1850 года
Портрет
Алексей посмотрел на промокшего насквозь Воробья и пожалел, что не уговорил его взять извозчика.
— Продрог?
— Не сахарный!
Воробей так весело улыбнулся, что Алексей на какое-то мгновенье успокоился: может, и в самом деле ему полегчало. Или не хочет досаждать своими невзгодами…
Друзья поднялись по лестнице в выставочный зал, когда там еще никого не было, как приходили в пору ученичества. И, как тогда, перед последней встречей со своими работами «с глазу на глаз», их охватила робость. Вдруг обнаружится какой-то просчет, подумается, что не стоило выставлять.
Алексей остановился возле воробьевской акварели. Воробей уже несколько раз брался за портрет друга, да все как-то не удавалось довести работу до конца. И тут начал мимоходом, почти нежданно для самого себя.
Открытое лицо, щеки, припушенные бачками. Задумчивые, пожалуй, даже печальные глаза.
Здесь, на стене выставочного зала, портрет выглядел как-то иначе, словно появилось в нем что-то ранее незаметное.
— Смотри-ка ты! — буркнул Алексей.
Кажется, совсем недавно долговязый Алешка продавал картинки у Ильинских ворот — и вот на тебе!
Алексей с Воробьем в тот же год закончили Училище. И на торжественном совете, когда Рабус приветствовал «молодых господ живописцев», сидели рядом. Слушали речи, в которых отмечалось дарование портретиста Воробьева, говорилось о том, что Саврасов «хорош в знании ландшафтной живописи и, надо надеяться, и в дальнейшем проявит себя на славном поприще». Друзья принимали поздравления и поздравляли друг друга: как же — получили аттестат неклассного художника!
Правда, через несколько дней они должны были расстаться: Воробью предстояло отправиться в Вологодскую губернию.
Начинающему художнику трудно было выбиться в люди. А художнику-акварелисту вдвойне. Акварель не в чести у людей состоятельных. Надеяться на то, что заказов будет достаточно, не приходилось. Да и платили за работу гроши.
Многие из окончивших Училище жили впроголодь или приискивали себе какое-нибудь другое занятие.
Воробей еще в годы учебы нередко говаривал, что и ему больше ничего не останется. Так и случилось. Ему пришлось принять должность учителя чистописания. Пусть небольшие, но зато верные деньги.
Уезжал Воробей, полный радостных надежд: должность не так уж плоха. К тому же ему верилось, что он сможет продолжать заниматься живописью.
Поначалу, судя по письмам, все шло, как надо: «Трудностей немало, но как-нибудь одолею». Потом бодрости поубавилось. И в конце концов Воробей, уже не таясь, писал, что все сложилось не так, как предполагал, ужасался царящей вокруг нуждой и невежеством.
Не писал он только о том, что ко всем его бедам прибавилась болезнь. Об этом узнали, только когда исхудавший и во всем изверившийся Воробей вернулся в Москву.
Несколько дней он прожил в Гончарах. Потом поехал в родную деревню: «набраться сил», как он сам сказал.
Но сил не прибавилось. Жилось Воробью трудно: перебивался «с хлеба на квас» случайными заработками. И вдобавок постоянно прибаливал, ссутулившись, натужно кашлял.
Но сегодня будто повеселел.
В зал вошли какие-то незнакомые господа. Степенно переговариваясь, двинулись вдоль рядов картин.
Алексей с Воробьем, не сговариваясь, отошли в сторонку, словно желая показать, что они здесь уже ни при чем; они свое слово сказали, теперь дело за теми, кто пришел сюда: оценить, понять, почувствовать…
Выставки в особняке с колоннами теперь проводились ежегодно. К этому успели привыкнуть. Их ждали, с каждым разом они собирали все большее число посетителей. Классы Училища были в ту пору единственной картинной галереей в Москве.
На вернисажах Училища заметное место занимали произведения иностранных художников и отечественных живописцев, придерживающихся старой, «академической» манеры письма.
Но наряду с ними от выставки к выставке все больше появлялось полотен, на которых изображались картины русской жизни, ландшафты родной земли. Их авторами были в основном московские художники и воспитанники Училища живописи.
Рабус всегда поощрял в своих учениках интерес к изображению русской природы. А молодые художники, хотя и выходили на самостоятельную дорогу, обычно не порывали связи с Училищем.
Саврасов и после получения аттестата продолжал посещать пейзажный класс.
На лестнице послышались чьи-то голоса. Алексей обернулся.
— Ждешь кого? — спросил Воробей.
— Константин с сестрами собирались прийти. Да вот дождь…
— Придут. И прошлый раз на открытие дождь зарядил. А все явились.
Прошлогодняя выставка действительно пользовалась большим успехом. За двадцать дней на ней перебывало множество самых разных посетителей: просто любителей живописи и состоятельных «попечителей искусств». Почти все картины учеников и молодых художников были распроданы.
Среди пейзажей, пожалуй, наибольший успех выпал на долю полотна Саврасова «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду». Две трети холста занимают мятущиеся облака. Вдалеке розовато-дымчатый силуэт Кремля. А на первом плане молодая женщина — торопливо идет, спешит укрыться от грозы.
Картину не только хвалили добрейший Карл Иванович и придирчивый Воробей. «Вид на Кремль» был отмечен в печати, в статье о выставке, помещенной в «Москвитянине».
Алексей узнал об этой статье в доме Герца. Зашел на минутку, а его торжественно усадили за стол. Костя раскрыл журнал и начал читать. Каждое доброе слово по адресу Саврасова прерывалось смешливыми восклицаниями Эрнестины или уважительными замечаниями Софи: «Смотрите, как о вас пишут!» Из-за этой разноголосицы Алексей с трудом понимал, что там написано в пухлом журнале. А то, что улавливал, казалось, было сказано не о нем и не о его картине.
Его смущение только подливало масла в огонь.
— Чем вы теперь собираетесь нас удивить? — не унималась Эрнестина.
Алексей только рукой махнул в ответ. И потому, что вконец смутился, и потому, что сам не знал, осуществятся ли его планы.
В ту пору вторая поездка Саврасова на Украину лишь проектировалась. Еще было не ясно, удастся раздобыть для этого необходимые средства или нет.
А теперь уже давно завершена работа над картинами, созданными после этой поездки.
Как всегда, новые работы были прежде всего представлены на суд Карла Ивановича.
Рабус долго молчал. Снимал очки, снова надевал. Не то удивленно, не то одобрительно посматривал на своего питомца. Будто и не ожидал от него такого.
Если «Вид на Кремль» говорил о том, что пора ученичества кончилась, тут дело было не просто в возросшем мастерстве молодого художника.
На этот раз Саврасову будто удалось пробиться сквозь привычные «так надо», «так положено», отрешиться от всего этого, писать, радуясь тому, что видел перед собой.
Конечно, в картине «Вид на Кремль» и дерево, и пологий берег Москвы-реки — все это результат живого наблюдения. И все-таки в картине чувствуется сочиненность.
В малороссийских холстах академическая сделанность отступает. На смену ей приходит чувствование природы, которое всегда отличало Алексея.
Кажется, такого невыигрышного изображения еще не было в русском пейзаже. «Восход солнца в степи». Ну что тут — небо и степь. «Степь днем» — почти то же самое место в степи. Только на небольшой возвышенности стоят две дрофы — большие длинноногие птицы. Но степь живет, дышит, полнится воздухом, простором. Каждая травинка не просто качается на ветру — растет…
Была в картинах и еще одна новинка. Художник сознательно писал одно и то же место в разное время суток. Он хотел передать те мимолетные перемены, которые происходят в природе в зависимости от того, высоко ли поднялось солнце, старался выразить не только изменения освещения, но и настроения.
Но было и всегдашнее, саврасовское.
— Без воды у тебя почти никогда не обходится, — заметил Воробей, когда увидел малороссийские холсты. — И всегда в ней отражается небо…
И вот выставка…
Сколько тревог и надежд связано с ней у каждого художника! Дело не только в том, как оценят картину. Купят ли ее? Вот о чем — хочешь не хочешь — думалось каждому. Часто от этого зависела судьба живописца, возможность хотя бы какое-то время спокойно работать, не думая о куске хлеба…
Правда, полковник Лихачев, на средства которого была предпринята поездка Саврасова, заявил, что покупает его картины. Но Алексей не спешил радоваться: мало ли что может прийти в голову этим господам — возьмет и передумает.
А Воробей и не рассчитывал, что кто-нибудь пожелает приобрести его акварель.
— Дарю тебе, — заявил он Алексею, — коли нравится!
Алексей сжал руку друга, не то благодаря за подарок, не то желая поддержать его. А сказать ничего не успел: в зале появились Эрнестина и Софья.
— Я же говорил, — подтолкнул друга Воробей.
— Вот жаль, дождь сегодня, — словно извиняясь за погоду, сказал Алексей. — Света маловато…
— Зато там, на холстах, вовсю солнышко светит, — заметил Воробей.
Софья, а вслед за ней и Эрнестина двинулись к картинам Саврасова, но остановились возле акварели Воробьева.
— Вы об этом портрете говорили? — спросила Софья.
— Да… Как находите?
— Похож…
— Только что-то грустный очень, — заметила Эрнестина. — Таким я Алексея не видела.
— Это я ему подбавил своих забот, — вздохнул Воробей, — авось не обидится.
Софья посмотрела на Воробья, словно отыскивая черты, которыми он наделил Алексея. А Алексей смотрел на Софью.
«Москвитянин». Октябрь 1851 года
«…Нынешним летом несколько раз грозовые тучи виснули над Москвой, чему я был очевидцем два раза с Воробьевых гор, и надо отдать справедливость Саврасову, что он передал этот момент чрезвычайно верно и жизненно: видишь движение туч и слышишь шум ветвей деревьев…
…солнышко прорвалось сквозь тучи и бросило лучи на Кремль, как бы не желая с ним расставаться, как и нам, признаюсь, не хотелось бы расставаться с самой картиной».
Н. Рамазанов,скульптор и художественный критик
«Москвитянин». Октябрь 1853 года
«Пейзажи Саврасова „Две степи“ и „Вид Киева“ дышат свежестью, разнообразием и той силой, которая усваивается кистью художника вследствие теплого и вместе разумного воззрения на природу. Саврасов в произведениях своих начинает достигать чувства меры… и потому самобытность его таланта несомненна»
Н. Рамазанов,скульптор и художественный критик
Чугунка
Уже давно проплыли мимо станционные постройки, за окном вагона мелькали поля и перелески, а Саврасову все еще не верилось, что он в дороге. Уж очень все вышло нежданно, скоропалительно.
Месяц назад Училище посетила великая княгиня Мария Николаевна. После смерти мужа, герцога Лейтенбергского, она дала согласие взять на себя обязанности президента Академии художеств.
Княгиня милостиво побеседовала с преподавателями, осмотрела выставку работ учеников и молодых художников. Одни похвалила, другие пожурила. И в целях поощрения молодых живописцев приобрела несколько картин. Первыми среди них были названы работы Саврасова. Они княгине особенно понравились.
Мария Николаевна пожелала побеседовать с молодым живописцем. Но Алексей в эти дни отправился на натуру — бродил где-то неподалеку от Кунцева: весна, почки на деревьях вот-вот лопнут, лес словно в зеленой дымке…
Княгиня так с ним и не поговорила. Но, уезжая, просила передать ему приглашение прибыть в Петербург, чтобы писать виды Сергиевского — княжеской дачи на берегу Финского залива между Петергофом и Ораниенбаумом.
Едва Алексей появился в Училище, к нему бросились с поздравлениями. Он, не успев толком понять, в чем дело, только недоуменно пожимал плечами. А когда понял — не на шутку встревожился. Как-то там все сложится в незнакомом месте, с незнакомыми людьми? Он в доме Кости Герц и то на первых порах не знал, что говорить, куда руки девать, а тут…
Но рассуждать о том, ехать или не ехать, не приходилось. Его приглашали не на парадный вечер, а пейзажи писать. Да и княжеское приглашение больше походило на приказ, с выполнением которого медлить не полагалось.
Выслушав отеческие наставления Карла Ивановича, облачившись в новую пару, приготовленную Татьяной Ивановной, — «Это тебе не по степям с котомкой бродить, тут все степенно должно быть, с достоинством», — Алексей собрался в дорогу, как в воду бросился.
Он стоял у окна вагона, думая сразу и о том, что оставил, и о том, как все сложится там, в княжеской резиденции, и в то же время радуясь дробному стуку колес. Чугунка была еще в новинку. Всего три года назад прошел первый поезд из Петербурга в Москву.
Затем мысли о предстоящей работе вытеснили все остальное…
Они не отпускали его и через день, когда он шел по Невскому проспекту, поглядывая на чинно выстроившиеся шеренги домов.
Все здесь было ново и незнакомо и совсем непохоже на суматошную Москву с ее кривыми улочками, глухими тупичками.
В тот же день господина живописца отправили в Сергиевское.
Поглядывая из княжеского экипажа на незнакомые очертания улиц, Алексей подумал, что Воробей — окажись он сейчас здесь — не упустил бы случая позубоскалить: «Вот до каких вершин вы поднялись, Алексей Кондратьевич! Не откажите уделить своему другу хоть частичку из великокняжеских почестей, выпавших на вашу долю!»
Развеселившийся было Алексей нахмурился: он оставил друга больным. Какими снадобьями ни потчевал его сердобольный Карл Иванович, болезнь не оставляла. И вот опять слег…
Добрались до княжеской дачи затемно. Прежде чем подняться в отведенную ему комнату, Саврасов долго вглядывался во тьму, словно пытаясь разгадать, что она скрывает.
На следующий день чуть свет он стоял на берегу Финского залива, подернутого туманной дымкой.
Утренняя дымка таяла, и вместе с тем все рельефней становились контуры кронштадтской крепости, видневшейся вдали, все ясней силуэты кораблей.
Художник зашагал по песку вдоль самой воды, всматриваясь в незнакомый край, стараясь схватить его характерные черты.
Морщинистый, до половины погрузившийся в песок камень. Рядом, будто размытое набежавшей волной, — пятно тени. Сосна, позолоченная утренним солнцем. А там, за ней, растянутые на шестах рыбацкие сети…
Каждая из этих деталей пейзажа могла понадобиться для будущей картины. Надо было не только подметить их, но сохранить, перенести на бумагу.
Рисунок точен, уверен… Это еще не разработка… Только контуры предмета. Выразительные, смелые. Лишь бы не растерять, перенести на бумагу то, что прежде всего бросилось в глаза. Потом память дополнит остальное…
За спиной послышался шорох.
Саврасов обернулся. За деревьями мелькнула фигура какого-то человека. Может, кто-нибудь из служащих Академии решил полюбопытствовать, как работается приезжему?
«Надо будет сказать управляющему, чтоб не мешали», — подумал Саврасов. В день приезда тот просил со всеми нуждами обращаться к нему.
Больше любопытные не появлялись.
Дни, заполненные работой, текли незаметно. Иногда художник поднимался затемно, чтобы захватить рассвет. И с радостным удивлением следил, как вместе с появлением солнца преображалось все вокруг…
Если он работал где-нибудь неподалеку от дачи, за ним приходили, чтобы напомнить об обеде.
Потом опять за этюды. Часто до глубоких сумерек, когда морская даль начинала сливаться с небом…
Но однажды за художником прибежал запыхавшийся управляющий.
— Ее сиятельство просят!
Княгиня встретила его на веранде. Приветливо протянула руку. Оглядела рослую фигуру художника, улыбнулась и высказала пожелание постоянно видеть его в столице на достойной должности. Очевидно, она хотела ободрить художника, сделать приятное. А вместо этого испугала. Алексей едва нашел в себе силы учтиво поклониться. И произнести что-то полагающееся в таких случаях, что потом и сам не мог вспомнить.
Княгиня поинтересовалась, удобно ли устроился живописец, и добавила, что ей не терпится поскорей увидеть результаты его трудов.
Алексей снова учтиво поклонился. И пробормотал что-то подобающее. А про себя подумал, что если такие визиты будут повторяться, или, что еще хуже, княгиня пожелает присутствовать при его работе, то ее окончание отдалится на неопределенное время.
К счастью, на следующий день княгиня уехала.
«Деликатная дама», — подумал Саврасов. Не столько потому, что в самом деле княгиня произвела на него такое впечатление, сколько потому, что снова можно было спокойно работать.
Уже заполнен рисунками большой альбом. Теперь пошли в ход отдельные листы. Их уже около двадцати.
Иногда на них рисунки отдельных предметов: стволы деревьев, прибрежные валуны, рыбацкие сети, перевернутая кверху днищем лодка. Иногда уже почти сложившийся эскиз — набросок картины.
Пройдут годы, и исследователи будут изучать эти рисунки, чтобы проследить, как складывался замысел будущих картин, как из отдельных наблюдений, частностей рождалось целое.
Художник и в самом деле копил то, что должно было стать деталями картин, как строитель готовит материал для постройки здания.
Писалось легко…
Небольшая, залитая солнцем полянка. В тени раскидистого дерева сидит крестьянка с корзиной грибов. Неподалеку громоздятся замшелые валуны. А там, вдали, — синева моря. Белое пятнышко паруса…
И крона дерева, и его ствол, и замшелые камни, как будто те же, что и на эскизах. И в то же время не те. Теперь все подчинено общему замыслу, каждый предмет — лишь деталь картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума».
А тот набросок, сделанный в сумерки на берегу моря! Он стал основой другой картины.
На ней сохранено почти все: та же линия берега и полоса камышей, и лесок, и большой валун, и, конечно, контур кронштадтской крепости с едва видными корабельными мачтами. Все, как было набросано на листе бумаги в тот вечер.
Но дали отодвинулись — пейзаж словно наполнился воздухом, появилось ощущение простора.
А больше всего преобразило картину освещение. Розовое заревое небо отразилось, преломляясь в бесчисленные оттенки, в спокойной глади залива.
Княгиня восхищенно ахала, глядя на эту феерию вечерней зари.
— Я в вас не ошиблась, господин Саврасов. Никто из современных художников не создавал столь впечатляющие краски вечерних сумерек!
Два вида окрестностей Ораниенбаума имели успех. Обе картины были выставлены на годичной академической выставке. Саврасову сулили звание академика. Дело только за тем, чтобы совет утвердил. А в этом нет никаких оснований сомневаться. Господина живописца поздравляли! Господину живописцу желали дальнейших успехов!
Алексей, растерянный и оглушенный разноголосыми словоизлияниями, облегченно вздохнул, когда толпа теснящихся вокруг него чинных господ и улыбающихся дам, наконец, рассеялась.
Но, шагая по одетой в гранит набережной, он вдруг почувствовал щемящую пустоту. То ли потому, что напряженнейшие дни работы остались позади; то ли потому, что затосковал по дому, нестерпимо захотелось побродить по неухоженным берегам Москвы-реки, по безалаберным переулкам Гончаров.
Вспомнился последний вечер в доме Герцов… Задумчивые, будто спрашивающие о чем-то глаза Софьи…
Да нет — Саша, Воробей! Вот кого прежде всех ему сейчас хотелось бы увидеть, вот с кем надо было обо всем перетолковать, что как сделано, что, да как вышло!..
Ну, да теперь до встречи недолго ждать. На то есть спасительная чугунка.
Но хоть поезд и казался донельзя стремительным — встрече не суждено было состояться.
Накануне приезда Саврасова на Даниловском кладбище схоронили молодого, «совестливого», как отметили газеты, художника-портретиста Александра Матвеевича Воробьева, Воробышка…
Титулярный советник
Густые тени падали на склоненные над водой ивы — они казались задумчивыми, печальными. Но это только отсюда, с пригорка, на котором расположился Саврасов. А вот Соколову деревья виделись веселыми, легкими, одетыми серебристой листвой — с его стороны ивы открыты солнечному свету.
У Соколова с Медведевым, видно, ладится работа. А Петров недовольно хмурится, нервничает. А ведь начал хорошо. С ним такое случается: увидит точно, пожалуй, зорче других, а потом невесть когда растеряет все, что сам наметил. Правда, времени уже немало прошло — вон как высоко успело солнце подняться.
— Не пора ли подкрепиться, господа?
По дороге сюда успели запастись молоком и схоронили крынки у самой воды, под густыми ветвями. Пока извлекали молоко и разворачивали калачи, Саврасов подошел к этюднику Петрова. Так и есть — не даются ученику кунцевские, склоненные над рекой ивы.
— Вы… вот что… вы о натуре забыли, — сочувственно заметил Саврасов. — Вы к натуре вернитесь. А то… почувствовали и бросили…
Петров тягостно вздохнул. В его глазах появилось что-то страдальческое.
Алексею вспомнились свои ученические годы — и его порой охватывало отчаяние от собственной беспомощности, неумения. А теперь вот и у него ученики. И он приходит к ним на помощь, как ему когда-то помогал Рабус.
Прошлой осенью Карл Иванович начал то и дело прихварывать, а зимой слег.
Когда Саврасову передали, что Рабус просит его прийти, да поскорей, Алексей встревожился: видно, совсем плох старик.
Он действительно заметно ослабел — лицо осунулось, глаза лихорадочно блестели. Но о своем здоровье едва обмолвился — сразу к делу.
— Мне уже не по силам вести класс, — начал он, — что мог, сделал…
Алексей поспешил было успокоить, поддержать его.
Рабус только рукой махнул: к чему зряшные слова — не для того пригласил.
Карл Иванович хотел, чтобы его место в Училище занял любимый ученик и, не мешкая, подал соответствующее прошение.
— Хорошо бы сегодня же, — уточнил он, зная неприязнь своего питомца к писанию всяческих бумаг. — Обещаешь?
Алексей кивнул, не зная, что сказать: и спорить ни к чему, и соглашаться тяжело.
И тут же начал корить себя за безмолвное согласие выполнить просьбу: подумалось, что надо было поступить как-то иначе.
Вышел он от Рабуса сам не свой, будто виноват в чем-то. То и дело останавливался: казалось, надо вернуться и что-то изменить, исправить.
Конечно, его привлекала работа с начинающими художниками. Конечно, он понимал, что значит при его зависимом положении — подвернется ли заказчик? купят ли картину? — стать руководителем пейзажного класса.
Но Карл Иванович — как же он-то? Вот что камнем лежало на сердце, вот что не выходило из головы.
«Впрочем, чем тут поможешь? — думал Саврасов, шагая по заснеженной Садовой. — Да и судить раньше времени незачем. Пусть даже он напишет прошение — еще неизвестно, как отнесется совет к его просьбе».
Но сомнения были напрасны: к его прошению отнеслись доброжелательно: двадцатишестилетний художник пользовался достаточной известностью, к тому же виды окрестностей Ораниенбаума, представленные на Петербургской выставке, принесли ему звание академика.
Да и Карл Иванович, вероятно, успел переговорить со многими членами совета: с его мнением всегда считались.
Так или иначе, Саврасов сразу же приступил к исполнению своих новых обязанностей, еще при жизни Карла Ивановича. Он умер неделю спустя после того, памятного для его питомца, разговора.
Горечь утраты вытеснила радостное волнение, охватившее Алексея в первые дни занятий в классе. А вслед за тем пришло какое-то обостренное чувство ответственности за дело, в котором теперь все придется решать самому.
Новые обязанности все больше завладевали им, отодвигая все другие заботы.
Тем не менее он старался почаще бывать дома. Не столько из-за болезни отца, сколько из-за Татьяны Ивановны: знал, что скучает без него.
Поначалу мачеха радостно улыбалась, завидев своего Алешеньку. А потом сама гнала из дому: видела, что мысли его не здесь, невмоготу коротать время за самоваром.
Жизнь Алексея Саврасова день ото дня менялась, обещая что-то еще неведомое, новое.
Алексей стал чаще бывать в доме возле Меншиковой башни. Теперь, встречаясь с Эрнестиной и Софи, его уже не сковывала всегдашняя застенчивость. Только увидев в гостиной чуть полноватую фигуру Герца-старшего — Карл Карлович вернулся из странствий по заграницам и как будто осел, наконец, в Москве, — Алексей все еще чувствовал себя стесненно, хоть и знал, что вечер будет особенно интересным. Герц-старший охотно делился впечатлениями о картинах иностранных художников, о музеях, в которых ему довелось побывать.
Потом, щуря близорукие глаза, интересовался успехами гостя.
Поначалу Алексей отделывался двумя-тремя словами. А освоившись, радовался возможности поговорить о своих работах, рассказать об успехах учеников.
Впрочем, Саврасову трудно было отделить занятия в пейзажном классе от своих поисков, так тесно они переплелись — одно питало другое.
Художник в своих работах все большее внимание уделял натуре — черпал у природы, учился у нее. Вместе с тем правила «живописания природы» еще цепко держали его в плену, казались обязательными. По этим правилам и создавалась картина, хоть все ее детали — будь то раскидистое дерево, облако или луговинка — результат живого наблюдения.
То, что удавалось постичь самому, художник приносил в класс, чтобы передать ученикам. И не только на словах.
Молодой преподаватель решил работать над своими картинами в присутствии учеников. Ему казалось это куда более доказательным и полезным, чем самые дотошные речи о мастерстве живописца.
Уже на первых порах своей педагогической деятельности Саврасов высказывал вполне самостоятельные мысли. Но в основном следовал примеру Рабуса. Все то свое, «саврасовское», что впоследствии отличало пейзажный класс, еще только складывалось, зрело.
Зимой ученики копировали с оригиналов красками и карандашом. А затем начались выезды на натуру: в Сокольники, Коломенское, Кунцево…
Вот и сегодня поутру к Училищу подкатила телега. Молодой преподаватель — не потому, что боялся тряски, а потому, что так уж положено, — уселся рядом с возницей. И поехали на этюды — писать кунцевские, склоненные над водой ивы.
Наскоро перекусив, ученики вместе с преподавателем снова принялись за работу.
Когда вернулись в город, было уже темно.
Алексей направился к дому возле Меншиковой башни: хотелось рассказать о сегодняшней работе на натуре и сообщить к тому же, что ведомственная переписка наконец закончилась: пришел «высочайший» приказ о его назначении преподавателем пейзажного класса и производстве в титулярные советники. Так уж было заведено: Саврасов становился не только педагогом, но и весьма незначительным, состоящим на службе чиновником.
В окнах дома горел свет, мелькали чьи-то тени.
«Гости, наверно», — решил Алексей.
Он оглядел свой помятый сюртук и зашагал восвояси.
Из ответа А. К. Саврасована рапорт инспектора Училища профессора Зарянко, в котором рассматривались причины недостаточно удовлетворительного хода преподавания«…Считаю нужным заметить, что совет, исходатайствовав высочайшее разрешение о введении в Училище нашем преподавания наук, уже сделал огромный шаг к улучшению будущих успехов учеников наших, как относительно их личного образования, так и в сфере искусства… мы все хорошо знаем, что есть три источника, из которых мы извлекаем самое чистое понятие об искусстве: это суть собственное убеждение каждого образованного ученика, общие идеи красоты и, наконец, изучение великих произведений искусства прошлых веков или современного со стороны гения художника, его века и духа народа, к которому принадлежал…
В последнее время ландшафтная живопись, сделавшись предметом серьезного изучения художников новейших школ, достигла высокого развития. Я, как преподаватель ее, должен заметить, что относительно занятий моих учеников нашел необходимым иметь отдельное помещение для ландшафтного класса, где ученики по сделанным этюдам с натуры могут исполнять картины под моим руководством и изучать рисунок и живопись, копируя с оригиналов лучших художников.
Работая сам при учениках, я смогу постоянно следить за их работами и в то же время даю им возможность видеть ход моих собственных работ. Таким образом ученики постоянно занимаются под моим личным наблюдением…»
Преподаватель Училища академик Саврасов
Из воспоминаний Эрнестины Герц«Как теперь вижу в нашем доме большую залу, стены которой увешаны были старинными гравюрами, представлявшими большей частью битвы из Отечественной войны 1812 года. В других комнатах висели портреты, писанные масляными красками, из которых мне всего более нравился большой портрет Ван-Дейка. Мать наша сама прекрасно рисовала, и у меня до сих пор сохранился пейзаж, писанный миниатюрою ее собственной рукой. Отец наш был добрый и великодушный господин, любивший искусства и древности и умевший ценить их. Наш дедушка, отец моей матери, был известный архитектор Даниил Федорович Гиерт, построивший в Лефортово 1-й Кадетский корпус…»
«Тетенька»
Елизавета Даниловна вколола последнюю шпильку в свои заметно поседевшие волосы и опустилась в кресло. Развернув письмо, она приготовилась было погрузиться в чтение. Но тут же, обеспокоенная чем-то, поднялась. «Как будто проснулась?»
Но Верочка еще спала, хоть и дышала после недавно перенесенной простуды все еще прерывисто.
«Надо сказать Матрене, чтобы заварила грудного чая, — решила Елизавета Даниловна, — и заодно напомнить, чтоб не гремела так кастрюлями, а то разбудит ребенка».
Заспанная кухарка выслушала наставления со спокойным безразличием.
— Будто я не знаю, Елизавета Даниловна, — повторяла она, — будто не знаю.
Пожалуй, только Матрена и называла ее по имени-отчеству. Даже друзья дома незаметно переходили на привычное «тетенька». Что поделаешь, если целый день только и слышится: «Тетечка сделает, тетенька позаботится».
И так с тех самых пор, как умерла ее сестра, мать Софи, Эрнестины, Кости и Карла. Осиротели дети — надо кому-то о них позаботиться. Вот она и взяла это на себя, своей-то семьи не было.
Ее питомцы взрослели, но она не переставала опекать их. Софи вышла замуж — прибавились заботы о молодых, и Алексей попал в круг ее подопечных.
И вот теперь на время их отсутствия тетенька взяла на себя уход за Верочкой, заботы по дому.
Обязанности были достаточно хлопотны. Но они не тяготили, а даже радовали. Было приятно сознавать, что есть и ее доля участия в том, что молодые смогли отправиться в такое интересное и приятное путешествие.
В том, что оно складывается как нельзя лучше, сомневаться не приходилось. На туалетном столике лежали письма с почтовыми штемпелями Лондона, Парижа, Берлина. А последнее письмо, полученное накануне, пришло из Швейцарии.
Вчера Елизавета Даниловна бегло прочитала письмо, только чтобы выяснить, все ли у них там благополучно. Главное удовольствие было отложено на этот утренний час, до пробуждения Верочки.
Теперь можно спокойно погрузиться в чтение, передумывая каждую фразу, чтобы ничего не упустить, снова и снова представить все, о чем сообщала Софи.
Она пребывала в прекрасном настроении — это было очевидно. Все время на людях — нарядная, улыбающаяся…
«Пусть отдохнет, развлечется, — думала Елизавета Даниловна. — А то ведь столько забот легло на ее плечи вместе с замужеством. На первых порах это особенно тяжело».
Нет, никаких претензий к Алексею у тетеньки не было. Она симпатизировала ему с той самой поры, когда он впервые появился в доме Герцов у Меншиковой башни. И выбор Софи одобряла, но…
Алексей уже довольно известный художник, академик, преподаватель Училища живописи — ведет пейзажный класс, в котором сам когда-то учился. Все как будто хорошо.
Но оклад-то невелик, всего шестьсот рублей в год. Намного меньше, чем у других преподавателей. Не потому, что Алексей Кондратьевич хуже других, — просто к пейзажу до сих пор даже среди художников сохранилось отношение, как к второстепенному жанру.
Во всяком случае, так говорит Карл Карлович. А его мнение не подлежит обсуждению. Раз он сказал — значит, так и есть.
Конечно, с такими средствами нелегко вести хозяйство. Ну разве что рассчитывая каждую копейку. Для Софи подобная жизнь незнакома: как-никак, привыкла к достатку. А тут на каждом шагу ограничения. Особенно квартира доставляла много хлопот.
Не только потому, что найти удобную квартиру за приемлемую плату нелегко — это само собой. Для того чтобы уехать на лето и оставить за собой городскую квартиру, надо за нее платить.
Но и выезд за город стоит немалых денег. Выходит, и здесь плати, и там плати. Отказаться от выезда на лето нельзя. Алексей стремится быть как можно ближе к природе. Да и Софи привыкла проводить лето за городом. Приходилось оставлять летом городскую квартиру, а осенью искать новую.
Сняли квартиру на Садовой, оттуда перекочевали в Знаменский переулок, затем на Ермолаевскую улицу близ Патриарших прудов. Сплошные переезды…
Конечно, Софи все это утомляло и нервировало. Особенно в пору, когда она ожидала ребенка.
А казенную квартиру, хоть Алексей давным-давно подал прошение, все не давали. Больше года прошло, прежде чем удовлетворили его просьбу.
С тех пор, как устроились здесь, во дворе Училища, в малом флигеле, конечно, стало легче. Хоть квартирка невелика, но не надо думать об уплате — с появлением ребенка это стало особенно важно. Да и Алексею Кондратьевичу удобно — над квартиркой мастерская.
Тетенька сняла пенсне и с письмом в руке прошествовала на кухню. Надо проследить за тем, чтобы лекарственный чай был заварен как полагается. Сколько раз говорилось: нужно заварить траву кипятком, а не заливать холодной водой и ставить на огонь. Кухарка все равно поступает по-своему. И сейчас сделала бы так, если бы тетенька не подоспела вовремя.
Впрочем, это в порядке вещей. Только просьбы Алексея Кондратьевича неукоснительно выполнялись. К нему кухарка благоволила. А «хозяйку» — так Матрена называла Софи — слушалась, пожалуй, даже побаивалась, но не любила.
Если бы Елизавета Даниловна не знала Матрену, она возможно решила бы, что тут доля вины лежит и на «хозяйке». Иногда ей казалось, что Софи несколько суховата. Но в данном случае дело не в ней. Матрену никак не назовешь образцовой прислугой. Не может запомнить, куда что положить. Ей ничего не стоит наследить. А Софи заботится о порядке. Уж если нельзя обставить квартиру, как хотелось бы, то, по крайней мере, должна быть образцовая чистота. В конце концов Софи не только для себя старается, но и для мужа — заботится о его доме.
Тетеньке было приятно думать, как много приобрел Алексей, женившись на Софи.
«Отправься он за границу один, — рассуждала она, снова принимаясь за письмо, — без знания языков чувствовал бы себя весьма стесненно. Ни расспросить, ни прочитать, ни побеседовать толком. А Софи свободно говорит по-немецки и по-французски. И какое произношение!..»
Впрочем, тетенька высоко ставила всех своих питомцев. Ей казалось, что каждый, кто так или иначе соприкасается с кем-нибудь из них, должен испытывать удовлетворение. В первую очередь, конечно, имелся в виду Карл Карлович. Тут уж сомневаться не приходилось: каждому лестно общение с таким приятным и сведущим человеком.
Ну а Алексею тем более — столько общих интересов. Да и образованием Алексей не может похвастаться. А человек живой, ищущий. Как же не радоваться такому собеседнику, как Карл Карлович: искусство древнего мира, полотна современных художников — все ему знакомо и дорого. Как-никак, именно он, Карл Карлович, стал первым преподавателем истории искусств в Московском университете. А потом и в Училище живописи — после долгих хлопот там были введены, наконец, дополнительные специальные и общеобразовательные дисциплины.
Алексей частенько бывал на лекциях своего шурина и возвращался всегда переполненный впечатлениями.
В эту пору они особенно сблизились. Ну а когда начались хлопоты об организации Общества любителей художеств — по примеру петербургского, — их беседы затягивались далеко за полночь. Алексей был увлечен не меньше Карла Карловича: появилась возможность улучшить положение художников. Как нелегко им приходится, он знал достаточно хорошо.
Едва пришло «высочайшее» разрешение на организацию Общества, Алексей Кондратьевич отправился в Петербург. На его плечи легли хлопоты, связанные с перевозкой в Москву картины умершего художника Александра Иванова «Явление Христа народу». В столице к замечательному полотну отнеслись холодно, как и к судьбе художника. Московские любители живописи оценили картину по достоинству.
Перевозка огромной картины была связана с целым рядом официальностей, хлопот. Тетенька поначалу сомневалась, справится ли Алексей с таким поручением. Уж очень он тихий, затрудняющийся в общении даже с коллегами, а тут нужна расторопность.
Однако Алексей взялся за дело с завидной энергией. В доме обо всех его перипетиях узнавали от Карла Карловича. Алексей чуть не каждый день писал ему, как секретарю Общества, о своих хлопотах. И в каждом письме привет тетеньке и всем членам семьи. Как тут не растрогаться: помнить о близких при такой занятости — немалого стоит.
Конечно, и Софи это радовало. Но, пожалуй, еще больше то, что ее муж встречается в столице с именитыми людьми, находится в центре внимания.
А виновник домашних пересудов и волнений меньше всего думал о своей персоне. Его радовало, что москвичи смогут познакомиться с творением замечательного художника, которого он высоко чтил не только как автора нашумевшей картины, но и как прекрасного пейзажиста.
Когда Алексея Кондратьевича благодарили за хлопоты, связанные с перевозкой картины, он всякий раз терялся, не зная, что сказать, и умоляюще посматривал на шурина, словно прося у него защиты. А если представлялась возможность, спешил отойти в сторонку, словно бы он тут ни при чем.
Подобные словоизлияния всегда становились для него мучительным испытанием. Восторги поклонников его живописного таланта не составляли исключения. Не то они смущали его, не то просто не интересовали.
Зато о судьбе своих картин он тревожился, как о детях, которых отдают на воспитание к незнакомым людям. Когда ему сообщали, что есть человек, желающий приобрести одну из его живописных работ, Алексей не спрашивал, какими средствами он располагает, сколько может заплатить, что было бы весьма естественно, — интересовался, разбирается ли покупатель в искусстве, чувствует ли природу. И радовался, если картина попадала в хорошие руки, — «чуткий человек, душевный».
Софи улыбалась, бывало, слушая подобные рассуждения: может быть, и милая, но все-таки странность, чудачество. До того ли тут, когда средства так ограничены. Часто на новое платье не так просто выкроить, приходится переделывать старое. Ну а об этой поездке и говорить нечего! Никогда бы она не состоялась, если бы не Общество любителей художеств. Да и тут все могло обернуться иначе…
Правда, в планы Общества входила и забота о расширении кругозора живописцев. Для этого предполагалось наиболее талантливых художников командировать за границу, чтобы они могли познакомиться с современным искусством различных стран.
Но для того, чтобы осуществить этот замысел, нужны были средства. Сначала организовали выставку с повышенной платой за вход, потом лотерею.
Однако и после того, как необходимая сумма была собрана, о поездке Саврасова речи не шло: предполагали направить за границу художника исторической живописи. И только после долгих обсуждений остановились на Алексее Кондратьевиче. Неудивительно, что тетенька считала эту поездку нежданной удачей.
Елизавета Даниловна отложила письмо и взялась было за ответное. Но передумала: решила написать через денек-другой, когда Верочка окончательно поправится. Тетенька хотела, чтобы ничто не омрачало настроение ее подопечных.
Когда-то в юности Елизавета Даниловна бывала в Швейцарии. И сейчас, поудобнее устроившись в кресле, мысленно представляла, как в тех же местах, которые сохранились в ее памяти, гуляют Софи с Алексеем — спускаются по горной тропе, любуются неожиданно открывшейся гладью озера. Алексей, вероятно, делает зарисовки. Как же без этого…
А может быть, они уже вернулись с прогулки и сейчас беседуют в мастерской какого-нибудь швейцарского художника.
Приятные размышления были прерваны кухаркой:
— Тетенька, опять я забыла, как там, по-вашему, чай этот заваривать!
Елизавета Даниловна собралась было отчитать Матрену за недозволенную фамильярность. Но тут проснулась Верочка, и было уже не до этого.
А. К. Саврасов К. К. Герцу
Петербург, 21 февраля 1861 года
Любезнейший друг Карл Карлович!
…Хлопот и издержек бездна, два больших ящика готовы, теперь нужно приготовить бумаги, клеенки и т. п. Для этого я с г-ном Соколовым сделал все нужные распоряжения, и, по его словам, приблизительный вес этого багажа около 100 пудов.
Сочувствие к нашему новому Обществу со стороны многих лиц, в особенности художников, очень сильно. От действий Общества художники в восторге…
Передай от меня тысячу поклонов тетечке, Эрнестине Карловне и Константину…
До свидания, любезнейший мой.
Алексей
Петербург, 23 февраля 1861 года
Любезнейший друг Карл Карлович!
Дела наши идут очень хорошо… Г-н Харачков (я с ним виделся) доставит картину Иванова в Москву бесплатно. Ф. Ф. Львов даст нам для выставки 12 картин иностранных художников… с условием, чтобы обратно были отправлены в Петербург к навигации.
Об этом сообщи нашему комитету и уведоми меня тотчас.
Передай от меня поклон тетеньке, Эрнестине Карловне, Константину. Душевно любящий тебя
Алексей
Из отчета академика А. К. Саврасова комитету Общества любителей живописи о своей поездке за границуЛондонская всемирная выставка 1862 года дала полную возможность проследить замечательные произведения искусства за последние сто лет.
Только при таком сравнительном обзоре можно составить себе более полное понятие о степени развития таланта и его значения в истории современного искусства.
В отделе искусств было собрано до трех тысяч художественных произведений — картин, рисунков, статуй и пр. разных школ.
Произведения представителей британской школы… не только останавливают внимательный взгляд. Глубина мысли, строгая последовательность, любовь и серьезное понимание искусства, при блестящем, но правдивом колорите, есть отличительный характер живописи британских художников…
Их произведения вышли из условности предшествующего взгляда: строго сохраняя местный характер колорита и рисунка, они с замечательной верностью передают все разнообразные мотивы природы. Колорит их силен, блестящ, но правдив.
Только при таком стремлении, при таком изучении может эта отрасль стать высоко в современном искусстве.
Существует мнение, что ландшафтист может хорошо передать только ту природу, в которой он родился и живет.
Я думаю иначе — это скорее зависит от силы таланта и его воспитания…
Ландшафты художников Швейцарии… весьма мало передают характер природы Швейцарии, столь богатой разнообразием форм, климата и растительности.
Только произведения Калама представляют совершенно другое. Посетив мастерскую, я убедился, с какой любовью этот художник стремился изучать природу…
Говоря о Каламе, я должен, к сожалению, упомянуть, как много молодых талантов сделались жертвою подражания этого художника.
Русский отдел живописи был неполон — было много пробелов, и можно сказать, что много замечательных произведений русского искусства не были на выставке…
Посетил в Лондоне Британский музей, Национальную галерею, постоянную выставку акварельных живописцев…
В Копенгагене — Музей Торвальдсена.
В Берлине — старый и новый музеи, выставку Академии художеств и выставку Сакса.
В Дрездене — Дрезденскую картинную галерею.
В Лейпциге — городской музей и художественное общество.
В Париже — все отделения Лувра, Бернский Оберланд, сделал в продолжение осьми недель 6 этюдов этой местности.
Эти труды позвольте, М. Г. (милостивые государи) представить вашему вниманию…
«Лосиный остров»
Саврасов подошел к столу и, не садясь, принялся пересматривать законченную накануне работу, плотные листы с рисунками: то веточкой дерева, то цветком, то частью ствола, кроны…
Рисунки напоминали те, что некогда изготовил для своих воспитанников добрейший Карл Иванович: «Природу нужно знать — вот ее творения!»
От листа к листу рисунки усложнялись и завершались видами природы и сельскими сценами.
Только два рисунка Алексей Кондратьевич оставил на столе — надо было чуть подправить. Он на мгновенье перевел взгляд на окно — ветер разметал, наконец, надоевшие тучи — и принялся за работу.
Рисунки точны, изящны. Но не было в них той свободы, которая отличала саврасовские работы этой поры. Что поделаешь, возможности художника сковывали традиции преподавания. Независимо от того, касалось ли это учебного альбома — рисунки на листах предназначались для него, — или занятий в классе.
Правда, за минувшие годы в Училище многое изменилось. И не только из-за расширения учебной программы. Училище обрело большую самостоятельность. После присоединения к нему Училища архитектуры, второму в России художественному заведению было предоставлено наконец право присуждать ученикам звание художника.
Тем не менее преподавание все еще велось по старинке, согласно невесть когда сложившимся правилам.
То, что в пейзажном классе, как встарь, копируют с эстампов карандашом и красками, — это хорошо, «сие положено». А вот простые отношения с учениками — сомнительное новшество. Между тем, кто учит, и теми, кого учат, должна соблюдаться дистанция.
Что уж говорить о работе над картинами в присутствии учеников! Большинству преподавателей это казалось неуместной, раздражающей вольностью. Хотя бы потому, что мало кто из них рискнул бы взяться за кисть под обстрелом десятка зорких, все подмечающих глаз учеников.
Правда, поначалу многие коллеги не приняли это нововведение всерьез: чего не сделаешь по молодости лет, дайте срок — все уляжется, войдет в привычное русло.
Теперь новшества руководителя пейзажного класса вызывали к нему все большую неприязнь значительной части преподавателей.
Со временем это принесет Алексею Кондратьевичу немало горечи и боли. А пока что — лишь колкие замечания, холодные поклоны, иронические смешки за спиной — мелочная суета, которую Саврасов не всегда и замечал. А если и видел — не придавал значения. Да и не до того ему. Он поглощен своей работой, занятиями с учениками.
Впрочем, для него это по-прежнему неотделимо. Преподаватель приносит в класс свои раздумья и находки. Здесь на глазах учеников создаются его картины, в том числе многочисленные виды Швейцарии.
Конечно, это не главное в его поисках. Тем не менее работа над новой для художника натурой сделала его руку более точной и уверенной, разнообразила манеру письма.
Это сказалось и в такой, казалось бы, неожиданной для Саврасова области, как декоративная живопись.
Два года назад в Дворянском собрании состоялся новогодний праздник. По замыслу его устроителей каждый зал был украшен видами какой-нибудь страны. Для этого пригласили группу художников. На долю Алексея Кондратьевича выпали виды Малороссии, Древней Греции…
Убранство залов вызвало восторженные толки. Его называли «приятным сюрпризом господ живописцев». Отмечались и «полные изящества ландшафты господина Саврасова».
Его имя становится все более известным. А вместе с тем растет и число заказов на картины, что было весьма кстати, так же, как и предложение взять на себя пейзажный отдел учебного альбома — у Саврасовых родилась вторая дочь, Женя.
Среди заказчиков, кроме швейцарских сюжетов, особым успехом пользовались мотивы с купами тенистых деревьев у воды, сродни тем, что писал художник после возвращения из Петербурга.
Казалось, все сложилось как нельзя лучше — можно разрабатывать пользующиеся успехом сюжеты, успокоиться.
Но Алексея Кондратьевича томила неудовлетворенность. Будто и неплохо все, что сделано, да не так, как должно бы быть, — словно что-то главное недосказано, недоговорено.
Софи улыбалась: никто так не придирчив к картинам Алексея, как он сам! Но взгляд ее серых глаз серьезен: поиски чего-то нового — сейчас, когда работы Алексея пользуются таким успехом! — пугали ее своей неопределенностью. Только-только удалось проложить дорожку к благополучию — и вдруг все начинать сызнова.
Однако Алексей не собирался ни пренебрегать сложившимися в Училище традициями, ни отказываться от заказов на картины. Его поиски сочетались с повседневной работой, как то необходимое, без чего все теряло свой смысл.
В этом его убеждало и всегдашнее чувствование природы, и опыт, и новые воззрения, которые, что называется, носились в воздухе.
Красота человека виделась уже не в знатности, роскошных одеждах или искусственных позах, а в духовной чистоте, глубине души.
С такой же меркой стали подходить и к красоте природы. К чему искать что-то исключительное, к чему искусственная придуманность пейзажа? Разве не прекрасна природа своей безыскусственностью? Чем природа обыкновеннее, тем ближе человеку.
Вот что было духом времени. Вот о чем толковал Саврасов с художником Василием Григорьевичем Перовым, когда тот приходил к нему на Мясницкую.
Они сдружились как-то сразу, едва успев познакомиться, и теперь частенько «отводили душу» за разговором. Обычно беседа в тесной квартирке была лишь началом — главное отводилось на потом, когда они поднимались сюда, в мастерскую.
Но основное в поисках художника не разговоры — встречи с натурой. Иногда вместе с учениками, иногда в одиночестве.
Художник стремился отрешиться от ставших привычными канонов «живописания природы». Все то, что было усвоено и даже приносило успех, мешало передать живое дыхание натуры.
Чем решительней отметались условности, тем большей свежестью, непосредственностью радовали рисунки.
От этюда к этюду, от рисунка к рисунку собирал художник то новое, что так полно выразилось в картине «Лосиный остров в Сокольниках».
Хоть в этом полотне было и всегдашнее, саврасовское, все-таки пейзаж был не похож на все созданное художником ранее.
В картине поражало правдоподобие всего, что изображалось. Не было в пейзаже ни нарядности, ни особой живописности. Все прозаично: и небо, затянутое мелкими облачками, и стадо коров на влажном лугу, и невзрачные кустики, и болотные кочки. Все знакомо и вместе с тем незнакомо. Казалось, привычное, обыденное заговорило, задышало, открыло, наконец, свою скромную прелесть.
Пейзаж сразу обратил на себя внимание. На конкурсе Общества любителей художеств картина получила первую премию.
Но это будет через год.
А сейчас художник заканчивал работу над рисунками для альбома «Курс рисования».
Саврасов поднял лист так, чтобы на него падал свет из окна. И, видимо оставшись доволен поправками, отложил в сторону.
Он взялся было за второй рисунок, но на лестнице послышались чьи-то шаги, а затем чуть хрипловатый голос Перова: «Ты у себя, Алексей?»
Из статьи К. К. Герца«Конкурс Московского Общества любителей художеств»«Нельзя не смотреть без внутреннего удовольствия на произведение („Лосиный остров в Сокольниках“), в котором художник умел так поэтично перенести на полотно знакомый каждому из нас клочок природы из окрестностей Москвы. Так смотреть на природу умеют только глаза поэта или художника. Перед нами вдали темная опушка леса, которого деревья мастерской рукой нарисованы; на первом плане местность, изрытая проточной водой, через которую переброшены самые первобытные мосты. Луч солнца, прорезывая облака, осветил часть бугристой поляны, на которой пасется стадо. Среди печальной зелени леса этот луч солнца так хорош, так радостен…»
Из воспоминаний художника К. Горскогоо годах обучения в Училище живописи, ваяния и архитектуры«…А. К. Саврасов, всегда одетый в черный сюртук… высокого роста, плечистый, с большой бородой, выхоленными и красивыми тонкими пальцами, всегда внимательный к ученикам и необыкновенно ровный ко всем, кто просил у него объяснения и указания, как приступить к выбранному им же самим эстампу…»
«Волга под Юрьевцем»
За окном вагона сгущались февральские сумерки. В купе становилось все темней и неуютней. Пассажиры, поначалу оживленные, притихли, может быть, задремали.
Вошел кондуктор, зажег толстую сальную свечу, вставленную в жестяной фонарь.
В серой мгле за окном навстречу поезду проплывали заснеженные поля, холмы, перелески.
Алексей Кондратьевич смотрел в окно и думал о том, что ожидает его в Москве. Как-то будет принята его новая картина?
Она складывалась, зрела подспудно уже давно. Самые первые наброски к ней были сделаны год назад, во время первой поездки на Волгу.
Поездка оказалась удивительно плодотворной — видно, таково уж влияние Волги на душу художника. Волжские просторы всколыхнули в нем новые силы, вызвали к жизни картину, которой он, пожалуй, может гордиться. «Печерский монастырь под Нижним Новгородом» хвалили самые тонкие ценители живописи. Картину сразу же приобрел собиратель картин, купец и фабрикант Третьяков. А главное — картина принесла удовлетворение самому художнику.
Впрочем, от той волжской поездки остались не только светлые впечатления, но и другие — тягостные, гнетущие.
В то лето он впервые увидел бурлаков — сгорбленные фигуры, изможденные лица, натертые лямками плечи, изъеденные потом лохмотья.
Сердце художника сжалось такой острой болью за судьбу этих людей, что поначалу он даже не раскрыл блокнота, не взял в руки карандаш. Только позже сделал несколько набросков.
Но в ту пору они так и остались набросками. Впечатления были слишком острыми, чтобы сразу сложиться во что-то цельное, завершенное.
А нынешним летом Саврасов решил писать пейзаж с бурлаками.
Он поселился в небольшом приволжском городишке Юрьевце. По утрам переправлялся на левый берег — отсюда открывался раздольный вид на Волгу с Юрьевцем на взгорье. В блокноте художника один за другим появлялись наброски: рябь волн на реке, низкое, нахмуренное небо, чайки, летающие над самой водой, бурлаки, тянущие баржу вдоль дальнего берега.
Перевозил его через Волгу сын почтового чиновника, в доме которого художник снимал комнату. Виктор учился в Московском университете и приехал к отцу на время вакаций. Он увлекался идеями Чернышевского, а в живописи его кумиром был Перов.
Обычно Алексей Кондратьевич молча и сосредоточенно работал, а Виктор, устроившись рядом на траве, рассуждал о жизни и искусстве.
Время от времени он подходил к художнику, чтобы взглянуть на его зарисовки.
Однажды юноша спросил:
— Как будет называться ваша новая картина?
— Еще не знаю. Может быть, «Волжские бурлаки».
Виктор изумился:
— Как! Вы пишете жанр?
— Нет, пейзаж.
— Пейзаж с бурлаками?
— Да.
Виктор надолго примолк, то и дело посматривая на художника, словно не решаясь высказать то, что думал.
— Что до меня, — наконец сказал он, — то я убежден: только жанровая живопись способна обличать темные стороны жизни, показывать страдания народа. Жанровая и отчасти портретная. Только они говорят на социальные темы языком доступным и внятным. А пейзаж… Самый красивый, выразительный пейзаж — лишь приятный для глаза «вид». Он молчит…
— Молчит? — удивился Алексей Кондратьевич. — А пейзаж в «Последнем кабаке у заставы» Перова! Помните?
— Еще бы! Это моя любимая картина. Я, когда увидел ее, ночь не спал, писал стихи — в первый и, возможно, последний раз в жизни. Кажется, начиналась моя поэма так:
Ну, и так далее — мысли и настроения, которые навеяла мне эта картина. Конечно, пейзаж в ней очень выразителен. Но согласитесь — это лишь декорация, фон для сюжета.
Саврасов не стал возражать.
Он был глубоко убежден, что пейзажная живопись может выразить и мысли, и переживания художника. Но словами тут ничего не докажешь. Пусть полотно скажет само за себя…
Фигуры бурлаков он поместит у дальнего берега. Не будет видно ни их изможденных лиц, ни натертых плечей — пейзаж, обычный волжский пейзаж. Да и назвать картину надобно как-нибудь ненавязчиво: просто «Волга», или «Волга под Юрьевцем», или «Волжский вид». Не сюжет, а общее настроение пейзажа будет вызывать ощущение тоски, тревоги, какой-то неясной угрозы.
Однако это были только замыслы.
В Юрьевце Саврасов успел сделать лишь несколько подготовительных эскизов: пора было уезжать, приближалось время начала занятий в Училище.
В Москве его ждала неприятность.
Уже давно нововведения руководителя пейзажного класса раздражали администрацию Училища. Теперь ее немилость нашла реальное выражение: Алексею Кондратьевичу предложили освободить казенную квартиру, которую он занимал в течение девяти лет, что было немалым подспорьем к его скромному заработку.
Начались утомительные хлопоты с переездом на частную квартиру. Удалось подыскать недорогую, но, по правде сказать, и неудобную. Денег постоянно не хватало — пришлось искать заказы. Их, как нарочно, не было. Наконец, один меценат пожелал иметь в своем собрании виды зимней Волги.
Сначала Алексей Кондратьевич отклонил это предложение: недавно начался учебный год, как он может уехать? Да его и не отпустят!
Но возможность пожить и поработать на Волге была так заманчива…
Начальство разрешило отпуск неожиданно легко, — можно сказать, охотно.
Саврасов с женой и двумя дочерьми уехал в Ярославль.
Город ему пришелся по душе.
Со Стрелки — высокого обрывистого мыса — открывался великолепный вид на скованную льдом Волгу и бескрайние заволжские дали, подернутые легкой морозной дымкой. Древние храмы поражали чистотой линий и стенописью, а малолюдные заснеженные улицы дарили ощущением покоя, особенно желанного после московской суеты.
Квартира на Дворянской была большой и светлой. По утрам Алексей Кондратьевич работал в своей мастерской. В высокие, разрисованные морозными узорами окна светило яркое солнце. Ничто не мешало, не отвлекало. Изредка проскрипят по улице полозья саней, из детской донесутся веселые голоса Верочки и Жени — и снова все стихнет.
Если было не слишком морозно, Саврасов отправлялся с этюдником в окрестности Ярославля. Нужно было выполнять заказ: от этого зависело благополучие семьи на ближайшее время.
Но тема бурлаков не отпускала и, наконец, целиком завладела им.
И вот картина готова, он везет ее на суд знатоков и публики.
Чем ближе к Москве, тем сильнее тревожился Саврасов: заговорит ли его пейзаж, как мечталось, языком «доступным и внятным»?
Окно вагона стало совсем черным. Горящая свеча отражалась в стекле; и казалось, что рядом с поездом бежит по снегу маленький желтый огонек…
«Волга под Юрьевцем» получила на конкурсе Общества любителей живописи первую премию.
Из письма А. К. Саврасова К. К. Герцу
Ярославль, 31 декабря 1870 года
«Сильные морозы в Ярославле не позволяют нам знакомиться с городом, а потому мы проводим время больше дома.
После всех хлопот я только теперь начал работать и очень доволен как мастерской, так и квартирой вообще».
Из письма С. К. Саврасовой К. К. Герцу
Ярославль, 27 января 1871 года
«Мы все здоровы и веселы, несмотря на то, что ведем жизнь чрезвычайно однообразную и тихую… Алексей прилежно работает над своей „Волгой“ и в половине февраля сам привезет ее в Москву».
«Грачи прилетели»
Степенный возница то и дело посматривал на нежданного седока: уж очень не вязалась с простецкими сапогами и курткой его хоть и помятая, но изящная шляпа.
— Землемер будете?
Саврасов с удивлением посмотрел на возницу. Потом согласно кивнул: землемер так землемер — лишь бы не вдаваться в долгие объяснения.
Они не потребовались: то ли обязанности землемера показались вознице слишком обыденными, чтобы продолжать расспросы, то ли сон его сморил. Он стал клевать носом, задремал, пробуждаясь только для того, чтобы подстегнуть пегую лошаденку.
Телега, поскрипывая и переваливаясь с боку на бок, не спеша катила по проселку. За ночь разбитые колеи дороги затянуло ледком. Впереди они отливали голубизной, за телегой тянулись черными лентами.
«Вовремя выехал, — думал Саврасов, — через неделю так развезет, что ни пройти, ни проехать».
Небо было уже по-весеннему высоким. Снег тяжелел, оседал на землю, оставляя в полях серовато-коричневые пятна. Ветви деревьев топорщились навстречу теплу. Воздух полнился запахом влажной земли, талой воды и еще невесть чего, что создает тот ни с чем не сравнимый запах, почувствовав который, говорят: «Весной пахнет».
— Скоро доедем?
— Вот оно, Молвитино. — Возница махнул кнутом в сторону показавшейся вдали колокольни.
Колокольня приближалась, росла, вслед за ней появились верхушки берез, крыши домов.
Седок спрыгнул с телеги.
— Я сойду…
Возница натянул вожжи:
— Еще не доехали, барин!
Саврасов только махнул рукой и зашагал по похрустывающему снегу. Он сам не знал, почему вдруг оставил подводу. Может, надоела тряска, может, поманили чем-то эти невзрачные, кривые березки с грачиными гнездами.
Художник добрался до березок, прислушался к веселому гомону птиц, направился к селу. Прошелся сельской улицей, остановился неподалеку от церкви, посмотрел на возню чумазых ребятишек.
Потом торопливым шагом вернулся на окраину села, словно боясь упустить что-то увиденное там.
Казалось — что тут привлекательного! Все донельзя обыкновенно, даже буднично: березки, за ними дощатый забор, сельская церковь, равнинные дали…
Пожалуй, в молодости художник прошел бы мимо такого ландшафта, поискал бы чего-нибудь более впечатляющего. Теперь в этой обыкновенности и виделась красота.
Впрочем, то, что набросал Саврасов в тот мартовский солнечный день на листе плотной бумаги, было всего лишь этюдом — заметкой на память. Что будет с этой «памяткой», он еще и сам не знал. Как не знает поэт, радуясь удачно найденной строке, вернется он к ней или нет. Она может так и остаться всего-навсего удачной строкой, написанной на клочке бумаги, ее могут заслонить более сильные впечатления, она может просто забыться.
«Памятка», сделанная в захолустье Костромской губернии, не забывалась.
Из весенней поездки Саврасов привез в Ярославль несколько зарисовок, набросков. Но, пересматривая их, он отложил в сторону плотный листок бумаги с молвитинским этюдом.
Пора было возвращаться в Москву. В просторной, светлой квартире на Дворянской улице складывали вещи. Вместе с тем овладевали привычные московские заботы, от которых за это время успели отойти.
Но ни дорожные хлопоты, ни встреча с учениками, занятия в пейзажном классе не заставили забыть об этюде, сделанном в солнечный мартовский день. Он то и дело напоминал о себе, как нежданно и негаданно вспыхивает в памяти недавнее радостное событие, счастливая находка.
Кто знает, почему это происходило. Может, потому, что все увиденное там, на окраине села, совпало с настроением художника, сплелось воедино «вижу» и «чувствую». Может быть, во всем была виновата весна. В эту пору Саврасову казалось невозможным сидеть в четырех стенах, он стремился вырваться куда-нибудь за город, быть поближе к природе, чтобы видеть, чувствовать ее пробуждение.
Рождение весны воодушевляло, прибавляло сил. И в то же время эта пора вызывала какое-то щемящее сердце чувство. Уже порозовели почки на березах, но на полях еще лежит снег. Весеннее тепло и зимний холод существуют бок о бок, как боль и радость, старость и юность, жизнь и смерть.
Возле молвитинской церкви стояли безмолвные старухи в черных платках, а по соседству ватага мальчишек затеяла возню с кудлатым псом. В талой воде весело поблескивало солнце, а у художника, когда он писал этюд, мерзли руки.
Приметы мартовского солнечного утра, сохранившиеся в памяти, день ото дня становились ярче, полнее. «Памятка» обогащалась новыми настроениями, мыслями, представлениями, как вслед за удачной строкой рождаются ей созвучные строки.
Работать над картиной Саврасов начал уже в Москве. За окном проносились экипажи, суетливо шагали прохожие.
Да и окажись художник в Молвитине — не узнал бы березок: давно уже прошла пора весны. Но те первые впечатления не угасли.
На картине осталось все, что было намечено в тот мартовский день: кривые березки с грачами, дощатый забор, деревянные постройки, колокольня…
Но все будто стало другим…
Саврасов писал не весну, а ее рождение, борьбу весны с зимой. Теплые тона солнечного света сочетались с холодными тонами неба, воды, снега. Контрасты цвета создавали ощущение неустойчивости, передавали то скрытое движение, которое царит в природе в эту пору.
Между облаками проглянул луч солнца — облупившаяся штукатурка порозовела, тусклым блеском вспыхнула старая медь колоколов. Но только на мгновенье. Вот-вот облака закроют солнце.
И облака — то прозрачные и тонкие, то более плотные, — казалось, непрерывно меняли свою форму, уплывали за горизонт.
Небо, усеянное мелкими облачками — без грозовых туч, лучезарного освещения, — впервые появились у Саврасова в пейзаже «Лосиный остров в Сокольниках». Затем, в полной настроения картине «Лунная ночь. Болото». Уже в этих полотнах возвышенная приподнятость создавалась не бьющими в глаза эффектами — чувствованием реальной, будничной природы. Но на этот раз это было особенно зримо и впечатляюще.
По-новому был написан и осевший под теплым весенним солнцем снег. Сама природа, казалось, подсказывала художнику новые решения.
Сначала прозрачная коричневая подготовка — земля. Поверх нее снегом легли белила. Коричневая подготовка кое-где выступает из-под белил — создается впечатление влажного, тающего снега.
А грачи?
В этюде это всего лишь пятнышки на березках. В картине они хлопают крыльями, взлетают, суетятся у своих растрепанных гнезд. Это беспорядочное, полное хлопотливой жизни движение, создает ощущение шума, гомона, птичьего крика…
Да, это тот самый момент, подмеченный художником в натуре. И в то же время не только он. Картина обогатилась всем, что пришлось пережить художнику, давними и сегодняшними мыслями и настроениями, наблюдениями не одного весеннего дня и даже не одной весны…
Да, это молвитинские березки, и дощатый забор стоял именно там, и церковь — нет сомнения! — молвитинская и никакая другая…
В то же время все, что изображено на картине, имеет отношение не только к небольшому селу Костромской губернии.
Разве старенькая церквушка не примета множества уголков сельской Руси? Разве не такие же дали открываются за околицей других сел и деревень? Разве не так же радуются весне люди, живущие в таких же избах и домиках среди лесов и долин, возле таких же берез?
То, что увидел и почувствовал художник солнечным мартовским днем, сложилось в поэтический рассказ о родине. Ее бескрайние дали, бедные селения — все мило сердцу, все дорого. Эта любовь дает силы, рождает надежды, как обещает тепло первый солнечный весенний день: грачи прилетели!
Друзья
Саврасов вышел из Училища и, мгновенье постояв в нерешительности, зашагал вниз по Мясницкой.
— Алеша! — окликнул его кто-то.
Он огляделся, выискивая знакомца. А когда увидел Перова, двинулся навстречу.
— Прикатил-таки!
Они обнялись с какой-то застенчивой сдержанностью, словно стесняясь радости видеть друг друга.
Сейчас надо бы устроиться где-нибудь, посидеть, поговорить по душам. Только вот — где? Кажется, чего проще — пригласить друга к себе. Но этого не хотелось. Не потому, что Софи станет корить, — она умела встретить, быть гостеприимной хозяйкой, — при ней не будет той простоты и открытости, когда можно и поговорить, и помолчать, радуясь близости понимающего тебя человека.
Алексей Кондратьевич растерянно поглядывал по сторонам, не зная, на что решиться:
— Куда же мы?
— А куда-нибудь по соседству, — улыбнулся Перов.
Через несколько минут они сидели за столиком незатейливого, полупустого в этот час трактира.
Выпили по рюмке горячительной. Закусили морошкой — ягоды, весело поблескивая, горкой лежали на тарелке.
Алексей Кондратьевич, откинувшись на спинку стула, посматривал на друга, улыбался. На душе у него полегчало, хоть еще ни о чем толком не успели поговорить. Да и не сразу решишь, с чего начать, — столько всего накопилось за то время, что не виделись.
Год назад родилось товарищество Передвижных художественных выставок. Под его уставом среди фамилий многих известных художников стояли подписи Перова и Саврасова. Для них цели Товарищества были близки и понятны. Создание картин, показывающих жизнь народа, его историю, красоту родной природы, — об этом думалось с давней поры, чуть ли не с ученичества. Мечталось о том, что искусство перестанет быть достоянием одиночек, станет необходимостью и любовью многих. Выставки Товарищества решено было показывать не только жителям столицы и москвичам, но и отправлять в другие губернии и провинциальные города.
Первая Передвижная выставка открылась осенью 1871 года в Петербургской академии художеств.
В залах было шумно, зрители спорили между собой, недоуменно пожимали плечами, громко восхищались. Картины говорили о тяжкой судьбе человека, бесправии народа, отличались свежестью восприятия мира, природы…
На выставке были представлены две саврасовских картины — «Дорога в лесу» и «Грачи прилетели».
«Грачи» стали украшением выставки. Картина открывала неведомые раньше возможности пейзажа. Еще живо было давнее представление, что пейзаж всего лишь фон — и не более. А вот смотрите, какая притягательная сила в скромном ландшафте, сколько глубины, настроения!
Из Петербурга Передвижная выставка переехала в Москву. А затем отправилась в Киев и Харьков.
И вот выставка вернулась в Москву. А вместе с ней и Василий Григорьевич Перов.
Саврасов, радостно улыбаясь, слушал рассказ друга о странствиях выставки, о том, сколько на ней перебывало посетителей. Но когда Перов заговорил об успехе его полотна — в поездку отправился «Лосиный остров» — о том, что имя автора «Грачей» становится все более известным, опустил голову, нахмурился.
— Тебе-то уж ни к чему повторять такое…
— Не буду, не буду, — спохватился Перов. — Я забыл, что для тебя похвалы — нож острый. Смущаешься, как красная девица.
Впрочем, на этот раз дело было не только в обычной застенчивости Алексея Кондратьевича. Теперь, как никогда, ему была понятна рабусовская нетерпимость к разговорам об удаче живописца — свалилась, мол, на человека, манна небесная.
Он с ученической поры постигал тайны мастерства, искал ответа у природы, у души и чувства. И вдруг на тебе: не говорят о том, каким долгим путем подбирался к «Грачам». Удача, мол, и все!
Если бы еще только от людей несведущих приходилось слышать такое. А то ведь…
В таких случаях похвалы теряли всякий смысл, казались чуть ли не обидой, ранившей глубоко и больно.
— Да ты к сердцу не принимай, — заметил Перов.
И, стараясь отвлечь друга от горьких мыслей, принялся рассказывать об Украине, о том, что там повидал: о Днепре, о киевском шумном базаре…
Перов обладал удивительной способностью подмечать все яркое. Его альбомы полнились живыми сценками, характерными, обращавшими на себя внимание лицами. А к тому же он был прекрасным рассказчиком.
Алексей Кондратьевич оживился — ему вспомнилось давнее ученическое время, когда он бродил в тех краях с рисовальной папкой в руках…
Друзья опорожнили рюмки, закусили сочной, освежающей морошкой. Саврасов взял было салфетку, чтобы стереть оставшееся на руке пятно ягодного сока, да залюбовался его цветом:
— Ишь, какой живой, теплый!
— Ты о себе почему молчишь? — спросил Перов. — У тебя-то как?
Что ответить? Если говорить только о делах житейских, пожалуй, только плечами пожмешь: столько всяких неурядиц — неизвестно, с чего начинать.
С той поры, как отобрали казенную квартиру, все пошло кувырком. Как будто пустяк, а жизнь никак не наладится, не войдет в колею. Снова бесконечные переезды с места на место. Каждый раз приходится подыскивать квартиру поскромнее, подешевле. Да и в семье отношения стали труднее, напряженнее. Софи нервничает. И понятно: одолевают лишения и неудобства. Вот сейчас хозяйка требует деньги вперед. Опять придется просить у Общества любителей художеств ссуду под залог картины.
А ведь, кажется, не плохи дела, совсем не плохи. «Грачей» сразу присмотрел для своей галереи Павел Михайлович Третьяков. На первую Передвижную выставку картина отправилась уже, как его собственность. В Петербурге заказали первое повторение «Грачей». Заказ был сделан самой императрицей. С виду — будто и желать лучшего не надо!
Да ведь рассчитывать можно только на жалованье. Если бы еще не злополучная квартира — куда ни шло. А так — не удается свести концы с концами.
Не смышлен он в житейских делах, не смышлен. Может, сноровки нет, может, настойчивости. А главное, душа не лежит ко всей этой мелочной суете. Вот все и не ладится.
Что об этом толковать — все равно ничего не изменишь. Да все и перетолковано уже и с Прянишниковым, и с Невревым — близкими людьми, художниками. А всего больше с Грибковым. Его особенно тревожат «Алешины неурядицы». Может, потому, что самому после окончания Училища пришлось узнать, почем фунт лиха: из бедняков — помощи ждать неоткуда. Только когда взялся расписывать церкви, дела поправились. А всего верней — такой уж он человек: нет для него чужих забот, всем готов прийти на помощь.
Когда Саврасов присылал Третьякову обещанные картины из Ярославля, просил, в случае, если понадобятся поправки, обратиться к Василию Григорьевичу Перову или Сергею Ивановичу Грибкову. Сергей тонко чувствует руку «друга Алеши», его манеру письма.
Но дружба с Грибковым все-таки больше житейская — с ним сам собой заходил разговор о всяческих невзгодах и неурядицах.
С Перовым говорить об этом не хотелось. И ему не легче: постоянно неможется, слаб здоровьем.
С Перовым у них свой разговор, свои заботы, о которых ни с кем другим не переговоришь.
Друзья доклевали морошку. Попросили принести еще. Уж больно хороша!
Заговорили об Училище.
Саврасов ведет пейзажный класс. Перов — натурный. Когда заходит речь об Училище, называют два этих имени. Они определяют все, что привлекает к Училищу молодые, свежие силы в искусстве.
Их отношение к своим обязанностям не имело ничего общего с установившимися в Училище традициями.
Обычно преподаватели ограничивались положенным обходом классов. При этом ученикам делались короткие, часто весьма поверхностные, а то и путаные замечания. Остальное предоставлялось начинающим живописцам.
В пейзажном и натурном классе преподавание строилось на постоянном общении с учениками. Требования перестали ограничиваться усвоением положенных правил — учитывались особенности каждого: в чем силен, в чем слаб, от чего следует избавиться, что хранить, беречь. От прежних сугубо официальных отношений между педагогом и его питомцами не осталось и следа. На смену им пришла душевная открытость и простота.
Перову казалось естественным после долгих часов занятий, предложить ученикам спеть хором. «Усталость песни боится, по себе знаю».
Саврасов не только работал над картинами в присутствии своих питомцев — делился с ними надеждами и планами. И они платили ему такой же откровенностью. В классе царила атмосфера радостной воодушевленности, близкие, простые отношения.
Однако то, что привлекало молодежь, не нравилось многим преподавателям. Успех полотен руководителя пейзажного класса на выставках только подливал масла в огонь.
Вот и недавно ополчились: и это не так, и то не эдак. Да все какие-то чиновничьи придирки. Будто говорят титулярные советники и прочие чины, а не педагоги Училища живописи.
Он, как всегда, сидел, опустив свою большую голову, потирал ладонь о ладонь и молчал. Не потому, что не знал, как ответить. Незачем говорить: не поймут.
Стоило вспомнить об этом — стало тоскливо, пасмурно на душе.
— Не пойму: чего они?
— А ты чего разглядывал там, на Мясницкой? — неожиданно спросил Перов. — Смотрю: стоит, в небо смотрит.
— Облачко такое несуразное приметил.
— Вот это им и не нравится. Они люди солидные, а ты облака считаешь.
Перов бросил в рот горсть морошки и с озорной веселостью посмотрел на друга.
— Вот славно-то, что приехал, — повторял Саврасов, — вот славно!
Из письма И. Крамского Д. Васильеву
«Теперь поделюсь с Вами новостью. Мы открыли выставку с 28 ноября, и она имеет успех. По крайней мере, Петербург говорит весь об этом… Пейзаж Саврасова „Грачи прилетели“ есть лучший, и он действительно прекрасный… душа есть только в „Грачах“»…
И. Крамской, художник
«Переходим, наконец, к пейзажам. Между московскими в высшей степени примечательны гг. Саврасов и Каменев. Прелестен большой пейзаж первого („Дорога в лесу“); но его „Грачи прилетели“, наверное, лучшая и оригинальнейшая картина г. Саврасова».
В. В. Стасов,«С.-Петербургские ведомости»
«…укажу из пейзажей на прелестную картину „Грачи прилетели“ г. Саврасова».
М. Е. Салтыков-Щедрин,«Отечественные записки»
«Проселок»
Пичуга сидела на обочине пустынной дороги серым комочком. Подходя, художник принял ее за камешек, а камешек вдруг выстрелил крыльями и взлетел над придорожной травой.
Саврасов остановился и, прищурясь, следил за птицей. Он не заметил, когда пичуга растаяла в солнечном сверкании: загляделся, как вступали на край неба медленные, величавые облака.
Потом опомнился, увидел, что так и стоит посреди дороги. Близко, за лугом, — осиновая роща. Дальше стеной поднимался лес.
Саврасов вздохнул полной грудью и двинулся по дороге своим широким, неустающим шагом. Он был счастлив, как может быть счастлив идущий на этюды художник в пору зрелости лет и таланта, когда и ноги крепки, и глаза зрячи, и рука уверенно сжимает кисть.
Решительно все удавалось ему последнее время. Он суеверно говаривал: «Не к добру». Но рука была точно крылатая.
Он шел, подгоняя себя, и ему была приятна тяжесть этюдного ящика, побрякивание в нем тюбиков с красками. Хотелось поскорее найти нужную натуру, не только увидеть, почувствовать — вот она! — остановиться, вынуть чисто отскобленную палитру и щедро выдавливать на нее нужные краски: сначала легкие, теплые, потом холодные, ощущая, как тяжелеет под их грузом палитра. Потом — наконец-то! — писать, писать…
Он шел теперь проселком среди тощих крестьянских полей, все нетерпеливее вглядываясь в разворачивающиеся по сторонам ландшафты. И все больше огорчаясь: день был не тот, свет неудачный, краски не горели, лишь тускло проглядывали сквозь марево.
…Ветер налетел внезапно, поднял и погнал по проселку пыль. Саврасов взбежал на пригорок и, вскинув разлохмаченную ветром бороду, смотрел, как в небе мешались облака, как они на глазах сбивались в тяжелую тучу. Стало вдруг тихо. Сверкнуло раз, другой, все замерло, прижалось к земле — страшно и близко раскололось небо. И тотчас первые капли тяжело ударили по голове и плечам. Он заспешил к придорожным ветлам. Пошел ровный, отвесный дождь.
Посветлело как-то сразу, вдруг.
Саврасов промок до нитки. Вода со штанов просачивалась в сапоги.
Он огляделся и не узнал места.
Земля была исхлестана дождем и ветром. Проселок раскис, в размытых колеях стояли мутные лужи в пузырях. Пригорок, на который только что поднимался художник, источили грозовые ручьи. Небо было еще беспокойное, еще толкались по нему тучи, но уже порожние.
Минута — и в их разрывы хлынуло солнце. Вспыхнули, заиграли лужи, звонкая, помолодевшая, объявилась трава на обочине, а пригорок показал нарядный красный глиняный бок.
И никого-то не было рядом, чтобы охватить душою народившуюся красоту. Только он…
Художник увидел — светло, радостно отзывалась земля высокому небу, только что отбушевавшей грозе…
Он написал свой «Проселок» единым дыханием, словно боясь упустить хоть частицу того, чем одарила его тогда родная земля, — ее праздничную красоту, ее неожиданное веселье, силу…
Прослышав о новой картине, приходили взглянуть на «Проселок» художники, друзья, давние почитатели Саврасова.
Заскакивали, придумав предлог, ученики. Топтались в прихожей, стесняясь мокрых ног и строгой хозяйки, от порога заглядывали в комнату, где один, посреди чистой стены, висел «Проселок».
Гости дружно сходились в похвалах новой картине, с жаром толковали о редкостном мастерстве ее живописи.
А Саврасову было отчего-то больно. Стыдно перед тем безымянным проселком, что выставил его перед всеми в дорогую, тайную его минуту.
Он так и не отдал «Проселка» на суд публики.
Позже он подарил его давнему своему другу и коллеге Иллариону Прянишникову.
Хорошее утро
Мороз жжет щеки, уши дерет.
Снег искрится на солнце. Заиндевевшие стены зданий розовы и палево-желты. Над крышами тянутся в небо золотисто-розовые и жемчужно-серые дымы.
Костенька Коровин, ученик Московской школы живописи, весело, чуть не вприпрыжку, спешит по Мясницкой. Под мышкой у Костеньки свернутые в трубку этюды, которые писал из окна своей комнаты, — сараи, забор, ветви деревьев.
Нынче судьба Костенькина решается, сердце у него колотится громко и часто, а все равно весело ему, бежит вприпрыжку.
На площади перед церковью Флора и Лавра, покровителей лошадей, рассыпным строем, как солдаты на плацу, смешно подпрыгивая, торопятся навстречу Костеньке голуби. Бойкие сизари, вперед-назад толкая головкой, снуют под ногами, тащат за собой по снегу полоску тени.
Костенька сворачивает направо в длинную подворотню, слепнет на мгновенье после яркого света и тут же выбегает на отгороженный от солнца высоким крылом здания серебристо-серый двор, исчерканный черными изломанными линиями кустарника, снова ныряет в темный подъезд, где сперва взбирается по лестнице почти ощупью и лишь минуту спустя начинает различать охру стен, неровную белую штукатурку, тусклый рыбий блеск стертых ступеней.
На верхний этаж Костенька взлетает, не задохнувшись. Здесь, по коридору, мимо дверей мастерских, идет медленнее, степеннее.
У двери с прибитой дощечкой «Мастерская профессора Саврасова» останавливается…
«Несмотря на ранний час, за дверью бренчала гитара и было слышно — кто-то пел. Я постучался. Гитара умолкла, и оттуда крикнули: „Иди!“
Я вошел и увидел освещенную комнату с большими окнами, у которых стояли картины на мольбертах, а слева в углу высоко наставлены березовые дрова. Около них сидел на полу С. И. Светославский — художник, ученик Саврасова. В руках у него была гитара. Против, на полу, лежал юноша с большими кудрями — И. И. Левитан. Поодаль, на железной печке, сторож мастерской солдат Плаксин кипятил в железном чайнике чай.
Светославского и Левитана я видел раньше у брата моего — Сергея. Это были его приятели.
Светославский взял с печки завернутую в бумагу колбасу, нарезал ее, положил ломтиками на пеклеванный хлеб, дал Левитану, а также и мне, сказав: „Ешь!“
— Это брат Сережи, — сказал он Левитану, показав на меня.
Налив в стаканы чаю, он сел на табурет и начал петь, аккомпанируя себе на гитаре:
Левитан надел сапоги и, встав, умывался в углу. Плаксин лил ему воду из ковшика. Вытираясь полотенцем, он смотрел на меня красивыми карими глазами и спросил:
— Костя, ты тоже сюда хочешь в мастерскую поступить?
— Да, — ответил я.
— И не боишься?
Я не понял и спросил:
— А что?
— А то, что мы никому не нужны. Вот что.
И, обернувшись к Светославскому, сказал:
— Я видел этюды его. Он совсем другой, ни на кого не похож.
— Ты архитектор, — сказал мне Светославский. — Мне говорил Сережа про тебя…
— Да, я потом буду архитектором… Мне не так нравится город, дома… Природа лучше… Я охотник…
— Виют витры, виют буйны, аж деревья гнутся, — запел Светославский.
В мастерскую вошли ученики Саврасова: Мельников, такой одутловатый, небольшого роста, — сын писателя Андрея Печерского; высокий Несслер; маленький Поярков, Комаровский, Ордынский…
Левитан повел меня к своей картине. Она изображала колеи снежной дороги, которая поворачивала в большой сосновый лес. Вечер, сосны освещало заходящее солнце.
— Последний луч, — сказал мне Левитан. — Что делается в лесу, какая печаль! Этот мотив очень трудно передать. Пойдем со мною сегодня в Сокольники. Там увидишь, как хороши последние лучи.
— Пойдемте, — согласился я, — только вот в Мытищах лучше лес „Лосиный остров“. Пойдемте туда.
— Это далеко, а здесь дойдем пешком. Только надо взять немного копченой колбасы и пеклеванный.
— Непременно, — соглашаюсь я, обрадованный, что со мной говорит старший, а сам думаю: „Есть ли у мамы деньги, а вдруг нет. Вот те и колбаса!..“
Отворилась дверь, и в мастерскую вошел огромного роста человек в башлыке с палкой. Он хлопал большими озябшими руками, согревая их. Вынул из пальто платок и стал вытирать себе замерзшие усы и бороду; улыбаясь, смотрел на нас добрыми глазами. Это был Саврасов.
— Да, да, — сказал он, как бы причмокивая, — зима… Как сады покрылись инеем! У меня в Печатниках — там из окна видно забор и около бузина, тоже в инее мороза, колодец заледенел, какие формы! Гм, гм! Надо смотреть, наблюдать: кто влюблен в природу — будет художник.
И, сняв пальто и боты, он посмотрел на меня и сказал:
— Брат Сергея? Да, мне Ларион Михайлович Прянишников говорил про вас, он помнит вас таким (и он показал маленький рост)… Покажите-ка ваши этюды.
Саврасов сел на табурет. Я развернул написанные на бумаге и холсте этюды с натуры и клал их на пол перед ним. Все будущие мои товарищи столпились сзади. Я в ужасе смотрел на свои работы и думал — это не то, это не картины: ветви сирени, снег, сарай, конюшня — что это за картины? Все не то…
— Да, да, — сказал, причмокивая, Алексей Кондратьевич, — он другой. Влюблен в цвет. Ну, а что вы скажете? — обратился он к окружающим ученикам.
— Весело, — сказал Левитан.
— Композиции нет, картины нет, — заметил Несслер.
— Что за охота писать заборы? — грустно вставил Поярков. — Это не пейзаж.
— Ну, отчего? Если он хочет. Только забор очень трудно написать, — смеясь, сказал Левитан. — Но тон у него есть. Правда в цвете…
— Классический, романтический пейзаж уходит, умирает — Пуссен, Калам, — сказал Саврасов. — Может быть, будет другой… Гм, гм, да, да, — неоромантика… Художники и певцы будут всегда воспевать красоту природы. Вот Исаак Левитан, он любит тайную печаль, настроение…
— Мотив, — вставил Левитан. — Я бы хотел выразить грусть, она разлита в природе. Это какой-то укор нам. А он, — жест в мою сторону, — ищет веселья…
— Красок, — сказал Саврасов.
— Какое веселье в заборах? — удивлялся Поярков.
— Не в заборах, а в красках веселье, — сказал Саврасов.
Я думал про себя: мне просто нравится писать…»
…Ног под собой не чуя, летит Костенька по Мясницкой. Принят! Надо поспеть домой — объявить и обратно: с Левитаном — в Сокольники.
Хорошее утро!..
Пройдут годы, а это солнечное утро навсегда останется в памяти художника Константина Коровина.
Этот день был не просто началом занятий в мастерской педагога, к которому Костенька мечтал попасть — это было событие, определившее всю его дальнейшую жизнь. Саврасовская мастерская стала для него вторым домом, как, впрочем, для большинства учеников, а для некоторых, например, для Левитана, который, не имея гроша за душой, скитался невесть где, часто и домом в буквальном смысле.
Конечно, администрация Училища не раз высказывала неодобрение и даже осуждение по этому поводу: «Что это за неуместные вольности!»
Однако профессор словно не слышал замечаний, не видел косых взглядов. Он знал, как тяжело приходится многим из его учеников, не имеющим порой куска хлеба. Где же им найти поддержку, где отогреться, если не в стенах мастерской.
К тому же это только с виду могло показаться, что ученики Алексея Кондратьевича распущены и своевольны. Здесь подчинялись той внутренней дисциплине, которая рождается среди людей, по-настоящему увлеченных своим делом. Если бренчала гитара — так для того, чтобы передохнуть после многочасовой работы. За чаепитием обсуждали сделанное, спорили, строили планы на будущее.
Все это Костенька принял сразу, все ему пришлось по душе и, главное, требовательная доброта и участливая взыскательность руководителя пейзажного класса.
Сколько раз Костенька простаивал на выставках перед саврасовскими полотнами, уходил и вновь возвращался, восхищаясь этим всюду проникающим светом, стараясь понять, как это все, чего коснется кисть художника — будь то невзрачное деревцо или обочина дороги — обретает красоту и очарование.
И вот он, Костенька, видит, как работает Саврасов — его мольберт стоит по-соседству.
Поначалу Костенька то и дело косил взглядом на учителя. Казалось, если бы можно было, только и делал бы, что следил за его работой, за каждым движением руки.
Но вместе с тем то, что рождалось там, на холсте, было так заразительно, так увлекало, что самому не терпелось взяться за кисть.
Да и не хотелось ударить лицом в грязь — потом будет обсуждение работ — всего, что сделано за день.
Костенька уходил из Училища заранее радуясь, что завтра снова придет в мастерскую.
«Учение в мастерской Алексея Кондратьевича Саврасова — одно из дивных воспоминаний моего детства… Мы, все его ученики, — Левитан, я, Светославский, мой брат С. Коровин, Несслер, Ордынский — мы все его так любили. Его огромная фигура с большими руками, широкая спина, большая голова с большими добрыми глазами, — он был похож на какого-то доброго доктора, — такие бывают в провинции… Говорил он, когда смотрел на вашу работу, не сразу, сначала как бы конфузился, чамкал: „Это, это не совсем то. Как вам сказать? Вы не влюблены в природу, в природу, говорю я. Посмотрите, вот я был на днях в Марьиной роще. Дубы — кора уже зеленеет. Весна чувствуется в воздухе. Надо почувствовать, надо чувствовать, как хорошо в воздухе чувствуется весна“. Поэт-то хотел, чтобы все разом стали поэтами. А мы восхищались и понимали… и шли гурьбой писать этюды… шли каждый день, с пятачком в кармане, и то не у всех, а у богатых. И едва, для экономии, выдавленными красками писали и писали…»
Каждая встреча с учителем открывала Костеньке что-то новое. Он снова и снова передумывал каждое его слово, открывая в них все больший смысл.
Нет, он говорил не только о любви к природе, но и о том, каким надо быть, чтобы почувствовать ее живое дыхание. Без этого бесцельно даже мастерское владение кистью, самая изысканная манера письма. Занятия Саврасова были уроками бескорыстного служения своему делу.
И Костенька Коровин был в мастерской уже своим. Саврасов теперь говорил ему «ты». А это случалось не сразу, служило подтверждением душевной близости с учеником.
Конечно, Костенька знал, что профессор не в чести у многих из его коллег, что на советах Училища в его адрес раздаются скептические замечания, а он, не то робея, не то теряясь, сидит, сложив на коленях большие руки, и молчит. Да и что мог он сказать в ответ на казенные холодные фразы.
Ответом будут работы его учеников и его собственные картины.
Каждый из учеников чувствовал себя причастным к тому, что сделано Саврасовым, — ведь многие из его работ создавались в классе, у них на глазах. Успеху его картин на выставке ученики, пожалуй, радовались больше, чем он сам. Его хвалили, о его работах писали в газетах и журналах. А он и в эти дни, когда, казалось, только бы радоваться, случалось, приходил на занятия сумрачный, угнетенный.
Ученики не знали, что тяготит его, но старались быть вдвойне внимательными, как могли, развеять его.
И Алексей Кондратьевич был внимателен не только к работам учеников, но и к их житейским невзгодам.
Костенька заболел. Несколько дней не был в Училище. А тут еще и дома нелады — трудно жилось ему в ту пору. Все казалось в темном свете — настроение хуже некуда.
Вдруг открывается дверь — на пороге Алексей Кондратьевич. Пришел навестить.
«Ты не печалься — все пройдет… Молодость счастлива, потому что она молодость. Если молодость не счастлива, значит, нет души, значит — старая молодость, значит — ничего не будет и в живописи — холод и машина — одна ненужная теория. Нужда в молодости нужна, без нужды трудно трудиться, художником трудно сделаться; надо быть всегда влюбленным, если это дано — хорошо, нет — что делать, душа вынута».
Не сразу Костенька осознал все, что дал ему учитель. Поначалу большее место занимало восхищение замечательным художником, трогательная привязанность. Понимание пришло позже, когда Константин Коровин стал известным художником.
В эти годы все связанное с учителем обрело новый смысл, стало страницами книги воспоминаний. Он начал их с того солнечного зимнего утра, когда впервые открыл дверь мастерской профессора Саврасова.
Тревога
Окно выходило во дворик с грязными остатками снега, с единственным кривеньким деревцем, пристройками и сараюшками.
Алексей Кондратьевич постоял у окна. Малое это пространство складывалось в мотив, замкнутый, во вкусе ученика Светославского. Но гамма была его, саврасовская, — коричневые оттенки сырого дерева стен, краснотца стволика, мягкий отсвет на всем едва проступившей, но уже, по-летнему высокой голубизны.
«А не написать ли дворик? — подумалось вдруг. — Не попробовать ли себя и в таком вот мотиве, тесном?»
Но он отмахнулся от этой мысли. Заниматься надо было делом. Он пошел к столу, к бумагам. Стоя, пробежал начатое:
«При поступлении моем на службу… я просил совет… разрешить мне учредить пейзажный класс… Совет дал таковое разрешение, и с того времени было положено… основание пейзажного класса при Училище».
Саврасов сел, стал писать дальше:
«Занятие в оном: изучение рисунка и живописи с оригиналов, изучение с натуры и исполнение программ с этюдов на серебряные медали — ныне ежедневны…»
Он приостановил перо и с удовольствием перечитал последнее слово — ежедневны. Было чем гордиться: в прочих классах Училища занятия велись через день, а о писании картин с этюдов не заходило и речи…
И тут же лицо его потемнело.
«В настоящее время считаю себя вправе, — с видимым усилием писал он дальше, — ходатайствовать об отводе мне квартиры как специальному преподавателю живописи, имеющему ныне в классе более 15 учеников».
Эти последние слова тоже были приятны. Мастерская, и правда, выросла, она на особом положении в глазах учеников Училища, она собирает таланты во славу русского пейзажа.
Но лицо Саврасова не прояснилось. Если бы можно было, он бы ничего не писал о себе. Нет, не писал бы, даже если бы не нужны были все эти «считаю себя вправе», «ходатайствую» и «покорнейше прошу».
Однако писать нужно, необходимо.
Ладно, хоть он один теперь в комнате, и никто, даже Софи, не видит его лица, когда он выводит в конце прошения свою подпись. Первую букву имени, похожую на домик с острой крышей, а потом все остальное — четкие и вместе детские, отдельно выписанные буквы фамилии, с росчерком после ера, в конце.
Точно такая же подпись стоит на «Грачах», «Проселке», на всех больших и малых его полотнах.
За это время успех его картин упрочился — стал неотъемлемой частью успеха передвижников. Саврасовские полотна постоянно украшают выставки Товарищества. Возле его картин толпятся посетители выставок, о нем пишут в газетах, величают «певцом Волги-матушки».
К волжским пейзажам, написанным в Ярославле, теперь прибавилось много новых. Да и не только мотивы могучей реки живут на его холстах. Появилось немало работ иного характера. Ну, хотя бы «Иней». Пожалуй, еще никому не удавалось с таким совершенством передать нежное свечение одетой инеем рощи.
А он — хочешь не хочешь — вынужден писать унизительные прошения.
Поколебавшись, художник дописал перед своим именем еще и «академик»…
И отбросил перо, помахал в воздухе листом, подул на строчки. Потом сложил листок вчетверо и, обернувшись, сунул в карман висящего на стуле сюртука.
Потер ладонь о ладонь, встал, прошелся по комнате. Опять потянуло взглянуть в окно: притягивал льющийся с улицы теплый и все разгорающийся свет.
Дворик смотрелся уже по-иному. Высветлились коричневые оттенки, проступило в них сухое, серебряное, и стволик не казался таким иззябшим. Снег заискрил, еще добавил света — все затеплилось радостью.
Снова мелькнуло: не написать ли дворик? Такой вот, принаряженный солнышком?
Но нельзя было упускать свет. Саврасов быстро прошел в угол за начатым на днях холстом, повернутым теперь к стене сырыми красками. Поднял легкий подрамник и, не глядя, поставил на мольберт. И только тут, отступив, с надеждой взглянул на холст.
И огорчился.
Про себя он уже назвал будущую картину — «В марте». Она, точно, изображала март: уставшие от снега поля, прутья кустов, наготу берез, унылую полосу обтаявшего леса за крестьянским двором.
Все было на месте. Был, точно, март, но какой же прозаический, холодный сердцем человек смотрел окрест себя…
Саврасов взялся подправлять, бормоча: «А вот мы тебя расшевелим», — но кисть ходила вяло, а в душе ничто не шелохнулось.
Что-то опять мешало уйти с головой в работу, снова, который раз за последний год, вдруг показалось — земля уходит у него из-под ног. Что ждет его? Средств не хватает. Начальство в Училище чинит помехи…
Он быстро пошел к шкафчику, где стояли бутылки с олифой и скипидаром, баночки с красками, где высохшим букетом торчали из высокой цветочной вазы кисти. Снял большую, темного стекла бутылку и просунул руку в открывшуюся щель. Там, в глубине, нащупал плоский флакон. Отвинчивая крышку, оглянулся на дверь и приложился прямо к горлышку. Поперхнулся, закашлялся, быстро спрятал флакон, водрузил на место олифу.
Внутри разливалось тепло, а вместе с ним незаметно пришла легкость.
В тот день он работал в мастерской с учениками. Передний план картины был уже выписан — покрытый свежей травой овражек. А вершины сосен на его противоположной стороне только намечены.
Он всегда любил писать верхушки деревьев, словно бы плывущие в небе вместе с облаками. С них и решил начать. Ему казалось — возьмется за работу, и все тягостные мысли и тревоги тотчас отойдут, забудутся.
Но в этот раз они не оставляли, не давая работать, — кисть валилась из отяжелевшей руки.
Время бежало, ученики, положив свои кисти, задвигались у него за спиной. Подошли и встали по сторонам, как всегда в конце занятий.
И сейчас сердце Саврасова сжалось от стыда, который он испытал тогда — будто его застали за чем-то недозволенным, пристыдили за какую-то слабость.
Саврасов снова полез было в шкафчик, но в комнату вошла Софи.
— Алексей… — произнесла она с укором и опустилась на стул, всем своим видом выражая отчаяние.
Он приготовился слушать ее — виновато. Но она против обыкновения молчала. Он удивился новому выражению ее лица — глаза прищурены, губы сжаты, подбородок остро выдался вперед.
Замкнутое, безжалостное лицо.
Он и раньше чувствовал отчуждение между ними. Оно стало сильнее, заметнее последний год. Он знал: Софи приводили в отчаяние их стесненные обстоятельства, необходимость высчитывать каждый грош, искать новые квартиры, все скромнее, все дешевле, и всякий раз отказываться от них. И девочки, слава богу, росли, требовались новые средства на их воспитание.
А рядом, тут же, в Москве, благополучный дом ее молодости, дом, в котором все ей привычно и мило. Бедная, бедная Софи! Москва с ее шумной, блестящей жизнью отравляла ее. Он знал — ей хотелось достатка, благополучия. Все чаще она гостила с девочками у брата, все трудней ей было возвращаться домой.
Саврасов понимал ее. А она? Понимала ли она его?..
Вот и сейчас молча ушла из комнаты, чтобы позвать девочек собираться в гости к дяде…
А он снова останется один, рядом с неудавшейся картиной, которая не дается ему, потому что он не умеет по заказу испытывать душевное волнение.
Что-то надломилось в его судьбе. Он искал и не мог понять, когда и почему такое случилось. Он вспоминал их жизнь на Волге, старый дом в любимом Ярославле, прогулки семьей в сторону реки, когда все ближе ее сырое дыхание, все нетерпеливее ожидание открывающегося простора.
Ничто не отвлекало его тогда от работы. О суете и треволнениях московской художественной жизни они узнавали с опозданием — из писем друзей и близких. А кратковременные наезды в Москву, всегда приносившие ему радость от встречи и разговоров с друзьями, заставляли еще больше ценить тихую, сосредоточенную жизнь в Ярославле.
И даже смерть родившейся в Ярославле дочери, ее могила, оставшаяся на волжском берегу, не отвратили его от Волги. Он слил свою боль с мыслями о собственной смерти, о бренности жизни перед лицом вечной и прекрасной природы.
Позже, когда писал «Могилу на Волге», печаль утраты сочеталась с верой в вечное обновление жизни — речные дали величавы и светлы.
Что же с ним случилось сейчас? С виду — будто ничего не изменилось, грех жаловаться. Его толпой окружали ученики, слава его упрочилась, рядом, как прежде, Перов, и Прянишников, и Карл Карлович Герц. А он чувствовал себя отрезанным ломтем, торопил долгие зимние месяцы — ждал счастливого времени летних вакаций, когда один или с кем-либо из учеников сможет уехать, наконец, на Волгу.
Он и теперь знает: все будет опять хорошо — только бы дождаться вакаций. Теперь уже скоро, уже март, близко весна.
Саврасов подошел к окну и снова увидел дворик с пятнами грязного снега. Нет, он дождется настоящих мотивов, ему нужны дали, простор, небо.
А пока он будет работать, он должен зарабатывать на жизнь. Он непременно к сроку выполнит заказ — мартовский пейзаж, стоящий у него на мольберте.
Но потом, когда-нибудь, он, возможно, напишет дворик.
Злые ветры
Они не заметили, когда в мастерскую вошел учитель. Не ждали его — он приходил теперь редко. И потом они были заняты: смотрели летние этюды. Левитан провел лето в Останкине, Костя Коровин писал Саввинскую слободу, а Светославский опять ездил на Украину.
И теперь они, и гордясь, и смущаясь, и радуясь встрече и новому началу их братства в Училище, показывали друг другу летние этюды. Раскладывали их на полу и слушали оценки друзей: «Это не прочувствовано, а вот тут хорошо, тут есть чувство». Именно это ценил в их работе учитель.
Тихо открылась высокая дверь. Саврасов вошел и притворил ее за собой, и остановился — еще более высокий на фоне узкой двери.
Окинул быстрым взглядом прибранную к началу занятий мастерскую, успел испугаться натертого паркета и оценить отмытые стекла. Еще успел неожиданно сильно, до сердцебиения, обрадоваться ученикам, их загорелым после лета, поздоровевшим лицам, даже тому, что не замечают его, занятые рассматриванием своих работ.
И тут они увидели учителя — худую громадную фигуру и странное его одеяние — шерстяные носки и опорки, и этот клетчатый платок на сутулящихся плечах, и нелепый своей яркостью красный бант у шеи.
А он уже шел к ним, осторожно ступая опорками по паркету и улыбаясь. Шел навстречу обращенным к нему лицам и видел, как удивление сменялось ответными улыбками.
Зазвучали радостные возгласы, кто-то кинулся за креслом, кто-то торопливо расшнуровывал уложенную было папку с этюдами.
А Костя Коровин молча, с сжавшимся сердцем всматривался в лицо учителя — похудел, в бороде и длинных волосах прибавилось седины, а глаза смотрели горько, тревожно.
— Ну что? — говорил Саврасов, по-стариковски опускаясь в кресло и улыбаясь своей робкой и доброй улыбкой. — Давно я не был у вас. Да… да… давно. Болен я… и вообще…
А взглядом он уже тянулся к разложенным на полу, у его ног, холстам и картонам. На них цвели летние, наивные своей молодой чистотой краски: желто блестели кувшинками речушки, буйствовали ветлы по их берегам, убегали в овсы белые тропинки, лежали в сумерках поля.
Тесно обступив кресло, ученики ждали, что скажет им учитель. А он искал глазами и безошибочно находил щедрые, растрепанные краски Костеньки Коровина и тихие, полные затаенной грусти этюды Левитана.
— Как молодо! Как прекрасно, свежо! А вот тут замучено — старался очень — не надо стараться. Муза не любит… Да, да… — Он задумался, опустив большую голову. И вдруг сверкнул на учеников упрямым, гордым взглядом: — А, знаете, муза-то есть, есть, редко с кем она в дружбе, капризна муза. Да, капризна, — глаза его спрятались за бровями, голос потускнел. — Да, да, капризна муза… Заскучает и уйдет.
Косте показалось — учитель думает о себе. Ему захотелось обхватить его за понурые широченные плечи, и встряхнуть, и закричать, что муза никогда не уйдет, она по-прежнему с учителем, она здесь, в их классе, вон за тем мольбертом, за которым еще недавно так любил писать учитель…
Но он не закричал, не обхватил учителя за плечи. Он поискал глазами Левитана и удивился сдвинутым черным бровям и выражению упрямства на его красивом лице. И тут же понял: он теперь тоже думает о музе, о своей музе — вдруг и она однажды заскучает и уйдет?
— Недавно погас юный, как вы, Васильев… — тихо заговорил Саврасов. — Это художник был огромный. Я поклонялся этому юноше. Умер в Крыму — горловая чахотка… Сколько он стоит, Васильев-то? — зло спросил он вдруг кого-то. — Никто не знает. И вообще, как расценивать. Я не знаю, что стоит серенада Шуберта или две строчки Александра Сергеевича Пушкина. Да, да… Ничего не стоят… На ярмарке вот все известно, кто чего стоит.
«Ярмарка»… Им было хорошо знакомо это слово учителя. «Ярмаркой» ругал он шумных почитателей модных картин, и важные разговоры несмыслящих в искусстве критиков, и самих художников-академистов, холеных, гладких, довольных собой и жизнью, и гладкие, холодные их полотна в громадных золоченых рамах. И всегда прежде при этом саврасовском слове «ярмарка» Костя Коровин мысленно видел учителя высоко на холме, на чистом ветру, с чистыми желтыми травами под ногами. Сегодня Костя этого холма не увидел.
— Да, да… — говорил между тем Саврасов, поднимаясь. — Долго я не был, хворал несколько. Да… Нравится мне, что вы никому не подражаете. Да… Я приду, а вы свободно подумайте, почувствуйте и пишите. Прекрасна природа, возвышайтесь чувством до нее…
И он как-то торопливо пошел, неслышно ступая опорками по паркету. По плечам его свисал старый клетчатый платок, и Костя Коровин вдруг подумал, что платок этот служит учителю еще и одеялом.
Саврасов обернулся у двери и, растерянно улыбнувшись, сказал:
— Я не совсем здоров… Ну, до свидания…
Ученики двинулись было за ним, чтобы продлить минуты встречи, проводить, как провожали раньше.
Саврасов запрещающе приподнял руку.
…Он сошел с крыльца и двинулся вниз по Мясницкой, все дальше от белеющих колонн Училища.
Шумная, деловая Мясницкая катила мимо него, грохоча по булыжнику железными ободьями колес. В глубине лавок и магазинов сновали приказчики, у купеческих контор дожидались наготове собственные запряжки — везти хозяев обедать в Охотный к Егорову, на блины и расстегаи, либо на Большую Дмитровку, в Купеческий клуб.
На Саврасова привычно накатывала тоска. Он знал, чем станет лечить ее, только не сейчас и не здесь, поблизости от Училища, от класса, где только что окружали его ученики. Воспоминание о встрече затеплилось в душе, снова вспыхнули в глазах летние краски, свежестью дохнуло от них, молодостью.
На него оборачивались прохожие, пялились купчики из пролеток. Но он ничего не замечал. Был далеко — среди лета: шел полем, берегом прозрачной речушки, торопился пустынным проселком к деревне, к белеющей над избами церкви.
…Он очнулся, ощутив усталость и шаткость своего шага.
У фонтана, на другом конце Лубянки, закричали, заспорили водовозы — как всегда, скандалили из-за очереди. Вывернула, грохоча, нанятая кем-то упряжка ломовиков, понесла прямо на Саврасова. Он метнулся в сторону и почувствовал себя униженным своим страхом. Старым почувствовал себя, никому не нужным: уходят, уже ушли от него ученики. Без него им бродить полями и перелесками России, без него любоваться Волгой…
Лучшие, любимейшие из них были бедны и талантливы. Он радовался их таланту и был доволен, что они бедны. Только бедности по плечу каторжный труд художника.
Он проверил это на себе, на своей молодости. Тогда бедность помогала пробиться к мастерству. Ничего, казалось, не стоило годы положить на писание своих картин.
А потом он устал. То, что хорошо и нужно для безвестного таланта, несправедливо для него, академика, первого пейзажиста России.
Со дна души поднималась злость — на себя и на них, на всех этих людей, которые хотят заставить его поверить, что жизнь его в искусстве кончилась прославленными «Грачами». В эту минуту он готов был ненавидеть лучшую свою работу — она стояла на его пути такая ясная, так полно и чисто выразившая его сокровенную мысль, что временами казалось — больше ему нечего сказать. Вот и газетки пишут про то же. Никогда они не баловали его своим вниманием, и он не жалел об этом, знать не хотел, какую цену ему назначат на «ярмарке». Куда дороже для него были поздравления друзей-художников, восторги учеников, публика, толпившаяся возле его небольших полотен.
Стоящий у чьих-то ворот дворник в белом фартуке проводил его неодобрительным взглядом, в котором, однако, проглядывало невольное почтение к этой мощной фигуре, с развевающейся бородой, широко ступавшей по грязи в своих опорках.
А мысли Саврасова снова горбили ему плечи…
Кто мог ждать, что удача вдруг обернется бедой для него? Он работал, не жалея себя. Два года спустя после «Грачей» написал «Проселок». Его хвалили за настроение, за новые для художника звонкие краски. И… вспоминали «Грачей». Он тогда горячился, болел за свое новое дитя, которому теперь отказывали в любви.
Он не подозревал, что теперь так будет всегда, что отныне любая новая его работа будет сравниваться с «Грачами» и разом тускнеть от такого сравнения.
Он-то любил каждую настоящую свою работу — любил за холодок восторга перед явившимся мотивом, за нетерпенье пальцев, сжимавших еще чистую кисть. Любил за трудное, мучительное писание, когда неделями бьешься, чтобы выразить красками нечто ускользающее, передать живое дыхание натуры. Он работал по-прежнему — много, увлеченно. В последующие годы показал «Могилу над Волгой», «Радугу», «Дворик». И все повторялось: хвалили, даже поздравляли, но в памяти всех сидели «Грачи».
И страшное сомнение незаметно вползло ему в душу. А вдруг они правы, и он так и умрет художником одной картины? Уже умер: никто не помнит прежних его работ, никто не хочет ценить новые. Словно черная дверь наглухо захлопывала его от мира. Зачем он теперь, когда его «Грачи» уже написаны?
Но он не хотел жить в искусстве вчерашним днем! Он еще полон сил, он и сейчас был бы счастлив бродить по волжским берегам. А пальцы его и во сне продолжают водить по холсту кистью.
Шли месяцы, годы поисков, а он все еще не мог выразить себя. Каждый новый написанный им мотив силился и не мог передать затаенной боли, комком стоявшей у горла.
…Дождь постепенно усилился. Капли срывались с намокших волос, холодили шею. На минуту Саврасов приостановился — перед ним лежала пустынная Театральная площадь.
Он свернул влево, под городскую стену, и быстро пошел к Охотному, навстречу наплывающим от рядов тяжелым запахам ржавой селедки, убоины, горячих потрохов. На ходу проверил карман — под рукой глухо звякнуло серебро.
А впереди, обещая тепло и утешение, уже маячила аршинная вывеска извозчичьего трактира «Лондон».
Беда не приходит одна
Только когда швейцар распахнул тяжелую дубовую дверь, Алексей Кондратьевич понял, куда пришел.
Он не собирался заходить в Училище. Подвела привычка: стоило оказаться на Мясницкой, ноги, что называется, сами принесли к дому с колоннами.
Мгновенье Саврасов растерянно смотрел на швейцара, не зная, что сказать. Потом шагнул было к парадной лестнице и на полпути остановился. Конечно, он придет сюда: не изживешь вот так сразу многолетнюю привязанность, не вычеркнешь из сердца. Но сейчас это было выше его сил.
— Вот как оно обернулось, — только и произнес он.
Но в его вдруг потемневших глазах сквозила такая боль, что швейцар испуганно охнул:
— Алексей Кондратьевич! Да что же это вы так, особливо здесь!
Стоять в подъезде было действительно нелепо. Еще далеко не все ученики разъехались в летние поездки. Да и кто-нибудь из бывших коллег мог появиться. Начнутся расспросы, или, еще того хуже, участливые слова, за которыми ничего не стоит, кроме желания поскорей окончить разговор. Кажется, лучше сквозь землю провалиться, чем пережить такое. Но кидаться в спасительное бегство тоже не хотелось.
«Надо же было забрести сюда!» — корил себя Алексей Кондратьевич.
Швейцар смотрел на него с неподдельным сочувствием.
Саврасов махнул рукой: веди, мол, куда хочешь, лишь бы не стоять здесь, на ходу.
Плаксин распахнул дверь в швейцарскую:
— Располагайтесь, Алексей Кондратьевич. Отдохнете, а потом, куда душе угодно. Я сейчас приду. Располагайтесь.
В сумрачной комнатенке особенно располагаться было негде: узенькая кровать, стол да колченогий стул, садиться на который казалось рискованно.
Саврасов сел на кровать и закрыл глаза: они снова болели, как уже не раз за последнее время. Боль ослабла, но перед глазами появилась белесая пелена.
«Только этого недоставало!» — подумал Саврасов. И тут же забыл о своей хворобе. Таким пустяком казалась она по сравнению с тем, что обрушилось на него.
Хлопнула тяжелая дверь. Затем снова открылась…
Там шла своя привычная жизнь. На лестнице слышались чьи-то голоса. А в дверях швейцар приветствовал кого-то, с отработанной за долгие годы сноровкой. Каждому входящему — положенное внимание в зависимости от его, Плаксина, отношения. Инспектору самый низкий поклон. Но он говорит не столько об уважении, сколько о разнице положения: ты на одном конце жизни, я — на другом. Я кланяюсь — ты киваешь.
Алексею Кондратьевичу поклон куда меньше. А то ведь не успеешь словцом переброситься. Пусть простым, будто ничего не значащим, но говорящим о душевном расположении…
Особым вниманием отмечал швейцар и саврасовских учеников. Когда карман пуст, а впереди выезд на натуру — они спешили к Плаксину. У отставного солдата всегда находился четвертак для такого случая. «Как можно без куска хлеба за город — на весь день небось отправляетесь. Как можно!»
Саврасов сам не знал, почему вдруг стал вспоминать все это. Может быть, потому, что не было сил думать о том, последнем ударе, обрушившемся на него…
Вдруг нестерпимо захотелось оказаться где-то далеко от этих стен, парадной лестницы, классов, знакомого стука тяжелой двери подъезда.
Саврасов поднялся, вытер глаза — надоевшая пелена как будто исчезла — и снова опустился на кровать. Потом лег, закинув руки за голову.
Идти было некуда. Да и зачем бежать от того, что уже его не касается? Двадцать пять лет он отдал Училищу, двадцать пять лет, не считая поры ученичества. А теперь не нужен…
Во всем так — словно оборвалось что-то, сместилось, он оказался в стороне от привычных дел и забот, от семьи…
Как это случилось? С чего началось?
Поди разберись теперь! Тут все надо переворошить, перебрать в памяти множество неурядиц, размолвок, неустройств.
Нет, он старался разделаться с ними.
Лишили казенной квартиры. Сказали: из-за того, что у него мало учеников. Сомнительный резон. Ясно, что дело просто в отношении к нему, Саврасову. Но он все-таки писал прошения, два раза писал. Особенно подробное после того, когда учеников стало больше — интерес к пейзажной живописи все возрастал. И что же? Дважды писал — дважды получил отказ.
Просил предоставить место преподавателя акварельной живописи — все-таки было бы легче. Опять отказали.
Что оставалось делать? Брать заказы на картины. Он так и поступал, хоть и чувствовал, что работа часто становится бездушной. Из-за спешки, из-за заданности настроения, необходимости угодить заказчику, наконец.
Он писал повторы уже написанных картин. На них всегда находились охотники. Но сколько раз можно повторять самого себя? Глядишь — то, что было найдено, прочувствовано, становится холодным, безжизненным. И он бросал работу. Не мог уничтожать самого себя.
А Софи не могла жить в постоянной нужде, устала считать каждую копейку…
Иногда казалось — будь жива тетенька Елизавета Даниловна, все еще могло как-то сладиться. Она умела незаметно смягчить отношения, найти нужное слово…
Впрочем, то, что было возможно в те годы, теперь бы уже не получилось. Все слишком далеко зашло. Оба они устали: и Софи, и он. У каждого свои тяготы. Он устал от постоянного ощущения вины. Даже когда Софи молчала, ему чудился упрек в каждом жесте, взгляде.
Он не в силах был постоянно нести это бремя, хотелось сбросить его, уйти, забыться. И он уходил. Исчезал из дома на несколько дней. Потом не стало дома: жена с девочками переехала на другую квартиру.
Пусть так — он ни в чем не винил Софи, нет. Наверно, так должно было случиться. Но его девочки…
Пожалуй, он сам не знал, как ему станет их не хватать, как захочется увидеть, хоть издали взглянуть на них.
Он отправился к ним. Походил вокруг дома, постоял у двери. Наконец решился — позвонил. Долго не открывали, потом вышла горничная, сказала: «Нет дома, уехали». А он-то знал — дома они…
Боль, которую он испытал тогда, снова сжала сердце. Он вскинул руки, словно желая стряхнуть горькие мысли, и замер.
В швейцарскую заглянул Плаксин.
— Я сейчас, Алексей Кондратьевич, — увидев, что гость лежит с закрытыми глазами, он на всякий случай говорил шепотом. — Еще чуток отстою и вернусь. Я сейчас.
Саврасов не отозвался. Он пытался вспомнить, что с ним было потом, после того, как он оказался один. Но ничего толком не мог вспомнить. Сумятица какая-то, нагромождение событий, мыслей.
В Училище стал наведываться реже. Иногда неделями не появлялся. Еще недавно не поверил бы, что такое может случиться. А вот случилось. Не мог прийти к ученикам опустошенным, словно у него что-то отняли, отобрали.
Становилось легче — приходил. Потом снова изменяли силы, и он опять исчезал. Где только не скитался, с кем не оказывался рядом…
Ему вдруг отчетливо увиделось милое лицо Сережи Грибкова. Наверно, потому, что в его доме становилось легче, светлее на душе.
Он направлялся в грибковскую мастерскую церковной живописи у Калужских ворот, когда становилось совсем невмоготу.
Грибков радостно улыбался: «Наконец-то пожаловал!» — не знал куда посадить, как угостить лучше. Но первым делом отправлял Саврасова с кем-нибудь из подмастерий — у него всегда были в учениках пять-шесть юнцов — в баню у Крымского моста.
Оттуда Саврасов возвращался подстриженный, посвежевший, одетый в грибковское белье и платье. Начиналась светлая пора отдохновения от всяческих мытарств и скитаний.
Грибков помогал многим обездоленным живописцам. А уж для Алеши на все готов. Да и его ученики ловят каждое слово Алексея Кондратьевича: как же — знаменитый художник!
Саврасов застенчиво улыбался, светлел лицом, словно набирался сил для новых испытаний.
Они не заставили себя ждать.
Жизнь сводила Саврасова со многими людьми. Среди них были и милые сердцу: те, о ком помнил, кого ценил. А вот друзьями не избалован, да и у кого их много, друзей! После Александра Воробьева только с Перовым сблизился по-настоящему. Эта дружба была и поддержкой, и радостью, спасением от многих бед и житейских неурядиц. И вот умер Перов. Умер от той же болезни, что и Воробей, — одолела чахотка. Так же, как и Воробей, мужественно боролся с болезнью, так же не хотел показывать виду, как ему порой приходилось тяжело.
Со смертью Перова оборвалась еще одна ниточка, связывающая Саврасова со всей прежней жизнью, словно со смертью друга умерла какая-то часть его самого.
Не случись этой беды, может быть, все сложилось бы по-другому…
Впрочем, за это время и Саврасов стал другим.
Пришел он на посмертную выставку Василия Григорьевича Перова. Остановился возле своего портрета — Перов писал его года за два до смерти. Саврасов смотрел на картину, а виделось ему то давнее время, когда позировал другу, вспоминались те давние разговоры…
Потом пригляделся — да он ли это?
Может, тогда и был таким, а теперь не узнать — совсем стариком стал, все переменилось…
Саврасов поднялся и с изумлением оглядел тесную комнатенку, забыв на мгновенье, где он, и почему здесь оказался. Столько лет проработал в Училище, а в швейцарскую будто не заглядывал. Нет, заходил поблагодарить Плаксина за внимание к одному из самых любимых учеников — Исааку Левитану. В ту пору негде ему было жить — тайком пробирался в верхние этажи Училища на ночь. А швейцар хоть и знал об этом, да помалкивал. А однажды пригласил Левитана к себе.
«Интересно, как они здесь устроились вдвоем в этакой тесноте?» — подумал Саврасов.
Вошел Плаксин.
— Полегчало, Алексей Кондратьевич? — спросил он. И, не дождавшись ответа, добавил уже самому себе: — Полегчало, вижу, что полегчало.
Он засуетился, не зная, что сказать, что предложить, а еще больше, как разговорить нежданного гостя.
Саврасов сидел и смотрел на клочок неба, видневшийся в маленьком оконце.
— Оба мы с тобой отставные, — сказал он наконец, — ты солдат, а я…
Алексей Кондратьевич взглянул на Плаксина: знает ли он о том, что произошло?
Впрочем, как не знать: слухами земля полнится. Да и решение совета не вчера состоялось — чуть не месяц прошел с того дня. Всем об этом решении давно известно. Только он ничего не знал. И поговорить не сочли нужным. Прислали бумажку — и баста: пора и честь знать, убирайтесь восвояси — уволили.
— Так-то, Плаксин…
— Да вы не расстраивайтесь, Алексей Кондратьевич, чего уж тут…
Саврасов невесело ухмыльнулся. Теперь, в самом деле, ничего не изменишь. Одной бедой меньше или больше — чего считать.
— Это уж завсегда так, — словно угадав его мысли, закивал Плаксин. — Пришла беда — открывай ворота!
Письмосекретаря совета Московского художественного общества А. К. Саврасову. Июнь 1882 года«Господину преподавателю Училища живописи, ваяния и зодчества, академику, надворному советнику Саврасову.
По распоряжению совета имею честь уведомить, что 22 мая с/г. советом общества Вы уволены от ныне занимаемой должности».
Секретарь советаЛев Жемчужников
Из дневникадочери А. К. Саврасова Веры Алексеевны Саврасовой«Когда моя мать переехала на отдельную квартиру, отец часто приходил к нам, продолжал интересоваться нашим учением. Разлука с семьей очень удручала его, но средств для жизни с семьей он не имел. Мать наша старалась, чтобы мы, дети, не знали о его жизни».
Москва-река
Когда гравер Иван Павлов вспоминал свое детство, он всегда рассказывал об этой встрече…
В то лето он жил вместе с родителями в деревне Строгино.
Поутру Ваня сбежал по петляющей среди берез тропинке к реке и замер от неожиданности.
На обычно безлюдном берегу сидел, положив на колени большие узловатые руки, седобородый старик в длинной серой блузе.
Может быть, мальчуган прошел бы мимо старика, но он смотрел окрест с таким вниманием, будто видел что-то необычайное. А вокруг все было донельзя обыкновенно: поблескивающая на солнце река, поросший травой берег, сбежавшие к самой воде березки.
Это казалось загадочным, непонятным.
«Откуда он пришел? — думал мальчуган. — Что здесь делает?»
За спиной старика, на траве, лежала потрепанная рисовальная папка.
«Художник», — догадался Ваня.
О том, что он встретился с Алексеем Кондратьевичем Саврасовым, мальчуган узнал позже, после того как рассказал о седобородом старике отцу: кто-то уже видел художника в этих краях.
Потом мальчуган узнал и о бедственном положении некогда прославленного художника: о преследующей его нищете, о трущобах, в которых он ютится. Об этом любили потолковать досужие языки — сетовали на превратности судьбы, сокрушались о погибшем таланте.
Оснований для подобных толков как будто было более чем достаточно. Работы Саврасова перестали появляться на выставках. Имя художника уже не встречалось в газетных статьях…
А его нынешнее положение было достаточно известно — он оказался в «подвале жизни». Ему приходилось продавать свои произведения подворотным букинистам по цене ненамного больше той, что он получал когда-то на толкучке за свои детские рисунки, украшать отдельные кабинеты трактиров за скудную трапезу и рюмку горячительной, платить своей работой за ночлег. Прожил как-то несколько дней у владельца магазина эстампов «Ницца» — оставил в уплату за приют вариацию на тему знаменитых «Грачей». Несчетное число саврасовских работ рассеялось по торговым рядам и лавкам — больше художнику нечем было расплатиться.
Где уж тут, кажется, думать о серьезной работе, сохранить прежнюю требовательность к себе!
Но вот забрел однажды к Саврасову на Моховую в меблированные комнаты его давний приятель художник Неврев. Вошел — и застыл в дверях, потрясенный стоявшей на мольберте картиной. Накануне он видел только подмалевок. А сейчас вид из окна был почти закончен: старый запущенный сад, за сетью голых ветвей берез чуть тронутая румянцем зари заснеженная крыша, весеннее голубое небо.
Неврев глаз не мог оторвать от картины.
— Это же прежний Алексей Кондратьевич! Та же нежность красок и вместе с тем сила! — рассказывал он потом.
Но кто его мог услышать? Горстка людей, да и тем рассказы о значительности новых работ художника часто казались несовместимыми с холстами, которые писались за «хлеб-соль».
Между тем одно не исключало другое.
Да, Саврасов бедствовал, жил в нищете. Действительно, в эти годы появилось немало холстов, созданных с единственной целью — хоть немного заработать. Недаром их окрестили «рыночными». Но даже среди них встречаются картины, написанные с подлинным вдохновением. Талант Саврасова не угас. И в эти годы он оставался тонким и ищущим художником, все его мысли были по-прежнему отданы любимому делу. Даже оказавшись в незнакомом доме, он, застенчиво улыбаясь, просил бумагу и карандаш:
— Привык что-нибудь чертить за разговором…
В эту пору он обратился и к новой для себя области: его рисунки появились на страницах московских журналов. Та же уверенная рука, точность, изящество. И вместе с тем — глубина, настроение.
А в живописных работах порой появлялись новые, несвойственные ранее черты. На многих полотнах исчезают мягкие полутона — картины полыхают пятнами цвета. Иногда буйное цветение красок впечатляет, иногда цвета начинают «кричать», враждовать между собой…
Может быть, к этому приводили поиски новых живописных решений. Может, болезнь глаз — тонкости полутонов временами начинали ускользать. Может, стремление хотя бы на мгновенье уйти от мрачной беспросветности…
Так или иначе, смятением и тревогой веет от этих полотен.
А соседствуют с ними пейзажи, насыщенные прежним лирическим настроением. Будто художник снова обрел силы и с всегдашней доверчивой зоркостью смотрит на милые сердцу места, открывая в них неведомые раньше черты.
Пройдут годы, и исследователи будут изучать произведения этих страшных для Саврасова лет, открывать новые, неизвестные ранее полотна.
В ту пору, когда Ваня Павлов встретился с художником, да и значительно позднее, о большинстве саврасовских работ этой поры не знали. Они оказались у случайных, часто равнодушных к судьбе художника, людей, разлетелись по частным собраниям, что, впрочем, никак не влияло на положение Алексея Кондратьевича. Он попал в зависимость к торговцам, которые скупали его картины за гроши. Что поделаешь — надо было как-то жить, платить за жилье.
Художник менял одну квартиру на другую, еще более дешевую. А когда даже самая дрянная городская квартира оказывалась не по карману, селился где-нибудь за городом. Так было и в это лето.
Рано утром он вышел из дома с рисовальной папкой и побрел вдоль берега Москвы-реки, всматриваясь в отражающиеся в притихшей воде облачка, прислушиваясь к веселому щебету птиц.
У деревни Строгино Саврасов решил то ли передохнуть, то ли засмотрелся на березы, чередой спускавшиеся к реке, и прилег на траву…
Мальчуган долго не решался подойти к этому странному человеку, неожиданно оказавшемуся на берегу.
— Что вы тут делаете? — спросил он наконец.
Старик едва заметно улыбнулся — дрогнули губы, собрались морщинки у глаз.
— Наблюдаю природу, чтобы потом нарисовать все, что увижу, — ответил старик. Потом помолчал, будто решая, стоит ли продолжать, и добавил: — Вот и ты наблюдай природу. Не только смотри, сердцем чувствуй ее красоту. Потом напишешь…
Память об этой встрече Иван Павлов сохранил на всю жизнь.
Из прошенияА. К. Саврасова в комитет Московского Общества любителей художеств«Милостивые государи! На основании устава Общества я имею случай обратиться в комитет Общества и просить выдать мне денежное пособие на лечение из фонда престарелых художников.
Я в настоящее время не вижу по часу форму предмета, в этом состоянии я не могу нарисовать или написать что-либо…
Почтительнейше прошу удостоить…»
Дом в Лаврушинском переулке
Ветер был по-зимнему свеж, а солнце уже светило по-весеннему. На Кадашевской набережной дворники кирками скалывали лед.
— Посторонись!
Со звоном куски битого льда соскользнули с лопаты в темную воду — у берегов Яуза уже открылась. Ледяные глыбы на мгновенье погрузились в воду и тут же всплыли.
Саврасов плотнее надвинул шляпу и двинулся, обходя груды битого льда, к Лаврушинскому переулку. Дорога знакома. Бывало, катил здесь на извозчике, а теперь вот шагал, шаркая разбитыми башмаками.
Пожалуй, встреться ему какой-нибудь знакомец — не пришлось бы объяснять, куда направился, сразу бы определил: в конец переулка, к дому за солидной оградой. Теперь даже трудно представить Лаврушинский без этого дома. Да что там переулок — Москва, кажется, оскудела бы без него, потеряла одно из своих приметнейших мест.
А ведь слава его родилась не так уж давно — на глазах у Алексея Кондратьевича.
Все началось с того дня, когда обширный дом с садом и пристройками приобрел купец Третьяков. Это произошло в ту пору, когда Саврасов только-только вышел на самостоятельную дорогу, получил право называться художником. Чуть позже владелец дома начал собирать картины русских художников. Поначалу собрание было невелико — умещалось в кабинете Третьякова. Теперь, спустя три десятилетия с лишним, перекочевало в залы. Картины — собственность Третьякова. Но теперь собрание именуется городской картинной галереей. Сюда открыт доступ всем желающим.
В галерее немало саврасовских работ. Здесь и «Вид в окрестностях Ораниенбаума», и «Печерский монастырь», и «Лосиный остров», и, конечно, «Грачи прилетели».
— Ваши «Грачи» смотрю по нескольку раз в день! — говорил Третьяков Алексею Кондратьевичу. — Хороша картина! Ох как хороша!
Похвала создателя галереи была приятна: он разделял устремления художника, поддерживал отказ от пустых эффектов. «Хоть лужу мне напишите, но чтобы в картине была правда, поэзия», — говаривал он.
«Вот ведь как, — думал Саврасов, — коллеги того не понимали, что было ясно Третьякову. А ведь он не живописец, а купец, фабрикант. Но мыслил, чувствовал…»
Третьяков был не только собирателем картин, но и другом многих художников. Он умел и ободрить и поддержать.
А в поддержке нуждались и начинающие и прославленные живописцы. И их допекала постоянная погоня за куском хлеба. Хорошо бы целиком отдаться давно задуманной картине, да ведь для этого надо хоть какое-то время не думать о деньгах. А где их взять? К кому обратиться за помощью?
К владельцу дома в Лаврушинском переулке. Если верил Павел Михайлович в художника — ссужал деньгами.
— Напишете картину — сочтемся!
Не раз обращался к нему за помощью и Саврасов. И в те годы, когда еще был преподавателем Училища и с виду казался процветающим художником. А уж в это, лихое для него время, и того чаще. Хоть и не любил обращаться с просьбами, да больше ничего не оставалось.
Он остановился у ограды, вдруг оробев, засомневавшись: идти или не идти? Затем, что-то пробурчав себе под нос, направился к подъезду.
Его проводили в небольшую, солидно обставленную комнату.
— Подождите здесь.
Саврасов оглядел низкие, обитые коричневой кожей кресла, словно выискивая место попроще. Но больше устроиться было негде. Он выбрал кресло у окна — сел, сжимая в руке помятую шляпу.
Алексей Кондратьевич приготовился к долгому ожиданию: явился без приглашения, а хозяин человек занятой.
Но Третьяков не заставил себя ждать. С деловитой доброжелательностью поздоровался и сел напротив посетителя, будто не замечая его жалкого одеяния: короткой ветхой кофты, несвежей рубашки, разбитых башмаков.
— Вы положите шляпу-то, — только и произнес он.
— Ничего… привык…
Павел Михайлович вытащил платок и стал тереть им нос, не то потому, что успел простудиться, постояв где-то на весеннем ветру, не то по привычке.
Весь его вид как бы говорил: «Хочешь рассказать о себе — хорошо, нет — твое дело. Я выпытывать не стану».
В другое время это молчание, пожалуй, смутило бы Саврасова, а теперь трогало, даже радовало. В нем было куда больше истинного внимания, чем в участливых расспросах о его житье-бытье, которыми досаждали при встрече некоторые старые знакомые. Будто не знали… не видели.
Алексей Кондратьевич и всегда-то был легко раним, а в нынешнем положении особенно чувствителен ко всему, что хоть как-то задевало, ущемляло его достоинство, независимость…
Вот недавно разыскала его домовладелица госпожа Киндякова. Немало времени потратила на розыски. «Я, — говорит, — поклонница вашего таланта. Немыслимо, чтобы художник жил в таких условиях. Вы устали, измучились, я знаю, как вам тяжело. Мой дом в вашем распоряжении — только работайте!»
Предложение было сделано с такой обезоруживающей простотой и душевной открытостью, что, казалось, нельзя было не принять его.
Художник поселился в доме Киндяковой на Большом Николо-Песковском. Начал работать — сам удивился, как легко писалось. Закончил одну картину, взялся за другую. Все будто хорошо…
И вдруг, шагая однажды по переулку, услышал, как кто-то сказал за его спиной: «Если бы госпожа Киндякова не пригрела этого живописца — совсем бы пропал».
Сердце Саврасова сжалось — лучше бедствовать, чем попасть в такое жалкое положение. Дом, недавно казавшийся гостеприимным, стал неуютным, чужим, чужими стали холсты и краски. Какая уж тут работа! Замкнулась, замолчала душа. Теперь хотелось одного: поскорее уйти отсюда, уйти, куда глаза глядят!
«Пожалуй, не всякому и объяснишь такое, — думал Саврасов, — вот Павел Михайлович понял бы, если б узнал об этой истории».
Третьяков уже знал о ней.
Домовладелица прислала ему письмо: сообщала, что Саврасов находится на ее попечении, что последние работы художника достойны Третьяковской галереи.
А теперь было ясно и чем кончились заботы домовладелицы. Посещение Саврасова говорило само за себя.
То, что художник в трудную минуту пришел к нему, Третьякову, отчасти было даже приятно. Он знал его щепетильность: не ко всякому придет, не у всякого попросит.
— Павел Михайлович, мне нужно полтораста рублей, — со спокойной откровенностью сказал Саврасов. И, помолчав, добавил: — Очень нужно.
Третьяков кивнул: дескать, я так и предполагал. Но не поднялся, не обронил ни одного слова, думая о чем-то своем.
Он никогда не ссужал деньгами просто так, считал недостойным ни себя, ни просителя благодетельствовать. Сказывалась и купеческая жилка — чего зря деньгами сорить! Обычно деньги считались авансом за ту или иную картину. Вот и сейчас Третьякову вспомнилось незаконченное полотно Саврасова: елки по овражку вниз идут, спускаются к родничку.
— А вы бы, Алексей Кондратьевич, закончили елки-то — хороша картина, — сказал он. — Ну и получили бы сразу все.
Саврасов задумался, потом вскинул кудлатую голову:
— Сейчас не могу. Трудная вещь. Зеленая. Лета жду. Зимой не могу.
И замолчал, посматривая куда-то в сторону: мол, я свое сказал, теперь слово за тобой.
Молчал и Третьяков. Сидел, тер платком нос. Потом поднялся.
— Подождите здесь. Сейчас я принесу из конторы деньги.
Едва захлопнулась дверь за Третьяковым, словно обожгла горькая мысль: вот сидит он, ждет, когда ему вынесут деньги, словно милостыни дожидается. И так страшно сделалось и унизительно…
Когда Третьяков вернулся, Саврасова в комнате не оказалось. Не нашли его и в выставочных залах: решили было, что он туда направился. Сомневаться не приходилось — Саврасов ушел. Но почему?
Третьяков перебирал в памяти все, что было сказано: не задел ли ненароком чем-нибудь Саврасова? И не находил ничего, что могло бы его обидеть.
Павел Михайлович не мог понять, что случилось. При каждой встрече с теми, кто знал художника, спрашивал: «За что на меня обиделся Саврасов?»
Но все только пожимали плечами. Саврасов отошел от круга людей, с которыми некогда встречался. Почти никто его не видел, не знал, в каких трущобах он обитает. За последнее время он переменил несчетное число квартир.
Тем не менее Третьяков не отступился. Как же так? Сам пришел — и вдруг исчез. А ведь зря просить не станет. Деньги-то ему позарез нужны. Ясно, что позарез.
Разыскали-таки место, где обитал Саврасов.
Третьяков тотчас послал ему обещанные деньги с маленьким письмецом: дескать, вы просили деньги — вот они.
Ночлег
Хитровский рынок всегда в дымке тумана. Площадь расположена в низине, неподалеку от Яузы, к тому же постоянно чадят в небо жаровни уличных торговок, продающих всяческую копеечную снедь. А сегодня, после недавно прошумевшего дождя, кажется, облако опустилось на Хитровку. В тумане снуют взад и вперед оборванцы, обитатели ночлежек — они тут чуть не в каждом доме.
Саврасов стоял у обшарпанной стены «бунинской» ночлежки — их называли по фамилиям владельцев — в ветхой блузе и широкополой помятой шляпе. С виду он ничем не отличался от других обитателей Хитровки. Вот разве рисовальную папку, вернее — переплет какой-то громоздкой книги, который служил ему папкой, не часто увидишь в руках обитателей ночлежек. Впрочем, здесь ничем не удивишь, всякого навидались.
Если он и обращал на себя внимание, так спокойной независимостью. Казалось, забрел сюда случайно, видит и не видит все, что творится вокруг, думает о чем-то своем.
Он жалел, что пришел. Не потому, что его смущала хитровская сутолока — не впервой забрел сюда.
Иногда приходил, потому что больше ничего не оставалось, кроме ночлежки, негде было голову приклонить. Иногда — потому, что устроиться где-нибудь за рогожной занавеской казалось менее унизительным, было легче, чем принимать милостивые приглашения чужих людей, чувствовать себя обязанным. Здесь никто ни о чем не спрашивал. Не перед кем ответ держать. Плати — вот и все, что требовалось.
Но сегодня даже пятак на счету. В кармане только несколько медяков. Правда, завтра, может, удастся разжиться деньгами. Но это еще вилами на воде писано.
Все вышло не так, как предполагал.
Кажется, заставь Саврасова вспомнить все адреса, где находил пристанище, — не назвал бы! Истрепанный вконец паспорт пестрит пометками о прописке. Когда не удавалось обосноваться в Москве, ютился где-нибудь за городом. Оттуда сегодня и прибыл. Надо было побывать в редакции журнала. На его страницах однажды уже появились саврасовские рисунки. Обещали взять еще: принесите что-нибудь в таком же духе!
До города путь не близкий — попал в редакцию после полудня. К тому же нужного человека не оказалось на месте. С ним был уговор, он просил принести рисунки. А тут незнакомые люди. Саврасов сразу смутился, почувствовал себя лишним. Даже не поинтересовался, когда лучше прийти, поспешил проститься.
Только выйдя на улицу, подумал, что надо было попросить хоть немного денег вперед. А то как же он обернется до завтрашнего дня? Но возвращаться не хотелось. Да и обращаться с просьбой к незнакомым людям неприятно. Уж лучше как-нибудь перебиться, решил он. Хотя не знал толком, что делать, куда отправиться. Наверно, поэтому и оказался на Хитровке.
А может быть, потому, что сегодня забрел на Мясницкую, где все напоминало о прошлом, возвращало в давнее время, которое теперь казалось каким-то призрачным: не то было, не то не было…
Церковь Фрола и Лавра — здесь отпевали Василия Перова. Дом возле Меншиковой башни. Когда-то с ним связывались только радости и надежды. Сейчас и он напоминал о потерях. Уже давно нет в живых Константина Герца. А теперь вот и Карла Карловича…
Все на Мясницкой памятно и знакомо. Не только каждый дом — каждый подъезд, каждая вывеска. Здесь он бывал начинающим художником, здесь ходил преподавателем Училища живописи. А теперь, казалось, стал чужим. Встреться ему кто-нибудь из давних коллег — пожалуй, не узнают. Его, нынешнего, будто не существует для них. Он где-то там, в прошлом, когда его именовали профессором, когда его картины появлялись на выставках.
Конечно, они дороги ему, те давние работы, это часть его самого, его мыслей, души. Но он не хотел жить прошлым. Он и сейчас много работал. В его папке лежали новые рисунки. А люди словно не замечали этого или не хотели видеть.
Эта ставшая привычной боль завладела им с неожиданной остротой, и он побрел куда глаза глядят, словно желая стряхнуть, развеять тягостные мысли. Вот и забрел на шумную Хитровку.
Так или иначе, теперь он жалел, что оказался здесь.
Саврасов оглядел туманную площадь и двинулся из низины Хитровского рынка вверх по переулку. Он решил направиться к своему давнему приятелю и почитателю, сотруднику многих мелких газет и журналов Ивану Кузьмичу Кондратьеву. Авось застанет его — давно не виделись.
К тому же Кузьмич обещал продать хоть одну картину за настоящую цену. А то ведь, хоть и много сделано за это лето, все придется отдать за гроши. Вдобавок уже почти все давно полученные. Если Кузьмичу посчастливится, можно будет хоть немножко поправить дела, устроиться в Москве.
Поднявшись на пригорок, Саврасов на мгновенье остановился, посмотрел на склонившееся над оградой дома деревце, на прояснившееся, наконец, небо, словно надеясь вернуть ту спокойную радость, которая не покидала его там, в подмосковных полях и рощах.
Он любил первую встречу с натурой, когда вместе с радостью овладевает робость: не изменила ли рука, не ушла ли способность чувствовать? Особенно, если отправлялся в места, где все знакомо до каждой тропинки, каждого кустика. Вдруг все окажется просто привычным, не заговорит по-новому, не поразит чем-то, чего раньше не приметил. Тогда все будет мертво. Может, и похоже, но бездушно.
Как будто не мог не видеть фабричных труб над Москвой — не за один день выросли. И из села Волынского они не раз открывались перед ним. А вот однажды увиделись как-то иначе, словно обещание чего-то нового, еще неведомого. Может, из-за сочетания фабричных труб с куполами древних церквей. Может, влажный туман и облака дыма навеяли настроение тревоги, ожидание чего-то еще неизвестного…
Он и сам, пожалуй, не знал, как рождается это чувствование натуры. Но это было его тайной радостью, о которой он и думал-то с суеверной опаской: не спугнуть бы, не потерять.
Но он напрасно тревожился: эта способность не изменит ему. Она откроет прелесть ничем с виду не примечательного уголка в Лужниках. Всего-навсего черная полоса вспаханной земли. Вот как будто и все. Но земля вместе с невзрачной избушкой составят что-то бесконечно близкое человеческому сердцу, заговорят, задышат теплом и светом. Он назовет картину «Огороды». Она станет одной из лучших его работ.
Но все это будет потом.
А пока он брел по Каланчевскому переулку к четырехэтажному кирпичному дому, в просторечии именуемому «Балканами». Здесь, на чердаке, в тесной комнатенке, выгороженной среди труб, жил Кондратьев. Стены комнатенки были завешаны саврасовскими рисунками, набросками пейзажей Подмосковья — Кунцева, Сокольников, Коломенского. Когда Саврасов принимался рассказывать о том, как собирается компоновать картину или уже скомпоновал, — тотчас брался за карандаш.
Саврасов нащупал ногой ступеньку и зашагал по лестнице, придерживаясь рукой за стену: перила были сломаны. На площадке третьего этажа остановился, ухмыляясь про себя: раньше не замечал, что лестница так крута.
Передохнул, двинулся дальше.
Вдруг острая боль пронзила ногу, Саврасов прислонился к влажной стене, едва не выронив папку. И замер: когда такое случалось, оставалось — набраться терпения.
Боль так же внезапно отпустила. Саврасов вздохнул с облегчением и не спеша, со ступеньки на ступеньку поднялся на чердак. Из-под дощатой двери кондратьевской комнаты тянулась полоска света.
— Принимай гостя, Кузьмич!
Записка,поданная профессором А. Померанцевым вице-президенту Академии художеств И. Толстому«В бытность мою в Москве, мне пришлось познакомиться с тем бедственным положением, в котором находится один из выдающихся русских художников, Алексей Кондратьевич Саврасов. Достигнув преклонного возраста… (А. К. Саврасову за шестьдесят лет), этот больной человек вынужден подвергаться самым крупным лишениям: при всем том, ознакомившись с последними работами А. К. Саврасова, например, с его картиной „Огороды“, виденной мною в числе других его вещей у одного из моих знакомых и писанной в прошлом, 93-м году, я не могу не выразить уверенность в том, что художник даже за эти последние, бедственные для него годы, не утратил своей способности и мастерства по части пейзажной живописи: то же должен сказать и о виденных мною его рисунках. Насколько я мог убедиться из личного наблюдения, бедственное положение художника зависит главным образом от того, что, будучи очень нетребовательным и непритязательным в материальном отношении, он за последние годы попал в руки некоего, эксплуатирующего его талант, торговца, который, продавая его картины по дорогой цене, сам оплачивает их грошами, постоянно держа художника в состоянии задолженности и невозможности сквитаться: из наведенных мною справок оказалось, напр., что картины А. К. Саврасова, проданные за несколько сот рублей, были оплачены ему несколькими десятками рублей, что известно и самому художнику и на что он даже не жалуется, по-видимому, почти примирившись со своей тяжелой долей».
«Белеет парус одинокий»
Саврасов, тяжело ступая, подошел к окну и отдернул линялую ситцевую занавеску.
Всю ночь шел снег — во дворе все искрилось и белело. А голые деревья казались истошно-черными, словно нарисованными углем.
Но сегодня они не наводили тоску, не навевали печальные мысли об уходящей жизни, тающих силах. Думалось о другом: пройдет не так уж много времени, и деревья снова зазеленеют.
Алексей Кондратьевич сам не знал, почему вдруг затеплилась в душе эта радость. Может, яркий, искрящийся на солнце снег в первое утро Нового года показался добрым предзнаменованием…
Саврасов двинулся было к перегородке, за которой хлопотала по хозяйству Дуняша. Но остановился на полдороге: не выскажешь то, что жило в душе, — не мастак он на такие разговоры. Да и ни к чему они. Дуняша и так все поймет по его вдруг помолодевшему лицу, по заблестевшим радостью глазам.
Нелегко делить с ним жизнь. Это Алексей Кондратьевич понимал — нелегко. Пожалуй, если бы и отступилась — не осудишь. А вот уж сколько лет вместе. И никогда ни слова.
Дуняша приняла его таким, какой есть. Не сетуя, переносила лишения и невзгоды. А они сыпались осенним дождиком, которому не видно конца.
Зато, как нежданный просвет среди обложивших небо туч кажется особенно ярким, так вдвойне заметна каждая, пусть маленькая, радость.
Последнее время Алексею Кондратьевичу стало уже не под силу бродить с рисовальной папкой по подмосковным рощам и перелескам. А без этого жизнь лишалась света и радости, скудела. И вдруг снова оказался среди природы.
Нет, не из-за милости людей состоятельных — благодеяний Алексей Кондратьевич не терпел. Тут другое — пригласили давать уроки рисования. Почему не принять такое предложение? Не благодетельствовать собирается господин Шелапутин, а за уроки платить. Вот и попал Саврасов на Шелапутинскую дачу в Покровское-Фили.
Там он встретил раннюю, только-только рождающуюся весну. На рисунке, сделанном в эту пору, черные стволы деревьев, перед ними луговинка, покрытая влажным, тающим снегом.
Там он бродил по одетым молодой листвой рощам. И снова работал, работал…
К тому же уроки хоть немного поправили дела — совсем было плохо. Единственный постоянный доход — двадцать пять рублей пособия от Общества любителей художеств. На такие деньги и сыт не всегда будешь. А тут все-таки смогли снять хоть и дрянную, в старом деревянном доме, но городскую квартиру, возле Бородинского моста.
Кто знает — может, еще и улыбнется удача, выдадутся светлые дни…
Предчувствие не обмануло: в наступившем году работалось много и легко. Особенно карандашом. Правда, рисунки в основном были навеяны впечатлениями той давней поры, когда он бродил по волжским берегам, плутал проселками Костромской губернии. Художник возвращался мыслями в прошлое, в нем черпал сюжеты своих рисунков.
Но вспоминать не то, что видеть. В воображении все становилось иным, окрашивалось нынешними мыслями и настроениями. Сегодняшнее видоизменяло, строило пейзаж, насыщало всем тем, что терзало и мучило. Рисунки захватывали напряженностью и остротой чувств: злые, предвещающие недоброе тучи, плывут по небу, полнится скорбной печалью заброшенное кладбище, клонятся, покорные всесильному ветру, деревья на волжском берегу.
Туда, на берега Волги, унеслись его мысли и сейчас, когда он потянулся за карандашом. Перед ним снова возник бескрайний разлив могучей реки — он увидел его впервые под Юрьевцем. Его снова манил волжский простор — все затопила подернутая рябью, поблескивающая на солнце, вода.
Однако в этом рисунке не было ни щемящей тоски, ни смятенья — в нем словно отразился свет нынешнего утра. Парус, возникший на горизонте, говорил не об одиночестве, а о надежде: еще на многое достанет сил, еще многие из заветных желаний осуществятся! Хорошее начало Нового года — доброе предзнаменование. И, словно подтверждая эту уверенность, художник пометил под рисунком — он назвал его «Белеет парус одинокий» — дату: «1 января 1894 года».
Сегодня верилось, что еще не раз удастся побродить по берегам Москвы-реки, засмотреться на легкие облачка, плывущие в небе, подивиться их отражению, что надоевшие болезни отступят, останутся позади.
В свое время Алексею Кондратьевичу казалось — не будет знать устали. Но, видно, всему приходит конец: сначала подвели глаза, теперь мучили ноги, отказывались служить.
Правда, пока что Дуняше удавалось справляться с его болезнью. Помогали не столько мази и примочки, сколько внимание и забота. Отлежится денек-другой — глядишь, обошлось, полегчало.
Но уже не за горами день, когда Евдокия Матвеевна поймет, что ее старания ни к чему не приведут, не принесут облегчения доморощенные средства, — нужен лекарь.
Она торопливо пересчитает оставшуюся в ящике стола мелочь и ужаснется: кого пригласишь за такие гроши.
Евдокия Матвеевна набросит платок и побежит к «добрым людям», на ходу перебирая в памяти всех, кто мог бы чем-нибудь помочь.
Ей помогут устроить мужа во 2-ю Градскую больницу, в отделение для бедных.
Каждое утро станет она приходить сюда и, устроившись на дощатой скамье, ждать лекаря, чтобы узнать о здоровье Алексея Кондратьевича, испросить свидание…
Но однажды лекарь сам выйдет ей навстречу:
— Госпожа Моргунова… — начнет он осторожно и беспомощно разведет руками.
Евдокия Матвеевна не вскрикнет, не произнесет ни слова, только прислонится к обшарпанной стене, бессильная перед тем, о чем не решился сказать лекарь.
Это случится три года спустя.
А сегодня она радовалась, что Алексей Кондратьевич повеселел и, по обыкновению что-то бормоча себе под нос, принялся за работу.
Из статьи И. Левитана, помещенной в газете «Русские ведомости»«Не стало художника А. К. Саврасова, не стало одного из самых глубоких русских пейзажистов… мне как его ученику и поклоннику хотелось бы кратко определить то значение и влияние какое имел Саврасов в русском пейзаже…
До Саврасова в русском пейзаже царствовало псевдоклассическое и романтическое направление… Саврасов радикально отказался от этого отношения к пейзажу, избирая уже не исключительно красивые места сюжетом для своих картин, а, наоборот, стараясь отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле…
Да, покойный Саврасов создал русский пейзаж, и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества. Было бы крайне желательно, чтобы в возможно скорейшем времени была устроена посмертная выставка только что скончавшегося художника. Тогда всем стало бы ясно, какого талантливого и самобытного художника мы лишились».
Иллюстрации
А. К. Саврасов.
А. К. Саврасов.
Вид в окрестностях Ораниенбаума. 1854 г.
Пейзаж с рекой и рыбаком. 1859 г.
Пейзаж с дубами. 1860 г.
Лосиный остров в Сокольниках. 1869 г.
Печерский монастырь под Нижним Новгородом. 1871 г.
Грачи прилетели. 1871 г.
Разлив Волги под Ярославлем. 1871 г.
Проселок. 1873 г.
Зимний пейзаж. 70-е гг.
Могила на Волге. 1874 г.
Дворик. 70-е гг.
Ночка. 1883 г.
Воробьевы горы близ Москвы (рисунок).
Проталина (набросок).
Содержание«Непутевый» … 7
Особняк с колоннами … 18
Возвращение … 26
«Камень у маленького ручья» … 33
Портрет … 38
Чугунка … 46
Титулярный советник … 53
«Тетенька» … 60
«Лосиный остров» … 71
«Волга под Юрьевцем» … 77
«Грачи прилетели» … 83
Друзья … 89
«Проселок» … 97
Хорошее утро … 100
Тревога … 110
Злые ветры … 117
Беда не приходит одна … 124
Москва-река … 133
Дом в Лаврушинском переулке … 138
Ночлег … 145
«Белеет парус одинокий» … 152
М. Нирод — «Непутевый», «Особняк с колоннами», «Возвращение», «Камень у маленького ручья».
А. Владимиров — «Портрет», «Чугунка», «Титулярный советник», «Тетенька», «Лосиный остров», «Грачи прилетели», «Друзья», «Беда не приходит одна», «Дом в Лаврушинском переулке», «Москва-река», «Ночлег», «Белеет парус одинокий».
З. Веселая — «Волга под Юрьевцем».
Е. Акбалян — «Проселок», «Тревога», «Злые ветры».
В. Ильин — «Хорошее утро».