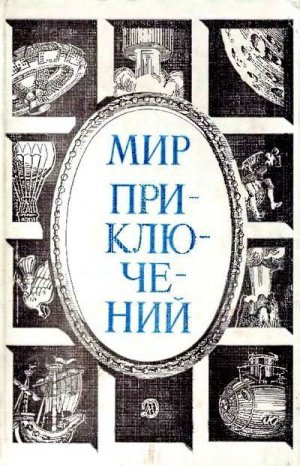
За дверцей старинного шкафа
Я начинаю эти записки, побуждаемая непреодолимой потребностью рассказать людям о пережитых мною ужасах и об опасности, нависшей над беспечным человечеством.
Людям свойственно помнить о хорошем и забывать о плохом. Эту особенность человеческой психики использует христианство с его культом непротивления злу. Оно эксплуатирует пришедшую к нам из первобытных пещер тягу к дружной совместной жизни и стремится подменить ее расслабляющей догмой всепрощения.
Но мой маленький опыт отвергает всепрощение. В мире еще есть зло! И если с ним не бороться, оно, действуя коварно и тайно, способно взять верх над благодушествующей добротой. Зло может заставить саму доброту служить черным целям. И это особенно опасно.
Я сижу перед окном, выходящим на море. Рядом на кровати неподвижно лежит единственный близкий мне человек. Слезы мешают писать, но это слезы счастья. Я знаю, все будет хорошо. В жизни, как и на море, невозможен вечный штиль. Бури неизбежны. Нужно лишь заранее крепить паруса. Нельзя допустить, чтобы буря застала нас врасплох.
Все это выглядит бессвязным, я понимаю, но впечатления прошедших дней еще слишком свежи, и я петляю, как ученик перед дверями школы, в которой ему предстоит трудный урок. Но я не вычеркну эти строки. Пусть читатель войдет в этот рассказ вместе со мною так, как я вхожу в него здесь, за этим маленьким столом, и входила там, под сияющим солнцем Сан-Франциско, когда такси остановилось на Юнион-сквер у подъезда старого серого дома, в котором помещалась контора моего отца.
На площадке второго этажа висела строгая табличка с надписью «В. Бронкс» и под нею кнопка. Звонка не было слышно, но дверь отворилась, и толстенький человечек, поклонившись, сказал:
— Доброе утро, мисс Бронкс, разрешите представиться, Генри Смит к вашим услугам. — И, отступив в сторону, добавил: — Разрешите проводить вас к вашему отцу.
Он открыл остекленную дверь старинного книжного шкафа, которая, к моему удивлению, повернулась вместе с полками и корешками книг. За ней оказалась вторая дверь, обитая черной кожей. Я подумала: «Как в романе» — и прошла мимо посторонившегося мистера Смита.
Отец поднимался из-за стола, на котором лежали какие-то бумаги, и, улыбаясь, протягивал мне руку. Второй рукой он указывал на кресло, стоящее перед столом.
Невольно вспомнилось, как ректор университета во время моего прощального визита вышел из-за стола и, пока я пересекала кабинет, сделал мне навстречу не менее десяти шагов.
Пожав руку отца, я взглянула на неудобное кресло, которое, по-видимому, допускало лишь две позы — независимо развалиться в его глубинах или остаться сидеть на краешке, не опираясь на спинку, а в лучшем случае — прислонясь к ручке. При современной моде первая поза была бы слишком вызывающей и не подходила даже для встречи с родным отцом. Я села на широкую ручку.
— Ты не амазонка, а доктор философии, — сказал отец. Он уже сидел очень прямо и глядел мне в глаза вопросительно и строго.
Мой отец, Вильям Бронкс, с тех пор как я его помню, отличался стройной суховатой фигурой спортсмена и седой шевелюрой, разделенной косым пробором. Впрочем, это была не классическая седина преуспевающего дельца. Это был цвет смеси перца с солью, причем соли было больше, чем перца, и с каждой встречей соли прибавлялось. Таким же был и характер отца. Но в характере все больше преобладал перец.
По-настоящему я узнала отца всего около года назад. Пятилетней девочкой я попала в провинциальный американский пансион, затем в колледж и наконец в Калифорнийский университет. Отец навещал меня не чаще раза в год. Иногда и этого не было. Но деньги аккуратно приходили с пометкой на бланке: «По поручению, Г. Смит».
Во время последнего приезда отец спросил о моих планах: не собираюсь ли я замуж, где хотела бы жить? Услышав в ответ «нет» и «не знаю», он спросил, не хочу ли я жить с ним и помогать в его работе.
Я согласилась, зная из прошлого опыта, что на вопрос о том, где он живет и чем занимается, ответа не будет. Из научных журналов я знала, что клиника Вильяма Бронкса добилась полного излечения нескольких безнадежных больных, страдающих острыми психозами. Отец сказал, что действительно речь идет о его клинике. Это было все. В статьях говорилось лишь о специфическом методе лечения, вполне безопасном, но еще не предназначенном для применения вне этой клиники.
В газетах, правда, появлялись иногда статьи с нападками на клинику Бронкса, с упреками в нарушении врачебной этики. Но такие статьи служили скорей рекламой.
Мне, вероятно, предстояло попасть в эту клинику. Но я не могла лечить людей. Моя диссертация была посвящена кислородному обмену в подкорковых слоях мозга, и я рассчитывала продолжить работу в лаборатории.
Я сказала об этом отцу, и он ответил, что при клинике имеется большой исследовательский центр, работающий над синтезом новых лекарственных препаратов и над разработкой новых методов лечения.
Это устранило сомнения, и весь год я успешно работала, стараясь расширить свой кругозор в фармакологии, психиатрии и нейропатологии.
Теперь отец, не задавая никаких вопросов, предупредил, что отъезд назначен на завтра и я должна приобрести все необходимое для длительного пребывания в уединенном месте с хорошим теплым климатом.
Утром он заехал за мной на «кадиллаке» и молча повел машину в аэропорт. Пока он сдавал ее агенту прокатной фирмы, носильщик взял наши билеты и багаж. Лишь на борту реактивного «боинга» я узнала, что нам предстоит беспосадочный полет в столицу одной южноамериканской страны.
Симфонию архитектуры, как справедливо называют город Бразилиа, я увидела лишь из окна самолета. Сославшись на то, что нам рано вставать, отец посоветовал мне идти спать. Мы переночевали в отеле аэропорта. Когда утром я вышла из спальни, отец уже укладывал вещи. Ему помогал юноша, совсем мальчик, в кожаной куртке и высоких сапогах. Увидев меня, он так удивился, что выронил из рук какой-то пакет.
— Осторожнее! — закричал отец. — Вы переломаете все приборы, Джексон. — И буркнул: — Моя дочь мисс Бронкс.
Джексон оказался личным пилотом отца и симпатичнейшим парнем. Он ухитрялся одновременно виртуозно вести свой почти игрушечный двухмоторный самолет, болтать о тысяче разных вещей и еще преподать мне урок практического самолетовождения.
Мне хотелось разузнать у него о многом, о чем я не решалась спросить отца, но тот сидел у самой кабины, и я чувствовала: это нервировало Джексона. Во всяком случае, он не задал мне ни одного вопроса ни о цели моей поездки, ни о том, что я делала раньше и что собираюсь делать. И это было странно, так как болтал он не умолкая. За время полета он успел мне пересказать биографии десятка кинозвезд и спортсменов, портретами которых была увешана вся кабина.
Я тоже не задавала ему вопросов, правда, уже после того, как на первые два он мне, по-существу, ни слова не ответил. Я спросила:
— Джексон, вы давно работаете у отца?
Он сказал:
— Бюст Тейлор застрахован, и если она похудеет, то получит кругленькую сумму.
Он засмеялся каким-то неестественным смехом и быстро взглянул на меня. Выражение глаз его как-то не вязалось с идиотским смыслом ответа. Я поневоле перевела взгляд на фотографию предусмотрительной кинозвезды и удивилась. Рядом с ней, на пожелтевшем снимке, теснимые со всех сторон целым сонмом красавиц, сидели двое: девушка с простым, совсем не кинозвездным лицом и девчушка с круглыми, какими-то отрешенными глазами. Обе они напряженно смотрели в объектив и, как часто бывает на деревенских любительских фотографиях, выглядели не людьми, а манекенами. И все-таки чувствовалось, что девушка обаятельна и мила, а девочка отличается чем-то неуловимо странным, непонятным и тревожным.
Я спросила, несколько понизив голос:
— Это ваша семья, Джексон?
На что он громко ответил:
— Ну что вы, мисс Бронкс, здесь еще никогда не было авиационных катастроф!
Мне стало не по себе, но тут же я выругала себя. Может быть, он просто плохо слышит или не хочет рассказывать о себе при начальнике. Вряд ли недобрый отец — добрый начальник. Сдержанность Джексона вполне понятна. И я больше не задавала вопросов. Я постаралась забыть этот инцидент и остальную часть пути смотрела в окно, молча слушала занятные и бесхитростные рассказы пилота.
В его обществе мне было легко и приятно, и только теперь я поняла, что последние дни была в каком-то смутном напряжении, и благодарила бога, что все позади. Теперь я была уверена, что впереди — интересная жизнь, и с нетерпением ожидала конца пути.
Под крылом проплывало бесконечное зеленое пространство, изредка пересекаемое полосками рек. Вдали показались вершины гор. Затем самолет вошел в узкое ущелье, начал терять высоту и приземлился.
Отец взял меня под руку, и мы стали спускаться по трапу.
— Ой, сумочка! — вдруг вспомнила я и побежала обратно.
У выхода из пилотской кабины стоял Джексон с моей сумочкой в руках. Мне показалось, что он ждет меня.
— Мисс, — тихо и быстро сказал он, — вы к нам надолго?
— Навсегда, — весело ответила я. — Здесь так чудесно!
Его вид озадачил меня. Он уже не казался мне молоденьким и беспечным пареньком. Он был очень серьезным и печальным. Невольно и я перешла на шепот:
— Навсегда…
— Мисс, — начал Джексон, но в это время мы услышали тяжелые шаги по трапу, сотрясающие самолет, тяжелое дыхание отца, и Джексон сказал или мне показалось: — Мисс, два слова…
— Что стряслось, где ты? — Рука отца грубо потянула меня за рукав, и я, не оборачиваясь, пошла за ним.
На выжженной солнцем площадке, с трех сторон окруженной голыми скалами, нас ожидал большой грузовик и армейского типа легковой автомобиль.
Несколько человек под надзором Джексона начали переносить наш багаж и другие вещи из самолета в грузовик. Мы пошли к легковой машине. Малонаезженная каменистая дорога шла вниз. Вскоре ущелье резко повернуло влево, и почти сразу за поворотом дорога вошла в прекрасный лес. Так же внезапно среди деревьев показались современные здания, под колесами зашуршал асфальт.
Начался мой первый день в чужом месте, среди чужих людей.
При чем здесь рыбы?
На следующее утро, в десять, в сопровождении отца я подошла к широким стеклянным дверям института. При нашем приближении они открылись сами собой. За конторкой у дверей сидел плотный мужчина. Он поднялся нам навстречу.
— Жетон для мисс Бронкс, — сказал отец.
Мужчина молча вынул из конторки жетон и протянул его мне.
Мы пересекли холл, во внутренней стене которого было два десятка одинаковых дверей. В глазках некоторых из них виднелась четкая надпись «Занято». Отец вынул из кармана жетон, опустил его в щель над ручкой двери с надписью «Свободно» и молча вошел. Я выбрала ближайшую дверь с такой же надписью, опустила свой жетон и, открыв ее, увидела душевую. В этот момент в нише противоположной стены появился контейнер с полотенцами, халатом и белой докторской шапочкой. Я постаралась выполнить процедуру переодевания в гимнастическом темпе и через несколько минут в белом накрахмаленном халате и шапочке нажала ручку внутренней двери. При этом раздался мелодичный звук и на никелированный поднос рядом с дверью упал жетон. Одновременно контейнер с моим платьем и полотенцами поднялся вверх и исчез. Я положила жетон в карман халата и вышла. В коридоре меня уже ждал отец.
— Обход начнем с лаборатории, в которой изучается действие магнитного поля на условные рефлексы животных.
Это все, что отец счел нужным сказать, пока мы шли длинными пустыми коридорами с рядами дверей, похожих друг на друга, как пуговицы на наглухо застегнутом сюртуке чиновника. Наши шаги растворялись в удивительной тишине. Через двери не вырывалось ни единого звука.
Не помню, за каким поворотом находилась дверь, которую открыл отец. Мы очутились в комнате, так мало похожей на обычную лабораторию, что я невольно вскрикнула. На столах, на подоконниках, даже на полу стояли большие, средние и совсем маленькие аквариумы. Левая стена комнаты была полностью застеклена и представляла собой переднюю стену такого огромного аквариума, что задней стены не было видно. Там плавали рыбы весом в несколько килограммов, не меньше. Я так залюбовалась этой необыкновенной коллекцией рыб и водорослей, что не сразу заметила хозяина лаборатории, высокого, худощавого молодого человека. Отец представил его мне, и тот подвел нас к столу с двумя одинаковыми аквариумами, в которых плавали изящные золотые рыбки. Он нажал кнопку на пульте с циферблатами, и два молоточка ударили по стенкам обоих аквариумов. Все рыбки немедленно бросились к кормушкам.
— Прошу вас, присядьте, — сказал молодой человек, указывая на высокие табуретки.
Мы сели и молча смотрели на пестрых рыбок, которые, не дождавшись корма, разбегались по своим, неведомым людям, делам.
— Внимание, — произнес он через несколько мгновений, поднял прозрачный пластмассовый колпак, закрывающий на пульте большую красную кнопку, и нажал ее.
Ничего не произошло.
— А теперь повторим, — продолжал он и нажал на первую кнопку, по сигналу которой оба молоточка снова ударили по стенкам аквариума.
Рыбки в левом из них сразу же устремились к кормушке и получили свою порцию корма. В правом удар не вызвал никакой реакции. Рыбки беспорядочно плавали по всему сосуду и, даже после того как им был насыпан корм, не спешили приняться за еду.
— Справа подействовал импульс магнитного поля, — пояснил молодой человек, указывая на красную кнопку, — это полностью стерло рефлекс.
Опыты молчаливого молодого человека не показались мне интересными. Я с детства знала, как легко научить рыбок подплывать к кормушке по звуковому или световому сигналу. Я читала и о том, что рыбы реагируют на магнитное поле. Например, угри даже используют линии земного магнитного поля для ориентировки при своих ежегодных миграциях из Саргассова моря в Балтийское и обратно.
— Фред, — сказал отец, — мисс Бронкс не в курсе дела, расскажите ей поподробнее. Она окончила курс в Беркли, так что особенно не упрощайте.
Кажется, в первый раз Фред Штерн заметил, что в его лаборатории, кроме рыб, находится женщина, — он бросил на меня изучающий взгляд.
— Что ж, — снизошел он, — это меняет дело. Так вот: уравнения показали мне, что могут существовать сложные органические молекулы, обладающие свойством сверхпроводимости. Вы, конечно, знаете, — продолжал он, — что некоторые металлы и сплавы при сверхнизких температурах становятся сверхпроводниками. Это значит, что сопротивление в них падает до нуля и электрический ток в кольце из сверхпроводника может течь вечно, без затраты энергии. Но уравнения утверждают, — все более воодушевляясь, говорил Фред, — что в подходящих органических веществах можно получить сверхпроводимость при обычных условиях и даже при еще более высокой температуре.
— При чем же здесь рыбы? — спросила я.
— Минуточку, — попросил он, — не так быстро. Я физик, и я понимаю, что, даже создав полимерные структуры, удовлетворяющие уравнениям, я не увижу их сверхпроводимости. Возникнут трудности присоединения к внешним цепям. Нужно создать полимеры, молекулы которых образуют длинные замкнутые контуры. Тогда можно наблюдать их сверхпроводимость бесконтактным методом. Но ни я, ни мои сотрудники-химики не могли создать предвычисленных структур. Мистер Бронкс, — он слегка поклонился в сторону отца, — узнал о моих работах и дал им новое направление. Он предположил, что природа давно научилась создавать мои молекулы и строит из них важнейшие области мозга животных. Может быть, подсказал мне мистер Бронкс, мозг действует подобно электронной вычислительной машине, основные элементы которой состоят из миниатюрных сверхпроводящих колечек — криотронов. Только «криотроны мозга» работают при нормальной температуре и имеют в миллионы раз меньшие размеры, чем те, которые созданы людьми.
— Если принять эту гипотезу, — вставил отец, — становится понятным, почему мы должны совершить некоторое усилие для введения сведений в нашу память и не тратим никакой энергии на их дальнейшее удержание. Ведь энергия тратится только на возбуждение тока в сверхпроводнике, но не на его поддержание.
— А при чем здесь рыбки? — спросила я.
— Рыбки — это наш experimentum crucis, — улыбнулся Фред. — Нажав красную кнопку, я подверг правый аквариум действию мощного импульса магнитного поля. Вы же знаете — магнитное поле разрушает сверхпроводимость. Они давние непримиримые враги. Вы видели, как магнитное поле полностью разрушило хорошо сформированный условный рефлекс — эту примитивную форму памяти.
— Очень интересно, — сказала я Фреду, — но не совсем убедительно.
— Конечно, — раздраженно проворчал отец, — это только первые опыты. Детали еще далеко не ясны. Может быть, моя гипотеза и ошибочна, но опыты, во всяком случае, не противоречат ей.
— Тем более, — сказал Фред, — что после первого размагничивания время, нужное для дрессировки, уменьшается в десятки раз, а последующие размагничивания уже не изменяют этого времени. Можно думать, что размагничивание полностью очищает всю емкость памяти. После размагничивания мозг превращается в tabula rasa, как говорили в древности. Чистая доска, на которой можно написать все что угодно.
— Но почему рыбы? — спросила я.
— Рыбы обладают примитивным мозгом, и вместе с тем с ними удобно экспериментировать, — объяснил Фред. — Рыбы прямые потомки наиболее древних обитателей нашей планеты, обладающих достаточно дифференцированной структурой организма. Впрочем, мы уже переходим к опытам на млекопитающих, но для этого, по-видимому, нужны намного более сильные поля.
— Спасибо, — сказал, поднимаясь, отец, — на сегодня хватит. Мы должны идти дальше.
Признаюсь, я была недовольна собой. Ведь работа, о которой рассказывал Фред, чрезвычайно интересна! И мне нужно с ней познакомиться особенно внимательно, ведь в одной из лабораторий института мне предстоит работать. Даже если не в этой, то, как всегда бывает в научно-исследовательских институтах, где темы переплетаются и перекрещиваются, все равно мне надо быть в курсе дела. А я… Я, как какая-то дура, больше смотрела на Фреда, чем на рыбок. С той минуты, когда мы вошли в лабораторию и я взглянула на него, мне все время казалось, что я уже что-то знаю о нем и в связи с ним что-то знаю о себе. Брюнет, тонкое лицо, глаза… какие-то необычные, рафаэлевские. Но взгляд не томный, не рассеянный, не мечтательный, а твердый, пытливый. Такой взгляд говорит о мужественном, решительном характере. Откуда я знаю этого человека? И почему о нем думаю?
Никаких происшествий, шеф
Вероятно, самостоятельно я не нашла бы вновь той лаборатории, куда мы с отцом пошли от Фреда. Задумавшись, я не заметила дороги в анфиладу комнат, где работали специалисты по синтезу и анализу сложных соединений. Их целью было создание новых лекарственных веществ. Сотрудники докладывали отцу о ходе работы и полученных результатах, но я невольно продолжала возвращаться мыслью к Фреду и хороводам золотых рыбок, забывающих обо всем под влиянием неощутимого магнитного поля.
Эти думы преследовали меня при посещении других лабораторий, и я освободилась от них только в виварии, где действие новых лекарств проверялось на животных. Только здесь мне бросилась в глаза четкая направленность всей работы. Отца не интересовала борьба с инфекционными болезнями. Здесь никто не изучал бактерии и вирусы. Внимание уделялось только препаратам, влияющим на нервную систему животных, — возбуждающим, успокаивающим, стимулирующим или расслабляющим.
Некоторые животные пребывали в глубоком сне, другие проявляли лихорадочную активность, третьи как бы бодрствовали во сне или без конца повторяли какое-нибудь движение. Экспериментаторы наблюдали, как под действием очередного препарата меняется поведение животного, изучали корреляцию между структурой препарата и характером его воздействия.
— Здесь, — сказал отец, — наш полигон. Поле боя дальше.
Проделав еще раз манипуляции с жетонами и сменив белые институтские одежды на обычное платье, мы вышли из здания и сели в машину. Через четверть часа езды по сумрачному тропическому лесу показались ворота в сплошной стене высотою более чем в три человеческих роста.
При приближении машины ворота беззвучно отворились, и перед нами открылась квадратная площадка, со всех сторон обнесенная такой же стеной. Дорога уходила сквозь следующие ворота, но они остались закрытыми. Мы вышли из машины и подошли к узкой двери рядом с ними. Эта дверь пропустила нас в небольшой вестибюль, освещенный люминесцентными лампами. Широкая лестница поднималась на второй этаж. Она привела в холл, посреди которого помещался большой пульт, покрытый шкалами приборов, разноцветными лампочками и экранами телевизоров. У пульта, обхватив голову руками, сидел человек. При нашем появлении глаза его испуганно округлились, и он, вскочив и вытянувшись по-военному, отрапортовал:
— Никаких происшествий, шеф, все нормально, дежурный врач Менде.
Это был кругленький, лысый, пожилой человек со стертым, маловыразительным лицом. Он хотел добавить еще что-то, но в эту минуту на стенде загорелась красная лампочка. Менде повернул какую-то ручку, засветился большой экран. На нем появилось искаженное болью человеческое лицо с расширенными от ужаса глазами. В комнате раздался страшный, душераздирающий крик. Менде поспешно нажал кнопку, все умолкло. Дрожащими руками он схватил микрофон и закричал:
— Санитары, в номер тридцать семь!
В это время лицо на экране уменьшилось, стала видна комната с кроватью, из-под которой выглядывал больной. В комнату уже входили санитары.
Я невольно попятилась к двери, отец презрительно посмотрел на меня, поморщился и произнес недовольно:
— Выключите.
Менде повернул ручку телевизора, и экран погас.
— Доктор Кранц уже идет, — тихо сказал Менде. — Присядьте.
Он все еще имел вид в чем-то провинившегося человека.
Мы сели. Воцарилось напряженное молчание. Менде курил и изредка выжидательно взглядывал на отца. Отец, казалось, отсутствовал. Красная лампа продолжала гореть, но через несколько минут погасла и она.
Отец вдруг раздраженно бросил:
— Ну, что там?
Менде нажал кнопку. На экране возникла комната и человек, мирно спящий на постели.
— Тэтатропин, — сказал Менде и выключил экран.
Вскоре появился Кранц — высокий, аскетического вида старик с бесцветными холодными глазами. После обычной процедуры знакомства он пригласил нас в свой кабинет.
Но у дверей Кранц вдруг остановился, попросил нас подождать и, вернувшись к Менде, шепотом задал ему короткий вопрос. Менде что-то сбивчиво и многословно отвечал.
Я не пыталась вникнуть в их разговор. Пока они спорили, а отец листал толстый журнал, я подошла к окну. Оно выходило в обширный сад. Превосходный газон кое-где оживлялся цветами. По газону гуляли люди в желтых и голубых пижамах. Двое играли в мяч.
— Выздоравливающие, — услышала я возле себя голос Кранца. — За последнее время мы достигли больших успехов.
— Голубые практически здоровы, — пояснил он. — Мы наблюдаем за ними и проводим контрольные исследования.
В это время на стенде снова зазвучал зуммер и зажглась красная лампочка. Через несколько секунд рядом с ней загорелась желтая, и зуммер умолк.
Кранц поспешно взял меня за руку и, распахнув дверь в свой кабинет, буквально втолкнул меня туда. Плотно прикрыв дверь, продолжал говорить, обращаясь главным образом ко мне:
— Надо вам сказать, что психические расстройства — коварная штука. Они так многообразны, что диагноз их граничит с искусством. Многообразны и причины, их вызывающие. Только немногие являются следствием необратимых поражений мозга. Большинство связано не с органическими нарушениями, а лишь с расстройством функций части мозга. Эти заболевания излечимы, во всяком случае, их нельзя считать неизлечимыми.
Он подошел к письменному столу и умолк. Мне показалось, что он вышел из комнаты, мысли его были далеко. Не продолжал ли он спор с Менде?
— Гм, — кашлянул отец, и этот звук словно включил Кранца. Не знаю, как мысли, но голос его, во всяком случае, вернулся к нам.
— Механизм мышления, — продолжал он, — далеко не изучен. Никому не известны тайны процессов познавания и запоминания. Но мы можем строить модели и сравнивать их действие с поведением здоровых и больных людей. Больной очень похож на машину с испорченным механизмом стабилизации. Нормальный режим не соблюдается. Машина идет вразнос или останавливается. У больных это ведет к острым психозам или глубокой депрессии. Наше дело в этих случаях — восстановить регуляторный механизм, оборвать самовозбуждающуюся систему навязчивого бреда или притупить непомерную остроту восприятий, от которой мозг защищается глухой стеной катостении. Для этого мы… Мы думаем предпринять… Э-э, мы…
Вначале Кранц обращался только ко мне, потом говорил как бы в безвоздушном пространстве, но теперь, когда его слова по-настоящему стали мне интересны — это уже касалось непосредственных методов лечения, — он стал как бы заикаться и часто вопросительно взглядывать на отца.
— Спасибо, Кранц, — поднялся отец. — Мисс Бронкс только вчера прибыла, и я хочу пока ознакомить ее с нашей работой в общих чертах.
Домой возвращались в полном молчании. Мне показалось, отец не хочет слышать никаких вопросов. На обратном пути он сел рядом с шофером и о чем-то сосредоточенно думал. Я чувствовала, что думает он обо мне, и это меня угнетало. В зеркальце перед водителем я ловила его быстрые, колючие взгляды.
Что все это значит? Я должна была чувствовать себя дома. Ведь у меня никогда не было семьи, а сейчас я с отцом. Здесь все прекрасно. Впереди интересная работа.
Но почему же мне так не по себе? Почему так угрюм шофер? За все время наших поездок он не произнес ни слова. Я ни разу не видела его глаз. И этот Кранц — как он неприятен! И Менде холоден, как уж.
И вдруг я вспомнила пилота. Как я могла забыть! Ведь он хотел мне что-то сказать! У него хорошие глаза, и он был явно чем-то встревожен. Смогу ли я его увидеть? Надо спросить отца. Нет, только не его. Может быть, Фреда?
Я стала перебирать в памяти все события последних дней и… мне снова захотелось взглянуть на рыбок.
В эту ночь я долго не могла уснуть. Тишина казалась мне тревожной, и на меня навалилась тоска и предчувствие чего-то непонятного и недоброго.
Мои новые знакомые
Утром я была вялой и безразличной. А этот день потребовал от меня много сил. Отец после долгого отсутствия инспектировал работы, интересовавшие его более всего. Они касались проблем воздействия на поведение животных. Во многом здесь исходили из теории русского ученого Ивана Павлова, но его методы дополнялись физико-химическими воздействиями. Специальные препараты, синтезированные местными химиками, необычайно обостряли восприятие животных и облегчали их дрессировку.
— Я не знаю, — говорил отец, — что происходит там, в черепной коробке. Но, давая собаке этот порошок, я как бы помогаю ей в течение получаса запомнить пять-шесть команд, не доступных никакому животному. И собака запоминает их на всю жизнь. Но это одна сторона. Недавно мы синтезировали сложный глютанат, одна инъекция которого стирает все следы предыдущей дрессировки. Я надеюсь, — продолжал отец, — что на основе этого глютаната мы получим лекарство, обрывающее бред наших пациентов. Ведь бред — это гипертрофия памяти. Что-то непрерывно циркулирует в памяти больного, наслаиваясь и обостряясь до опасных пределов. Затормози эту лавину, и он придет в себя.
Я первый раз видела отца вдохновенным, его лицо даже подобрело.
— Есть еще одна сторона этой проблемы, — увлеченно продолжал он. — Ты, конечно, знаешь об обучении во сне. Когда большая часть мозга спит и бодрствуют только отдельные его участки, восприятие сильно обостряется. Может быть, играет роль и существенная изоляция от внешних помех. Воссоздай эти условия в чистом виде, и ты сможешь за час воспринять всю школьную премудрость!
Это не было для меня откровением. Был период, когда вся мировая печать много шумела об обучении во сне. Кое-где этот метод привился, но большинство ученых его остерегалось — он возбуждал нервную систему.
Неужели отец работает и над этой проблемой?
Несмотря на свою антипатию, я должна была отдать ему должное — гуманность его научных интересов была вне сомнения.
Этот день стал переломным. Энтузиазм отца увлек меня. Я начала работать в его личной лаборатории. Дни потекли за днями.
Отец появлялся в лаборатории только во второй половине дня. Утро он посвящал обходу всех отделов института. Иногда он брал меня с собой, как в первый раз.
Постепенно я глубже знакомилась с работами и лабораториями института и гораздо меньше — с его сотрудниками и их семьями. Как ни странно, такой большой научный центр вне рабочего времени казался необитаемым. Люди почти не общались друг с другом. Отец, правда, говорил, что делает все возможное, чтобы объединить их. Он каждую пятницу собирал у себя элиту. Но что это были за скучнейшие сборища!
Ровно в восемь одна за другой появлялись десятка два супружеских пар. Они входили торжественно, точно в церковь, молча отвешивали поклон отцу, который встречал их у входа, и неслышно, словно призраки, рассаживались в глубокие кресла, расставленные для такого случая полукругом.
Слуга разносил коктейли и крошечные сэндвичи. Говорили о погоде — а здесь она была неизменно хорошей! Разговор поддерживали главным образом женщины. Их мужья сидели неподвижно, угрюмо глядя перед собой. Лишь изредка далекий мир напоминал о себе успехами бейсбольных команд или присуждением Нобелевских премий.
На этом фоне, пожалуй, самыми разговорчивыми были Кранц и Менде. С Менде я так и не встречалась после первого посещения института, а Кранц преподнес мне сюрприз.
Утром следующего дня после работы я обнаружила на своем рабочем столе букет роз. Букеты обновлялись каждое утро, и я невольно заинтересовалась их происхождением. Ведь у меня здесь совсем не было знакомых. Мои романтические надежды обратились в унизительный фарс, когда однажды, придя задолго до начала занятий, я застала в лаборатории Кранца. Произошла короткая пантомима. Я выхватила из вазы мокрый букет и сунула его в руки моему Арлекину. Он показал ряд гнилых зубов, молча поклонился, и его длинная тощая фигура величаво удалилась. С тех пор я встречалась с ним только на журфиксах отца.
Менде и Кранц были женаты на сестрах-близнецах, двух толстых и безликих коротышках неопределенного возраста, до нелепости скучных и в умственном отношении близких к морским свинкам. В нашей гостиной они были заняты только друг другом, не сводили одна с другой глаз и все время шушукались. Казалось, они ничего не замечают вокруг, даже своих мужей. А те, словно уравновешивая обожание сестер, люто ненавидели друг друга. Поначалу меня забавляли их взаимные колкости и злые насмешки. Это было единственным развлечением и для остального общества. Постепенно эти пятницы стали мне невмоготу. Слава богу, в поселке были превосходный бассейн и теннисный корт, и это заполняло весь мой досуг. Я много плавала и играла в теннис. Конечно, не одна.
В один из первых же дней по приезде я увидела на корте Фреда Штерна. Он играл с молодой женщиной в белоснежных шортах, голубой кофточке и голубой жокейской шапочке. Увидев меня, он улыбнулся и в знак приветствия салютовал ракеткой. Галантность стоила ему мяча — партнерша победно вскрикнула и продолжала атаку. Она гоняла Фреда по площадке, не переставая задирать его едкими шуточками.
— Фредди, к черту девушек! Тридцать — пятнадцать, каково? — бросила она мне дружески. — Нет, нет, вы только посмотрите на него! Мисс Бронкс, я ведь не ошиблась? Он сражается с грацией молодого гиппопотама. Сорок — пятнадцать!
Я невольно рассмеялась — так контрастировала ее характеристика с динамичным стилем игры ее партнера.
— Ему мешает солнце, — попробовала я внести долю справедливости.
— О, конечно, девушки всегда на стороне нашего Фредди!
Я села на скамеечку и залюбовалась визави Фреда. Что это была за обворожительная женщина! Легкая, изящная, с удивительно женственной фигурой и повадками озорного мальчишки.
— Финита, — провозгласила она через несколько минут и сдернула с головы шапочку. По плечам разлилась платиновая волна.
— Моя сестра Эллен, знакомьтесь. — Обняв ее, Фред подвел Эллен ко мне.
Так мы познакомились, и, не боюсь признаться, я с первого же момента влюбилась в нее.
Эллен оказалась незаурядным и пленительным существом. Она была нежной и впечатлительной, могла от пустяка заплакать или вспыхнуть гневом. Фреда она опекала с неистовством матери и не спускала ему ни малейшего непослушания. В этой семье царил неприкрытый деспотизм.
— Моя фурифея, моя дорогая фурифеечка, — называл ее Фред, объединяя понятия фурии и феи.
Позднее, когда мы стали проводить вместе почти все свободное время, мне доставляло наслаждение наблюдать их обоих. Они часто неистово спорили. В таких диспутах обычно побеждала Эллен. В ее точеной головке скрывались острый ум и обширные знания. Тогда-то я поняла, почему отец сделал ее своей ближайшей помощницей, — она руководила одним из отделов его лаборатории.
Чувствуя ее превосходство, Фред иногда пользовался запрещенным приемом. Исчерпав аргументы, он невинно спрашивал:
— А, кстати, что думает по этому поводу твой гений?
Действие этих слов было всегда неизменным. Эллен краснела от досады, бросала на брата уничтожающий взгляд и выскакивала из комнаты. Фред бросался за ней, я слышала горячий шепот, иногда всхлипывания, и они возвращались обратно: Эллен — напряженная, а Фред — с виноватым и покаянным лицом.
После этих вспышек на весь вечер воцарялись тишь и благодать. Фред был изысканно предупредителен, а я каждый раз задавала себе все тот же вопрос: уж не касается ли это моего отца? Почему бы и нет? Если быть объективной, отец интересный мужчина. И, размечтавшись, старалась убедить себя в том, что не всегда он был таким неприступным и черствым и, возможно, не навсегда.
Я стремилась быть достойной Эллен, старалась приблизиться к ней во всех отношениях. Много времени по вечерам отдавала занятиям, штудированию отчетов лаборатории. Я всегда занималась с увлечением, а сейчас ощущала в себе необъяснимый подъем.
Ниночка
Лаборатория отца, по существу, распадалась на несколько отделов, объединенных общей целью — задачей изучения функционирования мозга и методов воздействия на высшую нервную деятельность.
Я включилась в исследование естественных ритмов мозга. Это увлекательная область. Давно известно, что деятельность мозга связана с определенной электрической активностью. На энцефалограммах эта активность выявляется в виде периодических выбросов. Форма энцефалограмм зависит от активности мозга. Ритмы бодрствования резко отличаются от ритмов сна. Болезни зачастую проявляются в видоизменениях энцефалограмм.
Это не только дает возможность контролировать работу мозга, но и подсказывает мысль о возможности изучения мозга при помощи моделирующих электронных схем. В этой области мы не были первопроходцами. Многие физиологи уже изучали работу сердца, печени и щитовидной железы, пользуясь электронными аналогами. Впрочем, и весь человеческий организм в некоторых своих проявлениях напоминает сложную электронную схему. Например, периодическая работа сердца имеет много общего с работой лампового генератора радиоволн. И это важно не только для теории. Подключая к области сердца электроды от лампового или транзисторного генератора, врачи уже могут управлять работой сердца. Такие приборы называются электростимуляторами. Их задача — навязать больному сердцу нормальный ритм. Многие люди, обреченные на инвалидность или даже на смерть из-за внезапных остановок или неупорядоченных сокращений — фибриляций сердца, — годами живут и чувствуют себя здоровыми благодаря непрерывной работе миниатюрных электростимуляторов, вшитых в кожаный карман на их груди.
В нашей клинике больных успешно лечили электросном, подвергая мозг пациента облучению специальными электронными генераторами. Этот метод не имеет ничего общего со страшным методом электрошока, который и сейчас применяется в некоторых психиатрических клиниках. Конечно, электрошок помогает во многих случаях, особенно при лечении таких тяжелых заболеваний, как шизофрения. Но я не могла без ужаса присутствовать на сеансах электрошока.
Электросон — нечто совершенно отличное. Маленький генератор, похожий на электростимулятор сердца, подает слабые электрические импульсы к электродам, закрепленным на черепе больного. Эти импульсы навязывают свой ритм мозгу, тормозят его активные центры, и человек впадает в глубокий сон. Такой охранительный сон помогает организму бороться с заболеванием.
И надо сказать, в этой области отцу удалось многого добиться. На его счету накопилось уже несколько пациентов, излеченных от тяжелых психических заболеваний. И теперь он отважился на штурм такой таинственной и коварной болезни, как эпилепсия.
В нашей клинике был один необычный пациент — двенадцатилетняя девочка-сирота. Звали ее Ниночкой. Говорили, что девочка русская, что во время нашествия немцев на Россию ее мать вывезли в Германию. Потом, после войны, она долго скиталась, объездила Францию, Англию, и в конце концов судьба забросила ее сюда. Джен, лаборантка, опекавшая Ниночку, рассказывала мне, что мать девочки уже давно умерла. Мучительно сгорела от какой-то неизвестной болезни, хотя была рослой, крепкой, еще совсем не старой женщиной. Она умерла на руках Джен и взяла с нее слово вырастить Ниночку и заменить ей мать.
Джен, славная деревенская девушка, ирландка, годившаяся Ниночке скорее в сестры, так как ей самой было едва ли двадцать пять, самоотверженно выполняла свое обещание. Она очень привязалась к девочке и действительно заменила ей мать. Девочка ее обожала.
Многие сотрудники клиники баловали Ниночку, как могли. У нее всегда было много самых лучших игрушек, хотя, признаться, я не понимала, откуда они появлялись. Магазина игрушек, естественно, в поселке не было, а отсюда, насколько я знала, выезжал только мой отец, а он и детские игрушки были, конечно, несовместимыми понятиями.
Но Ниночка большую часть времени не обращала внимания на игрушки. Она была в тяжелом состоянии. Организм истощен, умственное развитие заторможено. Несмотря на лечение, она оставалась очень слабой и пассивной, а иногда впадала в непомерное возбуждение. Это был случай так называемой врожденной эпилепсии, при которой припадки начинаются еще в младенчестве.
И припадки эти были ужасны. Они были жестоки, безжалостны и надолго выбивали нас из привычной колеи. Каждый ее припадок был подарком медицине и горем для нас с Джен.
Когда мы впервые начали лечить Ниночку электросном, у нас появилась реальная надежда облегчить ее страдания. Мы усыпляли девочку при первых симптомах приближающегося припадка. Мы даже разработали автомат, который помогал нам распознать приближение страшного момента, и заранее включали аппарат электросна. Сеансы электросна надежно спасали Ниночку от приближающегося припадка. Девочка пополнела, начала активно реагировать на внешний мир. Дело шло на лад.
Но однажды, проводя очередной сеанс электросна, я обнаружила, что Ниночка прочно запомнила все разговоры, которые мы вели, пока она спала. Это напоминало гипноз. По какой-то причине сон охватил не весь мозг девочки. Дежурный центр продолжал бодрствовать, слух не был выключен, и восприятие оказалось чрезвычайно обостренным.
Может быть, это зависело от расположения электродов или от какой-либо неисправности аппарата?
Отец очень заинтересовался нашими наблюдениями и просил поставить широкие эксперименты с целью выяснить, при каких условиях возникает глубокий сон и что приводит к поверхностному сну, благоприятствующему внушению.
Работы начались с характерным для отца размахом, но мне пришлось отойти от них в самом начале.
Причиной послужило тяжелое несчастье.
Она была звездой
Между мной и Эллен не было тайн. А может быть, я и ошибаюсь… Я действительно была откровенна с ней, но она? По-моему, и она платила мне тем же. Правда, мне всегда казалось странным, что Эллен жила отдельно от брата и никогда, ни разу, не пригласила меня к себе. Да и Фред не бывал у нее. Но ко мне Эллен забегала очень часто, а вечера чуть ли не с первого дня моей жизни в клинике мы проводили у Фреда.
И вдруг Эллен исчезла. Прошел день, второй, она не появлялась. Я спросила про нее у отца. Он удивился:
— Как, ты не знаешь? У нее важные опыты, она не покидает лаборатории. Впрочем, как и ты, — добавил он одобрительно.
А через три дня Эллен появилась у меня. Вид у нее был утомленный. Я вдруг впервые подумала о ее возрасте. Такой тусклой, бесцветной, поникшей она никогда не выглядела. Я забросала ее вопросами, но Эллен отвечала неопределенно. Казалось, она о чем-то мучительно думает, что-то ее тревожит, гнетет. Разговор не клеился. И вдруг она сказала:
— Ли, сегодня мне снился ужасный сон. Я не могу воспроизвести все подробно, лиц я не помню, зато отчетливо помню голоса. Мистер Бронкс, Кранц, Менде, его тень… Я слышала их голоса, и мне чудилось, что они тонкими иглами колют мне мозг. И у меня отчаянно болела голова, а потом резко заболела нога. И еще мне казалось, что меня ослепила молния, она пронзила меня с ног до головы… Я проснулась в таком тяжелом состоянии, какое бывает после наркоза или операции. И знаешь, этот сон мне снится второй раз. Так было и четыре дня назад…
— Ты просто устала, — успокаивала я Эллен. — Разве можно сутками не выходить из лаборатории? Так и до галлюцинаций недалеко…
— Ты права, ты права, Ли, — вздохнула Эллен. — А может, это и есть галлюцинация?
Она помолчала, потом встала, прошлась по комнате и остановилась у моего письменного стола.
— Ой, что это? — Она взяла в руки пачку фотографий, которые я приготовила, чтобы развесить у себя в комнате. — Почему же ты их не показывала? Какая прелесть! Это ты? Сколько же тебе здесь лет? Пять… а это… мама? Какая милая!.. Ли, ей, наверно, тут меньше, чем тебе сейчас, а? И тем более мне…
Эллен оживилась, она с интересом рассматривала снимок за снимком, подробно расспрашивала о каждом. Несколько раз она возвращалась к фотографии, где отец, молодой, красивый, в лыжном костюме, без шапки, запрокинув от смеха голову, держал меня на плече, а я некрасиво разинула рот в реве.
Эллен долго рассматривала эту фотографию.
— А мистер Бронкс, оказывается, умеет смеяться, — сказала она печально. — Впрочем, это помню и я. Ты знаешь, Ли, а ведь студентки его обожали. — И, помолчав, добавила: — Твой отец — великий человек. Не спорь, не спорь, уж я-то знаю, можешь мне поверить! Я это знала еще в институте, когда слушала его лекции, и потом, когда работала у него на кафедре и в клинике. Я не встречала человека, за которым могла бы вот так, бросив все, уехать на край света… — Она спохватилась, тряхнула своими чудесными волосами и поправилась: — Я говорю, конечно, о его идеях. Они всегда дерзкие, почти безумные. Но это то безумие, которое ломает устаревшие традиции; взгляды, которые помогают науке не плестись шажком, а перескакивать через ступеньки. Учиться у него, работать с ним — это большое счастье. Во всяком случае, я всегда так думала… Совсем недавно так думала… — Эллен заговорила быстрее, не в силах, видно, справиться с тем, что бушевало, рвалось из сердца: — Раньше, но не теперь! Я перестаю понимать его. Я не согласна с ним! И это ужасно. Я не нахожу себе места — это так тяжело. Понимаешь, Ли, я привыкла слепо верить ему, для меня каждое его слово — закон. И вот я ему больше не верю! Я это долго скрывала, но последнее время у нас возникают один конфликт за другим.
Эллен разрыдалась. Мне было жаль ее, я видела: она больна, она мечется, в ее жизни назрел какой-то разлад, кризис. Но чем я могла помочь ей?
— Эллен, родная, ну, хочешь, уедем куда-нибудь? В Майами! Или в Ниццу? Отдохнем, встряхнемся…
Я говорила, но не верила себе. Куда же я поеду отсюда? Тут многое уже незаметно для меня вошло в мое сердце…
А Эллен ухватилась за мою мысль:
— И я думала об этом! Представляешь, будем просто жить для себя, и все! Никаких тебе Кранцев, Менде… Никаких опытов… Возьму и выйду замуж, как все! А что, Ли, как ты думаешь, польстится на меня какой-нибудь дурак? Но, чур-чур, никаких ученых — только артист или там какой-нибудь альпинист… Все к черту!
А потом я не видела Эллен неделю. Я устроила отцу сцену и потребовала, чтобы он разрешил мне зайти в ее лабораторию.
— Иначе я уеду, завтра же, — сказала я.
— Но она больна, — убеждал он меня. — И может быть, это инфекционное заболевание.
Я настаивала. Отец злился. Я ушла, хлопнув дверью. Утром следующего дня отец отвел меня к Эллен.
Когда я вошла в комнату рядом с лабораторией, куда поместили Эллен, я едва узнала ее. Она схватила мою руку, заставила склониться близко-близко к себе, и я услышала:
— Ли, я снова видела тот же сон!
А на следующий день отец вызвал меня среди дня и сообщил, что Эллен скончалась.
— От острого энцефалита, — сказал отец. — Возможно, — добавил он, — она была неосторожна.
Я онемела от горя. На меня обрушилась лавина подозрений, ужаса перед чем-то необъяснимо страшным. Энцефалит? Эллен умерла от энцефалита? Я вновь и вновь перебирала в памяти события последних дней, которые — я теперь не могла себе этого простить! — прошли мимо меня. Это было горячее время, рабочий день и почти все вечера я проводила в лаборатории с Ниночкой.
И вот теперь Эллен умерла… Энцефалит? Я не верила этому.
В последнее время действительно от этой болезни одна за другой умерли несколько женщин, главным образом лаборанток Эллен. До сих пор думали, что эту болезнь, как и ряд других, передает какое-то насекомое. Хотя выход в лес за территорию городка запрещен, это не дает полной гарантии. Удивительным было то, что все погибшие — женщины, причем среди них только Эллен была белой.
Меня поразило, что смертные случаи не взволновали сотрудников института и клиники. Возможно, это было следствием режима изоляции и предельной замкнутости, в которой пребывали жители нашего поселка.
Но еще больше меня озадачила реакция отца. Он по-прежнему сохранял невозмутимость и практицизм.
— Видишь ли, — говорил он мне по дороге с кладбища, — мы живем здесь в двух сферах. На работе и в семейном кругу. Я беру сюда только семейных. Одинокий человек не может здесь работать. Я не могу создать для него необходимых развлечений. У одинокого здесь два пути. Если он настоящий ученый, то работает, не выключаясь, и быстро выходит из строя. Посредственность просто спивается. Мне это не подходит. Я предпочитаю семейных. Так обеспечивается автоматическая регулировка.
Автоматическая регулировка, как я заметила, была любимым коньком отца. Я невольно усмехнулась, но отец говорил, не замечая ничего:
— Я бы не взял Фреда, хотя его идеи очень интересны, но Эллен была звездой в нейропатологии, и она была мне нужна. Теперь Фред одинок. А его работа достигла такой фазы, что я не могу его отпустить. Прошу тебя, — закончил отец, — включись в его работу и уделяй ему часть свободного времени.
«Ее зовут Лили»
Так я стала работать с Фредом. За это время он успел продвинуться далеко вперед и подтвердил гипотезу о сверхпроводящих микроструктурах мозга опытами с морскими свинками. Импульсы магнитного поля, в миллионы раз превосходящего поле Земли, полностью стирали у них все следы дрессировки, не влияя на общее состояние и поведение животных.
Теперь начались опыты в большой магнитной камере, где действовали еще более сильные магнитные поля.
Фред работал как одержимый. Признаться, я была поражена тем, как мало он нуждался в утешении. Он почти не вспоминал о покойной сестре. Казалось, он жил как бабочка-однодневка, радующаяся лучам солнца. Плохое настроение бывало у Фреда только по утрам. Стоило ему начать работать, как все исчезало.
Незаметно промелькнули немногие самые счастливые дни моей жизни. Я тоже стала бабочкой-однодневкой, и все это время кажется мне теперь сияющим безоблачным утром.
Вечер наступил внезапно. Это случилось, когда я обнаружила в лабораторном журнале Фреда… Впрочем, нет, не тогда. Еще раньше. Меня тревожила странная забывчивость Фреда. Я решила, что она — следствие переутомления, и сказала отцу, что плохо справляюсь с его заданием.
Отец отнесся к моему сообщению с большим вниманием, расспрашивал о деталях, просил уговорить Фреда зайти к врачу.
Через некоторое время отец спросил меня о Фреде. Я сказала, что улучшения нет, что врач не нашел никакого заболевания и даже не видит симптома переутомления.
— Знаю, знаю, — сказал отец и начал подробно расспрашивать о моих наблюдениях, вновь и вновь возвращаясь к деталям.
Он заметно волновался. Через некоторое время со словами: «Наконец-то! Да, я был прав!» — он вынул из сейфа тетрадь и начал что-то лихорадочно в нее записывать.
На мои настойчивые вопросы о том, что он знает, отец не отвечал. Он спокойно писал, будто меня и не было в комнате, будто не понимая, что для меня все, что касается Фреда, уже давно стало вопросом жизни и смерти.
Я еле сдержалась, чтобы не показать ему то, что лежало у меня во внутреннем кармане халата, эти несколько страничек, которые я нашла в лабораторном журнале Фреда. Несколько страничек, на многое открывшие мне глаза, но, увы, ничего не объяснившие. Вот они, эти листочки:
«17 января.
Я стал очень рассеян. По-видимому, сказывается переутомление. В конце опыта я часто не могу понять, зачем он был поставлен, что я хотел выяснить, о чем должен был узнать. Вероятно, я не сразу почувствовал неладное. Но это повторялось все чаще и наконец превратилось в систему. По совету мисс Бронкс я начал вести лабораторный журнал. Каждое утро составлял план работы на день, рисовал схему опытов, фиксировал все исходные данные. И все пошло на лад. Ничто не мешало работе, и она шла семимильными шагами.
Но, как говорят врачи, это было лишь симптоматическое лечение. Я победил лишь последствия, а причина — очаг заболевания — осталась. Теперь я знаю, что болезнь прогрессирует.
Мисс Бронкс говорит… мисс Бронкс…
Я начал писать этот дневник потому, что не знаю, как зовут мисс Бронкс. Это уже не рассеянность, я, кажется, теряю память! Я не знаю, как ее зовут. Ее!
Телефон зазвонил в тот момент, когда я записывал в журнал результаты очередного опыта. Она сказала, что пора обедать. Как всегда, ее голос потряс меня до глубины души. По спине пробежал холодок, и я услышал гулкие удары своего сердца. И в этот момент ужас овладел мною. Ее имя исчезло. Я едва не назвал ее мисс Бронкс и, пролепетав: „Иду, дорогая“, повесил трубку.
Не буду описывать дальнейшего. Она, конечно, почувствовала, что со мною неладно. А я весь обед болтал о пустяках. И сбежал обратно в лабораторию.
Теперь я понимаю, что серьезно болен. Конечно, это от чрезмерной нагрузки. Но взять отпуск нельзя. Контракт есть контракт. Единственный способ бороться с прогрессирующей рассеянностью — вести дневник. Записывать в него все. Все, что может понадобиться, все, что имеет хотя бы малейшее значение.
18 января.
Ее зовут Лили. Лили Бронкс. Я узнал об этом вчера вечером. Охранник, пришедший, чтобы опломбировать дверь моей лаборатории, передал мне конверт. В нем лежала записка.
„Завтра в семь на корте. Ли“.
Это было чудесное утро. А теперь за работу.
18 января, вечер.
Действительно, я болен. Все повторилось. Хорошо, что дневник был раскрыт, и я сразу прочитал ее имя. Но факт остается фактом. К концу рабочего дня я становлюсь невероятно рассеян».
Запись не обрывалась, нет, она, видно, продолжалась на следующих листках, но их я нигде не нашла. А дальше, может быть, и была разгадка? Боже, что же делать, как поступить?
После моих настойчивых расспросов отец сказал, что не сомневается в том, что провалы в памяти Фреда — результат работы в большой магнитной камере.
— По-видимому, — размышлял он вслух, — полученные в ней огромные магнитные поля способны разрушать сверхпроводимость некоторых элементов человеческого мозга. Это не опасно, — добавил отец, — но очень интересно и важно.
Он требовал, чтобы я наблюдала за Фредом, оставаясь вне сферы сильных полей. Конечно, я отказалась. Я отнюдь не пуританка и не кликушествующая противница вивисекций. Каждый ученый может проводить опыты над самим собой. Многие великие ученые так и поступали. Но экспериментировать над людьми без их ведома — бесчеловечно и недопустимо!
Одним словом, я отказалась. Гнев отца был ужасен. Он говорил о прогрессе, о науке, о судьбах человечества. Вновь и вновь повторял, что это безвредно. Но я не могла заслонить человечеством одного человека.
Я рассказала Фреду о догадке отца. Я ожидала бури, возмущения, но… Фред пришел в восторг! Более того, через полчаса я стала его убежденной помощницей. Мы начали усиленно работать — конечно, избегая зоны сильных полей. Отец оказался прав.
Любые животные, побывав в большой камере, легко воспринимали самую сложную дрессировку. Но один мощный импульс уничтожал все достигнутое. Это можно было повторять сколько угодно. Уничтожались только условные рефлексы. Врожденные особенности не терялись. Здоровье животных не нарушалось.
Фред задерживался в лаборатории все дольше и дольше. Он снова увеличил пиковое значение поля, и мы впервые увидели, как взрослая рыба превращается в несмышленого малька. Еще одна реконструкция — и наши свинки, побывав в магнитной камере, разучились отыскивать корм. Но самым удивительным было то, как быстро они обрели утраченную способность после того, как в их клетку посадили контрольную морскую свинку.
Отец торжествовал. Он хотел испытать действие магнитного поля на душевнобольных, страдающих манией преследования и другими острыми психозами. Он считал, что эти психозы могут быть проявлением ненормальных связей в сложной системе человеческой памяти, а значит, разорвав эти связи, можно прервать болезнь.
Однако неожиданные события оборвали размеренный ритм нашей жизни и нарушили эти планы.
За круглым столом
Как-то вечером отец нанес мне визит. Впервые. Как обычно, он был сух и краток. Он просил меня распорядиться и проследить, чтобы завтра утром приготовили коттедж для троих гостей, а к двум часам пополудни — парадный обед. Я должна быть хозяйкой.
Действительно, около полудня следующего дня на нашем аэродроме приземлился самолет. Отец лично встретил приезжих и отвез их в приготовленный коттедж.
В два часа я ожидала их в столовой, декорированной живыми цветами. Меня немного удивило, что обед был сервирован на круглом столе. Одновременно с боем часов открылась дверь. Не буду описывать внешность вошедших. Важные господа настолько схожи манерами и нескрываемой убежденностью в своем превосходстве над простыми смертными, что различия в костюме, тембре голоса, форме носа, цвете глаз и волос отступают на задний план. А здесь были весьма важные господа. Это чувствовалось даже по поведению моего всегда независимого отца.
Отец церемонно представил их мне, и все сели. Теперь я поняла, что круглый стол появился не случайно. Он позволял избежать церемонии рассаживания и придавал обеду интимный характер.
Я не набожна, может быть, поэтому парадный обед напоминает мне богослужение. Но в этот день торжественный ритуал был нарушен. Гости попросили разрешения пить только коньяк. Отец из вежливости присоединился к ним, и вскоре беседа покинула традиционную тему погоды. Гости захотели перейти к делу и дружно требовали, чтобы отец немедленно информировал их о полученных результатах. Отец пытался отложить деловую часть до завтра, ссылался на то, что мне это неинтересно, что лучше начать с осмотра лабораторий, но главный из гостей сказал, что все это чепуха и что дочь, то есть я, может и должна знать все; что дети должны быть готовы заменить отцов, и попросту приказал отцу начинать.
Отец побагровел, вскочил из-за стола и прошел в холл. Через минуту он возвратился с коричневой кожаной папкой и совершенно спокойно сел за стол. То, о чем он говорил, было мне в общих чертах известно, но я чувствовала, что гости ждали другого, а отец упорно не хотел об этом говорить в моем присутствии.
Я буквально окаменела от недобрых предчувствий и лишь страшным усилием воли заставила себя, улыбаясь, сидеть за столом.
В конце обеда я даже выпила со всеми за успех.
Недобрые предчувствия
Было десять часов вечера, когда послышался стук в мою дверь. Я не слышала шагов и вздрогнула от неожиданности. Что-нибудь случилось? Фред никогда не приходил ко мне. Мой коттедж был слишком на виду, и мы давно условились, что встречаться будем у него — его домик стоял у внешней ограды поселка, в зарослях нетронутого куска джунглей. Но может быть, что-то стряслось и это он? Сегодня я была взвинчена и ждала только плохого.
Я распахнула дверь — передо мной был Джексон. Этого я совсем не ожидала. Мы не виделись со дня приезда, и, честно говоря, я не вспоминала о нем. Я даже не узнала его. У него был щеголеватый вид юноши, собравшегося на свидание. От него даже пахло каким-то дешевым одеколоном. «Еще чего не хватало!» — мелькнуло у меня в голове, и я взялась за ручку двери. Джексон тяжело дышал, и, прежде чем он начал говорить, я успела чуть прикрыть дверь.
Он остановил меня:
— Погодите, мисс Бронкс, я знаю, поздно, и вы вправе сердиться на меня. Но это очень серьезно, и мы не знаем, что делать. Джен сказала — беги за мисс Бронкс, здесь больше некому довериться. Пойдемте, мисс Бронкс, скорее.
Я ничего не понимала, но все глупые мысли тотчас выскочили у меня из головы.
Мы побежали. Джексон сразу же повернул к дому Фреда, и сердце мое сжалось. Но мой проводник, не задерживаясь, двинулся вдоль изгороди, задами жилой части поселка. Так мы добрались до одной из проходных, которая вела внутрь секретных лабораторий клиники. «Какая нелепость, — подумала я, — ведь Джексона не пустят, да и я не взяла жетона. Что он задумал?»
Джексон остановился и прислушался. Кругом была тишина. Потом он подошел к окошку проходной и тихо постучал. У дверей показался охранник. Это был один из самых неприятных типов, которых мне когда-либо приходилось видеть. Я всегда считала несчастливым тот день, когда он дежурил и приходилось дважды, утром и вечером, встречаться с его недобрым взглядом. Это был гориллообразный верзила с узким лбом и маленькими жесткими глазами. Улыбка появлялась на его лице лишь в тот момент, когда он приветствовал моего отца, и эта улыбка была страшнее гримасы.
Он молча остановился на пороге, вглядываясь в темноту, и дальнейшее показалось мне сновидением.
— Это я, старик, — прошептал Джексон.
— Скорее, мой мальчик, она уже прибегала. — И лицо его выражало такую доброту и тревогу, такое искреннее участие, что показалось мне просто прекрасным. — Благослови вас бог, мисс Бронкс! — добавил охранник. — Вы поможете им, я знаю.
«Здесь течет какая-то неведомая мне, скрытая от глаз жизнь, со своими отношениями, заботами, печалями и радостями, — думала я, следуя за Джексоном незнакомым мне путем. — Значит, только внешне все так изолированы друг от друга, так суровы. Для отца это явилось бы неприятным открытием, — мелькнула у меня злорадная мысль. — Интересно, какое было бы у него выражение лица, если бы он увидел своего самого преданного охранника, пропустившего в святая святых постороннего!»
Убить память!
Я не заметила, в какую дверь юркнул Джексон, помню только, что мы спустились вниз, в подвал, затем пробирались подземными складами; прошли через криогенную лабораторию, где стояли установки, сжижающие азот и гелий, которыми мы пользовались для изучения явления сверхпроводимости, через механические мастерские и наконец попали в генераторный зал. Только теперь я по-настоящему увидела, каким богатым и оснащенным новейшей техникой был наш научный центр. Я увидела много людей, которые работали, несмотря на поздний час, и, видно, никогда не появлялись «на поверхности», увидела тех, кто обслуживает клинику, питает ее электроэнергией, водой. Всех этих людей, знавших Джексона, но неизвестных мне. Они не удивлялись, увидев его, но подозрительно, как на чужую, поглядывали на меня. Как видно, те, кто работал наверху, в чистых лабораториях, никогда не встречались с людьми из подземелья, а те, в свою очередь, не знали почти никого из «верхних».
Джексон уверенно вел меня из помещения в помещение, и шел он этим путем — я уже не сомневалась — не в первый раз. Наконец он приложил палец к губам и быстро открыл какую-то дверь. Я остолбенела от изумления: это была наша лаборатория. Над столиком с магнитофоном склонилась секретарша отца. На кровати, обнявшись, сидели двое — Джен и маленькая Нина. Джен напряженно вытянулась — вся в ожидании. Когда мы вошли, она несколько раз перекрестилась. Ниночка смотрела куда-то мимо нас отрешенными, бездонными глазами. «Был припадок», — догадалась я, и тут же возникла неожиданная мысль. Что мне напомнили эти двое, сидящие тесно друг к другу? Нет, не Джен и Ниночка в отдельности — мы встречались изо дня в день и ни разу это не вызывало ощущения, что я видела их раньше. Но где же я встречала их вот так, вместе, тесно обнявшихся, застывших с тем же выражением лица?.. Господи, да ведь это же оригинал фотографии в пилотской кабине Джексона! Я чуть не вскрикнула, но увидела, как Джен поднесла палец к губам и показала глазами на девочку.
И только тогда я обратила внимание на то, что Ниночка, не переставая и не обращая на нас внимания, что-то быстро-быстро бормочет.
Вскоре она стала запинаться, глотать слова, головка опустилась на плечо Джен, и девочка замолкла. Личико ее было в испарине — она спала. Мы с Джен осторожно раздели Ниночку и уложили в постель. Напряжение покидало ее, дыхание становилось глубже и ровнее.
Я облегченно вздохнула: слава богу, все обошлось. Но когда секретарша отца перемотала ленту и включила магнитофон, мне сделалось жутко. То, о чем лепетал этот ребенок, было ужаснее самых страшных снов. Это была тайная беседа моего отца с его гостями. Постепенно мне стало ясно, где Ниночка слышала все это и как могла запомнить.
После обеда отец, как видно, повел гостей осматривать клинику и нашу тихую лабораторию выбрал своей исповедальней. Видимо, он не знал, что за ширмой спала девочка. Или он был сильно пьян и утратил чувство бдительности? Ведь он прекрасно понимал, как впитывает каждое слово спящий под действием электросна мозг! Но может быть…
— Джен, а мистер Бронкс знал, что у Ниночки был сегодня приступ?..
— Я не успела ему сообщить, мисс Бронкс. Он вошел со знатными господами и тотчас меня выслал. Сказал, что сам покажет лабораторию.
— А разве он не видел Ниночку?
— Нет, я только что выключила прибор. Она осталась за ширмой.
Так вот почему он разоткровенничался! Он не знал, что Ниночка слово в слово запомнит весь разговор.
Я уже не могу точно воспроизвести магнитофонную запись, но попытаюсь это сделать в общих чертах. Не оставалось сомнения, что все они, в том числе мой отец, — замаскировавшиеся члены нацистской партии, мечтавшие о возрождении тысячелетнего рейха. Пользуясь огромными тайными фондами, рассредоточенными во многих банках мира, они деятельно и незримо готовили реванш.
Задача отца считалась важнейшей. Здесь, в безбрежных джунглях, он должен был найти средство стереть из памяти человечества воспоминания о зверствах нацистов. Найти способ превращения массы людей в безвольное стадо покорных живых роботов, лишенных воли, лишенных инициативы и слепо, от рождения до смерти, исполняющих приказы. Целью работ являлось отыскание физических и химических средств воздействия на человеческую психику, прежде всего на память. Руководство, говорил отец, желает иметь средства воздействия, рассчитанные на массовое и по возможности скрытное применение.
Основные результаты получены в трех направлениях. Первое — управление человеческими эмоциями при помощи ультразвуковых, инфразвуковых и скрытых оптических воздействий. Нужно только умело использовать их для раздражения определенных участков мозга. При этом можно воспользоваться кинофильмами, а иногда и магнитными лентами или грампластинками. Это может обеспечить сравнительно массовое воздействие. Но более глубокого эффекта, нежели чисто эмоциональный, получить пока не удается.
Дальше отец рассказал о результатах, полученных Фредом, и определил их как очень интересные, но вряд ли перспективные для массового применения. Результаты еще предварительные и будут продемонстрированы на животных.
Самыми обнадеживающими отец считал результаты своих химиков, ибо, как он сказал, полученные ими препараты могут быть введены вместе с пищей или путем инъекций. Из этой части рассказа я с ужасом узнала о невероятных по своей дерзости опытах, на которые эти господа возлагали особые надежды.
Недавно в печати промелькнуло сенсационное сообщение группы ученых Калифорнийского университета, выдвинувших гипотезу о возможности пересадки памяти от одного живого существа другому химическим путем. Опыты они ставили на плоских червях. Измельчая трупы дрессированных червей, они добавляли их в пищу другим червям. И эти черви-каннибалы вместе с мясом своих сородичей впитывали и накопленную ими информацию! Далее ученые перешли на опыты с более высокоорганизованными животными: крысами и хомяками. Они обучали группу крыс слушаться определенных команд, например подходить к кормушке по звонку, а потом, сделав вытяжку из их мозга, вводили ее необученным крысам и обнаруживали у тех все признаки привитого их предшественницам навыка.
Затем ученые еще более усложнили опыты и стали передавать память от одного вида животных другому, обнаружив, что механизм памяти у разных видов одинаков.
Отец, оказывается, не пропустил этих сообщений. Напротив, он оттолкнулся от новой идеи и приступил к опытам над обезьянами и… людьми!
Работа еще не закончена, сказал он, хотя и продвинута достаточно далеко. Стадия эксперимента с животными успешно завершена. Все дело в дозировке. С людьми… Я не могу продолжать… Все случаи острого энцефалита, смерть Эллен — все это было результатом его зверских экспериментов.
Как он мог! Как мог человек и ученый поступить так с женщиной, которая — он знал это, не мог не знать — любит его! На это не способен даже зверь. А он, вооруженный современными знаниями, видел перед собой не женщину, а незаурядный мозг и хладнокровно, педантично исследовал его, искал в нем центры, которые управляют творчеством, накапливают знания. Его не смущало, что его жертва жива, он усыплял ее и иглами проникал ей в мозг в поисках заветных центров. Вот почему у нее болели руки и ноги — иглы вторгались в область мозга, заведующую движением. Эти изверги, наверно, искромсали ей весь мозг, нарушили управление жизнедеятельностью организма, и она умерла. А вытяжки из мозга Эллен они впрыскивали в мозг других женщин, которые тоже умерли в процессе этих опытов. И отец с досадой говорил, что умерли они преждевременно, что ему так и не удалось проверить, могут ли они стать тем же, чем была в науке Эллен.
«Но мы продолжим эти опыты, — заверил отец, — и не будем так скромны. Мы поставим массовый эксперимент! Мы не будем жалеть средств!»
«И людей», — добавила я про себя.
Эта часть его разглагольствований смахивала на бред сумасшедшего. Сумасшедшего буйного, одержимого жаждой власти, порабощения. Он говорил о том, что в будущей войне они не позволят себе роскоши сжигать пленных в газовых печах — нет! Они не ограничатся утилизацией волос, зубов, кожи людей — о, нет! Они будут перерабатывать самый ценный трофей — мозг. Мозг жертв, из которого будут добывать «экстракт знаний». И все богатства, накопленные людьми порабощенных наций, будут впрыскивать в мозг настоящих арийцев, только настоящих, стопроцентных! И нация, впитавшая в себя этим способом все знания, весь опыт побежденного человечества (но не затратившая на их приобретение ни малейшего усилия!), получит небывалое господство над миром…
Отец еще долго развивал эти планы. Эти работы были его гордостью, о них, по-видимому, он говорил впервые.
Слушать это было нестерпимо, нас бил озноб, нам было жутко…
Да, настоящая трагедия нашего века — не водородная бомба или еще какое-нибудь достижение техники. Нет, трагедия — это люди, подобные моему отцу, для которых наука оказалась удивительным катализатором, усилителем их безумия, ненависти, жажды власти.
После окончания рассказа, как видно, началась общая беседа, принявшая оживленный и немного бессвязный характер, или Ниночка что-то путала. Во всяком случае, разобрать что-нибудь еще нам не удалось.
Но и этого было более чем достаточно!
Боже, в каком страшном аду мы оказались!
И словно прочитав мои мысли, Джексон сказал:
— Это страшное место, мисс Бронкс. Еще по дороге сюда мне хотелось уговорить вас вернуться. Вы такая молоденькая и так не похожи на отца. Мне было жутко от мысли, что вы едете сюда надолго. Вы сказали — навсегда, но здесь слишком часто и для очень многих это слово имело трагический смысл.
— Господи, Билл, почему я не послушалась тебя, почему мы не уехали?
Джен расплакалась. Джексон бросился к ней и обнял. Потом повернулся ко мне:
— Не удивляйтесь, мисс Бронкс, ведь Джен — моя невеста. Уж ее бы я как-нибудь вывез отсюда. Но она сама не хотела — слишком привязалась к Ниночке. А Ниночке уехать нельзя: может быть, здесь ее действительно вылечат.
— Джексон, но если вы знали хоть часть из того, что мы услышали, как же вы никого не предупредили, как же не попытались раскрыть все?
— В том-то и дело, мисс Бронкс, что толком-то мы ничего не знали. Здесь все чего-то боятся, шепчутся о подозрительных смертях, и только. А уехать никто не может — контракт. У меня тут много друзей, но это рабочий люд — что мы понимаем в науке? А ученые здесь, видно, все фашисты, как мистер Бронкс. Простите, мисс Бронкс! Вот только вы да мистер Штерн…
Господи, что же я сижу! Надо бежать к Фреду, рассказать все, придумать что-нибудь, но как ему сообщить об Эллен?
Интермедия
Несмотря на ночной час в кабинете Фреда еще горел свет. Я была взбудоражена, растеряна, напугана и все же, остановившись у его окна, почувствовала, что меня охватывает привычное чувство радости и покоя. Боже, какое счастье иметь близкого человека, какое счастье, что я встретила Фреда! Я любила его, любила впервые в жизни, и необычность обстановки, наше одиночество, оторванность от прежней жизни еще больше сближали нас. Мы уже не представляли себя врозь ни здесь, в этой страшной колонии, ни вообще где бы то ни было.
Я заглянула в окошко, и мне показалось, что все, что я только что узнала, просто страшный сон. Нет, ничего не изменилось! Мой отец не преступник! Это слишком чудовищно, чтобы быть правдой. Ведь ничего не изменилось здесь, за этим окном, в мире моего счастья, моей любви, моей жизни. Вот Фред, как всегда в этот час, в своем низком кресле у самого окна. Он что-то читает и записывает в большую тетрадь, лежащую тут же рядом, на низком столике. Он карандашом рассеянно водит по лбу, сейчас он откинется в кресле, задумается, что-то запишет. Я войду, и Фред отшвырнет книгу и обнимет меня так, что я закричу: «Фредди, ты опять свернул мне шею!» А Фред скажет: «Ну нельзя же быть такой непозволительно красивой, надо иметь хоть один недостаток, например голову набекрень. Такая деталь внесла бы хоть какое-то разнообразие во внешности современных девиц».
А потом мне обязательно захочется есть. Мне всегда вечером ужасно хочется есть, и я пойду варить кофе, а Фред включит магнитофон… И я услышу Листа, или Чайковского, или Бетховена, или особенно любимого Фредом Шопена. Шопена Фред мог слушать часами, с Шопеном он забывал даже обо мне, с ним он грезил и вспоминал свое детство и родителей, известных польских музыкантов, погибших в варшавском гетто, и мечтал о чем-то, мне недоступном. И Шопен снимал с Фреда часть забот, усталости, неудовлетворенности. Фред становился особенно нежен и как-то светел.
Одаренность и музыкальность Фреда были для меня чудом, они вносили в мою жизнь неведомое раньше богатство, что-то, чего я всегда была лишена. Воспитываясь вне семьи, в закрытых заведениях, где царил коллектив и особенно ценились такие качества, как выносливость, спортивность, ровность характера и рационализм, я естественно, увлекалась теннисом, греблей, конкурсами красоты. Росла здоровой, но, что греха таить, лишенной того душевного изящества и тонкости, которые прививались в таких семьях, как семья Фреда, где духовные богатства ценились превыше всего, где больше заботились о духе, чем о теле.
Раньше я не встречала таких людей, как Фред. Среди моих подруг и друзей не было принято предаваться мечтам, грустить за роялем, подолгу останавливаться у картин на художественных выставках. Все это считалось сантиментами, девятнадцатым веком, белибердой. Наука, спорт — вот достойные божества нашего века, и мы поклонялись им, не задумываясь о тех ценностях, которым отдали свое сердце люди другого склада и не нашего поколения.
Я смотрела в окно и думала о том, какое счастье, что судьба подарила мне Фреда, и дрожала от предчувствия, что счастье это непрочно и что против нас затевается что-то ужасное.
Когда я вошла, Фред швырнул на диван книгу, шагнул ко мне, чтобы обнять, но руки его опустились — мы уже без слов понимали друг друга.
— Ли, детка, что с тобой?
Я рассказала обо всем. Он молча выслушал и несколько минут смотрел мне в глаза. Потом сказал:
— Мне надо подумать. Прости меня, я пойду в лабораторию.
И когда я пошла за ним, добавил:
— Нет, не ходи.
И вдруг обнял меня, несколько раз поцеловал и убежал.
Я осталась одна. Я решила не возвращаться домой, а дождаться Фреда и переночевать у него. Сейчас не время разлучаться. Незаметно для себя я заснула, а когда проснулась, было уже светло. Фреда все еще не было. Боже, не опоздала ли я? «Те» собирались к нему в полдень. Отец вчера просил меня сопровождать их. Значит, у меня есть время подумать.
Я снова перебрала в памяти все события вчерашнего дня, рассказ Ниночки, в голове всплывали какие-то забытые подробности, и вдруг я вздрогнула. Боже, а что они говорили о школе? Я ясно вспомнила, что Ниночка упоминала школу, что-то должно сегодня произойти в ней, но что?
Страх с новой силой овладел мной. У нас в поселке было несколько десятков детей школьного возраста, и именно сегодня в школе отец задумал произвести какой-то эксперимент! Там начнет он демонстрацию своих чудовищных достижений! Как же я упустила это из виду?
Я побежала к Джен. Она не помнила этого места в рассказе Ниночки. «Надо сейчас же разыскать Джексона, — сказала она, — у него в поселке много друзей, он все разузнает».
Джексона мы нигде не нашли. Я была в отчаянии. Ведь я новичок и никого не знаю в поселке. Джен большую часть времени проводила с девочкой и тоже почти ни с кем не общалась. Кроме того, я не хотела попадаться на глаза отцу и вызвать его подозрения. Вся надежда была на Джексона. Но где же он? Где искать его? Джен сказала, что, после того как вчера ночью он пошел провожать меня, она его не видела.
Положение осложнялось. Часы пробили восемь, девять, а мы все еще не решались что-либо предпринять. В четверть десятого в дверь постучали.
— О, это Билл, это его стук! — Джен бросилась открывать.
Это действительно был Джексон, вид его говорил о бессонной ночи.
— Мисс Бронкс, вы здесь? Как я не догадался! Я всюду искал вас! За ночь я кое-что предпринял и предупредил верных людей. Ваш отец тоже не спал, он развил бурную деятельность. Видно, сегодня он решил угостить приезжих хорошим спектаклем. Из клиники он велел перевести часть выздоровевших душевнобольных в питомник…
— В питомник?
— Да.
— Ничего не понимаю…
— Готовится что-то страшное, но у нас есть еще время. Сейчас важнее другое, и тут нужна ваша помощь. Всю ночь в школе идут какие-то приготовления. Кранц и Менде собственноручно притащили два каких-то ящика и заперли их в несгораемом шкафу…
«Господи, — мелькнула у меня мысль, — возможно ли: букеты роз и зверские эксперименты над детьми?!» Я тут же выругала себя за сомнения. Неужели у меня остались еще какие-нибудь иллюзии? Неужели я продолжаю верить в благородство людей, которые никогда не понимали значения этого слова. Достаточно вспомнить ужасную смерть Эллен… Только запрет Фреда говорить с кем-нибудь об этом удерживал меня. Но Фред сказал: «Прежде чем что-либо предпринять, нужно все точно выяснить, иначе они ускользнут из рук правосудия. Клянусь, я проникну в эту тайну, только не подавай виду, что мы что-то затеваем…»
Не слишком ли затянулось наше неведение? Не опоздаем ли мы и на этот раз?
— Дальше, дальше, Джексон, — торопила я. — Что еще вы узнали?
— Вчера вечером мистер Бронкс вызвал к себе Питера, школьного киномеханика — он мой друг, от него-то я все и узнал — и приказал ему быть готовым к десяти часам утра демонстрировать фильм.
— Какой? — вырвалось у меня.
— Когда Питер спросил, какой фильм ему приготовить, мистер Бронкс рассердился: «Не ваше дело. Это будет новый учебный фильм». Кроме того, он велел освободить комнату рядом с кинобудкой. Всю ночь в школе трудились рабочие. Они пробили окно из этой комнаты в класс и вставили в него рамы с тройными стеклами. Мы не понимаем, что это значит, но я договорился с Питером: он заранее проведет вас к себе. Вам легче понять, что затевает мистер Бронкс. Собирайтесь, мы должны прийти хотя бы за полчаса до сеанса…
Великая теорема
Через окно кинобудки, закрытое тройным стеклом, я видела детей, вместе с учительницей смотревших фильм, в котором в увлекательной форме рассказывалось о теореме Пифагора. На экране мелькали величественные сооружения античного мира, и я видела, как дети с интересом следили за работой древних землемеров. Вдруг одна девочка заплакала, и сразу в рыданиях забился весь класс. Удивление на лице учительницы сменилось выражением глубокого горя, и слезы полились из ее глаз. Внезапно лица детей просветлели, и было видно, как их охватил неудержимый смех. Учительница тоже смеялась. А на экране по-прежнему методично развивалась история великой теоремы. Параксизмы смеха постепенно утихли, и сеанс пошел своим чередом.
То, чему я стала свидетельницей, было удивительным научным достижением. Еще сегодня утром я сказала бы, что это неосуществимо, настолько возможность скрытого управления эмоциями казалась нереальной, достижимой лишь в далеком будущем. Но, к счастью или к несчастью нашего бурного века, темп жизни, темп научных свершений так ускорился, что отучил нас удивляться. Для этого не хватает времени. Мы должны немедля решать, как скорее применить новое научное достижение и как вовремя защититься от него, если оно попадет в руки врагов.
То же случилось и на этот раз. Я увидела удивительную вещь. Особое излучение (скорее всего, ультрафиолетовое, — Питер сказал, что его аппарат был оборудован специальной кварцевой оптикой), сопровождающее киносеанс и закодированное на киноленте в определенном ритме, воздействовало на мозг, и дети смеялись и плакали не тогда, когда им этого хотелось, а тогда, когда этого желал режиссер. Если бы он захотел, дети могли бы кинуться друг на друга с кулаками. Взрослые, не понимая, не рассуждая, под влиянием чужой воли могли взяться за оружие и пойти сражаться, не ведая зачем.
Это было чудовищно! Я представила себе мир, которым правит горстка безумцев, извергов, способных управлять миллионами лишенных памяти и воли людей!
Я представила себе, что эксперимент, которому я была свидетельницей, проводится не здесь, в школе, а где-нибудь в Алабаме. Из репродукторов льется нежная музыка. Люди заняты своим делом. Кто спешит на работу, кто в магазин. Один мирно копается в саду, другой подметает улицы. Но вдруг вместе с музыкой из репродукторов вылетают и неслышимые ритмы тайного приказа. Все бросают свои дела. Людьми овладела одна мысль — достать оружие. И вот уже целые толпы белых нападают на негритянские кварталы. Они жгут, режут, грабят, убивают!
А вот миллионная армия грузится на корабли, и, не рассуждая, не понимая, не сопротивляясь, одна нация уничтожает другую, одно государство — другое. На земном шаре воцаряется террор, неведомый ни временам крестовых походов и инквизиции, ни временам столетних войн и кровавых владычеств бездушных деспотов.
В наши дни наука может вложить в руки безумцев страшное оружие власти. Надо спешить, надо срочно разоблачить намерение фашистских злодеев, пока их деятельность не вышла за пределы эксперимента!
Эти мысли жгли мне мозг, сжимали сердце, пока я дожидалась условного знака киномеханика, выпустившего меня через черный ход. Я была в таком состоянии, что не могла сразу же предстать перед отцом и гостями, не вызвав у них подозрения. Забежав к Джен, я умылась, привела себя в порядок. И только после этого направилась к проходной, где накануне отец назначил мне место встречи.
Я опоздала минут на десять, что у отца в прежнее время вызвало бы бурю гнева. Но на этот раз ни он, ни его гости даже не заметили задержки. Они были слишком поглощены впечатлением от только что увиденного, мечтами о будущем беспримерном и бескрайнем могуществе, которое сулила им работа тайного центра, притаившегося в дебрях джунглей.
Господа были чрезвычайно довольны. По дороге в лабораторию Фреда они обсуждали способы овладения контрольными пакетами акций основных кинокомпаний.
Отец — убийца
То, что произошло потом, осталось у меня в памяти, как обрывки кошмарного бреда. Я ничего толком не помню. Осталось лишь ощущение, что вся моя жизнь состоит только из этого ужасного дня. Все остальное — это мгновение, бессодержательное и смутное…
Фред встретил нас на пороге лаборатории. Церемонно здороваясь с каждым, он вложил в мою руку маленький кусок картона.
В то время когда Фред воспроизводил свои первые опыты с рыбами, я прочитала: «В 11.45 почувствуй себя плохо, я тебя выведу».
В половине двенадцатого мы зашли в помещение большой камеры. В ней уже стояли клетки с морскими свинками, и Фред показывал их забавные проделки. Предчувствие недоброго охватило меня с такой силой, что я задрожала от неудержимого озноба. Мне не потребовалось никакого притворства. Один из господ заметил мою бледность. Фред подхватил меня и почти понес в коридор. В полусознании я почувствовала, как все здание мягко качнулось от разряда главной батареи.
Когда я пришла в себя, кругом все пылало. Среди рушащихся стен слонялись фигуры в порванных, запачканных костюмах. Они издавали бессмысленные звуки, и я поняла, что удар Фреда попал в цель. Они были внутри камеры, когда разрядились конденсаторы главной батареи. Они уже никогда не вспомнят ни свои имена, ни свои ужасные планы.
Потом я увидела Фреда. Он еще дышал. Когда я наклонилась к нему, его глаза раскрылись, и он прошептал:
— На аэродром, скорее, он убежит…
И, словно аккорд органа, ответом ему был отдаленный рокот моторов взлетающего самолета. Я снова потеряла сознание.
Отец исчез. Убегая и заметая следы, он взорвал все, что считал жизненно важным. Я не сомневалась, что мы погибнем здесь, в райском очаровании джунглей, а он снова возьмется за свое адское дело.
До сих пор почти каждую ночь я слышу голос отца: «Ли, брось дурить. Бежим, не будь идиоткой. Мы начнем все сначала. Да скорее же, скорее, я не могу ждать — я сейчас взорву здесь все, все будет уничтожено, здесь не останется камня на камне».
И он снова яростно трясет меня за плечо, я вижу его перекошенное от злости и страха лицо и теряю сознание, проваливаюсь в волны тошноты и ужаса.
Страшным усилием воли я заставляю свое сознание вернуться туда, как будто мне нужно вспомнить что-то самое важное. И вижу, как отец медленно поднимает пистолет, касается моего виска. На меня обрушивается Ниагара. Весь мир. С грохотом раскалывается небо, и миллионы звезд впиваются в мой мозг.
Только много позже мы трое — Фред, Джексон и я, единственные оставшиеся в живых жители поселка, — смогли более или менее связно восстановить события того дня.
Отец своим звериным чутьем, видно, заподозрил что-то неладное в инсценировке Фреда или увидел, как тот передавал мне записку. И в тот момент, когда Фред вынес меня из лаборатории, выскользнул следом. Когда магнитная камера сделала свое дело и сомнения отца превратились в уверенность, он выстрелил Фреду в спину. Он торопился, он понимал, что секунды решают его судьбу, каждое мгновение на выстрел могли сбежаться люди, и он не долго уговаривал меня следовать за ним — проще было то решение, которое он выбрал. Чудом я все-таки выжила: даже у негодяя, бывает, может дрогнуть рука.
Когда на выстрел прибежали Джексон с Питером и двумя товарищами (они все время были поблизости от магнитной лаборатории, так как Джексон понимал, что события могут принять угрожающий характер), они в первый момент не заметили ни меня, ни Фреда. Перед их глазами на воздух взлетело здание клиники, рухнуло помещение большой магнитной камеры, как картонный домик, рассыпался институт и столбы пламени поднялись над жилым поселком.
Джексон упал на землю и, как впоследствии он рассказывал, его уже не могло удивить явление мистера Бронкса из цветочной клумбы. Он решил, что это ему просто мерещится. Но когда мистер Бронкс тремя выстрелами уложил товарищей Джексона, он понял, что это не мираж. А когда под дулом пистолета он вез Бронкса на аэродром, а потом на самолете в Бразилиа, он уже мог ясно отличить сон от действительности. У него было время многое обдумать. На аэродроме, приказав ему ждать, отец скрылся в толпе пассажиров, а Джексону удалось без разрешения диспетчерской службы вылететь обратно.
Кроме нас, Джексон не нашел ни одного живого человека. Джен и Ниночка во время взрыва были, как видно, в клинике. То, что в колонии не осталось ни одного человека, натолкнуло Джексона на мысль, что отец, взрывая поселок, отравил водопровод. Всюду валялись раздувшиеся трупы. Нас с Фредом спасло то, что мы, как мертвые, лежали среди развалин.
Джексон перевязал наши раны и осторожно перенес в автомобиль, но не смог сразу уехать. Его мучили воспоминания о том, как Бронкс возник перед ним из кустов роз, и он направился туда.
Среди клумбы он нашел открытый люк. Лестница привела его к длинному коридору, в конце которого было небольшое помещение. Он увидел пульт с рубильником и несколькими кнопками. Надписи гласили: «Клиника», «Филиал», «Институт», «Питомник», «Жилой поселок»… Бронкс предусмотрел все на случай разоблачений или внутренних беспорядков. Поворот рубильника — и он уничтожил колонию. Люк остался открытым, Бронкс был уверен, что сюда не попадет уже ни одна живая душа. А может быть, нажав кнопку, видневшуюся у люка, он не заметил, что последний взрыватель не сработал.
…Прошло более полугода. Я почти здорова, но Фред еще очень плох — он получил три пули в спину.
Бронкс скрылся в джунглях Южной Америки. Смит с Юнион-сквер тоже исчез. В Южной Америке, в Испании и в других местах ждут своего часа их сообщники. Они рвутся к господству. Они хотят убить память человечества.
Остановим их, люди!