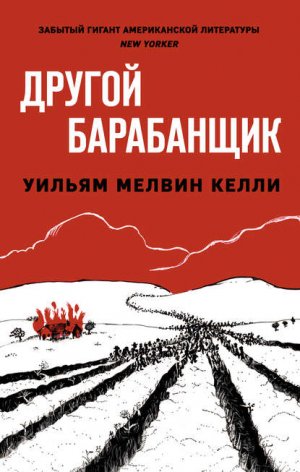
© Алякринский О., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Когда написал книгу, особенно первую, загвоздка в том, что к своим двадцати трем годам ты уже обязан стольким людям, что не знаешь, кому же ее посвятить. Приходится сравнивать и вычеркивать. А это малоприятно, потому что очень многие были к тебе добры, и трудно сказать, кто из них проявил больше доброты.
Поэтому, хоть эта книга посвящается трем конкретным людям, я бы хотел поблагодарить всех остальных, кого все эти годы, а особенно с тех пор, как я начал ее писать, моя судьба заботила так сильно, что они считали своим долгом высказать, устно или письменно, свое мнение, которое я, правда, не всегда принимал в расчет.
И еще тех, кто время от времени говорил мне:
«А приходи-ка на ужин сегодня».
«Можешь переночевать раз-другой в моем доме».
«Хочешь, я перепечатаю пару страничек твоей рукописи?»
«Ну, отдашь, когда заработаешь».
Спасибо всем вам. Надеюсь, когда-нибудь я смогу лично выразить каждому свою благодарность.
А теперь посвящения:
Моей матери Нарсиссе (1906–1957), которая с присущей ей молчаливой отвагой бралась за любую работу, бросила вызов смерти ради моего появления на свет и победила.
Моему отцу Уильяму Мелвину-старшему (1894–1958), кто, когда я еще был слишком мал, чтобы это осмыслить, пожертвовал ради меня слишком многим, чтобы после этого вновь почувствовать себя счастливым.
МСЛ, кто в самый нужный момент даровал мне свою любовь, доброту и поддержку, сподвигнув меня серьезно заняться писательством.
Штат
Выдержка из «Краткого энциклопедического словаря» за 1961 г., стр. 643:
«…Юго-восточный центральный штат на Глубоком Юге, граничит на севере с Теннесси, на востоке – с Алабамой, на западе – с Миссисипи, а на юге омывается водами Мексиканского залива.
Столица: Уилсон-Сити. Территория: 50 163 кв. миль. Население (согласно предварительным данным переписи 1960 г.): 1 802 268 человек. Девиз: «С честью в сердцах и с оружием в руках мы готовы защищать свои права». Вступил в Союз в 1818 г.».
Ранняя история: Дьюи Уилсон
Хотя история штата богата и разнообразна, она главным образом известна как родина генерала Армии конфедератов Дьюи Уилсона, который родился в 1825 г. в Саттоне – небольшом городке, расположенном в 27 милях к северу от г. Нью-Марсель на берегу Мексиканского залива. Уилсон окончил военную академию Вест-Пойнт (выпуск 1846 г.), дослужился до звания полковника Федеральной армии перед началом Гражданской войны. После выхода штата из состава Союза в 1861 г. он подал в отставку и получил звание генерала Армии конфедератов. Ему принадлежит основная заслуга в двух важнейших победах южан при ручье Бычий Рог и при ущелье Хармона, причем последняя битва состоялась менее чем в 3 милях от его малой родины. Его победа при ущелье Хармона пресекла новые попытки северян продвинуться к Нью-Марселю и захватить город.
В 1870 г., после возвращения штата в состав Союза, Уилсон стал его губернатором. Вскоре он выбрал место и инициировал строительство, а также, в значительной мере самолично, начертал проект нового капитолия, который ныне носит его имя. Оставив политическое поприще в 1878 г., вернулся в Саттон. 5 апреля 1889 г., сразу после торжественной церемонии открытия его 10-футового бронзового памятника, который благодарные жители Саттона воздвигли на главной площади города, с ним случился удар, и он скончался. Многие историки считают его самым выдающимся после Ли генералом Конфедерации.
Недавняя история:
В июне 1957 г. по пока не установленным причинам все негритянское население покинуло штат. В настоящее время это уникальный штат, так как он единственный в Союзе, среди населения которого нет ни одного представителя негритянской расы.
Африканец
Ну вот все и закончилось. Многие из тех, кто сидел, стоял или облокачивался на веранду продуктового магазина Томасона, еще в четверг побывали на ферме Такера Калибана, когда все это началось, хотя, за исключением, пожалуй, мистера Харпера, никто не думал, что это было началом чего-то. Всю пятницу и большую часть субботы они наблюдали, как негры Саттона с чемоданами или налегке толпились у дальнего угла веранды в ожидании ходящего раз в час автобуса, который должен был отвезти их по ту сторону хребта Истерн-Ридж, мимо ущелья Хармона, в Нью-Марсель, прямо на муниципальный железнодорожный вокзал. Из радионовостей и газет все уже знали, что Саттон – не единственный город, где случился этот исход, и что негритянское население всех больших и маленьких городов и поселков штата, воспользовавшись любыми наличными транспортными средствами, а кто и на своих двоих, добралось до границ штата и отправилось в Миссисипи, или Алабаму, или Теннесси, а кое-кто даже там остался (хотя большинство этого не сделали) и принялся искать себе работу и жилье. Все знали, что большинство негров не удовольствуются переходом через границы штата, а двинутся дальше, пока не доберутся до места, где им представится хотя бы малейшая возможность жить или умереть достойно, потому что все видели фотографии вокзала, заполненного чернокожими, которые запрудили и шоссе между Нью-Марселем, и Уилсон-Сити, и видели вереницы автомобилей, забитых неграми с пожитками, так что ни у кого не возникло сомнения: негры пустились во все тяжкие вовсе не для того, чтобы отъехать от обжитых мест на какую-то сотню миль. И все читали заявление губернатора: «Нам не о чем беспокоиться. Они нам никогда и не были нужны. Мы прекрасно без них обойдемся. И Юг прекрасно без них обойдется. Даже при том, что наше население сократилось на треть, мы сдюжим. У нас хватает хороших людей».
И всем хотелось в это верить. Все они еще никогда не жили в мире без чернокожих, чтобы знать наверняка, как это бывает. Но надеялись, что все будет в порядке, пытаясь убедить себя, что все уже закончилось, хотя и подозревали, что все только начинается.
Хотя все были свидетелями того, как это началось, в их городе события развивались с некоторым опозданием, ибо они не испытали еще ни негодования, ни горького разочарования и не пытались пресечь исход негров, подобно белым жителям других городков, считавших своим правом и долгом вырывать чемоданишки из черных пальцев или даже прибегать к рукоприкладству. Они были избавлены от обескураживающего открытия, что подобные жесты отчаяния бессмысленны, или же их лишали возможности выказывать праведный гнев: мистер Харпер заставил их понять, что негров не стоит останавливать, а Гарри Лиланд дошел до того, что высказал идею, будто у негров есть полное право уехать – и вот теперь, во второй половине воскресного дня, когда солнце начало закатываться за плоские стены некрашеных зданий на той стороне шоссе, все повернулись к мистеру Харперу и в тысячный раз за эти три дня стали обсуждать, как вообще это все началось. Всего они знать не могли, но даже то, что им было известно, могло хоть отчасти дать ответ на главный вопрос, и теперь они гадали, были ли правдой слова мистера Харпера о «крови».
Мистер Харпер обычно в восемь утра появлялся на веранде, где в течение двадцати лет занимал свою позицию, сидя в кресле-каталке, древней и неудобной, как королевский трон. Он был отставной армейский служака, который поехал на Север в Вест-Пойнт, причем был направлен в Академию самим генералом Дьюи Уилсоном. В Вест-Пойнте мистера Харпера обучили премудростям ведения войн, участвовать в которых ему было не суждено: для войны между Севером и Югом он был слишком юн, на Кубе побывал уже много лет спустя после испано-американской войны и оказался слишком стар для Первой мировой войны, забравшей у него сына. Война не принесла ему ничего, но лишила всего, и посему тридцать лет тому назад он решил, что жизнь не стоит того, чтобы встречать ее стоя, коль скоро она раз за разом сбивает тебя с ног, уселся в кресло-каталку и стал взирать на мир с веранды, объясняя царящий в ней хаос мужчинам, каждый день кучковавшимся вокруг него.
И за все эти тридцать лет на глазах у всех он вылезал из своего кресла лишь единожды – в четверг, чтобы отправиться на ферму Такера Калибана. А теперь он вновь накрепко прирос к креслу, словно никогда и не покидал. Ветер слегка трепал его жидкие седые волосы, длинные, точно у женщины, расчесанные на прямой пробор, ниспадавшие по краям лица. Он сидел, сложив руки на небольшом, но видном брюшке.
Томасон, чей торговый бизнес едва тлел, отчего он редко появлялся в своем магазине, стоял позади кресла мистера Харпера, прижавшись спиной к грязному стеклу витрины. Бобби-Джо Макколам, самый юный в группе – ему едва исполнилось двадцать лет, – сидел на ступеньках веранды, упираясь ногами в сточную канаву, и курил сигару. Лумис, завсегдатай сборищ на веранде, восседал на стуле, откинувшись назад и слегка покачиваясь на задних ножках. Он некогда учился в университете на севере штата, в Уилсон-Сити, хотя его запала хватило только на три недели, и он считал выдвинутую мистером Харпером трактовку происходящего чересчур фантастической и чересчур упрощенной.
– Что-то я не больно верю в этот зов крови, – изрек он.
– А что же еще тут может быть? В чем же тогда дело? – Мистер Харпер обернулся к Лумису и прищурился, глядя на того сквозь свои седые космы. Он говорил не так, как остальные, – высоким надтреснутым, с придыханием голосом, четко выговаривая каждое слово, словно был уроженцем Новой Англии. – Учти, я же не из тех суеверных неучей и не верю в привидения и тому подобную чепуху. Но, как я понимаю, тут дело в чистой генетике, все дело в особенном голосе крови. А если есть на свете кто-то, у кого нечто особенное в крови, – то это Такер Калибан. – Он понизил голос и продолжал почти шепотом: – Я знаю: что бы там у него в крови ни было, что-то такое, что до поры до времени пребывало в спячке, ждало своего часа и в один прекрасный день пробудилось и заставило Такера сделать то, что он сделал. Другой причины быть не может. Мы с ним никаких забот не знали. Но вдруг его кровь забурлила в венах, засвербела, и он начал… замутил эту революцию. А уж я знаю эти революции! Мы их изучали в Вест-Пойнте. С чего это я, как думаешь, счел важным встать со своего кресла? – Он поглядел на противоположную сторону улицы. – Все дело в крови Африканца. И точка!
Бобби-Джо сидел, подперев подбородок ладонями. Он не повернулся к старику, поэтому мистер Харпер не сразу осознал, что парень над ним потешается.
– Слыхал я, что говорят про Африканца. Помню даже, кто-то мне рассказывал про него давным-давно. Но я что-то сейчас не вспомню, как все было. – А мистер Харпер рассказывал эту историю только вчера и много раз до этого. – Может, расскажете, мистер Харпер, и мы посмотрим, какое это имеет отношение ко всему, а?
Но тут до мистера Харпера дошло, что его подначивают, но ему уже было все равно. Он прекрасно знал, что, как полагали некоторые, он уже слишком стар и пора бы ему уже лежать в могиле вместо того, чтобы каждое утро появляться на веранде. Но он любил рассказывать эту историю. Правда, его все равно должны были уговорить.
– Вы все знаете эту историю не хуже меня.
– Да нет же, мистер Харпер, мы хотим услышать ее от вас еще разок! – Бобби-Джо обратился к взрослому мужчине как к ребенку, подпустив в свой голос слащавую интонацию. За спиной мистера Харпера раздался смех.
– Черт! Да мне плевать! Я ее расскажу, даже если вы не хотите слушать – просто назло вам! – Старик откинулся на спинку кресла-каталки и набрал побольше воздуху. – Но учтите, никто не утверждает, будто вся эта история – правда!
– Это чистая правда, правдивее не бывает! – Бобби-Джо затянулся сигарой и сплюнул.
– Хорошо. А теперь позвольте мне рассказать эту историю.
– Да, сэр! – Бобби-Джо произнес эти слова с преувеличенной учтивостью, но, обернувшись, не нашел одобрения в мрачных лицах людей. Мистер Харпер уже целиком завладел их вниманием. – Да, сэр! – На сей раз Бобби-Джо уже не кривлялся.
Как я уже сказал, никто не утверждает, что все в этой истории – чистая правда. Началось все одним манером, а потом, спустя какое-то время, кому-то или сразу многим взбрело в голову, что можно малость подправить правдивость событий. И подправили. От этого история стала куда интереснее, хотя в ней – половина лжи. Но какая же это история без толики лжи? Вот возьмите историю Самсона. Не все там правда, – то, что вы читаете в Библии. Просто люди решили, что если бывает человек чуть более сильный, чем большинство, то почему бы не придумать человека стократно сильнее прочих! Вот что, вероятно, и сделали здешние люди: взять того же Африканца – он, должно быть, был крупный и сильный, так почему бы не вообразить его гигантом и силачом?
Уверен: они просто хотели, чтобы мы его помнили. Но если подумать, то с чего бы нам вообще забывать этого Африканца, хотя все это произошло очень давно, потому что, как и Такер Калибан, Африканец работал на семью Уилсонов, а они были самыми важными людьми в наших краях. И в те времена люди любили Уилсонов куда больше, чем сейчас. Тогда прежние Уилсоны не были такими чванливыми, как нынешние.
Но речь не о нынешних Уилсонах. Речь об Африканце, которым владел отец нашего генерала Дьюитт Уилсон, хотя тот никогда на него не работал. Дьюитт просто им владел.
И вот, впервые Нью-Марсель (в ту пору город еще назывался на французский манер – Нью-Марсей) увидел Африканца поутру, после того как корабль с невольниками, на котором его привезли, бросил якорь в бухте. В те стародавние дни прибытие любого корабля было большим событием, жители сбегались в порт и приветствовали новоприбывшее судно. Идти до порта было недалеко, потому что в те дни город был не больше, чем Саттон сегодня.
Словом, невольничий корабль пришвартовался, убрали паруса, скинули сходни. И вот судовладелец, он же – владелец крупнейшего аукциона рабов в Нью-Марселе, – так сладко и так цветисто расхваливал свой товар, что мог продать однорукого, одноногого, полоумного негра за рекордную цену, – неспешно поднялся по сходням. Я слыхал, это был тщедушный малый, без намека на мышцы. У него были жуликоватые глаза, круглый нос – рябой, как гнилой апельсин, и он вечно ходил в старомодном синем костюме с кружевной накладкой на воротнике и в зеленом фетровом котелке. А за ним следом, шагах в трех, топал негр. Кто-то говорил, что это сын аукциониста от цветной женщины. Чего не знаю, того не знаю, но точно знаю, что этот самый негр своим видом, походкой и говором походил на своего хозяина. Та же фигура, те же хитрые глаза, и одет был точь-в-точь как тот – зеленый котелок и прочее, так что они оба выглядели словно фотография и ее негатив, поскольку у негра была коричневая кожа и курчавые волосы. Этот негр был у аукциониста и бухгалтером, и надсмотрщиком, и вообще всем, кем только можно. Итак, эти двое взошли на палубу, и пока негр оставался в сторонке, аукционист пожал руку капитану, который стоял на палубе и следил, как члены команды выполняют свои обязанности. Сами понимаете, в те времена изъяснялись иначе, чем сейчас, так что я в точности не скажу, что они говорили, но убежден, что-то вроде: «Приветствую! Как плавание?»
Но собравшиеся на причале люди заметили, что капитан выглядит неважно.
– Все хорошо, разве что у нас есть один строптивый мерзавец. Пришлось его посадить на цепь, изолировать от остальных.
– Давай-ка поглядим на него, – предложил аукционист. Стоявший за ним негр кивнул, что он делал всякий раз, как аукционист открывал рот, отчего возникало впечатление, что он – чревовещатель, а аукционист – его кукла, или наоборот.
– Не сейчас! Черт побери, я приведу его, когда выгрузим остальных черномазых. Потом мы все сможем его удержать. Черт! – Он поднял руку ко лбу, и тогда самые зоркие заметили темное маслянистое пятно на голове, точно кто-то плеснул туда машинным маслом, и он еще не успел его стереть. – Черт! – повторил он.
Ну, понятное дело, народ не на шутку забеспокоился, но не по причине простого любопытства, как обычно это бывало, но из желания увидеть того мерзкого смутьяна.
И Дьюитт Уилсон там тоже был. Он пришел не просто на корабль поглазеть и даже не рабов прикупить. Он пришел забрать свои напольные часы. Дело в том, что он строил новый дом за городом и заказал эти часы из самой Европы. Ему хотелось получить их как можно быстрее, а самый быстрый способ тогда было отправить их невольничьим судном. Он слыхал, что доставка груза невольничьим судном – это все равно что накликать семь бед на свою голову, но все равно, поскольку ему не терпелось заполучить эти часы, он выбрал именно такой способ. Часы находились в капитанской каюте: они были обложены ватой и запечатаны в коробку, а коробка уложена в ящик, обернутый для надежности тряпками. И вот он за ними и пришел, да прихватил с собой тележку, чтобы довезти их до дома и удивить жену.
Дьюитт и все прочие стояли и ждали на берегу, но сначала команда спустилась в трюм и, пощелкивая плетками, вывела оттуда длинную вереницу негров. У женщин груди свисали до пупка, кое-кто нес на руках черных младенцев. А у мужчин лица были такие кислые, точно они лимонов наелись. Большинство рабов были совершенно голые и стояли на палубе, моргая и жмурясь, потому как они долгое время не видели солнца. Аукционист со своим негром стал прохаживаться вдоль ряда взад-вперед, как всегда, осматривал зубы, щупал мускулы, можно сказать, оценивал товар. Потом аукционист сказал:
– Ну что ж, давайте сюда вашего смутьяна!
– Нет, сэр! – рявкнул капитан.
– Это еще почему?
– Я же вам сказал. Не хочу выводить его, пока все эти черномазые остаются на корабле.
– Ну, ясно, – сказал аукционист, но при этом его лицо оставалось равнодушным. Как и у его негра.
Капитан потрогал сияющую темно-синюю рану на лбу.
– Вы разве не понимаете? Он – их вожак. Стоит ему хоть слово сказать, у нас хлопот будет побольше, чем у Господа молитв. С меня и так довольно! – И он снова тронул свою рану.
Матросы тычками заставили негров спуститься по сходням на берег, и собравшиеся на причале люди расступились, молча глядя на бредущих невольников. Эти черномазые даже пахли гневом, поскольку плыли в трюме, сбившись, как селедки в бочке, стиснутые, подобно младенцу в люльке. Они были грязные и злобные, готовые чуть что учинить драку. Потом капитан отправил нескольких матросов вниз, позволив прихватить ружья, чтобы им там не скучно было. А остальные члены команды, человек двадцать или тридцать, остались на палубе и беспокойно переминались с ноги на ногу. А люди на причале сразу уяснили, в чем дело: матросов одолел страх. Это было видно по их глазам. Взрослые мужики робели перед тем, кто сидел в трюме на цепи.
Да капитан и сам выглядел испуганным, все трогал свою рану и вздыхал. Он сказал своему помощнику:
– Думаю, тебе стоит туда пойти и привести его.
Потом добавил, обращаясь к двадцати или тридцати матросам, стоявшим рядом:
– И вы с ним – все! Может, справитесь там.
Народ затаил дыхание, точно дети на цирковом представлении в предвкушении сальто акробата на проволоке, потому как даже глухая и слепая старуха в толпе на причале догадывалась, что в трюме есть нечто, что сейчас предстанет перед глазами публики. Все затихли, и слышался лишь плеск волн, бьющих в борт корабля, да топот ног матросов, в тяжелых башмаках сбегающих в трюм и не торопящихся сообщить сидящему там, что его желают видеть на палубе.
А потом из самых недр корабля, откуда-то из мрачных глубин донесся рык, и был он громче, чем рев загнанного медведя или рев двух медведей в момент совокупления. Он был таким громким, что содрогнулись корабельные борта. И все поняли, что его издает одна глотка, так как не было слышно никаких других звуков – только этот одинокий рык. И затем, прямо у них на глазах, в борту корабля, чуть повыше ватерлинии, образовалась зияющая дыра, и во все стороны полетели щепки, точно веер брызг от камушков, брошенных в пруд мальчишкой. Потом послышались глухие звуки борьбы и вопли, и через несколько мгновений на палубе показался матрос с кровоточащей головой.
– Черт его побери – он вырвал свою цепь из стены! – сообщил матрос, которому раскроили череп. И все уставились на образовавшуюся в борту дыру и даже не заметили, как матрос от полученной раны повалился на палубу без сознания.
И уж поверьте, сэр, толпа на причале сбилась теснее, на тот случай, если этот субъект в трюме каким-то образом вырвется на волю и начнет носиться по мирному Нью-Марселю, круша все на своем пути. Потом вроде как все стихло, даже в трюме, и все подошли ближе и прислушались. Они услышали звон волочащихся цепей и потом – впервые – увидели Африканца.
Начать с того, что поначалу они увидали его голову над люком, а потом плечи, такие широченные, что ему пришлось подниматься по трапу боком, потом все увидали его туловище, которое должно было бы уже кончиться, а оно все не кончалось. И вот он выпрямился во весь рост, голый, как перст, за исключением куска дерюги, обернутой вокруг его чресл, и, стоя, он оказался на две головы выше любого из матросов на палубе. Он был черен и блестел, как маслянистая рана на голове у капитана. Его голова была размером с котел, какие бывают в фильмах про каннибалов, и с виду она была такая же тяжелая. А цепей на нем висело столько, что он напоминал разукрашенную рождественскую елку. Но все уставились ему в глаза и не могли оторваться. Глаза были глубоко посажены, отчего его голова смахивала на огромный черный череп.
У него что-то виднелось под мышкой. Сначала решили, что у него там опухоль или нарост, и не обращали внимания, пока нарост не зашевелился, и тут все заметили глазки и поняли, что это младенец. Да, сэр, он прижимал живого младенца, точно черную коробчонку, и этот младенец поглядывал на людей.
Вот так все увидели Африканца и отступили на шаг, словно расстояние между ним и ими было недостаточным, словно он мог вытянуть руку над бортом, опустить ее через перила и щелчком пальцев снести кому-нибудь голову. Но он вел себя тихо и не жмурился на солнце, подобно прочим, а нежился в нем, словно оно было его собственностью, и он приказал ему выкатиться в небо и светить на него.
Дьюитт Уилсон вытаращился на исполинского негра. Трудно было сказать, о чем он думал в тот момент, но, как кто-то потом сказал, он снова и снова повторял себе под нос: «Я его куплю. Он будет работать на меня. Я его сломаю. Я должен его сломать!». – Вот так-то: стоял, глядя на него во все глаза, и повторял эти слова.
А негр при аукционисте тоже вылупил глаза. Но только он ничего не бубнил себе под нос. Люди говорили, он просто смотрел и вроде как приценивался – оглядывал Африканца с головы до пят и считал в уме: столько-то за череп и мозг, столько-то за кости и мышцы, столько-то за глаза – и все карандашиком делал записи на клочке бумажки.
Капитан приказал матросам отвести всех негров к месту проведения аукциона – утоптанной площадке в центре Нью-Марселя, которая сейчас называется Аукционная площадь. Кто-то из матросов пошел расчищать проход в толпе, а остальные сошли с корабля и повели за собой скованных цепями негров. За ними двинулась толпа, собравшаяся на причале, все хотели попасть на площадь да посмотреть, почем в тот день можно было приобрести на торгах хорошего раба, – так же вот сегодня люди читают биржевые новости, – а самое главное, узнать, какие деньги дадут за Африканца. И когда почти все разошлись, с корабля на берег сошел Африканец со своим эскортом числом человек в двадцать, не меньше, и каждый держал и сжимал в руках одну из цепей, так что он был похож на майское дерево со всеми этими матросами, его окружавшими, но держащимися на приличном расстоянии от его ручищ.
Когда дошли до площади, всех негров выстроили в стороне, а Африканца повели на вершину холма. Потом аукционист, со своим неизменным негром в трех шагах у него за спиной, начал торги:
– Ну вот, народ, вы видите перед собой потрясающий образчик имущества, о котором может мечтать любой из вас. Обращаю ваше внимание на его рост, ширину грудной клетки, вес. Обратите также внимание на изумительно развитую мускулатуру, величественную стать. Это вождь, поэтому он обладает потрясающими лидерскими способностями. Он нежен с детьми, как вы уже, думаю, смогли убедиться, поглядев на то, что у него под мышкой. И да, он способен на разрушительные действия, но я утверждаю, что это всего лишь признак того, что он может ответственно выполнять порученную ему работу. Не думаю, что вам нужны какие-то дополнительные подтверждения правоты моих слов. Один его вид служит достаточным подтверждением. И если бы я не владел им, и если бы у меня была ферма или плантация, я бы отдал половину моих земель и всех своих рабов, лишь бы наскрести достаточно денег, чтобы купить его и отправить одного обрабатывать оставшуюся половину земли. Но дело в том, что я им владею, а вот земли у меня нет. В этом-то и проблема. Я не могу его применить, он мне не нужен, мне надо от него избавиться. И вы можете в этом мне помочь, друзья мои. Я готов сбыть его с рук кому-то из вас. И я даже приплачу вам за вашу доброту. Да, сэр! И пусть не говорят, что я не способен отблагодарить моих друзей за оказанные мне любезности. Вот что я сделаю: я отдам двоих по цене одного, я добавляю к нему вот этого младенчика, которого он держит под мышкой!
(Кстати, люди уверяли, что, как уже выяснилось позже, аукционисту волей-неволей пришлось предложить такую сделку, потому что капитан пытался вначале отнять малыша у Африканца, за что тот и разбил ему голову. Так что, полагаю, аукционист просто не смог бы выгодно продать обоих по отдельности, разве что ему бы пришлось убить кого-то одного, чтобы продать другого).
– Ну вот, сами видите: мое предложение – весьма выгодное! – продолжал он. – Потому что младенец вырастет и станет в точности, как его папочка. Просто представьте себе: когда этот мужчина состарится и не сможет больше работать, у вас будет наготове точная копия, которая его заменит. Уверен, вам прекрасно известно, что я не шибко силен в подсчетах цен и затрат, но могу сказать сразу: этому работнику красная цена – не менее пятисот долларов. Что скажете, мистер Уилсон, стоит он таких денег?
Дьюитт Уилсон ничего не ответил, ни слова не проронил, а просто полез в карман и достал оттуда тысячу долларов бумажками – спокойно, как вы бы смахнули пылинку с костюма, взошел к вершине холма и молча отдал деньги аукционисту.
Аукционист хлопнул себя по колену зеленым котелком и гаркнул:
– Продано!
И никто, даже люди, которые утверждают, будто все видели своими глазами, не мог точно сказать, что произошло дальше. Может, всему виной сжимавшие цепи матросы, которые расслабились при виде таких деньжищ, потому как Африканец вдруг крутанулся на месте, и из рук матросов цепи вырвались, а вместо них остались только окровавленные пальцы и разодранные ладони – там, где цепи прошлись, словно пилой, по коже. А Африканец уже держал в руках все цепи, собрав их в пучок, как женщина, залезая в автомобиль, подбирает юбки, и он кинулся на аукциониста, словно понимал все, что тот говорил и делал, чего быть никак не могло, поскольку это же был Африканец, и, вероятно, он только и умел что лопотать по-своему, как все африканцы. Как бы там ни было, он набросился на аукциониста и, как многие клянутся, хотя и не все, кто там был, этими самыми цепями он срезал ему голову вчистую, вместе с зеленым котелком, и его голова, точно пушечное ядро, пролетела по воздуху добрых четверть мили, а потом еще четверть мили прыгала по улице и ударилась о ногу лошади, на которой некий парень въезжал в Нью-Марсель, причем сила удара была такова, что лошадиная нога оказалась сломана. Парень потом ходил по городу и жаловался, что ему пришлось пристрелить лошадь, потому что ей раздробила ногу летящая голова в зеленом котелке.
А потом случились еще более странные вещи. Когда Африканец избавился от своих цепей, негр аукциониста отступил на шаг или два и, вроде бы даже не взглянув на обезглавленного хозяина, а лишь удостоверившись, что ни капли крови не попало на него и не замарало его костюм, подбежал к Африканцу, все еще стоявшему у тела, которое даже не успело упасть наземь, схватил его за руку и поволок за собой, крича:
– Сюда! Сюда!
Полагаю, Африканец мало что понял, но он уразумел, что этот негр пытается ему помочь, и двинулся в указанном ему негром направлении, а негр пошел за ним следом точно так же, как еще совсем недавно тенью ходил за аукционистом, отстав на три шага, и Африканец легко сбежал по склону холма, хотя на нем висело около трехсот фунтов цепей, и цепи болтались на нем из стороны в сторону, походя сломав семь или восемь рук и одну ногу, пробивая себе и негру дорогу в толпе нью-марсельцев. Кое-кто поднял ружья и прицелился и, возможно, мог бы их и подстрелить (не говоря уж о том, между прочим, что они бы могли завалить Африканца), но Дьюитт Уилсон, как безумный, взбежал на холм и встал между стрелками и Африканцем и негром, беспрестанно визжа:
– Не стрелять в мое имущество! Я подам в суд! Это мое имущество!
Но Африканец уже убежал довольно далеко, и пулей его было не достать, и путь его лежал к югу, на болота в пригороде. Поэтому люди и Дьюитт вскочили на лошадей, вооружились ружьями и пустились вдогонку за беглецами.
Африканец бежал весьма резво (он, должно быть, нес на себе не только цепи и младенца, но и негра, потому как я не пойму, как этот щуплый негр мог за ним поспевать), и Дьюитт с его спутниками никогда бы их не настигли, если бы он не устремился напролом через леса и болота, оставляя за собой след – точнее, тропу, тянувшуюся меж сломанных кустов и веток, выдернутых кусков дерна там, где волочились его цепи и цеплялись за ветки и камни, и он вырывал их из земли, двигаясь прямиком к морю. И преследователи скакали по этой тропе, широкой настолько, что там могли пройти рядом две лошади, и прямой, как ватерпас, и эта тропа бежала по топям, по пескам и так достигла воды. Тут след обрывался.
Люди решили, что Африканец, верно, решил вплавь добраться до родных берегов (кое-кто даже полагал, что ему это удастся, невзирая на цепи и младенца), а щуплый негр куда-то сгинул, и все уже утомились, хотели плюнуть на это дело и вернуться в город, но Дьюитт был уверен, что Африканец не сбежал, не уплыл, а где-то бродит, и отправил нескольких человек прочесать пляж в поисках какого-то знака. Что они и сделали – и в полумиле от того места обнаружили две полоски следов, ведущих в чащу.
Но теперь Дьюитту Уилсону не удалось уговорить людей продолжить погоню за его имуществом. Во-первых, уже смеркалось, во‐вторых, тропа была не такой широкой, как прежде, потому что тут Африканец, должно быть, держал цепи на весу, они ни за что не зацеплялись – так девушка, заходя в воду, подбирает юбку до талии. Словом, мужчины естественным образом поостыли, когда узнали, что предстоит преследовать дикаря по лесу в ночи, когда в лучшем случае вы просто не сможете его разглядеть, а в худшем – не будете знать, где он прячется, а он в любой момент может выпрыгнуть невесть откуда и снести вам полбашки, прежде чем вы успеете моргнуть. Так что они разбили бивак на берегу, кто-то ушел за провиантом, а на рассвете вновь отправились в погоню.
Но этой единственной ночи только и надо было Африканцу и щуплому негру, и теперь поймать его было еще труднее, потому что когда они вышли на просеку, углубившись в лес на милю, то наткнулись на горку поблескивающих на солнце расколотых камней да стальных колец и обручей – тут, видно, Африканец всю ночь сбивал с себя оковы. И теперь он был совершенно свободен, окончательно избавившись от своих цепей, и где-то бродил по округе. Он был такой рослый и быстрый, что лучше даже не думать, где бы он мог быть, и люди поняли, что он может быть сейчас где угодно в радиусе сотни миль. Но Дьюитт, с кем теперь осталась горстка людей, упрямо бродил в поисках своего имущества еще добрых две недели, покрыв расстояние до современного Уилсон-Сити и обратно, одолев в общей сложности две сотни миль вдоль побережья Мексиканского залива, от Миссисипи до самой Алабамы, пока, в конце концов, люди, оставшиеся вместе с Дьюиттом, не заметили, что с ним что-то не так. Он вообще утратил сон, ничего не ел, двадцать четыре часа в сутки не слезал с лошади и все разговаривал сам с собой, повторяя: «Я тебя поймаю… Я тебя поймаю… Я тебя поймаю». И вот спустя почти месяц с того дня, как Африканец сбежал, а все это время Дьюитт ни разу не был дома, он на глазах у людей спешился и уснул мертвым сном на траве, а они доставили его на носилках на плантацию, и он проспал на пуховой перине еще целую неделю. Его жена рассказала, что он разговаривал во сне, а когда пробуждался, то вскакивал с криком: «Но я же тоже! Я тоже стою тысячу! Я тоже!».
Теперь Африканец сменил тактику.
Сидели как-то раз Дьюитт с женой на крыльце своего дома. Дьюитт пытался восстановить силы и для этого пил что-то холодное и подставлял лицо солнцу. И тут на лужайке перед домом появляется Африканец, одетый в цветастый африканский наряд, с копьем и щитом, и бежит прямо на дом, точно он – поезд, а дом – горный туннель, в который он мчится, что и произошло: негр пробил стену дома, пробежал насквозь и выскочил через заднюю дверь, промчался по заднему двору к той части города, где обитали рабы Дьюитта, и там освободил всех негров и увел их во тьму лесной чащи. И все это произошло прежде, чем Дьюитт успел поставить стакан на стол и подняться с кресла.
Ну, мало того, на следующий вечер почти то же самое произошло с одним плантатором, жившим к востоку от Нью-Марселя. Он пришел в город и стал рассказывать об этом всем и каждому: «Я мирно спал, как вдруг услыхал на улице шум, как раз там, где стоят хижины моих рабов. И когда я подскочил к окну, то разрази меня гром, если я не увидел, как все мои черномазые гурьбой уходят в лес под водительством ниггера, огромного, что твоя вороная лошадь, вставшая на дыбы. И с ним был еще один, он шел в нескольких шагах позади этого великана, размахивал руками и указывал моим черномазым, куда идти и что делать!»
Дьюитт Уилсон, хотя еще не вполне оправился от усталости, приехал в город, встал перед большой толпой людей, которые шумно обсуждали случившееся, и объявил:
– Я вам клянусь, что не уйду домой до тех пор, пока не поймаю этого Африканца живым или мертвым и не увезу с собой. И пусть все знают, белые и черные – всякий, кто сообщит мне сведения, которые помогут мне изловить этого Африканца, на следующий день будет иметь в своем кармане тысячу моих долларов!
И эта новость, точно запах вареной капусты, разнеслась по городу и за его пределами, повсюду, так что спустя много лет стоило вам попасть в Теннесси и упомянуть, что вы из наших мест, кто-нибудь обязательно бы спросил: «А кто получил тысячу от Дьюитта Уилсона?»
Дьюитт Уилсон свое слово сдержал: он снова бросился искать Африканца. Он искал его еще месяц по всему штату. Иногда ему удавалось почти его догнать, но не совсем. Его с его бандой настигали, причем ее число уже сократилось до двенадцати голов, потому как кого-то убили, кого-то схватили, но стоило вступить с ними в битву, всякий раз Африканцу удавалось ускользнуть. Один раз даже показалось, что его загнали к реке и заманили в ловушку, а он просто развернулся, прыгнул в реку, поплыл под водой и был таков. Некоторым не то что вплавь такое расстояние преодолеть, даже камень бросить так далеко не под силу. И до того щуплого черномазого, что раньше за аукционистом хвостом ходил, не добрались. Он все время рядом с Африканцем вертелся да младенца держал на руках, пока Африканец отбивался от нападавших, да стрелял своими жуликоватыми глазками, которые блестели как два серебряных доллара из-под надвинутого на лоб зеленого котелка. Да, сэр, на нем был тот самый зеленый котелок, а больше ничего из прежнего платья, потому как теперь он был одет как Африканец – в длинной цветастой накидке.
А Дьюитт опять изменился, снова стал вести себя как прежде, до того как он слег, но больше ни с кем не разговаривал, даже с самим собой, а все время пребывал в задумчивости и молчании. Так и продолжалось – Африканец совершал набеги на плантации, освобождал рабов, Дьюитт Уилсон настигал его банду, забирал рабов обратно, а еще больше убивал, так что банда Африканца насчитывала всего двенадцать-тринадцать черномазых, но ни самого Африканца, ни щуплого ниггера поймать никак не удавалось.
Как-то ночью они встали на ночевку к северу от Нью-Марселя. Все спали, кроме Дьюитта, который сидел на своей лошади и глядел на костер. Он услыхал за спиной голос, и сперва ему почудилось, что это говорит призрак обезглавленного аукциониста. Но это был не призрак.
– Хочешь заполучить Африканца? Я тебя к нему проведу!
Дьюитт оглянулся и увидал щуплого негра в дикарской накидке и зеленом котелке: он пробрался в лагерь незаметно и неслышно.
– Где он? – спросил Дьюитт.
– Я тебя к нему проведу. Я подойду и дам ему пощечину, если хочешь, – сказал негр.
И Дьюитт решил ехать с ним. Потом он уверял, будто не был уверен, что поступает правильно, отправившись за тем негром, потому как тот мог завести его в засаду или ловушку. Но еще он сказал, что, по его разумению, вряд ли Африканец так бы с ним поступил. Кое-кто из бывших с ним тогда людей говорил, что он к тому моменту совсем сбрендил и был готов на все, и мог пойти куда угодно и с кем угодно, лишь бы поймать Африканца. Дьюитт поднял своих людей, и все отправились через лес за щуплым негром. Они не проехали и мили, как попали в лагерь Африканца. Костер не горел, и негры, а было их человек двенадцать, лежали на голой земле, не накрывшись, и спали. А посреди поляны, прислонившись спиной к огромному валуну, сидел сам Африканец с чернокожим младенцем на коленях. Голова его была обернута куском ткани, а перед ним высилась куча камней, обращаясь к которой он что-то бормотал.
Дьюитт Уилсон не мог взять в толк, отчего никто не предупредил Африканца и по какой причине ему удалось так легко проникнуть в его лагерь. Он нагнулся к щуплому негру и спросил:
– Почему не выставлены часовые? Он же знал, что я близко. Почему он не выставил часовых?
Негр осклабился:
– Был один часовой. Я!
– Так зачем ты так поступил? Почему ты его предал?
Негр снова осклабился:
– Я же американец, а не дикарь. И к тому же человек следует за своим кошельком, не так ли?
Дьюитт Уилсон кивнул. Кое-кто утверждал, что он едва не повернул обратно в свой лагерь, потому как не захотел вот так возвращать себе свое имущество, а решил вернуться сюда утром, когда Африканца уже след простынет, и продолжать погоню по-честному, пока он его не схватит, потому что после долгих недель поисков Африканца по лесным тропам в надежде вот-вот его настигнуть, но всякий раз обнаруживая, что поймать его удастся не скорее, чем у карлика появится шанс стать профессиональным баскетболистом; словом, после всех этих тягот, потраченных сил и пролитого пота, после многих суток, проведенных в седле, впроголодь и почти без сна, он начал испытывать уважение к этому упрямцу, и, скажу больше, он даже стал испытывать легкую печаль при мысли, что если он и вернет себе свое имущество, то лишь потому, что какой-то негодяй, которому Африканец доверял, его предал и привел белых людей к нему в лагерь. Но другие не разделяли его чувств. Им хотелось выловить Африканца любым способом, потому как он дурачил их, и они это знали и намеревались с этим покончить раз и навсегда.
И белые окружили лагерь Африканца, после чего Дьюитт Уилсон призвал беглых негров сдаться. Белые зажгли факелы, дабы Африканец увидел, что он в кольце огня, лошадей и людей с ружьями. Негры повскакали с земли и тут же поняли, что сопротивляться бесполезно, потому как у них было только оружие Африканца, и они побросали свои копья наземь. Но сам Африканец взобрался на валун, обнимая младенца, и медленно развернулся, оценивая неприятельские силы, ведь он остался один и понимал это, потому как к этому моменту все его негры разбежались по кустам или стояли рядом с таким видом, будто видели его впервые в жизни и понятия не имели, кто он такой и что тут делает.
И он стоял один на валуне, практически нагой, и его кожа блестела в пламени факелов, и глаза были точно черные ямы. А потом он спрыгнул на землю. Кто-то поднял ружье.
– Погоди! – крикнул Дьюитт. – Попробуем взять его живым. Вы меня поняли? В этом все дело. Взять его живым! – И, привстав на стременах, он принялся размахивать руками, чтобы привлечь внимание своих людей с факелами.
Кто-то решил, что хозяин призывает выказать себя героем, и, думая, что ему удастся сбить Африканца с ног, направил свою лошадь прямо на него, но Африканец взмахом руки сдернул седока с седла, словно с лошадки на карусели, шваркнул его спиной о свое колено, переломив позвоночник, как сухую куриную кость, и отшвырнул в сторону.
– Если будете стрелять, цельтесь в руки или ноги! – заорал Дьюитт Уилсон.
Кто-то стоящий на дальнем окоеме кольца выстрелил, и все видели, как пуля прошила руку Африканца насквозь и влетела в землю у копыта Дьюиттовой лошади, но Африканцу эта рана, по-видимому, не причинила никакой боли, и он даже не поморщился и не сдвинулся с места. Другая пуля вошла ему чуть повыше колена, и кровь тонкой струйкой потекла по ноге.
Прижавшись спиной к валуну, на вершине которого спал младенец, он медленно обошел камень кругом, глядя на всех, в том числе и на щуплого негра в зеленом котелке, стоявшего подле Дьюитта, но, не остановившись напротив него и не выказав ни гнева, ни разочарования, остановился только напротив Дьюитта Уилсона и вперил в него взгляд. Так они стояли, глядя друг на друга, не то чтобы соревнуясь, кто кого переглядит, а словно бессловесно обсуждали что-то. И, наконец, создалось впечатление, что они пришли к какому-то соглашению, потому что Африканец слегка кивнул, как боксер кивает перед началом боя, а Дьюитт Уилсон поднял ружье, прицелился в открытое лицо Африканца и выстрелил точно в переносицу над его широким носом.
Пуля чисто вошла в кость, но Африканец как стоял, так и остался стоять, а потом повалился на колени, выставив вперед руки. Он вроде как таял на глазах, а потом вдруг поднял искаженное ужасом лицо, точно что-то вспомнил и захотел что-то сделать перед тем, как отойти, издал громкий вопль и, с налитыми кровью глазами, сжимая в руке увесистый камень, потянулся к спящему младенцу. Он поднял камень над младенцем, но Дьюитт Уилсон размозжил ему затылок прежде, чем тот успел обрушить камень на головку малыша. И Африканец испустил дух.
Никто не пошевелился. Все всадники были сильно разочарованы, потому что каждый хотел по возвращении домой заявить, что именно его выстрел убил Африканца.
Дьюитт Уилсон слез с лошади, подошел к младенцу, который все так же спал, не зная, что его папа умер, да и, думаю, не зная, что у него вообще был папа. Вернувшись к лошади, Дьюитт Уилсон перешагнул через горку камней, к которым обращался Африканец. Это были плоские камешки, и Дьюитт Уилсон долго на них пялился, а потом нагнулся и взял самый маленький, белого цвета, и положил себе в карман.
Мистер Харпер слегка осип. Он умолк на мгновение, откашлялся и продолжал:
– Дьюитт Уилсон вернулся в Нью-Марсель, получил свои часы, которые он так и не забрал в тот день с корабля, и повез их домой, и младенец Африканца лежал рядом с ним на сиденье повозки, а позади него сидел щуплый негр в зеленом котелке да громко тикали часы, которые вы все видели в прошлый четверг на ферме Такера.
Он замолчал и обернулся на тех, кто стоял у него за спиной.
– Ну вот и вся история, и вы не хуже меня знаете, что генерал нарек того младенца Калибаном, когда самому генералу было двенадцать лет.
– Именно! После того как генерал прочитал книжку Шекспира, – со вздохом заметил Лумис.
– Не книжку, а пьесу под названием «Буря». Шекспир книжек никаких не писал, никто тогда не писал книг, только стихи и пьесы. Никаких книг. Ты, видать, так ни черта и не выучил за те три недели в университете! – мистер Харпер презрительно глянул на Лумиса.
– Ну, ладно, как скажешь, пьеса, – смущенно согласился Лумис.
Пришло время ужина. Кое-кто покинул веранду. Теплый ветерок дул со стороны горного хребта Истерн-Ридж. Автомобиль, забитый сумрачными неграми, протарахтел по шоссе в северном направлении.
– А Калибан, кого крестили под именем Фёрст, после того как у него появилась семья, был не единственным Калибаном, еще был отец Джона Калибана, а внук Джона Калибана – это Такер Калибан, и в жилах Такера Калибана течет кровь Африканца! – Мистер Харпер с удовлетворенным видом откинулся на спинку своего кресла.
– Это вы так считаете. – Бобби-Джо швырнул остаток сигары на проезжую часть.
– Парень, я прощаю тебе твою глупость. Настанет день, и ты увидишь, что я не дурак. А ты можешь мне верить или не верить – мне-то все равно, – но рано или поздно ты согласишься со мной и тебе придется извиниться!
Люди зашушукались.
– Именно так!
– Смотрите, мистер Харпер! – начал тихо Бобби-Джо, даже не повернувшись к старику, а продолжая утюжить взглядом шоссе. – Такер Калибан работал на Уилсонов всю свою жизнь. И с чего это он выбрал именно тот четверг, чтобы учинить мятеж и поддаться зову крови Африканца? – Тут он взглянул на мистера Харпера. – Что вы на это скажете?
– Эх, парень, добрый человек не будет тебе врать. Он не скажет тебе: вот правда, если сам он в этом не уверен. И я тебе откровенно говорю: я не могу тебе ответить. Я просто говорю, что Такер Калибан почувствовал зов крови, все бросил и ушел, и хотя это совсем не похоже на то, как поступил Африканец, по сути, это то же самое. А почему именно в четверг? Этого я не могу сказать.
Старик кивал головой, произнося эти слова, а сам глядел поверх крыш домов на небо.
Все услышали звук шагов пожилой дамы. А потом увидели дочку мистера Харпера – старую деву пятидесяти пяти лет, с висящими как пакля желтыми волосами и всегда прямой спиной.
– Ты готов идти домой ужинать, папа?
– Да, милая! Я готов, милая!
Каждый вечер она задавала один и тот же вопрос:
– Кто-нибудь поможет ему сойти с веранды?
– Ну что ж, я не думаю, что вернусь вечером. Так что увидимся завтра после службы! – Кресло-каталку с мистером Харпером уже вынесли на проезжую часть, и его дочь стояла у него за спиной, сжав обеими руками высокую, как у трона, спинку, и ждала.
– Да, сэр! – ответили все хором.
– Тогда всем – доброй ночи! И не попадите в беду! – Кресло-каталка со скрипом покатилось по мостовой, увозя старика.
Как только мистер Харпер оказался на приличном расстоянии и не мог ничего слышать, Бобби-Джо повернулся к остальным.
– Вы и правда верите в эту ерунду с кровью? Думаете, этим все объясняется? – Он решил, что теперь, в отсутствие старика, остальные не будут слишком доверчивы к его мнению.
– Ну, если это говорит мистер Харпер, то хотя бы отчасти это что-то да объясняет! – Томасон отлепился от стены и двинулся к дверям магазина.
– Именно так! – Лумис подался вперед, положил руки на колени и приготовился встать со стула.
– Так ты думаешь, что все вот так просто?
– Можно и так сказать. – Томасон открыл дверь, вошел внутрь и прижал нос к москитной сетке. – А у тебя есть объяснение получше?
– Неа! – Бобби-Джо бросил взгляд на живот Томасона, прижатый к сетке. – Нет, сейчас нет. Но я думаю над этим.
Гарри Лиланд
Хотя в тот четверг было уже хорошо за десять, мистер Харпер, Бобби-Джо и мистер Стюарт еще не появились. Стоя на веранде, чуть в стороне от прочих, глядя из-под драного поля соломенной шляпы, Гарри ждал своего сынишку Гарольда – все его звали мистером Лиландом, – тот должен был свернуть за угол, оказаться посреди площади и подбежать (он всегда бегал, если не ездил верхом) к магазину Томасона. В то утро, перед тем как поехать в город, жена попросила Гарри заехать к мисс Риккетт.
– Она лежит со сломанным бедром, Гарри, и любит принимать гостей. Так что, когда вернетесь, не вздумай сказать, что вы ее не навестили!
Он кивнул, а сам подумал: «Пусть мальчишка ее навестит, пошлю-ка к ней. От этой женщины у меня мурашки. Не пойму: неужели Мардж ничего про нее не слыхала и не знает, что она вытворяет. Но я-то знаю: ей прямо не терпится, чтобы ее отымели, но я ей не доставлю такого удовольствия. Пошлю к ней мальчишку!» – и с этими мыслями снова кивнул.
Они ехали от своей фермы вдвоем на лошади: отец в седле, а сын сидел перед седлом, держась за лошадиные бока, и так они проехали целую милю, а когда поравнялись со статуей генерала на центральной площади города, Гарри скомандовал лошади «тпру!» и попросил мальчика спешиться.
– Тебе необязательно торчать у нее долго, Гарольд, просто зайди, поприветствуй и скажи: мисс Риккетт, мама с папой слыхали, что вы себя неважно чувствуете, и послали меня узнать, как вы.
Гарольд удивленно посмотрел на него. Гарри понял, о чем тот думает, и, отвечая, не стал врать:
– Знаю, Гарольд, я вроде как тоже должен к ней зайти. Но что-то мне не хочется. А ты загляни к ней на минутку. Если бы я пошел с тобой, пришлось бы сидеть и лясы точить до заката. Так что уж окажи папе услугу. А если она про меня спросит, скажи, у меня неотложное дело в магазине Томасона. Лады?
Но Гарольд никуда не собирался идти, а все глядел на него снизу вверх серыми глазами, похожими на осколки серой бутылки.
– Да, Гарольд. Она мне тоже не нравится. Но я старше тебя и знаю про нее такое, что мне совсем не нравится. – И тут мальчик кивнул – Гарри это понравилось – с таким выражением лица, будто думал: да все я знаю, и все понимаю, и пойду туда один, лишь бы спасти папу от тягот, потому что мои тяготы – это тяготы всего лишь мальчика, а отцовские – это тяготы взрослого мужчины, то есть больше и мучительнее. После чего развернулся и побежал по Ли-стрит.
Гарри сидел на лошади и наблюдал за сыном, в синем комбинезоне и в бело-синей полосатой футболке, с длинными песочного цвета волосами, в точности как у него самого, закрывавшими уши и падавшими на серые глаза, и всем своим видом он был похож на маленького заключенного, сбежавшего из тюрьмы. Гарри смотрел мальчишке вслед, пока тот не свернул за угол, и поехал к магазину Томасона.
Но теперь, стоя на веранде и слушая вполуха ленивое ворчание мужчин, ведущих беседу (мистера Харпера не было, и некому было придать тему и смысл их бессвязной болтовне), он испытал чувство вины: «Ну вот, я как будто отправил собственного сына в логово львицы. У мальчишки поболее отваги, чем у меня. Бог – свидетель, мне приходится не подпускать сорокалетнюю стерву со сломанным бедром к себе на пушечный выстрел. Отправил к ней собственного сына. Когда он вернется, надо будет купить ему что-нибудь вкусненькое».
Он прислонился к своему столбу. На столбе не было таблички с его именем, но, кроме него, никто к этому столбу не прислонялся, он не принимал участия в разговоре и смотрел вдоль улицы на статую генерала и ждал, когда из-за угла появится сын.
Сквозь плотную ткань рубашки и куртки он почувствовал прикосновение к плечу чьей-то пухлой руки.
– Ты куда отправил мистера Лиланда, а, Гарри? – спросил Томасон, его лучший друг среди всех этих мужчин. Высоко на его груди сидел рабочий фартук, смахивающий на замызганное вечернее платье без бретелек.
– Отправил его к мисс Риккетт. Она…
– Мог бы и не говорить. Ты не думаешь, что он еще слишком мал для этого? – Он широко усмехнулся. – А то, похоже, он размером не вышел наполнить эту кастрюлю. Да что там, не у каждого из нас хватит размера ее наполнить!
За их спинами мужчины расхохотались.
– В любом случае, – заметил Гарри, – я еще не так низко пал, чтобы захотеть ее наполнить. И, кстати, я понятия не имею, какого она у нее размера. – И он локтем слегка ткнул Томасона в живот, а потом рассмеялся. – По крайней мере, поэтому я его к ней и послал. Не хочу ее подпускать к себе близко.
– А ты за него не боишься? Ты же хочешь воспитать его приличным мальчиком, нет? – спросил Томасон с наигранной озабоченностью.
– Ничего она ему не сделает. Ну, может, даст чего-нибудь сладенького.
– Так и я о том же! Она обнимет его и скажет, чтобы он пришел к ней лет через шесть, и когда он станет большим и красивым, как его папаша, она покажет ему кое-что о-очень особенное!
Мужчины опять рассмеялись.
– А, заткнись! – Гарри, не слишком осерчав, отвернулся и снова поглядел на улицу. И тут он увидел сына: вынырнув из-за угла, мальчик бежал к веранде.
– Ну, вот и он. – Томасон хлопнул Гарри по плечу. – Бежит со всех ног! Уверен, на сей раз он ей не дался. Правда, этот мальчуган всегда бегает. Во всяком случае, энергия в нем прямо-таки бурлит.
Он отвернулся и снова занял привычное место у стены.
Мальчишка уже добежал до магазина. Он остановился, посмотрел по сторонам, потом устремил взгляд в сторону хребта Истерн-Ридж, где что-то привлекло его внимание. Он всмотрелся повнимательнее, кинулся через улицу и взбежал на веранду.
– Папа, грузовик едет! – Одновременно он протянул руку и сунул отцу в ладонь три длинные темноватые сигары, сужающиеся к концу.
– Где ты это взял?
– Мисс Риккетт дала мне и сказала, что это для тебя, и еще она сказала, что ты бы разок зашел ее проведать. – Он замолчал, поглядел в дальний конец улицы, словно ждал кого-то. – Грузовик едет.
Мужчины позади него за его спиной прыснули. А Гарри взял сигары и опустил в нагрудный карман рубашки. Потом повернулся к мужчинам: – А она вам, ребята, когда-нибудь посылала гостинцы? – И сделал вид, что ужасно горд.
– Папа, я видел грузовик. Он был… – И тут за его спиной показался грузовик – большой, черный, с квадратным кузовом, в котором лежали горой белые кристаллы, которые тряслись и поблескивали в утренних лучах солнца. Когда колеса со скрежетом затормозили, из кузова на мостовую высыпалась часть груза – с таким сухим хрустом сыплются в плошку поджаренные хлопья из коробки. Кое-кто из собравшихся на веранде подошел к ее краю и заслонил глаза от солнца ладонью. Гарри положил мальчику руку на голову, когда шофер, скрипя полотняными штанами по кожаному сиденью, подвинулся вправо и высунулся из окна:
– Где дом Калибана?
– Туда по дороге, через полторы мили. – Гарри шагнул вперед и, протянув руку, положил ее на опущенное стекло. – Не пропустишь. Дом похож на три белые коробки, составленные вместе. А что везешь? Каменную соль?
– Думаю, это не твое дело, если только твоя фамилия не Калибан! – Мужчины на веранде хохотнули, а шофер на секунду замялся, не осознав, что чуть было не обозвал Гарри негром. – Но ты прав. Говоришь, туда по дороге? Три белые коробки?
– Именно. Значит, соль?
– Точно! Соль. Ему нужна соль. И я везу ему соль. Значит, туда по дороге? Белые коробки?
– А зачем ему такая пропасть соли? Не знаешь?
– Не знаю. Он заказал. Десять тонн. Ежели у него есть деньги, у меня есть соль. Говоришь, полторы мили?
– Именно.
– Хорошо. – Шофер поднял стекло, но рукоятка не работала, и стекло поднялось только до половины. Он со скрипом отъехал по сиденью обратно за руль и завел мотор. Грузовик затарахтел по мостовой, и из-под его колес справа и слева взметнулись тучи пыли.
– Странно, зачем этот черномазый покупает столько соли. Десять тонн соли. – Томасон повернулся к Гарри. – Пойдем, покажу тебе кое-что. – Он улыбнулся и жестом пригласил Лиланда зайти в магазин. Мальчик последовал за ними.
Зайдя внутрь, хозяин магазина полез под прилавок и выудил бутылку виски и два толстодонных стакана. Гарри нагнулся над банкой соленых огурцов. Стоящий рядом с ним Гарольд поднялся на цыпочки и, нахмурив лоб, сквозь упавшие на глаза вихры стал глядеть на банку с шоколадными драже на нижней полке.
– Послушай, Томасон, дай-ка мне вон тех штучек на пять центов!
Я же ему ничего не сказал про это, так что никто не может меня упрекнуть, но я же дал себе обещание. И этого довольно.
Томасон взял большой мерный ковшик, зачерпнул им шоколадных драже из банки, взвесил – там было всего десять шариков – и сложил конфеты в пакетик. Гарри взглядом попросил Томасона отдать их сыну, который взял пакетик с затаенным восторгом, от радости не в силах вымолвить ни слова. И сразу начал их поедать, открывая и сразу закрывая пакетик после того, как брал новый шарик, точно от попадания в пакет свежего воздуха шоколад мог испортиться.
Гарри снова обернулся к хозяину магазина:
– Интересно, зачем ему столько соли?
Томасон разлил виски по стаканам и пожал плечами:
– А черт его знает. Наверное, для своей фермы. А иначе зачем ему заказывать столько.
Гарольд оторвал восхищенный взгляд от конфет:
– Папа, а Такер, о ком вы говорите, – это тот хороший ниггер? – И Гарри почувствовал, как мальчик дергает его за штрипку штанов.
Томасон перегнулся через прилавок и заговорил с мальчуганом:
– Кто это тебе сказал, что он хороший ниггер, а, малыш? Да хуже ниггера, чем он, на свете нет!
Гарри почувствовал, как лицо мальчика прижалось к его ноге. Он взглянул вниз и заметил, что сын робко поглядывает на него. Они оба поняли, что произошло: ему запрещали употреблять слово «ниггер». И, кроме того, Гарри и его жена не хотели, чтобы он нахватался уличных оценок, хороших или плохих, о людях и событиях, и требовали, чтобы он всегда им рассказывал, где он узнает о тех или иных вещах. Гарри прямо-таки уже слышал голос жены: «Ты позволяешь своему сыну стоять там и слушать все эти мерзости, что слетают с языка твоих друзей; немудрено, что он приходит и вываливает все эти бредовые идеи!»
– Так кто тебе сказал, Гарольд, что Такер – хороший негр?
– Никто, – зарывшись в отцовскую штанину, ответил мальчик. – Я просто… – Он осекся.
Гарри повернулся к Томасону:
– Может, еще по стаканчику? – И он хлопнул ладонью по прилавку так сильно, точно заколачивал молотком гвоздь.
– Можно! Сей момент! – И тот схватил бутылку за горлышко. – Но нам надо держать ухо востро – моя жена имеет обыкновение заявляться, когда ее не ждешь…
Гарри поднял руку и оборвал его на полуслове:
– Гарольд, пойди-ка, погляди, не идет ли миссис Томасон, а когда она появится, скажи ей: «Хелло!» – Он улыбнулся Томасону. – И скажи это громко!
Мальчик вышел и сел на пол под дверью магазина, уткнув нос в нижнюю часть сетки, которая выгнулась от многочисленных ударов ногой. Мужчины чокнулись полными стаканами, пожелали друг другу здоровья и, поднеся стаканы к губам, опрокинули виски в глотки.
– Папа?
Томасон одним махом смел стаканы и бутылку с прилавка и неловко поставил все это на полочку внизу. Оба выпрямились и отерли губы.
– Папа, мистер Харпер едет.
Томасон нервно расхохотался. Гарри подошел к двери и положил руку мальчику на затылок.
– В следующий раз так и говори: едет мистер Харпер. Из-за тебя Томасон чуть не окочурился.
Хозяин магазина покраснел. Они вышли на веранду. Гарри прислонился к своему столбу. Мальчик встал рядом. Мистера Харпера, припозднившегося этим утром, везла в каталке по середине улицы его дочь. Когда они добрались до веранды, мужчины подняли каталку вместе с мистером Харпером на середину веранды и поприветствовали. Его дочь сразу же отправилась восвояси. Старик откинулся на спинку.
– Ну, какие новости сегодня, а, Гарри?
– Никаких особенных новостей нет. Разве что грузовик… – начал он, но мистер Харпер обратился к Гарольду:
– Как поживаешь, мистер Лиланд?
Гарри почувствовал, как мальчишка юркнул за него, втиснувшись между ним и столбом. «Странно, что ему не нравится мистер Харпер, хотя он не сделал ему ничего плохого. Уверен, он просто не понимает, что человек может быть старым и все равно добрым».
– Он в порядке, мистер Харпер!
Так они бездельничали на веранде и болтали о том о сем. Гарри одной рукой обнимал столб, сын сидел перед ним, держа в руках палочку и водя ею по выбоинам обочины шоссе, и время от времени откидывал голову назад и стукался о колено Гарри. За их спинами мужчины задавали мистеру Харперу вопросы о мировых событиях, а когда он отвечал, то, неважно, понимали они его слова или нет, кивали и хмыкали. Потом, когда подошло время обеда, они постепенно покинули веранду, зная, что во время еды старик всегда предпочитал оставаться в одиночестве. Скоро показалась его дочь: она, как всегда, торопливо шагала по середине шоссе, держа под мышкой серый металлический контейнер с едой.
Отец и сын вошли в магазин, и Гарри купил им поесть. Они обошли здание магазина и сели на солнышке. Когда они расправились с сыром и крекерами и выпили молока из вощеных пакетов, Гарри закурил одну из тех сигар, что ему прислала мисс Риккетт. Заметив, как Гарольд притворился, будто курит желтую соломинку, отец нагнулся к нему, зажег спичку и запалил кончик соломинки, так что сразу образовался пепел. Мальчик придвинулся к нему поближе и положил голову ему на плечо.
– Папа, а зачем Такер накупил столько соли? Ты не знаешь?
– Нет, сынок. – Он затянулся сигарой. – Такер чудной, да? Я слыхал, он куда более странные вещи делает, – и вдруг, вспомнив что-то, резко повернулся к сыну: – А скажи-ка мне, что мама и я говорили тебе про слово «ниггер»?
Мальчик повесил голову и стал искать глазами ответ на земле.
– Вы сказали… вы сказали, чтобы я его не произносил.
– А почему, ты помнишь? – Гарри не хотелось, чтобы его голос звучал слишком строго. «Для него это тяжело. Все это слово повсюду употребляют. Даже мне трудно его не употреблять ».
– Вы говорили, что это плохое слово и что вы никого не обзываете плохими словами, если не хотите их обидеть!
И тут мальчик с опаской поглядел на отца: а правильный ли он нашел ответ?
– Верно. Теперь ты запомнишь, да?
– Да, сэр!
– Послушай, Гарольд. – Он повернулся к мальчику, подыскивая слова, странно звучащие даже для его ушей, и не понимая толком, почему он чувствовал то, что чувствовал, но почему-то в глубине души думая, что так и нужно чувствовать и нужно свои чувства объяснить сыну. – Однажды, когда тебе будет столько же лет, сколько мне, возможно, все будет не так, как сейчас, и ты должен быть к этому готов, понимаешь? А если ты будешь вроде некоторых моих знакомых, ты не сможешь ладить с людьми. Ты это понимаешь?
Мальчик не ответил. Но он смотрел на лицо отца, и песочный чубчик падал ему на глаза.
Гарри продолжал:
– Понимаешь, я не считаю, что вообще бывают какие-то изначально плохие слова. Это же просто слова. А уж потом люди приписывают им какое-то значение. И, может быть, ты употребляешь эти слова совсем не в том значении, в каком их употребляют другие люди. Ну, это как в школе: тебя обзовут плаксой, а ведь это вовсе не значит, что плаксой быть плохо. Это же все равно что сказать: у тебя серые глаза. Это же не значит, что иметь серые глаза – плохо. Но если ты назовешь цветного «ниггером», он считает, что ты хочешь сказать, что он плохой, а ты, может, этого вовсе и не имел в виду, понимаешь?
– Да, сэр!
– Хорошо, Гарольд, я же не сердился на тебя, ты это знаешь, ведь так? На! – И он поднес влажный кончик сигары ко рту мальчика. – Только не вдыхай – тебе станет плохо! И, бога ради, маме ничего не говори!
Он смотрел, как мальчик зажал сигару между зубов и скорчил гримасу, ощутив ее горечь, но в то же время испытывая гордость от того, что он почти что курит. Потом мальчик ее вынул.
– Думаю, мы уже можем вернуться. Мистер Харпер закончил обедать. – Он медленно поднялся.
Они пришли на веранду первыми. Постепенно вернулись и остальные и встали небольшими кучками, беседуя, глазея на порхающих в выси птичек над низкими крышами. Гарри прислонился к своему столбу и принялся изучать горизонт вдалеке. Гарольд присел на краешек веранды и уже не возил прутиком по песку. Так они просидели и простояли пару часов, вслушиваясь в тишину, провожая взглядом проезжающие мимо редкие машины, не здешние, с номерными знаками чудного цвета, – посмотрев все, что можно было увидеть в старинном французском городке на побережье, приезжие поспешно уезжали, даже не подозревая, что по пути в столицу штата они проскочили малую родину знаменитого генерала южан.
А потом все заметили, что с севера к городку движется крытая повозка, запряженная рыже-красной лошадкой со спиной не то чтобы прогнувшейся, а какой-то искривленной, точно по ней били кувалдой, и не сразу разглядели возницу, который исступленно нахлестывал бессловесное животное, словно за ним гналась орава призраков или свирепых черномазых, и рожа у возницы была такая же, как масть его лошади, красная от нескончаемой выпивки, к чему он пристрастился примерно сразу же, как узнал, что на свете бывают другие напитки помимо сладкого материнского молока. Все слышали цокот копыт по мостовой, и тут Стюарт притормозил, натянув поводья своей лошадки так резко, что мундштук в кровь разорвал лошадиные губы, и обитые железными обручами колеса повозки, смахивающей на свиную лохань, оставили на пыльной дороге длинный след каких-то опилок. Он спрыгнул с сиденья на землю и, споткнувшись, едва не упал в сточную канаву.
– Только что видел Бог знает какую чертовщину. Как поживаете, мистер Харпер, Гарри? Я только что видал чертовщину какую-то.
– И что же ты видел – стадо слонов? – выдохнул Гарри. Сигарный дым тяжело обволок голову Стюарта. Мужчины засмеялись, но резко замолкли, осознав, что мистер Харпер выпрямился в своем кресле, крепко сжав губы, что придало им сходство со сгибом листа плотной бумаги.
Стюарт перевел дыхание и, пропустив мимо ушей и смех, и комментарий, заговорил, обращаясь исключительно к мистеру Харперу:
– Ехал я от своего дома и видел этого Такера Калибана, который – клянусь, вот вам истинный крест, – разбрасывал соль, каменную соль, по своему полю. Когда я его позвал, он не отозвался, а все продолжал сыпать. Он набирал соль в мешок, который у него висел на плече, из огромной кучи соли на дворе перед домом.
Гарри так и ахнул, но никто не обратил на это внимания. «Грузовик! Так вот зачем он купил себе соли! Вот что он с ней делает! И крупицы этой соли сейчас сыплются с колес повозки под ноги Стюарту». И правда, под ногами у Стюарта поблескивали белые кристаллики, и никто из присутствующих их даже не заметил и не вспомнил. Хотя утром все видели грузовик и его кузов, забитый солью под завязку.
– Как ты сказал – соль? – переспросил мистер Харпер, подавшись вперед и приложив к уху ладонь, одновременно отбросив назад длинную седую прядь. – И давно ли ты это видел?
– Не далее, чем когда ехал сюда мимо его фермы. – Стюарт решил, что ему никто не поверил, и начал потеть, потом сдернул с головы заношенную черную шапку и, вытащив мятый желтый платок, отер лысую голову. – Клянусь! – И перекрестил сердце порыжевшим от табака указательным пальцем.
– Похоже на то, мистер Харпер, – подтвердил Гарри, повернувшись к старику. – Мы все видели этот грузовик, доверху наполненный солью. – Другие закивали.
– Ума не приложу, зачем он это затеял! – Стюарт поставил ногу на ступеньку веранды. Гарри почувствовал, как сын на дюйм придвинулся к нему. – Может, спятил?
Кое-кто из присутствующих заугукал в знак согласия, но мистер Харпер и ухом не повел.
– Поднимите-ка меня в эту повозку. – Он привстал над креслом, которое откатилось из-под него назад, сухо скрипя колесиками, точно удивилось, что вдруг освободилось от бремени седока. Старик расправил руки в стороны, словно тощая птица, дожидаясь, пока кто-нибудь подхватит его и поможет влезть в повозку. – Стюарт, ты садись назад. Я реквизирую твою повозку. Ты, Гарри, бери поводья. Я хочу помереть в своей постели, а не в обнимку с дорожным столбом.
Большинство никогда еще не видели мистера Харпера стоящим на своих ногах, и тотчас, будто радиоприемник в магазине Томасона вдруг объявил о приближении торнадо, улицы заполнились бегущими людьми. Стюарт поплелся к задней дверце. Прочие, включая и негров, привели лошадей, еще толком не зная, что им предстоит делать и зачем или куда они направляются.
Мальчуган, усевшись рядом с Гарри на сиденье, встал на коленки и приложил ладошку к отцовскому уху, чтобы мистер Харпер, которого взгромоздили в повозку и усадили рядом с ними на сиденье, не смог расслышать его слова:
– Папа, а я думал, он не может ходить. Ты же говорил, он не может!
– Нет, Гарольд, я такого не говорил. Я говорил, он не думает, что на свете есть достаточно важная причина, ради которой он стал бы ходить. Может быть, теперь его что-то заинтересовало.
Мистер Харпер восседал на сиденье повозки, тяжело дыша, и Гарольд придвинулся к отцу как можно ближе. А Гарри зашептал, обращаясь к рыже-красной кобыле, глядя ей в спину, похожую на сдавленный цирковой шарик, и направил ее прочь из города мимо вереницы лавчонок и жилых домов, мимо зевак, высыпавших на улицу из лавок и домов, точно сегодня был парад в День памяти Конфедерации. Многие из них – ни слова не говоря, без всяких объяснений – вывели запряженные повозки, оседлали лошадей, завели машины и отправились следом за повозкой, завороженно глядя на мистера Харпера.
У городской границы повозка миновала теснящиеся справа низкие, потрепанные непогодой домишки негров. Они тоже заметили мистера Харпера и, отложив свои дела и оборвав разговор, колонной двинулись за стариком в повозке, держась на почтительном расстоянии.
Вскоре они промаршировали мимо Уоллеса Бедлоу, черного и массивного, как вагонетка с углем, который восседал на лошадке оранжевой масти размером с крупного пса. Как всегда, на нем был белый вечерний сюртук, выигранный им на съезде сваебойщиков. Он подъехал к дороге, повернул лошадь и присоединился к процессии негров в голове колонны.
Две группы людей, белых и черных, так прошествовали по шоссе к ферме Такера Калибана, и наконец Гарри увидел вдалеке белый дом, состоящий из трех плотно сдвинутых секций, купленный и выкрашенный прошлым летом, а позади него – амбар, крепкий и с облупившейся краской, а перед ним – квадратный загон для скота размером не больше приличной гостиной, а еще чахлый клен с давно облетевшей листвой, высохший и болеющий уже много лет, ну и, наконец, коротышку-мужчину в поле, размеренно взмахивающего рукой на фоне белесого осеннего инея.
Процессия остановилась на обочине шоссе, и люди в повозках, автомобилях и на лошадях ждали от мистера Харпера какого-то действия. Раскинув локти от тощего туловища, он попросил Гарри и Томасона помочь ему выбраться из повозки и подвести его к забору. Он не сказал ни слова, не позвал Такера, как позвал бы любого из своей свиты или любого негра, но вместо того оперся о забор и стал наблюдать за работой тщедушного негра так, словно уважал эту работу и терпеливо дожидался, когда она будет выполнена.
А Такер с тех пор, как его тут увидал Стюарт и погнал свою лошаденку в город, успел засыпать солью еще примерно четверть поля, и теперь незасыпанной оставалась почти половина. Гарри видел его на дальнем конце поля – темную точку в белой рубашке; на нем были черные штаны, и сам он был черный и потому едва виднелся на фоне черной стены деревьев вокруг фермы. Такер высыпал всю соль из мешка и медленно двинулся к горе соли у дома, высоко поднимая ноги и перешагивая через борозды. Потом он подошел ближе, опустив голову, и Гарри разглядел незаметную ранее деталь на большой голове: очки в стальной оправе на плоском носу. Если он и спятил, как предположил Стюарт, разглагольствуя у веранды, то никоим образом не проявлял своего безумия. Гарри он показался тихим и задумчивым, точно он не делал ничего необычного: «Словно он засевает поле. Словно сейчас пора весеннего сева, и он решил начать пораньше, чтобы не потерять ни одного хорошего денька. В точности как все мы поступаем в первые дни весны: встаем спозаранку, быстро завтракаем, а потом выходим в поле и сеем семена. Вот только он ничего не сеет, он просто убивает землю, и он не производит впечатления, будто он эту землю ненавидит. Не похоже, что он встал утром и сказал себе: «Больше не буду горбатиться ни единого дня! Я погублю эту землю прежде, чем она погубит меня!» Он же не бегает по полю, как чумной пес, и не разбрасывает соль именно как соль, а разбрасывает ее, точно это зерна кукурузы или семена хлопка, так, словно готовится осенью снять добрый урожай. Он так мал для такой тяжкой работы, он же ростом не выше Гарольда, и даже ведет себя как мальчик, мастерящий модель аэроплана, или вскапывает землю игрушечной мотыжкой рядом с папой, делая вид, что он и есть папа, и это его поле и его маленький сынишка работает рядом с ним».
Такер уже подошел совсем близко к мистеру Харперу, так что тот мог протянуть руку и похлопать его по плечу. Но старик зашептал, и даже Гарри, стоящий рядом, едва расслышал его слова:
– Такер! Ты что делаешь, парень?
Все ждали ответа. Никого не удивило, что Такер раньше отказался разговаривать со Стюартом, но они были уверены, что, если у человека есть язык, он непременно ответит на вопрос мистера Харпера. Но Такер сделал вид, будто не узнал, кто с ним говорит, и продолжал молча наполнять солью свой мешок.
– Ты слышишь? Что ты делаешь?
Стюарт подошел к забору, его красное лицо было перекошено.
– Я научу этого черномазого относиться к вам с уважением!
Но мистер Харпер протянул руку и схватил Стюарта за локоть. Все только подивились тому, как стремительно оба двигаются.
– Оставь его в покое! – Мистер Харпер отвернулся от забора. – Ты его не остановишь, Стюарт. Ты ему ничего не сделаешь!
– Что вы такое говорите? – Стюарт неловко поплелся за стариком.
– Он что-то затеял. И теперь ты с ним ничего не сделаешь! Даже если ты его изобьешь, и он ляжет в больницу, то, когда поправится, снова вернется сюда со своим мешком и будет сыпать соль на землю.
Он попросил Гарри помочь ему забраться в повозку.
– Посади меня обратно. Хочу посмотреть на это, сидя наверху. Это долгая история.
Негры пешком дошли до фермы вскоре после того, как мистер Харпер занял место в повозке, и столпились на дороге. Белые смотрели на них выжидательно, ища в их поведении хоть какие-то признаки, позволяющие понять, что происходит. Но в чернокожих лицах они обнаружили лишь отражение собственного страха, хотя и, возможно, обузданного привычным терпением. «Они тоже ничего не понимают. Это же видно. Точно он египтянин какой-то, и они о происходящем знают не больше, чем мы все знаем, как ездить на верблюде».
Выйдя в поле, наполовину покрытое белым ковром, Такер продолжал разбрасывать похожие на градины белые кристаллы, совершая одно и то же путешествие – от поля к соляной горе и обратно, наполняя мешок и опустошая его, горсть за горстью, в поле. Солнце стало клониться к лесу, и когда Такер закончил, оно стояло над горизонтом в трех пальцах от макушек темных деревьев. Он вернулся через поле к забору и вытряхнул остатки кристаллов на так и не уменьшившуюся гору соли, и в предвечерней тишине рукавом отер пот со лба, взглядом оценил проделанную за день работу и вошел в дом.
– Вы только посмотрите! – воскликнул Стюарт, оторвавшись от забора. – Сколько хорошей соли перевел! Да из всей этой соли можно наделать гору мороженого! – Он, конечно, шутил.
– Лучше помалкивай, Стюарт! – нагнулся к нему мистер Харпер. – Может, скоро узнаешь чего.
Дверь отворилась, и Такер вышел на двор, держа в одной руке топор, а в другой – ружье. Он прислонил оба инструмента к ограде загона и скрылся за домом. Вернулся он, ведя под уздцы свою лошадь – старую, слегка хромающую, серую кобылу – и коровенку цвета свежеструганой доски. Он распахнул воротца загона, на несколько мгновений задержав взгляд на обеих и потрепав по шее сперва одну, потом другую. Гарри заметил, как он выпрямил спину и расправил плечи, завел животных в загон и закрыл ворота, а потом забрался на изгородь и сел, положив ружье на колени.
Такер пристрелил кобылу выстрелом в голову за ухом, и кровь потекла ручьем по шее и заструилась по передним ногам. Кобыла, чьи веки замерли над глазами навыкате, постояла еще секунд десять, сделала неверный шаг вперед и рухнула. Корова, почуяв запах смерти и крови, стремглав бросилась прочь, бешено тряся выменем. Когда и ее настиг выстрел, она еще продолжала бежать через загон и ткнулась головой в ограду, ее отбросило назад, и она повернула голову к Такеру, словно недоумевающе, как женщина, без всякой причины получившая от мужа оплеуху, издала жалобный стон и упала. Такер слез с ограды и осмотрел убитых животных.
Когда Такер пристрелил лошадь, по щекам Гарольда побежали слезы, но плакал мальчик тихонько, про себя, так, что Гарри, не взгляни он на сына, так ничего бы и не узнал. Обхватив рукой плечо Гарольда, он сжал его, почувствовал под пальцами детские кости, но не стал приставать, не стал просить его вытереть лицо или высморкаться, а сделал это потом, убедившись, что мальчик перестал плакать.
Мистер Харпер сидел и покуривал свою трубку. Лумис поглядел на бездыханные туши животных, лежащие по разным углам загона, и покачал головой.
– Безобразие. Форменное безобразие. Это же были два прекрасных животных. Знал бы, что так будет, я бы их купил.
Томасон хохотнул:
– Да перестань! Ты же у меня вечно клянчишь в долг, когда выпить хочешь! Где бы ты взял денег купить корову и лошадь?
Другие мужчины тоже позубоскалили, краешком глаза смущенно поглядывая на мистера Харпера. Но старик не смеялся, и все быстро переключили свое внимание на двор Такера. А тот вышел из загона и взял топор, который в лучах заходящего солнца поблескивал как пламя одинокой спички во тьме. Он подошел к засохшему клену. Некогда его искривленный ствол отмечал юго-западную границу плантации Уилсона, на которой его прадед и дед работали сначала как рабы, а потом как вольнонаемные. И как гласила легенда, сюда каждый вечер выезжал старый генерал и смотрел на закатное солнце. А теперь это дерево принадлежало Такеру – как и вся эта земля. Он положил руку на ствол и пробежал пальцами по его впадинкам и гладким местам, закрыв глаза и шевеля губами. А потом, сделав широкий шаг назад, срубил. Ствол был старый, иссохший и трухлявый внутри, и он упал с громким скрипом, какой издавали колесики кресла-каталки мистера Харпера. И без малейшего признака безумия или гнева, а лишь с напряженным тщанием он расщепил ствол, положил топор на кучу серых щепочек, набрал из кучи соли немного в мешок и аккуратно, как если бы он высаживал сеянцы, густо посыпал солью мертвые корни. Закончив, он пошел к дому.
– Послушай, Такер! – крикнул ему стоящий у забора Уоллес Бедлоу. – Ты что, намерен вырастить соляное дерево? – Негры громко расхохотались, хлопая себя по ляжкам. Такер ничего не ответил, и собравшиеся у его фермы люди были озадачены пуще прежнего. Они повылезали из своих повозок и автомобилей и облепили забор, точно стая птиц. Лицо Стюарта лоснилось, и он снова полез за желтым платком, чтобы отереть пот.
– С ума можно сойти! Если один черномазый не может понять, что на уме у другого черномазого, этого никто не поймет. Может, стоит вызвать «скорую», чтобы его увезли? Да он же спятил!
Гарри подал голос с сиденья повозки:
– Это его земля. Он может делать на ней все, что ему заблагорассудится. – И поглядел на сына, сидевшего рядом, широко раскрыв глаза.
Темные бороздки от высохших слез на щеках Гарольда придавали ему сходство со старичком вроде мистера Харпера.
– А мистер Стюарт говорит правду, папа? Такер сошел с ума? Вот что произошло?
Гарри не мог ответить. «Если я завтра встречу знакомого и он расскажет мне о том, что я видел своими глазами, я бы и сам сказал, что Такер Калибан сошел с ума. Но я не могу так сказать, сидя тут и наблюдая на ним, потому что знаю одно, даже если ничего другого не знаю: им движет не безумие! Я не знаю, что на него нашло, но точно не безумие!»
День постепенно отгорел, и теперь над мертвыми животными в загоне для скота начали роиться мухи, слетевшиеся сюда со всей округи, и далеко за фермерским домом с тремя прижатыми вплотную друг к другу фасадами, и за полем, белым и пустым, и за деревьями, торчащими высокими черными столбиками с зелеными кронами, нехотя закатилось солнце, точно пылающая монетка.
Такер давно уже скрылся в доме, но теперь дверь опять отворилась, и Гарри увидел его худую спину и темное пятно пота, расползшееся на белой рубашке, отчего его проступающая сквозь ткань темно-коричневая кожа казалась темно-серой. Он волок что-то очень тяжелое, что заставило его пошатнуться и едва не потерять равновесие. Бетра, его жена, должно быть, стояла за дверью и помогала ему нести груз.
Уоллес Бедлоу перелез через забор и двинулся к дому, на ходу снимая белый сюртук, под которым у него ничего не было, кроме драной майки.
– Скажи Бетре, что в ее положении не стоит поднимать тяжести. Давай я тебе помогу, чтобы ты ни удумал.
– Нам не нужна помощь, мистер Бедлоу, – послышался из темноты голос Бетры.
А Такер только с удивлением смотрел на мужчину, который был выше его на три головы.
– Миссус Калибан, – заговорил Бедлоу через голову Такера, – вам не стоит утруждать себя такой работой, особенно сейчас. – Он перебросил сюртук через плечо, и было видно, что зеленая подкладка кое-где лопнула.
– Мы понимаем, что вы хотите нам помочь, но нам надо это сделать самим. Спасибо вам, но можете идти! – Женщина говорила вежливо, но твердо.
А Такер молча смотрел.
Бедлоу вернулся к забору. Такер вновь взялся за работу, и вскоре Гарри увидел в свете догорающего дня, что тот волочет старые напольные часы Дьюитта Уилсона – те самые, что доставили сюда, упакованные в ящик и проложенные ватой, на невольничьем корабле, на котором прибыл когда-то сюда Африканец, а после смерти Африканца отправили вместе с младенцем Африканца и с щуплым негром в зеленом котелке на плантацию Уилсона. И тому младенцу, Фёрсту Калибану, их подарили на его семьдесят пятый день рождения, и это был дар генерала Фёрсту за долгие годы добросовестной и преданной службы, сначала в качестве раба, а потом в качестве вольнонаемного, и эти часы по наследству перешли к Такеру.
Такер, наконец, выволок часы из дома, и теперь они стояли во дворе, а рядом с ними встала Бетра, на последней стадии беременности, почти такая же высокая, как часы, и глядела на своего коротышку-мужа, который пересек двор и вернулся с топором. Размахнувшись, он шарахнул топором по стеклу, защищавшему хрупкие стрелки часов, разбил вдребезги, и осколки осыпались к его ногам. И он махал топором до тех пор, пока стальные детали тонкой работы и импортное дерево не превратились в груду покореженного металлолома и щепок.
Бетра вернулась в дом и вышла с ребенком на руках. Она несла только спящего ребенка и большой матерчатый саквояж.
– Такер, мы готовы.
Он кивнул, не спуская глаз с разбросанных по двору щепок. Потом посмотрел на загон для скота и на поле, посеревшее в вечерних сумерках. Ребенок проснулся и захныкал, и Бетра принялась его убаюкивать, покачивая взад и вперед, будто в такт тихой колыбельной, пока ребенок вновь не уснул.
Такер глянул на дом. Впервые за все время он, казалось, засомневался и даже немного испугался.
– Я понимаю, – сказала Бетра. – Давай!
И Такер вошел в дом, оставив дверь нараспашку. Он вышел уже в черной шоферской куртке и черном галстуке и осторожно затворил за собой дверь.
Оранжевое пламя взметнулось по белым шторам в центральной части дома и медленно перекинулось на другие окна, точно кто-то внимательно осматривал дом с намерением его купить, и потом огонь с сухим шуршанием рвущейся бумаги выпорхнул сквозь крышу, осветив бока повозок и лица столпившихся вдоль забора белых и негров.
Гарри смотрел на языки пламени и на оранжевые блики, пляшущие на дальних деревьях. Вверх летели снопы искр и быстро таяли в темно-синем небе. Он снял сына с повозки и подвел к забору, где они смотрели на полыхающий исполинский костер. Через час огонь стих, то и дело вспыхивая с новой силой на еще не прогоревших участках дерева, ткани и дранки. И наконец, от дома остались лишь тлеющие головешки, и черный остов стал похож на загадочный город, виднеющийся в ночи с далекого расстояния.
Такер и Бетра подошли к забору, и Гарри подумал, но лишь на мгновение, что они хотят что-то сказать напоследок, объясниться наконец. Вместо этого они обошли повозку и зашагали по шоссе в направлении Уилсон-Сити.
А люди отвернулись от забора, только сейчас заметив, как им стало нестерпимо жарко и как они вспотели от огня, тихо бормоча стоящим рядом что-то вроде: «Ну и жуть!», или «Все спалил дотла, а?», или «Никогда в жизни я не видал такого…». Все стали рассаживаться по повозкам, отвязывать лошадей, заводить моторы.
Гарри задержался у забора, но когда ему стало ясно, что он уже увидел все, что можно было увидеть, и смотреть тут больше не на что, опустил, не глядя, руку, чтобы схватить ею ладошку мальчишки. Но мальчика не было. Он огляделся по сторонам, посмотрел на дорогу и увидел в густых сумерках Гарольда: тот о чем-то тихо переговаривался с Такером. Бетра стояла рядом и ждала мужа. Потом Такер подошел к Бетре, и они растворились в темноте, словно утонули в ночной пучине. Гарольд возвращался к отцу, идя задом наперед, как будто надеялся, что пока он не спускает глаз с двух фигур на дороге, ночная тьма их не поглотит. Когда сын подошел, Гарри ничего не сказал, а просто положил руку ему на плечо.
К этому моменту все уже расселись в повозке Стюарта, торопясь вернуться в город. Гарри поднял мальчика на сиденье, залез сам, и покалеченная лошадь повезла их в Саттон, как и раньше, двигаясь во главе двух групп – белых и чернокожих. Гарольд прижался к отцу. Стало холодно, и мальчика бил озноб. Гарри поглядел на него и, выпростав сначала одну руку, потом другую, снял куртку.
– Вот! Надень-ка! – и с этими словами вдел руки мальчика в рукава.
Мистер Лиланд
Такер Калибан редко и мало говорил с ним, но мистер Лиланд все равно считал его своим другом. Что касается самого Такера, то однажды утром прошлым летом он раз и навсегда доказал свою дружбу, ее глубину и прочность.
В то раннее утро, когда еще даже мистер Харпер не появился на веранде, они с отцом приехали в город, и отец отправился поговорить с врачом о своем кашле, от которого никак не мог избавиться, а мистер Лиланд сидел один на краю тротуара перед магазином мистера Томасона и ковырял прутиком трещины в мостовой. После того как он выкопал в плотной грязи ямку глубиной в дюйм и больше ковырять было нечего, он встал и, подойдя к витрине, стал разглядывать полки – там его интересовали не консервные банки, не ружья и не рыболовные снасти и даже не игрушки, а только большая стеклянная ваза с коричневыми волосатыми орехами, и он мечтал, что вот бы подошел кто-нибудь вроде сказочных крестных, о которых все говорят, что они знают о моих сокровенных мыслях, и купил бы мне таких орехов.
И тут он услыхал за спиной шаги – точнее, он увидел, как кто-то подошел к нему сзади, и когда он отлепился от витрины, в стекле тенью отразилась большая черная голова на коротком тощем теле, и стоящий перед ним человек был не такой высокий, как его отец, а чуть повыше него самого.
Такер Калибан вошел в магазин, купил там мешок корма и уже собрался уходить, как остановился и, указав на витрину, принялся что-то говорить мистеру Томасону, а тот взвесил целый фунт арахиса и высыпал их в коричневый бумажный мешочек. Потом низенький человек вышел на веранду и остановился перед мистером Лиландом.
– Ты сын Гарри Лиланда? – Он смотрел на него сверху вниз, словно собрался его ударить, но не поднял руку, а просто свирепо поглядел на него.
Мистер Лиланд втянул голову в плечи.
– Да, сэр!
Он же ниггер, негр, но папа предупреждал, что говорить «сэр» надо любому мужчине, кто старше меня, даже ниг… негру.
– Хочешь арахиса, мистер Лиланд? – Такер вложил пакет с орехами мальчику в руку. – Вот арахис. И скажи папе, я знаю, кого он из тебя старается сделать.
Он отвернулся и залез в свою повозку. Он больше не посмотрел на мистера Лиланда, и не улыбнулся, и не попрощался, а просто стегнул лошадь узловатой веревкой на короткой темной палке и поехал по шоссе, оставив паренька гадать, что же такое с ним делает папа. «Такер произнес это таким тоном, словно папа делал что-то неправильное, безумное, но если это что-то плохое и оно ему не нравится, тогда зачем он купил мне арахис? Наверное, это просто его манера такая, вот и папа с мистером Томасоном вечно спорят с перекошенными лицами, но папа говорит, что мистер Томасон его лучший друг в жизни, ну, кроме мамы, но мама с папой тоже вечно ссорятся, так что, наверное, не важно, как люди смотрят друг на друга и что они говорят друг другу, а главное, как они поступают». Но он тем не менее решил спросить у папы, что же он такое с ним пытается сделать, и когда спросил, папа посмотрел на него очень серьезно, очень задумчиво и ответил: «Мы с мамой стараемся сделать из тебя приличного человека».
Но это мало что объяснило, хотя он был уверен: раз уж папа хочет, чтобы он был таким, даже если он сам не вполне понимает, каким таким и почему, то и хорошо. А если за это он еще и получил пакетик арахиса, значит, это тем более хорошо. И он больше не ломал себе голову.
Вот каким происшествием исчерпывались его отношения с Такером Калибаном, этим и подкреплялась его вера в их дружбу, не считая их случайных встреч в городе, когда Такер кивал ему и даже интересовался: «Как жизнь, мистер Лиланд?»
Правда, и того было довольно, поэтому, когда на его глазах дом Такера сгорел дотла и когда он услышал, как папины знакомые вокруг отпускали ехидные шуточки по адресу Такера, называя его «скверным» и «спятившим», он снова заплакал и, протолкнувшись сквозь частокол чужих ног, помчался по дороге за негритянской парой, чувствуя себя преданным, потому что Такер наделал дел и заслуживал, чтобы его обзывали «скверным» и «спятившим», и мальчику просто хотелось получить какое-то объяснение его поступка, чтобы он смог защитить своего друга перед другими взрослыми, чтобы он мог им возразить, когда они начнут обзывать его снова: «Никакой он не спятивший и вовсе он не скверный. Он это сделал, потому что…»
Нагнав обоих негров на шоссе, он позвал их, но они не обернулись, не остановились и никак не дали понять, что услышали его крик. Тогда он схватил Такера за фалду куртки и потянул, точно поводья, чтобы его остановить.
– Возвращайся, мистер Лиланд. Давай, послушай меня.
– Почему вы уходите? – Мальчик высморкался и склонил голову набок. – Ты же не скверный, да, Такер?
Такер остановился и положил руку мальчику на голову. Мальчик напрягся.
– Они так говорят, а, мистер Лиланд?
– Да, сэр.
– А сам ты как думаешь: я скверный?
Мистер Лиланд заглянул Такеру в глаза. Они были большие и блестели.
– Я… А почему ты поступил так скверно и безумно?
– Ты же еще маленький, да, мистер Лиланд?
– Да, сэр.
– И ты еще ничего в жизни не терял?
Мальчик не понял вопроса и промолчал.
– Возвращайся!
Он попятился, сам того не желая, но и не решаясь уйти, а получилось так, как будто непреклонный тихий голос Такера оттолкнул его, подобно сильному порыву осеннего ветра. А потом он ощутил отцовскую руку на плече – она не давила, не направляла его, а словно сама была ведомой им, словно его отец был слепец, а он его поводырь. Потом сильные руки подняли его в повозку, он поежился от холода, и папа дал ему свою куртку, и он согрелся, не столько от плотной промасленной ткани, сколько от знакомого запаха отцовского тела: табака, пота и земли. По дороге к мистеру Томасону он уснул, положив голову на мускулистое папино плечо. Когда все вылезли из повозки, папа передал поводья мистеру Стюарту, а тот предложил отвезти их до дому.
– Нет, спасибо, Стюарт, мы приехали сюда на своей кобылке.
В холодном сумраке ночи они обошли кругом магазин мистера Томасона, нашли свою лошадь там, где папа ее привязал к кривому кусту, и папа сначала усадил сына на лошадь, а потом и сам сел в седло, и через пару минут они уже сворачивали с шоссе на свою дорогу, и им надо было проехать расстояние чуть короче, чем до поля Такера, и тут мальчик проснулся.
– Папа?
– Что, Гарольд? – И он почувствовал около своего уха теплое отцовское дыхание.
– Такер мне сказал, он что-то потерял.
И тут мальчик вспомнил, что на самом деле это Такер у него спросил, не терял ли он чего-нибудь в жизни. – Он сказал, что я еще маленький и еще ничего не терял. – Отец молчал. – Что он имел в виду?
Он прямо почувствовал, как отец усиленно думает.
– Папа, я же терял какие-то вещи, да? Ну, там, стеклянные шарики или тогда я потерял четвертак, что ты мне дал. Это значит терять что-то в жизни?
Мальчик ощущал сидящего позади него папу, чьи руки его обхватили, как будто обняли, правда, если бы папе не надо было направлять лошадь по нужному пути, он бы его и не обнял, и еще он ощущал, что папа думает. И, наконец, папа произнес:
– Я думаю, он не то имел в виду, сынок. Думаю, он имел в виду кое-что другое. Может быть, что-то вроде…
Мальчик ждал продолжения фразы, но папа замолчал. Он не знал, что папа собирался сказать или что имел в виду Такер, но у него возникло ощущение (он не облек это ощущение в мысли; отсутствие беспокойства, отсутствие мыслей почему-то и породило у него это ощущение), что это неважно.
Они доехали до дома, свернули с дороги, въехали в сарай, где папа снял с лошади седло и упряжь и завел ее в стойло. Потом они вошли в дом.
Мама с ними не поздоровалась.
– Гарри, ну вот опять ты привел ребенка в дом в десять вечера! Гарри! – И она начала махать руками. Она все еще была в платье, и ее длинные черные волосы были собраны наверху и заколоты булавками, а распущенные они были длинные и черные, как… папа говорит, как начинка черничного пирога… вот какие черные!
– Честно говоря, Мардж, на этот раз от меня ничего не зависело, – смиренно произнес папа. – Мы…
– Ты всегда так говоришь! Честно говоря, все твои приятели-выпивохи называют его «мистер», но тебе-то, по крайней мере, известно, что ребенку всего восемь! – Мама работала учительницей в воскресной школе. – Вы навестили бедную мисс Риккетт? – Мама уперла руки в боки, отвернулась от отца и теперь обращалась к мистеру Лиланду.
– Да, мама. Мы зашли к ней, посидели, и она дала папе сигары, – он соврал и знал это и, обернувшись на папу, заметил легкую улыбку облегчения и благодарности, вспорхнувшую с его губ, а потом подумал, что это даже вовсе не ложь, а больше похоже на то, как солдаты в Корее, где воевал папа, выручали друг друга в бою, потому что все они были солдатами и им приходилось следить, чтобы все оставались живыми, а не то враг мог задать им жару. А враг, как ему рассказывал папа, мог быть и красным, и капитаном, и даже сержантом, хотя папа сам был сержантом, но подчинялся другим сержантам, которые были такими же врагами, как те дядьки, в кого они стреляли и кто стрелял в них.
Мама снова обратилась к папе:
– Ты его кормил?
– Не слишком. Понимаешь… – Они с папой застыли в дверях, и раз они были вместе, мама, стоя позади кухонного стола, словно отчитывала их обоих.
– Гарольд, садись и поешь! – Она резко развернулась к плите, сняла тарелку, стоявшую на кастрюле с кипящей водой, куда она поставила ее нагреться, принесла к столу и, хотя он решил, что мама поставит ее со стуком, аккуратно опустила на скатерть. Мистер Лиланд сел за стол перед тарелкой. На тыльной стороне он заметил капли горячей воды. Ему сейчас куда больше хотелось спать, чем есть, но он знал: если сейчас не поесть до отвала, папе достанется по первое число.
Папа шагнул в сторону комнаты.
– Мардж?
Но мать пропустила его обращение мимо ушей.
– Ешь, Гарольд!
Говорить это было необязательно: он уже уписывал за обе щеки.
Когда мальчик покончил с едой (а папа, как провинившийся школьник, понуро сел за стол напротив сына и не спускал глаз с мамы, сновавшей по кухне), мама отвела его в постель, где уже спал его брат Уолтер, тихий и неподвижный, как статуя генерала на площади, подождала, пока он разденется, помогла ему прочитать на ночь молитву и вышла, оставив на его лбу теплый и приятный поцелуй. Он навострил уши, пытаясь расслышать, о чем беседуют родители на кухне, но ничего не услышал.
Когда он проснулся, была еще ночь. Он никогда не считал темноту в конце дня настоящей ночью, а просто тьмой. Ночь – это когда он просыпается, а его комната, весь дом и все снаружи погружено в безмолвие, а ему хочется сходить в туалет. Он встал с кровати и прошел по коридору мимо раскрытой двери родительской спальни и заметил, что они лежат в обнимку на той самой кровати, где, как ему говорили, родились он и его братик. И даже если он был чем-то расстроен (а он не был), то сейчас уже не расстраивался и, сделав свое дело, вернулся в кровать…
– Гарольд, сынок, пора вставать! – это был папин голос, и уже было утро пятницы. – Давай, сынок! Нам надо поторопиться.
И через мгновение он полностью проснулся.
– Что случилось?
– Пока ничего. Но может. Ты же не хочешь ничего пропустить, а? – Папа уже был одет, даже в шляпе.
– Нет, сэр! – Мальчик уже вылезал из-под одеяла, встал возле кровати и накрыл спящего братика.
– Пойду посмотрю, чем нам завтракать. – Папа быстро вышел из комнаты, и вскоре мальчик услышал, как он на кухне гремит кастрюлями. Мальчик натянул комбинезон и чистую рубашку – такую же, как накануне: у него было семь рубашек, и мама на воротничках с внутренней стороны надписала каждый день недели, – и отправился в ванную, украдкой поглядев через приоткрытую дверь спальни на одиноко лежащую в кровати маму, которая казалась крошечной и спала так же крепко, как Уолтер, и черные волосы обвились вокруг ее шеи, как ласковые змеи. Он почистил зубы, намочил волосы, аккуратно зачесал назад и прибыл на кухню в тот самый момент, когда папа ставил кружку кофе на стол. А перед его стулом уже стоял стакан апельсинового сока и плошка с овсяной кашей. Он сел за стол и стал пить сок – холодный и на вкус горьковатый из-за зубной пасты.
– А почему мы так рано едем?
– Я хочу там быть до того, как все начнется. – Папа стал дуть на горячий кофе.
– Что начнется, папа?
– Не знаю. – Глаза у него были тусклые и чуть покрасневшие. – Что уже началось. Помнишь, что сказал мистер Харпер? Не думаю, что все закончилось. Ты же хочешь посмотреть на это, а?
– Да, сэр.
– Ну вот и хорошо. – Папино лицо на секунду осветилось улыбкой. – Тогда поторопись!
Он ел быстро-быстро – и один раз, в самом начале, даже обжег язык, потому что зачерпнул сразу полную ложку горячей каши из центра плошки и отправил ее в рот, но теперь старался брать маленькие порции с краю, – а папа сидел напротив него и пил кофе из кружки. Мама пила кофе из чашки, а папина кружка была вдвое больше. От кофе поднимался пар и обволакивал его худое смуглое доброе лицо, и испарина выступила на кончике его носа.
Позавтракав, они тихо сложили посуду в раковину и ополоснули водой, потом вышли через заднюю дверь и вывели лошадь из сарая. Папа поднял его и усадил на лошадь, потом взобрался сам, и они поехали в город. Было еще очень рано, и поля, придорожные кусты и высокая трава были подернуты белой паутиной тумана, который поднимался, как пар от папиного кофе.
Они подъехали к магазину Томасона и увидели, что они далеко не единственные, кто решил прийти к веранде в столь ранний час. Тут уже были Бобби-Джо, и мистер Лумис, ну и, конечно, мистер Томасон – он стоял у полок с банками и протирал их от пыли. Для мистера Харпера было еще слишком рано, как и для мистера Стюарта: «Папа говорит, мистер Стюарт начинает просить у миссус Стюарт позволения поехать в город сразу после пробуждения, и он так ее донимает, что она, в конце концов, разрешает ему уехать, но не раньше четырех или пяти пополудни, после того как он выполнит все ее задания по хозяйству».
Они отвели лошадь за магазин, привязали ее там к все тому же кривому кусту и вернулись на веранду: мистер Лиланд по привычке сел на ступеньки рядом с Бобби-Джо перед отцом, который прислонился к своему всегдашнему столбу. Никто из присутствующих их не поприветствовал – все были слишком хорошо знакомы, чтобы обмениваться любезностями, – и они просто завели беседу, но не о Такере Калибане, а о погоде, стараясь предсказать, какой сегодня будет денек. Так они чесали языками, пока не показался Уоллес Бедлоу, но не верхом на своей оранжевой лошаденке, как вчера, – надеюсь, он-то ее не пристрелил! – а пешим ходом с северной стороны, в своем неизменном белом сюртуке и в штанах из тонкого материала, громко шуршащего при ходьбе. Он нес в руке старенький картонный чемоданчик и, подойдя к веранде, только кивнул и, ни слова не говоря, прошел к дальнему краю веранды, где торчал столбик с вывеской «ОСТАНОВКА АВТОБУСА», поставил чемоданчик на землю и встал там подальше от остальных.
Мужчины поглядывали на него украдкой, а Бобби-Джо с легким презрением, и отец мистера Лиланда заговорил с ним первый, взяв на себя в отсутствие мистера Харпера и с молчаливого согласия остальных роль спикера:
– Привет, Уоллес!
Уоллес Бедлоу обернулся к нему с улыбкой, словно его прибытие только сейчас было замечено, словно он и не подозревал, что на него смотрят.
– Привет, мистер Гарри!
Папа шагнул от своего столба к негру.
– Ты куда собрался? В Нью-Марсель?
– Да, сэр. – Улыбка слетела с его внезапно помертвевших губ. А мистер Лиланд про себя отметил, что Уоллес Бедлоу употребил слово «сэр», как будто папа старше него, а это вовсе не так, потому что когда Уоллес Бедлоу снимает шляпу, становятся видны его курчавые седые волосы. И тем не менее он называет папу «сэр», точно так же, как я бы называл «сэром» его или папу.
– Долго там пробудешь, Уоллес? – Папа говорил таким тоном, словно эти вопросы были неважными, словно никто, кроме него самого, не слышал и не обдумывал каждое сказанное слово.
– Да, сэр.
– Насколько? – Теперь в вопросе прозвучала нотка осуждения.
– Вряд ли я вообще вернусь, сэр, – ответил Уоллес Бедлоу более дерзко, чем того требовала ситуация.
– Что?
– Думаю, я вообще не вернусь, сэр. – И он обвел взглядом всех присутствующих. – Я жду автобус, я уезжаю в Нью-Марсель и вряд ли вернусь сюда… когда-нибудь.
– Ты переезжаешь в Нортсайд? – В нью-марсельском Нортсайде жили местные негры. Мистер Лиланд видел их, когда они на автобусе ездили туда в кинотеатр. Автобус ехал по Нортсайду перед тем, как сделать остановку в центре города.
– Нет, сэр. – Лицо Уоллеса Бедлоу теперь помертвело еще больше.
– И куда же ты поедешь? – почти прошептал папа. Мистер Лиланд услышал чей-то вздох.
– Думаю, я поеду на Север и буду жить в Нью-Йорке со своим младшим братом Карлайлом. – Уоллес Бедлоу молча глядел на них, а папа выдохнул:
– Да?
У негра был такой вид, как будто ему хотелось, чтобы люди начали отговаривать его от отъезда. Но мужчины ничего такого не сделали, а равнодушно отвернулись и возобновили свои беседы. Уоллес Бедлоу тоже отвернулся и стоял, не шелохнувшись, в ожидании автобуса. Когда автобус приехал, он просто зашел в него, и к этому моменту к нему присоединились еще семеро негров. Они тоже несли чемоданы, были одеты в выходную одежду, коекто даже при галстуках. Дожидаясь автобуса, они не разговаривали друг с другом, а терпеливо стояли, погрузившись в свои мысли, словно белых на веранде просто не существовало, и когда со стороны Истерн-Ридж подъехал автобус, скособочившись на одну сторону, и, шипя тормозными колодками, остановился у веранды, они молча залезли в него, бросив мелочь в пластиковую коробку (у всех были деньги на проезд без сдачи), прошли к задним рядам, и автобус увез их прочь.
Вскоре после отправления автобуса мистер Дэвид Уилсон вышел из-за угла своего дома, расположенного в богатом районе города – Свеллз. Это был приятный на вид мужчина, с печальными карими глазами, ростом чуть ниже отца мистера Лиланда. Он не работал фермером, а был прямым потомком генерала, хотя и не обладал величием предка, и вообще-то считался своего рода узурпатором славной фамилии рода. Ему принадлежала большая часть земельных угодий, на которых друзья Гарри Лиланда выращивали урожай, и он не водил с ними дружбы. Он шел руки за спину, глубоко задумавшись о чем-то, и, не заговорив ни с кем и даже не взглянув на мужчин, собравшихся на веранде, вошел в магазин, купил там газету и, вернувшись на улицу, прошагал мимо статуи генерала.
Бобби-Джо сплюнул на мостовую:
– Черт бы побрал этого чванливого ублюдка!
В течение следующих четырех часов регулярно подкатывал автобус из Нью-Марселя. Не меньше десяти негров подходили к остановке каждый час и, словно запертые в невидимые гробы, дожидались очередного автобуса терпеливо и молча, более не в силах общаться и не имея чего-либо сообщить окружающим или друг другу. Все держали в руках чемоданы, или коробки, или пакеты из супермаркета, или обвязанные бечевками свертки, и на всех были выходные костюмы.
К этому моменту мистер Харпер уже явился присутствующим. Он прибыл после отъезда второго автобуса. И все это время молчал. Толпа белых мужчин на веранде еще разрослась – кто-то просто проходил мимо, а кто-то слишком медленно, но все же пришел к пониманию того, что в городе происходит нечто необычное и что грядут какие-то серьезные перемены. Некоторые из вновь пришедших были настолько тупы, что даже спросили у мистера Харпера, отчего негры покидают город (ведь должны же они знать причину) и куда они направляются (что не имело значения или не имело ответа, если только не спрашивать об этом у каждого негра по отдельности), но мистер Харпер удостаивал их вопросы лишь ленивым кивком головы, а сам продолжал сидеть и посасывать свою трубку, ерзая в кресле-каталке и внимательно наблюдая за подъезжающими и отъезжающими автобусами, да глядя на негров с чемоданами, что молча ждали на остановке у веранды, а потом садились в автобус, держа наготове деньги на билет без сдачи, иногда целыми семьями, от бабушки до внука, и каждый час автобусы поворачивали позади памятника генералу и ехали в гору к ущелью Хармона, извергая черные клубы дыма и скрежеща передачами, и скрывались из виду.
Когда прибыл полуденный автобус, водитель, вместо того чтобы сразу впустить в салон негров, заставил их ждать, а сам вылез со своим монетоприемником, похожим на игрушечный ксилофон, и мешочком монет, подошел к окну около руля, запустил руку и невидимым рычагом закрыл дверь. Потом вошел в магазин мистера Томасона, купил там капкейк с кремом и пакет молока и снова вышел на веранду.
В то утро мистер Лиланд видел его уже дважды. И водитель автобуса своим видом, даже фуражкой, напомнил ему пилота, которого он видел однажды в фильме про военно-воздушные войска в Корее. Закончив есть, он закурил сигарету, взглянул на негров, покачал головой, глубоко затянулся и стал задумчиво изучать пепел на кончике сигареты. Мистер Лиланд сидел на краю веранды. Он перестал измерять прутиком глубину трещин в мостовой, сосредоточившись теперь на автобусных колесах, которые размером были с него, а потом обернулся и заметил, что лицо водителя приняло выражение сильного беспокойства.
Сзади подкатил мистер Харпер на своем кресле.
– Скажи, а куда все эти люди едут, а?
– Сам вот ума не приложу. – Водитель автобуса бросил окурок под ноги и раздавил его носком ботинка. Окурок превратился в кучку папиросной бумаги, табака и пепла, но мистер Лиланд все равно заметил остатки надписи тонкими синими буквами. – Сегодня я перевез в Нью-Марсель черномазых, мужчин, женщин и детей, больше, чем в любой другой день, даже больше, чем в тот день, когда в Нью-Марселе состоялся бейсбольный матч, в котором впервые в истории высшей лиги выступал черномазый игрок, но ни один – да, верно, ни один! – не вернулся из Нью-Марселя. Я их всех высаживаю у вокзала, и они заходят внутрь. Я там уйму ниггеров видел – все входят в здание вокзала и – знаете что? Я не видел, чтобы хоть один из них вышел оттуда. А теперь я спрошу вас: куда они все едут? И будьте уверены: там не только ниггеры из Саттона, а со всего штата! Они выбегают из леса, машут мне, чтобы я остановился, залезают в автобус, садятся сзади. Все задние ряды забиты под завязку, они там теснятся, как черные сардины в банке, и все с чемоданами!
– Угу, – кивнул мистер Харпер. Больше он ничего не сказал и откатился назад к стене, не спуская глаз с шоссе и не встревая в журчащие вокруг него беседы.
Так он просидел, не проронив ни слова, пока не пришла его дочка с контейнером для еды, но и тогда он произнес только «Спасибо, милая!».
Мистер Лиланд повернулся посмотреть, как старик открывает контейнер, как будет есть из него, но папа постучал по его плечу и кивком головы пригласил встать, и они зашли за магазин, сели там на солнышке и стали смотреть, как стая птиц, точно подхваченный ветром дымок, заметалась над вершиной Истерн-Ридж, и принялись за сэндвичи, которые отец сделал еще до того, как разбудить сына утром. Когда они покончили с сэндвичами, отец вынул из кармана куртки два яблока, отер одно о рукав и передал мистеру Лиланду.
– А куда все эти ни…гры едут, а, папа? – Мальчик повертел в пальцах яблоко, выискивая место, откуда можно откусить первый кусок.
– Не знаю, Гарольд. – Папа откусил от своего яблока, пожевал, проглотил. – Думаю, все они едут туда, где, как они надеются, лучше жизнь.
– И никто из них не вернется?
– Не думаю, Гарольд. Видимо, они устроили то, что у нас в армии называлось стратегическим отступлением. Так бывает, когда у тебя тридцать солдат, а у противника – тридцать тысяч, и ты разворачиваешься и бежишь наутек, убеждая себя: «Ну его, нет смысла корчить из себя героев и идти на верную смерть. Вот отойдем на новые позиции, а уж завтра вступим в бой». Думаю, эти негры решили отойти на новые позиции по всему фронту.
– А разве они не ведут себя как трусливые зайчишки, папа?
– Я так не думаю. Похоже на то, что для такого отъезда требуется как раз немало отваги, малыш.
У мистера Лиланда больше не нашлось вопросов к папе, но сам он задумался над услышанным, жуя теплое горьковатое яблоко. Как это можно иметь больше отваги для того, чтобы сбежать, а не остаться? Наверное, это то же самое, как тогда Иден Макдональд в школе бахвалился, что его папаша может отцу мистера Лиланда задать трепку, и мистер Лиланд ему ответил: «Нет, это мой папа может задать трепку твоему, потому что мой папа никого и ничего не боится!» А Иден сказал: «Да я уверен, если ему повстречается медведь в лесу, а у него не будет ружья, он побежит быстрее ниггера!» И мистер Лиланд сказал: «Вот и нет!» А Иден сказал: «Ну, тогда он умрет!» И когда мистер Лиланд пришел домой после школы и спросил у папы, стал бы он убегать от медведя, если у него не было бы ружья, папа ответил: «Думаю, да, Гарольд. Это же самое разумное решение, тебе не кажется?» И когда мистер Лиланд потом обдумал эти слова, он пришел к выводу, что папа прав, хотя ему было неприятно представить себе, как его папа убегает от медведя или еще от чего-то опасного. Но, во всяком случае, это было куда лучше, чем если бы папа превратился в кровавое месиво и умер. Наверное, то же самое думают и негры. И он уже собрался спросить у папы, так ли это, но тот встал и отправился к бочке у стены выкинуть туда вощеную обертку от сэндвичей. Поэтому мальчик тоже встал и последовал за отцом вокруг магазина к веранде, решив задать этот вопрос потом.
После полудня все стояли на тех же местах, что и утром, и занимались тем же: дожидались, когда к автобусной остановке подойдут еще негры с чемоданами, а автобус приедет, скрипя всеми колесами, со стороны Истерн-Ридж. Но сначала приехал автомобиль.
Он был черный и надраенный до блеска, как пара выходных ботинок, и ехал куда быстрее любого автобуса и даже быстрее грузовика, который мистер Лиланд видел вчера на шоссе, – тот грузовик был загружен солью с верхом и оставлял за собой на дороге неровную белую полоску. А черный автомобиль мчался с такой скоростью, что мистер Лиланд не смог даже рассмотреть его как следует: автомобиль казался темным пятном на шоссе. Он был весь покрыт серебристыми линиями, как колесница в кино, а сзади напоминал ракету. За рулем сидел светлокожий негр (за лобовым стеклом его кожа казалась зеленоватой), и кто-то сидел на заднем сиденье. Мальчик разглядел его, только когда автомобиль притормозил у веранды и пассажир опустил стекло и высунул голову наружу. И тут мистер Лиланд увидел, что это тоже негр, такой же черный, как автомобиль, и такой же блестящий. Волосы у него были длинные, черные с проседью, словно посыпанные пеплом, они почти скрывали уши и были завязаны в пучок на затылке, как у древнего воина. И одет он был во все черное, а на глазах были очки с синими стеклами в золотой оправе. С золотой цепи, свисавшей с шеи и продетой сквозь петлю жилетки, висел крест с фигурой Иисуса Христа, такой громадной, что можно было рассмотреть ногти на Его пальцах. Пассажир ни на кого не взглянул, а обратился лично к мистеру Лиланду:
– Благослови и защити тебя Господь, молодой человек.
«Он говорит как мистер Харпер, который, папа рассказывал, научился так говорить на Севере. Значит, и он, наверное, приехал с Севера. Чего ж удивляться, что наши ниг…негры едут на Север. На Севере негры, небось, живут себе как короли!» – Мальчик так опешил и засмущался, что только и смог выдавить из себя:
– Здра… сэр!
Сидя на краешке веранды, он смог разглядеть потолок салона в автомобиле. «Ишь ты, да там все обито мягкой материей. Везде!»
– Приветствую! – прозвучал над его головой голос отца, чьи колени чуть не упирались мистеру Лиланду в затылок. Но негр продолжал пристально смотреть на мальчика:
– Ты мистер Лиланд?
– Да, сэр.
И словно одно это уже было достойно награды, негр протянул мальчику через раскрытое окно автомобиля два пальца – указательный и средний. А между пальцев была зажата пятидолларовая банкнота. Мистер Лиланд робко взял бумажку, гадая, чем он заслужил эти деньги, и тут в его душе начал медленно подниматься страх, потому что лицо негра вдруг приняло свирепое выражение, словно быть мистером Лиландом было не только достойным вознаграждения, но и великим грехом.
– Меня уверяли, мистер Лиланд, что ты хорошо знаком с одним негром по имени Такер Калибан. Нет?
– Да, сэр, – мистер Лиланд все еще опасливо сжимал пять долларов, словно ему их дали просто подержать как какой-нибудь образец, который ему дала учительница, а он должен был передать его по классу. Он стоял и незаметно пятился, так что вскоре наткнулся на папу, получив от него дополнительную защиту в виде руки, опущенной на плечо сына. Мальчик заметил, как к автомобилю подошли остальные, стали заглядывать внутрь, но не трогали, словно боялись обжечься об этот черный автомобиль. Только Бобби-Джо, похоже, снедало нечто большее, чем простое любопытство: он сощурился так, словно испытывал боль или сам хотел сделать кому-нибудь больно.
Но негр по-прежнему ни на кого не обращал внимания – только на него.
– В таком случае, мистер Лиланд, будь так любезен и расскажи мне все, что ты вчера видел.
Мистер Лиланд не был уверен, что ему надо повиноваться, поэтому он задрал голову и увидел папу вверх ногами – тот кивнул, как бы говоря «да». И мальчик снова посмотрел на негра.
– Ну, во‐первых, сначала был этот грузовик…
Но негр перебил его, наконец удосужившись перевести взгляд на Гарри:
– А вы, я полагаю, отец этого ребенка?
Папа кивнул.
– В таком случае разрешите ему показать мне, где находится эта ферма?
– То есть я могу поехать в этой машине? – Мистер Лиланд несколько раз в жизни ездил в автобусе, но в автомобиле – еще ни разу.
Папа ничего не ответил, а просто стоял и смотрел на негра.
Мистер Лиланд опять задрал голову:
– Пап, можно?
Тот крепко задумался – куда крепче, чем если бы он просто пытался решить, может ли его сын поехать с незнакомцем: он пытался понять, зачем этому негру захотелось, чтобы сын поехал с ним, что у него на уме.
А негр какое-то время смотрел на отца, потом сунул руку в нагрудный карман, вытащил бумажник, довольно большой, и, достав оттуда десять долларов, протянул их папе.
– Вот! – И усмехнулся, словно в этом жесте было что-то забавное. – Позвольте мне купить его у вас ненадолго!
Он слегка высунулся из машины с протянутой рукой, но в отличие от мистера Лиланда папа не взял деньги, даже не сделал попытки их взять, а просто смотрел на синие стекла очков, за которыми прятались глаза негра.
– Этого недостаточно? – Негр добавил еще десятку. Мистер Лиланду пришло в голову, что так он мог бы хоть до вечера доставать все новые и новые десятки. Он отметил про себя, что бумажник распирает от денег. Но эта мысль просто промелькнула, а больше всего его занимала возможность поехать на автомобиле.
– Пап, можно?
Но тот ничего не ответил, а слегка повернул голову в сторону мистера Харпера, который подъехал к самому краю веранды. Мистер Харпер коротко кивнул. Тогда папа обратился к негру.
– Когда вы привезете его обратно? – одновременно с этими словами он протянул руку и взял деньги. И тут же кто-то за его спиной невольно присвистнул.
– Приблизительно через час. Мы просто съездим на ферму Калибана.
Мальчик почувствовал, как отцовская рука взъерошила ему волосы.
– Гарольд, ты хочешь поехать?
Мальчику очень хотелось поехать в автомобиле, но он не был уверен, что ему нравится этот негр, совсем не такой, как Такер Калибан, – тот был очень дружелюбный, хотя поначалу о нем этого и не скажешь. Но все-таки ему ужасно хотелось поехать в автомобиле.
– Да, папа!
Рука отца скользнула с затылка к его шее и слегка подтолкнула вперед:
– Ну-ка, отойдем!
Они удалились на несколько шагов от людей на веранде, автомобиля и негра в ней, мистер Лиланд шел впереди, папа за ним: тот вел мальчика, потом остановил, развернул к себе и положил обе руки ему на плечи.
– Гарольд, ты помнишь, что я тебе сказал сегодня утром? О том, что кое-что начинается?
– Да, сэр! – Глядя пристально в глаза папе, он заметил, хотя на них падала тень от полей папиной шляпы, какие они большие и серьезные, а еще яркие и ласковые.
– Ну вот, оно и началось. И негру в автомобиле это известно. Так что запомни все, что он тебе скажет! – Папа помолчал. – Все-все в точности и каким тоном он это сказал, даже если ты не разберешь его слов. Об этом не беспокойся, я тоже половины из того, что он говорит, не понимаю. А мистер Харпер понимает.
– Да, папа.
– Ты же не боишься, правда?
Он и сам не знал, просто ему очень хотелось поехать в автомобиле.
– Нет, сэр.
– Ну и ладненько. Веди себя хорошо, не забывай о хороших манерах и запомни все, что он скажет! – Папа замолчал и поглядел на автомобиль, потом снова на сына. – Сделай это для меня.
– Да, папа!
Мистер Лиланд чувствовал себя шпионом. Они вернулись к автомобилю. Негр открыл дверцу, и мальчик теперь сумел хорошенько рассмотреть салон – мягкий, как кровать. Негр отодвинулся вглубь, и мальчик сел на сиденье рядом с ним. Папа схватился за ручку и закрыл дверцу. Мальчик сел в уголке, а потом вдруг почувствовал, как неведомая сила вжала его в сиденье, хотя он не слышал рева мотора. На полу лежали коврики, за окнами все было зеленоватым, призрачным. Откуда-то сзади звучала тихая музыка. Когда он обернулся помахать на прощание папе и мужчинам на веранде, город уже исчез.
– А теперь, мистер Лиланд, расскажи-ка мне, что случилось, ладно?
Он раскрыл рот и, подгоняемый страхом, выпалил:
– Сначала мы увидели грузовик-углевоз, он ехал от хребта Истерн-Ридж, весь черный, и ехал он жутко быстро. В кузове у него была соль, а шофер сказал, что ему нужно отвезти эту соль на ферму Калибана. И он спросил у нас, где она находится, и мой папа показал ему дорогу, и он уехал. А потом приехал мистер Стюарт и рассказал, что Такер рассыпает соль по своему полю, и мы все поехали туда посмотреть, все, кто был на веранде, и еще несколько негров, и все мы смотрели на него весь день. И он засыпал все поле, так что оно все стало белым, как будто он насыпал удобрения. Но это было не удобрение, а соль. А потом он вошел в дом и вынес оттуда ружье и топор, сел на ограду загона и сначала застрелил свою лошадь, и кровь хлынула так, как будто он проколол воздушный шарик, наполненный кровью, а корова забегала и замычала, но он и ее застрелил, а она обернулась, и все увидели дыру у нее в голове, как будто она уже умерла, но еще этого не знала, а потом она и вправду умерла. А потом он взмахнул топором и срубил дерево во дворе, куда раньше генерал любил выезжать, потому что ему нравилось это дерево, а потом он вошел в дом и запалил его, а после вышел и ушел прочь. – Мальчик резко осекся. Ему не хотелось пересказывать негру то, что сказал ему Такер. Негр не был знаком с Такером, и это все равно как выболтать особый секрет, которым Такер с ним поделился.
– Что-то еще? – Негр внимательно смотрел на него сквозь синие очки.
– Нет, сэр. О Такере Калибане больше ничего, – соврал он, но потом поправился: – Утром сегодня, когда мы с папой пришли в город, еще коечто произошло.
– И что же?
– Ну, во‐первых, ниг…негр по имени Уоллес Бедлоу пришел с чемоданом и в хорошей одежде, которую не надевают на работу, в тонких штанах, которые при ходьбе хлопали на ветру. И он сказал, что больше не вернется в Саттон. И стал ждать автобус, потом сел в него и уехал. А потом пришли другие негры, и все они несли чемоданы и были одеты в выходную одежду, они садились в автобусы и уезжали.
Он услышал, как негр резко, почти злобно, выдохнул.
– И сколько их всего, по-твоему, было, а, мистер Лиланд?
– Ну, может, пятьдесят, это тех, кого я сам видел, но это же были негры, у кого нет машин, а у других есть машины, и они на них уехали.
– Так я и думал, – буркнул себе под нос негр.
Когда они доехали до фермы Такера Калибана, точнее, до того, что от нее осталось, она показалась ему вроде бы такой же, как вчера вечером, но что-то изменилось. Было похоже, что эту ферму Такер изничтожил и бросил не вчера, а давным-давно, потому что пепел на пожарище слипся в ровный наст, и вся ферма пребывала в таком запустении, словно ее бросили давно, как те фермы у холмов, которые ему однажды показывал папа, когда они рано утром пошли на рыбалку. Поле уже не было белым, как снег, – роса всосала соль, и соль проникла глубоко в почву, отчего поле посерело, стало скорее пепельно-серым, нежели снежно-белым, и все искрилось. В воздухе над загоном для скота чернели тучи мух, и от мертвых животных уже исходил сладковатый запах, напомнивший ему головокружительный аромат кондитерской лавки.
Шофер затормозил прямо на том месте, где когда-то стояла дверь в дом Такера, и мистер Лиланд выпрыгнул из салона, а за ним вылез и негр, который, как теперь заметил мальчик, расплылся в районе талии, хотя при этом его ноги и руки казались вполне худыми. Когда он нагнул голову, чтобы выйти из автомобиля, золотой крест, блестя на солнце, свесился у него с шеи.
Они вместе обошли пепелище, пока в самом центре двора негр не наткнулся на остатки часов – горку железяк, медных деталей, колесиков и пружин, обломков полированного дерева.
– А это что, мистер Лиланд?
Он совсем забыл про часы и рассказал про них негру.
– И что с ними произошло?
– После того как он срубил дерево, он приволок часы во двор. Папа рассказал мне про них по дороге домой. Он говорит, это те самые часы, которые генерал самолично… а вы знаете, кто такой генерал? Это генерал Дьюи Уилсон из армии. Он…
Негр стал хохотать.
– Сэр? – Мальчик подошел к нему поближе.
– Я просто смеюсь над тем, что ты сказал. Ведь было две армии, молодой человек!
– Сэр?
– Ну, неважно. Не думай об этом. Продолжай!
Оторопев на мгновение, мальчик смотрел на негра, но решил, что, в конце концов, это и правда неважно, хотя счел, что со стороны негра было довольно невежливо вот так смеяться над ним.
– А генерал подарил их прапрапрапрадеду Такера, и теперь они принадлежали Такеру, а он их изрубил на куски. Он…
– Ну разве эта примитивность не великолепна? – Это не был вопрос, и мистер Лиланд не понял, что значат эти слова, но все же запомнил их, как просил папа.
– Ну что, похоже, это все, нет, мистер Лиланд? – Негр зашагал к автомобилю. – Если только ты не вспомнишь еще чего-нибудь. – И он поглядел на мальчика, как тому показалось, с подозрением.
А вдруг, подумал мистер Лиланд, этот негр догадался, что он ему не все рассказал про Такера. В конце концов, негр знал, как его зовут, и тот, кто сообщил ему его имя, мог бы, наверное, рассказать, что он беседовал о чем-то с Такером на шоссе. Негр может рассердиться и рассказать папе, что он соврал.
– Ну, была еще одна вещь… Но Такер сказал это мне, и я не знаю, могу ли я об этом рассказать вам, потому что…
– Как тебе будет угодно, молодой человек. Я бы ни за что не стал уговаривать тебя предать доверие друга.
– Сэр?
– Ну, конечно! – И тут чудесным образом негр залопотал таким же южным говорком, как Уоллес Бедлоу или сам Такер. – Да не стану я просить тя травить мне всякие небылицы, мист’р Лиланд. То, что г’рят те по секрету друганы в школе, должно ж оставаться секретом. – Он замолчал и добавил: – Вы так не думаете, мистер Лиланд?
Мальчик был удивлен. Из глотки этого негра теперь вылетал голос совсем другого человека.
– Да, сэр! Ну, разве что… вы же мне денег дали, чтобы я вам все рассказал про вчерашнее, и было бы нечестно, если бы я не… Ну, Такер сказал… я побежал за ним, когда он ушел, и он сказал… что я слишком мал и еще ничего в жизни не терял, а я не понял, что он имеет в виду, когда он мне это сказал, а потом отправил обратно к папе.
Мистер Лиланд склонил голову и стал смотреть негру прямо в глаза и увидел, что тот улыбается еще слаще, чем когда он его впервые увидел. Он подумал-подумал и спросил:
– А вы не знаете, что он имел в виду?
– Думаю, он имел в виду, что у него украли что-то, о чем он раньше ведать не ведал, потому что никогда не думал, что у него есть то, что у него украли. Ты это понимаешь?
Мальчик догадался, что выражение его лица отражает его мысли.
– Нет, не думаю, что ты понимаешь. Ну, сейчас это для тебя не представляет никакой важности, мистер Лиланд. А вот когда ты станешь чуть старше, ты все отлично поймешь. – Они подошли к автомобилю. – Я – первый, ладно?
– Да, сэр! – Он все еще раздумывал над тем, что сказал негр, и продолжал об этом думать, когда автомобиль бесшумно понесся к городу на мягких колесах, а негр сидел рядом, погруженный в свои мысли, и через плечо шофера глядел на дорогу… Если Такер потерял что-то, то, о чем сам не знал, что у него это есть, как же он узнал, что потерял это? Это глупо. Ты же должен заранее знать, что у тебя что-то есть, чтобы потом узнать, что ты это потерял, если только, когда ты это потеряешь, ты не начнешь это искать и обнаружишь, что этого нет там, где ты положил. Но тогда, если ты это куда-то положил, ты же должен знать, что оно у тебя было. Так что это не одно и то же. Может, это все равно как если кто-то тебе дал что-то ночью, когда ты спишь, но, прежде чем ты найдешь это утром, кто-то вроде Уолтера тихо зайдет и стащит, а потом будет играть с этим в лесу и там оставит, и ты никогда потом эту вещь не найдешь, а на следующий день человек, который ночью положил тебе эту вещь, придет и спросит: «Гарольд, ты нашел то, что я вчера тебе оставил?» А ты скажешь: «Нет!» А он скажет: «Ну, я же оставил на виду, на комоде, как же ты не нашел этого утром?» А ты скажешь: «Не знаю». А потом ты подумаешь об этом и скажешь: «Уолтер! Наверное, это он взял, пока я еще не проснулся! Вот я ему задам трепку!» И Уолтер скажет, что он оставил это в лесу и забыл, где именно, так что, считай, ты это потерял, а по правде сказать, никогда и не имел, хотя точно знаешь, что потерял. Может, вот так…
Тем временем автомобиль уже въехал в город и остановился напротив магазина мистера Томасона.
Негр опустил стекло, мистер Лиланд высунул голову и посмотрел на противоположную сторону шоссе и увидел, что папа стоит, прислонившись к своему столбу, а потом он выпрямился, и Бобби-Джо плюнул на проезжую часть, а мистер Харпер подался вперед в своем кресле-каталке.
– Спасибо, и храни вас Господь! – крикнул негр папе и повернулся к мальчику: – И тебе спасибо, мистер Лиланд. Ты – чудесный молодой человек, и если тебе доведется приехать на Север, навести меня! – С этими словами он полез в крошечный кармашек жилета и вытащил визитную карточку. Мистер Лиланд взял ее и провел пальцем по выпуклым буквам, не глядя на них. Негр протянул руку, и они обменялись рукопожатием – рука у негра была мягкая и вялая, как у женщины, после чего он открыл дверцу, и мистер Лиланд выпрыгнул из автомобиля. Когда он дошел до веранды, автомобиль уже был на полпути к ущелью Хармона.
Он отдал карточку папе, который, в свою очередь, не читая, передал ее мистеру Харперу, а тот прочитал вслух:
– «Преподобный Б. Т. Брэдшоу. Возрожденная церковь Черного Иисуса Христа Америки, Инк., Нью-Йорк».
Мистер Томасон вынес из магазина стул и знаком пригласил Гарри сесть, а когда тот сел, взял сына к себе на колени. Мистер Харпер подкатил кресло к мистеру Лиланду, низко нагнулся к нему, так что мальчик смог уловить запах старческого дыхания, и начал расспрашивать о поездке. И он рассказал все, что знал, все, что смог припомнить, а запомнил он все. Мистер Харпер никак не комментировал его рассказ, пока он не дошел до часов и до слов: «Ну разве эта примитивность не великолепна!» – тут он со вздохом кивнул:
– Да, да, в этом он прав!
И все. А другие только молча слушали.
Было около четырех пополудни, когда мальчик завершил свой рассказ, и папа сумрачно поглядел на него:
– Ну, что, поехали домой.
Папа заговорил с ним, только когда они свернули на свою дорогу, и мистер Лиланд услышал, как копыта лошади, перестав цокать по асфальту, топают по чавкающей слякоти.
– Гарольд, не надо рассказывать маме о том, что ты ездил с негром. – Отец помолчал. – Ей это может не понравиться.
– Да, папа!
Он не обернулся, но отклонился назад, положил затылок папе на грудь и слушал рокот его голоса, глухой и далекий:
– Дело не в том, что это плохо, понимаешь? Это не как вчера, когда тебе пришлось солгать, чтобы уберечь меня от проблем. Это для того, чтобы она не волновалась, потому что ей не нравится, когда ты общаешься с незнакомыми людьми, но раз уж дело сделано и с тобой ничего не произошло, вот и не стоит ее волновать по этому поводу. Понимаешь?
Он кивнул, чувствуя, как его затылок приятно трется о ткань папиной рубашки.
– Смотри! – Папа отнял одну руку от поводьев, и мистер Лиланд почувствовал, как рука позади него стала шарить по карманам, а потом опять выпросталась, и послышалось шуршание бумаги, а потом он увидел папину руку, которая показалась из-за его спины, нависла над его плечом, и он увидел пакет.
– Открой! Я хочу, чтобы ты посмотрел!
Мистер Лиланд взял пакет, вскрыл его и увидел шелковый желтый шарф – почему-то он сразу понял, что это шелк, потому что шарф был мягкий, гладкий, более тонкий, чем другие ткани, которые он когда-либо видел, с изящно пришитой кромкой в виде трубочки. Он поднял его и почувствовал, что он легче, чем легкое дуновение ветерка, и тут шарфик отважно и элегантно забился на ветру.
– Желтый – ее любимый цвет, и она любит красивые вещи. Я его купил и заплатил за него из тех двадцати долларов. А хочешь отдать мне на хранение ту пятерку, которую ты получил? – И папа добавил: – Но можешь не отдавать, если не хочешь. Она же – твоя.
Но мистер Лиланд уже сунул руку в глубокий карман своего синего комбинезона, достал бумажку и передал папе.
– Я сохраню ее для тебя, так что у тебя будет куча денег, когда мы поедем в цирк в Нью-Марсель, – пообещал папа. Мальчик кивнул.
Папа рассказал маме, как он заработал двадцать долларов, заменив проколотое колесо богатому туристу, после чего подарил ей шарф. Она вскрикнула от радости и, зарывшись лицом в шарф, стала его целовать и надела к ужину. В тот вечер она была очень красивая, решил мистер Лиланд.
В субботу они не поехали в город. Мистер Лиланд думал, что поедут, что там еще есть на что посмотреть, но когда он спросил у папы про поездку, тот ответил:
– Нет. Скорее всего мы там увидим, как еще больше негров с чемоданами уезжают на автобусе, и, кроме того, мама и так уж была тут без нас одна целых два дня подряд, и, по-моему, было бы неплохо нам остаться сегодня дома и выполнить ее поручения, а не то она станет вспыльчивой и придирчивой. И, если подумать, будет права, ведь она взвалила на себя все те обязанности, которые нам бы следовало взять на себя, и, с нашей стороны, это было бы не очень хорошо. Так что, думаю, сегодня мы останемся дома.
И мистер Лиланд весь день играл с Уолтером, пытаясь пересказать братику все события предыдущих дней, но малыш сумел понять только его описание убийства животных и как кровь из них хлынула, точно вода из проколотого воздушного шарика. Он пожалел, что сам этого не видел. И мистер Лиланд убедил его, что это зрелище стоило того, чтобы увидеть его своими глазами. Ну и, конечно, Уолтеру захотелось, чтобы мистер Лиланд отвел его на ту ферму посмотреть на мертвых животных, – наверное, втайне он надеялся, что кровь все еще хлещет из их ран, – и на сгоревший дом Такера. Но мистер Лиланд сказал, что он для этого еще слишком мал. А Уолтер возразил, что ничего он не мал, но тут же доказал обратное, начав подпрыгивать, и сердиться, и плакать, и вообще дурить. Но, в конце концов, мистер Лиланд повел его туда, потому что ему самому хотелось сходить. Они прошли через лес по узким гладким тропкам и вышли на зады серого поля и увидели вдалеке руины деревянного дома, торчащие, словно сгоревшие стебли хлопка, а еще темную тучу мух над загоном для скота. Они пересекли половину поля, как вдруг на шоссе со стороны города показался белый мужчина на велосипеде. Это был старый американский велосипед, некогда двухцветный, но от времени и непогоды его яркая кремовая и красно-кирпичная окраска стала похожа на цвет серой грязи и ржавчины. Крылья у велосипеда отсутствовали, фара разбита. Мужчина съехал с шоссе, положил велосипед на землю и стал озираться. Заметив в поле двух мальчиков, он крикнул:
– Вы – сыновья Гарри Лиланда?
Говор у него тоже был такой, как будто он приехал с Севера, но больше как у мистера Харпера, чем у негра из черного автомобиля. Мальчики ничего не ответили. Они встали посреди поля, и мистер Лиланд взял младшего братика за руку.
Мужчина снова крикнул:
– Я – Дьюи Уилсон!
Врет! Дьюи Уилсон – это генерал, и он умер. Мальчик сжал руку Уолтера так, что малыш поморщился и захныкал.
– Помолчи, Уолтер! Этот человек, наверное, спятил…
…спятил не так, как Такер, а по-настоящему спятил, потому что ему кажется, что он – мертвец! Он поволок братика за собой, и скоро они смогли как следует разглядеть незнакомца. Тот был пониже их папы, но с такими же песочными волосами, хотя и коротко стриженными. На нем был голубой костюм со множеством пуговиц – три или четыре – и коричневатый галстук с диагональными полосками.
– Ты ничего не знаешь про пожар, а, малыш?
Мужчина ждал ответа, но мистер Лиланд промолчал.
– Я – друг Такера Калибана. Только что вернулся с Севера. Не знаешь, что тут произошло?
– Вы – друг Такера? – Мистер Лиланд заговорил против своей воли, поверив последнему заявлению этого мужчины не больше, чем заявлению, будто он – генерал. Но непохоже, что он врал.
– Да. Погляди! – Мужчина полез в карман, и сердце мистера Лиланда подпрыгнуло – еще деньги! – Но мужчина вынул только клочок бумаги. – Вот его письмо. Он был моим очень хорошим другом. – И, сказав это, мужчина погрустнел.
– Да? – Теперь мальчики стояли совсем близко от мужчины. Он глядел на них, протягивая клочок бумаги в правой руке. А мухи, казалось, теперь жужжали куда громче.
– Не знаешь, почему он это сделал?
– Что сделал? – Но мальчик уже не мог больше скрывать того, что он знал, потому что ему ужасно хотелось выяснить, что известно этому мужчине. – Ну, он сжег свой дом и убил своих животных. Вот так.
Мужчина вытаращил глаза, явно не веря своим ушам.
– Отец был прав! Так вот что он сделал!
– Да, вот что он сделал, – правда!
Но все равно мужчина всем своим видом показывал, что он не верит. И мистер Лиланд добавил:
– Он это сделал два дня назад.
– Два дня назад?
Мистер Лиланд решил, что мужчина туговат на ухо, а не то что он ему не верит. Он попросил мальчика повторить все сказанное.
– Ага, я все сам видел. Он спалил свой дом, а потом пристрелил животных и…
– Кровь хлынула из них, как вода из проколотого воздушного шарика! – встрял Уолтер.
– Молчи, Уолтер! – Мистер Лиланд сильно сжал его ладошку и почувствовал, как малыш опять поморщился от боли. Он повернулся к мужчине: – Он правда все это сделал.
– Да я верю тебе, – кивнул тот.
– Это правда! – снова подал голос Уолтер.
– Тихо, Уолтер!
– Расскажи мне об этом поподробнее, прошу тебя! – Мужчина выглядел очень опечаленным.
И мистер Лиланд снова изложил полную версию рассказа про соль, про убийства, про часы (на этот раз он про них не забыл), про то, как в небо летели искры и угасали в вышине. Но когда он закончил свою повесть, мужчина выглядел таким же печальным, как вначале, и не проявлял признаков недоверия.
– А вы его друг – правда, что ли?
Мужчина кивнул и так странно поглядел на мистера Лиланда, что тот решил за лучшее убраться от него подальше, да побыстрее.
– Нам надо идти. До свидания!
И сразу зашагал к шоссе – так можно было безопаснее дойти до дома, потому что незнакомец мог последовать за ними в лес, – и не расслышал ответ мужчины:
– Да, до свидания!
Дойдя до шоссе, он взглянул на Уолтера, отпустил его руку и громко крикнул:
– Бежим наперегонки!
– Мне не хочется.
Мистер Лиланд нагнулся к уху малыша:
– Для нас это будет хороший повод побежать. А то он еще нас схватит, уж больно у него вид опасный.
– Ладно, бежим. – Уолтер через плечо бросил взгляд на мужчину.
И они помчались, как угорелые, к вершине холма. Исчезнув из поля зрения мужчины, они остановились отдышаться. Уолтер подбежал к старшему брату.
– Он – псих!
– С чего ты взял? – Мистеру Лиланду не нравилось, что его брат делал поспешные выводы.
– А разве он не похож на психа?
– Похож. – Старший был вынужден согласиться.
– Ну вот, значит, он псих!
Мистер Лиланд уже приготовился возразить, что это не всегда так: ведь Такер тоже совершил вроде бы безумные поступки, но психом он не был, потому что у него явно была причина так поступить, но оба мальчика были еще слишком малы, чтобы понять эту причину. И он решил не углубляться в детали, потому что вряд ли Уолтер поймет, о чем он толкует.
Они прошли четверть пути к подножию холма, шагая к перекрестку, от которого ответвлялась их дорога к дому. Они видели следующий холм и шоссе за деревьями. А потом заметили черный автомобиль, который мчался так быстро, как вчера, когда ехал от Истерн-Ридж, и так же быстро, как тот грузовик с солью днем раньше. И все тот же светлокожий негр сидел за рулем, и пыль вздымалась по обе стороны от мчащегося автомобиля, и оба облачка пыли соединялись позади заднего бампера, в точности как ладошки Уолтера запоздало соединялись, когда мистер Лиланд кидал ему мячик. Мистер Лиланд замахал, а Уолтер, сочтя, что это какая-то игра, тоже поднял руки и изо всех сил стал ими размахивать. Так они махали, пока автомобиль не промчался мимо них, но из него никто им не помахал в ответ. Мистер Лиланд в то самое мгновение, когда автомобиль просвистел мимо, успел заметить на заднем сиденье того негра в синих очках – он сидел, устремив взгляд прямо перед собой. Автомобиль скрылся за холмом. Мальчики пошли дальше.
– А зачем мы махали, Гарольд? – Уолтер забегал вокруг него большими неровными кругами. – Мы их знаем?
Мистер Лиланд не рассказал Уолтеру про негра и про свою поездку в автомобиле, потому что знал, что Уолтер все разболтает маме, и у папы будут проблемы.
– Да, я их видел вчера в городе.
– А что они там делали? Ты мне не рассказывал.
– Да это не важно, Уолтер. Забудь!
– Ну, скажи, кто там был?
– Никто! – Он пристально посмотрел брату в глаза и постарался придать своему лицу предельно честное выражение. – Никто – и хватит!
День рождения однажды осенью, очень давно
Когда Дьюи Уилсон III, моргая, проснулся ясным, осенним утром в свой десятый день рождения, подарок стоял в углу комнаты: американский велосипед, выкрашенный в два ярких цвета, сияющий хромированными деталями и белоснежными шинами.
Дьюи медленно и неуверенно выбрался из кровати, решив, что, если он поспешит, велосипед исчезнет. Пол был холодный, и от этого у него по спине побежали мурашки. И потом он дотронулся до велосипеда, чем не лишил его существования, и уже увереннее погладил черное седло из свиной кожи. Ему захотелось сразу поехать на нем, но он разочарованно осознал, что не умеет, хотя Такер много раз пытался его научить, но, в конце концов, махнул рукой, потому что Дьюи никак не мог удержать равновесие, ехал зигзагами, и его ноги то и дело соскальзывали с педалей.
Не сводя глаз с двухколесной машины, он торопливо оделся и помчался вниз искать Такера. На этот раз он точно выучится ездить, вот только бы убедить Такера предпринять еще одну попытку его научить!
Такер был на заднем дворе вместе с Джоном, своим дедушкой, они удаляли высохшую пленку недавно нанесенного воска на кузов автомобиля. Седовласому Джону, с лицом, испещренным многочисленными морщинками, было лет семьдесят пять. Всю работу за него выполнял Такер, хотя мальчику было всего тринадцать и он едва доставал макушкой до верхнего края автомобильных дверей. Дьюи остановился поодаль и стал молча наблюдать, опасаясь, что Такер обзовет его маленьким дураком, который никогда не научится ездить на велосипеде, но, в конце концов, осмелился произнести свою просьбу.
– Сейчас не могу, Дьюи, мне нужно помочь деду. – Такер обернулся, держа в правой руке белую тряпку и банку оранжевой полировки – в левой. У него уже выработалась привычка глядеть на людей с таким видом, словно он собирался накинуться на собеседника и нанести удар, хотя на самом деле он, должно быть, думал совсем о другом. Его глаза скрывались за круглыми стеклами очков в стальной оправе.
– На этот раз я научусь, обещаю! – Он поежился под взглядом Такера и, опустив глаза, начал разглядывать резиновые носы своих спортивных туфель.
– Может, научишься, а может, и нет. Но не сейчас. Мне надо помочь дедушке. – Такер снова повернулся к старику, который уже шумно пыхтел, делая безнадежные попытки отполировать крышу. – Потом!
И Дьюи почти весь свой день рождения провел на ступеньках заднего крыльца, наблюдая за работой Такера, а велосипед стоял рядом. Он размышлял, не завидует ли Такер тому, что ему подарили новенький велосипед. Хорошо бы вообще не обращаться к Такеру! Хорошо бы просто вскочить на велосипед – и чтобы произошло чудо, и он бы умчался на нем прочь, не оглядываясь, не боясь упасть или врезаться в дерево.
Такер закончил работу только ближе к вечеру, когда со стороны Залива подул суровый ветер, принеся с собой металлический запах соли. Солнце потемнело и плыло над горизонтом в карете туч. Времени у них оставалось немного.
Они стояли у заднего крыльца: Дьюи молча смотрел на Такера, который хмуро оглядывал двор.
– Здесь нельзя научиться, места мало. Ты влетишь во все кусты по пути, и нам зададут взбучку. Пошли! – Он ногой убрал подножку, взялся за руль и покатил велосипед к гравийной дорожке перед домом.
– А куда мы идем? – Дьюи семенил позади. Он немного рассердился, что это Такер, а не он ведет велосипед за руль.
– Идем-идем! У нас нет времени на болтовню.
Они прошли с полмили к северу от Саттона и оказались на площадке рядом с шоссе, где кто-то собирался построить ресторан, да так и не построил, и сделал только стоянку для машин – огромный черный прямоугольник с несколькими бетонными сваями по периметру.
Уже почти стемнело, солнце незаметно завалилось за верхушки высоких деревьев вдоль дороги. Такер подвел велосипед в угол площадки и встал там.
– Ты помнишь, что я раньше говорил?
– Вроде да. – Дьюи не помнил, и Такер это понял.
– Ладно, слушай. – И Такер повторил свою лекцию писклявым монотонным голосом. – Когда едешь медленно, равновесие сохранять трудно. Поэтому лучше ехать быстро. Но когда едешь быстро, работай рулем, не забывай. Это просто, если ты не волнуешься. Ну что, сможешь?
– Думаю, да.
– Хорошо. Садись, я подержу седло. И буду бежать рядом, слегка подталкивая. И скажу заранее, когда отпущу. Все ясно?
– Думаю, да.
Такер помог ему взобраться на скрипучее седло. Дьюи поставил ноги на педали. Такер взглянул на них.
– Я же тебе говорил, сколько раз говорил – никогда не ездить на велосипеде в спортивных тапках. Подошвы соскользнут – и ты поранишься!
– Виноват.
– Ну и что теперь с этим делать? – Такер вздохнул. – Ладно, давай попробуем.
Дьюи поерзал в седле, и Такер начал толкать его вперед.
– Теперь держи равновесие! Почувствуй, как крутятся оба колеса! Не бойся. И не поворачивай руль!
Ручки руля трепыхались в ладонях, точно рога непокорного быка. Дьюи обернулся к Такеру.
– Я отпускаю! – предупредил тот, отпустил, и Дьюи тут же сбился с прямого курса, и Такеру пришлось схватиться за седло, чтобы он не врезался в бетонную сваю. Но они не оставляли попыток. Такер бежал рядом, тяжело дыша, откашливаясь, а Дьюи сидел, не зная, что делать, но отчаянно пытаясь сделать хоть что-то. Ему хотелось плакать, но он не хотел, чтобы это увидел Такер, от этого он бы устыдился еще больше – а ему и так было за себя стыдно.
Над вершинами холмов повисли вечерние сумерки. Они уже предприняли столько попыток, что сбились со счета.
– Нам лучше поехать домой, Дьюи-малыш!
– Пожалуйста, Такер, еще разок, ну, пожалуйста, только разок!
– Но ты же понимаешь, Дьюи, твой папа нас по головке не погладит, если мы не поспеем к ужину.
– Такер, я должен научиться! – Он чувствовал, как горячие слезы собрались в глазах, а может, уже и капали, обжигая щеки, потому что Такер с сожалением посмотрел на него, кивнул и крепко вцепился в седло сзади, чтобы велосипед не перевернулся, и начал толкать. Дьюи попытался ощутить движение и, когда решил, что это ему удалось, он обернулся сказать Такеру, чтобы тот отпустил его.
А Такера не было. Без всякого предупреждения он перестал бежать за велосипедом, и Дьюи остался совсем один: он ехал, он мчался, он парил, крутя педали и с силой держа руль, – сам, сам! – и чувствовал, как велосипед балансирует на тонких белых колесах, и его переполняла гордость. А потом откуда ни возьмись выполз темный страх и набросил пелену на его глаза и уши, так что он почти не слышал крик Такера:
– Держи руль прямо! Руль держи! Прямо!
Но чувство уверенности по капельке уже вытекло из него, он проигрывал битву с непокорным рулем. Черный асфальт вздыбился снизу и расцарапал ему колени, но, упав с велосипеда и оказавшись на твердой земле, он уже не чувствовал жалящей боли и был горд собой, как еще никогда в жизни.
– Получилось! Ты смог! Ты смог! – Такер подбежал к нему, обхватил и рывком поднял на ноги и стал хлопать его по плечу, и они пустились в пляс вокруг валяющегося велосипеда. Такер пожал ему руку, обнял и чуть ли не расцеловал, и они вопили от радости, пока не осипли и не утомились.
Они собрались возвращаться домой по черной прямой дороге, их лица сияли, освещаемые фарами проносящихся мимо автомобилей.
– Такер, а научишь меня трогаться с места?
– Как только ты перестанешь падать, а будешь просто останавливаться.
– Такер, а ты… – Мимо проехала машина, и свет ее фар отразился в очках Такера, отчего его лицо стало почти белым. Дьюи заметил отрешенное выражение и понял, что мысленно Такер уже давно дома и что ему лучше прикусить язык.
Вспомнив потом тот день, Дьюи понял, что Такер прекрасно знал, что произойдет дома, хотя и сказал, что они могут остаться еще и покататься. Он был старше, и у него было больше ответственности, он должен был следить за временем, но не следил – или так показалось отцу Дьюи, который поговорил об этом с Джоном, и старик дал указание своей невестке наказать парня, чтобы тот запомнил навсегда. И когда Дьюи тем вечером сидел и ужинал, он слышал свист хлыста, опускающегося на голые ягодицы Такера.
Потом Дьюи рассказал отцу, что он научился кататься на велосипеде. Он думал, что отец обрадуется, ведь велосипед был подарком от него, но тот только кивнул и даже не оторвался от своей газеты. И долго еще, пока он не поступил в колледж, Дьюи чувствовал себя виноватым за то, что упросил Такера остаться, и все хотел поговорить об этом с ним, да так и не поговорил. А Такер об этом случае никогда не вспоминал.
Семья Уилсонов
Воскресный день. Телефонные столбы, установленные на забетонированной набережной реки, мелькали за окном так быстро, что очень скоро Дьюи, которому уже было восемнадцать – он возвращался домой после первого курса колледжа на Севере, бросил попытки сосчитать их и вместо этого стал просто смотреть в окно, сравнивая скорость движения поезда и течения реки. Но очень скоро его мысли вернулись, как то уже бывало не раз за последний месяц после получения письма Такера, к этому самому письму. Он до сих пор не был вполне уверен, что понял все там написанное. Не то чтобы письмо содержало какие-то очень глубокие или чересчур сложные мысли – это было обычное письмо, но в нем Такер напомнил о событиях далекого прошлого, которые Дьюи уже почти что забыл, и ему было ясно: чтобы понять, что имел в виду Такер, нужно вспомнить все, что происходило в тот период, в тот самый день, и не только это, но еще и свои чувства, которые он в тот день испытал. Как же ему хотелось, чтоб эти чувства были подробно описаны где-нибудь, откуда он бы мог взять запись, прочесть ее и безошибочно узнать эти чувства. И он снова и снова пытался воссоздать события того дня, о котором писал Такер, и все равно ничего не смог понять. Такер написал письмо словно шифром, которого Дьюи не просто не мог вспомнить, но которого просто не знал, и смысл письма ускользал от его разумения. Он решил снова перечитать письмо, вытащил его из надорванного конверта, развернул желтый лист бумаги и прочитал напечатанные на машинке строки – слова, надиктованные Бетре (он не сомневался в этом) и подписанные рукой не двадцатидвухлетнего молодого человека, а четырнадцатилетнего подростка – в этом возрасте Такер бросил школу.
Привет, Дьюи!
Надеюсь, ты в порядке. У меня тоже все отлично. И у Бетры. И у малыша.
Я пишу тебе, потому что хотел спросить: помнишь ли ты тот день, когда я учил тебя кататься на велосипеде? Для тебя это был очень важный день. Я помню, как сильно тебе хотелось научиться. И я рад, что сумел тебя научить. Но ты бы и так научился, потому что ты этого сам очень хотел.
Когда ты приезжал домой на Рождество, ты попросил меня написать тебе. Ну, вот, я просто хотел спросить тебя про велосипед.
Твой Такер Калибан
Но Дьюи и теперь не смог ничего понять, как и в те прошлые разы, когда перечитывал письмо, – и все так же был озадачен и разочарован. Но скоро он окажется дома и попросит Такера объяснить ему смысл письма, хотя это бы значило, что его интеллекту не хватает той божьей искры, которой он так гордился.
Поезд въехал в туннель перед муниципальным вокзалом Нью-Марселя. Тьма освещалась круглыми пятнами тусклых ламп в стальных сетках. В туннеле работали люди с кирками и лопатами, а один из них, бригадир, держал в руке лампу кроваво-красного цвета и махал ею, глядя на проезжающий поезд. Дьюи встал с лавки, потянулся, нащупал мятые рукава пиджака и стал искать сигареты, которые, он был уверен, остались в левом нагрудном кармане. И тут поезд вынырнул снова на свет, и гулкий шум туннеля сменило уютное бормотание вагона.
Потом, вспоминая, как выглядел в тот день вокзал, он не смог припомнить, заметил ли он огромную толпу негров на платформе и в зале ожидания для цветных, как не мог вспомнить ни многочисленные темные лица мужчин, ни того, что все они были одеты в отглаженные костюмы и накрахмаленные рубашки и что многие несли потертые кожаные чемоданы, или старенькие матерчатые саквояжи, или пакеты из супермаркета, набитые одеждой, постельным бельем, одеялами и фотографиями в рамках; он не мог вспомнить женщин в летних платьях, которые несли на сгибе руки свернутые свитера и пальто, и детишек, и корзины для пикника, как не заметил ботинок, начищенных так, что на них не было видно ни единой царапины, как не помнил гомонящих детей, бежавших впереди родителей, или малышей, уцепившихся за мамино платье, или младенцев, спящих на руках у взрослых и на скамейках зала ожидания, как не мог вспомнить стариков, бредущих с горделивым видом, опираясь на палки или безмолвно восседающих в ожидании объявления о прибытии поезда; как не мог вспомнить, что все негры беседовали шепотом, избегая взглядов белых, словно стараясь, чтобы о них поскорее забыли.
Он лишь помнил, что на вокзале были какие-то негры, да ведь на вокзале всегда есть негры – носильщики в серых куртках и красных фуражках, но он просто не заметил в тот день ни толп других негров, ни что все они садились на поезда дальнего следования. Все, что ему запомнилось, так это то, что, глядя сквозь замызганное окно вагона, он заметил в толпе свою семью, когда резко затормозивший поезд заставил его пошатнуться, и как ему было радостно увидеть, впервые с Рождества, сестру Димфну, кого он только теперь, достигнув сознательного возраста, смог по достоинству оценить и полюбить, и какое его постигло разочарование, когда он не увидел на платформе ни Такера, ни Бетру, и, наконец, свое удивление… нет, это было куда более мучительное ощущение, чем удивление, это был шок, когда он увидел мать и отца, улыбающихся друг другу и держащихся за руки, как счастливые подростки! А ведь когда он уехал из дома после томительного Рождества, мама постоянно бубнила, что хочет развода…
Поезд остановился. Он потянулся к верхней полке над своим сиденьем, снял оттуда две сумки и, пропустив нескольких пассажиров, зашагал по проходу за двумя девушками, которые, как и он, возвращались домой из колледжа. На обеих были толстые свитера с высоким горлом, хотя было уже довольно тепло, и множество бисерных бус.
– И он спросил, есть ли у меня защита или что-то такое, и начал шептать мне на ушко всякие приятности, но я на это не купилась. Он сказал: это же естественно, когда мужчины и женщины этим занимаются.
– То же самое он и мне говорил!
– Словом, вдруг я поняла, что больше всего на свете хочу его поцеловать. И уж после этого я поплыла…
– И я…
У выхода стоял улыбающийся кондуктор в мятой синей униформе и помогал пассажирам спускаться по скользким ступеням. Он протянул руку Дьюи. Но тот вежливо отказался и спрыгнул с последней ступеньки на платформу.
Димфна подпрыгивала от нетерпения. С каждым прыжком она поворачивалась в воздухе на четверть оборота и, наконец, повернулась прямо к нему. Она его сразу увидела и узнала, замахала руками и, еще в воздухе, попыталась обратить на него внимание родителей. Потом она исчезла в водовороте толпы. А когда он снова ее увидел, она была всего в десяти ярдах от него и бежала навстречу, широко раскинув руки, и полы ее пальтишка хлопали, как крылья. Она схватила его за бока, и он еще не успел уронить сумки, как она с визгом крепко обняла его:
– Дьюии! Уиии!
– Привет! Как ты? – Он был немного ошарашен ее атакой и на мгновение потерял дар речи.
А она не отпускала его, прижимая к себе все крепче и крепче.
– Это все, что можешь сказать? – Она отклонилась назад. – Как я тебе нравлюсь?
– Ты постриглась! – Глядя поверх ее головы, он увидел приближающихся родителей, все еще держащихся за руки, и ему захотелось заранее подготовиться. Он наклонился к ее уху и прошептал:
– Они за руки держатся! Что у нас тут происходит, черт побери, – чудеса?
Она опять крепко его обняла.
– Да! Да! Да! Сама не знаю, как это получилось! Но у нас вроде появился шанс избежать «разбитой семьи»! И это здорово!
Подошли родители. Димфна отпустила его, давая маме возможность его обнять. Прижавшись к нему лицом, мама заговорила, словно сквозь рыдания, но он не смог разобрать ее слов, а когда она отступила на шаг и осмотрела его, ее глаза были сухие, и она улыбалась. Мама постарела: он впервые заметил седину в ее волосах над ушами.
Отец стоял позади мамы, держа руки за спиной.
– Как ты, Дьюи? – Отец протянул руку и чуть поклонился, немного робко, не шагнув к нему, словно между ними была широкая бездонная траншея.
– Все хорошо, папа!
Тот кивнул, убрал руку и заложил ее за спину.
– Хорошо выглядишь, сын!
– Он похудел! – озабоченно заметила мама.
Все смотрели друг на друга в молчании, и тут Дьюи понял, как они все изменились. Мама, еще красивая, но уже далеко не молоденькая, выглядела как дама в летах. Ее некогда четко очерченные черты лица сгладились, карие глаза потускнели. Но больше всего его поразило, какой она выглядела утомленной. И папа, казалось, скукожился, не постарел, а завял, но выглядел он куда более радостным, чем раньше, не таким подавленным, как будто теперь его ничего не прижимало вниз. А Димфна превратилась в привлекательную юную особу, модно одетую, – просто копия мамы, какой та, наверное, была лет двадцать назад.
Он ожидал чего-то совершенно другого: он бы не удивился, если бы встречать его приехал кто-то один из родителей и сообщил бы, что бракоразводный процесс идет полным ходом. Или, если бы приехали оба, но держались бы особняком, вступали бы в разговор только с ним, а не друг с другом, и Димфна стояла бы между ними как живая перегородка, чтобы они, не дай бог, даже случайно не соприкоснулись. Но странное дело: родители были… слишком счастливы!
Никто не произнес ни слова. И теперь они стояли на почти опустевшей платформе. Маячивший в конце состава кондуктор свистнул в свисток, и вереница вагонов начала сдавать назад. Объявили отправление очередного поезда. Он шел на Север. В считаные секунды из зала ожидания на платформу хлынули толпы негров, собиравшихся сесть в этот поезд.
– Дамы, вы идите вперед, – отец подхватил одну из сумок Дьюи, – а мы вас догоним у машины.
Димфна вытаращила глаза: она знала, что Дьюи и отец не ладили, а иногда и жарко спорили и ссорились, и все ломала голову: когда Дьюи вернется, какие у них будут с отцом отношения. Она застыла на месте, и маме даже пришлось ее ущипнуть.
– Пойдем, Димфна, у нас как раз будет время подкрасить губы.
Дьюи смотрел, как они вошли в дверь, и заметил, что Димфна раз или два оглянулась. «Господи, какая же она неугомонная», – подумал он и улыбнулся. Потом встряхнул головой и громко произнес:
– Да, она такая!
Подошел отец. Дьюи повернулся, недовольный, что его отвлекли.
– Ты что хотел мне сказать? – Ему хотелось задеть отца, и он с удивлением понял, что это удалось.
Отец опустил взгляд в землю.
– Дьюи, – начал он со вздохом, – я понимаю, мы с матерью устроили тебе нелегкую жизнь.
– Точнее сказать: ты устроил?
– Возможно, и так, сын.
Дьюи снова оказался прав: что-то пошло не так, что-то изменилось: в отце вдруг проснулось что-то человеческое. Он уже начал было отвечать, что это так и есть, но решил предоставить отцу возможность высказать все это самому.
– Да, вероятно, это так, сын. Но мы… Я попытался начать все заново. – Он стыдливо поднял взгляд. – Может быть, когда мы с тобой, ты и я, привыкнем друг к другу, я смогу тебе рассказать, что это было… с чем это было связано. – Он отвернулся. – Пойдем, ладно? – И поглядел на сына так, словно ожидал, что и это предложение будет встречено в штыки.
– Ладно.
– Как бы то ни было, похоже, мы с мамой все-таки сумеем… – Он осекся. – И я очень надеялся, что мы с тобой сможем узнать друг друга получше.
Дьюи уже был готов сказать: ну, конечно, мы сможем, ведь именно этого он и ждал всю жизнь. Но прикусил язык: их так много разъединяло, от чего невозможно было просто так взять и отмахнуться.
– Не знаю…
– Может, нам стоит попробовать? У нас целое лето впереди. Может, нам стоит попытаться?
– Может, и стоит.
Они вошли в гигантский зал ожидания, облицованный мрамором. Тени у них под ногами сменились на блики отраженного света. Они отправились на стоянку – просторную бетонную площадку с рядами одинаковых парковочных автоматов, выстроившихся, точно надгробия на воинском кладбище. На парковке стояло несколько машин. В одной из них на переднем сиденье сидела мама. Она им с улыбкой помахала. Димфна тоже помахала с заднего сиденья. Они с мамой были очень похожи.
Дойдя до машины, отец открыл багажник, и Дьюи поставил туда сумки, а потом сел назад рядом с сестрой. Отец завел мотор, нажал на педаль газа и выехал на улицу.
В центре города негров было куда больше, чем обычно, все в черном, и, казалось, все несли чемоданы.
– Дорогой! Ты меня слышишь? – Он и не заметил, что мама говорила с ним. – Я спросила: тебе нравится учеба?
– Да, мама, все отлично.
Они ехали по Нортсайду. Улицы были буквально запружены неграми, кое-кто сидел на белых ступеньках высоких и узких неопрятных кирпичных зданий. Дети играли в салки на пустырях, заваленных мусором. Время от времени черные женщины, прижавшись грудью к подоконникам, звали детей, и то один, то другой отделялся от группы и бежал домой, прощаясь с друзьями явно навсегда.
Они проехали мимо группы чернокожих мужчин на углу перед баром с потушенной неоновой вывеской. Мужчины склонились друг к другу, точно кто-то из них рассказывал скабрезный анекдот. Дьюи ждал взрыва смеха, но ничего подобного не последовало. Наоборот, мужчины разошлись и с сумрачным видом пошли каждый своей дорогой. В Нортсайде было необычно тихо для субботнего дня.
Они переехали реку сквозь черную стальную сеть моста, которая из машины казалась не больше противомоскитной сетки на двери, вода билась о бетонные опоры, и казалось, что это мост, а не река движется.
– Скажи-ка, Димфни, как там Такер с Бетрой? И как их ребенок? – Он отметил про себя повисшее в салоне тягостное молчание. – Слышишь, что я спросил? Димфни, как…
– Я слышала, Дьюи. – Она осеклась. – Мы не знаем.
– Как это так?
Мама повернулась к нему:
– Они больше на нас не работают, дорогой.
– Да? – Эта новость его опечалила, но он сразу понял, что тут ничего не попишешь. – И на кого же они работают?
– Ни на кого.
Снова повисло молчание.
– Они на своей ферме. – Димфна положила ему руку на локоть. – Они перестали работать на нас в апреле…
– А мы знали, что тебе надо заниматься в колледже, и решили тебя не беспокоить, поэтому ничего не писали, – закончила за нее мама.
Он откинулся на спинку и сцепил пальцы на затылке.
– Так, значит, они на своей ферме и ни на кого не работают. Ладно. Я хотел поговорить с Такером кое о чем. Он же мне письмо написал. Он вам говорил?
Опять молчание.
– Послушайте, что вы такие мрачные? Хватит говорить загадками!
– Дьюи, – начала Димфна таким тоном, точно собиралась ему сказать, что он совершил нечто ужасное, и она теперь не знает, как это ему сказать. – В четверг там был пожар, – мать печально смотрела на него.
Он так и подскочил.
– Но они же не… Или? Они пострадали?
– Нет, дорогой, они выбрались. – И мать так энергично покачала головой, словно одних ее слов было недостаточно.
– Но никто не знает, где они сейчас, – с наигранным испугом прошептала Димфна. – Все покрыто таким мраком тайны, что ужас берет!
– О господи, не надо шутить, это не смешно! – Он умолк, подумав, что, возможно, это и есть шутка. – Или вы меня разыгрываете, а? Ах вы…
– Нет, Дьюи, они не шутят, – тихо проговорил отец, не спуская глаз с дороги. – У них был пожар, но ни Такер, ни Бетра, ни ребенок не пострадали. И Димфна права. Никто не знает, где они сейчас.
Дьюи подался вперед, схватившись за спинку отцовского сиденья.
– И с чего все началось? – И тут перед его мысленным взором встала жуткая картина: люди в белых балахонах, пылающие кресты, улюлюканье. – Это же не было… Это не…
Отец понял, о чем подумал сын.
– Нет-нет, ничего такого не было.
– В газете писали, он сам поджег дом. Честно! – Димфна подпрыгивала на сиденье, точно маленькая девочка.
– Сам поджег? – Дьюи всплеснул руками. – Но теперь ты точно шутишь!
– Нет, дорогой, об этом писали в газете. Но они не уверены. С тех пор никто не видел ни Такера, ни Бетры. Правда, и я не могу поверить, что он сам поджег свой дом.
– А я могу! – сухо заявил отец. – Я уверен, что это он и поджег.
– Откуда ты знаешь? – Дьюи навис над отцовским плечом.
– Все очень запутано, сын. И я бы хотел поговорить об этом, когда у нас будет больше времени.
Прежняя неприязнь вспыхнула в душе Дьюи:
– Черт возьми, ты всегда так говоришь! У тебя никогда не было времени ни для чего!
Мать бросила на сына озабоченный взгляд, снова увидев стычку с отцом, грозившую перерасти в очередной скандал.
– Дьюи, не думаешь же ты, что отец сказал бы…
– О мама, когда ты повзрослеешь? Он всю жизнь отнекивался, ссылаясь на нехватку времени!
– Но теперь все по-другому, дорогой!
– Что по-другому? – воскликнул Дьюи. И вдруг поймал себя на мысли, что затеял спор с матерью, которая ни с того ни с сего принялась защищать отца. В прошлом, когда споры разгорались между родителями, Дьюи всегда вставал на защиту тихони-мамы. – Ладно, может, так и есть, но я сам в этом разберусь!
Тут подала голос Димфна:
– Интересно, как?
– Сам поеду туда и спрошу, поговорю с кем-нибудь. Вот как! – Простой вопрос сестры он воспринял как вызов.
– Если хочешь, можешь взять машину, – предложил примирение отец.
– Нет! – его ответ прозвучал слишком грубо. – Не надо, спасибо, я съезжу туда на своем велике. Я… Я два дня просидел сиднем. – Он помолчал и добавил: – Но все равно спасибо.
Отец кивнул.
Никто больше не промолвил ни слова.
Дорога расширилась. Они проехали мимо двух негров. Нагруженные своим скарбом, они брели в сторону Нью-Марселя, поднимая ногами пыль. Когда они поравнялись с ними, Дьюи вроде бы узнал в них жителей Саттона, но машина мчалась так быстро, что он не был уверен.
Димфна Уилсон
Вчера я возвращалась из школы и заметила кое-что странное. Вчера была пятница. Я хожу в школу в Нью-Марселе, это школа мисс Бинфорд. Она ужас какая эксклюзивная.
Да, так вот, я села в автобус у вокзала – занятия у нас закончились рано, был полдень, – и заметила, что там – тьма-тьмущая цветных. Ну, то есть несколько сотен. Но я тогда об этом как-то не сильно думала. А когда автобус въехал в Саттон, там тоже была толпа цветных. Они стояли перед верандой магазина мистера Томасона с чемоданами. Я сошла с автобуса, а они все в него сели.
Я говорю об этом только по одной причине: потому что в последние пару дней, особенно после пожара, я часто думала об одной своей знакомой цветной, о Бетре Калибан. Я вспомнила, как она в первый раз пришла к нам работать и как потом вышла замуж за Такера и еще о многом другом думала.
Я все хорошо помню, потому что у меня тогда был такой период в жизни, когда все что-то символизировало и каждую секунду, как мне казалось, я принимала критически важное и судьбоносное решение. Все девочки такие в возрасте пятнадцати лет, а именно столько мне было тем летом. Дело было два года назад, если говорить точнее.
Бетра пришла к нам работать, потому что миссус Калибан, мать Такера, делала у нас всю работу по хозяйству. Старый Джон уже ни на что не годился. Думаю, ему было под восемьдесят, не меньше. И Такера не заставишь прибираться в доме. Не то чтобы он отказывался, просто никто не смел его просить об этом. Он мог прийти в дом, перенести тяжелые вещи, но ничего больше он не делал. Все время торчал в гараже. В общем, мама решила, что миссус Калибан нужна подмога, и она позвонила в агентство.
Первую женщину они прислали в среду, но она никому не понравилась, и к вечеру четверга ее уже не было в помине.
А утром в пятницу, когда позвонили в дверь, я сидела в гостиной и ждала подружек – они должны были зайти за мной. И я крикнула в сторону кухни, что это – за мной, и побежала открывать.
– Здравствуйте, – с улыбкой сказала она, – я – Бетра Скотт. Я пришла устраиваться на работу горничной.
Я обалдела. Девушка совсем не выглядела как горничная. Горничные все толстые, с очень черной кожей, и у них сильный негритянский выговор.
Я буркнула что-то вроде:
– Я Димфна… Уилсон, – и снова оглядела ее с ног до головы.
Она была высокая – это первое, о чем я подумала, глядя на нее: почти шесть футов роста (на каблуках, как она потом сказала, в ней было шесть футов и полтора дюйма) – и стройная. Думаю, стройная и гибкая – так лучше всего можно описать ее фигуру. Волосы у нее были темно-рыжие, как застарелая ржавчина, прямые и блестящие, чуть волнистые, коротко подстриженные. На ней был светло-серый летний костюм, простая белая блузка и ужасно миленькие черные туфельки. Глаза – большие и карие. Она была красивая – и я полюбила ее в первый же момент, как только увидела. Она не просто не была похожа на горничную, она даже не была похожа на цветную, ну, кроме носа. Она с виду была молоденькая, и, когда улыбалась, ее глаза тоже улыбались и лицо казалось счастливым.
Так я стояла и смотрела на нее и тоже улыбалась, потом пригласила войти и сказала, что схожу за мамой. Я впустила ее в дом и закрыла за ней дверь. Мне хотелось сказать ей что-то важное, но не знала что, и я побежала через холл на кухню, где мама пила вторую чашку кофе и обсуждала с миссус Калибан, какие закупки надо сделать на неделю. Я сказала маме, что пришла девушка наниматься горничной. Я уже собралась было добавить, что она совсем не похожа на горничную, но не закончила фразу.
Мама заметила, как я сконфузилась.
– Что не так, милая?
– Ничего. Но она… О, ты сама увидишь! Пойдем! – И я пошла обратно через холл, где Бетра терпеливо ждала у двери. Когда мама подошла к ней, я заметила, что она тоже немного опешила, но ей удалось справиться со своими чувствами гораздо лучше меня.
– Я – миссус Уилсон. Давайте пройдем на кухню, выпьем по чашке кофе и поговорим. – Она протянула руку. Бетра сняла белые перчатки, и они обменялись рукопожатием.
– Я Бетра Скотт, миссус Уилсон. Очень приятно. – И девушка снова улыбнулась. У нее была чудесная улыбка.
– Берта?
– Нет, мэм, Бет-ра, – произнесла она по слогам.
– Бетра. Хорошо. Я запомню. Ну, пойдем, дорогуша, выпьем кофе.
Я пошла за ними, не сводя с нее глаз. Я отличаюсь практичным складом ума, и у меня сразу возникли корыстные мысли. Прежде всего мне захотелось узнать у нее, где она купила такие замечательные туфли, потому что таких в Нью-Марселе я никогда не видала. А уж я бы такие заприметила, потому что я хожу по магазинам каждую неделю. И еще мне в голову пришла даже куда более корыстная мысль. Дело в том, что у нас в Саттоне не так-то много девчонок, с кем вообще можно поболтать, – в основном все они – деревенщина. А большинство моих подружек живут в Нью-Марселе. И вот в доме появилась симпатичная девушка, всего на три года меня старше, и мне ужас как захотелось с ней подружиться. А главное, чем она была хороша в качестве подружки, – она же цветная, и между нами не возникло бы конкуренции из-за мальчиков, потому что из-за них девчонки вечно ссорятся и становятся врагами, даже если они очень близкие подруги.
Словом, мама села за кухонный стол. Миссус Калибан стояла позади нее, и я видела, что Бетра ей очень понравилась. Бетра села напротив мамы, а я примостилась на табуретке у двери, так что я одновременно видела и ее лицо, и ее туфли.
– Ну что ж, Бет…ра, – начала мама, расскажи мне немного про себя. У тебя есть опыт работы? – Она старалась выглядеть деловитой, на самом деле она совсем не умеет вести дела. Такой вопрос меня бы, к примеру, испугал. Сами знаете, как оно бывает, когда кто-то просит: «Ну-ка, расскажи мне про себя!» Ты не знаешь, с чего начать, сразу нервничаешь, руки потеют… А Бетра вроде совсем не занервничала. Она чувствовала себя как рыба в воде в любой ситуации.
– Нет, миссус Уилсон, у меня нет опыта. Но я знаю, что надо делать. Моя мама была горничной, и я видела, как она все делает, и часто ей помогала.
Думаю, если бы кто другой пришел к нам наниматься и сказал бы, что опыта никакого, мама бы сразу заявила, что не наймет на работу неопытного человека. Но потом мама мне призналась, что ей захотелось нанять Бетру в ту самую секунду, как она ее увидела, и ей надо было срочно придумать веский повод ее взять.
– Скажи мне, дорогуша, почему такая девушка, как ты, хочет работать горничной? Ты же, наверное, с образованием?
– Да, миссус Уилсон, у меня есть образование. Вот почему мне и нужна работа. Я два года училась в колледже, и мне теперь нужны деньги, чтобы закончить учебу. И буду с вами откровенной, я смогу работать всего два года. Потом надеюсь вернуться доучиваться и получить диплом.
Именно это мама и хотела услышать.
– Ну, тогда у тебя есть работа, – она обрадовалась своему хитроумию. – Мы поможем тебе закончить колледж. Мы платим хорошо, и два года – срок приличный. А потом мы сможем нанять другую горничную, не правда ли?
Бетра улыбнулась. Я взглянула на миссус Калибан: она буквально сияла от гордости за цветную девушку, которая собирается закончить колледж и для этого готова работать горничной.
– Ты сможешь откладывать деньги, – продолжала очень довольная мама. – Будешь жить в нашем доме и получать хорошее жалованье.
– Было бы хорошо, спасибо вам! – сказала Бетра.
В общем, мы ее сразу взяли на работу. Мы сели на кухне (я никуда не пошла) и были очень рады, и очень мило беседовали.
Бетра поселилась у нас в доме и приступила к работе, а я с ней все время болтала. Честно говоря, я просто не представляю, как бы я жила без нее, и я имею в виду не ее туфли и тому подобные глупости. Она научила меня многим важным вещам в жизни. Как когда я поехала на вечеринку в Нью-Марсель вместе с Дьюи и познакомилась там с этим Полом. Мы весь вечер танцевали, и я сказала Дьюи, что хочу пригласить Пола к нам.
Ну, ясное дело, мы сделали остановку на Истерн-Ридж, а я не возражала, потому что хотела постоять на самой вершине хребта. Я сидела в машине Пола и смотрела на звезды. Они были похожи на светлячков в вышине. Я щурилась и представляла себе, что звезды свисают на серебряных нитках. Романтично было.
Пол прижался ко мне и зевнул, а потом его левая рука вдруг оказалась у меня на плече. Мальчишки такие смешные: они всегда потягиваются или зевают, когда хотят положить руку тебе на плечо. Я прижалась к нему.
– Правда, красивая ночь? – спросила я. Я решила, что он робеет, и хотела немного его взбодрить. А он взял меня за подбородок, повернул мое лицо к себе и поцеловал, и я ответила на его поцелуй. Мы долго там целовались.
А потом вдруг я почувствовала, как со всех сторон меня стали трогать. И его рука легла мне на грудь. Думаю, ничего страшного в этом нет. Что может случиться, если рука парня лежит на твоей груди? По крайней мере, со мной – ничего, у меня там не эрогенная зона. Я просто расслабилась.
Потом чувствую, его рука легла мне на колено. Сначала я его простила: подумала, ну, может, просто соскользнула. Ведь я не так хорошо его знала, вот и решила дать ему презумпцию невиновности. Но потом его рука уже не была на моей коленке, а поползла прямо под платье. Мне не хотелось разрушать атмосферу. И я от него немного отодвинулась и шепнула ему на ухо: «Не делай этого!» В конце концов, что плохого, если парень хочет тебя потрогать? Значит, ты его привлекаешь. И я просто прошептала: «Не делай этого!»
Но он меня не услышал, а может, и услышал, но не захотел испортить ситуацию и отпрянуть от меня, будто его подстрелили. Но руку он не убрал, и я для ясности повторила: «Не делай этого!» Но на этот раз более решительно.
– Шшш, тихо! – говорит он. – Не нарушай атмосферу!
Не нарушай атмосферу! Ну, комик! И вдруг я ощутила, как он расстегнул мой пояс. Но теперь-то он меня точно слышал, так что надо было что-то предпринять. И я решила разозлиться. Я отшатнулась от него и произнесла:
– Это некрасиво!
Я вообще-то не сильно разозлилась, но иногда приходится притворяться, чтобы держать мальчишек в узде. Я бросила него злющий взгляд, а он сидел и улыбался, как будто думал, что я несерьезно пытаюсь его остановить. И, чтобы расставить точки над i, я повторила:
– Это некрасиво! – и таким злым-презлым голосом.
– Что именно? – Он сидел и во весь рот улыбался.
– Сам знаешь! То, что ты делаешь. Это некрасиво! – Тут я не на штуку перепугалась и добавила. – Слушай, если хочешь поиметь проблем, то пожалуйста. Завтра же я приведу отца, и тебя арестуют! Он это может.
Потом уж я подумала, что выбрала довольно-таки подленький способ выкрутиться, но тогда просто не могла придумать ничего получше. Он схватился за руль.
– Боже ты мой! Ну, девчонки! Сначала вы сами напрашиваетесь, а потом вопите «Папа!», как только что-то происходит. Боже ты мой!
– Отвези меня домой сию же минуту! – крикнула я.
Он завел машину, довез меня до дома, и я выскочила. И уж чтобы окончательно показать мне, какой он джентльмен, он даже не проводил меня до двери.
Я вбежала в дом, захлопнула дверь и заперла на замок. Я почувствовала облегчение, а потом меня всю затрясло, и я расплакалась. Наверное, я тогда здорово перепугалась. Потому что я привалилась к двери, меня трясет, а я плачу, не могу остановиться.
И тут я услышала шаги из кухни и подумала, что это мама, бросилась к лестнице, пулей взлетела наверх, потому что, сами знаете, не все мамы нормально относятся к таким приключениям. Я вбежала в свою комнату и затворила дверь. Стою, тяжело дышу. И все никак не могу успокоиться: плачу и плачу. Я подошла к кровати и зарылась лицом в подушку, чтобы заглушить свой плач. Слышу: дверь открылась и снова закрылась, а я обернулась и начала уже придумывать какую-то ерунду, чтобы маме рассказать, но это была Бетра в халате. Она посмотрела на меня и, увидев мое лицо. ужасно встревожилась, подошла, села рядом, обняла за плечи и спросила, что случилось.
Сначала я решила ей наврать. В конце концов, какой смысл рассказывать кому-то про то, как ты оказалась в западне в чужой машине, потому что все же понимают, что ты сама виновата. Но я не смогла с ходу придумать какую-то удобоваримую ложь и выложила ей все, как есть.
– Ты же не думаешь, что я плохая, правда, Бетра?
Странно, конечно, было спрашивать мнение у цветной.
– Нет. Почему я должна так думать? – Она вела себя как моя старшая сестра: прижала к себе – и мне полегчало. – Нет. Со мной такое тоже было.
– Правда? – Я поглядела на нее, и она кивнула.
– Когда я училась на первом курсе, я встречалась с баскетболистом. Мне всегда приходилось встречаться с баскетболистами, ведь я такая высокая! (Видите, какая она была, как легко говорила про свой высокий рост. Большинство рослых девчонок стыдятся своего роста и сутулятся. Но Бетра всегда стояла прямо. Я однажды спросила, не стыдится ли она своего роста, и она мне сказала: «А как еще дать понять парню, что у меня есть груди, если я не буду стоять прямо?») Я встречалась с баскетболистом, и мы сидели в его машине, и я подумала, что он фокусник – так быстро двигались его руки. И знаешь, что я сделала?
– Расскажи. Я вот что ни делала – ничего не помогло. Он просто посмеялся надо мной.
– Ну, это бы сработало! Я сжала кулак и двинула его в… – Она цокнула языком. И смущенно рассмеялась.
– Правда? Прямо туда?
– Ну да! – Она нагнулась ко мне и зашептала: – Он как завопил! Я решила, он прямо там умрет. И мне придется самой вести машину до дома. Но тогда я не умела водить и разбилась бы. – Она опять засмеялась. И я тоже засмеялась вместе с ней – и успокоилась.
– А я разве могла так же поступить? А вдруг он бы рассказал?
– Он бы не рассказал. Как он мог? Он был бы слишком смущен. А если бы даже рассказал, ты бы стала самой знаменитой девочкой в школе! Тебя бы все мальчишки боялись! – Она встала.
– Сходи прими ванну. Тебе полегчает. – Она пошла к двери.
– Ты же не расскажешь маме, да? – Меня это беспокоило.
– Рассказать твоей маме о чем? – улыбнулась Бетра. – Прими ванну. Я рада за тебя, что ты прекрасно провела время на вечеринке.
Сперва я ее не поняла, я тогда была не шибко догадливая. Наконец до меня дошло, что она имела в виду.
– Спасибо тебе, Бетра!
– Девчонки должны поддерживать друг друга. Спокойной ночи, мисс Димфна.
Последние слова резанули мне слух – после нашей откровенной беседы.
– Бетра, не называй меня так! Называй меня, как все, – Ди или Димфни.
– Ладно. Но только когда мы одни. Твоей маме это может не понравиться.
Я сказала «о’кей», и она ушла. Наверное, она была права, хотя мама очень хорошо разбирается во всех этих расовых делах и отлично ладит с миссус Калибан так же, как я с Бетрой, хотя вряд ли миссус Калибан когда-нибудь называла маму просто по имени. Так что видите, какая Бетра была милая и смышленая и как она здорово могла справиться с любой проблемой. Но так было, пока она не влюбилась в Такера.
Вот как я об этом узнала. Однажды я зашла в кухню за апельсиновым соком, а Бетра выглядывала из окна в сад. Я подошла к ней и тоже выглянула. Перед гаражом стоял один из наших автомобилей, и из-под него торчали две ноги, и вот на эти самые ноги и смотрела Бетра. Я глазам не поверила: она же собиралась доучиваться в колледже и все такое. А Такер уж какой был на все руки мастер – все мог починить! – но я даже представить себе не могла их вместе. Она была толковая – не просто смышленая, а по-настоящему умная. Они с Дьюи беседовали о вещах, которые я даже понять не могла. И, кроме того, Такер был даже ниже меня. И вот она во все глаза пялится на его ноги.
Она обернулась и заметила, как удивленно я на нее смотрю, явно не понимая, что в нем могло ее заинтересовать. Лицо у нее было очень серьезное.
– Что он обо мне думает? – спросила она. – Он обо мне вообще говорит?
– Да откуда мне знать! А что такое? – Понимаете, я поверить не могла, что для нее это так важно. – Он плохо к тебе относится?
– Нет. Он никак ко мне не относится! По-моему, он ни разу на меня не посмотрел.
– Ну, он вообще ни с кем особо не разговаривает, – попыталась я ее подбодрить.
– Ди, окажи мне услугу. Если так получится, если у тебя будет шанс с ним поговорить, попробуй выяснить, что он… обо мне думает. – Она смущенно опустила взгляд и стала разглядывать свои руки. – Звучит глупо, да? Но мне правда надо знать.
– Ладно, Бетра. Но Такер такой… – Я осеклась. Нельзя же вот так ляпнуть девушке, которой нравится парень, что он – никакой.
После того случая я стала наблюдать, как она на него поглядывает, когда он заходил на кухню. Иногда он с ней заговаривал, у него был высокий тонкий голос, но он почти не смотрел на нее. Он всегда притворялся, будто чем-то занят – ну, типа нагибался под раковину и смотрел, не течет ли труба. А она стояла у плиты и просто смотрела на него, точно он был красавец какой, и так волновалась, что стала запинаться.
– Такер, вынеси мусор, пожалуйста! – Она произносила это таким тоном, словно оправдывалась.
Тут он мог на нее взглянуть, но так, будто он на нее сердился. Потом забирал мусор в ведре или в мешке и выходил.
Когда он уходил, она вздыхала с облегчением, точно его присутствие было ей в тягость. Думаю, так оно и было, и я ее понимала. Она так выразительно смотрела на меня, и хотя мне тогда было всего пятнадцать, я ее прекрасно понимала. Потом она отворачивалась к плите.
Не помню точно, когда это случилось, но как-то Такер повез меня в Нью-Марсель – мне нужно было удалить зуб. Когда он подкатил ко мне на машине, я прыгнула рядом с ним, вместо того чтобы, как обычно, сесть сзади.
Мне хотелось, чтобы он первый что-нибудь сказал, и я застонала. Вообще-то зуб не болел. Он почти сгнил и готов был сам вывалиться. Но все равно я застонала. Но он ничего не сказал.
Такер обычно ездил, как гонщик на трассе. Склонившись над рулем, неотрывно глядя на дорогу, прищурив глаза, чуть сгорбившись. Выглядел он по-дурацки, потому что он же был коротышка. И был похож на чересчур серьезного ребенка.
Я застонала. А он молчал, как рыба. Может, он не расслышал моего стона из-за урчания мотора. Тогда я спросила прямо:
– Такер, а правда Бетра милая?
Он не шевельнулся. Вообще-то можно ожидать, что если парень хочет жениться на девушке, то он при одном упоминании ее имени хотя бы должен дернуться. А он – нет.
Но мне теперь и самой стало интересно. Наверное, это было не мое дело, ведь Бетра просто хотела знать, думает ли он о ней хоть когда-нибудь.
– Я хочу спросить: тебе она нравится?
Он ответил так, словно ему это причиняло невыносимую боль:
– Да, мисс Димфна.
Вот и все, что мне удалось из него вытянуть, но и этого было недостаточно. Не то чтобы я ждала, что он зальется соловьем и выложит мне все, но мне было непонятно, действительно ли она ему нравится или он просто хотел заставить меня замолчать.
Но все-таки она ему нравилась, потому что в сентябре они поженились. И потом чуть ли не сразу же она стала ходить по дому беременная. Даже женившись на ней, он оставался с ней немногословным. Может, ему просто не хотелось разводить сюси-пуси на глазах у посторонних. Но, по-моему, это очень здорово, когда кто-то при всех говорит, что любит тебя. А он – нет. Он вообще ничего не говорил.
А я вернулась в школу мисс Бинфорд, и вроде именно в тот период у моих родителей возник разлад в отношениях. Не то что они ссорились при нас. На самом деле, я сомневаюсь, что они вообще ссорились. Все было гораздо хуже. Просто, насколько я сейчас помню, они все реже и реже разговаривали друг с другом, пока не наступил момент – а именно об этом моменте я и говорю, – когда они вообще перестали разговаривать… ну разве что по ночам, когда, как я думаю, женатые люди чувствуют себя особенно одиноко и понимают, как мало у них общего и как много они потеряли в жизни.
Не думаю, что этот разлад свалился на них, как снег на голову. Думаю, он все время просто таился. И родители просто не удосуживались подумать о своих отношениях, потому что они растили сначала Дьюи, потом меня. Но теперь, когда мы выросли, им больше не надо было предпринимать усилия и прятать эту беду, и она проявилась, вылезла наружу.
Иногда я слышала их по ночам. Я выходила в ванную, и до моих ушей доносилось их бормотание. Я останавливалась у двери и подслушивала. Наверное, это не похвальное любопытство, но, когда у твоих родителей проблемы, ты же не можешь просто пройти мимо их спальни, как ни в чем не бывало зайти в ванную и нанести ночной крем.
Сначала я услышала голос мамы:
– Но почему, Дэвид? – Она говорила плачущим голосом, а может, и плакала.
– Не знаю. Тебе этого не понять. – Он никогда не повышал голоса.
– Но раньше я же понимала. Разве нет, Дэвид?
Наступило молчание. И можно было слышать, как они задвигались. Но, судя по звуку, они не занимались любовью. Они просто пытались заснуть. Потом внезапно мама сказала:
– Дэвид, я же тебя люблю!
А он ничего не ответил.
Наверное, тогда я впервые ощутила близость к маме. Мы с ней ладили, как дочка и мама, хотя говорят, что дочки лучше ладят с отцами, а сыновья – с матерями. Это справедливо для нашей семьи, потому что папа никогда особенно не ладил с Дьюи. Иногда я замечала, как он смотрит на Дьюи. Он долго-долго смотрел на него, потом качал головой и отводил взгляд. Не то чтобы он испытывал к сыну отвращение – так казалось Дьюи, – скорее папе хотелось что-то ему сказать, а он не знал как. Это могло прозвучать как реплика персонажа из телесериала, но именно так он бы и выглядел. Думаю, в большинстве случаев ему хотелось что-то сказать Дьюи, но вместо него он говорил со мной. Я отлично ладила с папой, но это мало что объясняет.
Когда родители перестали разговаривать, Дьюи вообще не мог разговаривать с отцом без того, чтобы не поссориться с ним. Такое было впечатление, что Дьюи ссорится с отцом вместо матери. Папа что-нибудь скажет, что угодно, а Дьюи вечно цеплялся за его слова, и начиналось… Я не вмешивалась. Я пыталась сорвать их ссору, делая какую-то глупость или откалывая дурацкую шутку, но эти уловки ни к чему не приводили, и я просто уходила.
В разгар таких ссор одна Бетра не давала мне чувствовать себя несчастной в собственном доме. Она отвлекала меня беседой, веселила. Но и у нее самой было полно забот – в конце концов, она же ждала ребенка – и не могла себе позволить решать мои проблемы.
Она родила в августе, ребенок был чудо какой хорошенький, с кожей цвета светлого кофе и яркими карими глазами. Мне нравилось о нем заботиться. Я делала всякие глупости – вроде как брала его на руки и, закрыв глаза, представляла, что кормлю его. Когда у меня будут свои дети, я точно буду их сама кормить. Бетра все-все мне рассказывала про грудное вскармливание, а иногда такие интересные вещи говорила. Как тогда, например, когда она уехала в Нью-Марсель на девичник, вернулась поздно вечером и спросила у меня:
– Ты когда покормила моего ребенка?
– Он заплакал в семь, и я дала ему бутылочку, – говорю.
– Так я и думала, – отвечает и хохочет. – Около семи у меня молоко пошло, и грудь заболела, ох, как же она заболела, словно он меня сосет, так что пришлось пойти в туалет и там сцедиться. Я сразу поняла, что мой малыш проголодался.
Только представьте: она находится на расстоянии двадцати или тридцати миль от своего малыша и знает, что он проголодался. Это же здорово чувствовать с кем-то такую близость.
И я узнала, что происходит между Такером и Бетрой как раз благодаря грудному вскармливанию. Можете счесть меня чокнутой, но это так. Бетра часто говорила, что кормящая мать не должна волноваться, иначе у нее пропадет молоко, и ребенка придется приучать к бутылочке. И она дала себе обещание, что, когда у нее родится ребенок, она будет сохранять спокойствие, чтобы у нее не пропало молоко.
Но в сентябре, после того как Дьюи уехал учиться в колледж, а Такер купил ферму, молоко у нее пропало. Вот так – ни с того ни с сего. Она прекрасно себя чувствовала. Все у нее было хорошо, но молоко пропало напрочь. Я даже помню тот вечер, когда она мне об этом сообщила. Я запомнила, потому что стала взрослеть. Глупо, понимаю. Так же не бывает, что за одну ночь ты вдруг повзрослела. То есть хочу сказать, что я начала думать кое о каких вещах по-взрослому.
Вот что произошло. Я пошла на кухню взять себе апельсинового сока (обожаю этот сок), а потом собралась делать домашнее задание, и вот я сижу там в полумраке у окна, потягиваю сок и смотрю на звезды. А небо было похоже на картину, потому что на стене виднелись четыре звезды внутри квадрата окна.
Потом открылась дверь и вошла Бетра. Было так тихо и приятно, а я сидела, не шевелясь, и кажется, она меня не заметила. Она не плакала, но вдруг ни с того ни с сего прямо зарыдала, стоя в темном углу у плиты, а потом тихо сказала:
– Не понимаю я тебя, Такер. Я пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь, но не понимаю. – И так несколько раз.
Я не знала, куда деваться. Не хотела дать ей понять, что я тут же сижу, ведь она пришла на кухню, желая побыть одной. Но если бы я продолжала молчать, а она бы меня обнаружила, она бы решила, что я за ней шпионю. Но тут она говорит:
– Мисс Димфна?
– Бетра! Что такое?
– О, Ди! – Она подошла ко мне и обхватила, припала к моему плечу и разрыдалась еще больше. Я была удивлена. Она всегда казалась мне сильной, и она всегда знала, что делать, когда что-то было не так, но сейчас она вела себя совсем не так, как обычно. Я обняла ее и похлопала ладонью по спине. Через какое-то время Бетра перестала плакать, выпрямилась, но дрожала всем телом. В темноте я разглядела только ее заплаканное лицо. Она смотрела на меня.
– У меня молоко пропало! – И она опять расплакалась, и я снова ее обхватила, и держала долго, пока она не перестала плакать и не начала рассказывать, что случилось.
Но при этом она рыдала, и вся тряслась, и говорила ужасно сбивчиво. И вот что она мне поведала. Такер ей никогда ничего не рассказывал. Он делал массу странных, необъяснимых вещей и никогда их с ней не обсуждал и не говорил, почему он так поступает. Он купил у папы ферму, но Бетра была уверена, что он и не собирается становиться фермером. Он задумал что-то совсем другое, и она не знала что. Она даже засомневалась, знает ли он сам, чего хочет. Он не обдумывал своих поступков загодя, а просто их совершал. И это ее ужасно смущало, и беспокоило, и печалило, вот почему у нее пропало молоко.
Выложив мне все, что было у нее на душе, она немного успокоилась. Встала и пошла за пепельницей, чиркнула спичкой, но пламя так дрожало, что она никак не могла зажечь сигарету. Она выругалась и засунула сигарету обратно в пачку.
– Мне не нужно такое отношение, Димфна. – Тут она рассвирепела не на шутку. – Ты думаешь, это в первый раз? Нет! Но уж точно в последний!
Потом она рассказала мне еще об одном случае, когда они только-только поженились и она повела его знакомиться со своими подругами из колледжа. Когда она начала рассказывать, я вспомнила тот вечер, потому что я сама слышала, как они тогда подъехали по гравийной дорожке к дому, и после того, как он выключил мотор, она ему сказала:
– Ну почему ты себя так вел? Зачем ты поставил меня в такое неудобное положение?
Кажется, он не ответил. По крайней мере, я не слышала, чтобы он произнес хоть слово. Просто до моего слуха донеслись звуки шагов – две пары ног шли по гравию, и он хрустел у них под подошвами, как ломающийся лед.
И потом Бетра сказала:
– Я же просто хотела доллар. Ты бы мог дать мне доллар!
– А я не хотел, – наконец произнес он.
– Ну, это-то ясно! Но даже если ты не согласился с ним по поводу Общества, ты бы мог дать ему доллар, раз я тебя об этом попросила.
– Это бессмысленно, – сказал он. И, услышав его слова, даже я разозлилась. Полагаю, муж должен выполнять просьбы своей жены, если она его просит.
И теперь Бетра рассказала мне про тот случай.
– В тот вечер я совершила жуткую ошибку! Ты себе даже представить не можешь! Не надо было его брать с собой. Знаешь, что он там учудил? Я потеряла чуть ли не всех подруг, которые у меня есть… были.
Она встала и стала ходить взад-вперед по кухне.
В тот день ее подруги пригласили их на вечеринку.
– Такер не хотел ехать. Мне буквально пришлось уламывать его. Я заставила его поехать, а он учудил такое. Димфна, я знаю, у него нет образования. Но, честно говоря, я им горжусь. И мне просто хотелось, чтобы они его увидели.
Пока она рассказывала, что там произошло, я представила себе всю картину: она не уточнила, как это все случилось, а только сказала, на какой почве. Я достаточно долго прожила рядом с Такером и знала, что он может сказануть, и каким тоном, и как он смотрит, говоря то-то и то-то. Но в тот момент я удивилась, потому что не отдавала себе отчета, как много я знаю про него. Я никогда не думала, что, подобно Дьюи, так много внимания обращаю на него.
Но я все про него знала. И представила себе, как они сидели там и разговаривали о вещах, которые, по моему разумению, обычно обсуждают студенты колледжа: ситуация в мире, старые преподаватели. И Бетра сказала, что студенты колледжей для цветных всегда затрагивают расовую проблему. И один из присутствующих сказал, что он – член местного отделения Национального общества по защите прав цветных и хочет воспользоваться случаем и выбить членство. А Бетра сказала, что ее членская карточка просрочена, но она даст ему доллар, и пусть он пришлет ей новую карточку. Она взглянула на Такера, который сидел тихо, не проронив ни слова с того самого момента, как она его представила. И когда она мне это рассказала, я живо представила себе, как он сидит молча в кресле, выпрямившись, сложив руки на коленях, а огоньки гирлянды отсвечивают от его очков, так что его глаз не видно, и он весь такой маленький, жалкий…
– Такер, будь добр, дай мне, пожалуйста, доллар, – говорит Бетра.
А Такер сидит со злобным лицом и отвечает:
– Не дам.
И я представила себе, как все студенты с удивлением медленно переводят на него взгляды, но не желая выказать своего изумления, а потом мельком смотрят на Бетру и отворачиваются, наверняка думая про себя: вот бедняжка! Вышла замуж за скрягу!
И я сама вспыхнула от стыда, точно это случилось со мной, и поняла, как ей в тот момент было неловко.
А она ему сказала:
– Прошу тебя, милый, дай ему доллар. Обществу нужна помощь, а я верю в их дело. Я тебе верну, когда мы вернемся домой.
Бетра решила, что он правильно беспокоится о деньгах. Ее знакомые могли бы это понять, ведь им всем приходилось экономить на всем, чтобы сводить концы с концами и оплачивать свою учебу.
Но дело было не в деньгах! Такер имел в виду совсем другое. Потому что он полез в карман, выгреб оттуда все деньги – по ее словам, там было около двадцати долларов – и протянул ей на глазах у всех, и все были и сами смущены, и за нее им стало неловко. А он заявил:
– Не надо мне возвращать деньги. Это все, что у меня есть. Но только не давай ему денег за кусок картонки!
Вот что ее так расстроило. Она наклонилась ко мне – ее глаза были злые:
– Какой же он гадкий. Ди, он иногда такой прижимистый, просто кошмар! Но все мои знакомые и я тоже – мы верим в это Общество. Мы считаем, что они делают большое дело и делают его хорошо. Но он взял и так вот оценил их деятельность… назвал куском картона. Вряд ли ты сможешь понять, что я чувствую. – Она пристально посмотрела на меня.
Но я поняла. Я не часто думаю о расовых проблемах, и тогда уж точно не думала, но я знаю, что в будущем году поеду учиться в колледж на север, как Дьюи, и там будут цветные, и я с нетерпением жду нашей встречи, потому что Дьюи говорит, что общение с ними – это тоже своего рода образование. Но Бетра совсем не об этом говорила. Она была удивлена и оскорблена, увидев, что он ни в грош не ставит то, во что она так сильно верила.
А потом, сказала она, тот человек, который попросил дать ему доллар, сказал Такеру, что это не просто кусок картона, что Общество защищает права Такера и права всех цветных.
Вот тут он и начал городить глупости, сидя в кресле и глядя прямо на активиста Общества, и он даже слегка улыбался, а потом перестал улыбаться:
– Они не борются за мои права. Никто не борется за мои права. Я этого никому не позволю.
Тогда активист Общества возразил: что бы там Такер позволял или не позволял, они все равно будут продолжать свою работу, и что решения по делам, которые они выиграли в суде, позволят его детям учиться в школе и получить хорошее образование.
– И что с того? – ответил ему Такер. – И что с того? – повторил он своим пронзительным, чирикающим, как у старика, голосом.
Бетра оглядывала знакомых, глазами прося у них прощения за его поведение, и кто-то просто отвернулся, разозлившись или просто стыдясь, и ее самые близкие подруги смотрели на нее с жалостью, и это было для нее самое неприятное.
А активист Общества продолжал:
– Ты разве не хочешь, чтобы твои дети получили хорошее образование?
– Мне все равно, – ответил Такер.
– Ну, нравится тебе это или нет, Общество ведет твои битвы в судах, и ты должен нас поддержать.
А Такер сидел и упрямо возражал:
– Никто не ведет мои битвы ни в каких судах. Я сам веду свои битвы!
– Ты не можешь сражаться в одиночку! Какие битвы?
– Мои собственные! Все они мои, и либо я одержу победу над ними, либо они надо мной. И исход этих битв не зависит от твоего куска картона. – И тут он встал и вышел из комнаты. Бетра тоже встала и, извинившись, пошла за ним, глаза у нее были на мокром месте, но она не плакала, потому что была ужасно сердита и не собиралась доставить Такеру такого удовольствия, чтобы он видел ее слезы.
Она опять захотела покурить, и на сей раз ей удалось зажечь сигарету.
– Я вот думаю, может, он псих. Ведь образование – это самое главное, Димфна. Особенно для нас, негров. И если он думает, что ему удастся вырастить ребенка таким же невежественным, как он сам, тогда нам предстоит серьезный разговор. Мои друзья, верно, считают его этаким неотесанным дядей Томом. Представляешь, что они обо мне думают, если я вышла замуж за такого… – Она погрустнела. – Ну, почему он мне ничего не объясняет? Это единственное, чего я хочу. Разве я многого требую?
– Нет, Бетра, – ответила я. Наверное, не стоило мне ей это говорить, но ведь ей того и надо было: чтобы с ней кто-нибудь согласился.
Она посмотрела очень серьезно:
– С меня хватит, милая.
Не знаю, плакала ли она еще потом. Вряд ли. Потому что через пятнадцать минут она собрала какие-то вещи для себя и ребенка и пошла по шоссе к остановке автобуса с намерением уехать к матери в Нью-Марсель. Времени плакать у нее не было.
Но через неделю она вернулась. Нам всем ее очень недоставало. Мы все по ней сильно скучали, даже Такер. Он, правда, в этом никому не признавался, особенно мне, но я-то чувствовала. Он не был собранным и деловитым, как прежде, и бродил по двору, точно зомби, словно в полусне, и я сказала себе: это ему – хороший урок. Надеюсь, она больше к нему не вернется.
Но я это сказала ради ее же блага, я радовалась, что он страдает. Мне же было не по себе оттого, что она ушла.
Как-то я захожу на кухню – и вижу ее: она готовила еду. Я так и не поняла, почему она вернулась, и, должно быть, у меня был такой недоуменный взгляд, что она серьезно и спокойно встретила мой взгляд и сама глядела на меня довольно долго.
– Знаю, Ди. Он был прав. А когда мне стало ясно, что я не права и почему, я ему позвонила и попросила приехать за мной. Что он и сделал.
Я все смотрела на нее, как будто ничего не понимая, но я поняла. Все я поняла. А она только и сказала:
– Это такое новое и приятное ощущение, что я какое-то время хочу насладиться этим ощущением. И как-нибудь я тебе все объясню. Но будет лучше, если ты сама до этого дойдешь своим умом. Попробуй! – И она улыбнулась. Но ее улыбка была немного незнакомой. Точно она узнала чудесный секрет и теперь была не просто счастлива, но и умиротворена.
Она снова забеременела. Думаю, это случилось в декабре, потому что в апреле она начала набирать вес и, как-то войдя в кухню, объявила:
– Миссус Уилсон, нам с Такером нужно съехать. Мне очень жаль. Но так надо.
Мама чуть на расплакалась.
– Но, Бетра…
– Мне жаль, миссус Уилсон, но Такер хочет съехать. Он хочет переселиться на ферму.
У мамы слезы повисли на ресницах.
– Но, Бетра, ты же беременна, и тебе лучше сейчас быть в городе… Разве нет?
А я стояла, разинув рот.
– Нам так надо. Такер хочет. А я должна быть с ним.
Я молча развернулась, пошла к себе в комнату и проплакала там несколько часов. Наверное, у меня не было права быть такой эгоисткой, но я, правда, чувствовала себя преданной, потому что теперь мне предстояло жить в этом доме одной, с родителями. Я даже подумала съехать, но куда бы я поехала – только в Нью-Марсель, в дом бабушки, маминой матери, а она такая недалекая. В голове у нее – никаких современных идей. По субботам она требовала, чтобы я возвращалась домой к девяти. И я никуда не поехала. Наверное, я бы так и так никуда не смогла уехать.
Вечером накануне отъезда Бетры я сидела в своей комнате в дурном расположении духа. Было уже поздно, и я себя жалела. Я даже уснуть не могла. И вот слышу стук в дверь – и так резко говорю: войдите, кто бы там ни был. Бетра. А я догадалась еще до того, как ее увидела.
– У тебя найдется пара минут? Мне надо с тобой поговорить. – Она держалась как-то виновато. – Хочу тебе кое-что сказать. Одну вещь.
– Давай, – отвечаю не слишком любезно.
Она присела на дальний край кровати, расставив ноги, и уставилась в пол.
– Я знаю, как ты относишься к моему отъезду. Мне жаль. Но мне надо ехать, я это знаю. – Она взглянула на меня, а я медленно отвернулась, потому что, кажется, начала плакать. Не знаю. – Помнишь, перед тем как я ушла от Такера, мы с тобой разговаривали в кухне? – Я ничего не ответила. Но она знала, что я помню.
– Понимаешь, дело в том, что я была студенткой колледжа. То есть тогда я уже не училась в колледже, но все равно рассуждала, как юная студентка. Было в Такере что-то такое, чего я не могла понять, и это меня расстраивало, потому что я относилась к этому так, словно я провалила экзамен. Я не уверена, но, может быть, те из нас, кто учился в колледже – Дьюи, я, в меньшей степени твоя мать, наверное, твой отец, может быть, все мы потеряли то, что есть в Такере. Возможно, мы потеряли веру в себя. Когда нам надо что-то сделать, мы не просто это делаем, мы думаем о том, что надо это сделать, и мы думаем о массе людей, которые уверяют, что некоторые вещи делать не надо. А если мы перестаем об этом думать, то и вовсе отказываемся это делать. А Такер просто знает, что ему надо делать. Он об этом не думает. Он просто знает. Вот он хочет съехать сейчас – и я поеду с ним. И я не собираюсь ему говорить, что он теряет надежное место работы и людей, которые искренне заботятся о нем. Я просто еду с ним. И не только потому, что люблю его, но потому что я люблю себя. По-моему, если я буду делать то, что он говорит, и не стану об этом думать, ну, хотя бы какое-то время, я последую за ним и за его внутренним голосом, и я считаю, настанет день, когда я последую за своим внутренним голосом, о котором я сейчас даже не догадываюсь. Но Такер научит меня слушать этот голос. Мне хотелось, чтобы ты знала, почему я уезжаю, потому что, возможно, это научит тебя уживаться с родителями. Если ты поймешь, что заставляет меня уехать, может быть, это понимание позволит тебе найти внутри себя нечто, что поможет тебе выжить, какое бы решение ни приняли твои родители. И если ты поможешь себе и обретешь внутреннее успокоение, оно окажется лучше, чем то успокоение, которое я бы могла тебе дать. Вот что я хотела тебе сказать. – Она встала и пошла к двери. Я так и не подняла на нее глаз.
Но когда она взялась за ручку двери, я вскочила и сдавленно позвала ее, подбежала, и обняла, и заплакала. Она тоже. Потом мы отшатнулись и поглядели друг на друга.
– Навещай меня почаще, ладно? – Она улыбнулась. И я обещала приезжать к ней на ферму.
А теперь она и вовсе уехала отсюда, и я не знаю, куда. Надеюсь, она мне напишет.
Вот и все, что мне известно. Наверное, не слишком много. Что до моих родителей, то сегодня они, пожалуй, обращались друг с другом лучше, чем когда-либо, держались за руки и так далее. Может, что-то произошло вчера, но я не могу представить что. В любом случае я стараюсь не беспокоиться ни о чем. Не думаю, что я черствая или испорченная, но ведь это их проблемы, и мне тут сказать нечего. Либо они сами разберутся во всем и останутся семьей, либо нет – и тогда они расстанутся. В этом все дело. По крайней мере, думаю, вот о чем говорила Бетра в тот вечер, хотя мне было трудно с ней согласиться. То есть это же так просто: самое лучшее, что вы можете сделать для людей, которых любите, это оставить их в покое.
Дьюи Уилсон III
Мы расположились на вершине Истерн-Ридж с видом на горную стремнину, называемую ущелье Хармона. Генерал находился в нескольких шагах от нас, слишком молодой, чтобы годиться мне в отцы, в серых брюках с желтыми лампасами и в рубашке с закатанными выше локтя рукавами. Волосы у него были белые и длинные.
Мы наблюдали за наступлением янки в сплошной пелене пыли: они двигались по мощеному шоссе, мимо статуи генерала, по главной улице Саттона, мимо магазина мистера Томасона, а затем вверх по склону холма – прямо на нас. Взмыленные лошади тянули пушки, солдаты шли строем, и даже с такого расстояния я мог разглядеть лицо каждого под синим козырьком. Генерал стоял молча и смотрел на них.
– Не стрелять, пока не удостоверитесь, что не промажете! – повторял он.
Янки заметили нас и, перейдя на бег, с неразборчивыми криками ринулись вверх по склону. Мы начали стрелять по ним, и они разбивались вдребезги – они были слеплены из синего льда, – и их кусочки таяли, а цвет менялся с синего на кроваво-красный, и потоки крови ручейками бежали вниз по холму.
У подножия холма ручейки крови стекали в овражки, собирались в лужи, расползавшиеся по земле, затвердевали, и прямо на моих глазах из этих луж начинали расти фигуры людей в полном обмундировании и при оружии, они вырывались из земли и снова бежали вверх по холму к нам.
Я стрелял по наступающим янки, а вокруг меня умирали наши солдаты, они тоже таяли, сразу превращаясь в серые лужицы, в которых всплывали клочки волос и ниток, и эти лужицы пахли застарелым мусором, смертью и рвотой. Вскоре наших осталось так мало, что, казалось, мы больше не сможем сдерживать противника, и генерал повернулся ко мне, резко отодрал свою голову от плеч, так что я расслышал треск рвущихся вен и костей, такой звук бывает, когда выдираешь пучками траву из земли, и перебросил мне оторванную голову. Его обезглавленное туловище стояло ко мне грудью. Я обхватил кровоточащую голову руками, как младенца, и все это время голова орала мне:
– Беги, парень! Лови мяч! Беги, сделай тачдаун, парень!
И, как всегда, как всегда, я стоял и чувствовал на языке вкус рвоты, поднимающейся из желудка, и кровь впитывалась в ткань рубашки, пока она не прилипла к моему телу, и я понял, что скоро не смогу двинуться, и потом осознал, еще не попытавшись сделать шаг, что всю нижнюю часть моего тела вместе с ногами парализовало.
Вот о чем я сразу подумал, когда эти мальчишки ушли, – об этом проклятом кошмаре. Я давно не вспоминал о нем, и он мне не снился уже года два. Раньше, когда я был моложе и боялся отца, этот кошмар посещал меня постоянно. Я знаю, почему мне снился такой сон: это все из-за чувства вины. Стоило мне получить «четверку» по контрольной – и р-раз! – этот сон. Я забуду сделать то, что отец попросил, и – р-раз! – тот же сон. Но в старшей школе я начал форменным образом ненавидеть отца – как раз тогда он вообще перестал разговаривать с мамой, отдалился от нее, ушел в себя, вел себя как последний негодяй, – тогда-то я и перестал его бояться.
Словом, об этом я подумал, хотя мои мысли заняли куда меньше времени, чем потребовалось для их пересказа. Мне кажется, я вспомнил о том кошмарном сне, потому что, стоя посреди ужасного пепелища и узнав от ребятишек, как все произошло, я испытал знакомое ощущение тошноты. Я перепугался, потому что, сказать по правде, я понятия не имел, что творится в городе, а когда я пугаюсь, меня тошнит. У меня в колледже есть приятель-врач, который считает, что мой желудок остро реагирует на волнения. У одних людей от волнения болит голова, другие вроде меня чувствуют тошноту.
Но думал я не только о своем сне. Через какое-то время я попытался поразмыслить о произошедшем чуть более конструктивно, стараясь найти повод или причину, вынудившую Такера так поступить, – какое-нибудь событие, произошедшее с Такером в прошлом, что занимало его мысли или злило его, и мне на ум приходили одни только события прошлого лета, когда умер Джон.
Но сказать так – значит почти ничего не сказать. В судьбе человека есть кое-что поважнее, чем день и обстоятельства его смерти. Тут же речь идет о всей его жизни, неважно, насколько скучной и незаметной до этого она была. Я слишком молод, чтобы знать все подробности жизни Джона Калибана из первых рук. Я ведь знал его только в старости. Но, помню, в детстве я находил стопки семейных альбомов, которые женщины из семейства Уилсонов бережно хранили как реликвию, куда аккуратно собирали фотокарточки, сделанные в воскресный день, и школьные табели с оценками, и детские рисунки, такие давнишние, что о них уже мало кто помнил. В этих семейных альбомах попадались и фотопортреты Калибанов. Вот так я узнал о жизни Джона, хотя я разглядывал альбомы из желания рассмотреть не Джона, а скорее диковинную старинную одежду и прямоугольные черные автомобили, за которыми он когда-то ухаживал и на которых ездил, как до них, – на двуколках. На самой ранней фотокарточке Джон – мальчик лет четырнадцати, стоит перед новенькой двуколкой. Его белая накрахмаленная рубашка чуть топорщится спереди, потому что он выпятил грудь. Если вы полагаете, будто это его двуколка, то вы ошибаетесь. Двуколка принадлежит генералу. А Джон был у него кучером, он сидел высоко на сиденье и никогда не пускал в ход кнут, а управлял упряжкой лошадей легонько, редко натягивая поводья. Незадолго до этой фотографии он начал работать кучером у генерала, потому что его отец, Ферст Калибан, был уже стар для такой работы и почти ослеп и целыми днями отдыхал, просиживая перед своей хижиной на плантации Уилсона и покуривая трубочку. А Джон, хотя еще был подростком, но уже выполнял работу взрослого мужчины: ухаживал за лошадьми, ездил верхом, чинил двуколки, а потом стал кучером. На накрахмаленной груди сияет брильянтовая булавка для галстука, которую генерал подарил ему на день рождения. С этой булавкой на рубашке его и похоронили.
На других фотографиях он снят с другими двуколками, поновее, потом – рядом с автомобилями и, наконец, на последней фотографии он стоит перед «паккардом» с огромной сверкающей решеткой на прямоугольном радиаторе. Рядом с ним – маленький мальчик, уже в очках, чья голова кажется слишком крупной по сравнению с его тщедушным телом. За стеклами очков виднеются большие карие глаза, в которых угадывается совсем не детское хмурое выражение. Это Такер. А потом Такер появляется один на фоне автомобилей, потому что Джон на тот момент уже слишком старый, чтобы их водить или, лежа под ними, ковыряться в их внутренностях, и он руководит действиями мальчика – где подтянуть гайку, где ослабить, где подогнать, – все, что теперь Джону под силу, так это ухаживать за цветочными клумбами дома в Свеллз с таким горделивым видом, точно это его собственные цветы.
Вот в таком преклонном возрасте я знал его достаточно хорошо.
По субботам Джон надевал выходной костюм, широкий галстук с брильянтовой булавкой – давнишним подарком генерала, и перламутрово-серую шляпу, садился в автобус около магазина мистера Томасона и ехал к вокзалу муниципальной железной дороги в Нью-Марселе, но по дороге сходил в Нортсайде, где заходил в местные салуны и сидел там в полумраке, ведя беседы со старыми неграми, которые были, как и он, столь почтенного возраста, что ни на какую работу уже не годились.
А потом как-то в субботу в прошлом июне у нас дома зазвонил телефон, я подошел и услышал на другом конце провода незнакомый голос:
– Тут у нас на вокзале черномазый старик упал и помер. Что мне делать с телом?
– Подождите, – ответил я. – Мы сейчас приедем.
Такер, миссус Калибан, Бетра и я сели в черную машину. Такер вел, Бетра сидела рядом с ним, ее плечи возвышались над спинкой сиденья, а ее свободное платье расширялось прямо от плеч и до коленей, напоминая детскую горку. Мы с миссус Калибан сидели сзади. Она была маленькая, черная и в свои пятьдесят три года еще не начала седеть и совсем не выглядела постаревшей, напоминая мне гладкую китайскую куклу, покрытую черным лаком, которая однажды была у Димфны. Мне было странно ехать в машине в окружении негров, хотя все они были мои друзья.
Никто не проронил ни слова, никто не плакал. Мы хоть и готовились увидеть мертвого Джона, но в глубине души надеялись на ошибку, надеялись, что полицейский позвонил не по тому номеру и что мы приедем на вокзал, а там будет лежать на полу совершенно незнакомый старик.
Прибыв в Нью-Марсель, мы отправились в полицейский участок при вокзале. Водитель автобуса сидел в небольшом кабинете, где работал вентилятор, держа в руке банку пива, и ждал нас. Это был рослый лысеющий мужчина, и над его головой уже вроде бы роились мухи.
– Мы приехали забрать тело Джона Калибана.
– Ага. – Он встал, аккуратно поставил банку пива на влажный кружок, образовавшийся на столе. – Пойдемте. – Он вышел из кабинета, мы – за ним.
– Я хорошо знал старину Джона, – обратился водитель ко мне. – Сегодня, как и всегда по субботам, он сел на остановке у магазина Томасона. В дороге я не обращал на него внимания, только когда мы въехали в вокзал и все вышли, я, прежде чем закрыть двери, посмотрел в зеркало заднего обзора и увидел его – он дремал или мне так показалось, склонив голову на поручень, и я подошел и толкнул его в плечо, и тут заметил, что он холодный. И все сразу понял. И говорю себе: «Я уже никогда не разбужу старого ниг… – он поглядел на миссус Калибан, которая его даже не слышала, – …этого старика, даже если буду тут стоять и трясти его тысячу лет. Он умер».
Мы подошли к автобусу. Без пассажиров в салоне он производил странное впечатление.
– Я его не трогал потом, и никто его не двигал. Я сходил за полицией, они обыскали его и нашли ваш номер телефона, вот и все. Дайте-ка я обойду автобус и открою дверь.
Он обогнул автобус слева, подошел к водительскому окну, сунул руку внутрь – и дверь со вздохом открылась.
Мы нашли старика там, где он сидел и где умер, глядя на мир в последний раз. Мы поднялись по узким прорезиненным ступенькам и увидели перламутрово-серую шляпу у него на коленях и кружок топорщившихся седых волос на голове, упертый в хромированный поручень, отделявший заднюю часть автобуса от передних рядов. На поручне висела белая вывеска с надписью черным жирным шрифтом, которая, если бы он был жив и просто отдыхал, торчала бы прямо перед его глазами.
Это точно был Джон, но и тут никто не заплакал. Мы занялись оформлением бумаг на увоз тела и вызвали гробовщика из Нортсайда, негра, знавшего Джона. Когда он приехал, миссус Калибан сказала ему:
– Я хочу, чтобы вы им занялись. Вы сможете придать ему такой вид, чтобы он был похож на себя, живого, и не станете его набивать ватой.
После чего мы отправились обратно в Саттон.
В тот вечер я пришел на кухню и стал наблюдать, как миссус Калибан готовит ужин. Тут до меня, наконец, дошло, что Джона больше нет, и он больше не вернется, а понял я это, потому что не услышал, как он тихо напевает в саду под моим окном, как это было на протяжении почти всей моей жизни. И я вспомнил те давние времена, когда я был совсем маленьким, даже меньше Такера (он перестал расти в четырнадцать лет, и я за год вымахал выше него), и Джон брал нас обоих к себе на колени – и каждый восседал на его тощей ноге, пел нам песенки и смеялся. Теперь я помнил только его песни и смех.
И, сидя на кухне, я вдруг расплакался, стыдясь себя, потому что я же был уже взрослый – или так мне казалось, и миссус Калибан повернулась от плиты и ласково попыталась меня утешить, но ей это не удалось, и тогда она села напротив и взяла мои руки, и мы тихо поплакали вместе.
Похороны состоялись в Нортсайде через два дня. Гроб поставили в новой церкви, где службы начались еще до того, как ее успели достроить, и внутренние стены были еще не оштукатурены, и бетонные блоки просто выкрасили серой краской. Небольшая плакетка перед входом извещала, что крест для церкви был принесен в дар некоей женщиной в память о ее усопшей сестре. Крест был небесно-голубого цвета с бронзовыми краями.
Пришло очень мало народу. Я впервые поймал себя на мысли, что семья Калибанов не пользовалась слишком большой популярностью среди своих. И что их преданность нашей семье и наша любовь к ним отдалила их от остальных негров, и не так уж много людей решились бы назвать себя их друзьями. Мы с мамой пошли на службу, а отец и сестра – нет. Я сомневаюсь, что Димфна хотела бы вообще пойти на чьи-либо похороны, а отец там был бы не в своей тарелке. Бетра, Такер и миссус Калибан сидели в первом ряду, ближе всех к гробу.
Служба была тихая и простая. Наконец настала пора какому-нибудь другу покойного встать и сказать пару слов. Вышел высокий негр с куполообразной лысиной, с мощных лицевых костей складками свисала рябая кожа. Он повернулся лицом к присутствующим и заговорил:
– Дорогие друзья, мы пришли сегодня сюда отдать последнюю дань уважения нашему близкому другу Джону Калибану. Факты любой биографии не так уж и важны, но представляется, что о них все же надо сказать. Итак. Чем жил Джон? Ну, у него никогда не было своего бизнеса, он всю свою жизнь проработал на одну семью, и насколько я знаю, судя по тому, как он о них отзывался, он их любил и никогда не считал то, что он делал для них, своей работой, он бы в любом случае этим занимался, даже если бы они ему за это не платили. Я знаю, он хотел, чтобы я об этом сказал, потому что он ушел так внезапно, что у него просто не было времени сказать об этом самому.
Кое-кто обернулся посмотреть на нас, и мне стало неловко. Меня бросило в жар, потом в озноб.
– Вот и все. Мы не можем стоять тут и перечислять все его великие свершения, потому что никаких великих свершений у него не было. Но он всегда делал добрые вещи. И мы все будем помнить Джона, потому что он всегда входил в нашу жизнь с улыбкой и радостью, и всем нам становилось хорошо, когда мы его видели. Он был простой и никогда не совершал никаких великих дел. Он просто был рядом и доставлял всем радость. Может быть, стоит сказать о нем одну вещь, и думаю, ему бы хотелось, чтобы о нем это сказали. Никто не управлялся с лошадьми лучше, чем он. Но не только это его отличало. Полагаю, лучше всего оценку человеку можно дать простыми словами. Джон Калибан был всегда готов пожертвовать собой, чтобы помочь другим. Это был хороший человек и хороший работник во всех отношениях, человек доброй души.
Негр сделал паузу, и кто-то в первых рядах встал. Как я подумал, чтобы поддержать эту эмоциональную речь финальным «Аминь». И тут я услыхал, как тонкий мужской голос недоверчиво произнес:
– Пожертвовать? И все? И это все? Да к черту такие жертвы!
Я не сразу понял, в какой части церкви находился говоривший, пока не заметил щуплую фигурку в черном, с коротко стриженными волосами на большой голове, и очки в стальной оправе, и руку, вскинутую и с презрением опущенную, словно эта рука хотела стереть только что сказанные слова, и я понял, что это Такер.
В церкви все замолчали, а он стал протискиваться по проходу. Бетра тоже встала.
– Такер?
Он добрался до прохода и зашагал к выходу, стиснув губы, глядя сквозь очки тяжелым злым взглядом. Бетра извинилась и с растерянным лицом поспешила за ним, чуть отклонившись назад под тяжестью еще не рожденного ребенка. Когда они вышли за дверь, присутствующие зашушукались, но через пару секунд ропот стих.
Негр все-таки закончил свою речь, скомкав ее, потому что инцидент нарушил его собранность и самообладание. Все потянулись к выходу, расселись по машинам и приготовились ехать на кладбище. Глядя через лобовое стекло машины, в которую сели мы с мамой, я видел Бетру и Такера, которые ехали перед нами. Они не разговаривали всю дорогу.
Джона привезли на кладбище и похоронили, и, когда его стали опускать в яму, каждый из нас бросил на его гроб розу, привязанную проволочкой к зеленой палочке. Гробовщик произнес короткую прочувствованную речь, в которой не было ни слова правды, и мы поехали домой в Саттон.
Дома я не сказал Такеру, какое впечатление на меня произвела его выходка, но вечером увидел его. Он сидел на старом ящике в гараже, где они с дедушкой провели так много времени вместе. Я вошел и сказал, как мне жаль, что Джон умер. Он даже не взглянул на меня. Его глаза напоминали маленькие раскаленные камешки. В конце концов, он выдавил:
– Мне тоже жаль.
Я повернулся, чтобы уйти, и услышал его бурчание:
– С меня хватит. Это всему конец.
– Что ты говоришь, Такер?
– Ничего, Дьюи. Просто мысли вслух.
А через два месяца он купил ферму, кусок земли в юго-западном углу бывшей плантации Дьюитта Уилсона, на которой предки Такера трудились сначала рабами, а потом наемными рабочими, пока мой дед Деметриус не раздробил плантацию на небольшие наделы для продажи издольщикам, потом купил дом в фешенебельном квартале Свеллз и перевез туда Уилсонов и Калибанов. Я до сих пор, убей, не пойму, как он уговорил моего отца продать ему ту ферму.
Тот случай я вспомнил сразу после того, как мальчишки убежали. Но это не казалось мне достаточно серьезным поводом для сумасбродного поступка Такера. Ну, умер старик, которого я очень любил, и последнее, что он увидел перед смертью, это плашку в автобусе с надписью «ДЛЯ ЦВЕТНЫХ», как было принято в сегрегированном обществе, но я в этом усмотрел грустную иронию, не более того. И я решил, что должно быть еще кое-что, но прежде чем я смог придумать, что это могло бы быть, я услыхал урчание мотора вдалеке, а потом из-за холма показался и сам автомобиль – новенький дорогой лимузин, за рулем которого сидел светлокожий негр, причем сидел смирно, в форменной тужурке, словно кадет Вест-Пойнта. Поравнявшись со мной, лимузин притормозил, свернул к обочине, и через зеленое стекло я разглядел на заднем сиденье элегантно одетого негра. Шофер выскочил из автомобиля, подбежал к задней дверце, распахнул ее, и негр с золотым крестом на золотой цепи, заткнутой в жилетный кармашек, вышел. На его носу сверкали очки с синими линзами.
– Храни вас Господь… Вы же мистер Уилсон? Я так и подумал, что вы можете сюда прийти. – На нем был дорогой темно-серый костюм и начищенные до блеска черные туфли. Он улыбался. – Добро пожаловать, мистер Уилсон. – Он говорил почти с британским прононсом, и я сразу распознал в его голосе и интонациях человека высокой культуры.
Он полез в нагрудный карман, достал мундштук и пачку турецких сигарет.
– Вы курите, мистер Уилсон? Если нет, не будете ли вы возражать, если я позволю себе предаться этому безобидному пороку?
– Нет, но… курите, – пробормотал я, запинаясь.
Шофер дал ему прикурить, и негр глубоко затянулся.
– Вернись в машину, Клемент, – обратился он к шоферу. – Я уверен, мистер Уилсон будет настолько добр, что станет моим гидом.
Я не мог выговорить ни слова. Он засмеялся.
– Спокойно, мистер Уилсон. Возьмите себя в руки!
– Вы кто? – выдавил я. – Кто вы такой? – продолжал я сдавленным фальцетом. – Откуда вы меня знаете?
Он ответил без запинки:
– Я привык знакомиться с личными делами молодых людей, у которых, по моим ощущениям, многообещающее будущее. Моя старая привычка. Что до моей личности, то можете звать меня Дядя Том. – Он рассмеялся. – По крайней мере, в определенных кругах это старое и уважаемое имя. Но я вижу, оно вам неприятно. Тогда, полагаю, вам больше понравится Брэдшоу. Преподобный Беннет Т. Брэдшоу. Но позвольте, мистер Уилсон, насколько я понимаю, вы же довольно хорошо знаете, или, точнее сказать, знали Такера Калибана. Я был бы вам безмерно благодарен, если бы вы прояснили некоторые черты его крайне неординарной личности.
– А что вам о нем известно? – Все это было в высшей степени странно.
– Я бы не осмелился дать вам ответ с абсолютной уверенностью. Понимаете ли, я не большой специалист в области южного менталитета, идет ли речь о черных или белых южанах. Не стану скрывать, мы на Севере переживаем такие же расовые трения, но не в столь открытой, примитивной, живительно варварской форме, как здесь. Вот почему я и задал вам вопрос. Вы можете послужить мне, так сказать, истолкователем ситуации, принимая во внимание, что небольшая часть вашего образования получена на Севере, хотя в то же время вы являетесь уроженцем этих мест. Возможно, мой вопрос прозвучал слишком общо. Вам не кажется, что вы находитесь на пороге неких значительных событий? – Он бурно зажестикулировал. – Не происходит ли тут нечто, что настраивает вас на эпический лад, что напоминает сюжеты, описанные в Библии или «Илиаде»?
Я кивнул. Но мне не понравилось ощущение уязвимости, которое он во мне пробудил: слишком уж много он про меня знал.
– Раз уж я, как представляется, не могу получить от вас внятный ответ, может быть, нам стоит совершить экскурсию по ферме? Возможно, это пробудит в вас то красноречие, коим так славится ваш колледж! – И мы обошли ферму, задержавшись у горы обломков, оставшихся от часов Дьюитта Уилсона, а потом у пепелища, где раньше стоял фермерский дом. После этого мы вернулись к лимузину.
– И что вы теперь об этом думаете, мистер Уилсон?
Я чувствовал себя дураком.
– Мистер Уилсон, вы меня разочаровываете, – с упреком произнес он. – Вы же были сегодня на вокзале? Что вы видели?
Я ничего не мог вспомнить про вокзал, кроме того, что мои родители держались за руки. Поэтому промолчал.
Он нахмурился. Вероятно, я его и впрямь разочаровал.
– Негры, мистер Уилсон. Негры! Цветные. Черномазые. Чернозадые. Черняшки. Негритосы. Ниггеры. Негры. На муниципальном вокзале никогда за всю историю штата, я бы сказал, не было столько черных, как в тот день, и, осмелюсь предположить, уже никогда не будет.
Но я ничего такого не помнил.
– И что?
Он ткнул пальцем себе под ноги.
– Вот где это началось, мистер Уилсон. Ваш друг Такер Калибан запустил этот процесс. Так что отдайте ему должное. Что же до меня, то я вынужден признать свою ошибку. Я никогда не мог представить, что подобное движение вспыхнет изнутри, что оно начнется на низовом народном уровне, в результате, можно сказать, спонтанной вспышки.
Хотите верьте, хотите нет, я не понимал ни слова.
– Какое еще движение?
– Все негры, мистер Уилсон, снимаются с места и уезжают.
Я ничего не сказал, но, верно, вид у меня был такой, словно я ему не поверил.
– Ладно, поехали со мной. Давайте войдем туда и поглядим. – И он распахнул передо мной дверцу лимузина.
Мне не слишком хотелось ехать с ним куда-либо, но, с другой стороны, я знал, что поеду.
– А как насчет моего велосипеда? – задал я дурацкий вопрос.
– Мы можем положить его в багажник.
Багажник был такой просторный, что в нем мог поместиться не только мой велосипед, но и еще один такой же. С помощью шофера я закрепил его там веревкой, чтобы он не подпрыгивал и не поцарапал кожаную обивку. Потом уселся рядом с преподобным Брэдшоу, и мы поехали в Нью-Марсель.
– А почему вы мне ничего не рассказали о привычке Такера плевать на окружающих? – Он устроился поудобнее и повернулся ко мне вполоборота.
– Например? – Я обдумал все, что сам знал про Такера, и счел, что он поможет мне разобраться.
– Да возьмем любой пример. Его странные выходки в семье, можно сказать, дерзкое выражение лица, решительная походка. Все что угодно!
– Он написал мне письмо. Я ничего в нем не понял. – С этими словами я достал из кармана письмо и прочитал его, потом рассказал ему все, что помнил про свой десятый день рождения. А потом, наверное, зная, что у меня есть слух и ум, который позволит мне слышать и думать, я не остановился на воспоминаниях, но продолжал размышлять вслух: – Понимаете, вот он пишет: «Но ты бы и так научился, потому что ты этого сам очень хотел». Но я не уверен, что научился бы, я не знаю, научился бы я, если бы он меня не научил, но, может быть, он имел в виду, что я могу добиться чего угодно, если поставлю перед собой такую задачу. Ну и что тут такого особенного, а? Такое все говорят. Это же слишком просто!
Он, казалось, необычайно возбудился:
– Нет, не думаю. Вы забываете, с кем имеете дело, мистер Уилсон. Мы же говорим не об утонченном интеллектуале, вдохновленном чтением Платона, мы говорим о невежественном негре с Юга. Мы говорим не о новомодных и сложных идеях – об уникальных прозрениях мысли, которые посещают гениев. Мы говорим о старых, как мир, идеях, об очень простых и фундаментальных истинах, которые мы, возможно, игнорировали или никогда не пытались постичь. Но Такер Калибан не мог их игнорировать: он их открыл сам. Мне нравится ваш анализ, мистер Уилсон. А что еще вы можете вспомнить? Я уже вижу его, гневающегося на невысказанные и бесчисленные обиды и унижения, и этот гнев накапливался в его душе, и кровь отмщения бурлила в его жилах.
– Неправда. Вы не правы. В Такере не было ни капли гнева. Он все принимал как должное, словно заранее знал, что это произойдет и у него нет способа этому воспрепятствовать.
– Возможно, и так. Ну, продолжайте.
Я снова вспомнил о прошлом лете, пытаясь вычленить из памяти самые важные вещи. Некоторое время я молчал, собираясь с мыслями. Мы уже ехали по Саттону, мимо веранды мистера Томасона, которая, наверное, из-за позднего часа была пуста, а может быть, она была пуста по причине того самого движения, о котором говорил преподобный Брэдшоу.
– Ну что-то наконец заставило этих бездельников разойтись.
– А почему бы и нет? Такер Калибан заставил нас с вами носиться по полям и городу в поисках того, что завело его механизм. – Он покачал головой. – Это же просто замечательно, просто чудо какое-то!
Мы перевалили через Истерн-Ридж, и в оранжевых предвечерних сумерках, далеко за холмами и за рекой, увидели город, который издалека казался совершенно обычным – счастливым и беззаботным, как всегда.
Теперь я распределил все события прошлого лета и напоследок рассказал о том, какое удивление у меня вызвало согласие отца продать Такеру земельный участок и ферму.
Преподобный Брэдшоу слегка улыбнулся своим мыслям:
– Люди иногда совершают странные поступки, мистер Уилсон, особенно те, кто принадлежит к нашему – вашего отца и моему – поколению. Не забывайте, мы росли в эпоху, когда люди придерживались по-настоящему идеалистических взглядов, когда неприятие существующего общественного порядка заставляло нас ломать прочные устои нашей жизни, ломать принципы, которые завещали нам наши предки, наши родители.
Я рассмеялся:
– Мой отец? Мой отец… Если бы вы его знали, вы бы так не говорили.
– Я знаю его! – отрезал тот.
Я удивленно повернулся к нему:
– Вы его знаете?
На сей раз он улыбнулся, прямо глядя на меня:
– Вам нет причины беспокоиться, мистер Уилсон. Я знаю его так, как знаю их всех. Всех мальчишек, сегодня ставших мужчинами, всех нас, выросших в эпоху Великой депрессии, приобретших первый жизненный опыт в годы Гражданской войны в Испании, флиртовавших с идеей коммунизма. Коекто из нас даже связал свою судьбу с этой капризной дамой. Кто-то на ней женился, а потом развелся и навсегда утратил способность влюбляться. – Его глаза потускнели, затуманились, мысленно он улетел куда-то далеко, словно он не только вспоминал, но и въяве видел и ощущал те давние дни.
– Но только не мой отец! – воскликнул я, оторвав его от воспоминаний.
Он посмотрел на меня:
– Люди, я продолжаю утверждать, совершают странные поступки, особенно если они вскормлены в странное время.
– Но только не мой отец, – повторил я спокойнее, а потом опять рассмеялся, потому что мои слова прозвучали словно эхо.
Преподобный Брэдшоу не засмеялся:
– Став старше, вы узнаете массу странных вещей о своем отце. – Тут он улыбнулся, но теперь его улыбка показалась мне злобным оскалом.
Мы приближались к Нью-Марселю, проезжая мимо пустых, темнеющих полей, уже покрывшихся рядами зеленых проростков кукурузы и хлопка, и скоро въехали по мосту в Нортсайд. На улицах валялись обрывки брошенного быта: изношенная одежда, матрасы, сломанные игрушки, рамы от картин, обломки мебели, всего того, что негры не смогли унести на спине или набить в чемоданы. Нам попадалось немного людей, мы заметили бродяг, которые волокли бумажные свертки, перевязанные шпагатом или бельевыми веревками. Старик с белой косматой бородой ковылял, опираясь на клюку, вероятно, к вокзалу. На нем было мексиканское сомбреро. По краю проезжей части торопливо передвигалась одинокая женщина в кресле-каталке, держа на коленях небольшой чемоданчик. Кожа у нее была не темная, а какого-то землистого цвета, и она так выглядела, словно годами не выходила на солнечный свет.
Мы направились к вокзалу, но за три квартала поняли, что не сможем двигаться дальше, потому что дорогу перегородили полицейские штата в ковбойских шляпах и серо-синих сапогах и нью-марсельские полицейские в голубой униформе. А за блокпостом роились толпы негров всех разновидностей: светлокожие и эбеновые, высокие и низкорослые, тощие и упитанные – их были тысячи. Кое-кто пел церковные гимны и спиричуэлз, но в основном все вели себя тихо, мелкими шажками перемещаясь вперед, с задумчивыми или торжествующими лицам, зная, что их поток не остановить. Так они двигались вперед, глядя на здание вокзала или устремив взгляд вверх, на макушку белого каменного купола.
Брэдшоу нагнулся к микрофону, укрепленному слева от него:
– Клемент, мы тут выйдем! Подожди нас здесь.
– Да, сэр! – донесся из громкоговорителя металлический голос Клемента. – Я сдам назад и припаркуюсь, сэр.
– Пойдемте, мистер Уилсон, и с Божьей помощью мы получим ответы на некоторые вопросы.
Я кивнул. Мы вышли из лимузина, обогнули блокпост и тут же очутились в водовороте толпы. Нас отнесло к семье из семи человек – двое взрослых и пять детишек мал мала меньше, от десятилетнего мальчугана до грудного младенца на руках у матери. Отец уже приготовил деньги на билеты, зажав в кулаке несколько купюр. Это был очень рослый мужчина, худощавый, но жилистый, черный, как побитый непогодой телеграфный столб. У него были прямые волосы. Его жена была ростом с меня, темно-коричневая. За ними гуськом плелись дети – широко раскрыв глаза, сонные, они брели точно зомби.
– Элвуд, я устала, устала! – Девчушка лет трех обратилась к своему брату. Он был чуть старше ее.
– Мама говорит, скоро придем. Не ной!
– Но я устала.
Преподобный Брэдшоу протянул руку и тронул отца за локоть.
– Храни тебя Господь, брат. Я – преподобный Беннет Брэдшоу из ордена Черных иезуитов. Можно задать тебе пару вопросов?
Его слова удивили меня: значит, ему это тоже все было интересно.
– Элвуд, я устала!
– А ну-ка помолчи, Люсиль! А не то получишь затрещину! – Отец посмотрел на преподобного. – Да, задавайте!
– Элвуд, я устала!
Отец обратился к жене.
– Женщина, ты можешь закрыть рот этому ребенку? А вы задавайте, преподобный… Как, вы сказали, вас зовут?
– Брэдшоу. Я просто хотел узнать, куда вы направляетесь.
– Вообще-то мы едем в Бостон. У нас там знакомые живут в Роксбери.
– А по мне, так это безумие – вот так сорваться со всеми вещами и ехать на Север. И что мы там будем делать? – Жена обратилась одновременно к преподобному Брэдшоу и к мужу.
– Замолчи! Я же говорил: мы едем, потому что так будет правильно! Надо уезжать! – Муж грозно поглядел на жену.
– Именно это я бы и хотела понять! И почему ты считаешь, что это правильно и что надо уезжать? С чего тебе такое взбрело в голову?
Пока мужчина обдумывал ответ, мы продолжали медленно двигаться вперед. Я замечал группки белых по краям толпы чернокожих, они стояли, сунув руки в карманы. Они не были похожи на горожан: скорее всего приехали сюда из небольших сельских поселков. Вид у них был оторопелый, думаю, они понимали, что не силах остановить этот поток негров. А может быть, они даже боялись, что если предпримут что-то, то эта их попытка вызовет только яростный отпор молчаливой толпы, медленно текущей по улице.
Наконец наш собеседник заговорил:
– Ну, верно, я и сам не знаю, откуда у меня такие мысли взялись. Вчера я вот возвращаюсь с работы – я работаю уборщиком на городском рынке – и встречаю двоюродного брата. «Как жизнь, Хилтон?» – спрашиваю. А он мне: «Нормалек. Ты когда отчаливаешь?» – «Куда, брат?», – спрашиваю. «Как, ты ничего не слыхал?», – говорит он мне. – «Нет. А что?» – говорю. «Мужик, ты разве не в курсе, что происходит? – спрашивает он. – Мы, черные, уезжаем отсюда. Все! По всему штату люди собирают вещички и уезжают!» Знаете, я решил, что он меня разыгрывает. И я поглядел на него, поглядел, но вижу, он не шутит совсем, он серьезен, как голый, сидящий на горе бритвенных лезвий, и я ему говорю: «Слушай, Хилтон, а что вообще происходит?»
«Ну, говорит, все началось в четверг или в среду, я толком не знаю, но похоже, что все черные из Саттона вбили себе в голову, что больше они не могут все это терпеть. И что всякая борьба за права бесполезна, потому что ничего тут для нас не улучшается. Даже у цветных в Миссисипи жизнь получше, чем у нас, хотя бы отчасти. Похоже, что, если бы в свое время, во время Войны между Севером и Югом, этому штату надрали задницу, нам бы, цветным, жилось тут куда лучше. А этот штат был единственный в Конфедерации, где янки не одержали верх». Вот что, по словам Хилтона, сказал ему тот цветной парень из Саттона. И он мне говорит, ну, то есть Хилтон говорит, что тот цветной парень из Саттона, который рассказал неграм про историю штата и про все дела, еще сказал, что для цветных самое лучшее – просто уехать, забыть про все, что мы знали, чем жили, и начать жизнь заново.
Преподобный Брэдшоу повернулся ко мне:
– Так рождаются легенды, мистер Уилсон.
Я понял, что он имел в виду.
– В общем, поговорили мы с Хилтоном, я бегу домой, говорю жене: «Пакуй вещи, завтра мы уезжаем, то есть сегодня, и чтоб без глупостей!». – Он повернулся к жене, совершенно забыв про нас. – Понимаешь, детка? Нам надо ехать! Это единственный выход, потому что…
– Мы видели довольно, мистер Уилсон. – Преподобный Брэдшоу взял меня под руку, и мы прорезали по диагонали толпу и вышли на тротуар. И зашагали обратно к машине мимо группки белых. Я слышал, как они шептались обо мне.
– Да он мулат, этот блондин. А с чего ему идти с ниггером? Он не белый, этот светлый, наверняка он тоже ниггер. Но он мог бы меня обдурить!
Я покраснел, но потом почему-то, сам не знаю, почему, ощутил прилив гордости за себя.
Когда мы дошли до блокпоста, сквозь который тек поток негров, преподобный Брэдшоу сказал:
– Ну вот, мистер Уилсон, в это трудно поверить, но это правда! – Он шел и качал головой. – Я бы никогда в жизни…
Но не закончил фразу. Мы поравнялись с лимузином, сели в него, и преподобный Брэдшоу проговорил в микрофон:
– Клемент, мы едем обратно в Саттон.
Шофер завел мотор, медленно тронулся с места и, свернув в переулок, поехал осторожно мимо мусорных баков и гор мусора, пока впереди между домов не показалось темнеющее небо. Мы петляли по переулкам и улочкам в северном направлении, здесь запрудившие улицы толпы поредели, и вот мы уже были в Нортсайде и вскоре свернули на шоссе к черному мосту через реку.
Мы ехали мимо уже знакомых мне узких, в два окна, зданий с покрытыми дранкой крышами и плоскими фасадами, мелькавшими в лучах автомобильных фар, и я откинулся на спинку в благодушном настроении.
– Преподобный Брэдшоу, вам не кажется, что это все просто удивительно? Кто бы мог подумать! Такер Калибан! Который в детстве научил меня кататься на велосипеде. Ух ты! Могу себе представить лицо сестры. Когда Бетра сообщила нам, что выходит замуж за Такера, сестра не могла взять в толк, как такое может быть, она считала, что Бетра слишком хороша для него! Но какая неожиданность! – Улыбнувшись и мотнув головой, я поглядел на преподобного Брэдшоу и, к своему удивлению, увидел, что тот сидит с мрачным печальным лицом, уронив голову на грудь. – Вы так не думаете?
– Да, мистер Уилсон, это и впрямь неожиданность. И притом чудесная! – Но сам он явно считал иначе. – Вы еще недостаточно долго прожили, мистер Уилсон, чтобы бросить свою жизнь в жернова риска ради идеи, а потом увидеть, как кто-то другой преуспел там, где вы потерпели поражение.
– А какая разница в том, кто это сделал? Главное – поступок. Это могло бы произойти в любом случае. Никакой не было необходимости в том, чтобы Такер им подал пример. Они сами могли в один прекрасный день собраться и уехать отсюда. Тогда какая разница?
Лимузин поднимался к ущелью Хармона.
– Я вам скажу, какая разница. – Брэдшоу медленно подался вперед. Выглядел он очень уставшим. А когда заговорил, меня удивили печаль и негодование, сквозившие в его голосе: – Вы восхищаетесь Такерами, которым не нужны ни вы, ни лидеры. А вы никогда не задумывались, что такой человек, как я, так называемый религиозный лидер, нуждается в Такерах для оправдания собственного существования? Очень быстро настанет день, мистер Уилсон, когда люди осознают, что у них нет нужды во мне и в людях вроде меня. Возможно, для меня такой день уже настал. И ваши Такеры встанут и скажут: я могу сделать все, что пожелаю, мне не нужен никто, кто бы дал мне свободу, потому что я сам могу ее взять. Мне не нужен мистер Вождь, мистер Начальник, мистер Президент, мистер Священник, мистер Проповедник или преподобный Брэдшоу. Мне никто не нужен. Я могу сам делать все, что хочу, и все, что надо мне.
Я все еще находился под впечатлением его горьких слов и не мог сразу понять, что мне его не переубедить:
– Но разве не этого вы, негритянские лидеры, всегда хотели, не этого старались добиться? Это же ваш народ, и он пытается обрести свободу!
– Да! Но они заставили меня ощутить свою ненужность, увидеть, что я – отживший вид. Вам бы понравилось проснуться в одно утро и понять, что вы – отживший вид? Это осознание не слишком радует или возвышает душу, мистер Уилсон. Совсем не радует!
Я молча посмотрел на него: его взгляд казался потухшим в отблеске лампочки под потолком, его кулаки сжались.
Потом я просто отвел глаза. Я стал смотреть в окно и заметил, что мы уже подъезжаем к Саттону. Фары лимузина уже освещали фасады магазинов на западной стороне шоссе. И потом я увидел желтую полосу на мостовой, которую отбрасывала освещенная витрина магазина Томасона.
И когда через несколько секунд я снова повернулся к преподобному Брэдшоу, он выглядел еще печальнее, а отрешенный взгляд его потускневших глаз был устремлен в пустоту.
Камилла Уилсон
Вчера вечером все было почти как двадцать лет назад. Конечно, мы не испытали душевной открытости, как раньше, но, во всяком случае, мы разговаривали, чего не делали уже давно. А сегодня, идя по платформе к поезду Дьюи, я почувствовала, как он тронул меня за плечо, а потом его пальцы скользнули по моему локтю, и он взял меня за руку. Он снова стал тем Дэвидом, которого я так любила, непомолодевшим, конечно, – нам уж не вернуть потраченные впустую годы, – но тем Дэвидом, за которого я вышла замуж в двадцать лет и каким он должен был бы стать в своем нынешнем возрасте. И я даже испытала к нему почти такое же чувство, как тогда, когда мы только-только поженились, и мне все время хотелось поскорее оказаться с ним в постели. Если я была возле него, я его обнимала, прижималась к нему или слегка терлась о него своими сосками. И прижималась тесно-тесно, пока не удостоверялась, что он их чувствует сквозь одежду. А потом я его отпускала как ни в чем не бывало, прикидываясь дурочкой, не понимающей, что она делает. Наверное, я вела себя глупо, но я так его любила, и мне всегда было его мало.
Иногда среди дня я набиралась наглости и писала ему записку:
Дорогой Дэвид!
У тебя есть всего десять минут, чтобы закончить дела. Потому что я иду за тобой.
Целую, Камилла
Я входила к нему в кабинет, где он читал газету или что-то писал, и говорила:
– Тебе записка.
– Да? – удивлялся он.
– Да, сэр. И должна сказать, она очень мила! – После чего я разворачивалась и уходила и слышала, как он смеется и кричит мне вслед:
– Ну что мне с тобой делать?
А я ему:
– Ты сам знаешь ответ. Приходи через десять минут!
Я уменьшала огонь под сковородкой, чтобы ничего не пригорело, накрывала на стол. а потом убегала в спальню, быстро раздевалась, наносила парфюм на все тело, ну и так далее. К этому моменту как раз истекали десять минут, он входил, расстегивая на ходу рубашку, и спрашивал:
– Ну и где эта девчонка, что послала мне записку?
А я уже лежала в постели, натянув одеяло до подбородка, и отвечала тонким детским голоском:
– Она здесь, Дэвид!
Он подходил, присаживался на край кровати и так нежно на меня смотрел, что у меня слезы иногда наворачивались на глаза. Я плакала, как самая настоящая маленькая девочка. Он был со мной невероятно нежен, поднимал, обнимал и целовал так нежно, что мне казалось, я вот-вот растаю – какой же он был милый! И он говорил: «Я люблю тебя, Камилла!»
– О боже, Дэвид, – шептала я, – как же я тебя люблю! – И потом он раздевался, и мы часами занимались любовью.
Это было волшебно – но не только наши занятия любовью, нет-нет, вы не подумайте! И дело не в том, что мы только-только поженились. Иногда мы вели себя, как семейная пара с пятнадцатилетним стажем. Мне кажется, это было оттого, что мы друг друга очень хорошо понимали, по крайней мере, Дэвид меня понимал, а я ему доверяла, поэтому мне не было особой нужды его понимать.
Словом, вот какие у нас были отношения после свадьбы. Мы тогда жили в Нью-Марселе, и Дэвид работал в «А – Т», то есть в газете «Нью-Марсель ивнинг алманак-телеграф».
Я познакомилась с ним на вечеринке в Нортсайде. Мой отец отправил меня учиться в школу в Атланте, где, как считалось, из меня должны были воспитать истинную леди и где, как подразумевалось, мне предстояло встретить милого молодого джентльмена из добропорядочной южной семьи. Но мне удалось как-то пережить испытания школой и вернуться в Нью-Марсель без мужа.
Вернувшись домой, я узнала, что кое-кто из моих подруг попал в богемный кружок и занялся искусством, музейным делом или писательством или увлекся идеями марксизма. И как-то меня пригласили на их сборище, а я страшно хотела пойти, потому что после ссылки в Атланту для меня это было как глоток свежего воздуха. Там-то я и встретила Дэвида.
Мы начали встречаться, часто, но только это было не то, что мама называла бы ухаживанием, потому что у нас, по сути, не было свиданий. Я просто составляла Дэвиду компанию, когда у него была деловая встреча. Но мне было все равно, куда идти, лишь бы быть рядом с ним.
Случалось так, что накануне оговоренной встречи он вдруг звонил и говорил:
– Камилла, сегодня я не смогу за тобой заехать… Мы не можем встретиться сегодня… Сегодня не получится… Мне нужно кое-что закончить…
Конечно, мне было любопытно, чем он таким особенным занят и почему разговаривает со мной так сухо. Я знала, что он меня любит, и не сомневалась, что не обманываюсь на его счет. И он знал, что я его люблю. Но все равно бывали случаи, когда он по телефону разговаривал со мной таким странным тоном – отрывисто, уклончиво и очень быстро сворачивал беседу. Он даже не позволял приходить к нему и сидеть рядышком.
Можете догадаться, о чем я только не думала: ах, у него другая девушка! Я грустила и убеждала себя, хотя и не особенно в это верила, что он просто играет со мной. Но у меня возникла мысль, что тут дело явно в чем-то еще. Все начало немного проясняться, когда я познакомилась с его отцом.
Как-то в воскресенье он заехал за мной, и мы отправились на север – в Саттон. Он в то утро был неразговорчив, все время о чем-то напряженно размышлял. Когда мы оказались на центральной площади Саттона, вместо того чтобы ехать прямо, он свернул налево, и я, не успев даже заволноваться, уже стояла перед его отцом Деметриусом – худощавым суровым мужчиной с седой головой. Дэвид пошел за напитками, а мистер Уилсон долго смотрел на меня и потом произнес:
– Вы его любите, не правда ли?
– Да, сэр.
– И он вас любит. Собирается вскоре на вас жениться. Вы хотите за него замуж?
– Да, мистер Уилсон, – говорю.
– Я рад. Но вы должны отдавать себе отчет в том, во что вы ввязываетесь. Вы не сможете от него уйти. Настанет день, и он будет нуждаться в вас – вы себе даже не можете представить, насколько. Он откусил больше, чем способен прожевать. Но он не в курсе, что мне об этом известно. Но мне известно.
Тут вернулся Дэвид, и мистер Уилсон умолк. Хотя не думаю, что он собирался что-то еще добавить.
Не уверена, что сказанное мистером Уилсоном хоть немного развеяло мои тревоги о тех вечерах, когда Дэвид вел себя так странно. Да и вряд ли чьи-либо слова тогда смогли бы изменить мое отношение к нему, потому что я очень его любила, и если бы кто-то сказал мне про него что-то плохое, я бы не поверила, а если бы кто-то сказал про него что-то хорошее, я бы согласилась: ну, конечно, он же такой чудесный!
Короче говоря, довольно скоро он сделал мне предложение. Я вышла за него, и мы были оченьочень счастливы. Мы жили в Нью-Марселе и ездили на вечеринки в Нортсайд, и я сопровождала Дэвида на деловых встречах. А когда мы возвращались к себе вечером, то занимались любовью, смеялись, и вообще нам было хорошо вместе. Но все-таки бывали вечера, когда он не хотел меня видеть и отправлял меня одну в кино. Такие вечера меня не беспокоили так, как до свадьбы, но даже если я и тревожилась, я ничего не говорила, потому что я ему доверяла и не хотела ему докучать. А иногда он сам мне говорил:
– Камилла, спасибо, что ты не задаешь вопросов о моих делах. Чем меньше ты знаешь, тем лучше.
Потом я забеременела Дьюи, Дэвида уволили – и тут все вскрылось.
Помимо работы в «А – Т» Дэвид пописывал статейки для каких-то коммунистических журнальчиков в Нью-Йорке. Он подписывался псевдонимом, но в «А – Т» об этом пронюхали и его вышибли, главным образом из-за того, что он занимал довольно радикальные позиции по расовым проблемам. Я не понимала всех тонкостей, но если он считал, что поступает правильно, мне было все равно, чем он занимается. Я пыталась ему внушить, что он прав и что, если ему хочется переехать в Нью-Йорк и получить постоянную работу в тех журналах, ладно, поедем в Нью-Йорк. Но когда я сообщила ему о будущем ребенке – уже было невозможно это скрывать от него, – он сказал: «Нет, мы не поедем в Нью-Йорк, потому что журналистская работа нестабильна, и мы там можем оказаться на мели». Он усиленно пытался найти работу, но не мог и запаниковал, а я ничего не могла с этим поделать. С каждым днем он менялся.
На его поведение, возможно, оказывали влияние письма, которые он получал с Севера. Я их никогда не читала, он никогда не говорил мне, что в них, но всякий раз, когда приходило новое, он становился все более отчужденным. Все письма приходили в самых обычных конвертах, и на них стояли штемпели нью-йоркских почтовых отделений. И я так к ним привыкла, что уже могла узнать машинку, на которой был напечатан адрес, – буква «и» у этой машинки была с дефектом. Всякий раз, когда нажимали на клавишу с этой буквой, на бумаге после нее автоматически оставался пробел, поэтому фамилия «Уилсон» выглядела на конверте как «Уи лсон». Я обычно вынимала почту из ящика и, когда, просматривая корреспонденцию, доходила до конверта, адресованного «М-ру Дэвиду Уи лсону», – заранее знала: это письмо еще больше расстроит Дэвида и сделает его еще более колючим. Дошло до того, что, когда я доставала письмо из ящика и видела, что адрес напечатан на этой проклятой машинке, я строила планы встретить однажды человека, печатавшего на этой машинке, и придушить его голыми руками. Конечно, это были только мечты, на самом деле ничего такого не случилось, и кто бы ни писал эти письма, на которые Дэвид весь вечер мучительно придумывал ответ, он так и не появился, я его никогда в жизни не видела. А когда письма перестали приходить, было уже слишком поздно. Они сделали свое черное дело.
Последнее письмо пришло как-то утром, уже после ухода Дэвида. Оно было длиннее всех предыдущих. Я это знала, потому что письмо было вложено не в обычный конверт, как все прошлые, а в крупный пакет бизнес-формата, и на вес было тяжелее. Но написал его тот же человек: я узнала машинку. Я отнесла его наверх, в нашу квартиру, и долго раздумывала, не вскрыть ли его. Но я не стала. Я просто сидела на кровати и взвешивала его на руке, ощущая его тяжесть и гадая, что в нем: может быть, оно куда хуже предыдущих, не зря оно такое тяжелое. А потом я пришла к выводу: если бы Дэвид хотел мне рассказать про эти письма, он бы рассказал, и если бы я могла ему помочь, я бы помогла, но даже если я не в силах ему помочь, я же все равно его люблю. Я положила письмо на комод и вышла из спальни.
Дэвид вернулся очень поздно. Я уже разделась и читала, лежа в кровати, когда он вошел и закрыл за собой дверь. Он мне улыбнулся, потом заметил письмо на комоде. Как и я утром, он сразу понял, от кого письмо. Он перевел на меня взгляд и долго-долго смотрел. Потом подошел к комоду, вскрыл конверт, аккуратно отклеив клапан, а не разорвав его сверху, присел на край кровати и стал читать. Мне показалось, что так прошел не один час. Я сидела и наблюдала за его лицом, пока он читал одну страницу за другой. Закончив читать, он уставился в пол, держа письмо между коленей. Потом согнул его пополам и вложил обратно в конверт.
– Ну, это последнее. Он обещал. Наверное, теперь я обрету покой.
На мгновение мне стало тепло и приятно от его слов, но не от его тона.
Я не спускала с него глаз, пока он молча раздевался. Я выключила свет, и мы долго лежали рядом, не дотрагиваясь друг до друга. Я знала, что он не спит, потому что он лежал на спине, а он не может спать на спине. Наконец он вздохнул, и я спросила, хотя он наверняка подумал бы, что я лезу не в свое дело:
– Дэвид, я могу для тебя что-то сделать? Хоть что-нибудь?
Он долго не отвечал, а потом опять вздохнул.
– Ты же мне очень доверяешь, да?
– Да, Дэвид.
– А с чего это ты мне доверяешь? – Он спросил не так, как если бы считал себя недостойным моего доверия, а как будто его интересовал конкретный обоснованный ответ. Он всегда просил меня облекать в слова мои чувства к нему. И мне это всегда давалось с трудом, хотя я и пыталась.
– Я не знаю, просто доверяю. Ты никогда не поступал со мной так, чтобы это меня обижало. Ты мне нравишься, и я люблю тебя и всегда испытывала к тебе доверие, которое, я знаю, ты бы никогда нарочно не подорвал.
– Но предположим, что я сделал нечто, чем причинил тебе боль? Предположим, я вышел утром из дома под предлогом поиска работы, а вечером ты бы прочитала в газете, что Дэвид Уилсон и некая замужняя женщина были застигнуты голыми в постели и застрелены мужем этой женщины. Предположим, в статье говорилось бы, что я встречался с этой женщиной два или три года? Ты бы и тогда испытывала ко мне доверие? Ты бы и тогда продолжала меня любить?
Он говорил все это, а у меня по спине полз мертвящий озноб. Но потом я поняла, что он просто приводит пример, что ничего подобного на самом деле не было, что ему просто нужно что-то для себя выяснить.
– Дэвид, не говори так!
– Почему? – Он резко сел. – Ты бы тогда не испытывала ко мне доверия, правда?
– Дело не в этом, Дэвид. – Я протянула к нему руку и положила на локоть. Он не отшатнулся. – Дело не в этом. Я бы хотела, чтобы ты был жив, несмотря ни на что. Но дело в том, что я бы не утратила доверия к тебе. Ты мог бы так поступить, но я бы не утратила доверия к тебе, потому что я не верю, что ты не заслуживаешь доверия. И если то, о чем ты говоришь, даже и было и этим ты бы сделал мне больно, я думаю, у тебя на то были бы причины. Возможно, я бы тебя возненавидела. Но я бы сказала себе: может быть, тебе пришлось так поступить из-за чего-то, чего я не знаю, или из-за того, что я не смогла тебе помочь, а может быть, даже из-за того, что в ней ты нашел нечто, чего не смог найти во мне. И я бы, наверное, считала, что ты в той ситуации поступил наилучшим образом.
На это он ничего не сказал.
– Ну, тогда предположим, что я сделал нечто подобное, а потом понял, что я совершил ошибку и ощутил чувство вины? И понял, что я предал тебя, а самое главное – самого себя? И кто заставит меня вновь обрести доверие к себе? – Он помолчал. – Ты? Разве ты можешь сказать что-то такое, что изменит мое отношение к самому себе?
– Не знаю, Дэвид. Я бы попыталась. Я бы смирилась с самим фактом, что ты так поступил, и попыталась бы убедить тебя смириться с этим. – Теперь я лучше могла его рассмотреть в полумраке: он сидел в кровати, чуть подавшись вперед, сжав кулаки.
– А что, если я не сделал чего-то, что должен был сделать? Предположим, я повел себя как трус, когда должен был проявить отвагу? Потому что, Камилла, я и есть трус. Я повел себя как трус, когда мог повести себя иначе. И это куда хуже, чем быть трусом в ситуации, когда это оправданно, когда ты ничего не можешь поделать!
Мне очень хотелось, чтобы он все мне выложил.
– В какой ситуации?
– Это сейчас уже неважно.
– Нет, важно!
– Не эта ситуация. Просто люди думали, что я во что-то сильно верил, а когда пришло время встать на защиту своих убеждений, я не встал. Я отступил.
Мне бы тогда подумать сначала, а потом уж говорить. Но сказанного не воротишь.
– А может, тебе просто не стоило в это верить? Может, с самого начала это не было правильно?
Он резко повернулся ко мне. Я его обидела.
– Но это было правильно! И сейчас правильно!
– Может быть, не для тебя? Может быть, как раз для тебя в этом и нет ничего правильного? – Не надо было мне настаивать.
– О, боже ты мой, да ты ничего не понимаешь! – Он упал на подушку и уставился в потолок.
– Я стараюсь, Дэвид. Я хочу понять. Мне жаль, что я не понимаю. О… – Но ничего я не хотела и постаралась прикусить язык. Мне стало стыдно за себя, и я почувствовала, что плачу. Совсем чуть-чуть, всего пара слезинок пробежала по щекам.
– Камилла? Камилла, перестань! Это не твоя вина. Ты вообще ни в чем не виновата. – Он протянул руку под одеялом и взял меня за локоть. Я повернулась к нему, а он меня обнял и поцеловал в веки.
– Дэвид, я бы хотела тебе помочь, я бы хотела сделать хоть что-то, но я не… я такая… глупая! – Он снова меня поцеловал, и я почувствовала, как наши тела возжелали друг друга, и я крепко-крепко прижала его к себе, а он запустил руку мне под подол ночной рубашки и стал ее медленно приподнимать. Потом перестал меня целовать, а я прижала его к себе посильнее, потому что если я что и умела хорошо делать, так это заниматься любовью, и я ощутила вдруг на своей щеке капельки, которые сначала приняла за свои слезы, но они оказались его. Он поспешно откатился от меня.
– Бесполезно. Я даже не чувствую себя человеком.
Это было в последний раз, когда у нас возник романтический настрой. После этого между нами все как-то разладилось, после этого мы переехали в Саттон, и Дэвид начал работать с отцом в семейном бизнесе. Его родня относилась к нам очень тепло, но я знала: Дэвиду там плохо, я это знала. Это было последнее, чем он хотел заниматься в жизни, потому что ему претила сама идея, что люди делают деньги на том, что им повезло владеть землей, которую другие люди, бедные, обрабатывают ради выживания. Ему претила идея собирать арендную плату с издольщиков и вообще весь образ жизни землевладельцев. И из-за того, что он чувствовал себя таким несчастным, у нас все меньше находилось тем для разговоров, и мы перестали ездить в Нью-Марсель на наши вечеринки в Нортсайде. Иногда я у него про них спрашивала, но он отвечал, что нам пора бы повзрослеть, что мы больше не можем заниматься этим ребячеством. Иногда мы занимались любовью, и я снова забеременела – Димфной, и Дэвид вроде бы этому очень обрадовался. Но, думаю, он был рад главным образом оттого, что ему больше не нужно было заниматься со мной любовью.
Когда мы переехали в Саттон, я впервые увидела Такера. Он тогда был совсем малыш, ему было года два, худой и очень темнокожий, со вздутым животиком и огромной головой. Он обычно сидел в своем манеже среди груды кубиков. Он строил из них высокие башни. Помню, однажды он сложил из них башню выше себя, и у него оставался еще один кубик. Он положил его на верхушку башни и сел, привалившись к прутьям манежа. И долго, насупившись, смотрел на свое творение. Потом подполз к башне и, замахнувшись кулаком, одним ударом уничтожил постройку. При этом он расцарапал руку, но не заплакал. Со стороны могло показаться – судя по его поступку, – что для него это была вовсе не игра.
Началась война, и Дэвида отправили в Калифорнию. Он даже не покидал территории Соединенных Штатов. Знаю, вам это покажется странным, но я жалела, что так вышло. Мне хотелось, чтобы он попал в гущу самой настоящей войны, потому что для него было бы лучше, если бы ему довелось стрелять из настоящей винтовки и совершить нечто, с его точки зрения, полезное. А он был офисным службистом в Сан-Диего. Это было все равно как каждый день ходить на работу, собирать арендную плату…
Я надеялась, что жизнь вдали от родного дома, от меня, от детей окажет на него положительное влияние, но, вернувшись, он стал еще хуже. Оставаясь в доме, он обычно весь день просиживал в своем кабинете.
Именно тогда меня стало одолевать чувство одиночества. Не только оттого, что меня начала мучить мысль, что мой брак как-то окоченевает. Думаю, я это поняла и смирилась. Все дело в жизни в Саттоне, где я себя чувствовала чужой. Тут мне не с кем было поговорить. Мне казалось, что, к кому бы я ни обращалась, оказывался для меня чужаком, очередным Уилсоном, а ведь я не принадлежала к клану Уилсонов. Мои дети были Уилсонами, и, кроме того, я старалась не посвящать их как можно дольше в семейную ситуацию. Но они довольно быстро узнали, как обстоит дело в реальности. Даже Калибаны и те были Уилсонами, потому как слишком долго прожили в этой семье. А я была чужой в доме, который, как считалось, был и моим домом.
И я сделала кое-что, чего стыдилась – до недавних пор.
В детстве Дьюи так любил Такера, что тот, по его настоянию, даже спал с ним в одной комнате. Мы поставили в его детской кроватку, и в ней Такер спал. А я им обоим рассказывала сказки перед сном.
И вот как-то после очень грустного для меня дня я их уложила и начала рассказывать сказку:
– Однажды жила-была принцесса, которая…
– Мам, а она была красивая? – спросил Дьюи. Он лежал на спине.
– Конечно, красивая. Все принцессы красивые! – Такер поглядел на него и недобро усмехнулся. Он сидел в своей кроватке.
– Ну, не знаю. Да это и не так важно. Однажды она познакомилась с очаровательным принцем на балу… для художников. Гостями бала были художники, рисовавшие картины. – Помню, я тогда воображала себя писательницей и использовала для своих сочинений автобиографические темы.
– Мам, а какие картины они рисовали?
– Ну, портреты, сельские пейзажи, такие картины.
В комнате было темно. В окне виднелась яркая луна, и я различала во тьме силуэт сидящего Такера. А Дьюи натянул одеяло под подбородок.
– Так вот, принцесса влюбилась в очаровательного принца, и скоро они поженились.
– Мам, это уже конец, так быстро? – Дьюи был разочарован.
– Нет, дорогой, дальше было еще кое-что. Эта история имеет продолжение после конца. – И тут я поняла, что делаю. Но остановиться уже не могла.
– Это как? – не понял Дьюи.
Такер шевельнулся, и лунный свет выхватил из тьмы стекла его очков.
– Дьюи, да ты послушай рассказ, и она тебе скажет, как.
– Но как же история может продолжаться после конца?
– Это история твоей мамы. Она может рассказывать, как ей хочется.
– А, – протянул Дьюи.
И я продолжала:
– Очень скоро они поженились, и принц отвез ее в самый прекрасный замок, какой только есть на свете. Замок стоял на высокой горе. Они жили там счастливо, пока однажды принц не поехал на войну и вернулся с нее с тяжелой раной.
Дьюи шумно задышал, и я поняла, что он засыпает. Но Такер слушал мой рассказ с интересом. И даже если бы и он заснул, думаю, я бы все равно продолжала рассказывать, потому что мне хотелось выговорить все это вслух, пускай даже и таким способом:
– Принц вернулся очень печальный, потому что он проиграл битву, и от этого принцесса тоже загрустила. Но она поняла, что ничем не может помочь принцу. Через некоторое время он вовсе перестал с ней разговаривать, хотя раньше они разговаривали постоянно. И принцессе в замке стало очень одиноко. Потому что ей не с кем было разговаривать. – Теперь, когда я об этом вспоминаю, мне становится очень стыдно за себя. Ну как же я, взрослая женщина, выдаю историю своей жизни за сказку и рассказываю ее маленькому ребенку, доверяясь ему, как бы исповедуясь. Но это не самое плохое…
– Ей не с кем было разговаривать, не с кем было почувствовать себя счастливой, и ей стало очень одиноко. И она так часто подумывала о том, чтобы сбежать оттуда и вернуться в замок своего отца, но на самом деле ей не хотелось так поступить. Потому что она очень любила очаровательного принца и не хотела его покидать. Но она стала все чаще задумываться о бегстве. Однажды она даже сообщила принцу, о чем она думает, но ему вроде было все равно. Он сказал ей:
– Ками… – Я чуть не назвала свое имя. Я покраснела, но в темноте это не было заметно. И я прекратила рассказ, потому что поняла, что поступаю неправильно. Я-то думала, что разговариваю сама с собой, но, подняв голову, заметила блеск очков Такера. Он все еще сидел в кровати, выпрямившись, как суслик. И я почувствовала, что еще немного – и я расплачусь.
– Ну, Такер, милый, пора спать.
– А вы до конца не расскажете, миссус Уилсон?
– Это не слишком веселая сказка. Ни радости, ни фейерверка в ней нет. Тебе лучше не слушать ее конец.
– Но я хочу, мэм. Мне нравится эта сказка.
– Нравится? Почему?
– Она о реальных живых людях, которых я знаю.
– А может, сказка про драконов или войну была бы лучше?
– Нет, мэм. В них я не верю.
– Ну, милый, у этой сказки нет конца. Ты сам ее закончи. Как бы ты ее закончил?
– Я?
– Да, давай рассказывай! Что, по-твоему, должна сделать принцесса? – Я думала, что мы играем. Я же не по-настоящему его спрашивала. Ему тогда было всего девять!
Я взглянула на него: вижу, задумался. Он сидел, завернувшись в одеяло, и в лунном сиянии казалось, что он стоит по живот в белой воде. Он посмотрел на окно, потом на меня:
– Я думаю, принцессе стоит подождать. Ей не надо никуда бежать.
– Почему? – Теперь я уже не играла.
Он пристально посмотрел на меня, как старинный приятель, который все знал и про Дэвида, и про меня и собирался дать мне совет, как поступить.
– Потому что принц проснется как-нибудь и все сделает, как надо.
От его слов я занервничала, почувствовав себя дурой и немного безумной. Откуда ему знать: ему же только девять лет! Но я все равно занервничала.
И я стала ждать, проживая день за днем, давая себе обещание, что, если и на следующий день ничего такого не случится, я обращусь к брату, он – адвокат, и попрошу начать бракоразводный процесс. И каждый вечер я уговаривала себя еще немного подождать – до следующего дня.
Так я прождала несколько лет, пока в прошлом году не приняла решение: все, хватит, больше я не могу ждать, потому что я заслуживаю чуть большего, чем имею, и что двадцать лет такого брака – более чем достаточно.
Как-то вечером я сказала Такеру, что мне нужно будет съездить в Нью-Марсель, и попросила его приготовить завтра машину к десяти утра. Я встала, оделась в темное, точно собралась на кладбище – потому что такое у меня в то утро было настроение, – выпила чашку кофе, взяла сумочку, вышла из дома и села в машину. Тут я расплакалась и плакала всю дорогу до Саттона и потом, когда мы миновали Истерн-Ридж и ущелье Хармона. С вершины горного хребта я увидела вдалеке Нью-Марсель, он маячил пятном сквозь марево. Мы проехали через весь город, и Такер затормозил у конторы моего брата. И я сказала ему, что, если срочно понадоблюсь, он найдет меня в адвокатском бюро Р.У. ДеВиллета.
И тогда он это сказал. Он вышел из машины и распахнул мне заднюю дверцу, а когда я скользнула по кожаному сиденью, он взглянул прямо на меня сквозь толстые стекла очков и сказал тихо и вкрадчиво, что я поначалу не расслышала его слов сквозь рев проезжающих машин и болтовню пешеходов, и попросила его повторить. А может быть, я прекрасно его слышала, но не хотела поверить своим ушам, потому как это было невероятно, что он это вспомнил или что он это понял так давно, понял, когда я рассказывала детям ту сказку. Вздрогнув, я взглянула на него:
– Прости, что ты сказал, Такер?
И он повторил:
– Думаю, принцессе стоит подождать, миссус Уилсон. По крайней мере, теперь, когда ждать осталось недолго.
Я попросила его отвезти меня в ближайший кинотеатр. Там я и провела остаток дня.
И каждый день в эти несколько последних месяцев я просыпалась и уговаривала себя, что сегодня мое долгое ожидание завершится, что к вечеру все закончится. Но ничего не происходило вплоть до вчерашнего дня. Хотя теперь я даже не уверена, произошло ли что-нибудь вообще. Вчера вечером Дэвид пришел ко мне в спальню, встал у кровати, долго разглядывал меня, причем взгляд его был такой странный, и наконец произнес:
– Камилла, я совершил в жизни миллион ошибок. И как ты терпела меня так долго?
Я не могла выговорить ни слова.
– Камилла? – Он осекся. И больше ничего не сказал. Ни что он меня любит, ни что надеется, что я все еще его люблю. Больше он ничего не сказал. Но как же много высказал.
Дэвид Уилсон
Пятница, 31 мая 1957 г.
Сегодняшний день для меня начался, как многие такие же, но завершился триумфально. У меня такое чувство, словно моя жизнь началась заново. Словно судьба вернула мне все годы, прожитые насмарку (я только сейчас начинаю понимать, что они были потрачены впустую), чтобы я их снова прожил. Я всегда знал, что мне необходимо и чего мне не хватало двадцать лет назад – а именно: мужества и веры, которых у меня не было. Ни в малейшей степени. Разумеется, всегда находились оправдания, я всегда мог сказать, что занят ответственным делом, но эта отговорка никогда, ни на мгновение меня не убеждала.
Временами я самонадеянно (или так я считал) хотел, чтобы мне кто-то помог, внушил мне веру в себя и мужество заниматься тем, чем мне хотелось заниматься. Но в то же время я был убежден, что никто никому не может внушить мужества, что вожди революций на самом деле помогают своим последователям обретать мужество, которым те уже сполна наделены. И если такие последователи не обладают врожденным мужеством, все усилия вождей будут напрасны. Мужество нельзя вручить как рождественский подарок. Но, похоже, я ошибаюсь, – и я благодарен за эту ошибку! – потому что сегодня мне даровали мужество, которым я раньше, уверен, никогда не обладал. Или скорее я обладал мужеством, но в каких же потаенных глубинах моей души оно таилось все эти долгие годы! Я уж отчаялся найти его в себе когда-либо. Но теперь оно нашлось, или было даровано, или уж не знаю что.
Сегодня, как обычно, я вышел из дома, прогулялся до торговой лавки Томасона и купил там экземпляр «А – Т» (сам не знаю, что заставляет меня читать именно эту газету каждый день, разве что она вызывает во мне воспоминания о лучших днях моей жизни. Мне нравится ее читать, я выискиваю там опечатки и промахи верстальщика, мне нравится то и дело натыкаться там на имена людей, которые начинали в газете примерно в то же время, что и я, – словом, она мне нравится, полагаю, потому, что это лучшее, что может предложить в журналистике Нью-Марсель, и в ней всегда можно найти репортажи о незначительных вещах, которые медленно, но верно прокладывают себе путь на первую полосу, становясь важными новостями).
Я спустился с холма, пересек площадь и зашагал к магазину. (Этим утром там было двое или трое мужчин и мальчик, что необычно для столь раннего часа: 7.30. Я с ними, разумеется, не заговорил, ведь я их не знаю. Никто из них не работает на моей земле.)
Вернувшись домой с газетой, как обычно, я вошел в кабинет и начал читать, а потом внезапно увидел то, чего, как теперь мне ясно, я давно ожидал (спешу добавить, я никогда не думал, что увижу это, и не знал, какую это обретет форму, но, увидев заметку, я сразу все понял), этот репортажик был втиснут на двадцатой полосе сверху над рекламой женских летних костюмов и поясов, потому что для выпускающего редактора он был всего лишь заметкой, которой можно заполнить пробел в верстке, но для меня, если бы я выпускал сегодня эту газету, эта заметка представлялась достаточно важной и достойной быть помещенной на первой странице в восьмой колонке, с заголовком, набранным, пожалуй, таким же крупным кеглем, что использовался для заголовка статьи о налете на Перл-Харбор. Я вырезал заметку и вклеил сюда:
«ПОЖАР УНИЧТОЖИЛ ФЕРМУ
Его устроил владелец?
Саттон, 30 мая. – Огонь стер с лица земли дом фермера Такера Калибана в двух милях к северу отсюда, и ни один из примерно тридцати зрителей не предпринял никаких попыток погасить пожар. Свидетели утверждают, что пожар – дело рук самого Калибана, негра из местных.
Очевидцы, с которыми нам удалось поговорить, утверждают, что они наблюдали за действиями Калибана весь день, в течение которого он засыпал солью свое поле, пристрелил скот, уничтожил несколько предметов мебели, а затем в восемь вечера вошел в дом и поджег его. После чего, по их уверениям, он ушел, никак не объяснив свой поступок.
Калибан остался недоступен для комментариев».
Уверен, эта заметка мало что говорила другим читателям. Но в свете того, что заявил мне Такер, все, что он мне высказал, этот его поступок имеет глубокий смысл, по крайней мере для него, да и для меня. Он освободил себя, что для него было весьма важно. Но в какой-то мере он освободил и меня. Он действовал в одиночку, и этот факт, разумеется, не делает реальными все те вещи, которые я мечтал совершить двадцать лет назад. Но это хоть что-то. И я в этом тоже поучаствовал. Я продал ему землю и дом. Вряд ли он точно знал, что будет делать со всем этим имуществом, когда совершил покупку в тот вечер прошлым летом, но это и не имеет значения. Вчера его акт отказа от собственности стал первым ударом по тем двадцати годам, которые я впустую прожил, предаваясь жалости к себе. Кто бы мог подумать, что столь отчаянный и примитивный поступок может образумить так называемого образованного человека вроде меня?
Любой человек способен вырваться из цепей. Это мужество – не важно, как глубоко оно затаилось в душе – только и ждет, чтобы к нему воззвали. Для этого нужны лишь правильные слова убеждения, правильный голос для такого убеждения, и оно вырвется наружу, как разъяренный тигр.
Вторник, 22 сентября 1931 года.
Это первая запись в моем дневнике, хотя отец подарил его мне на прошлый день рождения (17 июля). При этом он сказал что-то вроде: ну вот, настала пора, сын, тебе каждый день записывать события твоей жизни, все, что ты видел, что узнал, особенно если учесть, что в сентябре ты отправляешься на учебу в Массачусетс. Сказал и сказал, я почти и не думал об этом. Я считал, что человек и так запоминает важные события своей жизни, а не важные – забывает. Но тут я подумал над его словами и понял, что, наверное, он прав. Бывает же так, что с тобой что-то случается, и в первый момент оно кажется тебе не важным, а потом, спустя год, оно вдруг неожиданно напомнит о себе, и сразу станет ясно, что оно, как ни крути, очень даже важное.
Так что, пожалуй, польза в этом есть – вести дневник.
И я решил начать его сегодня (в этот самый день), потому что завтра я уезжаю в Массачусетс, где мне предстоит провести в колледже четыре года (если я не вылечу раньше). Так что сейчас самое время начать. Я не совсем уверен зачем, то есть я не могу вполне облечь свои ощущения в слова, и, наверное, если я буду тут все записывать, это мне поможет, но поездка в Кембридж для меня очень важна. Не из-за названия или престижности этого учебного заведения, а потому, что из всего, что отец мне про него рассказывал (он тоже там учился), и из всего, что я слыхал или читал о нем, оно кажется мне местом, где я смогу начать делать то, чем мне хочется заниматься в жизни.
Я вот смотрю на Юг и вижу вокруг себя только нищету, невзгоды, неравенство и несчастье. Я искренне люблю Юг, и пускай это звучит чертовски сентиментально, я всегда чуть не со слезами на глазах вижу, каков он сейчас, и сравниваю его с тем Югом, каким бы он, по моему разумению, мог быть. Даже в столь трудные времена, как наши, с этим крахом на Уолл-стрит, с Депрессией, Юг, который и так находился в куда худших условиях по сравнению с остальной страной, сегодня оказался в еще более тяжелом положении. Но мои мечты о Юге, «каким бы он мог быть», могли бы осуществиться, только если здешние люди могли обрести новые принципы мироустройства и стали бы жить согласно им. Нам надо уйти от старых устоев, нам пора перестать славословить свое прошлое и повернуться лицом к будущему. (Боже, это звучит как бездарная речь!) И я надеюсь найти в Кембридже некоторые идеи, некоторые принципы, чтобы через четыре года я смог приехать с ними сюда и помочь вытащить Юг из его отсталости и ввести в двадцатый век. Я даже еще не знаю, чего я ищу; могу лишь надеяться узнать это, когда найду.
Ну, хватит для начала. Пора собирать вещи.
Пятница, 13 октября 1931 года.
Вечером я познакомился с удивительным парнем. Это негр Беннет Брэдшоу. Впервые в жизни я вел умную беседу с негром, и впервые в жизни я почувствовал себя интеллектуально ущербнее негра. Это могло бы вызвать мое неприятие, если бы я не вынес из нашей беседы так много нового.
Я пошел на собрание социалистов в надежде почерпнуть там что-то важное. Я даже подумывал о членстве в их союзе – это еще до того, как я туда пошел! Но я там обнаружил лишь кучку парней, щеголявших друг перед другом своим знанием работ Маркса.
Когда я туда приехал и нашел свободное место в зале, тут же рядом со мной сел негр. Кстати, об этом надо будет как-нибудь написать поподробнее – об отсутствии сегрегации. Поначалу я был немного этим огорошен, не в том смысле, что я против отсутствия сегрегации, но когда ты сидишь в общественном месте, ты же обычно не обращаешь внимания на то, кто сидит рядом. Вот едешь ты в трамвае, и рядом с тобой кто-то садится, ты бросаешь на соседа взгляд, а потом забываешь о нем, ну, если он, конечно, не прищемил полу твоего пальто. Но когда рядом со мной в транспорте садится негр, я отвлекаюсь от чтения или от разглядывания прохожих в окне, потому что я не привык находиться рядом с неграми. Так вот когда этот негр сел рядом, я это сразу заметил и уже не мог отвлечься от этого факта. Он был дородный, на вид старше своих лет, в темном костюме. Собрание началось, и я старался на него не смотреть (я вообще стараюсь тут отделаться от привычки таращить глаза, когда рядом со мной оказывается негр). Но на протяжении собрания, когда эти социалисты изо всех сил пыжились произвести впечатление на присутствующих, я заерзал и уже собрался уйти, но мне не хватило смелости. А мой сосед это заметил: наверное, он искоса поглядывал на меня, потому что он нагнулся ко мне и произнес – с британским выговором (позднее он рассказал мне, что его родители родом из Вест-Индии): «Этим ребятам нечего сказать. Может, сходим выпьем по чашке чаю?»
Я повернулся к нему: слегка улыбнувшись, он мне подмигнул.
Мне до сих пор неясно, почему я ушел вместе с ним, почему мне хватило смелости снести то обиженное молчание, которым сопровождался наш уход, думаю, это было сочетание следующих факторов, а именно: 1) что он почувствовал, в точности как и я, абсолютную бессмысленность этого собрания, 2) что он, негр, нагнулся и обратился ко мне так бесцеремонно, так открыто, так дружелюбно или 3) что он оказался довольно (хотя это не совсем уместное слово) экзотическим субъектом с этим своим британским выговором. Но я с ним пошел.
Мы прошли через двор к площади. Мы молча шагали рядом. Я заметил, как он вынул сигарету, вставил ее в мундштук и чиркнул спичкой, прикрыв пламя пухлыми ладонями. Он шел словно в такт некоей музыке, марша, мерно размахивая вытянутыми руками. Мы нашли ресторанчик, он заказал чай, я – кофе.
Когда мы сели за столик, он протянул мне руку:
– Беннет Брэдшоу.
Мы обменялись рукопожатием, и я назвался – это были первые слова, которые я ему сказал.
Он рассмеялся:
– Господи! Южанин! Родственная душа и все же южанин!
Поначалу я немного смутился, но потом даже обрадовался, что он прокомментировал необычность ситуации, и сам засмеялся. Он спросил, откуда именно я с Юга. Я ответил, и этот умник, который в ходе нашей беседы изумлял меня все больше и больше, быстро сделал вывод:
– Вы родственник генерала Дьюи Уилсона, не так ли?
Я уже собрался «исповедаться» в этом грехе, но затем решил устроить ему проверку:
– А почему вы так решили?
– Ну, начнем с того, что вы из его родного штата, и ваша фамилия Уилсон.
– Но после войны многие взяли себе его фамилию. Многие, кто не состоял с ним в родстве.
– Верно, но им было не по карману приехать сюда, нет? Они не унаследовали его интеллект, нет? Кроме того…
– Ваша взяла. Вы меня раскусили. Он был моим прадедом. – Я хмыкнул и покачал головой.
– Позволю себе добавить, что, хотя я и не вполне согласен с идеалами, за которые он сражался, сражался и командовал он блистательно. Но скажите мне, Дэвид… Я же могу вас называть Дэвид, нет? – Он не стал дожидаться моего ответа, но я бы согласился в любом случае. – Почему вы, Дэвид, именно вы пришли на это собрание?
Я поделился с ним своими соображениями о бедных, о поражении Юга и своими надеждами на то, чтобы я мог сделать для изменения ситуации на Юге и еще кое о чем, что я уже изучил. Похоже, ему понравился мой ответ, и, когда я закончил, он начал излагать свою позицию. При этом он курил одну за другой:
– Моему народу тоже нужно нечто новое, нечто живое. По моему мнению, их вожди взяли пример с негров – надсмотрщиков эпохи рабства. Каждый за себя, и все крутится вокруг денег. Я много читал после того, как закончил среднюю школу. (Ему, как я понял, двадцать один год, и он четыре года работал, чтобы накопить денег на колледж, а в настоящее время подрабатывает в химчистке в Бостоне.) Но ничего путного не нашел. Я понадеялся, что смогу найти что-то здесь. Возможно, социализм и коммунизм могут предложить ответ, но только не та пустопорожняя разновидность, которую мы лицезрели с вами сегодня, – новая разновидность, а еще тред-юнионизм и прочее.
Он уже выпил чашек семь чая, а мы продолжали беседовать и обмениваться идеями. Он перечислил множество книг, которые мне следовало прочитать, и мои карманы были набиты исписанными клочками бумаги.
Он родился в Нью-Йорке, в очень большой семье, где он – самый старший.
Завтра мы обедаем вместе в студенческом клубе.
Понедельник, 26 октября 1931 года.
Ужинали с Беннетом. Проговорили до трех утра. Боже, как же много он знает! Я узнаю от него массу нового. Даже факты из жизни на моем Юге, которые я никогда не знал.
Среда, 28 октября 1931 года.
Беннет забежал ко мне вечером около девяти. Мы проговорили до глубокой ночи.
Суббота, 31 октября 1931 года.
Ходил на вечеринку по случаю Хеллоуина в «Пудинг». Они меня пригласили. Встретил там миловидную девушку по имени Элейн Хауи. Она из Роанока, штат Виргиния. Росту в ней пять футов три дюйма, а вес, наверное, сто двадцать пять фунтов. Она очень привлекательная и очень милая. У нее чудная расхлябанная походка – она движется словно сразу в разных направлениях, эту походку можно назвать еще бесцельной, петляющей. Но, пожалуй, ее голос – вот что мне особенно нравится в ней: у нее такой «родной» говор, как у воробушка с бронхитом, не сказать, что ее голос чересчур высокий, иногда он слегка ломается, но он такой нежный, аристократичный. У нее длинные светло-каштановые волосы и милые глаза. Делайте со мной, что хотите, но должен признать: девушки с Юга – лучшие в мире!
Понедельник, 2 ноября 1931 года.
Сегодня обедал с Беннетом, и мы проговорили весь день. Он признался – это первое, что он мне вообще про себя рассказал за время нашего знакомства, – что после окончания колледжа хочет работать в «Национальном обществе по делам цветных». По его мнению, что они делают не все, что могли бы, для улучшения положения негров. Он полагает, что для него это будет хорошим стартом карьеры. Черт его знает, кем я стану. Как и куда я причалю, чтобы делать то немногое, на что я способен? По крайней мере, знаю одно: я не хочу возвращаться домой и собирать арендные платежи для своего отца.
Вторник, 3 ноября 1931 года.
Все еще думаю, какую профессию выбрать. Скоро в «Кримзон» объявят конкурс. Может быть, буду участвовать. Вечером виделись с Беннетом накоротке. Нам надо упорно заниматься.
Суббота, 14 ноября 1931 года.
Я взял Элейн на вечеринку; хотя на самом деле это она меня взяла. Все были из «дома». Моим ушам было приятно слышать знакомый южный говор, там все так говорили. Познакомился с массой приятных людей, особенно девушек.
Понедельник, 16 ноября 1931 года.
Иногда мне кажется, что мы с Беннетом не такие уж и друзья – в том смысле, что мы редко говорим о личном: об одежде, о девушках, об учебных предметах (разве что за исключением тех, которые касаются наших будущих планов) – о том, что обычно обсуждают настоящие друзья. Мы обсуждаем политику, разные системы государственного устройства, скажем, коммунизм и капитализм, расовые проблемы. Но, с другой стороны, эти темы нас по-настоящему занимают – так почему бы их не обсудить?
Причина моих сомнений в том, что он никогда не знакомил меня со своей девушкой, а я его – со своей, и еще мы не ходим на одни и те же вечеринки. Должен признаться, даже при всем моем либеральном настрое я люблю бывать в клубах, к тому же я южанин. Мне надо было оказаться в холодной и унылой Новой Англии, чтобы это понять. Я иду через площадь и все сравниваю, сравниваю. «Здесь люди кажутся печальнее, чем у нас», – говорю я себе. Или: «Дома тут не такие импозантные». Или: «Люди не такие дружелюбные». Ну, и, наконец, к чему я и веду: «Девушки тут не такие красивые!» – Я это частенько повторяю, и именно мое отношение к здешней жизни главным образом и возводит стену между мной и Беннетом в смысле общения. Потому что, хотя у меня тут немало знакомых девушек, причем девушек, вращающихся в либеральных кругах, мне еще предстоит познакомиться с той, с кем бы я захотел встречаться.
Я пишу об этом потому, что как-то я спросил у Беннета, не хочет ли он, чтобы мы с ним пригласили наших девушек на матч. Он посмотрел на меня чуть ли не с ужасом:
– Мой милый друг, ты что, совсем спятил?
– Почему?
– Потому! Вспомни девушек, с которыми ты здесь ходил на свидания. Ты словно так и остался на своем Юге. И как они, по-твоему, воспримут меня? Как котенок воду! Ты не можешь брать меня на вечеринки к своим друзьям!
Я продолжал упрямо отстаивать свою идею, хотя и понял, что идея плоха.
– Ну, нам необязательно ходить к моим друзьям. Можем устроить вечеринку двое на двое. Будет даже интересно. Многолюдные вечеринки – это в любом случае сплошной шум и гам.
Он положил мне руку на плечо и грустно улыбнулся:
– Дэвид, пусть все остается как есть. Мы не можем бравировать нашей дружбой в местах, где она не приветствуется. Наша дружба не обязана быть всеохватывающей. Она не должна включать все те мелочи, из которых состоит жизнь. В глубине души мы верим в одно и то же, и мы пытаемся приблизить тот день, когда мы реально сможем сходить в «Пудинг» вместе. Ты не согласен? Обо мне не беспокойся. Мне есть куда сходить, у меня друзья в Бостоне. Если мы будем торопить события, очень скоро мы вообще все потеряем.
Я знаю, что он прав – но, черт побери…
Вторник, 9 февраля 1932 года.
Мы с Беннетом решили с будущего семестра совместно снимать жилье. Надеемся найти пристанище в гарвардском «Адамс-хаусе», в крыле В, а это добрый старый «Голд коуст» – общежитие, выстроенное в конце прошлого века для миллионеров, роскошь и викторианский шик, просто фу ты ну ты!
Четверг, 10 марта 1932 года.
Сегодня (буквально в последний момент) подали заявки на совместный съем жилья в «Адамсе», «Уинтропе» и «Лоуэлл-хаусе» – именно в таком порядке приоритетности. Я уже вполне свыкся с тем, что он – негр, но я еще не рассказал о нем родне. Нет, конечно, я рассказал про него (а как я мог этого не говорить?), даже описал его внешность – его представительную дородность, но не упоминал о цвете его кожи. Знаю, что надо бы и об этом сказать. Ведь рано или поздно они узнают, а мне не хочется заставлять их думать, будто я не упоминал об этом из чувства стыда. Но в то же время не сообщать им об этом факте в письме. Наверное, скажу им при встрече, когда поеду домой на весенние каникулы. Надеюсь, они не раздуют из этой мухи слона, потому что тогда мне придется защищать свои убеждения, и, честно говоря (я знаю, этот дневник никто не увидит), они мне нужны, по крайней мере пока я получаю образование. Я не такой прилежный и трудолюбивый студент, как Беннет, который вкалывает по тридцать часов в неделю в своей химчистке и одновременно успевает неплохо учиться, чтобы считаться одним из лучших студентов нашей группы.
Понедельник, 25 апреля 1932 года.
Я забыл захватить дневник домой, и после возвращения сюда у меня просто не было времени писать, так что сейчас буду наверстывать.
Самое важное событие, случившееся дома, – я рассказал родителям про Беннета.
Я дождался, когда они пошли спать, чтобы Калибаны не слышали или не вошли в гостиную (я так поступил из опасения, что родители вспылят и наговорят оскорбительных вещей про негров, чего они обычно себе не позволяют).
Мама сидела в кровати, такая симпатичная и женственная в своем ночном халате. Теплый свет играл в ее седеющих волосах, и они переливались. Отец сидел в кресле, изучал газету.
Я решил не ходить вокруг да около.
– Беннет Брэдшоу – негр! – без предисловий выпалил я. – Это тот парень, с которым…
– Он… кто? – Так, я уверен, мог бы сказать отец, но он, ни слова не говоря, просто смотрел на меня поверх очков и газеты. Это произнесла мама, обхватив руками бока, словно ее тело не могло оставаться прямым без поддержки. Я заметил, как ее ноги под одеялом нервно задвигались.
– Он – негр, мама. Парень, с которым я собираюсь…
– И ты намерен жить вместе с ним в общежитии все три года? Но почему? Зачем? Или ты шутишь, Дэвид?
– Нет, не шучу, мама, – я долго не называл ее так. – Он – мой лучший друг в колледже.
– Да мне все равно, кто он. Ты не можешь жить с ним! И даже не смей больше с ним говорить! Ты меня слышишь, Дэвид? – с ее голосом произошла странная метаморфоза: ей бы надо было накричать на меня, а она чуть ли не шептала.
Я кивнул – просто, чтобы дать ей понять, что я слышу. И повернулся к отцу, который все еще глядел на меня поверх газеты с ничего не выражающим лицом. Я понятия не имел, что он думает по этому поводу.
– Дэвид! – снова заговорила мама. – Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Ты вообще отдаешь себе отчет? И почему я не удивлюсь, если тебя теперь никогда не пригласят в гости к респектабельным людям? Жить в одной комнате с негром! Ничего более безумного я еще не слышала!
– У тебя невероятно косное мышление! – Мне хотелось сохранять хладнокровие, но я неожиданно брякнул такое и увидел, как мамино лицо запунцовело, и она негодующе фыркнула.
– Ты не доложен проявлять такое неуважение к матери, сын, даже, если у тебя в голове такие мысли! – наконец проговорил отец, сложив газету и чуть подавшись вперед.
Но сказанного не воротишь, и, хотя в тот момент я плохо соображал, в ушах стоял звон, перед моим мысленным взором проносились, точно снаряды, картины и слова – вряд ли я хотел вернуть сказанное. И я набросился на отца:
– Это просто нечестно – отправить меня в такой университет и ожидать, что я останусь добропорядочным, аристократичным белым юношей с Юга! – Но моя фраза была не вполне ясна. – Там есть молодые люди, которые даже в Бога не верят! И вы ожидаете, что…
– Я ничего не ожидаю! – пришла в себя мама. Она поглядела на отца, а тот на нее. – Деметриус! Я же говорила: для его же блага отправим его в университет штата! Сколько я тебе это твердила! А теперь вон куда дело зашло. Со следующего сентября Дэвид будет учиться в университете штата в Уилсон-Сити!
Отец ничего не ответил. Я не мог разглядеть выражения его лица, и мне показалось, что он кивнул, словно в знак согласия, и это меня совершенно выбило из колеи. Звон в ушах стал громче, и я разрыдался. Я так давно не плакал, что совершенно забыл, каково это, – оказалось, словно тебя вырвало. Тебя сотрясают рыдания, слезы мешают видеть, и в желудке начинается адская буча. Боже, какой это был ужас! Они вытаращились на меня, я же не мог смотреть им в глаза.
– А, черт! – выдохнул я, развернулся, вцепился в дверную ручку, причем мне это удалось не сразу, распахнул дверь, помчался по коридору и заперся в ванной. Я чувствовал себя как семилетняя девочка.
Я открыл кран, ополоснул лицо и, сидя на краю ванны, заставил себя перестать плакать, что удалось довольно быстро, и тут вдруг раздался стук в дверь и голос отца:
– Дэвид! Открой дверь, сынок!
Я сказал ему, чтобы он уходил, – не потому, что злился на него, а потому, что не хотел никому показываться на глаза, особенно ему. Он – крепкий орешек, то есть я хочу сказать, что еще никогда не видел его таким расстроенным. Отец продолжал увещевать меня из-за двери, и наконец я его впустил.
Он – невысокий, по крайней мере ниже меня на полголовы, у него стальная седина, ясные серые глаза – и тут я такой: смотрю на него сверху вниз и рыдаю. Я чувствовал себя идиотом. Он больше ничего не сказал, просто вошел, не глядя на меня, подошел к унитазу, опустил крышку и присел.
Я сидел на краю ванны и продолжал ополаскивать лицо холодной водой, даже выпил пару глотков. Потом резко завернул оба крана – свой (перестал плакать) и водопроводный.
Мы еще несколько минут просидели молча, а потом он поднял на меня взгляд.
– Ты прав, парень. Нельзя было ожидать, что ты оттуда вернешься таким же, каким был прежде. Ты, хочешь не хочешь, становишься другим. В моей юности такого бы не случилось, потому что всем приходилось крутиться, находить себе жилье, и чем больше у тебя было денег, тем в лучших условиях ты жил, и ты жил с парнями своего круга и своего типа. И с такими ты дружил. Но при этой новой системе все иначе: их интересуют только денежки, а ты получаешь в соседи кого хочешь. Верно?
Я кивнул.
Он улыбнулся, уперев взгляд в напольный кафель.
– Родные пенаты крепко в тебе засели, и от них не так легко отделаться, да?
– Да, сэр!
– Ну, не переживай. Ты же не уймешься, пока не добьешься какого-то результата: либо тебя отчислят, либо ты получишь диплом. Я же тебя знаю! – Он глядел на меня в упор. Я мог бы умчаться за тысячу миль, но не увернулся бы от этого взгляда. – Объясни мне одну вещь. Зачем ты хочешь поселиться в общежитии вместе с этим цветным парнем?
Поразмыслив, я не знал, что сказать, и наконец промямлил:
– Потому что он мне нравится, и от него я узнаю массу интересного. Но, думаю, главным образом потому, что он мне нравится.
Отец выпрямился и сунул руки в карманы халата.
– Это я и хотел от тебя услышать. Если бы ты сморозил какую-нибудь глупость насчет равенства людей или заявил бы, что стремишься внести свою лепту в борьбу за лучший мир, я бы сказал, что ты совершаешь ошибку. Ты же не заводишь друзей из тех соображений, что это правильная политика, ты заводишь друзей потому, что они тебе нравятся, и ты не можешь убедить себя в обратном. – Он помолчал. – Не переживай. А с мамой я этот вопрос как-нибудь улажу.
Отец встал и, прежде чем я успел его поблагодарить, вышел за дверь.
Вот как все было. Боже, ну и спектакль!
Перед отъездом я извинился перед мамой. Но она на меня даже не взглянула.
Суббота, 1 мая 1932 года.
Элейн Хауи обручилась – кто бы мог подумать! – с парнем из Бангора, штат Мэн.
Суббота, 28 мая 1932 года.
Беннет сдал вчера свой последний экзамен и сегодня утром отбыл. В понедельник он выходит на работу в Нью-Йорке. Он, несомненно, очень целеустремленный человек. Теперь ему долго не придется отдыхать. Что касается меня, то я слишком усиленно впитывал знания и почти выдохся, стал как выжатый лимон. Мне будет не хватать наших бесед, но мы будем переписываться летом, а в следующем учебном году, конечно, заселимся вместе в «Адамс-хаус».
Пятница, 23 ноября 1934 года.
Когда я вернулся с занятий (около полудня), под дверью нашел две телеграммы для Беннета. Мы договорились пообедать и должны были встретиться в столовой в час, поэтому я взял телеграммы с собой.
Я сидел за столиком в конце зала у окна, выходящего на старые серые здания вдоль Боу-стрит, и для начала заказал чашку кофе. Потом в зал вошел Беннет, повесил пальто и оставил книги в гардеробе, я помахал, чтобы привлечь его внимание, и он, сделав заказ, подошел к моему столику и сел.
– Это тебе. – Я передал ему желтые конверты. – Терпеть не могу эти срочные отправления. Черт бы их побрал. В них вечно какие-то неприятные новости, о которых сообщается каким-то деревянным языком, – и я рассмеялся.
– Согласен, – улыбнулся он, взял нож и взрезал первый конверт.
Я наблюдал за его лицом в надежде, что в телеграмме хорошие новости, но его лицо оставалось бесстрастным. Он передал мне телеграмму:
МАМА УМЕРЛА ДЕСЯТЬ ДВАДЦАТЬ АМЕЛИЯ
Я не знал, что сказать. А он уже читал вторую телеграмму и, догадываясь, что я за ним наблюдаю, пробормотал:
– Амелия – моя сестра.
И передал мне вторую телеграмму:
МАМА ВНЕЗАПНО ЗАБОЛЕЛА СРОЧНО ПРИЕЗЖАЙ АМЕЛИЯ
Я оторвал взгляд от текста и посмотрел на него.
– Боже мой, Беннет, я и не знал…
– Она была, можно сказать, молодой женщиной – тридцать восемь. Тяжелая работа. – Он опустил глаза в тарелку.
Я чуть не спросил, при чем тут работа, но вдруг понял, что если бы он закончил предложение, то мог бы и так: тяжелая работа ее доконала. Я ничего не сказал. Я внимательно смотрел на него, не осознавая, что с почти садистским интересом жду, когда же на его лице проявится хоть какая-нибудь эмоция. Я не ожидал, что он расплачется в моем присутствии, но мне просто хотелось увидеть его реакцию. Я поймал себя на мысли: «Ладно, Беннет Брэдшоу, ты справишься с чем угодно, ничего не может выбить тебя из колеи. Ну, поглядим, как ты справишься с этим испытанием. Поглядим, сможешь ли ты сохранить свою хваленую невозмутимость». Но, осознав, какие мысли пришли мне в голову, я устыдился.
А он не выказал ни малейшего признака нервозности, чему я несказанно обрадовался. Наверное, мне просто было интересно узнать, есть ли в нем что-то человеческое (есть-есть, но я имею в виду данную ситуацию), и я понадеялся, что он это докажет своим поведением. Но, как уже я не раз писал здесь, наверняка я его несколько идеализирую.
Он смотрел на меня. Надеюсь, он не прочитал мои мысли.
– Мне нужно уехать в Нью-Йорк сегодня. – Он встал. – Поеду и постараюсь с ними связаться. У тебя есть расписание поездов?
Я покачал головой.
– Неважно. Позвоню на вокзал. – И он поспешил в конец зала, где оставил свое пальто и книги.
Он еще пробыл некоторое время в столовой, но очень торопился, и у меня не было возможности поговорить с ним.
Вторник, 27 ноября 1934 года.
Сегодня утром Беннет вернулся из Нью-Йорка – с очень дурными новостями. Отец давно умер, и у него остались три сестры и два брата, все подростки, моложе восемнадцати, и он теперь – их единственный кормилец. Он, конечно, может их раскидать по родственникам, но ему не хочется разлучать членов семьи, а это значит, ему придется немедленно бросить колледж и устроиться на постоянную работу. Он говорит, что приложит все старания, чтобы закончить триместр, но не уверен, что осилит. Мне так хотелось сказать ему, что я могу телеграфировать отцу с просьбой дать Беннету взаймы денег, чтобы ему хватило продержаться в колледже до февраля, но, думаю, он бы отказался от моего предложения, а то еще бы обиделся и оскорбился. Боже, ну надо же такому произойти, когда учиться осталось только полгода. А ведь он как никто заслуживает этого диплома, он ему просто необходим в жизни.
Четверг, 20 декабря 1934 года.
Пишу в поезде, еду домой на рождественские каникулы. Мы с Беннетом приехали из Кембриджа вместе на грузовичке, который он одолжил у дяди – тот вроде старьевщик, – чтобы перевезти в Нью-Йорк свои вещи, в частности книги (он так и не собрался с духом их продать). Он (Беннет) довез меня прямо до Пенсильванского вокзала.
По дороге до Нью-Йорка мы старались не думать о том, что теперь нам довольно долгое время не придется видеться, и обсуждали вещи, которые помогут нам сохранять духовную и интеллектуальную, но не реальную близость: наши общие упования на улучшение общественного устройства, присущее нам обоим неприятие невежества, нищеты, болезней и невзгод, наши мечты о том, как мы постараемся их искоренить. Говорил в основном Беннет, увлеченно и красноречиво, точно обращаясь не ко мне, а к многотысячной толпе, используя все богатство своего голоса, которым он меня буквально завораживал, пока мы ехали по улицам городков и деревушек и когда шоссе бежало, круто извиваясь, через лес или летело стрелой, опушенной недавно выпавшим снегом, при этом он уснащал свою речь эмоциональной жестикуляцией.
– Вот закончишь колледж, вернешься к себе на Юг и устроишься в газету. Нам понадобятся твои статьи, будешь нашим местным «агентом». Будешь докладывать нам, что там у вас происходит. Ты будешь писать статьи о текущей ситуации, а я их буду пристраивать в печать в Нью-Йорке. Мы будем стыдить и убеждать читателей, мы заставим их устроить жизнь лучше! И всем от этого будет польза. Только подумай, чего мы сможем добиться упорным трудом!
Мы приближались к городу, сидя в неотапливаемой кабине грузовика, но даже не замечая холода, не имея желания обращать внимание на такую мелочь.
Мы въехали в Нью-Йорк ранним утром и направились в сторону центра, к Пенсильванскому вокзалу.
Беннет поставил грузовик в переулке, я вылез из кабины и пошел к кузову, чтобы скинуть задубевший на морозном воздухе серый брезент и достать свою сумку.
– Носильщик требуется, сэр? – Беннет, улыбаясь, подошел сзади. Мимо промчалось такси по темной слякоти и забрызгало ему брюки.
– Нет, спасибо, я сам. – Я подхватил сумку правой рукой. Тяжелая – в основном из-за книг (надеюсь, теперь-то я смогу позаниматься дома).
Он посмотрел на меня в упор:
– Дай-ка я помогу. А иначе зачем нужны друзья?
И я отдал ему сумку, мы перелезли через грязный сугроб и направились к авеню, где переливались розовыми и зелеными огоньками рождественские гирлянды и виднелись высоченные каменные колонны вокзала.
– Как думаешь, сможешь закончить? В смысле – колледж, – спросил я, не оборачиваясь.
– Думаю, да. Амелия в июне заканчивает среднюю школу и не хочет получать высшее образование, возможно, ей не хватает для этого данных. Она найдет работу и сможет содержать остальных, пока я доучиваюсь.
Мы остановились на углу и, даже когда красный сменился на зеленый, еще пару секунд глазели на проезжающие мимо такси и ярко раскрашенные грузовички и на людей, бредущих с чемоданами к вокзалу. Потом перешли улицу.
– Надеешься найти приличную работу? – Только так я и мог выразить свою озабоченность. Мне хотелось сказать ему больше. Но я опасался смутить его или показаться сентиментальным. И все же, пускай косвенным образом, мне хотелось дать Беннету понять, что я за него волнуюсь, что меня беспокоит отсутствие у него средств на окончание учебы. Я понимаю, что безденежье – почти естественный и закономерный атрибут жизни негра, что негры свыклись, даже смирились со своими несбывшимися или, по крайней мере, отложенными мечтами, и мне хотелось дать ему понять, что я сожалею о его отложенной мечте, но не из жалости к обездоленным, а потому, что я сам обездолен, лишаясь дружеского общения с Беннетом.
– Да. Я написал в Общество, и там сказали, что, очень может быть, найдут для меня какую-никакую работенку в своей структуре. – Мы уже поднялись по ступенькам на крыльцо, ведущее внутрь мраморного зала ожидания, и оказались у стойки информации, смахивающей на неприступную крепость.
– Я уверен, эта работенка ненадолго. Очень скоро тебе поручат что-нибудь более важное.
– Очень на это надеюсь. Сорок лет – сравнительно небольшой срок, чтобы сотворить чудеса.
Мы оба посмеялись над своим идеализмом. Теперь мне кажется, нам хотелось смеяться от отчаяния.
Носильщики, в основном без униформы или нагрудных жетонов, несли чемоданы или толкали багажные тележки по сумрачной платформе. Группками стояли ремонтники в комбинезонах; проводники в синих костюмах с золотыми звездочками на рукавах сверялись с расписаниями или, точно швейцары, стояли в дверях вагонов. И вся платформа была запружена людьми. Семья наперебой кричала «Счастливого пути!» старушке, глядящей на них через стекло. Мы с Беннетом шагали вдоль состава, пока, дойдя почти до конца платформы, не подошли к открытой двери. В проеме никого не было. Беннет отдал мне сумку.
– Ну, ты пиши, ладно? – Он умолк и добавил: – Буду ждать твои репортажи.
– Они начнут приходить не раньше, чем я обоснуюсь дома после колледжа. Но если в Кембридже будет происходить что-то интересное, я тебе сообщу. – Я поставил сумку на пол и ногой подтолкнул ее к стенке подальше от входной двери. Я стоял в тамбуре.
– Ну… – Беннет протянул мне руку.
А я просто смотрел на нее, не торопясь ее пожать, мне не хотелось так быстро с ним распрощаться, и я лихорадочно придумывал, что бы еще сказать.
– Напиши, что думаешь об этой идее федеральной помощи, о которой я тебе рассказал.
– Ладно, обязательно напишу. Но уже сейчас могу сказать: вряд ли это будет работать. Во-первых… А, ладно… – Он снова протянул руку. На этот раз я ее схватил.
– Всего тебе хорошего, Беннет!
– Я буду в порядке! – Мы обменялись рукопожатием. – Пока, Дэвид!
Из-под вагона со свистом повалил пар и заклубился у наших лиц. Вдоль платформы в нашу сторону быстро передвигался проводник, закрывал двери и дергал рычаги.
– Пока, Беннет! – Мы снова пожали друг другу руки, он отвернулся, и тут подбежал проводник и захлопнул нижнюю половинку двери. Я вошел было в вагон, потом вернулся, но Беннет уже исчез в толпе. Я только на мгновение снова увидел его вдалеке: приземистый, крепкий, он решительно шагал, размахивая руками, точно солдат на марше. Потом он и вовсе пропал из виду, и тут поезд медленно тронулся.
Среда, 2 января 1935 года.
Я приехал в Кембридж около половины десятого утра. Меня ждало письмо от Беннета. Он начал работать в «Национальном обществе по делам цветных» с понедельника. Ему там вроде нравится, и, по его словам, это не только офисная работа. Дома я совсем не занимался (да и кто бы стал?), так что надо будет поднажать.
Вторник, 8 января 1935 года.
Сегодня получил письмо от Беннета. Обещает писать мне каждую неделю. Без него у меня почти нет тут друзей. Что ж, по крайней мере, останется больше времени на учебу.
Четверг, 20 июня 1935 года.
Ну, я это осилил. Сегодня я – выпускник. Неделя выдалась очень насыщенной, и не было ни минуты времени, чтобы сесть за дневник. Приехали родители, им все вроде очень понравилось. Беннет не смог приехать. А обещал. Я так надеялся на нашу встречу! Последний раз мы виделись до Рождества. Еженедельные письма помогли скрасить нашу разлуку. Наверное, я съезжу к нему в Нью-Йорк в августе.
Завтра мы все едем домой, а в понедельник я начинаю работать в «Алманак-телеграф» в качестве репортера-стажера. Надеюсь, мне понравится. Думаю, да. Четыре года в «Кримзон» доставили мне массу удовольствия, работа была в радость, да и опыта я поднабрался.
Понедельник, 26 августа 1935 года.
На прошлой неделе я так и не доехал до Нью-Йорка, как планировал. Мне поручили написать большую статью про губернатора, поэтому вместо Нью-Йорка пришлось ехать в Уилсон.
Сегодня я отправил Беннету статью «Тред-юнионизм и негры Юга». Он пообещал ее там пристроить. По его рекомендации я использовал псевдоним: Уоррен Деннис. У меня есть идеи еще нескольких статей, но поживем – увидим, выстрелит ли эта.
Понедельник, 2 сентября 1935 года.
Получил письмо от Беннета. Ему «крайне» понравилась статья. Он написал: «Отличный анализ. Давай еще в том же духе, мой друг!» За эту статью он выручил для меня сорок долларов. Я был рад, что хоть кому-то это интересно. Я попросил его считать этот гонорар моим взносом в фонд Общества. Ну что ж, начну работать над другими статьями. По моему разумению, ничего особенного в них нет, но, по крайней мере, я делаю, что могу, чтобы помочь делу, – и это куда лучше, чем сидеть в конторе и собирать арендную плату для отца.
Пятница, 10 июля 1936 года.
Сегодня на вечеринке в Нортсайде я встретил… ну, вообще-то я ее не встретил; я не знаю, как ее зовут, но как-нибудь узнаю … самую милую, самую красивую девушку на свете. Это красивая девушка с темно-карими глазами и каштановыми волосами, в синем платье, которое выглядело на ней слишком не подходящим для такой разношерстной компании. Она не показалась мне завсегдатаем этого сборища, но, во всяком случае, в питье она не отставала от прочих – первый раз я ее заметил у раковины, где она смешивала коктейли. Она заметно выделялась среди присутствующих, хотя и не вела себя шумно или вызывающе. Она вообще почти не раскрывала рта. Она смешала мне пару коктейлей и села рядом со мной, когда я ее попросил, но когда вечеринка была в разгаре, она вдруг исчезла. Я не видел, с кем она пришла. Надеюсь, она не замужем. В любом случае я это выясню.
Четверг, 20 августа 1936 года.
Я узнал ее имя: Камилла ДеВиллет. Но когда Говард мне это сообщил, было уже поздновато звонить. Попробую завтра после работы.
Воскресенье, 7 февраля 1937 года.
Сегодня я женился. Этим все сказано.
Понедельник, 7 февраля 1938 года.
Сегодня моя первая годовщина. Это был один счастливый, хороший, милый год. Если бы кто-то год и девять месяцев назад сказал мне: «Уилсон, в твоей жизни будет год, наполненный одним только счастьем, ты перестанешь нервничать, ты не будешь курить одну за другой, ты будешь правильно питаться, ночью сладко спать крепким сном, и ни одного дня в течение этого года ты не будешь одинок», – я бы не поверил, я бы счел такого человека умалишенным. Но, чудо из чудес, это – чистая правда. Прошедший год был счастливейшим временем моей жизни. И главное: чудесное и прекрасное заключается в том, что и последующие пятьдесят или сколько там лет будут такими же счастливыми, такими же бесценными и несравненными, как и этот год.
Причем у нас не придуманный и не сказочный брак, не такой, какой бывает в книгах, какого не бывает в жизни. Мы бранимся. Она, допустим, приберется у меня на столе, так что я ничего не могу найти, и я ей выговариваю. Когда у меня не вытанцовывается статья, я начинаю на нее сердиться, цепляться к ней по пустякам. Каждые двадцать восемь дней у нее болит спина, и она выговаривает мне, как будто я в этом виноват. Но это все мелочи, которые не сравнятся с теми бесконечными днями и неделями, когда мы наслаждаемся друг другом. С каждым днем я все больше ее люблю, каждый день я нахожу в ней что-то новое, за что я могу еще больше ее любить, и, главное, она мне нравится! Если бы она не была девушкой, женщиной (и какой женщиной!), если бы она была мужчиной, она бы, несомненно, стала моим лучшим другом.
Единственное, чего нам не хватает, так это детей, ребенка, но это потому, что пока мы еле сводим концы с концами. Скоро мне дадут повышение, и вот уж тогда мы будем «делать маленького».
Сегодня пришла открытка от Беннета. Он вложил в конверт записку, сообщавшую, что он продал мою статью «Разрушительный эффект сегрегации в общественной жизни Юга». Журнал, по его словам, очень-очень левый, но если там работают люди, которым нравятся мои статьи, то, по-моему, все в порядке.
Суббота, 5 марта 1938 года.
Камилла сказала, что у нее уже двухнедельная задержка. Она не говорила раньше, потому что мы в прошлое воскресенье играли в теннис, и она сочла, что в этом дело.
Вообще-то сама она ничего не сказала, мне пришлось это из нее вытягивать. В кладовке у нас есть верхняя полка, где мы храним всякое барахло, коробки с летними вещами. Эти коробки довольно тяжелые, и осенью, когда я их туда ставил, я сам еле справился. А вчера, вернувшись с работы, застаю ее в тот момент, когда она, взгромоздившись на стул, двигает их там. Я спросил, что она делает.
– Ищу кое-что.
Я снял пиджак.
– Давай я помогу. Они же тяжеленные!
Она смотрит на меня.
– Да ничего. Справлюсь. А ты сядь и отдохни.
– Что значит, ты справишься? Я сам их с трудом сдвигаю с места. Давай, слезай со стула!
Ее карие глаза затуманились. Когда она сердится, они буквально деревенеют, становятся твердыми, как кусочки коры.
– Не надо мне помогать! Я справлюсь!
На секунду мне захотелось подшутить над ней, но потом я решил оставить ее в покое. И потом забыл об этом (вчера я даже не упомянул тут об этом случае). Но утром я разоспался и услышал из кухни свист кипящего чайника, и когда вошел с ней поздороваться, увидел ее на полу, она лежала на спине, задрав ноги, лицо раскраснелось от напряжения, все тело содрогалась, и она шептала: «Давай, давай, давай же!». Она уронила ноги на пол, подождала несколько секунд, снова подняла и задержала на весу, слегка расставив, потом соединив, потом снова их соединив.
Я стоял позади нее, и она меня не видела. Чайник свистел вовсю, а я был босой, так что она и не слышала, как я вошел, и наконец я говорю:
– Слушай, Камилла, Олимпийские игры состоятся только в 1940 году, если вообще состоятся, учитывая обстановку в Европе. Чем ты занимаешься?
Она вздрогнула и села, испуганно глядя на меня.
– Чем ты занимаешься?
Тут она и сообщила, что у нее двухнедельная задержка.
– И это странно, потому что с тринадцати лет я могла бы вести счет времени, даже если бы часы не были изобретены. Сначала боли в спине. Потом головные боли, потом судороги, ну и все остальное. Все четко по плану, как по расписанию поездов или по смене фаз луны.
Я посоветовал ей не беспокоиться. Придут. А если нет – то что? Может быть, нам не стоит оттягивать, а не то ждать придется слишком долго. Не то чтобы мы не хотели детей, нет, конечно, мы хотим – и много! Мы хотим, чтобы весь дом был полон ребятни! Но мы просто хотим немного подождать. Пока не скопим порядочно денег. Но в любом случае скоро мне дадут повышение. Так что беспокоиться не о чем. Конечно, мы не уверены, что она беременна, но я не прочь стать отцом. Если стану папой, то скорее всего порву с традицией Уилсонов и не назову ребенка именем на букву Д. А если будет мальчик, то я бы хотел назвать его Беннет Брэдшоу Уилсон.
Суббота, 12 марта 1938 года.
Пока никаких признаков, и Камилла больше не делает эти дурацкие упражнения. Но похоже на то, что я буду отцом! Боже! Как я могу оставаться таким спокойным? Я же стану отцом!
Понедельник, 14 марта 1938 года.
Отправился сегодня в редакцию в надежде получить повышение, а меня уволили. Кто-то, не знаю кто, прочитал мою статью о разрушительном эффекте сегрегации, узнал, что я – автор, уж не знаю как, и за это меня вышибли. Черт! Я даже рад, что все вскрылось. Теперь можно подписывать эти статьи своим собственным именем. Мне нет нужды стыдиться говорить правду. Завтра же пойду в другие газеты. Я – хороший журналист, и люди это знают. Вряд ли мне будет трудно найти другую работу.
Понедельник, 21 марта 1938 года.
Камилла была у врача. По его словам, еще преждевременно говорить, но он почти уверен, что это беременность. В ближайшие две-три недели станет яснее.
Я обошел три из семи местных газет. Мимо кассы. Они даже еще консервативнее, чем «А – Т».
Четверг, 14 апреля 1938 года.
Камилла точно беременна.
Вторник, 26 апреля 1938 года.
Ни одна газета в Нью-Марселе не берет меня. Я – в черном списке. И что же теперь делать?
Получил письмо от Беннета. Я ему сообщил, что, похоже, не смогу получить тут работу. Он предложил переехать в Нью-Йорк. Но я сейчас не могу сдернуть Камиллу и переехать с ней жить в другой город. А вдруг и в Нью-Йорке я не смогу ничего найти. Там нам будет гораздо хуже. Надо найти что-то здесь. Может быть, все поутихнет, и кто-нибудь рискнет взять меня. Черт бы все побрал! Я же опытный журналист.
Четверг, 5 мая 1938 года.
Ничего! Ничего!
Получил письмо от Беннета. «Мужайся, мой друг! Приезжай в Нью-Йорк. Здесь твои статьи произвели впечатление. Ты непременно, это я могу обещать, найдешь тут работу. Но даже если не найдешь, я же работаю, а значит, и ты тоже работаешь».
Я спросил мнение Камиллы. Она ни секунды не колебалась. «Я смогу полностью собраться… дай-ка подумаю… за четыре дня».
Но подозреваю, это в ней говорит ее представление о стоическом и романтическом характере южных женщин. Вряд ли ей действительно хочется переезжать. Думаю, возможного переезда она боится больше, чем я.
И как бы мне ни претила эта идея, наверное, нам придется вернуться в Саттон, снова жить в Свеллз вместе с моими родителями, а мне – собирать арендную плату для отца.
Но я еще не опустил руки. Может быть, здесь что-то найдется.
Среда, 1 июня 1938 года.
У нас с Камиллой состоялся еще один разговор. Она по-прежнему считает, что нам надо ехать в Нью-Йорк. «Я люблю тебя, Дэвид. Мы поедем. И ребенок поедет вместе со мной». Она рассмеялась. «И я хочу поехать, потому что этого хочешь ты. Если вернешься в Саттон, ты этого не вынесешь. И у нас уже не будет так, как раньше. Так что давай поедем в Нью-Йорк. Я готова идти за тобой хоть на край света».
Но я ей не верю. Она изо всех сил старается поступить правильно, но ехать ей не хочется. Я же вижу.
Написал Беннету, что твердо решил вернуться в родительский дом.
Вторник, 7 июня 1938 года.
Получил ответ от Беннета: «Ну коль скоро ты принял такое решение, я приложу все усилия и пойду на любые ухищрения, чтобы переубедить тебя и заставить приехать в Нью-Йорк».
Боюсь, Беннет, это ни к чему не приведет. Знаю, мои контрдоводы будут звучать не слишком убедительно для тебя, да и для меня самого. Я как будто наблюдаю парад, и я должен гордо маршировать в его колоннах, но меня оттеснили на обочину. Я должен делать то, что считаю своей первейшей обязанностью. Только это – и больше ничего.
Среда, 29 июня 1938 года.
Вчера пришло последнее длинное письмо от Беннета, его последняя попытка заставить меня передумать. В конце он пишет:
«У нас с тобой были такие грандиозные планы, мы пришли к удивительному единодушию по ряду важных вещей – и я благодарю тебя за твой вклад, – и я так надеялся, что мы сможем повести наши народы в правильном направлении, но теперь ты решил меня покинуть. Нас объединял энтузиазм по поводу нашего будущего, но теперь он нас больше не объединяет. Рухнула одна из важнейших опор нашей дружбы. Я это говорю для того лишь, чтобы ты понял: с этого момента нет смысла продолжать нашу переписку. Для меня это, разумеется, будет большой потерей.
Конечно, я никогда тебя не забуду. Пусть ты и не стал частью моего будущего, но ты же остаешься частью моего прошлого.
Прощай, Дэвид, и удачи тебе,
Беннет.
Понедельник, 15 августа 1938 года.
Мы переехали в Свеллз. Семья все понимает. Но я же чувствую: они меня просто жалеют. Все! Даже Камилла.
Четверг, 1 сентября 1938 года.
Собирал арендную плату для отца.
Среда, 20 октября 1954 года.
Вырезал сегодня вот эту статью из журнала:
Религия «Иисус – черный!»
С крупным распятием на цепочке для часов, в котором бликует яркий свет юпитеров, под стихающие крики «Иисус – черный!» в битком набитом зале преподобный Беннет Т. Брэдшоу, основатель движения «Возрожденная церковь черного Иисуса Христа Америки, Инк.», увещевал свою паству с чуждым этому городу британским говорком: «Мы объявили войну белому человеку! Белому миру и всему, что он защищает, мы обещаем смерть!»
Группа, именующая себя «Черные иезуиты», была основана в 1951 году уроженцем Нью-Йорка и выпускником Лиги плюща, закаленным в политических битвах Брэдшоу, и сейчас, по ее собственным оценкам, насчитывает 20 тысяч членов («…и это число постоянно растет»).
Человек…
Ужаленный красным змием в давнюю пору студенческой жизни (незавершенной, так как он бросил колледж после 3,5 лет учебы), Брэдшоу примкнул к «Национальному обществу по делам цветных» в 1935 году, откуда был изгнан в 1950 году, когда из-за своих коммунистических связей он прошел через горнило нескольких комиссий Конгресса.
После того как перед ним захлопнулась дверь НОДЦ, но не открылась ни одна другая дверь, Брэдшоу решил попасть в мир расовой политики через черный ход: религию. Вот что он говорит: «Это правда, что я обрел призвание вскоре после своего изгнания из Общества, но уверяю вас: одно никак не связано с другим».
Брэдшоу, холостяк, живет один на верхнем этаже здания в Гарлеме, в котором располагается его церковь, и разъезжает повсюду в новеньком черном лимузине с личным шофером, полученном им в дар от преданного сторонника – простого работяги. («Я просто не мог ему отказать: он три года копил деньги на этот подарок».)
…и его движение
Будучи братством по оружию вроде морской пехоты, «Черные иезуиты» базируются на доктрине, в которой всего понемножку из «Майн кампф», «Капитала» и Библии. Группа имеет антисемитскую направленность. («Евреи в основном заняты эксплуатацией на благо белого человека. Посмотрите на фамилии тех, кто сдает в аренду жилье в Гарлеме!») «Черные иезуиты» поднимают на щит те пассажи в Библии, которые поддерживают идеи превосходства черной расы, они убеждены, что Иисус был негром. («Все прочее было позднее добавлено или изменено, чтобы держать в узде темнокожих людей. У римлян тоже были свои расовые проблемы».) Но даже и эта линия колеблется. «Черные иезуиты» свято верят в то, что проповедует Брэдшоу. И хотя его буллы не всегда отличаются последовательностью, Брэдшоу уверяет, что все они ниспосланы небесами и являются переосмысленными откровениями свыше.
Растущее беспокойство по поводу негативного воздействия «Черных иезуитов» на межрасовые отношения в Нью-Йорке не волнует Брэдшоу, который в своем характерном стиле библейского проповедника заявляет: «Они нас теперь боятся. Они знают, что мы возьмем свои права, если нам их не дадут».
Эх, Беннет, Беннет, мы оба – проигравшие.
Суббота, 23 июня 1956 года.
Джон Калибан, который проработал на нашу семью более пятидесяти лет, умер сегодня в автобусе по дороге в Нью-Марсель.
Суббота, 18 августа 1956 года, 7:30 (события прошедших семи часов)
Я так и не спал после поездки с Такером. Мы ездили осматривать мою землю к северу от города, там, где когда-то, еще до моего рождения, была плантация Уилсонов. Я продал Такеру семь акров этой земли на юго-западном участке.
Странный был вечер. Я совершенно не понимаю почему, но у меня было ощущение, что произошло нечто очень важное. Но думаю, что это ощущение стало просто результатом моего жизненного опыта, который по большому счету никому особенно и не интересен. (Полагаю, мне бы хотелось обратного.) Ладно, постараюсь все описать как можно точнее, пока не забыл.
Я сидел в кабинете один и читал. Сегодня вечером – то есть вчера вечером – было жарко и тихо, и я открыл окно пошире, как вдруг в дверь постучали, стук был тихий, почти робкий, словно стоящий за дверью побоялся стучать кулаком, не желая выглядеть агрессивно, и постучал тыльной стороной ладони, как будто собака царапнула лапой. Я отозвался:
– Да! Кто там?
– Такер, мистер Уилсон!
Я сразу узнал этот писклявый, немного гнусавый голос и вернулся к письменному столу.
– Что такое, Такер?
– Можно отвлечь вас на минутку, сэр?
– Входи!
Дверь открылась, и он вошел: щуплый, темнокожий, в шоферском костюме – белой рубашке и узком черном галстуке. Он был похож на ребенка, изображающего гробовщика. Свою черную фуражку он сжимал обеими руками перед собой. Настольная лампа бликовала в его очках, отчего его глаза казались огромными плоскими золотыми кругами.
Я уже полез в карман за бумажником, уверенный, что ему нужна наличность для покупки бензина, масла или что там ему было нужно еще для машины – обычно я не трачу время на лишние вопросы: он просто называет сумму.
– Да, Такер, ты что хочешь?
Я раскрыл бумажник, достал из зажима банкноты и уже приготовился отсчитать нужное количество.
– Я хочу семь акров вашей земли, – проговорил он грубовато, но такая уж у него манера. Он шагнул вперед, прикрыл за собой дверь и теперь стоял посреди комнаты, обратив на меня свои сияющие круги, за которыми я не видел ни его глаз, ни их выражения. – Семь акров земли на бывшей плантации.
Я удивился:
– Зачем это тебе?
Я убрал бумажник в карман и откинулся на спинку кресла, глядя в два сияющих солнышка на лице Такера, пытаясь разглядеть за стеклами его глаза.
Он стоял, не шелохнувшись, словно черная статуя миниатюрного размера.
– Хочу заняться фермерством.
Этот простой ответ почему-то показался мне отговоркой. Было бы несправедливо уличить его во лжи, но все же мне хотелось знать, что у него на уме.
И я решил подтрунить над ним. Может, это сподвигло бы его на откровенность:
– Ты и фермерство? Да ты не знаешь, что это такое. Ты же ничего не смыслишь в этом деле.
Он коротко кивнул, признавая справедливость моих слов:
– Но я хочу попробовать.
Такер по-прежнему не шевелился, стоя неподвижно и прямо, словно неживой.
Моя насмешка не сработала, и я решил изобразить из себя заботливого хозяина:
– Присядь, Такер.
Его не надо было просить дважды. Он прошел – точнее сказать, промаршировал – к моему письменному столу, сел на стул и замер, выпрямив спину.
– Откуда у тебя деньги? – спросил я и, уперев локти в столешницу и сцепив пальцы, опустил на них подбородок.
– Накопил. Дедушка оставил немного. – Мой вопрос вызвал у него раздражение, ему не хотелось, чтобы я его изображал сердобольного папочку. – Так вы продадите мне землю?
– Не знаю. – Возможно, надо было просто ему ответить: да или нет, но вдруг мне почудилось, что я – персонаж пьесы: у меня есть текст моей роли, у него – тоже, и нам нужно обмениваться репликами, чтобы пьеса могла двигаться дальше по заранее придуманному сюжету. – Это земля, которую когда-то застолбил для себя Дьюитт Уилсон. И никто с тех пор не владел ни пядью этой земли. И я не уверен, что ты вправе быть ее первым владельцем.
Он кивнул и привстал. Это тоже было своего рода демонстрацией.
– Хорошо, сэр.
Теперь мне по логике моей роли надо было его остановить. Что я и сделал:
– Погоди, Такер. Возможно, я сделал поспешный вывод. Что ты планируешь делать? – Я откинулся на спинку кресла, изучающе глядя на него. Теперь я мог разглядеть его глаза, но они ничего не выражали, как и сияющие круги раньше.
– Что значит планирую? Я вас не понимаю, сэр.
– Какой твой план? Чем именно ты планируешь заняться на этой земле? И зачем тебе наша земля? Почему бы тебе не купить землю еще у кого-нибудь?
– Я просто хочу заняться фермерством. Вот и все.
– А что будешь выращивать?
– Да все подряд. Кукурузу, хлопок, что обычно выращивают на фермах.
– Но почему ты пришел именно ко мне? – Я подался вперед и сжал кулаки. Очень странно. Эта пародия на драму захватила меня, и мне даже стало интересно, во что она выльется. – Должен тебе сказать, что мы никогда никому не продавали эту землю. Так почему мы должны продать ее сейчас?
Он смотрел на меня и молчал.
– И почему именно участок на плантации? У нас есть земля южнее города. Та земля лучше.
Его губы едва заметно зашевелились:
– Мне не нужна та земля. Ну так что, вы продадите мне участок земли на плантации? – Он говорил раздраженно, почти злобно.
Наверное, я все же слишком южанин, потому что его чуть ли не хамоватый тон меня задел, и я прикрикнул:
– Ты бы последил за языком, Такер! А то у тебя будут серьезные неприятности.
И он тотчас ответил – так, что заставил меня устыдиться своих слов:
– А мы сейчас разговариваем не как белый и черный. Сейчас у нас другой разговор, мистер Уилсон.
Я ощутил жуткую усталость – и сдался:
– Разве ты не понимаешь, Такер, если я решу продать тебе нашу землю, то для этого должна быть какая-то веская причина. Понимаешь, я не могу просто отдать ее тебе. И подозреваю, что, даже если бы я предложил, ты бы отказался. Ты же хочешь за нее заплатить. – Я свернул разговор на финансовые рельсы и добавил: – А мне нужно быть уверенным, что ты сможешь соблюсти график платежей.
– Не будет никаких платежей. У меня уже есть нужная сумма.
– Откуда ты знаешь? Я же еще не назвал тебе цену.
– У меня есть деньги, чтобы купить двадцать акров. И, кроме того, вы же знаете, что вас устроит любая цена, какую я предложу.
После этих слов мы глядели друг на друга, кажется, бесконечно.
– Я-то знаю, но и ты скажи вслух, чтобы я это услышал, Такер. Это важно, чтобы я услышал. – Я чуть не умолял его.
Он кивнул:
– Я хочу эту землю на плантации, потому что там работал первый Калибан, и пришло время нам самим владеть этой землей.
– Что еще? – Я с волнением подался вперед.
Но он меня разочаровал:
– Не знаю. Когда я там окажусь, я узнаю. А пока могу сказать, что мой ребенок не будет работать на вас – и точка. Он будет сам себе босс. Мы слишком долго работали на вас, мистер Уилсон. Однажды вы пытались нас освободить, но получилось не очень, и теперь нам надо самим себя освободить.
Я выпрямился и стал рассматривать бумаги на столе.
– Сколько ты намерен заплатить, Такер?
Мы начали обсуждать цену. Такер назвал сумму своих накоплений, чего, как он и сказал, хватило бы на покупку по меньшей мере двадцати акров.
Я развернул карту земельного участка и указал ему на эти семь акров.
Такер кивнул:
– Вот эту землю я и хочу.
– Почему?
Между нами вдруг возникла доверительность и близость, как никогда раньше. Мы пришли к весьма странному соглашению, которое я не до конца понимаю, разве что я решился на нечто, что всегда хотел сделать, и это было примерно то самое, чему я надеялся стать свидетелем еще лет двадцать назад. А Такер осознал, что в его жизни что-то идет не так, и он пытался все исправить. Мы просто помогли друг другу добиться того, к чему каждый из нас по отдельности стремился.
– Эта земля имеет для меня особенное значение, – сказал Такер. – Об этом мне еще дедушка когда-то говорил. – Он не уточнил, о чем.
– Ну что ж, теперь это твоя земля. Завтра я составлю свидетельство о передаче права собственности.
Но он продолжал меня удивлять:
– Составляйте, но держите его у себя. Мне не нужны никакие свидетельства. Земля – моя, и, кроме того, вам эта земля все равно не нужна, и вы не станете потом обманом ее у меня отбирать. – Он произнес это, как бы улыбаясь про себя, но его губы не улыбались.
Это был приятный момент, одно из тех драгоценных мгновений душевного общения, которые мне редко доводилось переживать в жизни, и теперь мне хотелось его продлить. Я спросил, не хочет ли он выехать на место и осмотреть участок.
– Я имею в виду: прямо сейчас. Давай я тебя туда отвезу.
Он не ответил, а встал со стула и двинулся к двери. Я пошел за ним, а потом вдруг вспомнил кое о чем, что дал мне когда-то отец, когда я вернулся в этот дом. Он тогда выдвинул ящик письменного стола, достал небольшой предмет и отдал мне.
– Это не твое, – сказал тогда отец, – это принадлежит Калибанам. Но они еще не готовы это принять. Отдай им, когда сочтешь, что настала пора.
Он не уточнил, что это, но, стоило мне увидеть этот предмет, я сразу все понял, потому что мне, как и любому другому, была известно старое предание. Все его знали, всем оно нравилось, хотя все считали его не более чем выдумкой. Но когда отец отдал мне белый плоский камешек, я засомневался. Словом, я вернулся к столу, выдвинул ящик, нашел его под ворохом бумаг, где он лежал, чуть запылившийся, и, идя к Такеру, я развернул носовой платок, и камешек засверкал в свете настольной лампы. Я отдал ему камешек.
Он взял, а я внимательно наблюдал за его лицом и заметил, как увлажнились его глаза, причем раньше я никогда не видел, чтобы он был готов расплакаться или вообще выражал хоть какую-то эмоцию. Он положил белый камешек в карман, резко развернулся и вышел из кабинета.
По дороге к участку, когда Такер сидел рядом в машине, я вдруг поймал себя на ощущении, что за последние двадцать лет впервые сижу так близко с негром, вдвоем, впервые с начала моих рождественских каникул на четвертом курсе. Но в тот раз за рулем сидел Беннет и говорил, говорил без умолку, а я сидел рядом, опасаясь, что он не следит за дорогой и не сможет вовремя увидеть посреди шоссе слона через очки с темными стеклами, которые он ни с того ни с сего, без всякой причины стал тогда носить, и мы попадем в аварию и погибнем, так и не претворив в жизнь все свои грандиозные планы по переустройству мира. Помню, как мы, словно промокшие котята, ежились от холода в кабине грузовика. Да, именно тогда я в последний раз был бок о бок с негром! И не просто рядом на сиденье, но в гораздо более глубоком смысле.
Может быть, мне стоило попасть тогда в аварию и погибнуть. Как выяснилось, все равно я ничего не добился в жизни. Я не к тому, конечно, что мне хочется сейчас умереть. Это было бы слишком мелодраматично. Я хочу сказать, что очень многих людей, которых любил, я сделал несчастными, потому что мне всегда недоставало мужества осуществить свои планы. Потому что я был трусом, и всех вокруг я сделал трусами, даже хуже трусов, потому что они ожидали от труса каких-то активных действий.
Особенно Камилла, ждущая, терпеливая, верная Камилла. Она заявила свою позицию куда лучше меня, сказав, что поедет в Нью-Йорк, лишь бы я был счастлив. И теперь я понимаю, что она не кривила душой. Но я ей не поверил. Она лелеяла веру в меня, в которой я так нуждался, и коль скоро я не был готов ее веру принять, она перестала верить в эту свою веру. Я обесценил ее. И когда я осознал, что, в конце концов, она была человеком, способным размышлять, а не рабыней, не игрушкой и не просто южной женщиной, было уже слишком поздно. Я предал нас обоих.
Вот о чем я спросил Такера сегодня. Я повернулся к нему: он сидел, глядя на ленту шоссе, глубоко погруженный в свои мысли, как я – в свои, и я задал вопрос, что об этом думает Бетра – о покупке земли.
– Она беспокоится, мистер Уилсон. Думаю, она считает, что я спятил.
Ему, верно, тяжелее, чем мне. Бетра куда более независима, чем моя Камилла.
– Это тебя тревожит? Ты не хочешь дать задний ход?
– Нет, сэр. Я должен это сделать.
– Разве она не хочет, чтобы ты все еще раз хорошенько обдумал? Покупка фермы – серьезный шаг, особенно если учесть, что у тебя нет опыта фермерской работы. Она вообще хочет, чтобы ты этим занимался?
– Нет, сэр.
– Тогда как же ты можешь? Тебе не кажется, что у нее есть право голоса? То есть, я хочу сказать, она очень толковая девушка. И, может быть, она права.
– Неважно, права она или нет. И неважно даже, если я не прав. Я должен это сделать, даже если это ошибка. Если я этого не сделаю, это все никогда не кончится. Мы вечно будем гнуть на вас спину. И это надо прекратить.
– Да, надо.
– Да, сэр.
Мы ехали по шоссе. Справа, над горным хребтом, небо начало сереть, ночная тьма рассеялась, и пейзаж окрасился синевой, став похожим на витраж, словно подсвеченный изнутри, но не освещающий пространство вокруг. Мы почти уже доехали до фермы. Я снова повернулся к нему.
– А может ли что-нибудь изменить твое решение?
Он ответил без промедления:
– Нет, сэр.
– И я думаю, что ничего, если учесть, как много значит для тебя эта ферма.
Он посмотрел на меня:
– Всегда выпадает только один шанс. Это когда ты можешь что-то сделать и когда есть нужное настроение. Если нет одного из двух, то и пытаться нет смысла. Если ты можешь что-то сделать, но нет настроения, зачем вообще начинать? А если есть настроение, но нет возможности, то это все равно что бодаться с автомобилем, который мчится на тебя со скоростью сто миль в час. Так что нечего даже думать о каких-то делах, если нет этих двух условий. А если у тебя были оба условия, да ты прозевал свой шанс, лучше забыть об этом, потому как твой шанс был да сплыл, и его не вернуть.
Я кивнул. Кому-кому, а мне ли этого не знать.
Люди на веранде
Никто не ушел домой.
Все продолжали сидеть и в девять часов вечера субботы, наблюдая, как последние автомобили с неграми-переселенцами проезжают через Саттон мимо веранды мистера Томасона в северном направлении. Весь день караван машин двигался бесконечной вереницей, словно длинная похоронная процессия. Но теперь поток поредел, и на Истерн-Ридж въезжали уже не группки транспортных средств, а отдельные машины, как будто в них сидели не беженцы, а семьи отпускников. И все равно автомобилей на шоссе было больше обычного, хотя и не так много, как днем. Каждый сидящий на веранде размышлял про себя, значит ли этот поредевший поток машин, набитых детьми, стариками, взрослыми, младенцами, матрасами, одеялами и чемоданами, что и в Нью-Марселе негров совсем не осталось.
Все уже знали, что в Саттоне их точно уже не было, потому как в два часа пополудни только случайные одиночки стояли со своим скарбом на остановке около веранды Томасона в ожидании следующего автобуса, и сидящие на веранде люди глядели в сторону площади и уже не видели машин, движущихся от северной окраины города – той его части, где обитали негры. После того, как в шесть вечера мистер Харпер покинул свой пост, кое-кто отправился домой ужинать, хотя большинство закупили еды в магазине мистера Томасона и продолжали сидеть, хрустя крекерами, орешками, леденцами или яблоками. Некоторые, скатав обертку в шарики и бросив их на проезжую часть, встали и отправились в негритянский район поглазеть, как там обстановка.
Но там они не нашли ничего примечательного – вроде пылающих домов, негры не удосужились даже оставить в брошенных домах свет, чтобы грабителей отпугивать, потому что они забрали с собой все ценные вещи, а остальное бросили на разграбление, облегчив мародерам жизнь, оставив двери нараспашку. Кое-где из дверных замков торчали ключи – словно приглашение тем, кто хотел бы вселиться в покинутые дома. Людям с веранды не хватило духу войти в пустые здания из того же свойственного южанам уважения к частной собственности и к домашнему очагу, которое в четверг удержало их от того, чтобы походить по земле Такера Калибана; но тем не менее они вглядывались через порог во тьму и обнаруживали там тьму-тьмущую всякой всячины: стулья, столы, диваны, ковры, швабры, кровати и прочий хлам. Стены стояли голые, лишенные семейных фотографий, на которых были запечатлены суровые деды, или бравые сыновья в солдатской форме, или замужние дочки, и фамильных распятий – всего того, без чего не обходится заселение семьи в новый дом. Если бы люди с веранды зашли внутрь и заглянули бы под кровати, они бы заметили там среди ровного пыльного поля прямоугольники чистого пола, где всего несколько дней до этого стояли чемоданы. Ни одного негра не было видно.
И все вернулись на веранду. Они не обсуждали только что увиденное, потому что каждый все и так видел своими глазами. И они сели и молча обдумывали, пытаясь сообразить, какое отношение эти события имеют к каждому из них и как их жизнь завтра, и на следующей неделе, и в следующем месяце будет отличаться от той, что была вчера, и неделю назад, и в прошлом месяце, или с самого их рождения. И никто не мог ничего понять. Это было как вообразить себе Ничто – то, что никто никогда не пытался осмыслить. И никто из них не имел никакой точки опоры, на которой они могли бы возвести представление о мире-без-негров.
А потом Стюарт подкатил на своей повозке, и рядом с ним на сиденье стояла бутыль виски, пузатая, как он сам, и эту бутыль пустили по кругу, и каждый перед тем, как приложиться, отирал горлышко рукавом, исполняя дурацкий и бессмысленный ритуал чистоты.
Вот когда они начали сердиться, тихо исходя гневом, словно невеста, брошенная в церкви перед алтарем и жаждущая мести, но не находящая рядом ни души, на кого можно было бы ее излить, и злящаяся от бессильного гнева еще пуще прежнего. Они маскировали чувство утраты, уверяя себя и других, что никакая это не утрата, – в точности как губернатор этим утром.
Стюарт сделал еще один изрядный глоток.
– Правильно! Ну и на хрена они нам сдались? Вы только посмотрите, что делается в Миссисипи или в Алабаме. Нам беспокоиться не о чем. Начнем жить по-новому, как говорит губернатор. Теперь заживем, как всегда жили, и нам не надо беспокоиться, что какой-нибудь ниггер постучится в дверь во время ужина и захочет сесть за наш стол.
Он сел на ступеньки веранды рядом с Бобби-Джо, который после ухода мистера Харпера совсем притих.
– Поглядим на это дело с другой стороны: теперь у нас будет полно работы, полно земли – вся работа и вся земля, которую эти ниггеры себе захапали, оно теперь наше. Когда все устаканится, вот мы заживем! – Стюарт вспотел, как это с ним всегда бывало, когда он выпивал или не выпивал, в жару или в холод, и достал из кармана носовой платок.
– Вот только работы, как и земли, может оказаться чересчур много! – изрек Лумис, надвинул шляпу на лоб и, балансируя на задних ножках стула, уперся спиной в стену. – У нас народу не хватит, чтобы справиться со всем объемом. Я же изучал экономику в колледже. А раз так, то и еды на всех не хватит. Останется земля, которую никто не сможет обрабатывать. Раньше на всех хватало, по крайней мере на то, чтобы пупок не надорвать. Мы ж не в Японии, тут никто не станет сеять на склонах Истерн-Ридж, держась на веревке, чтобы не скатиться кубарем вниз.
– Все равно жизнь у нас станет лучше! – Стюарт повернулся и сощурился, чтобы получше разглядеть Лумиса в тени навеса. – Вот взять, к примеру, Томасона. Он – владелец единственного магазина в Саттоне. Раньше было два магазина: у того ниггера на северной окраине был магазин. А теперь у Томасона в руках весь бизнес!
Лумис покачал головой:
– Да, но он же потерял больше половины клиентов!
Но он не мог переубедить Стюарта.
– А гробовщик Хагаман? Теперь его похоронная контора – единственная во всей округе. Все мы когда-то умрем. Я слыхал, что услугами того ниггера-гробовщика в Саттоне пользовались даже белые.
– Но я что-то не уверен, что все это к лучшему. У нас разве белые мели полы в магазинах, а? Только цветные. Ты вот согласишься мести полы в магазине, а, Стюарт? Это ведь единственная работа, на которую ты годен.
Раздался смех.
Бобби-Джо щелкнул пальцами. Получилось громко, даже с эхом:
– То-то и оно!
Тут все повернулись к нему. До сих пор он еще ни слова не вымолвил, только сделал пару-тройку глотков из бутыли. Он сидел, опустив ноги на край мостовой, уперев один локоть в штанину комбинезона, и сквозь дыру в ткани проглядывала его голая коленка.
– Я же предупреждал: этим дело не кончится!
– Смотри-ка, Лумис, Бобби-Джо уже сам с собой начал толковать, а ведь он только пару раз приложился к бутыли.
Томасон сидел на стуле, который он вынес из магазина.
– Сынок, ты бы не пил, коли не умеешь держать себя под контролем.
– Заткнись! – Бобби-Джо рассвирепел. – Ты сам либо напился, либо сдурел и не в состоянии докумекать, что у нас тут происходит. – Он помолчал. – А что, по-твоему, он тут делает, если не подстрекает наших ниггеров? Вот в чем дело! Я знал, что этим не кончится!
Тут уже все стали смотреть на него, моргая, щурясь, пытаясь разглядеть его получше, словно разглядев Бобби-Джо, они могли бы лучше понять, о чем он толкует.
– Кто он? Что делает?
Томасон перегнулся вперед, обращаясь к парню. Стюарт нервно отер пот с лица, как он всегда делал, когда ему казалось, что он туповат и не может уразуметь того, что представлялось несложным для понимания.
Бобби-Джо покрутил головой по сторонам:
– Да этот ниггер-проповедник, который приехал сюда, а мы все сидели, вылупившись на него, точно он сам президент. Надо же было пораскинуть мозгами, надо было что-то предпринять. – Он раззадорился, вскочил и, обернувшись к аудитории, продолжал вещать. – Мы же могли его остановить! А повели себя так, будто увидали голую девку перед собой и не знали, что с ней делать, а только покраснели от стыда.
– Так, придержи-ка язык, Бобби-Джо! – Томасон на мгновение повернулся к Стюарту: – Ему больше не давать! – И снова обратился к парню: – Мы послушаем тебя, сынок, но ты выражайся проще. Ты давай присядь и начни с самого начала.
Но Бобби-Джо продолжал гнуть свое:
– Черт возьми! Ну, мы же не стадо глупых ослов! Мы же могли что-то сделать, а вместо того пялились на его лимузин, на его шофера, на деньги, которыми он тут сорил. Надо было вчера предпринять что-то, а не сидеть и тупо пялиться, и тогда мы бы не плакали, что они все уехали. Надо было что-то предпринять!
И тут Томасон сообразил:
– Ты про того ниггера из Возрожденной церкви Христа!
Это прозвучало не как вопрос, а как констатация факта, будто эта идея – о событиях пятницы и о негре в черном лимузине – сама собой, без помощи Бобби-Джо, пришла ему на ум.
– Ну да! Об том я и толкую. Об этом черномазом проповеднике с Севера, который приехал к нам и всех взбаламутил. Черт бы его побрал! А мы тут как дураки сидели и пальцем не пошевелили, просто глазели, как он швыряется деньгами.
– Придержи лошадей, парень. Тот проповедник появился в городе уже после того, как Такер Калибан выкинул свой фортель. Он же выспрашивал у мистера Лиланда, что тому известно. А сам он про случившееся – ни сном ни духом.
– И вы поверили? Вы правда ему поверили? Вы вправду думаете, что Такеру Калибану хватило бы мозгов заварить эту кашу, которую нам сейчас расхлебывать? Ну, вы даете! – Он говорил таким тоном, словно считал, что Томасон совершил ужасное преступление. – Ну, а я-то ни на секунду ему не поверил. Я с самого начала смекнул, что на уме у этого черномазого с Севера. – Бобби-Джо стал размахивать руками и ходить перед ними взад-вперед по веранде, словно они были присяжными, а он – адвокатом. – А вы тут про Африканца да его кровь, которая проявилась в Такере Калибане… Большей ерунды я в жизни не слыхал!
Стюарт, чуть изогнувшись, ткнул в него пальцем:
– А ты, умник, выходит, сразу смекнул? – Он усмехнулся. – То-то ты вчера рта не закрывал! Парень, не ври мне! Ты знал не больше нашего! Так что не ври мне, а то я обижусь!
Бобби-Джо сделал шаг назад:
– Ладно-ладно, вчера я не знал, но вы же все слыхали, как я сказал: не верю в эту чушь про голос крови, которую тут нес мистер Харпер. В эту чушь я не поверил, потому как это просто чушь! Как такое может быть, будто то, что произошло сто пятьдесят лет назад – если оно вообще произошло… Какое это может иметь отношение к тому, что случилось на этой неделе? Да это же вздор, и больше ничего! Нет, сэр, во всем виноват этот черномазый с Севера, этот аги… аги… как называют тех говорунов, которые баламутят народ?
– Агитаторы! – Лумис ввернул свое слово, воспользовавшись паузой.
– Точно, мистер Лумис, эти аги-та-торы! Он приехал к нам в своем большом черном лимузине и сагитировал всех ниггеров сбежать, покинуть насиженные места.
– Но он же ни черта об этом не знал, Бобби-Джо! – Томасон и сам не понимал, с чего он возражает против идеи, которую все готовы были принять. Возможно, его упрямство объяснялось психологией коммерсанта: привычка вести учет объемов и количества товара не позволяла ему поверить в нечто, во что он скорее всего и сам хотел верить. – И еще: на кой черт он вернулся? Не такой же он дурак, чтобы сначала снасильничать твою жену и обесчестить твою дочку, а потом нанести тебе визит – здрасьте вам! Да он бы поскорее смылся или затаился, но уж никак бы не вернулся и не стал бы стучаться к тебе в дверь.
Бобби-Джо оперся одной ногой о край веранды и наклонился вперед:
– Мне всегда казалось, что вы умный человек, мистер Томасон. Может, вам и хватало ума надувать покупателей и втюхивать им товары по задранным ценам, но вам явно не хватает ума додуматься, что вернуться к нам его заставила простая наглость, ему просто захотелось своими глазами поглядеть на плоды своих грязных замыслов. Вот зачем он вернулся.
– Ну, что ты на это скажешь, а? Может, парнишка прав? – Стюарт закивал и повернулся к Томасону.
Томасон заговорил, стараясь придать своим доводам разумную убедительность. Он вдруг понял, буквально почуял, что люди на веранде не просто слушают Бобби-Джо, но начинают верить в его правоту:
– Но сегодня-то мы его не видели, парень. Со вчерашнего дня он тут больше не проезжал, и в районе, где черномазые живут, тоже не видали, чтобы он им помогал собирать вещи. И никого из посторонних не было, кто бы руководил их отъездом. – Но он чувствовал, что внимание слушателей рассеивается, как подхваченный ветром песок, и пожалел, что здесь нет мистера Харпера, который смог бы их урезонить, или Гарри, который смог бы их усмирить.
– А он и не собирался тут глаза мозолить, – не унимался Бобби-Джо. – Зачем? Черномазые с Севера плевать хотели на здешних черномазых. Им бы только попортить нам, белым, жизнь да сбить всех нас, и белых, и черных, с панталыку. Его миссия закончилась, как только он все это замутил. А после ему оставалось только сидеть в своем лимузине да похохатывать – ему-то что: сиди и получай удовольствие! Что ему за забота, как они отсюда съедут? Они уезжали сами по себе, никто им не помогал.
Томасон вздохнул:
– Ладно, пусть так. И что? Допустим, проповедник это устроил. Теперь что об этом говорить!
Его слова заставили всех замолчать. Бобби-Джо снова сел и закурил. Остальные глядели поверх крыш на высыпавшие в небе звезды. Кто-то попросил спички. Кто-то передал коробок.
– Все закончилось, – продолжал Томасон. – И больше нет повода для беспокойства. Если он в этом виноват, то, считаю, он потрудился на славу. И больше тут сказать нечего. – Чуток уступи, чтобы чуток выгадать, подумал Томасон.
Люди закивали и одобрительно загудели.
– Попадись он мне в руки, я бы с ним потолковал! – Бобби-Джо стукнул кулаком в растопыренную ладонь. – Я бы смазал улыбочку с его рожи.
Если бы они сидели на противоположной стороне шоссе, то увидели бы автомобиль, мчавшийся от горного хребта, и свет его фар бил в небо, когда он ехал вверх к ущелью Хармона, так что два луча освещали узкий окоем горизонта, точно две крошечные холодные луны. Потом, миновав горный кряж, автомобиль двинулся вниз по склону, словно чашечка чувствительных весов, и дорога перед ним купалась в сиянии длинного светового луча. На фоне яркого света автомобиль казался черным пятнышком, и если бы они все туда посмотрели, то заметили бы черную молнию, летящую по шоссе в сторону города, а потом перестали бы видеть и черную молнию – только яркий светящийся шар, слепленный из света фар и блестящей решетки радиатора. А когда он подъехал бы ближе, светящийся шар раздвоился бы на яркие огни фар, и в последний момент они бы разглядели над их сиянием зеленый капот и лицо светлого негра-шофера справа за стеклом. Вот когда они и заметили струящиеся вдоль шоссе лучи, освещавшие стены домов, и разом повернулись туда, чтобы сосчитать сидящих внутри негров, – не то чтобы они вели учет отъезжающим, а просто фиксировали в уме число машин с черномазыми, чтобы в следующую секунду позабыть о них навсегда. Но сейчас на переднем сиденье лимузина сидел только светлокожий негр-шофер, а позади него темнели две фигуры, и им сразу удалось рассмотреть негра с длинными седеющими волосами и темными кругами глаз за очками, который откинулся назад, словно сидел в пляжном шезлонге. Бобби-Джо вскочил и выбежал на середину шоссе, но запоздал и остался стоять в клубах пыли и выхлопного дыма, и люди на веранде услышали его визгливые крики:
– Эй ты, проклятый проповедник, черномазый сукин ты сын, останови машину! Ты меня слышишь, ниггер? Останови машину! Я хочу с тобой поговорить! Останови машину!
Когда они проезжали мимо магазина Томасона, Дьюи не видел, как парнишка, примерно одного возраста с ним, с всклоченными волосами, выбежал на проезжую часть и помчался за машиной, потрясая им вслед кулаком, но шофер его заметил, и услышал его крики, и ударил по тормозам, так что лимузин пошел юзом, визжа шинами, и резко остановился прямо перед бронзовым взглядом генерала. Брэдшоу приблизил губы к микрофону.
– Что случилось, Клемент?
– Кто-то сзади кричал нам. Но я никого не видел на дороге, преподобный. Вряд ли я кого-то сшиб.
Он не успел закончить фразу, как люди с веранды бросились по дороге и обступили лимузин со всех сторон, стали дергать ручки, распахнули все двери, и лицо паренька, которого Дьюи узнал, но не смог вспомнить его имя, появилось в дверном проеме сзади, где сидел Брэдшоу. Даже на таком расстоянии Дьюи унюхал смрад перегара.
– Гляньте-ка! Мы его поймали. Это он! Глядите, мистер Стюарт!
Рядом с лицом паренька появилось лицо мужчины постарше с одутловатыми обвисшими щеками, в складках которых едва виднелся толстогубый рот.
– Черт побери! Это он, Бобби-Джо? Это тот самый ниггер, который все это замутил? – Он улыбнулся.
Паренек кивнул:
– Точно он. Что тут скажешь? Вы же помните? Я же так хотел, чтобы он попался мне в руки, помните? Видать, ангелы меня услыхали! Потому что вот он!
Дьюи перегнулся через живот Брэдшоу и обратился к пареньку:
– Погоди. Что с тобой такое?
Паренек осклабился. У него были неровные зубы, а несколько передних выщерблены или обломаны.
– Да это ж один из этих Уилсонов, любителей черномазых, у которых Такер Калибан заработал кучу денег, да и затеял эту смуту. Это вы помогли вашему дружку-ниггеру спланировать эту хрень, а, мистер Уилсон?
– Что спланировать? – Дьюи почувствовал, как его всего затрясло. Он постарался говорить ровно.
– Что спланировать? – переспросил паренек и локтем ткнул жирного в бок. – Что спланировать, мистер Стюарт? О чем это он? Вы считаете, он толкует о том, что все наши ниггеры решили сбежать? Да, я считаю, об этом он и толкует.
Жирный хмыкнул:
– Похоже, он толкует именно об этом, Бобби-Джо.
За спинами этих двоих Дьюи заметил еще двоих или троих, потом еще четверо или пятеро возникли из мрака – они молча стояли и наблюдали. И в тусклом свете уличных фонарей можно было рассмотреть их одинаковые неприветливые лица.
– Он к этому не имел ни малейшего отношения. Он с этим никак не связан: – Дьюи старался сохранять спокойствие в надежде, что его спокойствие передастся и им, как это бывает, когда спокойно приближаешься к загнанному в угол зверю. – Этого никто не планировал.
– А вам-то откуда известно? Вы говорили с кем-то? А, вы говорили со своими корешами-ниггерами, да, мистер Уилсон?
– Этот человек никакого отношения к этому не имел. Это произошло абсолютно спонтанно.
– Ах, так это спон-тан-но? – Парень повернулся к жирному. – Слыхал, мистер Стюарт? Его отправили на Север, чтобы он там выучил умные слова и, бьюсь об заклад, привез их оттуда цельый мешок. И что значит спон-тан-но? Спланировано?
– Нет, не спланировано. Это значит, что все произошло само собой.
Дьюи попытался захлопнуть дверь. Парень отбросил его руку с обтянутой кожей дверной ручки.
– Вы бы поаккуратнее себя вели, мистер Уилсон, если не хотите угоститься куском ниггерского пирога.
– Перестань, не смеши людей. Он не имеет к этому никакого отношения.
– Это он тебе сказал? – Парень заглянул в салон лимузина. Запах перегара стал тяжелым, тошнотным.
– Разумеется. Он даже не знаком с Такером Калибаном. Он мне сказал, что не имеет к нашим событиям никакого касательства. – Дьюи заглянул парню в глаза. За те восемь месяцев, что его не было в родных местах, он уж позабыл этот взгляд, возникающий у местных в моменты ярости, потому что ни у кого в Новой Англии не бывает такого взгляда, чтобы выразить дурное настроение или враждебное отношение; это был взгляд куда более холодный, злобный и безжалостный, чем взгляд вермонтского фермера, которым тот встречает незнакомца, спрашивающего дорогу; и этот взгляд был куда более холодный, злобный и безжалостный, потому как он был совершенно пустой. Пустота эта была признаком отказа от выбора между нежностью и жестокостью, между удовольствием и страданием, между участием и пренебрежением, между верой и недоверием, между состраданием и нетерпимостью, между доводами разума и упрямым фанатизмом; такой взгляд сигнализирует, что отключился механизм, благодаря которому человек становится разумным существом; этот взгляд говорил: «Теперь будем драться. Больше нет ни времени, ни необходимости для разговоров. Теперь нам ведома лишь сила кулака».
– Он не имеет к этим событиям никакого касательства, – в последний раз тихо повторил Дьюи. – Преподобный Брэдшоу, скажите им. – Он схватил негра за руку, заглянул ему в лицо и увидел, что причина его молчания – не страх, а разочарование. Он думал совсем не о грозящей ему сейчас опасности, а о своих утраченных иллюзиях – о неграх, о целях своей борьбы, которые ускользнули из-под его власти. Дьюи понял, что если о чем-то преподобный Брэдшоу и хотел сказать, так это о том, что именно он и был застрельщиком, что именно он все и спланировал, убедил Такера купить ферму и уничтожить ее, что он призвал местных негров увидеть в этом пример для себя и последовать ему. Но он не мог так сказать. И сейчас ему не пристало оплакивать утраченные иллюзии и жалеть себя. – Черт возьми, да скажите же им!
Теперь и жирный заглянул в салон.
– А чего он молчит-то?
Парень хохотнул:
– Может, он такой честный, что врать не хочет? – Он схватил Брэдшоу за воротник и чуть приподнял с сиденья. – Говори правду, черномазый! Ты имеешь к этому отношение?
– Нет. Мне жаль это говорить, но не имею.
Такое было впечатление, что нажали кнопку «стоп», и действие застыло перед тем, как возобновиться с убыстренной скоростью. В мгновение ока возникла сцена боя, изображающая статую воина, поражающего мечом тело соперника, когда пораженный должен упасть, но еще не упал, а пошатнулся и застыл в воздухе вопреки силе тяготения. Но спустя мгновение нажали кнопку воспроизведения. Парень крепче вцепился в воротник Брэдшоу и с криком: «Ты врешь!» – дернул проповедника вперед, выволок из лимузина, вырвав из рук Дьюи, и бросил на мостовую. Его тотчас окружили пятеро мужчин, беспорядочно нанося ему удары кулаками и носками ботинок.
Дьюи скользнул по сиденью к раскрытой дверце, выглянул наружу и увидел, что Брэдшоу лежит лицом вверх с кривой испуганной улыбкой на губах. Он даже не сопротивлялся и не защищался, словно понял, что это бесполезно. Его глаза были открыты, они двигались и изучающе смотрели на мрачные, искаженные злобой лица нападавших, и он спокойно следил за занесенными над ним руками и ногами, которые обрушивали удары на его лицо и тело, и, казалось, в его глазах было не больше страха, чем если бы они наблюдали за стариком в тепло протопленной комнате, глядящего за окно на падающий снег. Но Дьюи орал, пытаясь оттолкнуть людей от поверженного проповедника:
– Это Такер Калибан, это все Такер Калибан!
Но его быстро заткнули, ударив локтем по лицу, и из рассеченной внутри щеки кровь хлынула ему в глотку.
– Оттащите его от машины! – гаркнул кто-то. – Дайте и мне врезать ему разок! Тащите его сюда! – Тот, кто это кричал, ворвался в гущу взлетающих кулаков, схватил Брэдшоу за ноги и поволок к тротуару. Остальные, не желая потерять свою жертву, поспешили за ними.
Дьюи тоже последовал за толпой, тщетно хватая то одного, то другого за локоть или за спину, как вдруг паренек развернулся и двинулся на него с перекошенным лицом, и Дьюи, хотя в последний момент и заметил, но пропустил удар в висок, отчего у него потемнело в глазах, и во тьме закружились красные и белые точки. Через мгновение он очнулся на мостовой все в той же оборонительной стойке: держа перед собой согнутые в локтях руки. Паренек постоял над ним, а потом побежал к стайке мужчин, окруживших Брэдшоу и продолжавших охаживать его кулаками и ботинками с тем безразличным остервенением, с каким мальчишки гоняют по асфальту пустую консервную банку.
– Эй, погодите! Остановитесь, мужики! – Паренек бежал, махая руками. – Стойте!
Дьюи, все еще сидя на мостовой, увидел, как кто-то обернулся на крик:
– Что еще? Почему?
Он с усилием поднялся на колени, голова все еще кружилась. Наверное, этот молодой парень, который у них вроде заводилы, все-таки ему поверил. Наверное, он их уговорит прекратить избиение.
– Стойте! Я вот что подумал. – Мужчины выпрямились и стали слушать. Брэдшоу лежал и тихо стонал. – Вы, мужики, знаете, что это наш последний ниггер? Только подумайте! Наш последний ниггер. Теперь у нас в штате больше не будет ниггеров. Никто не будет ни петь, ни танцевать, ни смеяться. И мы сможем теперь увидеть черномазых только в телевизоре, если, конечно, мы не поедем в Миссисипи или в Алабаму. Но в телевизоре они больше не поют старых песен и не танцуют старых танцев. Они ж там все негры из высшего общества – у них белые жены и большие машины. И вот я подумал: раз у нас оказался этот ниггер, пусть он нам споет какую-нибудь старую песню!
Мужчины стояли и недоуменно переглядывались, не вполне понимая, что несет этот парень, и гадая, серьезно он или нет. А кое-кто, у кого руки чесались продолжить начатое, глядел на Брэдшоу.
И тут заговорил жирный.
– Я понял, о чем ты, Бобби-Джо. Я понял! – И он оглушительно захохотал. – Наш последний ниггер. Забавно. Он вообще-то не был наш, когда прикатил сюда в своем большом лимузине, но теперь он наш, и мы можем заставить его делать все, что угодно.
– Именно так, мистер Стюарт. – И парень расхохотался. А следом стали хохотать и другие, приговаривая:
– И я понял!
Парень продрался сквозь толпу мужчин и с помощью жирного поднял Брэдшоу с мостовой.
Дьюи уже стоял на ногах, осознав, что они собираются не прекратить, а продолжать ритуал издевательств.
– Вы не можете так с ним поступить! – Он врезался в толпу, нагнув голову и размахивая кулаками. Но двое или трое мужчин остановили его в нескольких шагах от парня.
Парень поглядел на него исподлобья.
– Кто-нибудь принесите веревку из магазина Томасона и свяжите этого любителя ниггеров. Если мы сделаем ему бо-бо, у нас будут неприятности. Его папашка прогонит нас со своей земли. – Несколько человек держали Дьюи, пока кто-то побежал за веревкой. Когда принесли веревку, его связали по рукам и ногам и бросили на мостовую.
– Ну, а теперь продолжим наше шоу. Что ты умеешь, ниггер? Все вы ниггеры что-то умеете.
Брэдшоу стоял, измученный, окровавленный, между парнем и жирным. Его костюм был порван и помят, очки, чудом оставшиеся на носу, перекосились. Он молчал.
– Говори! Что ты умеешь?
Жирный сжал кулак.
– Я развяжу ему язык!
– Нет, мистер Стюарт, для этого у вас будет полно времени потом. А сейчас он станет паинькой и повеселит нас. Ну, что ты умеешь? Ты знаешь «Курчавого негритенка»?
Дьюи увидел, что Брэдшоу кивнул. Разумеется, он знал ее, все знали. Эту песенку все либерально настроенные учителя музыки начальных школ в Нью-Йорке, Чикаго, Де-Мойне, Сан-Франциско и прочих городах Америки разучивали со своими учениками, чтобы приобщить их к негритянской культуре. В Кембридже ее распевали всякий раз, когда кто-нибудь приносил гитару и корчил из себя фолк-певца среди студентов, корчивших из себя фольклористов. Ее знали по всей стране и пели с незапамятных времен. И Дьюи догадался, что означал кивок Брэдшоу: он не имел в виду песенку, он просто понял, почему негры уехали отсюда без промедления и что для этого им не понадобилось ни организации, ни лидера.
– Ну, тогда, – проговорил паренек, и его глаза сузились, – пой!
Брэдшоу запел нескладно, почти речитативом:
У песни была быстрая мелодия, в танцевальном ритме, и ее странно было слушать в исполнении Брэдшоу с его британским прононсом, потому что он произносил все слова литературно правильно, без тени негритянского южного говорка. Мужчинам это пришлось не по нраву, и они зароптали:
– Плохо он поет!
Паренек схватил проповедника за горло:
– Ты давай пой, как надо! Пой, как ниггер, понял, ниггер?
Жирному захотелось чего-то особенного:
– Да, и еще пляши!
– И громче пой, чтобы я тоже слыхал! – крикнул кто-то, стоящий с краю.
Дьюи напрягся, пытаясь вырваться из пут, но не смог. Он кричал, чтобы они прекратили, но никто не обратил на него внимания.
Брэдшоу затянул песню снова, на сей раз смешно подпрыгивая то на одной ноге, то на другой и тряся животом. Он почти дошел до конца, когда парень встал перед ним и со всего размаха влепил кулаком в лицо.
– Хреновый ты певец. Посадите его в машину. Повезем этого черномазого в его машине. Она вон какая большая! Влезет много народу.
Парень и жирный схватили Брэдшоу за плечи, переступив через лежащего Дьюи, подтащили к лимузину и втолкнули в салон.
– Он не имеет к этому никакого отношения! – Дьюи извернулся в сторону лимузина. Шофер сбежал, причем никто не видел, когда и куда. Кто-то сел за руль, нащупал ключ в замке зажигания, повернул, и двигатель с надрывом взревел громче, чем обычно. Водитель позвал остальных в салон, и Дьюи услышал хлопки закрываемых дверей – одна, вторая, третья, четвертая. Он попытался подняться на ноги, продолжая кричать им вслед, но не успел даже привстать на колени, как лимузин с ревом унесся в сторону фермы Такера Калибана. Черная машина уже скрылась из виду, но до его ушей все еще доносился рев мотора.
– Он же не имел к этому никакого отношения. – Дьюи бессильно рухнул на мостовую и расплакался, как маленький.
Шоссе опустело, и воцарился покой, как бывает на том месте, откуда сковырнули большой камень, и все жучки, копошившиеся под ним, бесследно разбежались. Дьюи сидел на белой разделительной полосе и плакал в тишине.
Вскоре он услышал скрип разболтанных колесиков и скрежет давно не мазанных подшипников. Потом из мрака показалось кресло-каталка с сидящим в нем стариком, за ним женщина с висящими как пакля волосами. Дьюи ничего им не сказал, да и они его поначалу не заметили. Но, приблизившись, услыхали его приглушенные всхлипывания и направились к нему.
– Кого они схватили, мистер Уилсон? – спросил мистер Харпер. И прежде, чем Дьюи смог ответить, старик обернулся к дочери: – Развяжи его, милая!
Старая дева отпустила спинку кресла-каталки и подошла к Дьюи. Он ощутил, как ее мягкие руки принялись развязывать узлы грубой веревки. Боль притупилась, когда она ослабила узы.
– Преподобного Брэдшоу. Они считают, что он во всем виноват… Что он настропалил негров уехать. Мне надо поспешить. Может быть, его еще удастся спасти.
Как только женщина сняла веревки, он вскочил на ноги.
– Не трудись, сынок. Ты туда уже не поспеешь. А когда они с ним разделаются, то вконец озвереют. И никто из них завтра в городе не появится. Им будет стыдно смотреть друг другу в глаза. – Старик погрустнел.
– Да вы как будто жалеете этих сволочей! Ну, может, вы тут бессильны, но я-то должен сделать все, что в моих силах. – И Дьюи отошел в сторону.
– Ты ничего не можешь сделать, парень. – Старик повысил голос, который звонко прозвучал над пустым шоссе.
Приближающийся свет фар осветил стены домов. Дочка подбежала к креслу и откатила его с середины проезжей части к тротуару. А старик повернулся в кресле и закричал в его сторону:
– Эй, паренек, погляди на эту машину! Смотри внимательно!
Дьюи во все глаза всмотрелся в сидящих внутри. За рулем сидел толстый негр. Рядом с ним сидела его жена, глядя на дорогу широко раскрытыми глазами. У нее на руках мирно спала малышка – девчушка с расчесанными на множество проборчиков волосами. На заднем сиденье громоздились чемоданы и тюки.
– Да, я жалею наших. У них нет того, что есть у цветных.
Дьюи не спускал глаз с машины. Она доехала до городской окраины и скрылась во тьме. Он подошел к старику.
– Если это улучшит вам настроение, мистер Уилсон, это была последняя. И я скажу вам еще коечто. – Старик поглядел на него и усмехнулся. – Генерал бы это все не одобрил. – Он повернулся к дочери. – У нас еще остался кофе, милая?
– Да, папа.
– Мистер Уилсон, как насчет кофейку? Вам не стоит идти домой в таком виде. Сначала хорошо бы почиститься.
Дьюи кивнул, и они двинулись вместе.
Мистер Лиланд не понял, что его разбудило. Сначала он решил, что это Уолтер толкнул его, отбиваясь во сне от стоглавого дракона, но, взглянув на братика, увидел, что тот спит все в той же позе, в какой он улегся после того, как мама поцеловала их и пожелала доброй ночи. А потом он опять услышал – крик!
Крик доносился со стороны шоссе, наверное, с фермы Такера, сквозь шелестящую листву перелеска, разделявшего две фермы. А вдруг Такер вернулся и сейчас там празднует? Да, но у Такера нет дома. Ну и что? Он же мог праздновать на воздухе, сегодня довольно тепло, и к тому же на ферме у Такера все равно никого.
Он начал расталкивать Уолтера, чтобы сообщить ему о возвращении Такера и о празднике. Но теперь он услыхал другие голоса – мужские, и громкий смех, и догадался, что это друзья Такера: они обступили его, хлопают по плечу и говорят, как рады снова его видеть, ведь они думали, что он уехал отсюда насовсем. Он перестал трясти Уолтера, потому что сколько его ни тряси, ничего не добьешься, да и к тому же, даже если Уолтер продерет глаза, он будет такой сонный, что не поймет ничего.
Мистер Лиланд лег на спину, прислушиваясь к далеким взрывам хохота, а потом кто-то затянул песню, и он опять подумал, что люди празднуют. Наверное, у них там попкорн, и конфеты, и газировка. Наверное, им там очень весело, и они рады видеть друг друга, как это бывает на их семейных встречах в доме у дедушки в Уилсон-Сити. Его на такую семейную встречу брали только однажды, и, хотя он тогда был совсем маленький, он ее хорошо запомнил. Он лежал в постельке и слышал, как в соседней комнате взрослые смеются и поют, а наутро, когда он проснулся, все еще спали, даже дедушка, который был фермером, как и его отец, и который обычно начинал работать затемно. Он тогда встал с постели, единственный во всем доме, вышел в гостиную и обнаружил оставленные с прошлого вечера попкорн и сладости. А когда все его дядюшки и тетушки наконец проснулись, с красными глазами и помятыми лицами, он уже до отвала наелся остатков праздничного угощенья.
И сейчас, лежа на спине и вспоминая тот день, он решил, что сделает утром. Завтра воскресенье, и сначала они все позавтракают, потом пойдут в церковь, где мама преподавала в воскресной школе, а потом все вернутся домой. Он возьмет Уолтера за руку, и они пройдут через лес прямо к полю Такера. Такер их увидит, помашет рукой и по мягкой серой земле вспаханного и посыпанного солью поля побежит к ним здороваться. Он будет рад их видеть. И мистер Лиланд познакомит его с Уолтером.
Мистер Лиланд спросит у Такера, почему он вернулся. И Такер ответит, что он нашел то, что потерял, потом улыбнется и скажет, что у него для них кое-что припасено. И вынесет большие блюда с оставшимися от вчерашнего праздника конфетами, попкорном, крекерами и шоколадными драже. Они с братиком наедятся до отвала. И все время будут смеяться.
Джессика Келли
Биография Уильяма Мелвина Келли
Уильям Мелвин Келли – афроамериканский писатель, представитель «черного искусства» середины ХХ века, завоевавший известность благодаря экспериментальной прозе и сатирическому исследованию расовых отношений в Америке, появился на свет 1 ноября 1937 г. в больнице «Сивью» на Статен-Айленде, в семье Нарсиссы Келли (урожденной Гарсиа) и Уильяма Мелвина Келли-ст. Правоверная католичка, миссис Келли страдала туберкулезом, и врачи рекомендовали ей прервать беременность. Но она назначила дату родов кесаревым сечением на День всех святых. Беременность и роды оказались для нее тяжким испытанием, так что лишь четыре месяца спустя после операции мать с новорожденным смогли вернуться домой из больницы.
Уильям Мелвин Келли-ст., бывший редактор гарлемской газеты «Амстердам ньюс», безуспешно пытался наладить выпуск собственных газет, после чего выбрал карьеру государственного служащего в Нью-Йорке. Семья Келли обосновалась на втором этаже дома 4060 по Карпентер-авеню – дуплекса на две семьи, которым владел брат Нарсиссы Джо и где жили прочие члены семьи Гарсиа, включая ее мать Джесси.
Этот микрорайон был преимущественно населен итальянцами, и семья Келли была единственной цветной в квартале. Испытывая с раннего детства проблемы с чтением, сынишка Келли был тем не менее смышленым мальчуганом, и его отдали в престижную школу «Филдстоун» в Ривердейле. И хотя в «Филдстоун» расовой сегрегации не существовало еще с 1920-х годов, Билли был одним из немногочисленных чернокожих учеников школы. Общение с одноклассниками, а в основном это были дети из богатых еврейских семей, и ребятней из соседских семей итальянских работяг стало для него на многие годы вперед источником жизненного материала, который он использовал в своей прозе. «Я знаю богатых белых, и я знаю бедных белых, – сказал он в интервью журналу «Мозаик мэгэзин» в 2012 г., – я знаю жизнь белых».
В 1956 г. Келли поступил в Гарвардский университет с намерением стать адвокатом в области гражданских прав. Однако длившаяся всю жизнь борьба по преодолению трудностей с чтением не позволила бы ему добиться успехов на этой стезе. Обладая талантом хорошего рассказчика – навык, который он считал унаследованным от бабушки по материнской линии Джесси Мэрин Гарсии, – он решил специализироваться на английской литературе. Келли занимался в семинарах прозаика Джона Хоукса и поэта Арчибальда Маклиша, результатом чего стал рассказ «Партия в покер», удостоенный приза Дейны Рида Гарвардского университета за художественную прозу, а также посыпавшиеся предложения со стороны литературных агентов. В конце концов Келли решил, что писательство доставляет ему куда больше удовольствия, чем иные занятия, и он бросил Гарвард за полгода до получения диплома. По прошествии двух лет был опубликован его первый роман «Другой барабанщик» (1962). В апреле того же года на соревнованиях «Пенн релейз» (ежегодный турнир по легкой атлетике, организуемый Пенсильванским университетом) Келли познакомился с Карен Гибсон, девушкой из Чикаго, изучавшей историю искусств в колледже Сары Лоуренс. Мисс Гибсон сразу же влюбилась в Келли («он был босой, а когда улыбался, его большие белые зубы так и сверкали»), а тот поначалу не был уверен, что она ему пара, пока не повез ее знакомиться с бабушкой Джесси. «Они сели и проговорили несколько часов подряд, совершенно позабыв про меня, – вспоминал он потом, – вот тогда я и понял: она – то, что надо!» 15 декабря, спустя всего восемь месяцев после знакомства, они поженились. В 1964 г. у Келли вышла книга рассказов «Танцующие на берегу», в которых впервые появились многие персонажи – семьи Бедлоу, Данфорд и Пирс, – которые впоследствии будут возникать в других его романах.
Его второй роман «Капля терпения» вышел в 1965 г., ставшем важной вехой в его биографии. В феврале, буквально за несколько дней до убийства Малколма Икс на глазах у его жены в танцзале Одюбон в Гарлеме, у Келли родилась первая дочь Джессика. А еще через несколько дней был подожжен храм № 7 «Нации ислама» на Западной 116-й улице в Нью-Йорке. «Все было ясно как день, – писал позднее Келли. – Это то, что на Ямайке называют война племен. Но все равно мне нужно было взглянуть на лица тех, кого обвиняли в убийстве брата Малколма, мне хотелось услышать, что они скажут о своем деянии. И я попросил своего агента выправить мне задание освещать процесс в еженедельнике «Сатердей ивнинг пост», что давало бы мне возможность посещать судебные заседания. И когда в начале 1966 г. процесс начался, для меня было зарезервировано место в первом ряду в секторе для прессы». Освещая процесс, Келли убедился, что двое из троих обвиняемых – Норман Батлер и Томас Джонсон – стали жертвой неправого суда. «После оглашения вердикта я поехал по вест-сайдскому шоссе со слезами на глазах и со страхом в душе. События предшествующих трех лет разрубили последние ниточки моей веры в Американскую мечту. Богатые в конечном счете обдирают бедных как липку, политиканы в основном исполняют волю крупных промышленников, но я по крайней мере все еще верил в независимость наших судов. А теперь с этой верой пришлось распрощаться. Дело Кеннеди и теперь вот это показали, что Государство может с легкостью манипулировать судами во имя политической целесообразности. И если Государство так сильно хотело засудить Батлера и Джонсона, то я знаю, что мне не хватит мужества заявить противоположное на страницах любого журнала, даже если они и напечатают то, что я хочу сказать. И я не желал брать на себя задачу заявить во всеуслышание, что наша маленькая битва проиграна, что расизм опять одержал временную победу. Ведь у меня были молодая жена и малышка, которые зависели от меня, а убийства стали нашей повседневностью. И когда я доехал до Бронкса, во мне созрело твердое желание покинуть эту Плантацию, возможно, навсегда».
Келли потребовалось два года, чтобы перевезти семью из Нью-Йорка в Париж. Они поселились в доме 4 по рю Режи, том самом, где чуть раньше жил писатель Ричард Райт (автор романов «Сын Америки» и «Черный парень»). Третий роман Келли «Эти» вышел в том же году. Журнал «Киркус ревью» счел его «более злым», чем ранние произведения, хотя и признал, как «мощно и деликатно автор обращается с тяжелой темой и громоздким сюжетом». В мае 1968 г., в разгар студенческих бунтов в Париже, появилась на свет его вторая дочь Сира. Келли планировал, что пребывание в Париже позволит семейству выучить французский и уехать в Сенегал, однако – не желая слишком отдаляться от оставшейся в Штатах семьи – они решили осесть на Ямайке. Где и прожили до 1977 г.
В последнем опубликованном романе Келли «Данфорды ездят повсюду» (1970) описана мифическая страна, в которой сегрегация практикуется исключительно исходя из того, выбирает ли человек в тот или иной день синюю или желтую одежду. Вдохновленный романом Джойса «Поминки по Финнегану», Келли написал роман частично на вымышленном языке, имитируя ритмы и интонации афроамериканского жаргона, а частично – на литературном английском.
Вернувшись в 1977 г. в Америку, Келли с семьей обосновался в Гарлеме. Воспользовавшись связями своего наставника американского писателя и преподавателя Джозефа Папалео (автор сборника «Итальянские рассказы»), Келли начал преподавать в колледже Сары Лоуренс. Хотя после «Данфордов» Келли больше не выпустил ни одного романа, он написал немало очерков и коротких рассказов, которые появлялись в таких журналах, как «Нью-йоркер», «Плейбой» и «Харперз». Кроме того, его рассказы публиковались во многих антологиях и университетских хрестоматиях. За годы своей писательской карьеры Келли был удостоен немалого числа наград, таких как Премия фонда Розенталя и Премия фонда Джона Хэя Уитни (обе – 1963) за «Другого барабанщика». Его сборник «Танцующие на берегу» получил премию журнала «Трансатлантик ревью» (1964), а последний роман «Данфорды ездят повсюду» был отмечен Академией черного искусства и литературы. Кульминацией славного пути стало присуждение ему в 2008 г. премии «Энисфилд-Вулф» за прижизненные достижения в литературе. Помимо писательства Келли был страстным фотографом и видеографом. Он сделал несколько тысяч фотографий, составивших летопись его жизни в Париже и на Ямайке, а в 1988 г. в соавторстве с художником Стивеном Буллом, работавшим в смешанной технике, он создал видео «Раскопки в Гарлеме». Этот 28-минутный фильм получил скромную премию, которую Келли потратил на приобретение видеокамеры. С 1989 по 1992 г. он вел видеодневник, пытаясь запечатлеть красоту Гарлема, которую видел, но не мог воплотить в словах. Получившиеся видеоотчеты, частично поврежденные при хранении, были собраны и в течение двух лет смонтированы Бенджамином Ореном Абрамсом в короткометражный фильм, получивший название «Красота, которую я увидел». Фильм был показан в 2015 г. на Гарлемском международном кинофестивале и удостоен приза «Гарлем спотлайт».
Келли был человеком глубоко и ненарочито религиозным. Он исповедовал иудаизм – искренне, насколько мог, не являясь официально обращенным, называя себя Дитя Израиля. Он часто повторял, что, будучи посредственным читателем, он за всю свою жизнь прочитал только две книги от корки до корки: «Улисса» Джеймса Джойса и Библию. Келли имел склонность к каннабису, о чем стоит упомянуть, так как он не делал из этого тайны, когда кто-то интересовался, курит ли он.
Келли проживал в многоквартирном доме «Данбар» в Гарлеме, построенном в 1926 г. как экспериментальный комплекс по программе жилищного строительства в Гарлеме, имевшей целью обеспечить жильем афроамериканцев. До Келли в комплексе «Данбар» жили многие известные афроамериканцы: У.Э.Б. Дюбуа, Поль Робсон, Билл «Боджанглз» Робинсон, Каунти Каллен и исследователь Арктики Мэтью Хенсон.
В поздний период жизни, на протяжении восемнадцати лет Келли проходил процедуру диализа в Нефрологическом центре клиники «Маунт-Синай» на Ист-Ривер-плаза после того, как вследствие рака мочевого пузыря у него отказали почки. В 2009 г. ему ампутировали правую ногу из-за нарушения кровообращения. Несмотря на эти серьезные проблемы со здоровьем, Келли продолжал дважды в неделю вести семинар по писательскому мастерству в колледже Сары Лоуренс в Бронксвилле, штат Нью-Йорк, где он бессменно преподавал с 1989 г.
Зимой 2016 г. Келли, или «Дюк», как его прозвали в Гарлеме, завершил цикл семинаров зимнего семестра в КСЛ и был в полном восторге от своей последней группы начинающих писателей. Он умер в среду 1 февраля 2017 г. в клинике «Ленокс-хилл» в Нью-Йорке. Ему было 79 лет.