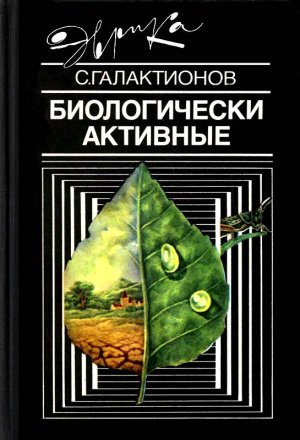
Глава 1
Часть нашей цивилизации
…К берегу моря прибило бутылку. Кто-то подобрал ее и обнаружил внутри записку. В записке значилось: «Я на необитаемом острове. Нет смога, налогов, телевидения, автомобилей. Подыхайте от зависти!»
Читателю, конечно же, хорошо знаком тип умонастроений, выражаемых этим анекдотом. Во все, по-видимому, века присуща была многим людям склонность к брюзжанию по поводу того, что жизнь, мол, стала нынче совсем не той и совершенно никуда не годной, народ распустился, молодежь в особенности, а все эти технические новшества просто невыносимы.
«— Лодыри! — бушевал чапековский первобытный старик Янечек. — Нынче всякому стало лень как следует обработать кусок кремня, вот в чем дело! Разбаловались! Конечно, такой костяной наконечник для копья в два счета сделаешь, так ведь ломается бесперечь!.. Вот попомни, еще выйдет по-моему: вернутся они, да с каким удовольствием вернутся к нашему старому доброму каменному оружию!»
Неизвестно, каким образом удалось Чапеку восстановить гневные тирады первобытного старика, но я охотно верю, что именно так он и говорил. И про товарообмен, занесенный к ним каким-то бродячим племенем, и что оленей уже осталось до чертиков мало, и про костяную фигурку обнаженной женщины, вырезанную кем-то из молодых.
«— Да ведь это разврат! Скажи на милость, а все оттого, что они вырезают из кости всякую чепуху! Нам такое бесстыдство и в голову бы не пришло, потому что из кремня этого и не сделаешь! Вот оно куда ведет! Вот они, их изобретения. И ведь будут выдумывать, будут какие-то новшества заводить, пока все к чертям не полетит! Нет, говорю я, — вскричал первобытный старик Янечек в пророческом вдохновении, — долго так не протянется!»
Единственное, что, может быть, принципиально отличает стариков Янечков наших дней от их первобытного коллеги, — это возраст. То есть большинство лиц, которые громче всех шумят о том, как им набрыдла в каких-то своих проявлениях современная цивилизация, — это молодые или совсем молодые люди, хотя и обращающиеся порой друг к другу «старик!». Все эти движения, течения и тенденции, бытующие ныне под лозунгами за возврат к природе, за возврат к истокам, с их сыроедением, мукой ручного помола, а порой и портками из домотканого рядна — почти целиком прерогатива молодежи.
Однако многие из высказываемых ими опасений разделяются и людьми вполне серьезными (хоть и необязательно пожилыми), служат предметом углубленных научных дискуссий, их анализу посвящаются книги и статьи. Не ставится, правда, совсем уж ребром вопрос: работает ли современная цивилизация на благо или во вред человеку? Никто не рассматривает всерьез планов демонтажа промышленности, ликвидации путей сообщения и т. п. То, что в действительности беспокоит в этой проблематике ученых, политиков, хозяйственников, — это наше неумение предвидеть весь комплекс последствий претворения в жизнь любого этапа на пути развития той или иной отрасли промышленности, сельского хозяйства, медицины, да и образования тоже, и средств массовой информации — словом, любого элемента современной цивилизации. Даже приступая к постройке одного какого-то завода, мы не знаем с полной определенностью, каковы будут последствия этого шага, кроме выпуска соответствующей продукции, разумеется. («И это далеко не всегда можно предсказать наверняка», — хмыкнет в этом месте какой-нибудь умудренный опытом плановик.) Войдет завод в строй, наберет полную производственную мощность, а там смотришь — началось: подавляющее большинство профессий — женские, понаехало в городок девушек, нарушилось «демографическое равновесие» (так говорят); роща за поселком вся пожухла — оказывается, к выбросам из заводской трубы как раз очень чувствительны растущие там ясени и дубки; негодует председатель соседнего колхоза: для складирования отходов отбирают у него все новые и новые участки пашни. Какие-то из этих последствий, конечно, можно было бы предвидеть, но далеко, далеко не все. И это всего-то при возведении одного заводика, а ведь часто приходится принимать решения о крупномасштабной перестройке целой отрасли промышленности, региона или страны!
И поскольку возможности предвидения, научного прогнозирования поведения столь гигантских, сложных систем, как народное хозяйство целой страны, говоря откровенно, довольно ограничены, — всякий прогресс цивилизации, увы, неминуемо связан с какими-то побочными, в разной мере неприятными последствиями. Вот этот именно элемент неопределенности, незнания и удручает более всего, порождая у многих людей пессимизм в отношении перспектив преодоления наступающих «цивилизационных болезней» человечества. Незнание, как выразился однажды Бертран Рассел, легче всего порождает эмоции. Чаще, добавлю от себя, эмоции отрицательные.
…Я листаю (ах, с каким удовольствием!) изданную и 1912 году книжку «Успехи биологии» («Типография под фирмою „Вестник Виноделия“, Одесса, Большая Арнаутская, дом № 38»). Открывается она статьей знаменитого американского физиолога Дж. Леба, размышляющего, помимо прочего, о пользе наук вообще. Привлекает внимание такая фраза: «Истинная, то есть приводящая к постоянному прогрессу, история делается в лабораториях, а не в парламентах и министерских кабинетах».
В наши дни, я думаю, эту точку зрения не разделяют ни одни только парламентарии и министры, а среди множества контраргументов находятся и те, к которым прибегал еще первобытный старик Янечек.
— Сегодня, дорогие друзья, мы с вами приступаем к изучению химии, — начинает вводную лекцию профессор. — Вы, конечно, знаете, что химия в наши дни является одним из важнейших факторов научно-технического прогресса. Давайте сейчас вместе вспомним, какие блага дала нам современная химия?
Несколько мгновений молчания, наконец неуверенный голос из глубины аудитории:
— Блондинок?
Возвращаясь к прежней теме и к более серьезному тону, позволим себе утверждение, что если не большинство читающей публики, то, во всяком случае, очень значительная ее часть довольно агрессивно возразила бы, что не блага надо перечислять, а несчастья и даже проклятья, которыми нас одарила химия. Вспомнили бы и вонючие выбросы химических комбинатов, и невиданное доселе распространение аллергических заболеваний, и злоупотребление лекарствами. А много ли поклонников бурно наступающей химизации пищевой промышленности? А остатки пестицидов в подозрительно румяных яблоках? А синтетические волокна, вызывающие у некоторых людей зуд и покраснение кожи?
Да элегантные отделочные материалы, источающие ядовитые испарения (что выясняется лет десять спустя после обустройства с их помощью уютненькой квартиры), да кошмарные катастрофы на химических предприятиях, в результате которых гибнут порой многие тысячи людей, вспомним хотя бы всемирно и столь печально ныне известные Бхопал и Сиевешо… А многие припомнят и одно из самых отвратительных приложений современной химии — химическое оружие, начиная с немудреного хлора и кончая современными нервно-паралитическими бинарными газами, созданными на основе новейших достижений органической химии, биохимии, физической химии.
Если дать волю раздражению (что спорить, во многом оправданному), этот перечень можно продолжать почти до бесконечности.
…Сторонники противоположной точки зрения возразят, что без самого широкого использования достижений химии современная цивилизация невозможна вообще и что все перечисленное — не ложка даже, а лишь ничтожная капелька дегтя в бочке благ, которыми нас одарила химия. Бесспорно, объективности ради с ними порой соглашаются, но очень уж досаждает нам эта самая капля дегтя, и вновь и вновь назойливо возвращается мысль: а нельзя ли от нее избавиться? Ну, и наиболее нетерпеливые выступают в крестовый поход против химии в целом.
Резко преобладают упреки во вредном влиянии процесса химизации нашей жизни на человека и живую природу. Вспомнят, конечно, при случае и о горестной судьбе каких-нибудь мраморных шедевров, на беду которым неподалеку был выстроен нефтехимический комбинат, но основные претензии к химикам, подавляющее большинство упреков в их адрес можно резюмировать одним словом: «отравители».
Обвинение, конечно, нешуточное и требует серьезной аргументации, серьезного разбирательства. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, в нашем окружении находится более четырех миллионов синтетических соединений, в том числе 63 тысячи — в широком употреблении. Ежегодно прибывает 25–40 тысяч новых, причем производство примерно 300 из них достигает промышленных масштабов. При таких темпах тщательное изучение биологических последствий появления каждого нового вещества в окружающей нас среде практически невозможно. Правда, многие соединения синтезировались именно ради использования их действия на биологические объекты разного рода: от бактерии до человека.
Любителям детективных романов наверняка запомнились многостраничные описания дискуссий в судах, чаще всего этим грешат английские и американские авторы, о квалификации преступления. С заранее обдуманным намерением, без такового, умышленно, неумышленно… Совершенно аналогичным образом можно подразделить и обвинения в адрес современной химии. Есть вещества, которые синтезированы для каких-то, скажем, технических нужд (для использования в строительстве, машиностроении, электротехнике и т. п.) и которые, однако, оказывают какое-то вредное действие на биологические объекты. Есть же вещества, синтезированные именно с мыслью о таком действии. И если их применение должным образом не контролируется, последствия бывают особенно печальными.
И у специалистов: экологов, врачей, агрономов, лесоводов, и среди широкой общественности наибольшие опасения вызывает именно широкое распространение веществ этой группы — биологически активных соединений.
— Глубокоуважаемые коллеги, — начал председательствующий. — На развитие нашей отрасли знания, как вам известно, ассигнована значительная сумма…
Он председательствовал уже не впервые, и люди, собравшиеся в зале, были ему в основном хорошо знакомы. Поэтому можно было себе позволить такую вот эффектную паузу, неспешно направить слегка съехавшие тяжелые очки и еще раз обвести серьезным взглядом притихшую аудиторию.
…Значительная сумма — сто миллионов рублей.
Впрочем, может быть, то были не миллионы, а тысячи или миллиарды, да и вовсе не обязательно рублей, а каких-нибудь долларов, злотых или даже драхм.
— Нам предстоит рационально распределить эти средства, — продолжал профессор, чувствуя, что зал молчит все более напряженно, — и, не повторяя ошибок недавних лет… (Какой-то шелест справа, несколько взглядов украдкой в сторону вальяжного седобородого франта) …стремиться равномерно стимулировать развитие всех важнейших направлений науки о биологически активных соединениях.
Словно подброшенный невидимой пружиной, вскочил сравнительно молодой еще человек, обладатель роскошно загоревшей лысины.
— Вот то-то и оно: равномерно ли, уважаемый Николай Иванович? (Впрочем, какой же Николай Иванович, если это драхмы? Ладно, будем считать, что делятся все-таки рубли, или же что председательствующего зовут не Николай Иванович, не имеет это значения.) Все мы знаем, что за последние пять лет исследования, направленные на разработку новых химических средств защиты растений, финансировались совершенно недостаточно. У нас есть перспективные соединения, на основе которых могут быть созданы очень эффективные препараты для борьбы с филлоксерой — этим бичом виноградников…
Здесь лысый энтузиаст почему-то выразительно взглянул в дальний угол зала, а собравшиеся приглушенно захихикали.
— Для доведения этих препаратов и широкого их внедрения нам нужно по крайней мере миллион. Если учесть, что ежегодные потери урожая винограда от филлоксеры составляют…
— Аркадий Борисович (ладно, пусть уж речь идет все же о рублях), вы как-то чересчур конкретно приступаете к дележу предназначенной для нас суммы, — председательствующий пытается подавить легкий галдеж, спровоцированный эмоциональной репликой филлоксерщика. — В конце концов, я полагаю, вы не окажетесь обиженным, но, когда я говорил о равномерном распределении этих средств, я имел в виду прежде всего целесообразность…
— Конечно, целесообразность, — внушительно сказал некто, сидящий в первом ряду. Он даже не встал и говорит умеренно громко, но очень, очень внушительно. — Наш препарат бравостатин в лабораторных испытаниях дал увеличение привеса поросят на сорок процентов. Яйценосность кур увеличивается под действием бравостатина почти в полтора раза. Сейчас у нас нет средств ни на разработку регламента, ни на расширенные производственные испытания. Считаю, что всякие препятствия на пути его внедрения — просто вредительство.
И умолк столь же значительно, как говорил.
— Есть одно направление исследований, — по контрасту с предыдущим оратором, худосочный человек в нелепом синего цвета пиджаке очень нервничал, — которое все последние годы находилось в совершенно недопустимом загоне. Я имею в виду разработки, связанные с нуждами пищевой промышленности. Возьмем хотя бы проблему заменителей сахара. Сахарин, ксилит — это все вчерашний день. Сейчас синтезированы соединения пептидной природы, которые в сотни раз слаще сахара. Мы могли бы обеспечить их внедрение, будь у нас хоть сколько-нибудь сносная база для отработки процессов синтеза, ну и приличного качества реактивы…
— Из-за полегания злаковых, — очередной оратор несколько картинным жестом снял очки и принялся их протирать, будто до того у него не было времени, — потери урожая составляют иногда десятки процентов. Во многих странах применение ретарданов — агентов, способствующих укреплению стебля и не допускающих полегания, стало повседневной практикой земледелия. Мы же, имея отличные препараты, до сих пор не можем их внедрить в производство. Не хватает средств для исследований, для массовых испытаний. Я хочу сказать — не хватало до сегодняшнего дня…
Смешок, даже кое-где вспыхнули аплодисменты. Какое-то мгновение — тишина.
— Позволите, Николай Иванович?
Сразу видно — человек на ответственном посту. Переждал спокойно всю эту суету первых минут, все эти запальчивые речи, понимая, что это лишь прелюдия к серьезному, деловому разговору. Не стал говорить с места, не торопясь поднялся на трибуну, поправил микрофон.
— Как представитель министерства фармакологии (??? Нет у нас такого министерства, значит, не рубли это все же и не Николай Иванович) могу лишь сказать, что…
Не будем, видно, воспроизводить эту речь целиком, слишком длинно. Кардиологи, мол, срочно требуют создания таких-то и таких препаратов… Недопустимо медленно ведется работа с новыми перспективными противоопухолевыми средствами, еще в 1977 году были получены очень обнадеживающие результаты, и вот до сих пор… Нужны дополнительные ассигнования на продолжение работ с новым классом гипотензивных веществ, здесь предвидятся выдающиеся результаты… Более динамично следует вести изыскания новых антибиотиков… Совершенно возмутительно нынешнее положение в области производства гормональных препаратов, во многих странах уже давно… Это лишь самые насущные наши проблемы, а для их решения уже, по нашим оценкам, нужно много больше того миллиарда, который нам выделили.
Очень настороженным молчанием встречает зал окончание этого выступления. Опасаются, что ли, что и вправду загребет себе весь миллиард, министерство серьезное, аргументы весомые.
Тем временем небольшой, исключительно симпатичного вида толстяк уже взобрался на трибуну, дружески тронув за плечо спускавшегося оттуда фармаколога, что-то с улыбкой ему шепнул.
— Здесь очень правильно говорилось, — с искренним благодушием в глазах начал толстяк, — и о необходимости развития новых средств защиты растений, и о создании биологически активных кормовых препаратов, и об отсутствии сейчас у нас широкого промышленного производства современных пищевкусовых добавок, здесь я особенно солидарен с выступавшим коллегой. Ну и, наконец, о проблемах и потребностях нашей фармакологии. От имени министерства биотехнологии я самым решительным образом поддерживаю развитие работ во всех этих направлениях — как вы, очевидно, догадываетесь, потому просто, что самые современные, самые эффективные препараты для всех перечисленных целей производятся или должны производиться на предприятиях нашего ведомства.
Зал слегка забурчал, а оратор, не теряя благодушия, продолжал:
— Я не буду напоминать о перспективах, связанных с генетической инженерией, другими методами получение тех же белковых гормонов в нужном количестве просто невозможно, — выразительный взгляд в сторону фармаколога, который отвечает каким-то неопределенным жестом. — Но вот хотя бы проблема биологически активных кормовых добавок для животноводства — в настоящее время свыше девяноста процентов этой продукции производим мы. Возьмем теперь средства защиты растений…
Словом, чем дальше, тем все более эмоциональным, шумливым, порой даже бестолковым становилось заседание; председатель пытался собравшихся усмирить, какой-то тип в очках с места выкрикивал плаксиво:
— А парфюмерной промышленности опять ничего? Конечно, лучше делать вид, что такой промышленности не существует совсем, это так удобно и выгодно…
Кто-то другой напоминал, что Министерство лесного хозяйства выступает и в роли потребителя, и в роли производителя большого количества биологически активных соединений, а почему…
Несколько разрядил атмосферу трагикомический рассказ представителя Министерства машиностроения о том, что какие-то зловредные тропические жучки дотла выедают все резиновые и пластмассовые детали на их изделиях, поставляемых в африканские страны, и, если им не выделят денег на разработку средств защиты, они будут вынуждены приостановить экспорт, со всеми вытекающими последствиями.
Наконец наступило непосредственное обсуждение проекта распределения ста миллионов — неважно, чего. Щадя лучшие чувства читателя, я опускаю эту часть протокола.
Эти слова Джонатана Свифта в полной мере могут быть отнесены к одной из сторон, участвующих в бесконечной уже дискуссии о роли биологически активных веществ в современной цивилизации. Каждый действительно хочет жить не только долго, но и в полном здравии. Ну что ж, современной медицине есть чем похвалиться, буквально на наших глазах средняя продолжительность жизни выросла очень значительно, в ряде стран даже и вдвое. Может ли медицина этого достигнуть без помощи фармакологии, постоянно снабжающей ее все новыми и новыми лекарствами?
— Ну, роль лекарств здесь как раз переоценивать не надо, — утверждают скептики. — Первостепенное значение имели гигиенические мероприятия. Обеспечение населения чистой питьевой водой дало гораздо больший прирост средней продолжительности жизни, чем все лекарства, вместе взятые, — так утверждают сами врачи.
Есть и другой источник увеличения долголетия — рациональное питание. Когда в течение первой половины 70-х годов средняя продолжительность жизни в США подскочила на два с половиной года — очень существенный прирост за такое короткое время, — все медики были согласны в том, что причина кроется в интенсивной антиникотиновой пропаганде (снижение потребления табака в течение 60-х годов на одну пятую) и в… моде. В моду вошли стройные, юношеские фигуры, а мода для трудящегося американца — отнюдь не вопрос личной прихоти. У человека, выглядящего немодно, меньше шансов на успех в продвижении по службе, в устройстве на работу.
«Мы худеем, чтобы иметь возможность втиснуться в подростковые джинсы, — писал в те годы один комментатор, — в сущности, не затем, чтобы быть стройной или стройным, а с тем, чтобы выглядеть моложе. Ибо под конец XX века установилась диктатура молодости.
Обязательным образцом стала персона, демонстрирующая признаки, присущие юности, — динамичная, отличающаяся большой „пробивной силой“, преобладанием изобретательности над исполнительностью, риска над осторожностью и очень активная в межчеловеческих контактах.
Можно было бы согласиться с этой диктатурой, если бы она не была столь безжалостной, нетерпимой и даже терроризирующей… Человек, который перестал быть молодым, сбрасывается со счетов». И что же, за период между 1963 и 1975 годами в США потребление жиров животного происхождения снизилось наполовину, масла — на 32 процента. Вот где, по мнению специалистов, и следует искать причину роста продолжительности жизни на 2,5 года.
Но, возразим, роль лекарств в ликвидации массовых эпидемий, главного фактора низкой продолжительности жизни в прошлом, совершенно бесспорна, то же относится и к детской смертности. В лечении почти всех болезней прогресс достигнут в значительной мере благодаря новым лекарствам.
Наконец, не следует забывать, что в последние десятилетия медикам приходится работать в сильно изменившихся, и отнюдь не в лучшую сторону, условиях. Многие заболевания заметно участились; так, по статистике Британского общества изучения населения, люди, родившиеся в 1946 году, болели в три раза реже астмой, в шесть — экземой и диабетом, чем их дети.
Авторы отчета утверждают, что это произошло именно в результате усилившейся химизации повседневной жизни англичан, особенно из-за широкого использования химических добавок в продуктах питания, сомнительных косметических и… фармакологических средств. Круг замкнулся!
Конечно, не в XX веке впервые появились любители самолечения, глотающие все лекарства подряд. Изрядно поиздевались по этому поводу и классики мировой литературы, и классики медицинской науки — без особого, впрочем, результата. А наше время предоставило таким людям прямо-таки неограниченные возможности. В распоряжение врачей и фармакологов буквально ежедневно поступают все новые и новые лекарственные препараты, успевай только осваиваться. Чаще всего таки не успевают, зато прекрасно осваиваются недисциплинированные и нетерпеливые больные. Услышат от кого-то из знакомых, прочтут рекламу — ага, это мне как раз подходит!
Действенность рекламы в этой сфере недавно решили продемонстрировать сотрудники норвежского ведомства по охране интересов потребителя. Они опубликовали объявление следующего содержания:
«Луриум 3000-Х — чудотворное американское средство: возвращает лысым волосы, излечивает большинство болезней, снижает расход бензина вашего автомобиля на 15–20 процентов». И хотя объявление кончалось призывом не попадаться на удочку обманщикам, поступило около 300 заказов на чудотворное средство от наивных любителей самолечения.
Опять же, рассуждая объективно: разнообразие лекарственных средств — важнейший фактор успехов современной медицины; их своевременная и квалифицированная реклама (можете называть ее информацией, все равно) абсолютно необходима, чтобы врачи могли оперативно ориентироваться в этом арсенале. Озабоченность вызывает другое — масштабы и формы этой рекламы; одно дело, если о новом препарате информируют рекламные страницы «Химико-фармацевтического журнала» или «The Lancet», другое — массовая пресса. А кто из нас не видел засаленные листки папиросной бумаги с подслеповатым машинописным текстом — инструкции по применению доморощенных панацей!
…Муж утешает жену, всхлипывающую перед телевизором: «Ради бога, Сибил, это же только реклама лекарства от повышенной кислотности!»
И, наконец, публикации, прямо не носящие рекламного характера, но вносящие изрядную смуту в ряды многих тысяч читателей — больных (мнимых или подлинных). Уж сколько раз взывали и к журналистской этике, и к читательскому благоразумию, и к профессиональной ответственности ученых в попытках предотвратить появление в широкой печати скороспелых статей под заголовками типа «Гипертония отступает!», «Полиартрит побежден!», «Лекарство от близорукости!», «Перискемин возвращает слух!» и т. д. Увидев такой заголовок, можете дальше не читать, написано под ним будет наверняка примерно следующее. Такой-то профессор (доцент, зав. лабораторией, иногда для пикантности аспирант) много лет работал над исследованием… Ну, скажем, соединений тетрагидрофуранового ряда, или алкалоидов произрастающего на Алтае хилого кустика с могучим латинским названием, или химического состава ила из старицы реки Бейсуг. И оказалось (подробно описывается, каким именно образом оказалось), что какое-то соединение или фракция обладают выраженным гипотензивным (противоартрическим и т. п.) действием; журналисту демонстрируются бодрые и игривые белые мышки, еще вчера изнемогавшие от гипертонии или артрита. Несколько оптимистических фраз в заключение, иногда суровое замечание, что препарат был бы уже давно на аптечных полках, если бы не косность и вредное упрямство некоторых органов и отдельных лиц.
Если профессор (доцент, аспирант), о котором идет речь в статье, — человек кристально честный, по ее прочтении он хватается за голову и с ужасом думает, как же ему теперь показаться людям на глаза. Умеренно честный профессор подносит кое-кому из своего начальства по экземпляру газеты, что-то для порядка приговаривая о журналистской некомпетентности и напоминая о необходимости выделения дополнительных средств: в главке, почитав статью, не откажут.
И тот и другой в ближайшее время будут завалены сотнями, а то и тысячами писем с просьбой помочь в приобретении целебного препарата. Стиль, в котором будут выдержаны ответы двух наших профессоров, может различаться довольно значительно, суть же окажется совершенно одинаковой: уважаемому корреспонденту ответят, что никакого отработанного, разрешенного к использованию для лечения больных препарата на самом деле нет.
Можно сколько угодно напоминать непосредственным участникам таких историй о журналистской этике, врачебной этике, этиках всяких других профессий, но они, истории, повторяются вновь и вновь, имея часто очень неприятные продолжения. Вот, например, пересказ заметки из одной зарубежной газеты.
Некоторое время назад и через прессу, и по «беспроводному телефону» стали распространяться сведения, что некий очень пожилой профессор, работающий в сугубо немедицинском институте, нашел радикальное средство от тяжелой болезни. Консерваторы-специалисты, однако, энтузиазма не проявляют и признать новинку не хотят. Одно сообщение на эту тему, другое, наконец, учитывая интерес публики, телевизионная дискуссия.
«…Врачи давали мне неделю или в лучшем случае несколько недель жизни. Сейчас, год спустя, после того как я начал принимать препарат уважаемого профессора, я стал самым здоровым человеком среди здоровых». Вслед за чудесным образом исцелившимся выступает министр здравоохранения. Он призывает больных проявить терпение, необходимы тщательные испытания, во всяком случае, эффект нового средства еще достаточно не подтвержден, до практического применения еще очень, очень далеко. Профессор, автор препарата, в отчаянии говорит о том, как он устал от напора желающих и как это мешает ему в работе.
Опять выступает исцеленный — уже другой, — который без обиняков называет всех врачей взяточниками. Никто из ведущих передачу не пытается с ним дискутировать. Да и автор газетной заметки ограничивается лишь абстрактным замечанием относительно опасности обобщений. Он забывает, впрочем, что организаторам передачи следовало бы подумать о том, что такие беседы с исцеленными лишь вызовут осаду лаборатории больными, которых нельзя все же лишать права на надежду.
А тут еще в завершение передачи ведущий сообщает, что вскоре будет производиться запись ста добровольцев для продолжения испытаний.
Можно легко вообразить, пишет автор заметки, что будет твориться под дверьми лаборатории в день записи. Жаль, что организаторы передачи, по-видимому, лишены воображения.
Как показало дальнейшее развитие событий, он был прав. В этот день лабораторию осаждали около двух тысяч человек. События, разыгравшиеся под ее дверьми, сравнивали со сценами из дантовского «Ада».
Кто же виноват — изобретатель? журналист? пациент?
Несомненно, среди всех выпускаемых ныне биологически активных соединений первое место по объему производства занимают средства защиты растений. Их роль совершенно невозможно переоценить. Считается, что благодаря им удается сохранить до половины урожая, во многих странах еще больше.
Вспомним хотя бы ужасные нашествия саранчи, еще в первые десятилетия нашего века, опустошавшие огромные регионы, целые страны. Там, где прошла саранча, не оставалось буквально ни одного стебелька. В отчаянии люди пускали в ход даже огнеметы — все бесполезно; да и как справиться со стаей, которая плотно, бок к боку, «чувствуя локоть товарища», покрывала нередко тысячи гектаров. Академик В. И. Вернадский подсчитал как-то, что одна крупная стая саранчи весит больше, чем все цветные металлы, добытые человеком за все годы от бронзового века до наших дней!
И эта огромная прожорливая масса (одно насекомое съедает в течение жизни до 300 граммов зеленого корма) вдруг поднимается на крыло и летит, иногда на сотни и даже тысячи километров, и… горе той земле, где она опустилась!
Самые крупные гнездилища саранчи — места, где она откладывает яйца, расположены в полупустынных зонах: в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Иране, Афганистане, Пакистане; обычно заранее известно о предстоящей вспышке ее численности (теперь такие оценки делаются с помощью спутников) Соответствующие зоны обрабатываются с воздуха подходящими инсектицидами, а поскольку это преимущественно места почти необитаемые, лишенные полезной растительности, то можно не скупиться. И вот уже несколько десятилетий проблема саранчи, в ее прежнем масштабе, снята с повестки дня. Отдельные локальные рецидивы связаны чаще всего с обстоятельствами привнесенными: во всех перечисленных регионах постоянно вспыхивают вооруженные конфликты, из-за которых не удается вовремя произвести опыление гнездилищ.
Пример с саранчой, наглядный, конечно, не отражает тем не менее масштабов участия средств химической защиты растений в спасении урожая. Нашествию саранчи подвержены лишь некоторые районы — не всегда, кстати, самые главные производители сельскохозяйственной продукции. А в целом же, как упоминалось, речь идет о сохранении до половины собранного зерна, клубней, корнеплодов и т. п. Поэтому, когда на одной из международных конференций по проблемам загрязнения продуктов питания и окружающей среды остатками пестицидов встал вопрос об изъятии из обращения некоторых эффективных, но медленно разлагающихся и опасных для человека, представители многих развивающихся стран этот проект отвергли предъявив конкретные расчеты, согласно которым такой шаг навлек бы на их страны катастрофу всеобщего голода.
Так что им приходится из двух зол выбирать все же значительно меньшее…
В условиях развитых стран цену отказа от использования пестицидов в сельском хозяйстве можно порой выразить в цифрах весьма точных. Возник упоминавшийся уже лозунг «Назад к природе», появились его (более или менее радикальные) сторонники, начали предпринимать конкретные действия: никакой химии в пище, овощи и злаки только прямо с поля, причем это поле не должно обрабатываться никакими гербицидами — инсектицидами, и чтоб, знаете, без минеральных удобрений…
— Боже мой, да зачем же вам самим-то стараться? — тут же всполошились предприимчивые фермеры. — Мы вам все это вырастим в наилучшем виде и без пестицидов, и без удобрений. Только стоить это будет, сами понимаете, подороже… Ниже урожай… больше потери…
Дальше все как обычно: реклама — изумительной красоты и свежести лук-порей на чашке со стручковым перцем и миска с помидорами… Румяная, круглощекая барышня с улыбкой укладывает в корзину столь же румяные и безукоризненно круглые яблочки…
Мода на «биологические» овощи, на «биофрукты». Их покупают уже не только залихватские фанатики от «зеленых», но и просто осторожные граждане. Хотя платить приходится в несколько раз дороже.
Лет пять назад австрийское Федеральное бюро исследования пищевых продуктов провело проверку имеющихся на рынке «биоовощей», «биояблок», «биопшеницы» и т. п. «биотоваров» на предмет содержания в них остатков пестицидов. Возник скандал — не большой, не маленький, в самый раз, чтобы все газеты тиснули по заметке строчек на сто пятьдесят. Ибо оказалось, что в «биопшенице» и «биоржи» многих поставщиков содержание инсектицида гексахлорбензола во много раз превышает допустимые нормы, так же как во многих обследованных овощах (простите, «биоовощах»). Сравнительно благополучно обстояло дело с «биопросом»: всего 93 процента максимально допустимого содержания пестицидов.
Словом, помните, как Швейк покупал освященный епископом елей у фирмы Полак на Длоугой улице — торговля маслами и лаками?
«Когда Швейк попросил освященного епископом елея на десять крон, хозяин сказал приказчику:
— Пан Таухен, налейте ему сто граммов конопляного масла номер три.
А приказчик, завертывая бутылочку в бумагу, сказал Швейку, как и полагается приказчику:
— Товарец высшего качества. В случае, если потребуются кисти, лак, олифа — благоволите обратиться к нам-с. Будете довольны, фирма солидная».
Что ж, не первый и не последний раз расторопный продавец использует наивность покупателя, а уж не приходится сомневаться в наивности большинства покупателей «биоморковки», «биоржи», «биоогурцов»… кто знает, может, продавались и «биоопята» с «биоборовиками»?
Для нас же интереснее узнать, во что ценится выращивание «биопродуктов» безо всякой химии? Здесь производителя в общем не очень сложно проконтролировать, и поэтому приводимым цифрам можно, пожалуй, верить, пусть не до третьего знака, но все же…
Итак, «биорожь» стоит дороже просто ржи в 4,88 раза при продаже большими партиями, в трехкилограммовых упаковках — уже в 7,29 раза; пшеница несколько дешевле — в 4,0 и 6,04 раза. Ну, пусть некоторые нечистые на руку (что уже доказано) биобауэры завысили цены даже вдвое, все равно ясно, что продукция «бесхимикатного» растениеводства куда дороже.
Это обстоятельство, однако, ни в коем случае не может служить лицензией для ретивых химизаторов, готовых выплеснуть на поля новые миллионы тонн пестицидов. Более того, все эти «назадприродники», опереточные по форме, в одном правы по существу — то количество остатков пестицидов, которое мы получаем с продуктами сейчас, уже небезопасно, и одной из главных установок на ближайшее будущее должен явиться если не полный отказ от химических средств защиты растений, то по крайней мере резкое сокращение масштабов их применения за счет внедрения принципиально новых технологий возделывания.
А с другой стороны, переплачивая за «бесхимикатные» продукты, мы должны отдавать себе отчет в том, за что мы платим. Установлено, что у некоторых больных, у маленьких детей наблюдается повышенная чувствительность к остаткам пестицидов, что употребление загрязненных ими продуктов беременными женщинами может самым пагубным образом сказаться на потомстве. С учетом этого так ли уж дорого обойдется нам обеспечение их (хотя бы их!) беспестицидной пищей?
Глава 2
Почему они биологически активные
Раз уж не уйти, не избавиться нам от этих вездесущих и непременных биологически активных соединений, давайте попытаемся познакомиться с ними поближе. Естественным в таких случаях началом было бы привести точное определение, что же называется биологически активным соединением. Отлично, открываем Краткую химическую энциклопедию… Гм… Нету здесь такой позиции… Берем «Биологическую энциклопедию» Брокгауза — нету, Малую Советскую Энциклопедию — нету, Большую — тоже нету! Но вот учебное пособие «Химия природных биологически активных соединений» под редакцией А. А. Преображенского и Р. П. Евстигнеевой. Тщетно и здесь искать нужное нам определение, и в прекрасной книге М. Гудмэна и Ф. Морхауза «Органические молекулы в действии», посвященной как раз биологически активным соединениям.
Неспроста это. Трудно дать в этом случае четкую, чеканную формулировку вроде великолепных: «Дисциплина есть точное и строгое соблюдение порядков и правил, установленных законами и воинскими уставами», или: «Молоко есть продукт доения самок крупного рогатого скота чистыми руками в чистую посуду» (честное слово, заставлял некий профессор своих студентов зазубривать буквально такую формулировку). Немного по той же причине, что и в случае знаменитого определения понятия «толпа» (один человек — толпа? А два? А три? и т. д.), немного потому, что необходимы некоторые предварительные пояснения более общего плана, усвоив которые можно прийти к выводу, что не так уж плохо живется и безо всякого определения столь популярного в наши дни термина «биологически активное соединение».
Эта книга, как легко догадаться, далеко не единственный имеющийся ныне учебник по биологически активным веществам. Существует таких книг огромное количество — гораздо более массивные и совсем тоненькие, с бóльшим уклоном в химию или в биологию, более или менее насыщенные химическими или математическими формулами, и все без исключения — более серьезные, чем эта. Но при всем разнообразии интересов, стилей и научных позиций их авторов есть два-три абзаца, казалось бы, кочующих из одной книги в другую без особых изменений. Это фрагменты, где вспоминается принцип Эрлиха. Вспоминается он, как правило, скороговоркой (в самом деле два-три абзаца), в порядке изложения, как принято говорить, «предыстории вопроса».
Не желая хотя бы в этой части походить на своих коллег, я рискну уделить несколько больше внимания и самому Паулю Эрлиху, и связанному с его именем принципу.
Как и многие другие естествоиспытатели большого формата, Пауль Эрлих не может быть причислен к какой-либо определенной отрасли знаний. Полистайте его труды (право, это очень интересное занятие!), и вы убедитесь, что он и врач, и химик, и биолог, и фармаколог сразу. И, добавим, фигура чрезвычайно колоритная не только в науке. Хотя можно ли быть попеременно сухим педантом в лаборатории и темпераментным, экстравагантным нонконформистом «в быту»?
Еще в молодости Эрлих (он родился в 1854 году) имел репутацию юноши чудаковатого; например, на экзамене на аттестат зрелости ему досталась тема сочинения: «Жизнь — это сон». Молодой Пауль написал тогда, что поскольку жизнь есть, в принципе, процесс окисления, то и сон является определенной совокупностью химических процессов. Лично он, Пауль Эрлих, считает, что это некая фосфоресценция мозга…
Читателю, конечно, не составит труда угадать, какую именно оценку заработал юный Эрлих на этом экзамене.
В конце прошлого — начале нашего столетия Эрлих был одним из знаменитейших ученых Европы, членом многих академий, научных обществ и частым их гостем, выступавшим перед ними с лекциями, всегда яркими, привлекающими оригинальностью суждений. В 1908 году он совместно с И. И. Мечниковым получил Нобелевскую премию за работы в области иммунологии. Словом, как бы сказали в наши дни — колоссальное паблисити.
И на этом фоне — рассказы людей, встречавшихся с Эрлихом, о его экстравагантных манерах, о вспыльчивости, о невероятной забывчивости (господи, да сколько уж мы слышали анекдотов о забывчивых профессорах!). Когда читаешь все это, создается впечатление, что временами, по крайней мере, сам Эрлих подыгрывал будущим рассказчикам историй о нем; поэтому и характер анекдота «про Эрлиха» во многом зависит от состояния чувства юмора рассказчика.
Например, по одной версии, Эрлих был чудовищным невеждой в вопросах, не касавшихся непосредственно сферы его исследований. В подтверждение рассказывается такой случай. Едет-де Эрлих на какой-то научный конгресс в Лондон вместе с другим профессором-медиком. Проезжают они через Бельгию, через город Брюгге, где, как известно каждому образованному человеку, в местной больнице (бог знает, почему именно там) выставлены картины немецкого художника XV века Мемлинга.
— Я, пожалуй, задержусь в Брюгге, — говорит спутник Эрлиха. — Хочу зайти в больницу, взглянуть на Мемлинга.
— Отлично, передавайте ему привет от меня, — отвечает Эрлих.
Дадим теперь слово другому очевидцу, вспоминающему Эрлиха как большого любителя розыгрышей, мастера прикинуться наивным простачком.
Факты? Да ради бога!
Вот, например, пришел в гости к Эрлиху некий господин, недавно побывавший в Веймаре, городе, связанном в представлении всякого интеллигента прежде всего с именами Гёте и Шиллера, с посвященным им памятником. Гость полон впечатлений, начинает рассказывать, вдруг Эрлих его перебивает:
— Я и сам очень люблю Веймар, это прекрасный город, особенно впечатляет памятник Шекспиру.
Гость ошеломленно молчит, а Эрлих продолжает:
— И это очень правильно, что этот прекрасный памятник поставили именно в Веймаре, на родине Шекспира.
Сначала гости делали какие-то намеки Эрлиху, пытались его прервать, но тут один из присутствующих вдруг стал ему подыгрывать, и они согласно начали излагать подробности жизни Шекспира в Веймаре.
Как видим, разница между этими двумя историями только в трактовке: в одном случае все приписывается неосведомленности Эрлиха, в другом — специфическому чувству юмора. Первая гипотеза мне кажется обоснованной гораздо слабее, тем более что историю с Мемлингом очень часто и с удовольствием рассказывал сам Эрлих, сопровождая ее замечаниями о своем мнимом невежестве, вроде того, что он так до сих пор и не уяснил, что там вокруг чего вертится: Земля вокруг Солнца или наоборот?
Несколько подозрительны также и россказни о его небывалой рассеянности — все эти письма-напоминания, посылаемые самому себе по почте, этот вечный узелок на цепочке часов — неизвестно, о чем напоминающий, эти папки с вклейкой: «Просим немедленно вернуть за вознаграждение в 10 марок по адресу…» И, наконец, все, что писалось о его полемическом задоре, о темпераментных дискуссиях, переходящих в шумную ссору…
Действительно, многие печатные работы Эрлиха выдержаны в откровенно дискуссионном тоне. Это придает им убедительности, вскоре я приведу и примеры.
Пока же несколько слов по поводу того, что принято называть «принципом Эрлиха». Иногда его для солидности приводят в латинском варианте — «Corpora non actunt, nisi fixata», то есть «вещества не действуют, не будучи связанными». Для того чтобы оказать какое-то действие на организм, молекула должна быть связана каким-то его элементом.
Вот, собственно, и весь принцип. До Эрлиха он был сформулирован менее лаконично и гораздо менее эффектно английским физиологом Джоном Ньюпортом Лэнгли для частного, интересовавшего его случая совместного действия атропина и пилокарпина на некоторые препараты тканей. Он написал еще в 1878 году: «…Я считаю, без особого риска можно предположить, что в нервных окончаниях или в клетках желез существует вещество или вещества, с которыми и атропин, и пилокарпин способны образовывать соединения. Согласно такому предположению эти соединения атропина и пилокарпина образуются по некоторому закону, основными факторами которого является их относительная масса и химическое сродство к упомянутому веществу».
Замечу, впрочем, что Эрлих абсолютно не оспаривал приоритета Лэнгли, да и вообще не пытался убедить кого-либо в том, что он открыл «принцип Эрлиха». Он просто очень настойчиво и последовательно пропагандировал, внедрял в умы современных ему исследователей эти немудреные в общем представления.
«Что то или иное вещество может влиять на данный орган (например, на мозг) или на данного паразита только в том случае, если оно этим органом или этим паразитом связывается и скопляется, это представление столь простое и почти само собой понятное, что может быть прослежено вплоть до самых отдаленных времен истории медицины. Еще в середине века один ученый-медик прямо утверждал, что лекарства должны иметь особые spiculae (спицы, крючки), с помощью которых они крепятся к органам. Но практической роли эта аксиома в современной фармакологии не играла.
Мои противники упрекают меня в том, что отстаиваемое мною воззрение есть нечто само собой разумеющееся и что нет надобности тратить на это много слов. Однако, милостивые государи, в науке важны не слова, а дела. Если король Генрих IV желал каждому гражданину своей страны иметь по воскресеньям в горшке курицу, то это несомненно свидетельствует о прекрасном и благородном облике этого владыки, но было бы еще лучше, если бы он и на деле предпринимал какие-нибудь меры, чтобы осуществить это пожелание. Всякая аксиома вообще имеет значение лишь тогда, когда труд превращает ее в полезную ценность, а не тогда, когда ее держат под спудом. Но именно последнее имело место в фармакологии, которая лишь в самое последнее время, подчиняясь необходимости, решилась признать принцип связывания, уже много лет играющий крупную роль в учении об иммунитете, и тем внесла в свою работу свежую струю современности». (Отмечу, кстати, что встречалось мне разъяснение одного «ученого историка» по поводу знаменитого пожелания Анри Четвертого насчет курицы. На самом как будто деле эта фраза родилась при следующих обстоятельствах. Анри в сопровождении еще нескольких человек целый день охотился, страшно устал, дико проголодался, к тому же они заблудились. Когда вдалеке наконец показалась крестьянская хижина, направляясь к ней, они принялись гадать, какую пищу смогут там получить. Вот тут-то и была произнесена столь известная фраза.)
Далее у Эрлиха читаем:
«…Для определенных лекарств должны существовать химические группировки протоплазмы, служащие для связывания соответствующих веществ. В этом я вполне схожусь с Лэнгли, отстаивавшим тот же взгляд. Я называю такие группировки „хеморецепторами“».
Мне кажется, что эта образная, несколько агрессивная речь лучше приведенных выше анекдотов «про Эрлиха» характеризует его темперамент и полемические качества. Тем более что приведенные цитаты заимствованы не из какой-либо бурной дискуссии, а из рядового доклада, читанного П. Эрлихом в спокойной атмосфере X съезда Немецкого общества дерматологов во Франкфурте-на-Майне в 1908 году.
«…Всякое действие, — говорил Эрлих в другой лекции, на этот раз в Лондонском Королевском институте здравоохранения, — предполагает наличность двух групп, обладающих максимальным химическим сродством; реакцией этих групп и обусловливается связывание. Эта аксиома связывания составляет основу моей теории боковых цепей».
Эрлиховская теория боковых цепей — применение представлений о связывании к более частному случаю реакций аппарата иммунитета, сыграла определенную роль в развитии иммунологической науки того времени и была как раз частым предметом дискуссий.
Эрлих предавался таким спорам с упоением, благо недостатка в противниках не было. Рассказывают, что отправляясь однажды на очередной конгресс, где ему предстояло отстаивать теорию боковых цепей, он оказался в одном купе со знакомым депутатом рейхстага. Все мысли Эрлиха — о будущих дебатах, и вот приходит ему в голову блестящая идея: сосед-то — профессиональный полемист, поднаторел в парламентских прениях. Не попытаться ли применить его опыт в борьбе за теорию боковых цепей?
— У вас такой большой опыт парламентских дискуссий, — обращается он к соседу-депутату. — Может быть, вы мне подскажете какие-нибудь действенные приемы, с помощью которых я мог бы расправиться со своими оппонентами?
— Но, господин профессор, я ведь совершенно не имею понятия о сути предстоящей вам дискуссии. Как же я могу что-либо советовать?
— Не беда, — возражает Эрлих, достает карандаш и, забросив ногу на ногу, прямо на подошве своей туфли начинает писать формулы, объясняя суть теории боковых цепей.
Увы, даже прослушав столь оригинально иллюстрируемую лекцию, депутат ничего не понял и не сумел подготовить Эрлиха к предстоящей полемике, как всегда, очень бурной.
Точно так же и по завершении таких схваток Эрлих долго не мог успокоиться. Его биограф описывает случай, когда почтенный профессор, возвращаясь с очередного конгресса, долго не мог прийти в себя после особенно эмоциональной стычки с напористым молодым оппонентом.
— Нахальный молокосос! — выкрикивал он время от времени в крайнем негодовании, не давая уснуть соседям по купе. Те пожаловались в конце концов проводнику, и Эрлиху было сделано грозное предупреждение. На некоторое время воцарилась тишина, а затем опять.
— Нахальный молокосос!
На этот раз проводник предложил Эрлиху покинуть купе; поняв, что шутки плохи, профессор наконец замолчал.
Итак, вещества не действуют, не будучи связанными. Как и всякая лаконичная и эффектная формула, принцип Эрлиха нуждается в довольно пространном комментарии. Ибо таково уж свойство классических максим: они дают ответ на один вопрос, но порождают несколько новых. В нашем случае прежде всего необходимо внести ясность в понятие связывания. В самом деле, чтобы вызвать какую-то реакцию протоплазмы, клетки, органа, целого организма, нужно, чтобы молекулы использованного вещества как-то провзаимодействовали с чем-то внутри этого организма или клетки, ведь на расстоянии не повоздействуешь…
Постойте, возразит образованный читатель, как это не повоздействуешь? А радиоактивные вещества? Они-то уж могут оказывать влияние на организмы даже на значительном удалении. Ну что же, еще один недостаток всяких лаконичных «принципов» и «законов»: размышляя над ними, легко впасть в буквоедские умствования, отдающие схоластикой и, как правило, уводящие в сторону от основных закономерностей, для выражения которых и были сформулированы злополучные принципы или законы. И стандартное поползновение всякого, кто начинает осмысливать такую вот формулировку, найти противоречащий ей пример (одно время в отечественной научной литературе для определения такого примера бытовало хорошее слово «гегенбайшпиль»). Именно по этому пути мы и двинулись, вспомнив о радиоактивных веществах, которые могут действовать на живые объекты на расстоянии.
Нет, пожалуй, все же это не совсем удачный гегенбайшпиль. Ведь в самом деле, на организм действуют не сами радиоактивные вещества, а испускаемые ими излучения. Совершенно неважно, вследствие распада каких радиоактивных элементов (или иных физических процессов) возникли эти излучения, важны лишь их вид, интенсивность, другие характеристики. Если это α-лучи (поток ядер гелия) или β-лучи (поток электронов), то следует говорить о «связывании» или «взаимодействии» именно этих веществ с органической материей — а такое взаимодействие налицо. Что же касается γ-лучей (жесткое рентгеновское излучение), здесь возникает вопрос о том, можно ли считать γ-кванты веществом. Физические авторитеты утверждают, что да; следовательно, для тех, кто с ними согласен, принцип Эрлиха оправдан и в этом случае, если кто-то придерживается отличного мнения, тем более что ведь Эрлих говорил именно о веществах, а не об излучениях.
Словом, не состоялся наш гегенбайшпиль, да и бог с ним, очень уж он увел нас в сторону от сути дела. Вернемся к исходному вопросу: что понимать под «связыванием»?
Для начала рассмотрим, за счет каких сил молекулы нашего вещества могут связываться с какими-либо компонентами протоплазмы да и, впрочем, не только протоплазмы.
Это может быть ковалентная связь, которая при написании структурных формул обозначается обычно черточкой. Она образуется за счет возникновения общей для связываемой пары атомов системы из двух электронов. Это весьма прочная связь, для ее разрыва, например, в молекуле органического соединения нужно затратить около сотни килокалорий на один моль. Если эта связь двойная, раза в полтора больше: в ее образовании принимают участие две пары электронов.
Некоторые функциональные группы, содержащие водород, такие, как —ОН, —NH— и другие, способны к образованию так называемой водородной связи. Их частым партнером по такой связи оказывается карбонильная группа >С=О. Если кислород этой группы окажется вблизи, скажем, того же гидроксила, протон гидроксила, обладая сродством к обоим атомам кислорода, обусловит влечение этих групп друг к другу. При этом четыре атома: углерод, кислород, водород и опять кислород — будут стремиться расположиться в одну линию. При записи водородная связь обозначается обычно пунктиром: >С=О… Н—О—. Водородная связь намного слабее ковалентной; для ее разрыва нужно одна-три, редко больше килокалорий на моль.
Некоторые атомы или функциональные группы несут электрический заряд; очевидно, такие противоположно заряженные центры также могут благодаря чисто электростатическим взаимодействиям связываться друг с другом. Сила такого взаимодействия зависит от окружения; например, в водной среде — случай, особенно нас интересующий, — оно очень ослабляется.
Существуют также весьма слабые и короткодействующие силы притяжения между атомами и функциональными группами, электрически нейтральными и не склонными к образованию водородной связи. Их энергия убывает обратно пропорционально шестой степени расстояния между центрами; в случае, например, максимально сближенных молекул метана она составит всего несколько десятых килокалории на моль.
Наконец, часто говорят о так называемых гидрофобных взаимодействиях. Можно иметь претензии к использованию здесь именно термина «взаимодействие», поскольку… Впрочем, лучше рассказать все по порядку.
Из повседневного опыта мы знаем, что существуют вещества, легко смачиваемые водой, и вещества, не смачиваемые вовсе. Если, например, нанести каплю воды на пленку из целлофана, она немедленно растечется по ее поверхности, если же это будет пленка из полиэтилена, соберется шариком.
В первом веществе в изобилии содержатся хорошо взаимодействующие с водой полярные группы, в частности, гидроксильные, способные образовывать водородные связи с молекулами воды. Появление таких связей сопровождается выделением энергии, поэтому и возникает тенденция к максимальному увеличению поверхности контакта пленки и воды.
В случае полиэтилена, состоящего сплошь из неполярных метиленовых групп —СН2—, подобные взаимодействия отсутствуют, но капля, казалось бы, все же должна растечься по поверхности пленки просто под действием силы тяжести. Этого, однако, не происходит, капля лишь чуть сплющилась. Вода не только не испытывает никакого сродства к полиэтилену, но и стремится всячески избегать контакта с ним.
Как известно, при замерзании воды выделяется энергия — около 0,15 килокалории на моль. Это цена упорядочения структуры; для нас пока неважно, из каких составляющих она слагается. На поверхности контакта воды с любым неполярным веществом, тем же полиэтиленом, возникает пленка льдоподобной структуры; контакт с инертным полиэтиленом оказывает упорядочивающее действие. Таким образом, стремление воды не приходить в соприкосновение с полиэтиленом или парафином есть стремление избегать льдообразования при комнатной температуре, на что, как мы говорили, пришлось бы затратить энергию.
Пусть две неполярные молекулы, скажем, того же метана, оказались в воде. Наиболее низкоэнергетической, а следовательно, наиболее стабильной ситуацией окажется такая, при которой они сошлись вплотную друг с другом — суммарная площадь контакта воды с поверхностью метана минимальна. Точно по той же причине две капли жира на поверхности супа охотно сливаются в одну, чтобы поверхность контакта с водой была поменьше.
Наблюдая за слипанием двух молекул метана в воде, можно объявить его результатом их взаимодействия. И в самом деле, для определения эффектов подобного рода введен термин «гидрофобные взаимодействия». Гидрофобия, или водобоязнь, — старое название бешенства, так что читателям, знакомым с таким значением этого слова, использование его в новой роли покажется, возможно, странным. Гидрофобными называют и вещества, и функциональные группы, и поверхности, не смачиваемые водой; недавно даже появилась в продаже гидрофобная смазка для ухода за обувью.
Здесь, мне кажется, скрывается определенная неточность. Вряд ли можно говорить о «водобоязни» того же парафина или полиэтилена. Не они воды боятся, или избегают, или не приемлют, а как раз наоборот, вода «избегает» контакта с ними, собираясь в капельку. Также и «взаимодействие» двух молекул метана в воде проявляется не в том, что они сами притягиваются друг к другу: их подталкивает, выталкивает в этом направлении вода.
Впрочем, термин «гидрофобные взаимодействия» уже настолько прочно устоялся в специальной литературе, что вряд ли удастся искоренить его рассуждениями подобного рода, да это совершенно и не входит в мои намерения; я хотел лишь подчеркнуть особенный характер этой группы взаимодействий, играющих к тому же важную роль в механизмах проявления биологической активности многих соединений как раз на этапе их связывания структурами клетки. Без чего, как мы уже знаем…
Еще раз не поленимся вспомнить принцип Эрлиха: «Вещества не действуют, не будучи связаны». За счет каких физических сил они могут связываться, — мы уже рассмотрели, теперь вопрос: а с чем?
Сам Эрлих, если вспомнить приведенные цитаты, говорил довольно туманно о каких-то веществах протоплазмы, о рецепторах. Что это, кстати, такое? И почему связавшись, неважно пока, с чем, вещества эти оказывают какое-то действие?
Для иллюстраций существенных из начальных понятий обратимся к истории применения гербицидов: «химической прополки», как говаривали раньше. Одним из первых эффективных средств, помогавших избавиться от сорняков в посевах злаковых культур, были вещества, совершенно немудреные: серная кислота и медный купорос. Серная кислота — средство, конечно, радикальное. Нет такой живой ткани, нет такого организма, который мог бы противостоять контакту с ней. Но почему же сорняк звездчатка опрыскивания 20-процентной серной кислотой не переносит, а пшенице как с гуся вода?
А вот именно, именно, как с гуся вода. Плотные, лощеные листья пшеницы, покрытые тончайшим (гидрофобным!) восковым налетом, не позволяют задерживаться капелькам серной кислоты, они скатываются прочь, в почву. У звездчатки же поверхность листьев морщинистая, негладкая, к тому же хорошо смачиваемая. Несколько капель всесокрушающей N2SO4 на растение — и достаточно.
Вот уж действительно: не действуют вещества, не будучи связанными! А с другой стороны, на этом примере мы можем ввести в обиход нашего правдивого (по преимуществу) повествования важное понятие избирательности действия. В рассмотренном случае она проявляется на организменном уровне. Если бы серная кислота все же как-то задержалась и на листьях пшеницы, той бы тоже, конечно, несдобровать. Но пшеница увернулась. Невольно вспоминается полузабытая ныне пословица: «Что русскому здорово, то немцу…» Я, впрочем, наблюдал и обратное: почтенного, симпатичного русского профессора, у которого разыгрался неприятнейший гастрит после двухнедельного знакомства с немецкой кухней; так что пусть редактор не пытается вычеркнуть этот абзац, приписывая мне великорусский шовинизм.
Еще одна особенность действия серной кислоты на злополучную звездчатку: кислота уничтожает все клеточные структуры без разбору, разрушает все живое вещество клетки целиком. Гораздо больший интерес представляют соединения, действующие избирательно не только на уровне организма, но и внутри него, связываясь лишь с некоторыми, вполне определенными его элементами.
«…Стэнли, крайне польщенный этим визитом, суетился возле бара. Вскоре на столе появился поднос с двумя стаканами.
— Что предпочтете?
— Немного виски, — свободно ответила Айрис. И, выждав, пока Стэнли нальет, добавила: — Если можно, дайте льда.
Стэнли услужливо метнулся на кухню. Едва он скрылся за дверью, в руках Айрис появилась миниатюрная стеклянная капсула. Ее содержимое, всего несколько беловатых крупинок, она быстрым движением всыпала в стакан — тот, что стоял подальше от нее.
…Инспектор Мак-Гроу низко наклонился над лицом покойника. Так и есть — характерный запах горького миндаля».
Ну а раз горького миндаля, всякий знаток детективных историй тут же и сообразит, что те несколько беловатых крупинок, которые всыпала в стакан Стэнли коварная и аморальная Айрис, были не чем иным, как цианистым калием. Ладно, не подлежит сомнению, что инспектор Мак-Гроу дело свое знает, и не миновать в конце концов мерзавке газовой камеры или электростула. Лучше поинтересуемся: с чем же именно связался в организме злополучного растяпы Стэнли этот самый цианистый калий?
Ну, прежде всего не так уж обязательно именно калий. Дело в том, что все цианиды щелочных металлов в растворе диссоциируют на ион металла и анион CN— эти растворы имеют основную реакцию (то же KOH — очень сильная щелочь) поэтому часть анионов CN—, отнимая протон у молекулы воды, превращается в синильную кислоту — соединение довольно летучее. Именно запах синильной кислоты и почувствовал инспектор Мак-Гроу, а был ли в роковой капсуле цианид калия или, скажем, натрия, этого, пожалуй, уже не установить.
При попадании в организм животных синильной кислоты или ее солей образующийся ион CN— связывается с гемоглобином — красным веществом крови, обеспечивающим перенос кислорода из легких к остальным органам. Кислород обратимо связывается атомом железа, встроенным в так называемое порфириновое ядро — молекулу довольно сложной структуры, присоединенную к белковой части гемоглобина. Ион CN— образует с тем же атомом железа более прочное соединение, возникший в результате циангемоглобин уже не способен переносить кислород. Ясно, что последствия этого оказываются самыми печальными: удушье вследствие кислородного голодания.
Случай с цианистым калием демонстрирует нам первый пример как бы мимикрии на молекулярном уровне: явления, весьма важного для понимания механизмов химического воздействия на биологические объекты. В данном случае ион CN— как бы прикинулся кислородом, занял его место. Таким именно образом действуют многие вещества: имея сходство в химическом и структурном отношении с соединениями, участвующими в нормальном обмене веществ организма, они вовлекаются вместо них в соответствующие реакции.
Результаты могут быть разными, но это уже отдельный вопрос.
Далее, а как обстоит дело с избирательностью действия цианистого калия на организменном уровне? Ведь гемоглобин содержится только в крови позвоночных. Означает ли это, что, скажем, для насекомых, растений, микроорганизмов он безвреден? Нет, не означает.
Во-первых, в организме беспозвоночных функцию, присущую гемоглобину, — транспорт кислорода, — выполняют другие, весьма сходные с ним дыхательные белки — эритрокруорины. Они содержат ту же порфириновую группу с атомом железа, совершенно аналогично функционируют и так же, как гемоглобин, необратимо связывают ион CN—.
Во-вторых, такую же группу содержат и многие другие белки, не имеющие отношения к функции переноса кислорода, но очень важные для нормального течения различных обменных процессов в организме: цитохромы, каталазы и т. п. Представители белков этой группы присутствуют практически во всех организмах, кроме разве что вирусов; таким образом, цианистый калий — яд довольно универсальный, истребляющий, как и серная кислота, все (ну, почти все) живое.
Почти — потому, что есть организмы, безразличные к поразительно высоким концентрациям цианидов… Эпиграфом к заключительной главе одной весьма специальной книги, посвященной ядам животных, взято высказывание американского физиолога К. Шмидт-Нильсена: «Один из способов быть несъеденным — это стать несъедобным». Очень многими способами реализуется этот полезный совет представителями и растительного и животного царства. Чертополох угрожающе растопыривает свои колючки, полынь имеет омерзительно горький вкус, горькой же слизью покрыто тело жаб, а у некоторых она еще к тому же ядовита.
Именно ядовитость, пожалуй, самая распространенная причина несъедобности. Километрами бредет иной грибник по лесу, не находя решительно ничего, что можно было положить в корзину, и с раздражением поглядывает на огромные скопления ложного опенка, попадающиеся буквально на каждом шагу, на самодовольных красавцев мухоморов. Все другие, съедобные, не уцелели. Впрочем, некоторые знатоки утверждают, что по-настоящему несъедобных грибов очень немного, а большинство тех, мимо которых грибники проходят равнодушно или даже с омерзением, после соответствующей обработки можно есть за милую душу.
Есть и обратные примеры. В Японии большим деликатесом считается рыба фугу, хотя совершенно доподлинно известно, что в ее коже и некоторых внутренностях содержится страшный яд — тетродотоксин. Ежегодно десятки людей гибнут от отравления фугу, есть у японцев и назидательная пословица о лакомках, погибших из-за своего порока, отравившись фугу. А это может случиться в результате маленькой небрежности при разделке, а иногда и вообще неизвестно почему: просто попался особо ядовитый экземпляр, или время было неподходящее (фугу особенно ядовита в первой половине лета). Трудно понять такое легкомыслие со стороны рассудительных, по нашим представлениям, японцев. А, впрочем, много ли наших курильщиков принимает близко к сердцу отпугивающие статистические данные о горестной судьбе приверженцев никотина?
Вернемся, однако, к нашим цианидам. Некоторые ядовитые растения ядовиты именно благодаря тому, что в их тканях образуются и накапливаются цианиды. Это их способ защиты от поедания травоядными животными, насекомыми и поражения микроорганизмами. Но если в отношении насекомых такая защита оказывается стопроцентно эффективной, то среди микроорганизмов нашлись обладатели особых ферментных систем, быстро разрушающих цианиды, благодаря чему и могут беспрепятственно развиваться на субстрате, ядовитом для всех прочих растений.
Любопытно, что пути обезвреживания цианида бывают самими разнообразными. Грибки рода фузарнум, паразитирующие на культурных растениях семейства пасленовых (картофель, помидоры и др.), превращают зловещий HCN в безвредные аммиак и углекислоту; другие грибки, вызывающие заболевания тех же культур, окисляют его до альдегидов. Чаще всего цианиды обезвреживаются, вовлекаясь в реакцию с аминокислотами.
Обычно цианиды образуются в растениях в результате деградации некоторых гликозидов или алкалоидов (их так и называют — цианогенными). Содержание накапливающейся таким образом синильной кислоты в некоторых растениях очень велико. Так, новозеландские ученые исследовали с этой точки зрения разные разновидности белого клевера. Оказалось, что у отдельных форм в килограмме свежей травы содержится более ста миллиграммов HCN. Смертельной дозой для овцы являлись всего 320 граммов такой травы или 60 граммов полученного из нее сена!
Еще большее содержание синильной кислоты было обнаружено в некоторых сортах сорго — до полуграмма в килограмме зеленой массы; очень богаты цианидами и клубни тропического культурного растения кассавы. Содержащийся в клубнях растений кассавы цианогенный алкалоид линамарин подвергается распаду с образованием HCN; любопытно, что в устойчивом к синильной кислоте грибке ризопус, поражающем клубни кассавы, содержится фермент, катализирующий этот процесс. Другой фермент разлагает выделяющийся цианид.
Индийские ученые, изучавшие этот грибок, пришли к выводу, что препарат второго фермента можно использовать для детоксикации кормовых и пищевых продуктов из кассавы, а кроме того, для очистки стоков, содержащих остатки солей синильной кислоты. Аналогичную идею выдвинула группа английских микробиологов, исследовавших другую группу цианотолерантных микроорганизмов. Такие стоки в больших объемах имеются, например, на гальванических производствах, и их обезвреживание, естественно, доставляет массу хлопот: требуется очень высокая степень очистки.
Механизм, по которому действует цианистый калий — блокирование деятельности белка благодаря связыванию с ним, характерен для обширного класса соединений. Примеры, подчас весьма поучительные, привести нетрудно; для этого, однако, необходимо сделать небольшое отступление. Настало время поговорить о белках вообще.
Читателю, по-видимому, известно, что белки — это цепные молекулы, образованные звеньями двадцати различных типов — аминокислотными остатками. Молекула белка содержит обычно от нескольких десятков до нескольких сотен таких остатков. Их чередование у каждой молекулы данного сорта белка строго одинаково. Часто белковую молекулу сравнивают с несколькосотбуквенным словом, записанным на двадцатибуквенном алфавите.
Сразу же напрашиваются два вопроса: какой смысл таится в этом слове и как такие молекулы образуются?
Приступая к ответу, я испытываю некоторую неловкость. Дело в том, что вместе с моим коллегой Г. В. Никифоровичем я уже писал об этом именно на страницах книги серии «Эврика». Она называлась «Беседы о жизни» и вышла в 1977 году. Нехорошо, конечно, повторяться, но я попытаюсь сделать изложение этого материала предельно лаконичным (упомянутая же книга была им посвящена полностью).
Сначала о смысле, заложенном в определенном чередовании аминокислотных остатков в белковой молекуле. Каждая такая молекула обладает одним замечательным свойством — она самопроизвольно сворачивается во вполне определенную пространственную структуру. Это происходит под влиянием сил взаимодействия различных ее частей друг с другом и с растворителем; они совершенно аналогичны рассмотренным выше. Особую роль играет именно растворитель, обычно водный.
Каждый аминокислотный остаток содержит элемент, общий для всех, — это повторяющиеся фрагменты остова цепи. К ним присоединены так называемые боковые радикалы, или боковые цепи (не путать с боковыми цепями Эрлиха, совпадение терминов совершенно случайное). Всего существует, как упоминалось, двадцать типов боковых цепей; часть из них имеет полярную природу и хорошо смачивается водой. Прежде всего те, которые способны к ионизации: потере или захвату протона с образованием электрически заряженного иона. Например, таков боковой радикал остатка аспарагиновой кислоты; он близок по строению уксусной кислоте, которая, как известно, прекрасно растворяется в воде.
Существуют, однако, и остатки с совершенно противоположным отношением к воде — сильно гидрофобные. Скажем, боковые радикалы остатков валина, лейцина, изолейцина — соединения парафиноподобные: боковая цепь фенилаланина представляет собой молекулу толуола (правда, лишенную одного атома водорода). Цепной остов молекулы белка — довольно гибкий, подвижный; боковые цепи также могут вращаться около него и изменять свою форму. В водной среде неполярные радикалы будут стремиться избежать контакта с водой, слипаясь друг с другом, полярные, наоборот, «предпочтут» оказаться экспонированными в воду. В результате молекула сворачивается в плотную, компактную структуру, в которой все неполярные боковые радикалы (так называемое гидрофобное ядро), собраны внутри, а поверхность образована хорошо смачиваемыми группами. Ясно, что такая укладка в принципе возможна, если выполнялись некоторые условия как в отношении состава аминокислотных остатков, образующих молекулу белка (не свернешь такую структуру, если, скажем, в молекуле одни только полярные остатки!), так и в отношении их чередования в цепи. Последовательности аминокислотных остатков в реальных белковых молекулах всегда таковы, что они обеспечивают выполнение этих условий, позволяя молекуле свернуться плотно и, что очень важно, единственным возможным образом. Так что главная информация, содержащаяся в аминокислотной последовательности белков, — это, в конечном счете, информация о пространственном строении их молекул.
Белки выполняют в организме множество ответственных функций, и каждая из них тем или иным образом обусловлена определенной структурой соответствующих белковых молекул. Мы остановимся подробней на их роли как катализаторов химических реакций, протекающих в организме; эту роль выполняет обширная группа белков, называемых ферментами.
Все, что написано о химической структуре белковой молекулы — линейной цепочки, образованной чередующимися определенным образом аминокислотными остатками, стало известно главным образом благодаря работам блестящего немецкого химика Эмиля Фишера. Он же установил многие другие особенности строения белковых молекул и синтезировал короткие белковоподобные фрагменты — пептиды, самый большой из которых содержал восемнадцать аминокислотных остатков.
Совершенно неоценим вклад Фишера в развитие органической химии и химии природных соединений. Лучше всего его можно охарактеризовать словами самого Фишера, который под конец жизни говаривал, что в молодости он мечтал о том, чтобы суметь полностью синтетическим путем приготовить себе завтрак, и почти осуществил свою мечту. Действительно, помимо вклада в белковую химию, о котором только что шла речь, нужно упомянуть его блестящие работы по установлению структуры и синтезу сахаров, им же расшифрованы структуры молекул кофеина и теобромина — наиболее существенных компонентов кофе и чая. Так что до приготовления синтетического завтрака ему и впрямь было недалеко.
А ведь, помимо этого, Фишер установил структуру многих циклических соединений, синтезировал их и в 1903 году совместно с И. Мерингом получил популярное до недавнего времени снотворное — веронал.
Знает ли кто-нибудь из читателей, кто такой Герман Зудерман? Пожалуй, разве что специалисты по немецкой литературе конца прошлого — начала нашего века. Был этот самый Зудерман в то время изрядно плодовит и популярен — и как прозаик, и особенно как драматург.
На каком-то курорте Фишер и Зудерман встретились, и писатель почувствовал почему-то антипатию к Фишеру.
— Вы не представляете себе, до чего я счастлив, — язвительно сказал Зудерман, — что могу лично поблагодарить вас за прекрасное снотворное, каким оказался ваш веронал. Мне даже не нужно его глотать, достаточно, если он лежит на моей ночной тумбочке.
— Странный случай. Я тоже, когда не могу заснуть, беру какую-нибудь вашу книгу. Действует безотказно, для меня тоже достаточно просто увидеть ее на моей ночной тумбочке.
Как-то в букинистическом магазине попалась мне в руки книжечка этого Зудермана; вспомнив приведенную историю, исключительно с целью проверки снотворного эффекта сочинения я купил ее и прочел. Мне показалось, что Фишер все же не прав: графомания это, конечно, вещь совершенно справедливо забытая, но все же не нудная.
Веронал же положил начало широкому проникновению в повседневную нашу жизнь барбитуратов, ныне представленных огромным количеством снотворных, успокоительных и обезболивающих средств; назовем хотя бы еще люминал, нембутал, перноктон, диал, квиэтал. По мнению специалистов, распространяющееся злоупотребление барбитуратами (еще бы, в наш-то век стрессов и эмоций) представляет собой огромную медицинскую и социальную проблему. Но Фишер здесь, конечно, ни при чем.
Очень важный след оставил Фишер и в науке о ферментах. К концу XIX века исследователям уже были известны многие примеры их исключительной избирательности, специфичности, говоря профессиональным языком.
Скажем, некий фермент катализирует реакцию с участием определенной молекулы (она называется в этом случае субстратом); катализирует очень эффективно, ускоряя в миллионы раз или даже более. И вот стоит хоть чуть-чуть изменить что-то в структуре этой молекулы, заменить одну группу атомов другой, или слегка нарушить строение той ее части, которая в реакции не участвует вовсе, или расположить иным образом заместители у какого-нибудь атома углерода — фермент перестает действовать как катализатор.
Благодаря высокой специфичности ферментов в организме не воцаряется хаос: каждый фермент выполняет строго отведенные ему функции, не влияя на течение многих десятков и сотен других реакций, осуществляющихся в его окружении.
Всякий каталитический эффект наступает в результате того, что молекула катализатора связывается неким образом с одной или несколькими молекулами — участницами реакции. В составе такого комплекса реакционная способность связанных молекул повышается, они реагируют друг с другом или с какими-то еще молекулами окружения. Продукт реакции обычно обладает меньшим сродством к катализатору, комплекс распадается, и молекула катализатора готова для следующей операции.
Удивительную специфичность действия ферментов Эмиль Фишер объяснил точным взаимным пространственным соответствием молекул субстрата и связывающего ее участка фермента (он называется активным центром фермента). Эта гипотеза получила название «гипотезы ключа и замка» или гипотезы «руки и перчатки».
В самом деле, не наденешь левую перчатку на правую руку, а если и натянешь, то с трудом. И если активный центр фермента представляет собой как бы слепок молекулы субстрата, ориентированной определенным образом, то ясно, что даже незначительная модификация структуры субстрата не дает ему возможности образовать плотный (а следовательно и прочный) комплекс с ферментом.
Гипотеза Фишера (с небольшими последующими модификациями) получила прямое экспериментальное подтверждение лишь много десятилетий спустя, однако была повсеместно взята на вооружение биохимиками сразу.
Более того, эти представления были перенесены и на другие взаимодействия белков с различными веществами. Например, при появлении в организме некоторых чужеродных соединений вырабатываются антитела — белки, прочно связывающие эти соединения и предотвращающие тем самым их возможное токсическое влияние. Пауль Эрлих, стоявший у истоков возникновения этих представлений, говорил в Нобелевской лекции, читанной в 1908 году:
«А так как отношения между токсином и его антитоксином (антителом. — С. Г.) носят строго специфический характер — например, столбнячный антитоксин нейтрализует исключительно яд столбняка, дифтерийная сыворотка — только яд дифтерии, противозмеиная сыворотка — только яд змеи и т. д., — то необходимо допустить, что между каждой такой парой антиподов происходит химическое связывание; последнее же ввиду строгой специфичности процесса легче всего объяснялось бы существованием двух групп с определенной конфигурацией, а именно двух групп, которые, по меткому сравнению Э. Фишера, так же хорошо подходят друг к другу, как ключ к замку».
С идеей взаимного пространственного соответствия двух взаимодействующих биологических молекул нам придется иметь дело еще не раз, на самых различных примерах; на этой идее, можно сказать без преувеличения, стоит вся современная физико-химическая биология. А обязана она ей Эмилию Фишеру, так же как, впрочем, и еще многими, многими идеями и фактами.
Заслуги Фишера были высоко оценены еще при его жизни; он был директором знаменитого Института кайзера Вильгельма, членом многих академий и научных обществ (в том числе с 1899 года членом-корреспондентом Петербургской Академии наук).
В 1902 году ему была присуждена Нобелевская премия. Все это, разумеется, неважно; мало ли было полностью ныне забытых нобелевских лауреатов, не говоря уже об академиках? Более всего о масштабах научных свершений Фишера свидетельствует то, что его идеи, его результаты и по сей день присутствуют во всех учебниках биохимии, органической химии, молекулярной биологии.
Согласно преданию семьи Фишеров отец Эмиля — богатый, солидный купец — хотел, чтобы сын продолжил его дело. Юноша был определен на практику к шурину своего отца, тоже купцу. То ли торговое ремесло было скучным занятием для него, то ли молодой Эмиль сознательно манкировал обязанностями купеческого практиканта, только некоторое время спустя учитель вернул его отцу с кратким и категорическим заключением:
— Ничего из него не получится.
— Что же поделать, — разочарованно сказал Фишер-старший. — Раз для купца он слишком глуп, придется отправить его в университет.
Жаль, что история, по-видимому, не сохранила для нас имени этого самого шурина, которому, как оказывается, столь многим обязана современная наука.
Вернемся, однако, к разговору о белках.
Структура остова белковой молекулы довольно проста. Боковые радикалы присоединены к атомам углерода, которые соединяются друг с другом посредством пептидной связи —СО—NH—.
До сих пор не последовало ответа на поставленный где-то выше вопрос о том, каким образом возникают белковые молекулы. Повременим и еще, рассмотрев противоположный процесс распада белков в организме. Он идет с помощью белков же — протеолитических ферментов, которые расщепляют пептидную связь с образованием на концах цепей в месте разрыва карбоксигруппы —СООН и аминогруппы —NH2; при этом происходит гидролиз одной молекулы воды.
Как и большинство других ферментов протеолитические ферменты обладают специфичностью, подчас довольно высокой, и расщепляют далеко не каждую связь. То есть на каждый случай какой-нибудь фермент да найдется, но данный конкретный фермент обычно специфичен в отношении лишь небольшой части связей в молекуле белка.
Чаще всего такая специфичность определяется типом остатка, принимающего участие в образовании атакуемой связи и его ближайших соседей, однако существуют и чемпионы специфичности, которые привередливы гораздо более. Так, протеолитический фермент ренин атакует только пептидную связь, следующую за фрагментом совершенно определенной аминокислотной последовательности из восьми остатков!
Рассмотрим, однако, случай попроще: пищеварительный фермент химотрипсин, выделяемый поджелудочной железой. Он расщепляет пептидные связи, в образовании которых принимают участие неполярные, гидрофобные остатки, причем делает это тем охотнее, чем больше объем такого остатка. Методами рентгеноструктурного анализа удалось установить пространственное строение молекулы химотрипсина. Механизм его каталитического действия благодаря этому известен ныне во всех основных деталях.
Здесь я называю этот белок несколько панибратски просто химотрипсином; на самом деле речь идет об α-химотрипсине, ибо есть еще и другие химотрипсины. Поскольку в дальнейшем они нам не понадобятся, будем и впредь писать просто химотрипсин.
На поверхности молекулы есть углубление, устланное неполярными, гидрофобными группами. Форма и размер этого углубления в точности соответствуют наиболее крупному гидрофобному боковому радикалу — аминокислотного остатка триптофана. Благодаря упоминавшемуся стремлению гидрофобных поверхностей в водном растворе сомкнуться так, чтобы контакт с водой был минимальным, боковой радикал триптофана входит в углубление на поверхности фермента. При этом остов цепи ориентируется таким образом, что пептидная группа, следующая за остатком триптофана, оказывается в непосредственной близости от оксигруппы бокового радикала серина, также входящего в активный центр химотрипсина.
В обычных условиях такая оксигруппа не реагирует с группами >СО или >NH, однако в активном центре она находится в окружении еще и двух имидазольных групп — боковых радикалов гистидина. В этих условиях она становится агрессивной («приобретает нуклеофильные свойства», если кто-то предпочтет более точное определение) и вступает в реакцию с карбонильной группой >СО пептидной связи. Последняя разрывается, и освободившаяся часть атакуемой белковой молекулы, следующая за остатком триптофана, уходит. Вновь образовавшаяся эфирная связь —О—СО— в окружении упоминавшихся остатков гистидина также оказывается непрочной, и вскоре от молекулы фермента отделяется и другая часть белковой молекулы.
Вот так современной молекулярной биологии удалось наполнить конкретными подробностями фишеровскую гипотезу «ключа и замка». Отметим, что, помимо пространственного соответствия (комплементарности, как предпочел бы сказать любой профессионал) и взаимного сродства гидрофобного «кармана» химотрипсина и бокового радикала остатка триптофана, существенную роль играет и рельеф поверхности молекулы, обеспечивающий расположение атакуемой связи в тесной близости с остатком серина.
Рассмотренный только что механизм реакции гидролиза с участием этого остатка встречается и у других ферментов, необязательно протеолитических; среди последних же он присущ обширной группе ферментов, которые так и называются — сериновые протеиназы. Другой пищеварительный фермент, принадлежащий этой группе, трипсин, атакует связи, образованные основными остатками: лизином и аргинином. Их длинные боковые радикалы несут на конце положительно заряженную группу; соответственно, «карман» активного центра трипсина — вытянутый, а на дне его расположен заряженный отрицательно боковой радикал остатка аспарагиновой кислоты. В остальном различий в механизме действия двух ферментов нет.
Явление мимикрии нередко встречается в живой природе. Совершенно неядовитые и безобидные змеи формой тела и окраской подражают своим грозным ядовитым сородичам — коралловой змее, аспиду и другим, причем часто сходство так велико, что определить, кто есть кто, может лишь зоолог-специалист. Безоружные насекомые часто почти неотличимы от ос. Таким образом им удается обмануть многих своих врагов.
Этот термин — мимикрия — уже упоминался ранее применительно к механизму токсического действия цианида; сейчас будет рассмотрен другой важный класс проявлений такой вот мимикрии на молекулярном уровне.
Действуя в нормальных условиях, всякий фермент, как и в рассмотренных примерах, на некоторое время связывается с молекулой субстрата; по окончании реакции этот комплекс распадается. Существует, однако, немало способов обмануть фермент: подсунуть ему молекулу, по структуре чрезвычайно близкую соединению, в отношении которого этот фермент специфичен, однако в силу какого-то отличия в структуре образующую с ферментом столь прочный комплекс, что молекула фермента выводится из строя очень надолго, часто практически навсегда.
Соединения такого рода называют ингибиторами ферментов; сюда относятся многие наиболее биологически активные и практически важные соединения: лекарства, пестициды, дезинфицирующие средства и т. п.
Например, наш знакомый химотрипсин необратимо ингибируется эфирами некоторых ароматических кислот. Циклическая связь этих соединений, два сочлененных кольца, напоминает боковой радикал триптофана и — очень удобно размещается в гидрофобном «кармане» активного центра. Карбонильная группа точно так же реагирует с сериновым гидроксилом, однако образовавшаяся связь оказывается весьма прочной, в отличие от связи, образуемой «нормальными» субстратами химотрипсина.
Известны многие ингибиторы и другого из рассмотренных выше ферментов, трипсина. Простейший из них — эпсилон-аминокапроновая кислота — представляет собой углеводородную цепочку из пяти групп —СН2—, несущую на одном конце карбоксил, а на другом — аминогруппу. Она имеет большое сходство с остатком лизина — одним из двух, в отношении которых трипсин специфичен. Эпсилон-аминокапроновая кислота не связывается валентно с ферментом, она размещается в почти полностью вытянутом виде внутри «кармана», причем ее положительно заряженная аминогруппа взаимодействует с находящимся в глубине отрицательно заряженным остатком аспарагиновой кислоты. Таким образом, комплекс этого соединения с ферментом оказывается менее прочным, чем в предыдущем случае.
Существует большое количество различных трипсиноподобных ферментов, имеющих общий с ним механизм действия. Один из них — содержащийся в крови плазмин, ответственный, в частности, за разрушение тромба. При многих заболеваниях его активность резко увеличивается, что приводит к разнообразным неприятным побочным последствиям, у нас еще будет случай о них поговорить. Чтобы от них избавиться, необходимо снизить активность плазмина, что достигается часто с помощью эпсилон-аминокапроновой кислоты или ее производных. Некоторые изменения структуры этой молекулы позволили получить соединения, обладающие более сильным ингибирующим эффектом, причем оказалось, что для его сохранения всегда необходимо, чтобы группы —NH2 и —СООН были разделены именно пятью другими атомами; укорочение или удлинение промежуточной углеводородной цепочки хотя бы на одну метиловую группу —СН3 приводит к снижению сродства к ферменту.
Обратим внимание на это обстоятельство и перейдем к рассмотрению других типов молекулярной мимикрии.
В случае встречи с ингибитором молекула фермента «страдает» непосредственно сама, оказавшись инактивированной. Есть, однако, соединения, также обладающие сходством с субстратом некоторого фермента и так же легко с ним взаимодействующие, однако безо всяких немедленных неприятностей для фермента: протекает нормальная реакция, как и с тем субстратом, который для этого и предназначен в организме — только вот продукт этой реакции чуть-чуть другой. Иногда последствия этого «чуть-чуть» оказываются весьма далеко идущими.
Как будто в старину существовал такой способ охоты на медведя: к стволу дерева, на котором находился улей, подвешивалась на веревке увесистая чурка. Подвешивалась довольно высоко, однако пониже улья. В землю под деревом втыкали заостренные колья острым концом вверх. Взбирается себе косолапый по стволу, в надежде хорошенько полакомиться, натыкается на препятствие, эту самую чурку. Отталкивает ее лапой в сторону и получает удар по голове. Серчает, отталкивает посильнее, чурка пребольно ударяет по лапе. Чем больше сатанеет мишка от злости, тем ощутимее становятся удары; сваливается он в конце концов вниз и насаживается на колья.
Был ли на самом деле таким вот способом убит хотя бы один медведь, сказать не берусь, в конце концов, всякий охотничий рассказ воспринимается нами с некоторым скепсисом. Но это и неважно, вся эта история вспоминалась здесь совершенно по другому поводу: обратите внимание, всю работу, необходимую для того, чтобы убить медведя, проделывает сам медведь. Сам колотит себя по голове, сам нанизывает себя на кол…
Так вот, очень часто некоторое соединение само по себе практически нетоксично. В организме, однако, оно подвергается различным превращениям, в результате которых образуется уже сильно токсичный агент. Организм сам приготовил себе яд из как будто безобидного вещества!
Растет, например, в Южной Африке несколько видов растений рода дихапетолум. Один из них называют гифблаар — ядовитый лист. Действительно, коза или кролик, съевшие несколько листьев этого растения, вскоре гибнут. Из семян другого вида дихапетолум, растертых в порошок, приготавливают крысиный яд.
В период колонизации Южной Африки туземцы использовали такие семена для отравления колодцев и других источников воды, изготовляли из них яд для стрел. Естественно, эти растения привлекли внимание биохимиков и токсикологов; удалось выделить ядовитое начало, содержащееся в них. Это оказалась омега-фторпальмитиновая кислота, соединение, представляющее собой довольно длинную углеводородную цепочку типа полиэтилена, несущую на одном конце карбоксильную группу, на другом — фтор:
F—СН2—СН2— СН2—СООН
Метиленовая группа —СН2— повторяется в этой формуле 15 раз.
Токсиколог Саундерс стал исследовать и другие соединения этого ряда — укорачивая или удлиняя углеводородную цепочку, благо синтез их не очень сложен. Его изыскания, в общем немудреные, даже в определенном смысле стандартные (первая и наиболее естественная мысль, которая приходит в голову специалисту: поварьировать длину углеводородной цепочки и посмотреть, каков будет эффект), дали странный и совершенно неожиданный результат.
Обычно оказывается, что существует некоторая — оптимальная, что ли, — длина цепочки, обеспечивающая наибольшую активность соединения; вспомним хотя бы недавний пример с эпсилон-аминокапроновой кислотой. В ряду же соединений вида F—(СН2)n—COOH токсичность совершенно не зависела от длины цепочки, а лишь от того, было ли количество метиленовых групп —СН2— в ней четным или нечетным. Ибо токсичными, причем в одинаковой степени, были лишь те соединения, у которых n — нечетное.
Объяснение можно найти, рассмотрев протекающие в организме пути окисления жирных кислот — соединений, очень сходных с рассматриваемыми, но не содержащих, конечно, в своем составе никакого атома фтора. Их распад (разумеется, под действием особых ферментов) осуществляется по такой схеме: в результате реакции, протекающей в несколько этапов, карбоксильная группа вместе со следующей за ней метиленовой группой отделяется от остальной части молекулы с образованием уксусной кислоты; следующая же в цепи метиленовая группа оказывается окисленной до карбоксила.
Таким образом, получается соединение того же вида, но содержащее в углеводородной цепочке на две метиленовые группы меньше. Оно, в свою очередь, подвергается окислению по тому же механизму и т. д.
Та же судьба постигает в организме и омега-фторорганические кислоты. Атом фтора на противоположном от карбоксила конце молекулы, видно, не мешает ферментам, осуществляющим описанный процесс. В результате, когда произойдет последнее отщепление молекулы уксусной кислоты, остаток будет представлять собой либо сравнительно безвредную фторпропионовую кислоту — если число групп —СН2— было четным, либо — крайне токсичную фторуксусную — при нечетном n. Одураченные ферментные системы трудолюбиво готовили для организма страшный яд.
Ибо фторуксусная кислота — соединение действительно очень ядовитое. Нескольких ее капель достаточно, чтобы умертвить лошадь. Более того, участник такого эксперимента сообщил, что собака, поевшая мяса этой лошади, сама тоже погибла.
Один из наиболее распространенных путей превращения уксусной кислоты в организме связан с процессом дыхания и выглядит следующим образом. Молекула уксусной кислоты конденсируется с молекулой щавелеуксусной кислоты, НООС—СО—СН2—СООН. В результате образуется лимонная кислота (цитрат): НООС—СН2—(ОН)С(СООН)—СН2—СООН, которая под действием фермента аконитазы превращается в цис-аконитовую кислоту НООС—СН = С(СООН)—СН2—СООН. Описанная последовательность реакций — это фрагмент важнейшего и универсального процесса дыхания — цикла карбоновых кислот (цикла Кребса). Очевидно, каждая его стадия контролируется специальным ферментом. Так вот, фермент, «работающий» на первой, «не замечает» того факта, что вместо одного из атомов водорода в молекуле фторуксусной кислоты имеется атом фтора. Зато следующий фермент, превращающий цитрат в аконитовую кислоту, — аконитаза именно из-за наличия атома фтора вместо водорода образует с синтезированным фторцитратом необратимый комплекс и инактивируется.
Здесь обманутые ферменты действуют в роли саботажников. Можно, однако, используя все тот же эффект молекулярной мимикрии, заставить их выступить в роли бракоделов.
Рассмотрим этот случай на примере механизмов действия сульфаниламидов: группы соединений, хорошо всем нам известных, увы, не только по книжкам. Стрептоцид, сульгин, уросульфан, норсульфазол, сульфадимизин, фталазол — мало у кого эти названия ассоциируются с какими-то приятными воспоминаниями.
Все это — препараты противобактериального действия. Структура простейшего из этих соединений, стрептоцида, довольно легко может быть описана словесно (постараюсь все же избежать появления в тексте структурных формул). Итак, представьте себе молекулу анилина: бензольное кольцо, к одному из углеродных атомов которого присоединена аминогруппа —NH2. К атому, расположенному в точности напротив, присоединен амид сульфогруппы, то есть —SO2NH2. Вот и весь стрептоцид как есть.
Попав в организм бактерии, стрептоцид начинает работать под парааминобензойную кислоту. Они и впрямь довольно похожи, молекула парааминобензойной кислоты отличается от стрептоцида лишь тем, что вместо амида сульфогруппы у нее находится карбоксил —СООН.
Парааминобензойная кислота необходима для синтеза фолиевой кислоты и ее производных — непременных участников многих ферментативных процессов, в частности, связанных с переносом метильных групп. Организм человека не может синтезировать фолиевую кислоту, а бактерии — могут. Их ферменты, работающие на этом участке, не умеют отличать парааминобензойную кислоту от стрептоцида, в результате получается соединение, удивительно напоминающее фолиевую кислоту, и только в одном месте вместо пептидной связи —СО—NH— связь иного рода —SO2NH—. Однако этого различия уже достаточно, чтобы второе соединение не могло выполнять функцию фолиевой кислоты в соответствующих процессах. Словом, повторяется история ильф-и-петровского гусара-одиночки Полесова, соорудившего, как известно, «стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, только не работал».
Человеку же стрептоцид безвреден, поскольку, как говорилось, в его организме синтез фолиевой кислоты не происходит, он должен получать ее в готовом виде. Вот вам, пожалуйста, польза иждивенчества…
Глава 3
Химическая регуляция в организме
В симпатичном, ныне уже полузабытом фильме «Первая перчатка» на экране время от времени появлялась несколько окарикатуренная дамочка — мама боксера-тяжеловеса, страстно мечтающая о том, чтобы сынок ее оставил столь варварский вид спорта и занялся, к примеру, теннисом. Всякий разговор она начинала словами:
— Юрин папа — выдающийся светило в области эндо-крино-логии. — Актриса, играющая эту роль, так и произносила, вразбивку — «эндо-крино-логии», рассчитывая вызвать больший комический эффект, и на самом деле его добивалась. Сейчас мне совершенно непонятно, почему, но то были сороковые годы, про эту эндокринологию мало кто слышал что-нибудь конкретное. Я сам, во всяком случае, узнал это слово именно из фильма и долго потом домогался от разных людей, чтобы они объяснили мне его значение. Помнится, без особого успеха.
Ну что ж, от тех самых сороковых годов нас отделяет, пожалуй, больше времени, чем современников Юры-тяжеловеса от окончательного формирования эндокринологии как научной дисциплины. Во всяком случае, в очень добротном «Словаре иностранных слов» Дубровского, 1912 года, этого термина еще нет. Отсутствует он и в авторитетной статье известного физиолога Л. Фредерика «Химическая координация в жизненных явлениях» (русский перевод — тот же 1912 год). Однако сама эта статья убеждает, что эндокринология как отрасль физиологии к тому времени полностью уже сформировалась, пусть даже оставаясь временно безымянной.
«Организм высших животных, — пишет во введении Л. Фредерик, — это машина чрезвычайной сложности, многочисленные приводы которой служат для удовлетворения самых тонких и самых сложных потребностей. Действие этих приводов должно быть превосходно координировано и приспособлено к различным и подчас непредвиденным условиям, в которые борьба за существование может поставить живое существо.
Особый телеграфный аппарат — нервная система — соединяет между собой различные части нашего тела и обеспечивает их координацию и совместную работу… Пылинка попадает внезапно в мой глаз и раздражает концы нервов роговицы. Тотчас же сигнал о повреждении и о необходимости привести в движение аппараты, защищающие глаз, передается по чувствительным волокнам тройничного нерва и доходит до станции назначения, состоящей из нервных клеток. Клетки, о которых идет речь, посылают, в свою очередь, приказания по разным направлениям, они приводят в движение клетки ядра лицевого нерва, вызовут сокращение кругового мускула век; произойдет мигание. Далее они передадут приказание в центр, заведующий отделительной работой слезной железы, а также в психические центры. Я попробую потереть веки пальцами, рассмотреть глаз в зеркало и т. д. Если я не смогу удалить пылинку из глаза, я, может быть, пользуясь другими частями моей нервной системы, попытаюсь найти моего друга окулиста Нюеля и попрошу его положить конец моим страданиям…
Этот способ нервной координации сложных отправлений организма настолько известен, настолько банален, что мне кажется совершенно лишним приводить дальнейшие примеры. Всякий раз, когда в организме одновременно происходят известные явления или когда они зависят друг от друга, вполне естественно приписывать закономерную последовательность этих явлений вмешательству нервной системы.
Однако в объяснении этих явлений участием нервной системы некоторые ученые заходили слишком далеко. Э. Старлинг занялся недавно (напоминаю: текст 1912 года. — С. Г.) исследованием некоторых случаев координации органов, удаленных друг от друга, в которой нервная система не играла никакой роли: эти явления объясняются иначе. Вещество, образованное в органе А, передается через кровь в орган Б и вызывает раздражение этого последнего; таким образом работа этих двух органов объединяется без непосредственного участия нервной системы.
Старлинг предложил для этих веществ название гормонов (от греческого „ормао“ — раздражаю), желая обозначить этим термином химические факторы, обеспечивающие координацию удаленных друг от друга органов. Эти гормоны играют роль, аналогичную нервной системе. Примеры координации при помощи химических явлений известны довольно давно».
Отметим здесь, что по поводу авторства термина «гормон» недавно возникла небольшая дискуссия. Фредерик, как помним, приписал его Э. Старлингу. Старлинг, английский физиолог, показавший в 1901 году совместно с Бейлиссом существование еще одного звена системы внутренней секреции, названного «секретином», действительно впервые официально ввел его в научный оборот в 1905 году в лекциях, читавшихся в Медицинском колледже и опубликованных затем в журнале «Ланцет». Десять лет спустя В. Бейлисс вспоминал, что группа исследователей Кембриджского университета, обсуждая проблемы, связанные с изучением внутренней секреции, пришла к выводу, что следовало бы различать секрецию веществ, используемых организмом в качестве субстрата для различных биохимических реакций — такова, например, секреция глюкозы печенью, — и секрецию особых агентов, управляющих функциями других органов. В ходе этих дискуссий термин «гормон» был предложен У. Б. Харди и закрепился в их локальном обиходе; Старлинг лишь впервые использовал его публично.
Однако еще два десятилетия спустя известный физиолог Нидхэм привел другую версию, согласно которой введение в научную терминологию слова «гормон» может быть приписано не только Старлингу, но и еще одному физиологу, Шеферу: «Харди пригласил на обед (в холле Кайус Колледжа в Кембридже) Шефера или Старлинга; возник разговор о номенклатуре. У. Т. Вези, специалист по Пиндару (древнегреческий поэт, писавший оды победителям спортивных состязаний. — С. Г.), предложил „ормао“, и дело было сделано».
Еще сорок с лишним лет спустя австралийский исследователь Р. Д. Райт взялся восстановить историческую справедливость. Он начисто отверг возможность участия Шефера, напомнив, что на международном конгрессе медиков в 1916 году он в развязной форме выступил против использования термина «гормон», поскольку среди определяемой им группы соединений есть вещества не только возбуждающие, но и угнетающие деятельность управляемого органа. Ему тогда возразил Бейлисс — выпускник Оксфорда с прекрасной подготовкой по греческому языку: злополучное «ормао» означает не только, «возбуждаю», но и «привожу в действие». Эта история, по мнению Райта, ставит под сомнение всю версию Нидхэма.
Современные историки науки не прочь усмотреть начала эндокринологии еще и в трудах античных авторов; идея химической регуляции внутри организма сама по себе настолько проста, что она, несомненно, не могла не возникнуть в столь выдающихся умах. Поскольку, однако, фактов-то у них не было никаких, вряд ли стоит именно там искать первоистоки. В конце концов, на совести философов древности немало других вполне правдоподобных гипотез, которые все же не были подтверждены потом эмпирическим наблюдением.
Истинные же предтечи эндокринологии — это уже ученые XIX века. А. Бертольд пересаживал кастрированным петушкам семенные железы и наблюдал, что петушки опять становились стопроцентными петушками, по крайней мере внешне. Бертольд — как потом выяснилось, совершенно справедливо — предположил, что семенники выделяют в организм некоторое вещество, которое и определяет развитие свойственных нормальному петушку половых признаков: роскошного гребешка, ну и соответствующего поведения. Работа Бертольда датирована 1849 годом; всего несколько лет спустя знаменитый Клод Бернар, обобщая наблюдения Бертольда, свои собственные и многих других исследователей, вводит в научный лексикон понятие «внутренняя секреция» — выделение одними органами в кровь особых соединений, управляющих функциями других органов. Термин «внутренняя секреция» сохранился в физиологии и по сей день.
Длительное время излюбленным объектом для исследований такого рода были все те же половые железы; здесь очень значительную роль сыграли работы французского исследователя Ш. Броун-Секара, о которых нам еще предстоит поговорить подробнее.
Пока же вернемся к столь обильно цитировавшейся статье Л. Фредерика: что же имели в виду физиологи начала века под термином «гормон»?
Да в основном то же самое, что и мы сегодня; различия касаются лишь некоторых второстепенных понятий, ну и, конечно, современный перечень гормонов более обширен. Заметим также, что система химической регуляции организма человека в том виде, как ее себе представляют современные физиологи, включает не только аппарат внутренней секреции. Есть большое количество агентов-регуляторов, образующихся непосредственно в крови, а вовсе не секретируемых какой-то железой. Термин «гормон» применительно к этим веществам предпочитают не использовать, сохранив его за продуктами желез внутренней секреции. Наконец, противопоставление химической системы регуляции нервной, как это сделал в цитируемом отрывке Л. Фредерик, не совсем корректно: ныне известно, что при передаче нервного импульса чередуются участки электрического и химического механизмов распространения сигнала.
Существует классификация веществ — факторов химической координации различных отправлений организма; мне кажется, однако, что мы в дальнейшем сможем без нее обойтись. Для определения же любого из этих веществ будем использовать термин «биорегулятор», достаточно прочно укоренившийся в последнее время среди специалистов.
Точно так же стоит, по-видимому, отказаться от описания полной структуры эндокринной системы: громоздко. Принципы ее функционирования лучше рассмотреть на примерах отдельных звеньев.
Есть изобретения, упорно не желающие стареть. Возьмем хотя бы идею получения фотографических изображений с помощью галогенидов серебра. Еще в 1839 году предложил ее Дагер, с тех пор невероятно изменились все второстепенные атрибуты фотографического процесса, выросла чувствительность, достигнута огромная разрешающая способность, увеличилась скорость обработки материалов — и лишь самый важный, самый основной компонент фотоматериалов остался прежним — галогениды серебра. Давно пишут и говорят об этом с раздражением: дорого это неимоверно при нынешнем распространении фотографии.
Многие уже десятилетия пытаются найти достойную замену серебру. Подумать только, ведь в сопоставлении с достижениями современной химии то, что называлось химией в 1839 году, — это почти нуль, фотохимии как отдельной отрасли не существовало совершенно. Вообразите, как выглядели бы убогие инструменты и примитивные химикаты, которые имелись в распоряжении Дагера, в современной лаборатории новых фотоматериалов какого-нибудь НИИ прикладной фотохимии — лаборатории, до зубов вооруженной спектрометрами ядерного магнитного резонанса, электронными микроскопами, ЭВМ и бог знает какой еще премудрей техникой!
И ведь не стоит эта техника без дела, и работают на ней люди очень квалифицированные (одних только докторских диссертаций вон сколько защищено!), а достойной замены серебру нет как нет. То есть, конечно, время от времени приходится читать о создании фотоматериалов, в которых вместо серебра используется, скажем, медь; мне подобная статья встречалась последний раз лет десять назад. Что-то, однако, не видать «медных» фотоматериалов в продаже.
Идея Бертольда испытывать активность препаратов, содержащих мужской половой гормон, на кастрированных петушках (каплунах) тоже не дождалась достойной замены до наших дней. Давно уже выделен этот гормон — тестостерон — в чистом виде, установлена его структура. Тестостерон принадлежит к обширной группе стероидов — соединений, выполняющих важные функции во многих организмах. Основной элемент структурной формулы стероидов — четыре сочлененных цикла: три шестичленных и один пятичленный. Различия же между отдельными представителями веществ этого класса — почти исключительно в характере заместителей у некоторых атомов этой конструкции.
Установлена не только структура, но и пути биосинтеза тестостерона в организме, многое известно и о механизмах его действия на различные органы. Но определить содержание тестостерона в какой-нибудь ткани или жидкости (эта задача нередко возникает перед биохимиками или медиками) химическими методами чаще всего новозможно: слишком уж мала его концентрация. И приходится использовать прием, который более ста тридцати лет назад применил Бертольд: вводить препарат каплунам и наблюдать, отрастет гребешок или нет. Конечно, тестостерон вызывает значительные изменения также в облике и поведении кастратов-мышей или крыс, но они, эти изменения, все же не столь наглядны, как отрастание гребешка, а главное, проявляются не столь стабильно.
По мнению почти всех историков эндокринологии, истинным отцом этой дисциплины следует считать именно Бертольда, хотя в представлении читающей публики ее начало связывают с работами К. Бернара и Ш. Броун-Секара. Бертольд удачно выбрал объект, поставил довольно непростой по тем временам эксперимент и правильно истолковал его результаты. «Можно смело сказать, — писал в 1924 году А. В. Немилов, — что 80 лет назад Бертольд уже поднялся до уровня современной физиологии последнего десятилетия, и если бы его работа получила дальнейшее развитие, физиология шагнула бы далеко вперед. К сожалению, Бертольд при всех своих талантах не имел одного дара — заставить других поверить в свое открытие. Как, оказывается, мало достигнуть самому большой высоты, надо еще уметь пропагандировать свою работу, и тогда только известное научное открытие делает, как говорят немцы, эпоху. В противном случае оно для ближайшего времени проходит совсем бесследно и о нем вспоминают много лет спустя, когда то же самое оказывается достигнутым уже иным образом. Так было и с Бертольдом».
Дело, впрочем, не только в отсутствии у Бертольда пресловутой «пробивной силы» (кстати, порок очень многих талантливых ученых и изобретателей), а и в том, что его результаты активно оспаривались многими коллегами-физиологами. В том же Геттингенском университете, где работал Бертольд, профессорствовал также и некий Роберт Вагнер, тоже физиолог, который в противоположность Бертольду умел очень энергично пропагандировать свои воззрения. Правда, большую часть этого таланта он направил на пропаганду спиритуализма, на ниспровержение теорий Карла Фойта о химизме пищеварительного процесса (как впоследствии оказалось, теорий абсолютно верных), по при случае занялся и Бертольдом. На скорую руку повторил его опыты и объявил, что результаты Бертольда не воспроизводятся. Причем объявил авторитетно, с апломбом и энергией профессионального полемиста, так что интерес современников к работе Бертольда был значительно охлажден. Что же касается причины, по которой Вагнеру не удалось подтвердить опытов Бертольда, то она, по-видимому, самая банальная: техникой пересадки тканей в середине прошлого века владели весьма немногие физиологи; вероятнее всего, Вагнер просто не принадлежал к их числу.
Состоявшееся сорок лет спустя сообщение Броун-Секара немедленно стало сенсацией дня. И дело не только в том, что это был обстоятельный доклад в реномированном Биологическом обществе в Париже. Броун-Секар утверждал, что он овладел тайной возвращения молодости; более того, он продемонстрировал это опытами на самом себе! Правда, это были не пересадки ткани семенников, как в опытах Бертольда, а инъекции вытяжек из них.
Издавна была замечена связь между функцией семенников и процессами старения. У евнухов, например, проявляются многие признаки, характерные для старческого возраста — дряблая, морщинистая кожа, атрофированные мышцы, угасший разум, вялость. Броун-Секар предположил, что предотвращать и даже обращать вспять по крайней мере некоторые проявления старости можно с помощью вытяжек из семенников, и действительно наблюдал кое-какие эффекты подобного рода. Надо ли говорить, что этими результатами очень живо заинтересовался не только ученый мир.
Ажиотаж вокруг возможностей омоложения путем «коррекции» внутренней секреции семенников продолжался довольно долго, достигнув апогея в предвоенные (имеется в виду, конечно, первая мировая война) годы. Наибольшую известность приобрели работы Э. Штейнаха в Австрии, В. Гармса в Германии и русского врача С. Воронова в Париже. Это были, по-видимому, вполне добросовестные исследователи; например, Штейнах, экспериментировавший на крысах, разработал очень строгую специальную систему тестов на старческую дряхлость (как известно, один только возраст — не критерий). Отбираемые для опыта крысы-самцы должны были не только обладать внешними признаками старости — согбенная фигура, тусклые глаза, взлохмаченная шерсть с обильными плешинами, но и выдержать испытание многими искушениями: проявить полное равнодушие к подсаженной в клетку самке, не проявлять предприимчивости в добывании пищи, не быть агрессивным в отношении других самцов, отказываться от участия в играх молодежи.
Техника омолаживания заключалась преимущественно в пересадке кусочков тканей семенников. В операциях на людях использовался либо трупный материал, либо семенники павиана или даже козла. И на экспериментальных животных и на людях были получены схожие результаты. В редких случаях пересадка не давала никакого улучшения или даже вызывала нежелательные последствия. У большинства же оперированных наступало ослабление или полное исчезновение различных признаков старости. Иногда это проявлялось лишь в улучшении аппетита и появлении полового влечения («отвратительная картина прожорливой и похотливой старости», замечает тот же А. В. Немилов), но были и сообщения о результатах поистине чудотворных. Некий французский драматург, например, полностью уже впавший в старческий маразм, после операции, выполненной упоминавшимся Вороновым, вернулся к прежнему своему нормальному образу жизни — стал писать пьесы и засиживаться далеко за полночь после спектаклей в кабачках. То и дело в печати, не только научной, появлялись пары фотографий: на левой — согбенный, опирающийся на палку старец с потухшим взором, на правой — бравый фехтовальщик с атлетической фигурой; разумеется, это один и тот же человек до и после. У некоторых «омоложенных» наново отрастали волосы на совсем уже полысевшей голове.
К сожалению, все эти эффекты оказывались довольно кратковременными. Через год-два, в лучшем случае через несколько лет наступал рецидив старости, причем в форме намного более тяжелой, чем до операции. Именно по этой причине от таких приемов омоложения пришлось в конце концов отказаться.
Может возникнуть вопрос: почему все эксперименты и операции подобного рода производились на особах мужского пола? Да прежде всего потому, что женские железы, секретирующие половые гормоны, расположены в глубине тела, и добраться до них значительно сложнее. Впрочем, поскольку результат всей этой затеи оказался отрицательным, женщины на этом лишь выиграли.
Система гормонов половой сферы у женщин гораздо сложнее, чем у мужчин; мы остановимся лишь на двух из них — эстрадиоле (собственно половой гормон) и прогестероне. Это также стероиды; причем когда структурные формулы женского и мужского половых гормонов нарисованы рядом, приходится напрягаться, чтобы заметить различия: в молекуле тестостерона по сравнению с эстрадиолом одна лишняя метильная группа, а в другом положении вместо гидроксильной группы — атом кислорода. Как и тестостерон, эстрадиол контролирует функцию половых органов и определяет развитие вторичных половых признаков. Прогестерон выполняет более узкоспециализированные функции; в одном лишь отношении его роль полностью схожа с эстрадиолом: он предотвращает образование яичниками новых яйцеклеток. По этой, в частности, причине большие его количества выделяются в течение беременности, отчего иногда его называют «гормоном беременности», что не совсем точно, поскольку он периодически секретируется и в отсутствие беременности. Образование же новых яйцеклеток предотвращается потому, что оба гормона подавляют секрецию третьего, выделяемого гипофизом (небольшая железа, расположенная внутри черепа) фолликулостимулирующего гормона, который-то и вызывает появление яйцеклеток.
Свойство эстрадиола и прогестерона подавлять образование яйцеклеток было использовано для создания новой группы противозачаточных средств. Были синтезированы аналоги обоих гормонов, обладающие более сильной способностью подавлять секрецию фолликулостимулирующего гормона и более долгоживущие. Их можно принимать в виде таблеток или пилюль; при этом как бы имитируется беременность. Эти соединения оказались в действительности очень эффективными противозачаточными средствами. Первоначальные испытания не выявили никаких побочных действий их применения, и они стали массово производиться.
После нескольких лет широкого употребления оказалось, однако, что они не вполне безвредны. Оба гормона, в особенности эстрадиол, выполняют в организме разнообразные функции, а не только подавляют секрецию фолликулостимулирующего гормона, поэтому их систематическое применение может привести к всевозможным расстройствам. Действительно, еще в 1965 году Всемирная организация здравоохранения указала на связанный с применением стероидных противозачаточных средств повышенный риск заболевания болезнями печени, поджелудочной железы, некоторых других органов. Впрочем, это предупреждение особого действия не возымело, и за рубежом такие средства применяются до сих пор.
Трудно даже перечислить все научные открытия, которые были сделаны случайно. Колумб поехал осваивать западный путь в Индию — открыл Америку. Ни один из алхимиков, занимавшихся поисками философского камня, так в этом деле и не преуспел, но зато они оставили множество капитальных открытий в других областях.
Про ньютоновское яблоко, Архимедову ванну и ожерелье на шее жены Кекуле (по другим преданиям — приснившийся ему хоровод обезьян) я уж и не вспоминаю. Важно лишь, чтобы исследователь был человеком наблюдательным, постоянно задумывающимся над значением фактов, вроде бы и не имеющих отношения к цели его экспериментов.
В истории открытия инсулина решающую роль сыграла наблюдательность не самих даже ученых, а служителя лаборатории, ухаживавшего за виварием. В конце прошлого века немецкие физиологи О. Минковский и И. фон Меринг занимались изучением регуляции процессов пищеварения; в ходе своих экспериментов удаляли собакам поджелудочную железу. Упомянутый же служитель, убирая клетки прооперированных собак, обратил внимание, что на их мочу слетается множество мух. Факт как будто пустячный, но ученые им заинтересовались, сделали анализы, и оказалось, что в моче собак, лишенных поджелудочной железы, содержится необычайно большое количество сахара.
Все это происходило уже много лет спустя после работ Бертольда и Бернара; сразу же возникла идея, что поджелудочная железа выделяет в кровь («секретирует» на профессиональном жаргоне) какое-то вещество, ограничивающее накопление в крови сахара. Так оно и оказалось.
В 1901–1902 годах Л. В. Соболев показал, что это вещество вырабатывается в особых образованиях в ткани поджелудочной железы — островках Лангерганса. Наблюдение Соболева, важное во многих принципиальных отношениях, имело также два любопытных второстепенных последствия. Во-первых, когда гормон удалось наконец выделить (о чем ниже), его назвали инсулином, от латинского insula — остров. Во-вторых, имя Лангерганса с тех пор кочует из одного учебника биохимии в другой уже более восьмидесяти лет. Никто (ну, скажем, почти никто) из многих тысяч читателей не имеет никакого понятия о том, кто же такой Лангерганс, именем которого названы удивительные островки, сам ли он их открыл или кто-то назвал их так в его честь. Не играй островки Лангерганса столь важной роли (а они ведь секретируют и еще один гормон — глюкагон), конечно, не была бы его фамилия столь популярна среди биологов и врачей всего мира.
Выделить из поджелудочной железы инсулин удалось далеко не сразу. Дело в том, что поджелудочная железа имеет и еще одну важную функцию: она секретирует в двенадцатиперстную кишку сок, содержащий, в частности, пищеварительные ферменты, в том числе знакомые нам трипсин и химотрипсин. Без них невозможен один из важнейших процессов, происходящих при переваривании пищи, — расщепление белков до аминокислот.
Когда по аналогии с опытами Бертольда и Бернара стали готовить вытяжки из поджелудочной железы и пытаться с их помощью понизить содержание глюкозы в крови у панкреаэктомированных собак (с удаленной поджелудочной железой) — ничего не вышло. Не оказывал же экстракт никакого действия потому, что инсулин — белок, и извлекаемые вместе с ним протеолитические ферменты немедленно его расщепляли.
Между тем исследователи, занятые выделением инсулина (точнее — тогда еще безымянного фактора, регулирующего уровень глюкозы в крови), руководствовались не только чисто академическим интересом. Еще сами Минковский и фон Меринг обратили внимание на далеко идущее сходство симптомов, наблюдаемых у их подопытных собак, с проявлениями довольно распространенной болезни — диабета.
Историки медицины находят первые упоминания о диабете еще в трудах врачей I века; дальнейшее его изучение показало, что один из главнейших симптомов диабета — именно выделение больших количеств сахара с мочой, обезвоживание организма. Ткани утрачивают способность усваивать сахар, начинают вместо этого расходовать жиры и белки, наступает потеря веса. При этом окисление жиров сопровождается образованием токсических продуктов — так называемых кетоновых тел; всем известен простейший их представитель — ацетон.
«Сестра милосердия молча откидывает одеяло. Терапевт втягивает ноздрями воздух и поднимает глаза.
— Диабет?
— Откуда вы знаете? — ворчит хирург. — Я, конечно, велел сделать анализ мочи, нет ли в ней крови. Оказалось, что есть и сахар. Вы что, определяете по запаху?
— И обычно не ошибаюсь, — кивает терапевт. — Ацетон всегда различишь. Наша ars medica (искусство медицины. — С. Г.) — на пятьдесят процентов интуиция, голубчик».
Не одинок в этом отношении безымянный терапевт из чапековского «Метеора»; часто приходится слышать рассказы о многоопытных врачах, ставящих диагноз «диабет», лишь только больной присел на стул напротив него и сделал один выдох.
Накопление токсических кетоновых тел и истощение приводят в конечном счете к смерти больного. Единственная надежда — инсулин. Выделить из поджелудочной железы препарат, содержащий инсулин, удалось лишь тридцать лет спустя после работы Минковского и фон Меринга канадским ученым Ф. Бантингу и К. Бесту. Для этого они применили следующий прием: перевязали проток, выводящий сок поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку. Несколько недель спустя ткани, в которых происходило образование пищеварительных ферментов, распались и экстракт, полученный из таким образом подготовленной поджелудочной железы, уже содержал неразрушенный инсулин (кстати, именно Бантинг и Бест дали гормону это название). Еще одним источником активных экстрактов оказалась поджелудочная железа эмбриона: в ней еще не происходит синтез пищеварительных ферментов (незачем!), а инсулин уже синтезируется.
Ни тот, ни другой метод, конечно, не годился для получения инсулина в практических целях, для нужд медицины, однако работами Бантинга и Беста был намечен путь к освоению получения инсулиновых препаратов из поджелудочных желез скота, заготавливаемых на бойнях. Инсулин стал производиться в больших количествах; подсчитано, что благодаря его широкому применению жизнь нескольких десятков миллионов больных диабетом продлена на годы, часто на десятилетия. Правда, каждый такой больной ежедневно должен получать несколько инъекций «обычного» инсулина или носить особое устройство — дозатор, подающее инсулин в кровь; созданы также препараты инсулина, медленнее рассасывающиеся из места инъекции или более устойчивые к ферментам крови, осуществляющим распад инсулина. Эти препараты можно применять реже.
Инсулину было суждено оставить заметный след в истории современной биологии. Он оказался первым белком, для которого была установлена последовательность чередования аминокислотных остатков (это сделал англичанин Ф. Сэнджер в 1953 году). Оказалось, что он состоит из двух полипептидных цепей (21 и 30 остатков), соединенных друг с другом двумя ковалентными связями через боковые радикалы остатков цистеина, так называемыми дисульфидными мостиками. Эта работа Сэнджера была отмечена Нобелевской премией. Кто-то из известных ученых выразился таким образом, что Нобелевская премия стала чем-то вроде титула «чемпиона мира по науке». Частично это, пожалуй, справедливо, хотя нужно признать, в последние годы у Нобелевского комитета заботы скорее приятные: как не обойти никого из ученых, вклад которых в развитие науки действительно неоспорим. Больше, грубо говоря, эпохальных открытий, чем премий.
Нет, конечно же, гарантий, что о некоторых из ныне премированных вскоре не забудут, и вовсе не по причине того, что премии свои они получили недостойным путем, по линии кумовских связей и т. п. Время — фильтр научных ценностей. И не подлежит сомнению, что нобелевский лауреат Сэнджер (премия 1958 года) успешно этот фильтр миновал. Его результаты, с позиций нынешнего дня, — это уровень дипломных работ или в лучшем случае кандидатских диссертаций, но они знаменовали тогда выход в принципиально новую сферу поиска, послужили связующим звеном нескольких направлений зарождавшейся тогда молекулярной биологии. А среди коллег его до сих пор живо воспоминание о том, как у него спросили на пресс-конференции, что же он сделает со своими лауреатскими деньгами.
— О, моя жена наверняка найдет им какое-нибудь применение, — гласил безмятежный ответ.
На примере инсулина был обнаружен механизм формирования пространственной структуры белков, состоящих из нескольких полипептидных цепей. Первоначально синтезируется одна цепь, включающая в себя оба компонента будущей молекулы и какие-то соединяющие их участки; в случае инсулина это цепь из 86 остатков проинсулин. Он не обладает гормональной активностью инсулина: для получения активного соединения необходимо удалить «перемычку», соединяющую две цепи, — пептид из 35 остатков. Это и происходит в островках Лангерганса под действием особых ферментов. Если непосредственно в кровь ввести вместо инсулина проинсулин, это вызовет весьма болезненную реакцию: иммунные системы организма воспримут его как чужеродный белок.
Инсулин оказался также и первым белком, который удалось синтезировать химическим путем. Этого выдающегося результата добилась группа китайских химиков, причем добилась в печальный период «культурной революции»; в сообщении ученых говорилось, что тотальный синтез инсулина был осуществлен благодаря политике «трех больших красных знамен», «большого скачка» и при максимальном использовании идей Мао Цзедуна. Китайские химики всего на несколько месяцев опередили исследователей из США, также синтезировавших инсулин, но по другой схеме.
Наконец, инсулин оказался в числе первых фармакологических препаратов, промышленный выпуск которых был освоен с использованием методов генетической инженерии.
Среди математиков в ходу шутка: «За работы в области теории чисел следует присуждать не ученые степени, а звание мастера спорта». Намекается тем самым, что теория чисел — лишь род головоломок, почти бесполезных в приложениях. Наверное, это все же не совсем так; я вспомнил об этой шутке, конечно, не для того, чтобы обидеть немногих моих читателей — специалистов по теории чисел.
Здесь напрашивается некая аналогия из истории химии белка. В течение десятилетий считалось, что химический синтез белка означал бы гигантский шаг на пути познания тайн природы, открытие новых невиданных возможностей управления ее силами, фантастические перспективы для медицины, сельского хозяйства, многих отраслей промышленности. Более того, выполнение такого синтеза представлялось небывалым триумфом человеческого разума, дерзким вызовом Натуре — или, если угодно, господу богу.
В пятидесятых годах была установлена структура нескольких биологически активных пептидов, а затем осуществлен и их синтез. Потом удалось определить аминокислотную последовательность ряда белков; стало ясно, что синтез белка — вопрос времени, причем не очень продолжительного. В начале шестидесятых годов уже отчетливо ощущался элемент спортивного азарта. Вспоминаю разговор двух химиков, свидетелем которого мне пришлось тогда быть:
— Ты слышал? Японцы уже умеют синтезировать белок!
— Невероятно! Как им это удалось?
— Удалось. С помощью микроорганизмов.
— A-а. Только почему же одни японцы? У нас тоже умеют — с помощью коровы.
Но вот наконец первый белок синтезирован. Вслед за инсулином появляется синтетическая рибонуклеаза, еще несколько белков. И как-то вдруг после в некотором смысле запланированного взрыва эйфории наступает отрезвление. Позвольте, а зачем это мы синтезируем эти самые белки? Чего мы добились? Показали, что у синтетических белков та же биологическая активность, что и у природных? Так как же ей не быть, если у них совпадает структура? Говорить же о получении синтетическим путем белков для каких-нибудь практических целей и вовсе бессмысленно. Стоимость тех ничтожных количеств синтетического белка, которые были получены в результате многолетнего труда искуснейших химиков, не сравнится со стоимостью никакого наидрагоценнейшего бриллианта, если пересчитать на вес. И ясно при этом, что существенно упростить процедуру синтеза не удается.
То есть буквально таких речей слышно не было, но интерес к проблеме химического синтеза белка стал затухать как-то сам по себе, и вот уж много лет никто, кажется, в этой области не работает. С позиций сегодняшнего дня получение синтетического белка многим представляется действительно чем-то вроде спортивного достижения — достижения знаменательного, сопровождавшегося напряженной борьбой до последних метров финишной прямой, но не оставившего принципиального следа в современной биологической науке.
В этом случае, как и в шутке о теории чисел, налицо некоторый перегиб; отметим хотя бы то очевидное обстоятельство, что усилия, направленные на синтез белка, значительным образом продвинули вперед сами методы белковой химии, играющие ныне столь значительную роль в биологических исследованиях. Но, несомненно, ожидали от этого, как тогда считалось, эпохального свершения, гораздо больше.
А между тем потребности в получении различных белков растут постоянно. Взять хотя бы тот же инсулин. По причинам пока не вполне понятным диабет становится все более распространенной болезнью; по количеству смертельных исходов он занимает сейчас третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Как упоминалось, единственная надежда больных диабетом — инсулин, а единственный реально доступный его источник — поджелудочные железы домашних животных, получаемые на бойнях. Расчет показывает, что при сохранении нынешних тенденций распространения диабета, роста народонаселения и развития животноводства к началу будущего века просто не станет хватать материала для производства инсулина таким путем в количествах, которые смогли бы удовлетворить потребности всех больных.
Да к тому же инсулин, скажем, свиньи или коровы несколько отличается по аминокислотной последовательности от инсулина человека; для получения одинакового эффекта (снижения содержания глюкозы в крови) они требуются в больших количествах, чем человеческий инсулин. А у некоторых больных, прежде всего у детей, инсулин домашних животных вызывает опасные аллергические явления. Словом, крайне нужен чистый человеческий инсулин в больших количествах.
И вот опять инсулин оказывается лидером, «первым белком» — на этот раз первым белком, промышленное получение которого начато методами генетической инженерии. Фирма «Эли Лилли» в 1982 году выпустила на рынок первую партию «генноинженерного» человеческого инсулина; препарат до этого успешно прошел все испытания и был разрешен для использования.
Генетическая инженерия! Уже более десятка лет мелькает это выражение на страницах научных и научно-популярных журналов, да и журналов или газет, никакого отношения к науке не имеющих. Оно будоражит воображение, вызывает восторги, иногда опасения. Когда только-только начались разговоры о возможности вполне сознательных манипуляций с наследственностью — в начале 70-х, по-видимому, — они воспринимались скорее как фантастика, как спекуляции на том, что принципиально возможно в каком-то весьма отдаленном будущем. Однако не прошло и десяти лет, и достижения генной инженерии обрели тот уровень зрелости, что стало ясно: речь действительно идет о «превращении молекулярной биологии в технологию». А еще пару лет спустя появились и первые коммерческие продукты, производимые с использованием методов генетической инженерии.
Невольно вспоминается разговор, случившийся на одной из популярных лекций Фарадея об электричестве. По ее окончании присутствовавший в зале министр финансов спросил (конечно же!), какая практическая польза может быть от всего этого.
— Еще не знаю, — ответил Фарадей, — но не сомневаюсь, что вскоре вы начнете взымать за это налог.
Платят, платят налоги многие уже фирмы, производящие «генноинженерную» продукцию; говорят, что пока затраты на исследования в области генетической инженерии не окупились, но ведь это только начало.
«Нередко, — пишет академик А. А. Баев, — о генетической инженерии говорят как об очередной биологической революции. Этим термином биологи до сих пор не злоупотребляли, и он был отнесен лишь к двум событиям: естественному отбору Ч. Дарвина и доказательствам роли ДНК как носителя наследственной информации.
Что же касается генетической инженерии, то причисление ее к событиям революционного ранга вызывает раздумье. Действительно, сама по себе генетическая инженерия является лишь утонченной технологией и не содержит нового взгляда на процессы наследственности. Генетическая инженерия не только не потребовала никакой ревизии установившихся представлений, но, наоборот, их подтвердила. Другое дело, что генетическая инженерия с первых своих шагов позволила установить явления новые и неожиданные, то есть привела к подлинным открытиям».
Для более или менее предметного разговора о методах генетической инженерии нам придется вернуться к вопросу, обсуждение которого несколько раз откладывалось: каким же образом возникают в клетке белковые молекулы?
Напомню лишь вкратце нынче уже, конечно, общеизвестную схему. Дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК), основной носитель наследственной информации, представляют собой полимер, образованный четырьмя типами мономерных единиц — нуклеотидов: аденин, гуанин, цитозин, тимин. Вся наследственная информация определяется чередованием этих нуклеотидов в молекуле ДНК. В хромосоме ДНК находится в форме двойной спирали; ее образуют две молекулы, структура которых определяется следующим правилом взаимного соответствия: нуклеотидная последовательность одной из них может быть получена из последовательности другой заменой всех аденинов на тимин, а гуанинов — на цитозин, и наоборот. Такая согласованность последовательностей и позволяет паре комплементарных молекул ДНК образовывать двойную спираль, удерживаемую за счет водородных связей и иных взаимодействий между соответствующими парами нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания — пуринового (аденин, гуанин) или пиримидинового (цитозин, тимин). Пуриновые основания представляют собой сочлененные пяти- и шестичленный циклы, причем в каждом цикле имеется по два атома азота, пуриновые — шестичленные циклы, также включающие два атома азота. В некоторых положениях те и другие несут заместители — аминогруппу, кислород, метильную группу. Расположения этих заместителей и определяет возможность образования стабилизирующих двойную спираль водородных связей именно между упоминавшимися парами; один участник такой пары — пурин, другой — пиримидин. Основания присоединены к остатку дезоксирибозы — соединения, отличающегося от другого сахара — рибозы отсутствием одного атома кислорода. Остатки же дезоксирибозы, принадлежащие соседним нуклеотидам, в молекуле ДНК соединены остатками фосфорной кислоты.
В молекуле ДНК можно, таким образом, выделить совершенно регулярную, монотонно повторяющуюся часть — сахарофосфатный остов, несущий чередующиеся в определенной последовательности основания.
С такой способностью нуклеотидов к конкретному «узнаванию» друг друга связан механизм образования «копий» молекулы ДНК в клетке. В некоторый момент двойная спираль раскручивается, и специальные ферментные системы «достраивают» к каждой из одиночных нитей комплементарную ей пару; этот процесс называется репликацией.
Различия в строении молекул ДНК и рибонуклеиновых кислот (РНК) — минимальное: вместо остатка дезоксирибозы в сахарофосфатном остове — остаток рибозы; вместо пиримидинового основания тимина — урацил, отличающийся от него лишь отсутствием одной метильной группы. Это отличие не мешает образованию такой же пары водородных связей с аденином — партнером тимина по двойной спирали, благодаря чему оказывается возможным синтез копий молекул РНК, комплементарных содержащимся в клетке молекулам ДНК (транскрипция) — по механизму, совершенно аналогичному механизму репликации.
Более того, выяснилось, что существуют специальные ферменты, с помощью которых возможен и обратный процесс — синтез молекул ДНК, комплементарных РНК. Заметим, что это явление, встречающееся сравнительно редко, оказалось чрезвычайно важным элементом арсенала средств генетической инженерии.
Основное же назначение РНК — быть матрицей для синтеза белковых молекул. Формально соответствие между последовательностью нуклеотидов в молекуле РНК и аминокислотной последовательностью синтезируемой с ее помощью молекулы белка может быть выражено через таблицу знаменитого генетического кода, сопоставляющую каждой тройке нуклеотидов (триплетам) определенную аминокислоту; так, например, УУУ ЦЦА ГАА АГУ (это обычная форма записи нуклеотидных последовательностей — с помощью первых букв названий соответствующих оснований) соответствует аминокислотной последовательности Phe—Pro—Glu—Ser (фенилаланин — пролин — глутаминовая кислота — серин). В клетке такая перекодировка — синтез молекул белка — осуществляется с помощью сложных и очень интересных механизмов, от описания которых здесь, однако, лучше воздержаться. Отметим еще, что, помимо триплетов, соответствующих той или иной аминокислоте, имеются еще и триплеты, определяющие начало и конец белковой молекулы.
Такова в общих чертах схема образования белков, повторяю — нас интересует именно схема, а не лежащие в ее основе механизмы. Ибо ровно столько нам необходимо знать для продолжения разговора о генетической инженерии.
Почему-то в представлении людей, незнакомых поближе с генетической инженерией, хоть и интенсивно восторгающихся ее достижениями, этот «генетический инженер» является в образе лесковского Левши — умельца, выполняющего хитроумнейшие операции в клетке чуть ли не с помощью сверхминиатюрнейшего скальпеля, тончайших крючочков и иголочек и, конечно, «мелкоскопа».
Ничуть не бывало. Даже у самого выдающегося «генетического инженера» могут быть, как говорит мой знакомый экспериментатор, «обе руки левые». И работает он в основном головой, техническое оснащение его лаборатории — довольно несложное, а основной его инструмент — различные ферменты очень специального назначения. Именно открытие и выделение этих ферментов сделали возможной целенаправленную перестройку генетического материала.
Как известно, в клеточном ядре этот материал организован в виде хромосом, причем у высших организмов он как бы сдублирован — представлен парами хромосом, несущими информацию об одних и тех же функциональных элементах (диплоидный набор хромосом). Исключение составляют половые клетки — гаметы, в которых каждый тип хромосомы представлен лишь одиножды (гаплоидный набор); при слиянии родительских гамет вновь образуется клетка с диплоидным набором.
Знаменитые законы Менделя вытекают из такого механизма размножения. В самом деле, если родители различаются по некоторому признаку — окраска цветка, форма плода, цвет глаз и т. п., — у их потомства окажутся оба типа хромосом, определяющих соответствующий признак, — отцовская и материнская; говорят, что данный индивидуум гетерозиготен по этому признаку.
К каким последствиям это приводит? Скажем, котята, родившиеся от белой кошки и черного кота, могут быть целиком черными (или белыми — не имеет значения, пример условный) — это случай раздельной наследственности.
Если они равномерно серой масти — имеет место слитная наследственность; наконец, если они удались пятнистыми, черно-белыми, — говорят о смешанной наследственности. (По поводу последнего типа наследственности вспоминается юмористический рисунок: Ной загружает свой ковчег парами различных животных; на очереди — две крутогривые лошадки, черная и белая. Ной кричит с досадой:
— Послушай, Сим, неужели ты не мог выбрать пару зебр одной масти!)
Чем проще рассматриваемый признак, тем вероятнее, что его проявление в потомстве осуществится именно по типу раздельной наследственности. Под «простотой» здесь следует понимать величину объема генетической информации, необходимой для его определения. Лучше всего, если речь идет об аминокислотной последовательности единственного белка. Хотя в случае раздельной наследственности у гетерозиготного индивидуума проявляется признак лишь одного из родителей — доминантный (скажем, черная масть у обсуждавшихся котят), однако каждая его клетка содержит хромосомы обоих типов.
Скрытый, как бы не проявившийся признак другого родителя называется рецессивным. У потомства же гетерозиготных родителей возможны четыре — вообще говоря, равновероятные — комбинации типов хромосом:
— отцовская с доминантным геном, материнская с рецессивным;
— материнская с доминантным, отцовская с рецессивным;
— обе с доминантными генами;
— обе с рецессивными генами.
В трех первых случаях проявится доминантный признак, в четвертом — рецессивный; вот вам и менделеевское 3:1.
Далее, было отмечено, что некоторые признаки передаются только совместно: если у потомства один из них — материнский, то и второй непременно тоже. Естественно предположить, что они определяются одной и той же хромосомой.
Так появилось понятие сцепления генов; оказалось, однако, что время от времени сцепленные признаки все же разделяются. Пара гомологичных (то есть несущих набор функционально эквивалентных генов) хромосом разрывается — точно в одном и том же положении! — после чего «хвост» одной хромосомы присоединяется к «голове» другой, и наоборот. Это явление называется кроссинговером. Показано, что вероятность кроссинговера в любой точке хромосомы одинакова. Благодаря этому, наблюдая за частотами кроссинговера между генами, определяющими различные признаки, можно установить последовательность их локализации в хромосоме. Вероятность кроссинговера между парой генов пропорциональна длине разделяющего их участка хромосомы, и если наблюдаемая на опыте частота соответствующих кроссинговеров больше, чем частоты кроссинговеров каждого из этих генов с некоторым третьим, то этот третий ген, по-видимому, расположен в хромосоме между ними. Причем приблизительно выполняется правило, согласно которому сумма меньших частот равна большей.
В природе кроссинговер осуществляется в оплодотворенной яйцеклетке, в процессе сближения (конъюгации) гомологичных хромосом; следовательно, перекрестный обмен генетической информацией возможен лишь внутри вида или между близкими, скрещиваемыми видами. Основное достижение генетической инженерии заключается в том, что оказался возможным «искусственный кроссинговер» между фрагментами наследственного материала, принадлежащего каким угодно видам или даже с участием синтетических фрагментов последовательностей ДНК.
Нужно, следовательно, сначала разрезать в определенном месте двунитевую ДНК, а затем «пришить» к месту разреза другой какой-то фрагмент, также двунитевый. Для разрезания используются ферменты, называемые рестриктазами. Они разрывают двуспиральную структуру ДНК в месте включения определенной последовательности нуклеотидов. Скажем, если это ААТ (и комплементарная ей ТТА), такой разрыв может произойти в обеих нитях у противоположных концов этой последовательности:
Образующиеся в результате концы двутяжевых ДНК на жаргоне генетических инженеров называются «липкими». Взаимно комплементарные однонитевые фрагменты таких концов могут вновь сойтись, восстановив двуспиральную структуру за счет межцепных водородных связей. Тем самым они очень облегчат работу другому ферменту — лигазе, которая восстановит валентные связи в обеих цепях, разорванные рестриктазой.
…Опять к вопросу о периодическом возрождении шуток (в том числе изо) и анекдотов. Вспомните, сколько раз вам попадалась на глаза картинка: двое рабочих кончают укладывать асфальт, двое других с отбойными молотками в руках нетерпеливо поторапливают:
— Кончайте скорее, нам нужно прокладывать теплотрассу!
Шутка, конечно, незамысловатая; может быть, ни один даже средневзыскательный редактор не пустил бы ее на страницы своего издания, да беда в том, что это скорее даже и не шутка вовсе, а почти фотографическая зарисовка с натуры. Каждый из нас, увы, мог бы привести сколько угодно примеров в подтверждение, как говорится, жизненности подобной ситуации. Что поделать, не знает иной раз левая рука какого-то там управляющего, директора или предрайисполкома, что делает правая.
Не таким ли точно образом, может возникнуть вопрос, поступает и клетка? Сначала, видите ли, один фермент разрезает ДНК-овую спираль, затем другой опять сшивает. Одно все-таки дело — головотяп-управляющий, другое — живая клетка, о мудрой согласованности процессов, которые в ней протекают, написано так много. Отвечу кратко: никакого сходства здесь нет. И те, и другие ферменты работают не бесконтрольно, а весьма согласованно; назначение их как раз и заключается в том, чтобы обеспечить обмен генетическим материалом обоих родителей в пределах одной хромосомы.
У бактерий такой способ обмена — вообще единственная возможность наделить потомка признаками обеих родительских форм сразу. Весь генетический материал бактерии организован в виде единственной кольцевой хромосомы — плазмиды; половой процесс у бактерии заключается в переносе фрагмента одной хромосомы в другую.
Если обе нити двутяжевой ДНК обрываются вместе, а не ступенькой, как рассмотрено выше
…ТАГГ
…АТЦЦ,
такие концы в отличие от «липких» называются «тупыми». Есть и ферменты, сшивающие два тупых конца, однако эта процедура реализуется труднее. Если генетическому инженеру требуется сшить два фрагмента ДНК, обладающих «липкими», но некомплементарными концами, —
…ТЦАТЦЦА ГГАТ…
…АГТ ЦТАГЦЦТА…
он использует синтетический переходник, или «линкер», — небольшой кусочек двойной спирали с соответствующими «липкими» концами:
…ТЦАТЦЦА ГГЦТГГАТЦ ГГАТ…
…АГТ АГГТЦЦГАЦ ЦТАГЦЦТА…
Методы избирательного разрезания и сшивки двутяжевых нитей ДНК — лишь часть средств из арсенала генетической инженерии. Чтобы «пришить» в определенном месте фрагмент ДНК, соответствующий аминокислотной последовательности интересующего нас белка, нужно этот фрагмент иметь. В некоторых случаях (сравнительно короткие белки) это удается сделать методами химического синтеза. Можно также попытаться выделить соответствующие фрагменты ДНК из клетки, в которой происходит синтез соответствующего белка, но осуществить это практически очень трудно: содержание ДНК слишком мало. Кроме того, в геноме высших организмов участки, кодирующие аминокислотную последовательность некоторого белка, перемежаются вставками-интронами. После синтеза соответствующей молекулы информационной РНК происходит ее созревание — удаление интронов. В клетках же бактерий, которые почти исключительно используются для получения белков методами генетической инженерии, созревание РНК не происходит и, соответственно, не может быть получена нужная аминокислотная последовательность.
Поэтому наибольшее распространение получили методы ферментативного синтеза искомых фрагментов ДНК на матрице соответствующей информационной РНК, выделенной из клеток, продуцирующих нужный белок. Такой процесс, как упоминалось, называется обратной транскрипцией и осуществляется ферментом ревертазой. Чтобы ревертаза могла начать такую работу, ей нужен затравочный фрагмент ДНК — короткий участок, комплементарный началу молекулы информационной РНК.
Таким образом, получается однонитевая ДНК, «достройка» второй, комплементарной цепочки осуществляется с помощью той же ревертазы или ДНК — полимеразы. Также и здесь необходима затравка — олигонуклеотид, комплементарный начальному участку.
Но вот ген, кодирующий аминокислотную последовательность белка, получен. Если, однако, его поместить теперь в клетку, он скорее всего просто будет уничтожен ферментами, да если и уцелеет (это бывает в некоторых случаях), не будет вовлечен ни в процессы репликации, ни транскрипции. Чтобы он мог участвовать в этих процессах, необходимо встроить его в более протяженную последовательность, включающую специфический участок, ответственный за процесс репликации, — репликатор. Кроме того, отбор клеток, продуцирующих чужеродный белок, удобнее производить не путем контроля содержания самого белка, часто это затруднено технически, а по присутствию какого-нибудь сцепленного с ним фактора — фермента или антибиотика.
Соответствующий генетический материал тоже должен содержаться во вводимой в клетку чужеродной ДНК. Обычно это кольцевая ДНК, называемая на жаргоне генетических инженеров вектором. Именно для ее получения («конструирования», как говорят профессионалы, коль уж инженерия, так инженерия) используются описанные выше приемы ферментативного разрезания и сшивки ДНК. В результате в плазмиду из кишечной палочки встраивается кусочек генома человека (подумайте, что за странный гибрид!), полученная таким образом рекомбинатная плазмида вводится в клетку все той же кишечной палочки, и та вовсю начинает производить человеческий белок, например, все тот же инсулин.
Пример, впрочем, не самый удачный, потому что, строго говоря, никакого инсулина в готовом виде эта клетка не производит. Молекула инсулина, как упоминалось, состоит из двух цепей: более короткой А и более длинной В; в животном же организме сначала синтезируется проинсулин — единственная цепь, N-концевая последовательность которой представляет собой В-цепь, С-концевая — A-цепь, а между ними расположен соединительный фрагмент, который впоследствии выщепляется.
Для получения инсулина с использованием методов генетической инженерии были использованы два подхода. Первый предполагал синтез все же проинсулина (или сходного белка, содержащего вместо С-пептида иную аминокислотную последовательность) и последующую его конверсию в инсулин химическим путем. Второй подход базировался на получении отдельно А- и В-цепей и «сборку» из них молекулы инсулина; именно такая схема использована для получения упоминающегося коммерческого препарата. И в том и в другом случае необходимо преодолеть весьма значительные трудности, которые, впрочем, уже не имеют отношения к собственно генетической инженерии.
Инсулин, как упоминалось, был первым белковым гормоном, первым белком вообще, который стали получать в коммерческих целях методами генетической инженерии.
Следовало бы, возможно, сказать — лишь первым. В настоящее время налажено или налаживается промышленное производство этими методами таких препаратов, как интерфероны, различные белковые гормоны (например, гормон роста), некоторые ферменты.
А в не очень отдаленной перспективе специалисты видят чудеса, способные повергнуть в шоковое состояние даже самых невежественных писателей-фантастов, которые привыкли потрясать читателей своих всяческими невероятностями. Разница в том, что посулы «генетических инженеров» большей частью будут реализованы, причем гораздо быстрее, чем это кажется посторонним при первом знакомстве с ними.
Глава 4
Весьма краткое введение в теорию рецепторов
Для возникновения эндокринологии как самостоятельной отрасли биологической науки достаточно было установить сам факт существования механизма регуляции жизненных процессов описанного выше типа: вещество, выделяемое органом А, попадая с кровью в орган Б, вызывает некую реакцию. Поле деятельности новой научной дисциплины оказалось обширнейшим: с одной стороны, один за другим открывались новые гормоны, с другой — исследователи настойчиво пытались понять, каким же образом реализуется такой вот механизм «дистанционного» (как сказали бы, возможно, сейчас) управления?
Почему это самое вещество из органа А действует именно на орган Б, спокойно минуя органы В, Г, Д и все прочие, попадающиеся ему на пути следования с кровотоком? И почему, попадая в орган Б, оно вызывает именно такую реакцию, а не какую-нибудь другую?
Принципиальный ответ на оба поставленных выше вопроса был, впрочем, получен довольно скоро. В органах, управляемых данным гормоном, есть определенные центры взаимодействия, с которыми гормон может образовывать комплекс. Образование же такого комплекса инициирует развитие требуемой реакции через цепочку промежуточных звеньев — различных внутриклеточных реакций. В клетках других органов такие центры связывания и сопряженные с ними механизмы запуска ответной реакции отсутствуют, потому-то и действуют гормоны весьма избирательно на один орган (или, во всяком случае, на ограниченное их количество). Такие органы принято называть органами-мишенями, а центры взаимодействия, через которые гормон вызывает реакцию, — рецепторами этого гормона.
Как говорилось, термин «рецептор» использовал еще Эрлих, правда, в несколько более широкой трактовке. В настоящее время так называют в принципе лишь те центры связывания биологически активных соединений, которые являются элементами системы химической регуляции в организме. Впрочем, никакой точной формулировки, определяющей этот термин сегодня, нет, хотя попытки ее создания предпринимались не раз. Приведем результаты двух из них: они принадлежат виднейшим современным специалистам в области теории рецепторов и тем не менее удачными быть признаны не могут.
Д. Р. Вод: «Многие химические агенты обладают следующими четырьмя признаками: 1) они действуют в низких (микромолярных) концентрациях; 2) их активность в сильной мере зависит от изменений в химической структуре; 3) их активность может подавляться селективными антагонистами; 4) активность антагонистов также сильно зависит от изменений в химической структуре. Все эти признаки указывают на то, что в ткани имеет место специфическая реакция между данным агентом и специализированным центром связывания (рецептором)».
В этом определении использован не встречавшийся у нас ранее термин «антагонист». Здесь имеется в виду так называемый конкурентный антагонист — вещество, способное образовывать с рецептором прочный комплекс, однако не вызывающее в результате ожидаемой реакции. Занимая же рецептор, оно не допускает связывания с ним настоящего биорегулятора, тем самым блокируя или ослабляя реакцию органа-мишени на него. Отметим, что обычно антагонисты получаются незначительной модификацией молекулы природного биорегулятора: часто достаточно удаления одной-единственной функциональной группы; это, кстати, хороший пример, иллюстрирующий смысл пункта 2 в приведенной цитате.
Очевидно, что воспользоваться определением, данным Водом, на практике довольно непросто.
Условие 1 — действие в низких концентрациях — является необходимым, но недостаточным; в конце концов, тот же цианистый калий действует в мнкромолярных концентрациях. Далее, если мы хотим определить, являются ли центры связывания некоторого вещества рецепторами или нет, нам нужно получить каким-то образом соединение-антагонист, что зачастую весьма и весьма сложно. А главное, в принципе процесс связывания любого вещества любыми центрами взаимодействия можно подавить добавлением другого вещества, также способного связываться этими центрами. Если биологический эффект в обоих случаях будет выражен в разной степени — условие 3 можно считать выполненным.
Обратимся теперь к другому определению, принадлежащему П. Куатреказасу, им перечисляются пять основных признаков рецепторов:
«Первый: взаимодействие биорегулятора с рецептором должно отвечать требованиям определенной пространственной и структурной специфичности. Второй: количество связывающих мест должно быть ограниченным, и, следовательно, связывающие места должны быть насыщаемыми. Третий: связывание биорегулятора должно иметь тканевую специфичность, соответствующую его биологической специфичности. Четвертый: связывающие места должны обладать высоким сродством к гормону, а их концентрация должна соответствовать физиологической концентрации гормона. Пятый: связывание биорегулятора с рецептором должно быть обратимым».
Четвертый признак равнозначен первому условию Вода: агенты должны действовать в низких концентрациях. Что касается признаков второго и пятого, то они как будто очевидны; ясно, что количество мест связывания чего угодно чем угодно в организме будет ограничено, а любое связывание в принципе обратимо.
Первое требование сформулировано несколько расплывчато; по-видимому, имеется в виду взаимное пространственное соответствие центра связывания и связываемой молекулы. Можно, однако, предположить, что этот фактор играет важную роль и в более простых процессах адсорбции.
Как видно, нелегкое это дело — дать четкое определение понятия «рецептор». К чести исследователей, работающих над раскрытием механизмов действия биологически активных соединений, это нисколько не помешало изучению организации рецепторных систем многих конкретных биорегуляторов и созданию целого автономного раздела эндокринологии, молекулярной фармакологии и смежных дисциплин — теории рецепторов. Одна из книг, посвященных изложению основ этой теории, начинается так:
«Нередко на прилавках книжных магазинов или библиотечных полках встречаются издания типа „Частотный англо-русский словарь по ядерной физике“, „Частотный словарь современного белорусского языка“, „Частотный словарь Адама Мицкевича“ и т. п.
Нам ничего не известно о существовании „Частотного словаря терминов из области биофизики, биохимии, физиологии и фармакологии“. Впрочем, может быть, он и существует — в виде, например, приложения к диссертации, защищенной где-нибудь в Ванкувере или Каракасе, так что воспользоваться им в данный момент может не каждый. Однако, даже не заглядывая в такой словарь, берем на себя смелость утверждать: термин „рецептор“ наверняка фигурирует в нем среди наиболее часто употребляемых».
И все это, повторяю, без наличия точного определения самого термина «рецептор». Автор рассмотренной выше попытки дать такое определений, Вод, и сам видел несовершенство своих формулировок; отчаявшись, он завершил свои рассуждения на эту тему словами:
«Каждый автор имеет свое собственное определение понятия „рецептор“. Я определяю его как содержащуюся в ткани структуру, которая ведет себя как R в рассматриваемых здесь схемах. Это аналогично определению температуры как того, что ведет себя как Т в распределении Максвелла — Больцмана».
Далее следует несколько десятков страниц текста, насыщенных уравнениями (теория рецепторов — наука умеренно точная), в которых и в самом деле постоянно встречается буква R.
Существует, впрочем, и еще один подход к определению понятия «рецептор». Его идея также принадлежит нескольким крупным авторитетам в области молекулярной фармакологии и заключается в следующем: если исследователь, обсуждая результаты своего эксперимента, утверждает, что изучаемый агент связывается в клетке, просто с «чем-то», масштабы его незнания ясны сразу; если же речь идет о взаимодействии с рецептором, создается иллюзия глубокого понимания молекулярной картины процесса. Таким образом, можно рассматривать термин «рецептор» и как средство улучшения самочувствия определенной группы профессионалов.
Механизмы реализации первого этапа действия биорегулятора на клетки-мишени — образование комплекса его молекулы с соответствующим рецептором — в основных чертах почти одинаковы почти у всех биорегуляторов («Раввин Исайя так мудр, так мудр, — читаем у И. Уткина. — Почти наизусть знает почти весь Талмуд»).
Напротив, второй этап «пострецепторные» события, то есть развитие реакции клетки на образование комплекса, — может осуществляться многими путями, хотя и здесь у самых разнообразных групп биологически активных соединений можно часто заметить далеко идущие элементы сходства организации внутриклеточных процессов.
Рассмотрим вначале более детально первый этап.
Итак, одним из условий прочного связывания молекулы биорегулятора рецептором является взаимное соответствие их пространственной структуры. Рецептор в той части, которая непосредственно взаимодействует с молекулой биорегулятора, должен представлять собой как бы слепок с этой молекулы — полностью аналогично упоминавшемуся соответственно типа «рука — перчатка» или «ключ — замок», в случае фермента и субстрата.
Разумеется, для полного понимания молекулярных механизмов действия гормонов и других соединений, выполняющих регуляторные функции в организме, важно было бы знать детали такого соответствия; в конце концов, молекула ведь может быть повернута относительно рецептора различными способами, интересно бы выяснить, на какую глубину она «входит» в толщу рецептора и т. д.
Такого рода информацию удалось получить экспериментальным путем, с помощью методов рентгеноструктурного анализа для весьма сходного акта: взаимодействия некоторых ферментов с соединениями — субстратами. Точнее, не с «нормальными», «хорошими» субстратами, с которыми ферментам приходится иметь дело в организме, такие комплексы существуют очень недолго; немедленно после их образования, как уже писалось, происходит реакция, изменяющая структуру молекулы субстрата, комплекс же фермента с модифицированной молекулой весьма непрочен и быстро распадается.
Иначе обстоит дело в случае упоминавшихся уже ингибиторов ферментов — соединений, близких «хорошим» субстратам по строению и образующих с молекулой фермента прочный комплекс. Только вот на месте атакуемой ферментом связи или функциональной группы оказывается нечто чужеродное, совершенно не поддающееся атаке и не вовлекаемое в реакцию. Молекула фермента оказывается блокированной на значительное время.
Таким образом, по механизму действия ингибиторы полностью аналогичны только что рассмотренным конкурентным антагонистам. Комплексы ингибиторов с ферментом можно получить в кристаллическом виде — а этого только и ждут кристаллографы-рентгеноструктурщики.
Методы рентгеноструктурного анализа позволяют воссоздать пространственную структуру молекулы белка (в обсуждаемом случае — вместе с молекулой связывающегося с ней ингибитора) с точностью до положения отдельных атомов. Благодаря этому стали ясны многие конкретные подробности актов ферментативного катализа. Однако ферменты (и их комплексы с ингибиторами) сравнительно легко выделить в достаточных количествах, а затем получить в кристаллическом виде («закристаллизовать», говорят профессионалы).
Совершенно иным образом обстоит дело с рецепторами — даже наиболее хорошо изученными. Чаще всего, по-видимому, рецептор — это не одна молекула, а сложное образование, состоящее из нескольких молекул, встроенных в мембрану. Преимущественно это белковые молекулы, но не только. Чаще предполагается, что с молекулой биорегулятора непосредственно взаимодействует именно белковый компонент. В настоящее время выделены рецепторные белки ряда биорегуляторов, однако достаточно подробный рентгеноструктурный анализ комплекса гормона с его специфическим рецептором — все еще дело будущего.
И все же, если нельзя получить сведения о пространственной организации связывающего центра рецептора прямыми экспериментальными методами, не следует ли поискать каких-либо косвенных подходов?
Возможны такие подходы, часто очень интересные. Суть их заключается в том, чтобы, варьируя различные элементы структуры молекулы биорегулятора, испытывать биологическую активность (точнее, способность взаимодействовать со специфическими рецепторами) вновь полученных соединений. Исследователь приобретает возможность как бы ощупывать поверхность рецептора. Так же, по-видимому, действует и взломщик, пытающийся сообразить, какую же конфигурацию должен иметь ключ, открывающий интересующий его замок: испытывает разные «пробные» ключи и отмечает, какой именно выступ мешает ключу провернуться.
В принципе, подобного рода идеологию поиска аналогов биологически активных соединений некоего класса можно проследить еще в работах П. Эрлиха и Э. Фишера, но как реализовать такие подходы на практике?
«…Любое эффективное антибактериальное действие должно включать взаимодействие антибиотика с макромолекулой, будь то белок, нуклеиновая кислота или липид… Это достаточно важный вопрос, поскольку потенциальное летальное действие заключается во взаимодействии двух молекул, одна из которых часто на один или два порядка больше по молекулярному весу, чем другая. Более того, поскольку молекулярная архитектура большей части белков исследована довольно мало, а еще меньше изучена структура нуклеиновых кислот и липидов, один компонент реакционной смеси всегда охарактеризован недостаточно; особенно это касается конкретных химических группировок, взаимодействующих с антибиотиками. Такую ситуацию можно сравнить со схваткой с призраком!»
Это цитата из книги, написанной несколькими крупнейшими английскими фармакологами и вышедшей в 1972 году. Пятнадцать лет, при нынешних темпах развития биологических наук, — срок очень немалый, однако приведенное суждение почти не утратило актуальности. Почти — потому, что некоторые, пусть не очень радикальные сдвиги к лучшему за этот период все же произошли.
Возвратимся к задаче «ощупывания» рецептора аналогами молекулы биорегулятора с различными модификациями пространственной структуры.
Если введение в определенном положении громоздкого заместителя не лишает тем не менее полученный аналог биологической активности, значит, «прилипание» к рецептору происходит не этой стороной. Активность утрачена — по-видимому, введенный заместитель упирается во что-то на поверхности рецептора, и т. д.
Для того чтобы на основании таких экспериментов можно было судить о поверхности рецептора, нужно знать пространственное строение молекулы природного биорегулятора и испытываемых «пробных» синтетических аналогов. Все дело, однако, в том, что молекулы почти всех природных биорегуляторов — гибкие, обладающие значительной внутримолекулярной подвижностью. Как известно, многие органические молекулы могут изменять пространственную структуру в результате вращения одной своей части относительно другой вокруг одинарных связей. Правда, из-за отталкивания отдельных атомов друг от друга такое вращение несвободно, и если молекула не слишком велика, она может принимать обычно лишь действительно небольшое количество пространственных структур (называемых ротамерами или конформерами). Существуют расчетные методы, позволяющие осуществить нахождение таких структур (в том случае, если молекула не очень велика: состоит из нескольких десятков, от силы сотни атомов).
В основе расчетов лежит нахождение таких структур, которым соответствуют минимумы энергии внутримолекулярных взаимодействий. Задача заключается в отыскании конформаций, которым соответствуют минимумы суммарной энергии взаимодействия всех пар атомов.
Не будем вдаваться в подробности способов ее решения; можно лишь отметить, что такие расчеты чрезвычайно громоздки и требуют подчас нешуточных затрат времени ЭВМ. На протяжении многих лет мне приходилось заниматься подобного рода задачами; всякий раз, когда наступал срок нести в бухгалтерию очередной счет за машинное время, я с тоской ожидал момента, когда главбух, глянув на графу «сумма к оплате», переведет взгляд на меня. Иногда в этом взгляде была тихая, светлая скорбь, временами — оторопь с оттенком возмущения.
Я полагаю, что подобное происходит с моими коллегами — специалистами по теоретическому конформационному анализу биологических молекул во всем мире. Дело здесь вовсе не в их испорченности или скверном характере представителей финансовых служб, а в самом характере решаемых задач. Подобному расчету доступны лишь не очень большие молекулы, содержащие от силы сотни атомов. Так вот, граница этой доступности определяется именно затратами машинного времени. При этом зачастую увеличение размеров молекулы (то есть числа образующих ее атомов) всего на десять процентов требует десятикратного увеличения затрат времени ЭВМ на ее решение. Так что ни рост быстродействия вычислительных машин на три-четыре порядка, ни подешевение машинного времени радикально ничего не меняют: аппетиты исследователей всегда и повсюду ограничиваются так называемым «разумным пределом затрат». К сожалению, не существует способов точного вычисления этого предела, откуда и берутся упомянутые разногласия в его оценке между исследователями и финансовыми работниками.
Пусть, впрочем, все вычислительные, технические и финансовые трудности преодолены и мы располагаем сведениями о наборах стабильных конформаций интересующих нас соединений. Что же дальше?
Если поверхность рецептора представляет собой слепок с молекулы биорегулятора, а эта молекула может существовать в виде нескольких пространственных форм, возникает вопрос: а какая же из этих форм необходима для связывания с рецептором? Или, иначе, слепок с которой формы представляет собой рецептор?
Конформацию, которую молекула биорегулятора приобретает в составе комплекса с рецептором, называют продуктивной, или, на мой взгляд, довольно неудачно, биологически активной конформацией. Каким же образом выявить такую конформацию, не имея в своем распоряжении прямых экспериментальных методов?
Общая схема этой процедуры такова. Синтезируется серия аналогов исследуемого биорегулятора, каждый из которых получается незначительной модификацией его структуры, ограничивающей, однако, конформационные возможности молекулы. Иными словами, молекула такого аналога оказывается неспособной принимать ряд конформаций, характерных для природного соединения. Какие именно конформации исключаются, можно установить с помощью такого же расчета или даже «на глаз», исходя из сравнительно простых стереохимических закономерностей.
Если полученный аналог оказался активным, значит, исключенные в результате модификации структуры не являются продуктивными. Активность утрачена — следовательно, продуктивную конформацию следует искать среди «запрещенных». Располагая сведениями, относящимися к нескольким подобным аналогам, можно «отсеять» с помощью таких рассуждений ту конформацию, которая характерна для молекулы в составе комплекса с рецептором.
Уже давно, со времени знаменитых открытий У. Леверье, считается в науке особым шиком предсказать некое явление с помощью одних только расчетов и рассуждений. Правда, рекомендуется при этом проявлять умеренность и очень четко видеть границу, за которой корректный расчет и строгая дедукция перерождаются в безудержный полет фантазии. Очень многие положения теории рецепторов основаны на гипотезах, в высшей степени правдоподобных, логичных, но не поддающихся прямой экспериментальной проверке.
Польский философ и публицист Бронислав Лаговский напечатал в 1975 году статью о духовной жизни в Китае, о системе ценностей рядового китайца. И ничего бы в этом не было удивительного, если бы не то обстоятельство, что автор никогда в Китае не бывал, языка не знал, сведения, распространенные средствами массовой информации, считал совершенно недостоверными, а о сочинениях специалистов-синологов презрительно отозвался, что они хорошо описывают положение дел сто лет назад, но не заслуживают доверия ни в одном слове, когда речь заходит о сегодняшнем дне.
Обо всем этом прямо объявлялось во введении, и, казалось бы, всякий здравомыслящий человек должен был бы после этого отложить сочинение доктора Лаговского в сторону. Возможно, кое-кто из читателей так и поступил; однако те, что дочитали его до конца, не без удивления обнаружили, что картина китайской жизни того периода, воссозданная автором на основании весьма немногих (по его мнению, надежных) фактов, представляется в высшей степени убедительной. Воистину, с помощью одних только рассуждений можно проникнуть за любой «информационный занавес» очень глубоко, даже в столь сложном вопросе, как тот, за изучение которого взялся Б. Лаговский.
Ну а что уж говорить о вещах намного проще — рецепторах, биорегуляторах?
Молекула биорегулятора связывается с рецептором за счет невалентных взаимодействий — электростатических, гидрофобных и т. п., о них уже шла речь выше. Благодаря точному взаимному соответствию формы, «правильной» ориентации заряженных групп, полярных и неполярных частей молекулы комплекс биорегулятора со специфическим рецептором оказывается довольно прочным, но все же несравнимым по стабильности со структурой, которая возникла бы при их соединении валентной связью. Энергия образования даже наиболее прочных из известных гормон-рецепторных комплексов составляет несколько более одной десятой энергии образования, скажем, валентной связи —O—H. Образовавшиеся комплексы под действием тепловых толчков через некоторое время распадаются; среднее время их существования для разных биорегуляторов составляет от нескольких сотых секунды до секунды.
Речь идет, таким образом, о динамическом процессе. Скорость образования комплексов, как и при любой реакции второго порядка, пропорциональна произведению концентрации свободных рецепторов и биорегулятора, скорость распада — пропорциональна количеству комплексов. По мере образования новых комплексов (а следовательно, и увеличению скорости их распада) количество свободных рецепторов убывает: скорость образования комплексов снижается. При достижении некоторой величины количество существующих комплексов остается неизменным — наступает динамическое равновесие, то есть скорости их образования и распада уравниваются.
Многим читателям, возможно, знакома игра, популярная еще до появления всяких кубиков Рубика и змеек. В плоской коробочке с прозрачной крышкой находятся разноцветные шарики; в дне коробочки есть лунки. Задача заключается в размещении шариков в лунках в определенном порядке. Если принять, что дно — это поверхность мембраны клетки-мишени, то лунки — рецепторы, а шарики — молекулы гормона. Мы воспользуемся этим устройством для моделирования процесса образования гормон-рецепторных комплексов.
Вначале шарики брошены как попало, часть из них закатилась в лунки, остальные — нет (по условиям нашего мысленного эксперимента шариков намного больше, чем лунок — в отличие от реальной игры, где число тех и других равное). Начнем теперь слегка встряхивать коробочку. Этим мы, ясное дело, моделируем тепловые эффекты; шарики придут в движение. Те из них, которые находятся вне лунок, в результате случайных перемещений рано или поздно закатятся в свободную лунку (размеры лунок таковы, что туда помещается только один шарик), так что в конце концов все лунки могут оказаться занятыми. Правда, произойдет это, только если толчки, вызываемые потряхиванием, слишком слабы для того, чтобы выкатить из лунки уже находящийся там шарик. Если же встряхивать посильнее, некоторые шарики начнут выскакивать из лунок; правда, освободившиеся лунки тут же займут другие шарики, но тем временем выкатятся шарики из других лунок, так что какая-то их часть будет постоянно свободна. Очевидно, эта доля будет тем меньше, чем глубже лунки (большая энергия связывания молекулы гормона с рецептором), чем больше шариков находится в коробке (выше концентрация гормона) ну и, конечно, чем слабее мы встряхиваем коробку (ниже температура).
Для определения эффективности связывания рецептором молекулы гормона наряду с энергией взаимодействия можно воспользоваться константой диссоциации комплекса — это взаимосвязанные величины. Говоря о «концентрации» шариков в коробке, мы имеем в виду поверхностную концентрацию: их количество, приходящееся на единицу площади дна коробки. Нам совершенно безразлично, будет ли это квадратный дециметр, сантиметр, дюйм и т. п.; выберем в качестве такой единицы величину площади дна коробки, приходящуюся на один имеющийся в нем шарик — S, так чтобы концентрация шариков равнялась 1 штука/S. Тогда упомянутая константа диссоциации будет равна отношению свободных и занятых лунок. Эта константа сама имеет размерность концентрации и должна, очевидно, также выражаться в выдуманных нами единицах штук/S. Энергия образования комплекса пропорциональна логарифму константы диссоциации, причем коэффициент пропорциональности отрицательный: чем больше энергия, тем меньше константа диссоциации. Такой характер связи этих двух величин определяют законы статистической физики, от более подробных пояснений я предпочту воздержаться.
«Химик работает плохими методами с хорошими веществами, физик — хорошими методами с плохими веществами, физический химик — плохими методами с плохими веществами». Это изречение, известное всем читателям сборника «Физики шутят», никакого, естественно, отношения не имеет к исследованиям, в которых методы физической химии — теоретические и экспериментальные — использовались для изучения взаимодействия биорегуляторов с их рецепторами.
Для экспериментального изучения процесса связывания биорегулятора с рецепторами обычно применяют изотопную технику. Сперва нужно получить радиоактивный, «меченый» препарат биорегулятора. Если речь идет о соединении сложной структуры, например, белке, прибегают к обработке выделенного из природных материалов препарата радиоактивным реагентом, взаимодействующим с определенными его функциональными группами. Например, гидроксильные группы остатков тирозина в пептидах и белках легко модифицировать с помощью некоторых соединений йода. Очевидно, это будет не просто йод, а его радиоактивный изотоп 125J. Этот метод сравнительно прост, но не лишен недостатков. Та же гидроксильная группа тирозина может выполнять определенную роль в активации рецептора, да и введение громоздкого атома йода изменяет пространственное соответствие рецептору. Гораздо надежнее попытаться «встроить» радиоактивный изотоп непосредственно в молекулу биорегулятора вместо обычного стабильного. Наиболее удобен для этой цели тритий 3H; уж атомы-то водорода входят в состав молекул решительно всех известных биорегуляторов.
Словом, так или иначе радиоактивный аналог можно получить, в конце концов, это лишь вопрос техники.
Теперь необходимо приготовить препарат ткани органа-мишени, содержащей соответствующие рецепторы. Это может быть кора надпочечников, печень, гипоталамус и т. п. В простейшем случае используют просто тонкие срезы тканей, но чаще ткань очень тонко измельчают, а полученные частички разделяют по величине с помощью особых приемов центрифугирования на несколько фракций.
(Частички эти называют микросомами, что часто ведет к путанице, поскольку так же называется и определенный вид субклеточных образований (органелл). Наш брат естественник любит иногда прервать дискуссию репликой: «Позвольте, мы же спорим о словах», и звучит это неизменно чуть-чуть презрительно, не без основания, может быть. Но, с другой стороны, и терминологическая распущенность должна иметь границы.)
В некоторых фракциях и сосредоточены рецепторсодержащие структуры. Как узнать, в которых именно? Совершенно очевидно — это как раз те фракции, которые более всего связывают меченый препарат!
Как определить количество связанного препарата? Казалось бы, очень просто: помещаем микросомы в раствор меченого биорегулятора, выдерживаем там какое-то время, отделяем, например, центрифугированием и определяем их радиоактивность.
На самом деле приходится прибегать к более сложной процедуре. Часть препарата под действием ферментов, присутствующих в микросомах, разрушится, а образовавшиеся радиоактивные осколки могут сорбироваться на микросомах; некоторое количество меченого биорегулятора диффундирует в глубь частиц и т. п. Чтобы учесть только обратимое связывание поверхностными центрами, микросомы, выдерживаемые в растворе радиоактивного вещества («проинкубированные», если пользоваться профессиональным жаргоном), отделяют и помещают в более концентрированный раствор нерадиоактивного препарата. По прошествии некоторого времени меченый биорегулятор, сорбированный на поверхности микросом, «вытесняется», заменяется нерадиоактивным и, поскольку концентрация последнего намного больше, практически весь переходит в раствор. Опять микросомы отделяют и по радиоактивности раствора определяют количество обратимо связавшегося препарата.
Вообще говоря, для такого рода исследований используются не только природные биорегуляторы, но и их синтетические аналоги. Соединения, способные в той или иной мере к образованию комплексов с рецепторами, называют еще — независимо от их «активности» — лигандами данного рецептора.
Процесс образования комплексов «лиганд-рецептор» в рассмотренном, простейшем случае можно описать математически. Количество вновь образующихся в единицу времени комплексов, как уже говорилось, пропорционально концентрации лиганда (обозначим ее С) и количеству свободных, незанятых рецепторов. Если общее количество рецепторов — Q, количество образовавшихся комплексов — z, то незанятых рецепторов окажется (Q–z). Будем полагать (как оно чаще всего и есть), что концентрация лиганда в рассматриваемой системе намного больше, чем концентрация рецепторов, так что ее изменение в результате образования комплексов пренебрежимо мало. Тогда скорость образования новых комплексов составит k(Q–z)C. Коэффициент пропорциональности k называется константой скорости реакции образования комплексов; легко убедиться, что численно он равен скорости этой реакции в системе, где концентрации лиганда и свободных рецепторов равны единице. Эта величина имеет размерность с–1 моль–1.
Процесс же распада комплексов описывается еще проще. Предполагается, что вероятность распада в течение некоторого времени — скажем, секунды — одинакова для всех комплексов и равна k′: тогда количество комплексов, распавшихся в течение секунды, есть произведение этой величины на общее их количество в данный момент времени — z.
Пусть в раствор лиганда концентрации С вносится не содержащий связанного лиганда препарат микросом. Вначале, когда количество комплексов еще весьма мало и процесс их образования протекает намного интенсивнее, чем процесс распада, количество комплексов растет почти пропорционально времени; затем скорость роста все более замедляется, начинает сказываться процесс распада; наконец, по прошествии достаточно длительного времени, устанавливается равновесие — скорости образования и распада комплексов уравновешиваются, то есть выполняется условие k(Q–z)C = k′z. Если это уравнение разрешить относительно z, получим так называемую изотерму Лэнгмюра, z = QC/(k′/k+C), соотношение, определяющее зависимость количества связанного лиганда от его концентрации в растворе при равновесии. Отношение k′/k, фигурирующее в скобках, есть не что иное, как уже известная нам константа диссоциации (К). С помощью уравнения Лэнгмюра можно дать еще одно наглядное определение содержательного смысла этой величины.
Константа диссоциации, как упоминалось, имеет размерность концентрации; предположим, что примененная концентрация лиганда имеет ту же величину, что и константа диссоциации. В этом случае, сокращая, имеем z = ½Q, то есть константа диссоциации равна такой концентрации лиганда, при которой достигается насыщение половины рецепторов.
Все рассмотренные представления относятся к случаю, когда константа диссоциации комплекса К, определяющая сродство лиганда к рецептору, постоянна. По счастью, такая ситуация характерна для большинства исследованных биорегуляторов. По счастью, поскольку это облегчает изучение молекулярных механизмов их действия, и без того достаточно сложно организованных; поскольку все же с уверенностью утверждать факт постоянства К можно лишь в большинстве, но не во всех случаях, не мешает рассмотреть и эти исключения, тем более что в специальной литературе им уделено очень много места.
Наиболее тщательно изученные модели базируются на предположении, что сродство молекулы биорегулятора к рецептору может изменяться в зависимости от того, какое количество таких молекул уже связано клеткой. Пусть, скажем, каждый рецептор может связывать не одну, а несколько молекул лиганда; в этом случае говорят о многовалентном рецепторе. Можно себе представить, что после присоединения первой молекулы и возникновения комплекса структуры А, посадка на рецептор следующей молекулы будет затруднена или, наоборот, облегчена, так что реакции
R + A ↔ RA и
RA + A ↔ RA2
будут протекать в неодинаковых условиях и константы диссоциации соответствующих комплексов окажутся различными. В принципе возможны самые разнообразные комбинации знака эффектов, вызванных присоединением очередной молекулы лиганда: скажем, связывание второй молекулы лиганда происходит легче, чем первой, третьей — трудней, четвертой — опять легче и т. д. Однако наиболее исследованными и единственными обнаруженными в природе оказались ситуации, когда присоединение каждой последующей молекулы облегчается вследствие посадки предыдущей (явление положительной кооперативности) или, наоборот, затрудняется (отрицательная кооперативность).
Положительная кооперативность была обнаружена и основательно исследована еще 60–70 лет назад, правда, не в связи с процессами взаимодействия молекул биорегуляторов с их специфическими рецепторами, а на примере связывания кислорода молекулой гемоглобина. Эта молекула состоит из четырех субъединиц: двух α- и двух β-цепей. Каждая из субъединиц может связывать одну молекулу кислорода. Так вот, оказалось, что сродство к кислороду каждого центра связывания (гема) тем выше, чем больше других центров связывания уже занято кислородными молекулами. В работах американского исследователя Д. Эдера давшего математическое описание связывания кислорода гемоглобином, были заложены основы общей теории кооперативных сорбентов; явления, подобные рассмотренным, характерны для многих процессов, протекающих в биологических и небиологических системах.
На одной из конференций по теории рецепторов был приведен образный пример, иллюстрирующий понятия положительной и отрицательной кооперативности.
Представим себе небольшое кафе. Раннее утро, еще сонные, спешащие на работу посетители наскоро завтракают. Понаблюдаем за тем, как они рассаживаются: каждый норовит обособиться, сесть за свободный столик, если таковых нет, подсесть туда, где находится только один посетитель и т. д. То есть налицо типичная отрицательная кооперативность: вероятность того, что вновь прибывший гость займет место за данным столиком тем меньше, чем больше людей там уже сидит.
Вечером кафе заполняют в основном завсегдатаи; здесь все обстоит наоборот: каждый появившийся в кафе посетитель старается подсесть к знакомой компании, некоторые даже подтаскивают дополнительные стулья (впрочем, это уже усложнение принятой нами модели, изменение валентности рецептора, так что предположим лучше, что строгий хозяин запрещает перестановку стульев). Здесь наблюдается положительная кооперативность: вероятность выбора новоприбывшими места за данным столиком выше, если за ним уже кто-то сидит.
Всякому, кто более или менее систематически следит за литературой о механизмах действия биологически активных соединений, термин «кооперативность» изрядно примелькался. Очень охотно обращаются авторы многих сочинений этого жанра к гипотезам о наличии в исследованных ими рецепторных системах положительной или отрицательной кооперативности. Почти всегда это именно гипотеза, случаи, когда представляются вполне надежные доказательства существования кооперативных эффектов, сравнительно редки. И тем не менее слово «кооперативность» бестрепетной рукой выносится в заголовок: «Положительная кооперативность… рецепторов ацетилхолина… миокарда крысы», «Доказательство отрицательной кооперативности системы рецепторов…», скажем, кортикотропина, и не крысы уже, а гималайской коровы или багрового хомячка с острова Св. Гервазия.
В поисках объектов, на которых удобнее всего изучать организацию той или иной системы рецепторов, исследователи, кажется, добрались во все решительно уголки света. Здесь и какие-то экзотические угри, и электрический орган южноамериканской рыбы торпедо, и нильская щука, и морские змеи из Южно-Китайского моря. В большинстве работ, разумеется, используются традиционные лабораторные животные: мыши, крысы, кролики, морские свинки. Впрочем, последние тоже имеют экзотическое происхождение. Родом они из Перу, их английское название — guinea pig — нередко и переводится неопытными переводчиками научных текстов буквально: «гвинейская свинья». Откуда взялось русское название этого симпатичного, но совершенно сухопутного зверька? Полагают, что вследствие искажения первоначально существовавшего «заморская свинка».
Впрочем на экзотических ли, тривиальных ли объектах бывают обнаружены признаки кооперативности связывания рецепторами биорегуляторов, такие сообщения всегда настораживают скептически настроенных специалистов. И тому есть свои причины.
Существует несколько характерных признаков кооперативности. Можно, например, препарат рецепторов, насыщенный радиоактивным лигандом, перенести в среду, его не содержащую, и измерять скорость диссоциации «меченых» комплексов. При этом часть препарата помещается в раствор, содержащий высокую концентрацию немеченного лиганда, часть — в раствор без лиганда. Если в первом случае скорость распада комплексов с участием радиоактивного лиганда выше, это может свидетельствовать о наличии отрицательной кооперативности: нерадиоактивный лиганд, связываясь со свободными, незанятыми радиоактивными рецепторами, «ослабляет» меченые комплексы. И, наоборот, если в присутствии нерадиоактивного лиганда скорость диссоциации снижается, можно думать, что это проявление положительной кооперативности.
Можно рассчитать константы скорости связывания лиганда препаратом рецепторов при высоких и низких концентрациях; если они окажутся различными, это также можно рассматривать как признак кооперативности — положительной или отрицательной, в зависимости от того, в каком именно случае эта величина окажется больше.
Но, пожалуй, самый популярный среди исследователей способ выявления кооперативности — это анализ характера отличий концентрационной зависимости количества связавшегося лиганда от уравнения Лэнгмюра.
Каким образом это сделать? Наиболее наглядной демонстрацией кооперативности было бы установление характера зависимости константы диссоциации от концентрации лиганда: растет с концентрацией отрицательная кооперативность, падает положительная. Согласно уравнению И. Лэнгмюра K = (Q–z)C/z; рассчитав ее для каждой точки экспериментальной кривой, получим искомую ее зависимость.
Однако исторически сложилась несколько иная практика.
Установив экспериментальным путем концентрационную зависимость z(c), исследователь хочет на ее основании оценить величины К и Q, характерные для изучавшейся системы. Вообще-то математическая теория обработки результатов эксперимента рекомендует для этой цели вполне определенную вычислительную процедуру, но она довольно громоздка и в докомпьютерный период применялась исследователями неохотно. Вместо этого для анализа экспериментальных данных стали использовать так называемые линеаризованные формы уравнения Лэнгмюра. Начало этому приему было положено самим Лэнгмюром в 1918 году; всего же было предложено несколько способов представления лэнгмюровской зависимости в линейной форме.
Например, перепишем ее следующим образом: z/C = (Q–z)/K. Результаты эксперимента можно представить графически, откладывая по оси ординат отношение z/C, по оси абсцисс — z. Получим так называемый график Скэтчарда. И если исследуемая зависимость действительно подчиняется уравнению Лэнгмюра, нанесенные по результатам эксперимента точки должны укладываться на прямую, причем ее наклон окажется равным 1/К, а точка ее пресечения с осью ординат — Q/K. Искомые параметры можно, таким образом, получить довольно просто, с помощью линейки и несложных арифметических действий.
График Г. Скэтчарда — не единственный способ линеаризации; всего их предложено четыре, некоторые — независимо различными авторами, и существует даже ряд научных публикаций по истории различных методов линеаризации уравнения Лэнгмюра.
Эти приемы используются не только для анализа изотерм адсорбции; точно ту же форму, что и уравнение Лэнгмюра, имеет основное уравнение ферментативной кинетики — уравнение Михаэлиса — Ментен. Именно в ферментативной кинетике применение линеаризованных форм получило чрезвычайно широкое распространение.
Помимо первоначального назначения — получения оценок констант Q, К, линеаризованные графики оказались полезными и в еще одном отношении. С их помощью можно продемонстрировать различного рода отклонения найденных на опыте зависимостей от формы, определяемой уравнением Лэнгмюра. (Против такой практики постоянно протестовали и продолжают протестовать специалисты от математических методов обработки экспериментальных данных — пока лишь с весьма умеренным успехом.)
В частности (ради этого, собственно, и состоялся весь разговор о линеаризации), на скэтчардовских графиках очень наглядно проявляются признаки кооперативности. Если для изучаемого процесса характерна отрицательная кооперативность, экспериментальные точки на скэтчардовском графике образуют вместо прямой вогнутую кривую, при наличии же положительной кооперативности — выпуклую. Нелинейность скэтчардовских графиков — один из наиболее часто используемых доводов в пользу гипотез о кооперативности рецепторных систем.
С другой стороны, почти все такие признаки могут быть обусловлены не кооперативностью того или иного типа, а причинами совершенно иными; например, вогнутые графики Скэтчарда получаются и в том случае, если препарат содержит несколько типов центров связывания с различными константами диссоциации, а именно это чаще всего и наблюдается на практике.
Так же неоднозначно могут быть истолкованы и другие критерии кооперативности. И поэтому кажется удивительным обилие публикаций, авторы которых на основании результатов одного-двух простейших экспериментов спешат сообщить об открытии кооперативности связывания рецепторами такого-то и такого биорегулятора. Беда, по-видимому, в том, что само это явление как-то по-особенному волнует воображение. Перед мысленным взором исследователя возникают таинственные механизмы взаимодействия соседних рецепторов, конформационные перестройки и локальные фазовые переходы в мембране и бог знает еще какие удивительные эффекты.
К сожалению, наблюдать их непосредственно очень трудно, порой и вовсе невозможно, но тем больше соблазна о них пофантазировать (и, соответственно, меньше риск немедленного опровержения). Такая тенденция была названа в одном специальном сочинении «фармакологически-романтической», а суть ее определена следующим образом: «Например, измерена концентрационная зависимость связывания лиганда препаратом клеток-мишеней — и безапелляционный вывод: для этого процесса характерен эффект отрицательной кооперативности. Одна молекула эффектора, связываясь с рецептором, вызывает изменение конформации не только его самого, но и соседних рецепторов, что указывает на наличие дальнодействующих факторов, обусловливающих перестройку мембранных структур. Кстати, зная поверхностную плотность рецепторов на мембране, легко вычислить радиус этого дальнодействия.
Можно было бы задать вопрос автору такого вот утверждения (чего, к сожалению, почти никогда не делается): откуда такое точное видение молекулярной картины случившегося? Как же, последует незамедлительный ответ, здесь же имеет место типичный признак отрицательной кооперативности — коэффициент Хилла (параметр, характеризующий уклонение концентрационной кривой от лэнгмюровской формы. — С. Г.) меньше единицы. И уж совершенно бесполезно советовать поискать причины в чем-нибудь другом: может быть, например, препарат содержит несколько типов центров связывания? Бесполезно потому, что предлагаемые вами объяснения — это нечто будничное, обыденное, а кооперативность и особенно конформационные перестройки — волнующий намек на тайные свойства биологических мембран, живой клетки. В этом, по-видимому, одна из особенностей „фармакологического романтизма“, выбирая между гипотезой тривиально простой и волнующе-сложной, романтик, безусловно, выберет вторую вопреки всякой научной логике!»
В этой связи вспоминается поучительная история. В 1973 году появилась статья группы американских авторов под заглавием: «Взаимодействие инсулина с рецепторами: экспериментальное доказательство отрицательной кооперативности». Исследовалось связывание радиоактивного инсулина препаратом рецепторов, диссоциация «меченых» комплексов в присутствии и в отсутствии нерадиоактивного гормона и т. п., на основании анализа результатов этих экспериментов был сделан вывод: есть отрицательная кооперативность! Поскольку признаков такой кооперативности было несколько, работа была воспринята специалистами с большим доверием, чем заявления типичных «фармакологических романтиков», вполне серьезные исследователи стали задумываться над молекулярными механизмами, лежащими в основе этого явления, и его физиологическим смыслом.
Увы, нашлись и приземленные скептики, напрочь, как видно, лишенные игры фантазии сухари — уже упоминавшийся П. Куатреказас и М. Холленберг. Они повторили те же опыты, только использовали вместо препарата инсулиновых рецепторов неорганические сорбенты — тальк, стекло, кремнезем. И оказалось, что для процессов взаимодействия меченого инсулина с этими материалами характерны в точности те же признаки отрицательной кооперативности!
Предложили они и свое объяснение этому обстоятельству. Неважно, каким материалом связывается инсулин, важно, что при высоких его концентрациях образуются в растворе попарные агрегаты его молекул — димеры, уже гораздо менее склонные к адсорбции на чем бы то ни было: специфических ли рецепторах или бездушном асбесте.
Самое забавное, впрочем, — публикация Куатреказаса и Холленберга не произвела решительно никакого впечатления на сторонников гипотезы «отрицательной кооперативности» рецепторов инсулина. Хотя и опубликована была в том же международном журнале «Сообщения о биохимических и биофизических исследованиях».
Один немолодой уже, многоопытный геолог сказал мне как-то доверительно, что их, вечных скитальцев, геологов-профессионалов, ничто так не раздражает, как слово «р-р-ро-мантика» (так он его и произнес). Не исключено, что и трезво мыслящих фармакологов — тоже.
Но вот наконец молекула биорегулятора нашла свой специфический рецептор, образовался комплекс. Следствием этого оказывается некоторая реакция клетки; если это мышечная клетка, сокращение или, наоборот, расслабление, если это клетка железы внутренней секреции — выделение другого биорегулятора, если нервная, возможны самые разнообразные последствия.
Возьмем простейшую экспериментальную процедуру — измерение сокращения мышцы под действием некоторого агента, вызывающего такую реакцию. Их в организме много, пусть это будет для определенности ацетилхолин. Процедура действительно немудреная: расположенный в кювете с раствором испытуемого соединения кусочек кишки крысы крепится к рычажку, либо непосредственно соединенному с плечом самописца, либо в более современном исполнении — опирающемуся на пьезоэлемент. Для начала даем совсем небольшую концентрацию ацетилхолина, препарат слегка сокращается. Увеличиваем концентрацию, сокращение увеличивается, затем вводим в кювету еще большую концентрацию, еще большую, еще большую…
Популярная также и у нас детская писательница Астрид Лингрен, донимаемая печально известной шведской налоговой системой, язвительно заметила как-то, что скоро налоги, взимаемые со шведов, будут превышать сто процентов их заработка. Один мой знакомый, бывший неоднократно в Швеции, вполне серьезно убеждал меня, что в некоторых случаях такое, в принципе, возможно. В описываемом же эксперименте мышца, очевидно, не может сокращаться беспредельно; не говоря уже о том, что тест-объект — фрагмент кишки никогда не будет иметь отрицательную длину, он даже не сможет сократиться, скажем, впятеро, как бы мы ни увеличивали концентрацию ацетилхолина.
В первом приближении предполагается, что реакция органа-мишени или ткани-мишени пропорциональна количеству молекул биорегулятора, связавшихся с рецепторами. Для малых концентраций это справедливо всегда, но по мере роста количества комплексов эта закономерность нарушится.
Среди возможных причин рассмотрим два, в известном смысле крайних, случая. Первый: молекулами биорегулятора занята лишь часть рецепторов, однако и этого достаточно, чтобы вызвать максимальный ответ (ведь никакая реакция органа-мишени не может развиваться беспредельно). В этом случае говорят о наличии рецепторного резерва — это те «избыточные» рецепторы, взаимодействие которых с биорегулятором уже не влияет на реакцию, она достигла максимального значения.
Второй случай: реакция и в самом деле пропорциональна количеству занятых рецепторов; их число настолько мало, что даже полное насыщение не изменяет самого характера зависимости. Иными словами, возможности клетки, или органа-мишени, далеко еще не исчерпаны, когда «задействованы» уже все рецепторы, занятые молекулами биорегулятора.
Второй случай встречается довольно редко; в первом же приходится задаваться вопросом о форме функции, определяющей зависимость реакции от числа занятых рецепторов. Это может быть кривая, выходящая на насыщение (сколько ни добавляйте новых комплексов, усиления реакции нет), сигмоидная зависимость (по мере роста количества комплексов реакция развивается сначала медленно, затем скачкообразно возрастает), либо, наконец, наиболее распространенная переходная кривая — рост — насыщение — падение; очень высокие концентрации биорегулятора, вызывают депрессию органа-мишени.
Представляет, однако, интерес не столько форма зависимости реакции от количества образовавшихся комплексов, сколько необычайная прямо-таки чувствительность клетки-мишени.
Не раз уже упоминалось, что гормоны и многие другие им подобные биорегуляторы действуют на клетки-мишени в очень низких концентрациях — 10–7, 10–9, даже 10–11 моля на литр. Надо признать, что все эти десятки с большими положительными или отрицательными степенями на страницах научно-популярной литературы срабатывают неважно; может быть, уж лучше бы написать десятичную дробь с одиннадцатью знаками после запятой. Еще лучше, конечно, попытаться осмыслить масштабы их «малости» (или «огромности») в каких-то содержательных понятиях.
Именно это мы попытаемся сейчас сделать на конкретном примере. Есть в животном организме пептидный биорегулятор ангиотеизин — фрагмент белка, состоящий из восьми аминокислотных остатков:
Asp—Arg—Val—Tyr—Val—His—Pro—Phe
(аспарагиновая кислота — аргинин — валин — тирозин — валин — гистидин — пролин — фенилаланин).
Его функции довольно разнообразны; одна из них — это стимуляция клеток клубочковой зоны коры надпочечников, которые под его действием начинают выделять стероидный гормон альдостерон. Категорически уклонимся от рассмотрения вопроса о том, что происходит в результате и вообще зачем это нужно организму; по поводу так называемой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, звеньями которой являются оба биорегулятора, написаны тома, пересказывать содержание которых непросто, а главное — совершенно ни к чему в свете стоящей перед нами задачи.
Для экспериментальной оценки активности препаратов ангиотензина обычно приготавливают суспензию клеток-мишеней, добавляют в нее испытуемый препарат и следят за выделением клетками в окружающую среду альдостерона. Клетки начинают секретировать альдостерон уже в присутствии 10–10–10–9 моля ангиотензина.
До какой степени это низкая концентрация? В одном кубическом сантиметре раствора концентрации 1 моль на литр содержится 6·1020 молекул. Таким образом, в кубическом сантиметре испытанного нами раствора находится 6·1010 молекул. 60 миллиардов, не так уж как будто и мало. Правда, и клетки-мишени невелики, их линейные размеры — около микрометра, то есть 10–4 сантиметра; соответственно объем одной клетки — порядка 10–12 кубического сантиметра.
Предположим, что клетки занимают один процент инкубационной среды по объему, то есть в 1 кубическом сантиметре их окажется 1010 штук. Тем самым на каждую клетку приходится шесть молекул ангиотензина.
Приведенный расчет небезупречен; надо, скажем, считаться с тем, что в суспензии окажутся не отдельные клетки, а агрегаты клеток, что доля собственно секретирующих клеток составит не один процент объема среды, а меньше (или больше — несущественно). Во-первых, более сложные и более точные расчеты, выполненные для ряда гормонов, показали, что для развития специфической реакции клетки-мишени часто достаточно, чтобы с ее рецепторами связалось всего несколько молекул биорегулятора (по некоторым расчетам — вообще одна), во-вторых — если секреция альдостерона «защищается» не шестью, а шестьюдесятью или даже шестьюстами молекулами ангиотензина — это тоже достойно удивления, если сравнить размеры клетки и молекулы.
Опять же, в интуитивном нашем представлении и та и другая очень малы, так что не мешает сопоставить еще несколько цифр. Молекулы биорегуляторов имеют размер от нескольких десятых нанометра (скажем, адреналин) до нескольких нанометров (белковые гормоны). Размеры большинства животных клеток — порядка микрометра или нескольких микрометров. Различие в линейных размерах тем самым — 103–104. Иными словами, молекулы многих биорегуляторов рядом со своими клетками-мишенями должны выглядеть так же, как сами клетки рядом, например, с ириской или как зернышко пшена рядом с БелАЗом. Впрочем, для различных молекул и различных клеток эти оценки могут изменяться примерно на порядок в ту или иную сторону, так что это окажется зернышко уже не пшена, а гречки или мака — суть вывода не меняется: молекулы все же очень малы по сравнению с клетками, и кажется удивительным, что «посадка» нескольких ничтожных частичек на поверхность такой махины вызывает развитие в ней каких-то бурных процессов.
Ясно, что внутри клетки должны существовать какие-то системы, многократно усиливающие эффект взаимодействия молекулы гормона с расположенным на ее поверхности рецептором.
Один из самых универсальных механизмов подобного усиления открыт Э. Сэзерлендом в 1960 году. Сэзерленд исследовал действие упоминавшегося уже гормона адреналина на клетки печени, в которых он вызывает расщепление гликогена (крахмалоподобного запасного вещества) с образованием глюкозо-1-фосфата. Эта реакция катализируется ферментом гликоген-фосфорилазой, активность которой в клетках печени резко возрастает под действием адреналина. Почему?
Сам адреналин внутрь клетки не проникает, он лишь связывается с рецепторами на ее поверхности. Рецептор же адреналина образует комплекс с молекулой фермента аденилатциклазы, причем этот комплекс проходит через мембрану насквозь, так что с внутренней стороны мембраны в цитоплазму выступает активный центр фермента. Организация комплекса такова, что при связывании рецептором молекулы адреналина активизируется аденилатциклаза; детали механизма активации пока неизвестны. Субстратом аденилатциклазы является АТФ (аденозин-3-фосфат). АТФ — важнейший участник процессов превращения энергии в клетке. К молекуле аденозина (об этом соединении уже была речь выше, при обсуждении структуры нуклеиновых кислот) присоединена цепочка из трех остатков фосфорной кислоты. Аденилатциклаза отщепляет от АТФ два фосфатных остатка, а третий соединяет с остатком рибозы второй валентной связью, так что образуется цикл
Это соединение называется циклическим аденозинмонофосфатом, или цикло-АМФ.
Цикло-АМФ выполняет функцию внутриклеточного биорегулятора (как оказалось впоследствии, не только в рассматриваемой реакции клеток печени на адреналин, но и во многих других реакциях, индуцированных гормонами). Внутриклеточным рецептором цикло-АМФ является неактивная форма фермента протеинкиназы. Происходит это следующим образом. Неактивная форма протеинкиназы — это комплекс, образованный четырьмя белковыми молекулами двух типов. Одна пара представляет собой собственно ферменты, другая — регуляторные субъединицы. Собственно, их регуляторная функция заключается в том, что, образуя с ферментными субъединицами описываемый комплекс, они лишают их каталитической активности.
Именно на поверхности регуляторных субъединиц находятся участки связывания цикло-АМФ, по два на каждой: посадка на них четырех молекул цикло-АМФ приводит к тому, что комплекс становится непрочным — от него отделяются обе ферментативные субъединицы. И в этом случае неизвестны тонкие молекулярные подробности механизмов, лежащих в основе этого эффекта, но существуют весьма надежные экспериментальные доказательства того, что в принципе все происходит именно таким образом.
Каталитически активные молекулы протеинкиназы, образовавшиеся благодаря действию цикло-АМФ, в свою очередь, активизируют фермент под названием киназа фосфорилазы. На поверхности его молекулы имеется два остатка серина; при участии протеинкиназы гидроксильные группы этих остатков фосфорилируются, необходимый для этого остаток фосфорной кислоты отщепляется от молекулы АТФ. Фосфорилированная молекула обретает ферментативную активность.
Совершенно аналогичным образом — фосфорилированием двух гидроксильных групп остатков серина — киназа фосфорилазы активирует упомянутую гликоген-фосфорилазу, которая наконец принимается за дело, начинает расщеплять гликоген.
Вспоминается украинская шутка: «Грицько, піди до Грицька, хай скаже Грицьку, щоб він воли попоїв». И правда, не слишком ли много здесь промежуточных звеньев? Рационализаторский зуд, не чуждый, по-видимому, никому из нас, подсказывает немного более простое решение: пусть с рецептором адреналина будет связана не аденилатциклаза, а сразу гликоген-фосфорилаза, которая и активизировалась бы при посадке на рецептор молекулы гормона.
Надо сказать, что подобный ход рационализаторской мысли очень распространен. Знакомясь первый раз с каким-то устройством или механизмом, мы обычно обнаруживаем в нем множество совершенно бесполезных узлов или бессмысленно усложненных элементов. Наиболее решительные принимаются тут же устранять эти очевидные просчеты конструкторов. Рассказывал мне один пожилой инженер-дорожник, как в довоенное еще время впервые появились у них грейдеры. Это были прицепные машины; толщина запорного болта в прицепном устройстве была выбрана таким образом, что при возникновении усилий, угрожающих деформациями рамы грейдера (например, если на пути встретился большой валун), болт срезался. В предвидении таких случаев завод-изготовитель прилагал к каждой машине ящик запасных болтов.
Работники же, обслуживающие этот грейдер, видели причину частых остановок просто в несовершенстве конструкции прицепного устройства; кляня на чем свет стоит бестолковых инженеров, они изготовили собственное — солидное и надежное. Через несколько дней грейдер был сдан в металлолом.
Хотя мы и говорим все чаще о клеточной инженерии, но исправлять по-своему структуру процессов, протекающих в клетке, по-настоящему еще все же не умеем. В каком-то отношении это и неплохо, ибо чаще всего нас постигла бы судьба горе-рационализаторов прицепного устройства грейдера.
Вот и высказанное выше предложение — пусть адренорецептор активирует непосредственно гликоген — фосфорилазу, а все промежуточные звенья — выкинуть. Не так все, оказывается, просто. Рецепторов адреналина на одной клетке не так уж много. Точные цифры неизвестны, но, скорее всего — сотни (от силы — тысячи, но вряд ли). Сотня молекул фермента, да еще связанного с мембраной (то есть громадные молекулы гликогена должны сами диффундировать к ним), не обеспечит должной скорости расщепления. Как же сделать, чтобы одна молекула адреналина, связавшаяся с рецептором, активировала не одну, а гораздо большее количество молекул фермента-исполнителя?
Оказывается, в точности так, как то сделано в клетке печени. Активация одной молекулы аденилатциклазы приводит к появлению за время существования комплекса, скажем, тысячи молекул цикло-АМФ (здесь цифры уж совершенно условные, хотя и близкие реальным по порядку величины). В результате активизируются, допустим, сотни молекул протеинкиназы. Каждая из них активирует за рассматриваемый промежуток времени опять же сотни молекул киназы фосфорилазы, каждая из которых, в свою очередь, активирует сотни молекул гликоген-фосфорилазы.
Перемножим трижды эти сотни, получим уже миллионы. Подобным образом организованные системы называют каскадом усиления. В рассматриваемом случае действия адреналина на клетки печени коэффициент усиления составляет 25 миллионов, то есть образование одного комплекса молекулы, адреналина с рецептором приводит к образованию 25 миллионов молекул глюкозо-1-фосфата. Под действием других ферментов это соединение превращается в глюкозо-6-фосфат, а затем в глюкозу и выбрасывается в кровь, что и является конечной целью этого регуляторного процесса.
Нет, определенно не так просто усовершенствовать что-нибудь в живой клетке.
Глава 5
Столь же кратко о биомембранах
Мирно, даже чуть скучновато тянутся себе заседания некой конференции по биофизике. Один за другим выходят на трибуну докладчики — личности всем знакомые, хотя бы заочно, и рассказывают почти в точности то, что от них ожидается. Вот этот небось опять будет о своих эритроцитарных мембранах… Кто там следующий за ним? A-а, потенциал покоя клеток водорослей… Слышали, слышали. Можно и сходить покурить.
После перекура оказывается, что на трибуне уже витийствует некто совершенно незнакомый. И это бы еще ничего — ну, бывает… Но вы послушайте, что это он такое говорит?
Говорил же докладчик (очень приблизительно) следующее:
— Пусть у нас имеется некоторое количество одинакового размера картонных квадратиков. Их стороны могут быть окрашены в четыре разных цвета — красный, желтый, зеленый, синий. Мы начинаем покрывать ими, как пол керамической плиткой, некую поверхность, соблюдая при этом кое-какие правила. Они, эти правила, определяют пары цветов, которые могут приходить в соприкосновение. Скажем, к красной стороне квадрата могут быть приставлены красная же и синяя, к желтой — только синяя, зеленая сторона должна быть свободна — к ней нельзя приставить никакой другой квадрат вообще, и т. д.
Рассмотрим простой случай, когда представлены лишь несколько способов раскраски квадратов: скажем, все стороны красные, пара противоположных сторон — красная, другая — зеленая, три стороны зеленые, одна красная. Наша задача формулируется следующим образом: возможно ли построение с соблюдением принятых правил ограниченных структур, то есть таких, к которым нельзя более приставить ни одного квадратика, и если да, то каковы свойства этих структур?
В рассматриваемом случае существуют два основных типа неограниченных структур: поверхность, состоящая полностью из красных квадратиков, и вытянутая полоска из квадратиков, у которых в красный цвет окрашены противоположные стороны. Эту полоску можно в любом месте ограничить, приставив красной стороной квадратик, у которого остальные три стороны — зеленые. Вот уже и имеем первый тип ограниченных структур: полоска любой длины. Если же в каком-то месте заменить квадратик с двумя красными сторонами на полностью красный, можно построить перпендикулярную полоску; вот и еще один тип ограниченных структур: крест. Таким образом можно построить и более сложные фигуры, а именно: прямоугольные решетки любой структуры. Легко видеть, что это самый общий тип ограниченных структур, и полоска, и крест — его частные случаи.
Это, разумеется, простейший пример. Вообще же говоря, правила совместимости цветов могут быть более сложными, допустимые способы раскраски квадратиков — разнообразнее, да это и не должны быть обязательно квадратики, а, скажем, правильные шестиугольники или равнобедренные треугольники. И тут для выявления ограниченных структур уже требуются солидный математический аппарат и довольно громоздкие расчеты на ЭВМ. Особый интерес для нас представляет случай, когда ограниченные структуры формируются единственным возможным способом.
Здесь оказывается полезной следующая теорема. Выразим через композицию бинарных отношений Pi на множестве Ω объектов…
Далее все перестали что-либо понимать и высвободившееся в результате этого время использовали для обмена замечаниями: язвительно-недоуменными, просто язвительными и просто недоуменными.
— Позвольте, при чем здесь биофизика?
— Уж не забрели ли мы случайно на семинар по кубику Рубика?
— Откуда он, этот головоломщик?
— Это не кубик Рубика, это скорее пасьянсы.
— Но вот уж действительно: какая же это биофизика?
Давненько все это, правда, происходило, и сейчас, пожалуй, реакция участников была бы иной; но на той конференции и впрямь лишь немногие присутствующие вполне четко представляли себе, что предложенная их вниманию задача имеет самое прямое отношение к проблеме самосборки надмолекулярных биологических структур — одной из центральных в современной биофизике.
Много чего удивительного, конечно, происходит внутри клетки, и все же одно из наиболее удивительных явлений — это именно самосборка основных структур протоплазмы. Подобно квадратикам нашего непонятого докладчика слипаются друг с другом (сами по себе!) хитроумной формы молекулы белков и других соединений, образуя фантастической сложности структуры.
Пожалуй, один из самых наглядных и относительно простых примеров самосборки надмолекулярных структур клетки — образование мембран.
Протоплазма каждой клетки отделена от окружения, будь то другие клетки или некоторая среда, тончайшим, всего в несколько молекул толщиной, образованием — мембраной. Будучи столь невероятно тонкой, мембрана тем не менее очень надежно изолирует протоплазму от проникновения нежелательных веществ извне и препятствует выходу наружу соединений, находящихся в плазме. Впрочем, в зависимости от условий проницаемость мембраны по отношению к отдельным веществам может меняться, так что она функционирует как бы в роли регулятора материального баланса клетки. Особые мембраны изолируют и внутриклеточные образования — такие, как ядро или хлоропласт, — от остальной протоплазмы.
Воспользуемся для описания структуры и принципов самосборки мембраны моделью нашего друга — незадачливого докладчика от квадратиков. Сделаем ее для этого трехмерной — вместо квадратиков у нас будут кубики. Раскрашены они все совершенно одинаково: пять граней красных, одна зеленая.
Если правило сборки фигур из кубиков прежнее — возможны контакты только красных граней с красными, но никогда красных с зелеными или зеленых с зелеными, опять, как и в случае с квадратиками, можно поразмыслить о том, реализация каких типов структур допустима, а каких — нет. Мы, однако, этого делать не будем, а сразу рассмотрим простейшую в этом случае неограниченную структуру: двойной плоский слой кубиков, уложенных таким образом, что обе наружные поверхности образованы только зелеными гранями.
Это и есть простейшая модель бислойной мембраны. А образующие ее кубики — карикатура на молекулу фосфолипида или какого-нибудь другого поверхностно-активного соединения. Образования типа бислойной мембраны можно получить из очень многих поверхностно-активных веществ; мы рассмотрим их структуру и причины возникновения на примере жирных кислот. Со свойствами жирных кислот как поверхностно-активных соединений все мы очень хорошо знакомы на практике, они являются основным компонентом мыла и всяческих стиральных порошков.
Вот, скажем, пальмитиновая кислота, одна из самых распространенных в природе; она входит в состав почти всех жиров, особенно много ее в свином сале и пальмовом масле (отсюда и название).
В состав мыла пальмитиновая кислота входит обычно в виде натриевой соли; в водном растворе она диссоциирует: H—(CH2)15 — COO–+Na+. При этом образовавшийся пальмитат-ион чувствует себя в водном растворе неважно: длинная гидрофобная углеводородная цепь стремится вырваться из воды, но ее удерживает имеющий высокое сродство к воде карбоксил. При увеличении концентрации мыла начинают самопроизвольно создаваться молекулярные ассоциаты, так называемые мицеллы. Углеводородные части молекул слипаются, образуя как бы жирную каплю, наружу которой выставлены карбоксильные группы.
Приведем теперь наш мыльный раствор в соприкосновение с какой-нибудь неполярной жидкостью, скажем, керосином. Ясно, что наиболее выгодное место для молекулы той же пальмитиновой кислоты — на границе между двумя жидкостями, причем ориентирована она будет таким образом, что карбоксильная группа будет торчать в воде, а углеводородный хвост находиться в керосине, то есть каждая часть молекулы окажется в той жидкости, в которой она хорошо растворима. При переносе молекулы из водного раствора на границу раздела выделяется энергия, а, как известно, всякая система стремится занять состояние, которому соответствует минимум энергии.
Структуры, во многом подобные клеточным мембранам, легко получить искусственным путем. Липиды растворяют в каком-нибудь органическом растворителе, который немного растворяется в воде, например, в гептане. Капельку такого раствора наносят в отверстие пластинки, а пластинку погружают в воду. Можно подобрать такую концентрацию липидов, что после того как весь гептан растворится в воде, их останется ровно столько, чтобы образовать двойной слой — полярные группы наружу, неполярные — друг к другу. Такие мембраны называются искусственными липидными бислоями, обладают многими свойствами клеточных мембран и широко используются как их модели при изучении этих свойств, поскольку работать с ними во многих отношениях проще.
Есть, однако, существенное различие между искусственными бислоями и мембранами живой клетки. В клеточной мембране там и сям вкраплены молекулы, обычно довольно крупные, соединений иной природы, чем фосфолипиды; чаще всего это белки. Они-то и играют важнейшую роль в процессах функционирования мембран. Изучение механизмов, лежащих в основе этих процессов, — один из центральных разделов современной биологической науки. (Довольно широкое хождение среди части специалистов приобрел даже термин «биомембранология»; впрочем, другая часть считает его громоздким и искусственным.)
Одно из важнейших назначений мембраны, покрывающей поверхность протоплазмы клетки, — регулировать ее материальный обмен с окружением, будь то другие клетки или внешняя среда. Вообще мембрана плохо проницаема для веществ, растворенных в воде, при прохождении молекулы через мембрану нужно «затолкнуть» на время ее полярные группы в гидрофобную часть бислоя. Однако в зависимости от природы молекулы, структуры и состава мембраны — прежде всего характера упомянутых нелипидных «примесей» — проницаемость мембраны для разных веществ различается очень сильно.
Представим себе мембрану, разделяющую две ячейки, в одной из которых содержится раствор двух каких-то веществ в одинаковой концентрации, в другой — чистая вода. Предположим, что одно из растворенных веществ сравнительно легко проходит через мембрану, для другого же мембрана практически непроницаема. Некоторое время спустя концентрация первого вещества в обеих ячейках станет почти одинаковой, второе же почти целиком останется лишь в одной из них. Такой исход нашего небольшого мысленного опыта как будто очевиден, в действительности, несомненно, случится все именно так, как мы описали, с одной, однако, существенной оговоркой: если речь идет о веществах, не несущих электрического заряда.
Пусть теперь по одну сторону мембраны внесен хлористый натрий; в растворе эта соль будет представлена смесью равных концентраций положительно заряженных ионов натрия и ионов хлора, несущих отрицательный заряд. Предположим, далее, что ионы натрия проходят через мембрану сравнительно свободно, а ионы хлора не проходят вовсе. Что же произойдет в этом случае?
Вначале поток ионов натрия, как и в предыдущем примере, устремится через мембрану в ячейку с чистой водой. Этот процесс, однако, приостановится очень быстро, задолго до достижения равенства концентраций ионов натрия по обе стороны мембраны. Как только небольшое их количество покинет первую ячейку, она зарядится отрицательно: ионов хлора окажется больше, чем ионов натрия. Точно такой же по величине электрический заряд, но с положительным знаком, приобретет вторая ячейка. Иными словами, возникнет разность электрических потенциалов между двумя ячейками, которая будет препятствовать выходу новых ионов натрия. Равновесие наступит, когда их поток из первой ячейки под действием сил диффузии уравняется с противоположно направленным потоком, возникающим под влиянием электрического поля. Легко понять, что некоторая разность электрических потенциалов между двумя ячейками возникнет и в том случае, если мембрана не окажется абсолютно непроницаемой для ионов хлора; просто поток этих ионов не будет успевать нейтрализовать все вырывающиеся наружу ионы натрия.
Таким образом, разность электрических потенциалов появится всегда, если концентрации электролита (не обязательно одной какой-то соли, это может быть и смесь солей) по обе стороны мембраны различны, а суммарные количества электрических зарядов, переносимых потоками катионов и анионов, не совпадают в точности.
Поскольку у реальной клеточной мембраны проницаемость в отношении различных ионов различается даже на порядки, а их концентрация внутри и вне клетки тоже очень неодинакова — между внутренним содержимым клетки и окружением существует разность электрических потенциалов. И если внутрь отдельной клетки, скажем, эритроцита, водоросли или бактерии ввести электрод (мы проделываем этот опыт мысленно, но биофизики-экспериментаторы легко реализуют его в своих лабораториях), а другой электрод поместить в окружающий клетку раствор, мы может эту разность потенциалов измерить.
Можно возразить: откуда же берется разность концентраций, ведь только что мы говорили о том, что всегда существует тенденция к самопроизвольному их уравниванию в любой системе? Дело в том, что на клеточной мембране работают уж совсем удивительные устройства — «ионные насосы», избирательно перемещающие различные ионы через мембрану; необходимую для этого энергию они получают за счет процессов дыхания.
С электрическими явлениями на клеточной мембране связаны многие важные функции клетки; остановимся на интереснейшей из них — нервной передаче.
Проделаем опять описанную уже операцию: введем электрод внутрь клетки (пусть для определенности — нервной), другой поместим в наружной среде. Только не измерять разность электрических потенциалов теперь будем, а наоборот — изменять ее, подавая напряжение, компенсирующее разность потенциалов между клеткой и наружной средой. Вот она меньше, меньше, еще меньше… И вдруг… что такое? В какой-то момент уже без нашей помощи потенциал стремительно ринулся вниз и даже «проскочил через ноль», из отрицательного на какое-то мгновение сделался положительным, а потом постепенно вернулся к норме (допустим, что мы сняли уже к этому времени прилагаемое «извне» напряжение). Правда, для этого придется изрядно поторопиться. Время развития описанного процесса — ничтожные доли секунды.
Почему все это происходит? Можно было бы попытаться ответить на этот вопрос довольно пространно, объяснив, что вследствие изменения электрического поля временно меняется проницаемость клеточной мембраны для различных ионов (и каких именно ионов, и в какую сторону меняется), но толку в таком объяснении будет немного, ибо закончить его придется признанием горького факта, что ответ на вопрос — а почему, собственно, меняется эта проницаемость? — науке по сей день неизвестен. Нет, конечно же, недостатка в различных гипотезах, но гипотезы — они гипотезы и есть, да и вряд ли стоит уклоняться слишком уж в сторону от темы нашего повествования.
Нервная клетка, как известно, имеет очень вытянутые фрагменты; может возникнуть вопрос: если описанное явление вызвать у одного конца, распространится ли оно сразу на всю клетку?
Распространится, но не сразу. Изменение ионных проницаемостей на некотором малом участке, обусловливающее падение потенциала до весьма низкой величины, спровоцирует такое же их изменение (а следовательно, и падение потенциала) на соседнем участке, что, в свою очередь, вызовет аналогичное явление на следующем участке и т. д. Вдоль клетки покатится волна падения разности потенциалов. Это так называемый потенциал действия, явление, лежащее в основе механизма распространения нервного импульса. Можно было бы сказать короче, что потенциал действия — это нервный импульс и есть, но механизм нервной передачи включает и еще один очень важный элемент.
Характерная нервная клетка — нейрон — состоит из тела клетки (сомы), от которого отходят вытянутые, часто ветвящиеся отростки: один аксон и обычно несколько дендритов. «Общаются» нервные клетки друг с другом благодаря наличию в месте их соприкосновения особого устройства — синапса. Его назначение — обеспечить распространение волны потенциала действия, пришедшей к синапсу из одной клетки, по другой клетке. И достигается это не простым «слиянием» мембран, как можно сразу подумать, а способом гораздо более мудреным.
В каждом синапсе такая передача может идти лишь в одном направлении, и более чем в 90 процентах случаев «подводящим» элементом бывает аксон, хотя возможна также передача с дендрита на сому или наоборот, а также с сомы на сому и с дендрита на дендрит. Передача на аксон возможна только с аксона же.
Синапсы могут располагаться как на боковой поверхности аксона (касательные синапсы), так и в его торце (концевой синапс). Будем в дальнейшем, для определенности, говорить именно об этих последних.
Та часть синапса, которая относится к подводящему импульс аксону, называется пресинаптической областью. Это — грушевидное образование, прилегающее к другой клетке (эффекторной) своим торцом. Соответственно область контакта со стороны эффекторной клетки называется постсинаптической. Полного контакта между мембранами двух клеток, однако, нет: они отстоят друг от друга на расстоянии порядка нескольких стотысячных долей миллиметра; пространство между ними (синаптическая щель) занято гелеобразной массой и некоторыми организованными структурами, напоминающими протоплазматические.
В пресинаптической области имеются синаптические пузырьки, заполненные раствором медиатора — чаще это ацетилхолин, соединение структуры
СН3—СО—О—СН2—CH2—N+(СН3)3.
С приходом волны потенциала действия в пресинаптическую область происходит выброс ацетилхолина в синаптическую щель. Он диффундирует к постсинаптической мембране, где связывается специальными рецепторами, в результате чего меняется ее проницаемость по отношению к определенным ионам, так что наступает локальное падение разности электрических потенциалов, и на эффекторной клетке начинает развиваться волна потенциала действия.
Тут следует обратить внимание на еще одно удивительное свойство возбудимых мембран. После того как по клетке прошла волна потенциала действия, ей требуется некоторый «отдых». Этот промежуток времени, необходимый для восстановления возбудимости, называется рефрактерным периодом. Если молекулы ацетилхолина, связавшиеся с рецепторами постсинаптической мембраны, останутся на своих местах большее время, чем составляет продолжительность рефрактерного периода, поддерживая разность потенциалов пониженной, потенциал действия возникнет еще раз, затем еще — и так до устранения причины: «сидящих» на рецепторах молекул ацетилхолина. Собственно, как отмечалось, они не «сидят» непрерывно, их взаимодействие с рецептором — процесс динамический, каждое мгновение какое-то количество связанных молекул рецепторы покидает, а какое-то количество свободных рецепторами захватывается.
Однако в синаптической щели находится фермент ацетилхолинэстераза, интенсивно разрушающий ацетилхолин:
СН3—СО—О—СН2—СН2—N+(CH3)3+H2О →
СН3—СООН+HO—CH2—CH2—N+(CH3)3,
так что у молекулы медиатора, «снявшейся» с рецептора, не так уж много шансов уцелеть за время, необходимое для повторного связывания.
В течение рефрактерного периода ацетилхолинэстераза «очищает» синаптическую щель (а следовательно, постсинаптическую мембрану) от молекул ацетилхолина, а когда постсинаптическая мембрана восстановит возбудимость, новая волна потенциала действия уже не разовьется, если, конечно, к тому времени не поступит новый импульс на пресинаптическую мембрану, вызывающий новый выброс ацетилхолина в синаптическую щель, и т. д.
Ацетилхолинэстеразу можно блокировать специфическим ингибитором — например, изопропиловым эфиром фторангидрида метилфосфониевой кислоты, соединением структуры
которое образует с активным центром фермента очень прочный комплекс, и в результате наблюдается то, что и следовало предвидеть, исходя из описанного механизма, — эффекторная клетка самопроизвольно генерирует импульс за импульсом.
Наше описание процесса синаптической передачи по необходимости является лаконичным, упрощенным и даже местами окарикатуренным; на самом деле молекулярная организация основных его этапов известна ныне в гораздо больших подробностях. Но, согласитесь, даже знакомясь с этими механизмами в столь поверхностном изложении, нельзя не восхищаться силой творческого гения исследователей, сумевших воссоздать всю эту картину, расшифровать столь непростые процессы и даже сознательно в них вмешиваться, как в случае только что рассмотренного элегантного эксперимента с изопропиловым эфиром фторангидрида метилфосфониевой кислоты.
Это ли не триумф современной науки, вообще человеческого разума!
Изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфониевой кислоты более известен как зарин — одно из самых страшных боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия.
Не скрою, очень был велик соблазн обойти молчанием химию боевых отравляющих веществ — самый омерзительный раздел науки о биологически активных соединениях. В конце концов, эта книга — не отраслевая энциклопедия, и если составить перечень важных проблем и вопросов, в ней не затронутых, он окажется гораздо более длинным, чем список проблем обсужденных. Но обдумывая план очередного раздела, я постоянно сталкивался с необходимостью привести в подтверждение того или иного аргумента, в развитие некоторой идеи пример именно из области химии боевых отравляющих веществ (так для краткости принято называть эту отрасль, с позволения сказать, науки; конечно, помимо химиков, здесь работают и токсикологи, биофизики, биохимики и т. п.).
Ибо химия боевых отравляющих веществ очень интенсивно ассимилирует все новые идеи, достижения и открытия современной биологии, органической (в особенности элементоорганической) химии, других дисциплин — вполне мирных и даже кажущихся до поры до времени, как говорят, «оторванными от жизни». Да и у истоков создания химического оружия, увы, стояли многие видные химики нашего столетия. (Я говорю, конечно, о современной версии химического оружия; скажем, отравление колодцев в тылу у неприятеля практиковали еще в глубокой древности.)
Те несколько книг по химии боевых отравляющих веществ, которые мне довелось прочесть, написаны, несомненно, очень квалифицированными специалистами от биохимии и токсикологии. Читаешь в общем-то привычный текст, местами оценишь остроумную теорию, в рутинных ситуациях можешь самостоятельно продолжить мысль автора на несколько абзацев вперед. Ведь с точки зрения молекулярных основ, химизма, физиологии — нет никаких принципиальных различий между этими трудами и книгами, скажем, по фармакологии или по пестицидам. Почему же стороннему читателю так не по себе? Может быть, потому, что параллельно тексту воображение воспроизводит субъективные ощущения жертвы газовой атаки?
Один вдох, другой — и человек бессильно опускается на землю. Еще не понимает, что произошло (в голове страшный шум), невдомек ему, почему ни руки, ни ноги его не слушаются. Страшные судороги сводят все тело, невыносимая боль, но крикнуть уже нельзя, дыхание перехватило. Сердце еще кое-как работает, снабжая кровью раскалывающийся мозг, и остатки угасающего сознания регистрируют лишь неописуемую муку.
Именно это следует из очень квалифицированного текста и безупречно правильных формул.
Жуткой лабораторией отработки химического оружия и способов его применения стала первая мировая война, в особенности вторая ее половина.
Погожим, безмятежным апрельским утром 1915 года на шестикилометровом участке немецко-французского фронта с немецкой стороны были сосредоточены шесть тысяч баллонов, содержащих сто восемьдесят тонн хлора. Легкий ветерок дул в сторону французских позиций. По команде были откручены шесть тысяч вентилей, и зеленоватое облачко неторопливо поплыло в сторону французских окопов. Всего было поражено пятнадцать тысяч человек, из них пять тысяч — смертельно. Уцелевшие очевидцы описывали поистине Дантовы сцены, разыгравшиеся в окопах. А ведь это было только начало; вместо хлора появились гораздо более токсичные (или, на циничном языке специалистов — эффективные) газы. Среди них стоит отметить широко с тех пор известные — фосген (дихлорангидрид угольной кислоты) — COCl2, и иприт — дихлордиэтилсульфид, S(CH2—СН2—Cl)2.
Название «фосген» у каждого ассоциируется прежде всего с ужасами газовой войны; между тем он производится в больших количествах для получения продуктов сугубо мирного назначения, а также часто применяется химиками в исследовательской работе, например, при синтезе пептидов. Я спросил как-то у знакомого пептидного химика, трудно ли ему было получить разрешение на работу в лаборатории с фосгеном. Он ответил почти без улыбки:
— Мы не работаем с фосгеном. Мы работаем с дихлорангидридом угольной кислоты.
Совсем маленькое отступление по поводу чисто персональному. Несколько разделов этой книги озаглавлено очень просто — именем и фамилией ученого, чьи результаты в них обсуждаются. И вот — после имен Эмиля Фишера, Пауля Эрлиха — Фриц Габер. Достойная ли фигура в этом ряду?
Если рассуждать абсолютно бесстрастно, несомненно достойная. «Габер был одним из крупнейших физикохимиков начала этого столетия, — пишет встречавшийся с ним академик П. Л. Капица. — Он нашел способ получать аммиак, связывать азот из воздуха. Его метод до сегодняшнего дня остается лучшим, наиболее широко применяемым (это говорилось в 1969 году, но справедливо и сегодня. — С. Г.). Весь азот сейчас фиксируется методом Габера. Способ фиксации атмосферного азота был им найден накануне первой мировой войны. Благодаря этому открытию Германия могла продолжать войну, поскольку она начала производить из аммиака селитру, которую раньше она ввозила из Чили».
По рассказам людей, близко знавших Габера, — а среди них оказались и такие светила, как Р. Вильштеттер и Дж. Франк — это был очень жизнелюбивый, веселый человек, брызжущий юмором, большой любитель путешествий. «Во время одной из моих поездок, — рассказывал он в кругу друзей, — я был измучен тяжким зноем и с удовольствием окунул голову в бадью деревенского колодца. Увы — я забыл, что нахожусь в Альвоне, где, как вам известно, вода имеет свойство менять облик пьющего. И представьте себе, как раз в то время, когда я пил, подошел огромный бык и тоже погрузил свою морду в воду. Ну и случилась беда — он ушел с моей головой, а я с тех пор…»
Или, например, такая сцена в ресторане Дубровника — города, который совершенно очаровал Габера:
— Официант, принесите мне гроб. И узнайте, сколько стоит место на здешнем кладбище.
Вот если бы можно было ограничиться этими сведениями о Ф. Габере — был бы, как говорится, образ и т. д. Но ограничиться никак нельзя.
В начале первой мировой войны германское военное ведомство обратилось к нескольким крупным ученым-химикам с предложением разработать средство, с помощью которого солдат противника можно было бы «выкуривать» из окопов; первоначально еще не имелось в виду их непосредственное поражение. Габер, в то время директор знаменитого Института физической химии и электрохимии имени кайзера Вильгельма в Далеме, с большим энтузиазмом взялся за эту работу; именно он был автором идеи первой газовой атаки с применением хлора, наладил производство иприта.
Здесь следует указать на одну неточность, проникшую в некоторые публикации на эту тему. А именно: Габеру приписывается открытие иприта; на самом деле это соединение было известно гораздо раньше.
Предполагается, что дихлордиэтилсульфид получали многие химики в качестве компонента смесей, образующихся в результате некоторых реакций. Впервые, по-видимому, это сделал Ш. Депре еще в 1822 году, затем Ниман — в 1860-м, а вскоре после него Гутри. Два последних исследователя отметили, что полученный ими продукт обладает сильным раздражающим действием на кожу. В 1864 году, как полагают, это соединение было получено Ришем, и, наконец, в 1886-м В. Майер синтезировал β1β-дихлордиэтилсульфид и установил его структуру. Ее правильность была подтверждена в 1912 году Кларком, который также модифицировал способ синтеза, предложенный Майером.
Во время первой мировой войны в Германии для получения иприта использовалась технология, в основе которой лежал метод Майера — Кларка, в Англии и США производство базировалось на методе Нимана — Гутри.
Иприт был впервые применен немцами в июле 1917 года в боях у бельгийской реки Ипр, отчего и произошло его нынешнее название. В Германии его первоначально называли «Лошт» — сокращенное от фамилий двух химиков, Ломмера и Штайнкопфа, которые под руководством Габера работали над его применением.
В 1916 году Габер становится начальником германской военно-химической службы; хотя он имел лишь звание капитана, он командовал всеми операциями по использованию боевых отравляющих веществ, их производству и разработке новых видов химического оружия. К сожалению, он оказался не только выдающимся химиком, но и великолепным, неутомимым организатором, прирожденным лидером. И в большой мере благодаря этим его качествам химическое оружие стало ужасной повседневной реальностью первой мировой войны.
Но вот в 1919 году, едва отзвучали последние этапы и высохли последние капли иприта, Габеру присуждается Нобелевская премия за работы по получению аммиака. Нобелевский комитет был буквально завален возмущенными протестами выдающихся ученых; и именно тогда впервые публично заговорили об ответственности ученых перед человечеством.
…Два соединения, применявшиеся во время первой мировой войны как боевые отравляющие вещества, были открыты еще в XVIII веке знаменитым химиком К. Шееле. В 1774 году он впервые получил хлор, а в 1782-м — синильную кислоту, которую, кстати, не преминул испробовать на вкус: «Это вещество имеет странный, но не неприятный вкус, граничащий со сладостью, и несколько жгучий». И никто, между прочим, не пытался возложить на Шееле моральную ответственность за их применение в химической войне. Откуда, в самом деле, мог он знать, как распорядятся потомки его открытиями сто с лишним лет спустя.
Конечно, совершенно иной была мера моральной ответственности Габера. Продолжая и после войны возглавлять институт в Далеме, престиж которого в ученом мире был очень высок, он тем не менее так никогда и не сумел вернуть себе авторитет среди коллег.
«Габер был крупнейшим химиком, нобелевским лауреатом, абсолютно первоклассным ученым, — завершает свое повествование о нем П. Л. Капица. — Но когда к власти пришел Гитлер, он должен был покинуть Германию, несмотря на все свои заслуги перед страной, потому что был евреем.
Он приехал в Англию, в Кембридж. В Кембридже лишь немногие захотели поддерживать с ним дружеские отношения, и он чувствовал себя очень одиноко. Мы, физики, Резерфорд и все остальные, совершенно не были склонны встречаться с ним, потому что в моральном отношении он не отвечал нашему представлению о действительно большом ученом. В Кембридже он прожил недолго. Переехал в Швейцарию, где вскоре умер.
Я рассказал вам случай с Габером. Мораль: нельзя служить одновременно богу и мамоне».
По совершенно другому поводу, в иных конкретно-исторических условиях и не предвидя скорее всего судьбы Фрица Габера, вопрошал Александр Сергеевич: совместны ли гений и злодейство?
Всего в первую мировую войну было применено 125 тысяч тонн боевых отравляющих веществ; общие потери от них составили около восьмисот тысяч человек.
Во время второй мировой войны одна только Германия располагала потенциалом в 180 тысяч тонн различных видов химического оружия, бóльшая часть (125 тысяч тонн) приходилась на иприт, однако наиболее опасными были новые типы отравляющих газов: уже известный нам зарин, а также табун и зоман. Все они — фосфорорганические соединения, обладающие нервно-паралитическим действием. Их создание было завершено в Германии незадолго до начала войны; по токсичности они превосходят иприт в десятки раз. К этой же группе и по химической природе и по характеру действия относится более поздняя разработка — газы VX.
К счастью, во второй мировой войне не дошло до широкого применения отравляющих газов; каковы бы ни были тому причины, остается лишь благодарить за них судьбу.
Более сорока лет прошло с момента окончания второй мировой войны; как бы хотелось, чтобы о химическом оружии можно было уже говорить исключительно в прошедшем времени!
В последнее время появились немалые основания для оптимизма — заключено советско-американское соглашение о ликвидации химического оружия. Однако весь мир уже буквально им нашпигован, и полное его изъятие — дело совсем непростое… Судите сами: пока специалисты высоких договаривающихся сторон наведывались друг к другу в гости на самые наисекретнейшие до недавнего времени полигоны, на иранско-иракском фронте шла настоящая химическая война!
К середине восьмидесятых годов армии всех государств мира располагали не менее чем 500 000 тонн боевых отравляющих веществ. Причем четверть этого количества существует в виде, «готовом к употреблению», — 3 миллиона артиллерийских снарядов, тысячи бомб, — остальное в виде запасов.
Как будто именно в связи с проблемой хранения такого огромного количества отравляющих веществ возникла впервые идея бинарных газов. В самом деле, со временем содержащиеся в хранилищах или снарядах отравляющие вещества разлагаются, частично утрачивают токсичность. Для боевых целей они уже не годятся, но все же еще очень токсичны, и, скажем, при их уничтожении приходится преодолевать огромные технические трудности, чтобы обезопасить персонал и окружающую среду. С другой стороны, при хранении такого огромного количества ядовитых газов неизбежны случайные утечки — смертельно опасные для лиц, обслуживающих соответствующие арсеналы. Наконец, в боевых условиях попадание случайного осколка в такую вот бомбу или снаряд неминуемо приведет к самым тяжелым последствиям.
Идея бинарного газового оружия заключается в том, что бомба или снаряд заполняются двумя нетоксичными компонентами, которые, лишь реагируя друг с другом, образуют собственно токсический агент. Их смешение происходит уже после выстрела снаряда или сбрасывания бомбы; храниться они могут порознь, так что даже при случайных утечках обоих компонентов опасности нет.
Разумеется, помимо модернизации традиционных отравляющих веществ, ведутся и изыскания новых. Опять же, крайне странные ощущения испытываешь, встретив на страницах специальной литературы предложение использовать в качестве химического оружия вещества, очень хорошо известные из повседневного быта.
До недавнего еще времени обычны были надписи на бензобаках автомобилей: «Этил — яд!» Этилом здесь панибратски именовался тетраэтилсвинец, добавляемый в бензин для предотвращения детонации горючей смеси. Надо сказать, что с первых дней его появления в качестве добавки к бензину санитарные врачи объявили ему бой, оказавшийся очень неравным и потому крайне затянувшимся. Лишь сравнительно недавно начались попытки изъятия этилированного бензина из употребления (впрочем, и по сей день этот процесс далеко не завершен, а во многих странах даже и не начат). Причем злые языки среди токсикологов утверждают, что решающую роль в искоренении тетраэтилсвинца сыграет вовсе не их, токсикологов, убийственно-веская аргументация, а появление новых, более дешевых антидетонаторов, которые совершенно случайно окажутся к тому же и менее токсичными.
На один литр бензина обычно добавляется порядка одного грамма тетраэтилсвинца; если это количество распределить равномерно в ста тысячах кубометров воздуха (сделать это легко, поскольку тетраэтилсвинец очень летуч) — предельно допустимая концентрация все еще будет превышена в два раза. А в минуту автомобиль сжигает 100–200 миллилитров бензина, находясь же на оживленной городской магистрали, мы постоянно можем насчитать лишь в самой непосредственной близости пару десятков автомашин с работающими двигателями. Правда, большая часть тетраэтилсвинца разлагается на менее токсичные продукты при сгорании, кроме того, он неустойчив на свету, но даже и с учетом этих обстоятельств…
Обо всем этом вспоминаешь, встречая в книге З. Франке «Химия боевых отравляющих веществ» следующий абзац:
«Современные средства обеспечивают применение тетраэтилсвинца в качестве отравляющего вещества. Это — чрезвычайно сильный яд, который может применяться в соответствующих тактических смесях, чему благоприятствует его легкая растворимость почти во всех ОВ. Его исключительно коварное, обычно необратимое отравляющее действие заставляет считать тетраэтилсвинец страшным оружием».
Легко проникая через кожу, тетраэтилсвинец вызывает главным образом расстройства высшей нервной деятельности, ингибирует многие ферменты, образует прочные комплексы с белками-переносчиками, воздействуя на гипоталамус, приводит к тяжелым нарушениям гормональной регуляции и т. п. — одним словом, полностью оправдывает отнесение к группе общеядовитых боевых отравляющих веществ.
Как уже отмечалось, тетраэтилсвинец — соединение сравнительно нестойкое; оно разлагается в присутствии серной или азотной кислоты, галогенов и др., так что можно было бы надеяться, что вскоре после запрета на использование злополучного этилированного бензина следы тетраэтилсвинца в окружающей среде исчезнут; останутся, правда, соли свинца — продукты его распада, но они уже гораздо менее токсичны. Оказалось, однако, что в природе протекает и обратный процесс алкилирования свинца и других тяжелых металлов микроорганизмами. В донных осадках пресноводных водоемов и морей встречаются бактерии, превращающие неорганические соединения ртути в метилртуть или диметилртуть (тоже страшные яды); аналогичным образом они вовлекают в обмен свинец, кадмий, олово, даже золото.
Тем самым становится возможным выход алкилироизводных этих элементов в воду и далее в атмосферу (все соединения этого класса летучи).
Нередко в специальной литературе приводятся впечатляющие примеры способности рек к самоочищению. Вот, мол, у такого-то населенного пункта концентрация тех же свинца или ртути недопустимо высока; столько-то километров ниже по течению она уже в десять раз меньше, а через три раза столько считай, что ни того, ни другого элемента в воде больше нет. Так все на самом деле и обстоит, однако успокаивать нас это не должно: ни ртуть, ни свинец не исчезли ведь бесследно. Они поглощены водными организмами, сорбированы взвешенными в воде частицами и в конечном счете оказываются в донных отложениях, откуда, рано или поздно, начнут выделяться, причем, возможно, в виде соединений гораздо более токсичных, как в только что рассмотренных случаях.
В последнее время среди разработчиков химического оружия появилась «гуманная» тенденция. Надо, мол, не убивать противника совсем, а только на время лишить его способности к сопротивлению.
С одной стороны, для этих целей годятся известные еще с первой мировой войны раздражающие газы, например, вызывающий сильный приступ кашля адамсит или слезоточивые газы (хлорацетофенон и др.). Последние, как известно, состоят на вооружении полиции во многих странах, нередко пускаются в дело, постепенно становятся чем-то обыденным и в серьезных дискуссиях о химическом оружии почти не упоминаются. Гораздо большее внимание уделяется психохимическим отравляющим веществам. Известны, например, соединения, вызывающие галлюцинации, состояние глубокой апатии или, наоборот, панического страха (именно военные химики демонстрировали еще в пятидесятых годах выразительный фильм: кошка, находящаяся под действием такого снадобья, пугается мыши и в ужасе убегает).
Пока о психохимическом оружии известно немного; неясно, в частности, как его собираются применять: большинство психотропных соединений нелетучи, нужно заставить противника надышаться их пылью или проглотить. Однако оставим наконец военных химиков с их темными проблемами, отметив лишь с сожалением, что они опять оказались первыми в освоении новейших достижений биологической науки, на этот раз усиленного ее проникновения в загадки химизма высшей нервной деятельности.
Конечно, вещества, влияющие на психику человека, вовсе не изобретение наших дней. У самых еще древних народов известны были дурманящие ритуальные напитки из различных трав и грибов.
Кстати, военные химики не пренебрегли и этим опытом. Например, в качестве потенциального психологического оружия исследовался яд псилоцибин из гриба псилоциба мексикана, использовавшегося как раз для приготовления одного из ритуальных напитков в Мексике.
Вспоминается и русское «белены объелся», и, наконец, алкогольные напитки, которые как будто были изобретены (на нашу голову) еще древними египтянами, шумерами, не то финикийцами. Издревле известен и опиум, и гашиш…
Можно с большой долей уверенности сказать, что человек научился производить и потреблять опий намного раньше, чем писать или, скажем, считать до ста. Классический способ его получения — на не зрелых еще коробочках опийного мака делаются надрезы, затем застывшие капельки выступившего из них сока соскабливаются. Из опия можно выделить основное его действующее начало — морфин. Молекула этого соединения не то чтобы уж чересчур сложна, но обладает рядом свойств, крайне неприятных для химиков, пытавшихся установить ее структуру. Этот процесс длился около ста пятидесяти лет; его результаты в принятом нами бесформульном описании могут быть представлены следующим образом. Вообразите себе молекулу фенантрена — этаких три сочлененных шестиугольных паркетины; над центральным кольцом перебросим мостик —СН2—СН2—N(СН3)—, два крайних же кольца соединим кислородным мостиком —О—. Остается пририсовать к этим двум кольцам еще по гидроксильной группе —ОН, и готова структурная формула морфина.
С незапамятных времен опий, а затем морфин, использовался врачами как обезболивающее, снотворное и успокаивающее средство, и с тех же самых пор было хорошо известно, что применять его надо с большой осмотрительностью. Морфин не только снимает боль, но и вызывает чувство особого наслаждения, приятные (поначалу) галлюцинации.
У человека, несколько раз принимавшего морфин, возникает привыкание к нему, он уже не может обходиться без наркотика. Это привыкание носит двойственный характер: различают привыкание психологическое — тяга наркомана к ощущениям, вызываемым морфином, и физическое — следствие патологических изменений в организме больного, прежде всего в нервной системе, при которых неполучение в срок очередной дозы наркотика ведет к мучительным страданиям. Постепенно организм адаптируется к наркотику, для достижения желаемого эффекта дозы приходится увеличивать… Страшен образ человека, «оказавшегося на крючке» неутомимо прогрессирующей моральной деградации, превращения в беспомощную развалину недавно еще цветущего молодого человека.
Особенно быстро и прочно развивается пристрастие к синтетическому производному морфина — диацетил-морфину, или героину; во многих случаях объективные признаки привыкания наблюдались уже после одной-двух доз. В средах, где наркомания широко распространена, несчастный молодой человек или девушка (часто еще школьники) получают эту пару первых доз от розничного торговца вообще бесплатно, с тем чтобы уже до конца своей недолгой и кошмарной жизни отдавать ему все, что имеют, все, что сумеют добыть любыми средствами, вплоть до грабежей и убийства.
И морфин, и героин действуют на так называемые центры положительных эмоций в мозге, причем лишь сравнительно недавно стало ясно (хотя бы в принципе), почему. Мозгом вырабатывается ряд пептидов, управляющих различными его функциями; особая их группа — эндорфины и энхефалины — выполняют, в частности, роль активаторов центра положительных эмоций. Более того, выяснилось, что морфин взаимодействует именно с рецепторами этих пептидов, в результате чего их стали называть… опиатными.
Подумайте только, где справедливость: в организме существуют особые биорегуляторы, выполняющие тончайшие функции (эндорфинам, в частности, приписывается важнейшая роль в защите от стресса); в каком-то маке находят алкалоид, «работающий» под них, взаимодействуя с их рецепторами, и вот их именуют по названию этого алкалоида (кстати, сам термин «эндорфины» есть гибридное образование на основе двух слов — ЭНДогенные мОРФИНЫ).
В точности, как морфин и его производные, эндорфины обладают обезболивающим действием. Именно в связи с исследованием обезболивающего эффекта многочисленных синтетических аналогов опиатных пептидов получил широкое распространение чуточку забавный тест «горячая тарелка» (hot plate): мышь или крысу помещают на конфорку электроплитки с закрытой спиралью, плитку включают. Через некоторое время животное чувствует, что лапки ему припекает, и соскакивает с конфорки; при этом мышки, находящиеся под действием обезболивающего препарата, замечают эти гораздо позже, чем контрольные. Первоначально надеялись (непонятно, впрочем, почему), что к опиатным пептидам не будет развиваться болезненное привыкание и окажется возможным создание на их основе новых мощных обезболивающих средств. Вскоре, однако, выяснилось, что привыкание все же наступает, к великому разочарованию пептидных химиков, уже предвидевших новую революцию в анестезиологии.
— Вас как оперировали, под общим наркозом или под местным? — привычно спрашиваем мы у знакомого, выписавшегося из хирургического отделения.
Тяжелая, неприятная штука этот общий наркоз, отвратительно ощущаются его последствия после пробуждения. И поэтому введение в практику хирургии местного обезболивания оказалось величайшим благом. Особенно могут это оценить те, которым, подобно автору этих строк, пришлось оперироваться и под общим, и под местным наркозом.
Широкое применение местного обезболивания при хирургических операциях началось с работ Карла Шлейха, использовавшего для этих целей кокаин. Вот как вспоминал Шлейх первое обнародование этих работ:
«В апреле 1892 года я сделал доклад на хирургическом конгрессе. Зал был переполнен, глаза находящегося здесь же моего отца блестели в ожидании триумфа сына. Сначала все шло хорошо; я обсудил теоретические и практические аспекты проблемы, описал полученные результаты и закончил свой доклад следующими словами: „Теперь, когда мы располагаем таким безопасным средством, считаю, что во всех случаях, когда местный способ обезболивания оказывается достаточным, мы по моральным, идейным и юридическим мотивам не имеем права применять опасное общее обезболивание!“
Едва я произнес эти слова, зал взорвался возгласами негодования. Это настолько застигло меня врасплох, что я едва не упал. Председатель звонил громко и непрерывно. Наконец, когда крики несколько поутихли, он попросил, чтобы те, кто разделяет точку зрения докладчика, подняли руку. Не поднялась ни одна рука.
Я громко крикнул:
— Прошу слова!
Однако старик-председатель бросил на меня испепеляющий взгляд и рявкнул:
— Нет!
Я пожал плечами и сошел с трибуны. Назавтра обо мне писали в газетах: „Удрученный докладчик с позором покинул зал“.
По выходе из зала мне было лишь очень жаль моего старого отца, который так много ожидал от этого доклада».
Общий наркоз, впрочем, тоже был встречен в свое время враждебно. Джеймсу Симпсону, который ввел в хирургическую практику хлороформный наркоз, пришлось выдержать яростный натиск с другой совершенно стороны — не от своих коллег, а от людей неумеренно религиозных.
— Господь бог послал нам боль в наказание за наши грехи; болью расплачиваются при родах женщины за первородный грех (Симпсон применял наркоз и при тяжелых родах). Мы не можем отводить кару божью и т. д.
На что Симпсон резонно возразил:
— А разве сам господь бог не произвел безболезненную операцию? Ведь когда он удалял ребро Адаму, он перед этим его усыпил!
Несмотря на неблагожелательную первую реакцию специалистов, кокаин вошел в хирургическую практику стремительно и повсеместно. Источником его получения являлись листья кустарника кока, произрастающего в Южной Америке и на острове Ява. (Эти же листья, кстати, используются и при изготовлении популярного напитка кока-кола.) При местном применении он вызывает потерю чувствительности, подавляя возбудимость нервных клеток. При проникновении в кровь значительных количеств кокаина наступает общее возбуждение, сменяющееся впоследствии торможением. После нескольких таких приемов может наступить привыкание к кокаину (кокаинизм); как и другие виды наркомании, кокаинизм вызывает многочисленные психические расстройства.
Именно благодаря тому, что кокаин стал широко применяться при хирургических операциях, в начале нашего столетия произошла вспышка кокаинизма в Европе и Северной Америке. Нередко обращаются к кокаину охваченные упадническими настроениями или просто морально опустившиеся герои русских писателей этого периода: Л. Андреева, А. Куприна, А. Толстого. Число любителей «нюхнуть кокаинчику» — чаще всего кокаинисты принимали его именно таким образом, в виде нюхательного порошка — стало расти с угрожающей быстротой.
Начались поиски аналога кокаина, который бы обладал столь же сильным обезболивающим действием, но не оказывал влияния на психическую сферу. Довольно скоро, в 1905 году, был синтезирован новокаин — вещество, лишь очень отдаленным образом напоминающее кокаин по структуре, но являющееся почти столь же эффективным анестетиком.
«Замена в медицине кокаина новокаином, — пишут М. Гудмэн и Ф. Морхауз, — привела к тому, что достать кокаин стало гораздо труднее — весьма желательное социологическое следствие лабораторных исследований». Распространение кокаинизма стало уменьшаться. Правда, по свидетельству тех же авторов, в самое последнее время подпольные производители наркотиков, вооружившись современной химической технологией, вновь занялись производством кокаина и сбытом его по своим каналам. Опять все та же история: химия породила зло, сама его уничтожила и сама же впоследствии реанимировала.
А все-таки, можно ли винить безымянного изобретателя топора за то, что вчера некий утративший человеческий облик пьянчуга бросился на соседа именно с топором?
От прямого ответа современный скептик Янечек скорее всего уклонится, но не без резона проворчит, что тошно, мол, ему от успехов современной биологии в выяснении химизма нервной деятельности, точнее, от плодов, которые они в конце концов приносят: то изуверски извращенные средства массового уничтожения, то наркомания в разнообразнейших оттенках, да и соседствующие довольно близко с наркоманией массовые злоупотребления успокоительными и снотворными средствами. А бессовестное и тоже очень массированное вторжение биологически активных препаратов — нейротропных в том числе — в современный спорт?
Есть у Ильфа и Петрова несколько рассказов о довоенных футбольных болельщиках, в том числе и с таким заглавием. О немыслимой толчее вокруг московского стадиона «Динамо» в день футбольных матчей, простодушных и преданных его посетителях, об их женах, которым на ходу приходится объяснять разницу между инсайтом и офсайдом, наконец, о племяннике, разбудившем среди ночи своего сызранского дядю телеграммой о результатах матча СССР — Турция: «Поздравляю счетом три два пользу сборной тчк Турции выделялся левый край Ребии зпт большим тактом судил Кемаль Рифат зпт обрадуй тетю».
Многие, видимо, из читателей этой книги, да и автор ее тоже, в свое время были в той или иной мере футбольными болельщиками. Потом набрыдло: нудно, уровень, по мировым или хотя бы европейским меркам, так себе, а тут еще сообщения прессы о «веселых» футбольных матчах, исход которых, как нам намекают, предрешен был еще до игры (пусть желающие почитают осенние газеты 1983 года, когда минское «Динамо» вышло в чемпионы). Что говорить, не тот нынче спорт, нет уже бескорыстных любителей, отдающих своему хобби свободное время (именно свободное — а так ли его уж много у современного человека?). Или, скажем, могут ли теперешние гимнастки, выходящие «в тираж», не перевалив и за двадцать, поверить тому, что каких-нибудь три десятка лет назад некая советская гимнастка стала чемпионкой мира (или Европы, не помню сейчас, да и несущественно это), имея тридцать четыре года и четверых детей?
— Да разве можно сравнивать? — воскликнет энтузиаст современного спорта. — За эти тридцать лет в спорте произошла не одна даже, а несколько революций! Я думаю, та же гимнастика со своей тогдашней подготовкой могла бы сейчас претендовать в лучшем случае на второй разряд! Вы взгляните на те виды спорта, в которых прежние и нынешние результаты можно сопоставить количественно. Вон штангисты поднимают ныне в двоеборье столько же, сколько раньше в троеборье!
Что правда, то правда. Не выиграл бы сейчас знаменитый в прошлом силач Григорий Новак с теми результатами, которые он показывал в сороковых годах, не только первенства мира или Европы, но, пожалуй, и рядовых соревнований на уровне области с умеренными тяжелоатлетическими традициями.
Столь же бледно выглядят на фоне современной таблицы мировых рекордов результаты других штангистов — чемпионов мира пятидесятых годов: Самсонова, Иванова, Чимишкяна, «феноменального» Томми Коно. Именно на примере тяжелой атлетики более всего заметны тенденции, определившие эволюцию современного спорта за последних два десятилетия.
…Случилось мне недавно ехать в одном вагоне с группой штангистов. Ребята все до невероятности мясистые, у некоторых грудная клетка подпирает под подбородок. Оказавшийся в нашем купе тренер, отнюдь не заморыш, выглядел на их фоне худощавым, если не хилым. Когда он отлучился, чтобы заняться какими-то делами со своими подопечными, два остальных моих спутника, как и я, люди далекие от спорта, затеяли спор. Один доказывал, что все эти горы мышц наращены потому исключительно, что ребята, мол, «колют себе и глотают всякую гадость», другой — что такое совершенно немыслимо, поскольку это было бы неэтично, аморально, да, пожалуй, и противозаконно. Именно он и попросил возвратившегося в купе тренера разрешить их спор. Тот ответил вполне равнодушно:
— Теперь без химии приличного результата не покажешь.
Точно таким же тоном мог бы ответить, скажем, железнодорожник на вопрос дилетанта о том, применяются ли пластмассы в вагоностроении. Именно тон этого ответа поразил меня тогда более всего, ибо о фактах применения «в их деле» анаболических стероидов мне приходилось читать не раз и в специальной литературе, и в совершенно неспециальной.
Вот хотя бы фрагмент интервью Войцеха Реверского — научного консультанта Польского олимпийского комитета:
«Некоторые рекорды, особенно в тяжелой атлетике, были когда-то получены благодаря применению анаболических стероидов, и их утвердили. Так случилось потому, что тогда еще у нас не было методов определения анаболических стероидов, мы не имели возможности констатировать присутствие этих соединений в организме. Вот уже более десяти лет такой контроль ведется, хотя обычно спортсмены и спортивные деятели ориентируются, на каких соревнованиях он будет, а на каких нет.
…Говоря о вреде, буду говорить только и исключительно с позиций фармаколога. Этот вред меньше при краткосрочном или разовом допинге и намного больше при длительном, когда применяют анаболические стероиды или тестостерон — иногда неделями или месяцами.
Последствия различны у мужчин и женщин. У представительниц лучшей половины нашего рода появляются признаки мужеподобия, чрезмерное оволосение, изменение внешнего вида, голоса. Происходят также изменения в психике, в поведении.
У мальчиков наблюдается преждевременное созревание, а также замедляется рост.
Совершенно иные неприятности ожидают мужчин. Понижается половое влечение. Знаю случаи, когда великолепно сложенные спортсмены, прямо-таки Геркулесы, имели проблемы в контактах с женщиной. Считаю, что было бы ошибкой не предостеречь и о том, что анаболические стероиды оказывают разнообразное отрицательное влияние на секрецию других гормонов, нарушают деятельность печени, вызывая иногда гепатит. Однако наиболее опасно их онкогенное действие на печень. Такие случаи были описаны, однако их неохотно ставят в зависимость от постоянного приема анаболических стероидов».
Анаболические стероиды: неробол, дураболин, нандролин, ретаболин, молекулы которых близки по строению рассмотренным выше стероидным гормонам, вызывают интенсивный прирост мышечной массы. (В сельском хозяйстве многих стран это свойство подобных стероидов используется для увеличения привесов скота.) если прекратить их применение за более или менее длительный срок до начала соревнований, обнаружить их в крови или моче уже трудно.
Впрочем, не на одних анаболиках растут рекорды. Международный олимпийский комитет (МОК) подразделяет допинговые средства на пять групп: психостимуляторы, симпатомиметические средства, стимуляторы нервной деятельности, наркотические анальгетики и, наконец, анаболики. Всего список препаратов, запрещенных МОК, в 1980 году насчитывал 1000 соединений.
Помимо этого, международные федерации отдельных видов спорта имеют свои списки, свои системы допингового контроля. Вот, например, как он был организован во время первенства мира по футболу в 1986 году в Мексике. Как сообщал тогда начальник медицинской службы при «Мундиале» Аурелио Перес Тойффер, была создана специальная лаборатория, оборудованная наисовершеннейшими техническими средствами, позволяющими обнаружить следы некоторых допинговых средств спустя шесть месяцев после их применения. В то время в списке ФИФА содержалось 56 наименований допингов; анаболики не входили в их число, однако на мексиканском чемпионате было решено объявить запрещенными и их, а также кофеин и… алкоголь.
В перерыве между двумя таймами каждого матча жеребьевкой определялись по четыре игрока из каждой команды; их имена некоторое время держались в тайне и сообщались тренерам или врачам команд лишь за 15 минут до окончания встречи. В случае положительного результата анализов его можно было опротестовать в течение двенадцати часов.
Все как будто организовано солидно, продумано в мелочах, но не дает не только стопроцентной, но даже более скромной уверенности в результатах контроля. Идет постоянная война между разработчиками средств такого контроля и создателями новых допинговых препаратов, а также способов их применения, направляемых как раз на обход этих средств. Перевес в этой борьбе постоянно на стороне допинг-фармакологов; оно и понятно: пока контролеры выявят факт применения нового средства, найдут способ его определения, наконец, добьются его включения в перечень запрещенных — фармакологи предложат десятки или даже сотни новых препаратов, выявить которые утвержденным комплексом контрольных процедур нельзя. Да и немыслимо бесконечно расширять такой комплекс.
«На Олимпийских играх 1980 года, — пишут Г. М. Баранбойм и А. Г. Маленков в своей книге „Биологически активные вещества“, — было взято 2468 проб, при этом случаев применения допингов не было зарегистрировано. Что это — высокая спортивная честность или торжество допингов над средствами их обнаружения?»
В цитированном выше интервью В. Реверского говорилось о вреде применения стероидных препаратов, но ведь и все прочие допинговые средства безвредными не назовешь. И это не секрет ни для кого, не исключая самих спортсменов и уж, конечно, тренеров. Назойливо возникает вопрос: почему же они идут на это?
Я его задал одному знакомому спортивному деятелю. Тот ответил примерно так: подготовка спортсменов высшего класса в современных условиях — это очень жестко организованный технологический процесс, здесь не до сантиментов. От спортсмена требуется полное самопожертвование. Дались тебе эти допинги! Как будто паренек, прыгающий на лыжах с трамплина метров этак на сто пятьдесят (скорость доходит до 110 километров в час), не знает, что шанс стать инвалидом у него от этого резко увеличивается. Мальчишки и девчонки, которым нет еще десяти, попав в сферу большого спорта, так никогда детства и не увидят — все их время и силы без остатка должны быть принесены на алтарь…
И сунул мне в руки статью бывшего рекордсмена мира по плаванию С. Белиц-Геймана, указав такой ее фрагмент: «…видя, как молодые мастера безответственно относятся к собственной персоне, не могу не сказать — остановитесь! Побеждают аскеты, а не те, кто идет на компромисс, садясь перед стартом за руль собственного автомобиля или… съедая пирожное».
Надо полагать, случай с пирожным автором статьи не вымышлен, и какая-то реальная пловчиха (лет этак четырнадцати) понесла суровейшее наказание за этот возмутительный в своем цинизме проступок. Возможно, ее вообще изгнали из большого спорта, и тогда несколько лет спустя она сумеет оценить, как ей здорово повезло. Даже если никаких допингов в ее спортивной карьере не было и не предвиделось.
Многим из читателей, по-видимому, доводилось слышать рассказы людей бывалых о дальневосточных охотниках, которые, отправляясь на много недель в тайгу, брали с собой бутылочку настойки из корня женьшеня. Валящийся с ног таежный скиталец, измотанный тяжелыми переходами, погодой, да и голодом, одолеваемый одной лишь мыслью — где-то прилечь (ясно сознавая, что может больше и не встать), в такие вот трудные минуты доставал заветную бутылочку и отпивал из нее совсем маленький глоток. И вновь откуда-то появлялись силы, восстанавливалась воля к жизни, преодолевались километры, отделявшие его от спасительного убежища.
Еще тысячелетия назад восточная медицина использовала корень женьшеня при лечении почти всех заболеваний; считали его панацеей и многие европейские средневековые медики (кстати, латинское название женьшеня — Panax ginsengi — по-видимому, отражает это обстоятельство). И что, пожалуй, более всего примечательно — современные медики, столько уж раз язвительно изобличавшие идею панацеи, старательно восстанавливают эту репутацию женьшеня.
То есть, конечно, никто не печатает статей типа «Женьшень — все же панацея», «К обоснованию панацейных качеств корня женьшеня» или тому подобных. Они действуют иначе. Один публикует сообщения о прекрасных результатах лечения, скажем, глаукомы, препаратами женьшеня, у другого с их помощью бурно идет выздоровление уремического больного, третий только женьшенем исцеляет безнадежно запущенную неврастению, ну и далее в том же духе; если внимательно порыться в специальной литературе, можно собрать коллекцию болезней, уступающих перед женьшенем, дающую полное основание для объявления этого последнего именно панацеей — средством, почти столь же эффективным, как знаменитые еще недавно «мертвая» и «живая» вода, АУ-8 или возложение рук самой Джуны.
(В этой коллекции может оказаться также (совсем, впрочем, маленькая) заметка автора этих строк. Ирония, знаете ли, иронией…)
Мистических всяких историй и легенд, связанных с женьшенем, имеется превеликое множество — и старых, и современных, и европейских и, в особенности, азиатских. Китайцы вообще отводили корням растений почетное место в различных культовых обрядах и верованиях, а корень женьшеня к тому же часто по форме напоминает фигурку человека. Те немногие экземпляры, которые мне доводилось видеть, ее даже и близко не напоминали, однако, вся, абсолютно, литература о женьшене на этом настаивает. Иногда можно встретить забавные примеры внушаемости авторов. Скажем, в МСЭ приведен рисунок. Изображены на нем: «1 — цветущее растение» (вместе с корнем; корень себе как корень, как у петрушки, например); «…3–7 — различные формы корней». Вот тут действительно прямо как на выставке «Природа и фантазия» — и сидящий толстяк, и старик с клюкой, и человек, с трудом поднимающийся по лестнице…
Медики, биохимики, фармакологи, которые обычно не прочь позлословить по поводу суеверий и предрассудков, связанных с женьшенем (вот и я отдал дань традиции), смеются в конце концов сами над собой. Ведь действительно целебные эффекты женьшеня во многих проявлениях — бесспорный факт; так в чем же дело, дорогие друзья? Берите свои масс-спектрометры, газовые хроматографы, изотахофорезы и что там еще у вас есть и установите наконец, какие такие вещества содержатся в этом самом женьшене. Может, и нет нужды гоняться за проклятым корнем, а какой-нибудь завалящий заводик в Лельчицах или Луге наводнит страну синтетическим препаратом, содержащим действующее начало женьшеня; и еще, глядишь, окажется, как не раз уже бывало, синтетический препарат намного эффективнее и надежнее природного.
В разговоре на эту тему наши ироничные ученые собеседники окажутся намного сдержаннее. Видите ли, ответят они вам, действующих-то веществ в корне женьшеня не одно, не два и даже не десять. В сущности, толком никто не знает, сколько. Здесь и гликозиды, и сапонины, и эфирные масла (причем за каждым из этих названий — целая группа соединений); выделить и охарактеризовать химическое строение каждого индивидуального соединения очень непросто, а там еще нужно исследовать его фармакологическое действие… Словом, сейчас нет и речи о том, чтобы составить полный каталог биологически активных веществ корня женьшеня, а если еще вспомнить, что действие смеси может сильно отличаться от суммы эффектов компонентов, и вовсе руки опускаются. Так что в ближайшее время не проектируется строительство заводов синтетического препарата женьшеня ни в Луге, ни даже в Лельчицах.
А спрос тем временем растет, а запасы дикорастущего женьшеня, мягко говоря, не увеличиваются. Правда, с давних пор растят чудодейственное растение в культуре — сперва на его родине, на Дальнем Востоке, а в последнее время и в других регионах (недавно, например, писали об энтузиасте-любителе, выращивающем прекрасный женьшень в Пуховичах, недалеко от Минска). Беда, однако, в том, что женьшень в культуре очень капризен, причем мельчайшее нарушение сложной агротехники сказывается не только на урожае корней, но и в первую очередь на их качестве, на содержании биологически активных веществ. Не услышать нам, видно, ликующего голоса теледиктора: «Рабочие Н-ского совхоза закончили уборку корней женьшеня на шести с половиной тысячах гектаров», и не придется научным сотрудникам института философии перебирать на овощной базе «напоминающие по форме фигуру человека» корни женьшеня, отделяя подмерзшие от неподмерзших.
Решить «женьшеневую проблему» взялась современная биотехнология, точнее, то ее ответвление, которое базируется на культуре растительной ткани.
Помещая в определенную питательную среду фрагменты тканей отдельных органов растений или даже единичные клетки, можно в хорошо контролируемых условиях заставлять их делиться; в зависимости от добавления в среду различных биологически активных компонентов происходит либо нарастание бесформенной массы ткани, либо даже развитие целого растения. Можно проделать такую операцию и с тканью корня женьшеня, а отсюда, ясно, уже только один шаг до получения биомассы корня в промышленных условиях!
Отметим сразу, что сделать этот шаг было вовсе не так просто, но в конце концов он был сделан. В настоящее время уже несколько заводов Министерства медицинской и микробиологической промышленности освоили производство биомассы корня женьшеня по технологии, разработанной под руководством Инессы Васильевны Александровой (ВНИИ биотехнология). Если кому-либо из читательниц приходилось пользоваться кремом «Лесная нимфа» — знайте, он приготовлен на экстракте из этой биомассы. А вскоре как будто на заводах министерства будет выпускаться и тонизирующий напиток на женьшене. А рассказывают еще… Впрочем, хватит о ширпотребе: самое главное — настойка на искусственно выращенной биомассе корня получила разрешение на применение в медицинской практике.
Методом культуры растительной ткани современные биотехнологи получают многие ценные природные соединения или комплексы соединений. Приведу в заключение один из примеров, скорее забавных.
Пару лет назад попалась мне в руки отличная сводка о выходе на японский рынок новых биотехнологических продуктов. Я споткнулся на препарате под названием «шиконин», получаемом методом культуры растительной ткани. В графе «Примечания» значилось загадочное «Віо-LipsticK» — «биологическая губная помада»(?).
Некоторое время спустя один весьма сведущий человек объяснил мне со смехом, что речь идет о натуральном ярко-красном красителе из дальневосточного растения, русское название которого — воробейник. Этот краситель нетоксичен, очень ярок, устойчив, обладает антисептическими свойствами — словом, идеальный для косметики. И вот японцы начали выращивать в культуре окрашенные клетки воробейника.
Однажды на заседании Немецкого химического общества выступала некая сильно напомаженная, накрашенная, нарумяненная и т. п. дама.
— Я представляю фирму «Лаки и краски», — начала она.
— Это видно, — язвительно бросил председательствующий.
Любопытно было бы взглянуть, как выглядит представительница расторопной биотехнологической фирмы, получившей в результате право добавить к названию своего товара, на этот раз губной помады, важную приставку «био». Прекрасно идет современный покупатель на товар, содержащий только натуральные компоненты: натуральную кожу, натуральный мед, натуральный краситель, натуральный шелк; и отлично учитывают эту тенденцию создатели абсолютно всякого товара. Вот и мой высокоученый друг и многократный соавтор, доктор биологических наук Г. В. Никифорович выпустил в серии «Эврика» книгу о синтетических пептидах под названием «Почти природные лекарства».
Эмиль Фишер в молодости мечтал — о чем уже писалось — научиться готовить себе полностью синтетический завтрак. Аппетиты современных нейрохимиков куда больше: они хотят понять химизм таких процессов, как сон, обучение, выявить химические основы агрессивного поведения, страха, пытаются разложить на элементарные звенья механизмы столь сложных наших чувств, как любовь, милосердие, тоска по родине или близким. Опять оставим в стороне вопрос о том, как они собираются распорядиться добытыми знаниями (да и распоряжаться-то будут, видно, не сами ученые), остановимся лишь на некоторых наиболее интересных гипотезах, выдвинутых в последнее время. Речь, подчеркиваю, идет только о попытках объяснения сложных психических функций с позиций нейрохимии, о более или менее правдоподобных предположениях. Не все специалисты принимают их безоговорочно, и вполне может оказаться, что описываемые ниже схемы в действительности не существуют или организованы гораздо сложнее; я привожу их здесь скорее как иллюстрацию того, о чем думают современные исследователи.
Большая часть биорегуляторов, которым приписывается какая-то роль в управлении процессами высшей нервной деятельности, — пептиды, причем наряду со вновь открытыми соединениями эту функцию выполняют, как оказалось, и многие уже известные пептидные биорегуляторы, выполняют как бы «по совместительству», параллельно с известной ранее, например, гормональной. Исследования в этой области ведутся чрезвычайно интенсивно, полученные результаты весьма интересны (хотя часто не бесспорны); не желая их перечислять скороговоркой, предпочту отослать читателя к только что упомянутой книге Г. В. Никифоровича, где они освещены достаточно полно.
Среди прочих биологически активных веществ, участвующих в регуляции психических функций, следует упомянуть катехоламины — адреналин и норадреналин. Это соединения очень простой структуры: возьмите фенольное ядро, присоедините к нему две гидроксильные группы —ОН и радикал —СНОН—СН2—NH2 и вы получите норадреналин; адреналин отличается от норадреналина лишней метильной группой —СН3. (В организме животных адреналин и образуется в результате метилирования норадреналина.)
Адреналин был выделен еще в начале нынешнего века из надпочечников как фактор, повышающий кровяное давление. Действует он очень избирательно: кровеносные сосуды кожи под его влиянием сужаются, сердца — расширяются, а мозга и легких — не реагируют на адреналин вовсе. Норадреналин повышает кровяное давление во всех сосудах.
Другая важная функция адреналина была рассмотрена выше достаточно подробно.
Катехоламины действуют и на гладкую мускулатуру других органов, принимают участие в процессах, происходящих в нервной клетке. С действием катехоламинов на гладкую мускулатуру и нервную ткань связано их участие в регуляции деятельности мозга. В комплексе эффект повышенной секреции катехоламинов проявляется в увеличении выносливости, большей активности, ускорении реакции, приливе оптимизма, веры в свои силы.
Здесь опять стоит вернуться к разговору о допингах. Именно аналог адреналина — эфедрин нередко употреблялся хоккеистами, футболистами, представителями других игровых видов спорта; лет десять назад было несколько скандалов по этому поводу на крупных соревнованиях. Эфедрин (он отличается от адреналина наличием одной дополнительной метильной группы) более устойчив в организме. В последнее время, видимо, его не рискуют применять в качестве допинга: разработаны очень надежные методы контроля.
Психиатры обратили внимание на определенное сходство изменений психики, наступающих под действием катехоламинов, и симптомов, наблюдающихся при некоторых маниакальных состояниях. И точно, у таких больных была обнаружена повышенная секреция катехоламинов!
Лет уже двадцать длится массовое, в некоторых странах буквально повальное увлечение бегом трусцой. Врачи, приветствуя это явление в целом, обусловливают свое одобрение многочисленными оговорками: только если почки в порядке… не бегайте, если у вас болит то-то и то-то… и ни в коем случае, если у вас больные суставы (по американским данным они вполне здоровы только у 10–15 процентов населения). И помимо непременных назиданий об умеренности (появилось немало фанатиков, доводящих себя бегом до изнеможения), о необходимости всякий раз советоваться с врачом, вам напомнят о жертвах бега трусцой («джоггинга» по-английски) даже среди знаменитых в прошлом спортсменов, скончавшихся прямо на пробежке: австрийской теннисистке Карен Кранцке, западногерманском гребце Карле Адаме и нашем Владимире Куце — многократном рекордсмене мира в… беге на длинные дистанции.
Правда, чувствуется, что врачи говорят это скорее для перестраховки, что в целом бег трусцой они все же очень одобряют, и, конечно, их предостережения не следует воспринимать как антиджоггинговую пропаганду. Тем более что им могут напомнить: в списке жертв джоггинга не одни только спортсмены, но и, например, директор института кардиологии в Майами Роберт Саммерс, ученый с мировым именем.
Поклонники и пропагандисты джоггинга, как кажется, на предостережения врачей особого внимания не обращают. Впрочем, большая часть любителей просто бегают, по своему усмотрению выбирая продолжительность, трассу, время и никакой особой пропагандой не занимаются, разве что в беседе с приятелем выскажут что-то вроде того, что, мол, с весны, как возобновил пробежки, напрочь забыл о покалываниях в сердце и работоспособность явно улучшилась. С другой стороны, как и в любом деле, есть и фанатики, утверждающие (не всегда бескорыстно), что джоггииг — это и религия, и система политических ценностей, путь к подлинной духовной свободе и т. п. Вот некоторые из лозунгов, имевших хождение в различные годы: «Джоггинг — путь к внутренней гармонии!», «Это приятнее алкоголя и марихуаны!», «Чудесное самочувствие!», «Ощущение счастья всем телом!», «Джоггинг доставляет больше удовольствия, чем наркотики, кока-кола, деликатесный салат, некурение табака (курение табака) и секс».
Врачи, систематически исследовавшие большие группы любителей бега трусцой, действительно выявили среди них лиц, которых длительная пробежка приводит в состояние эйфории; сами джоггисты обратили на это внимание еще раньше и в своей среде называли таких бегунов «лосями».
Дальнейшее, по-видимому, угадать уже нетрудно. Биохимические исследования «лосей» показали: в ходе пробежки у них увеличивается секреция катехоламинов, что и дает им в конечном счете совокупность перечисленных выше приятных ощущений — большей активности, веры в свои силы, оптимизма и т. п.
Только ли в катехоламинах здесь дело, можно ли такое объяснение феномена «лосей» считать исчерпывающим, сказать не берусь, но, согласитесь, на первый взгляд оно выглядит вполне убедительным. Впрочем, и сам этот феномен — что-то не вполне повседневное, редкостное, в представлении большинства, быть может, не вполне нормальное. Возможно, и поэтому тоже его объяснение не кажется чересчур уже смелым вторжением науки в загадочную сферу наших чувств.
Намного больше претензий (и, очевидно, связанный с этим риск) у тех нейрохимиков, которые замахиваются на столь же приземленное объяснение тех сложных и прекрасных чувств, которые мы с детства привыкли рассматривать как священные, например, любви. Любви материнской, любви к Родине, любви женщины и мужчины.
Именно последний случай исследуется нейрохимиками и нейроэндокринологами особенно интенсивно; речь при этом идет не о физиологических аспектах (здесь эндокринология может объяснить довольно много, частично об этом писалось выше), а именно о психологических.
Остановимся на описании модели чувств влюбленного, развиваемой американским исследователем Д. Либовицем. Она крайне проста.
Анализируя состояние влюбленности, Либовиц выделяет две фазы. Первую можно назвать фазой радужных надежд. Влюбленные охвачены эйфорией, в упоении строят планы своего будущего счастья (часто иллюзорные), испытывают огромный прилив энергии, оптимизма, исполнены различных положительных эмоций, веры в собственные силы.
Узнаете? Ну конечно же, это типичная картина, наблюдающаяся при повышении уровня катехоламинов. Именно их усиленная секреция, по Либовицу, и определяет основные особенности психики и поведения влюбленных в первой фазе.
Затем наступает фаза взаимной привязанности; характерная для первой фазы активность и предприимчивость сменяется стремлением к покою и тихому счастью в обществе друг друга. А разлука, даже непродолжительная, сопровождается душевными страданиями, приступами более или менее выраженной депрессии. Помните, у Пушкина:
Либовицу не составляет никакого труда объяснить и это состояние. Во второй фазе секреция катехоламинов возвращается к норме, но мозг начинает усиленно продуцировать эндорфины — эндогенные опиаты, действующие на центр удовольствия. Причем их выделение индуцируется общением с любимым человеком. А если он надолго отлучается, прекращается и образование эндорфинов. Что в этом случае должно произойти с человеком, привыкшим на протяжении довольно длительного времени к повышенным их дозам?
То же, рассуждает Либовиц, что и с морфинистом, лишенным внезапно привычного зелья: депрессия, вялость, душевные муки…
«Вот и вся любовь». Эта несколько вульгарная поговорка из современного городского фольклора как нельзя лучше подходит в качестве резюме к нашему описанию теории Либовица. В самом деле, сначала временно усиливается образование катехоламинов, затем эндорфинов, всего-то и делов… Правда, остается вопрос: каким образом «включается» в первой фазе повышенное выделение именно катехоламинов, во второй — эндорфинов и (самое, пожалуй, неясное) почему в период разлуки уровень эндорфинов резко падает? Либовиц ограничивается лишь общими предположениями на сей счет.
Нельзя не отметить, что гипотеза, предложенная Либовицем для объяснения механизмов возникновения тоски влюбленного, пребывающего в разлуке со своей милой, на первый взгляд подходит и для истолкования с позиции нейрохимии страданий, причиненных другими видами разлук. Мало ли примеров острой, переходящей в депрессию тоски, наступающей при разлуке с матерью или очень хорошим другом? Даже собака при длительном отсутствии любимого хозяина впадает в меланхолию, теряет аппетит. Наконец, сходные ощущения мы испытываем не только при разлуке с близким человеком. Не ту же ли природу имеет и тоска по родине — большой или малой? По отчему дому, по родному заводу, по любимой работе вообще.
Аналогия здесь действительно просматривается, и некоторые авторы считают, что возникновение этих страданий также может быть объяснено на основании механизма, предложенного Либовицем. Правда, в приведенных случаях уровень эндорфинов до момента разлуки повышенным не был, откуда же тогда явления типа наркотического голода? Помните, Каштанка, горько тоскующая по своим хозяевам, с умилением вспоминает, как издевался над ней хозяйский сын: давал проглотить кусочек мяса, привязанный к нитке, а потом вытаскивал из желудка обратно?
Гипотеза Либовица проста, логична и очень трудно уязвима. В самом деле: чтобы проверить ее экспериментально, нужно измерить уровень эндорфинов у подопытного субъекта до того, как он влюбился, затем выждать начала второй фазы его чувства, опять измерить, затем разлучить на некоторое время с любимой или любимым и измерить еще раз.
Организовать все это совсем непросто, тем более что речь идет именно об эндорфинах. Их образование зависит от очень многих труднорегулируемых факторов, скорость его может резко меняться, так что для получения статистически достоверных результатов придется взять «в опыт», как говорят физиологи, очень большое количество людей.
Но это еще ничего, как-нибудь преодолели бы мы все эти трудности. Самое существенное препятствие — процедура определения уровня эндорфинов. Они образуются в мозге, здесь же почти целиком и расщепляются, так что любой надежный способ определения уровня эндорфинов у злосчастных влюбленных связан с необходимостью проделать небольшое отверстие в черепе. А на это, пожалуй, не согласятся даже самые бедовые добровольцы, фанатично преданные идеям научного прогресса.
Далее, если обсуждаемая гипотеза и верна, то она включает лишь отдельные, может быть, наиболее важные элементы химических механизмов, лежащих в основе развития описываемых изменений психики. Уже сейчас известно, например, что сходные явления депрессии связаны с изменением секреции ряда гормонов, в частности, тиреотропина и соматостатина.
И все же, согласитесь, возникает при чтении таких материалов чувство… ну, приниженности, что ли. Благороднейшие души и ярчайшие умы рода человеческого подарили нам сотни тысяч прекрасных страниц стихов и прозы, воспевающих одно из самых восхитительных и светлых человеческих чувств, и вот может оказаться, что для полного и исчерпывающего его описания достаточно двух-трех немудреных кинетических уравнений, характеризующих процессы образования и деградации каких-то там катехоламинов и эндорфинов!
Глава 6
Главная область применения
В канцелярии крупного химического института секретарь сортирует поступившую почту. Мне бросается в глаза брошюра, на обложке которой — трогательный акварельный рисунок, букетик полевых цветов. Мышиный горошек, василек, колокольчик, вьюнок — последний особенно удался художнику — эта, знаете, неуловимая, нежнейшая розоватость.
Брошюрка оказывается рекламным проспектом датской фирмы, производящей гербициды.
Не так еще давно изучали девятиклассники предмет «Основы дарвинизма». Всякое приходилось при этом зазубривать, в том числе и такое, что к великому Дарвину никакого отношения не имело и уж наверняка не вызвало бы его сочувствия. Однако не было ничего неестественного в том, что курс основ общей биологии носил именно упомянутое название; еще и спустя более ста лет после появления «Происхождения видов» дарвиновское учение остается элементом, дисциплинирующим (надеюсь, это не звучит вызывающе?) теоретическую биологию.
Нет, по-видимому, нужды напоминать лишний раз о том, как была встречена теория естественного отбора научной и, в особенности, ненаучной общественностью. Уничижающие выпады, язвительнейшие реплики, появляющиеся в прессе, звучащие с амвонов и подмостков кабаре, Дарвин перенес с тем большим хладнокровием, что в это время в уединении отдавался целиком захватившим его исследованиям движений органов растений. Этой проблемой он продолжал заниматься до конца жизни, выполняя внешне несложные, но очень хорошо продуманные опыты или просто наблюдая растения в своем саду. У пришедшего к нему работать садовника кто-то спросил, как ему нравится новый хозяин.
— Милый, симпатичный джентльмен, — ответил тот. — Только страшный бездельник. Часами гуляет по саду, может пятнадцать минут, не отрываясь, глазеть на какой-нибудь цветок.
Друзья Дарвина, сторонники и пропагандисты теории естественного отбора, порой рассматривали это новое увлечение чуть ли не как дезертирство, уход от все еще продолжавшейся борьбы. Какие-то проростки, усики лиан, опыты, словно позаимствованные из школьного руководства для практических занятий по ботанике, — и это после создания грандиозной общебиологической теории, буквально потрясшей основы научного мировоззрения! В действительности, конечно, это было вовсе не так. В предисловии к «Происхождению видов» Дарвин писал: «Я могу здесь сообщить только общие заключения, к которым я пришел, иллюстрируя их несколькими фактами, которых, я надеюсь, будет тем не менее достаточно. Никто более меня не сознает необходимости привести со временем все факты, на которые опираются мои заключения, как я и надеюсь это исполнить в непродолжительном будущем». Вся последующая деятельность Дарвина, как отмечал еще К. А. Тимирязев, представляла собой попытку выполнить это обещание, и трудам о движениях растений он придавал в этом смысле огромное значение.
Однако его публикации на эту, казалось бы, весьма специальную тему неожиданно также стали объектом жесткой, недружелюбной критики.
Один из самых известных специалистов того времени в области физиологии растений, немецкий профессор Ю. Сакс: «Читатель, поверхностно знакомый с нашей литературой, будет, вероятно, несколько удивлен тем, что я ни в одной из лекций не упоминаю большой книги Дарвина „Способность к движению у растений“ (1880). Но я могу только сожалеть о том, что имя Чарлза Дарвина стоит в заголовке. Опыты, которые он описывает вместе со своим сыном, поставлены без знания дела и плохо истолкованы, а то немногое хорошее, что можно найти в книге, например, в отношении общих взглядов, не ново».
Директор Петербургского ботанического сада К. Регель:
«Знаменитый английский ученый Дарвин выставил в новейшее время смелую гипотезу, что существуют растения, которые ловят насекомых и даже едят их, но если мы сопоставим вместе все известное, то должны будем прийти к заключению, что теория Дарвина принадлежит к числу тех теорий, над которыми всякий здравомыслящий ботаник и естествоиспытатель просто смеялся бы, если бы она не исходила от прославленного Дарвина».
Немецкий профессор Визнер посвятил критике упомянутой работы Дарвина целую книгу; и здесь в адрес великого ученого направляются крайне суровые упреки.
Два обстоятельства обращают внимание. Во-первых, совершенно спокойная реакция Дарвина на эти грубые выпады. В ответе Визнеру он пишет в безмятежном тоне: «Могу только сказать, что чувствую себя совершенно пораженным различием наших взглядов… Впрочем, мое мнение значит очень мало, и я не сомневаюсь, что Ваша книга убедит большинство ботаников в том, что я не прав в тех пунктах, по которым наши взгляды расходятся».
Во-вторых же, последующее развитие биологической науки полностью подтвердило правоту взглядов Дарвина. Более того, в одном из его экспериментов, выполненном в ходе изучения движений органов у растений, современные исследователи видят корни открытия капитальной важности.
Среди прочих видов движения растений Дарвин исследовал фототропизм — способность различных органов поворачиваться или изгибаться в направлении источника освещения. С проростками канареечной травы он проделал такой опыт: на часть из них надел непрозрачные колпачки, закрывающие верхушку от света, у других — верхушку оставил открытой, но затемнил нижнюю и центральную части проростка.
Способность тянуться к свету сохранили только растения второй серии; значит, фоточувствительный элемент расположен в верхушке проростка.
На этом Ч. Дарвин остановился в своих рассуждениях, хотя, по мнению выдающегося советского ботаника Н. Г. Холодного, отсюда оставался один шаг до заключения о том, что в верхушке проростка выделяются некие вещества, регулирующие растяжение его клеток, причем выделяются неравномерно — преимущественно с затененной стороны, что и вызывает искривление стебелька в направлении источника света.
Идея, как будто и впрямь лежащая на поверхности, но окончательно сформулирована она была лишь в 1928 году именно Н. Г. Холодным и голландским исследователем Ф. Вентом.
Историки науки утверждают, что предположение о таком именно механизме фототропизма было все же высказано Дарвином в частном порядке некоторым ботаникам. Вообще, Дарвин был исключительно щедр в этом смысле; так, предположив электрическую природу процессов возбуждения ловчих органов насекомоядных растений, он предложил заняться изучением этого вопроса Бердон-Сандерсону, который в результате стал основоположником электрофизиологии растений.
Наличие в верхушечной части особых ростовых веществ было продемонстрировано на следующих простых опытах с проростками овса. При проращивании из зерна направляется вверх так называемый колеоптиль — сравнительно плотный цилиндрический чехлик, закрытый сверху и заключающий внутри первые листочки. Если срезать верхушку колеоптиля, а затем расположить ее на срезе таким образом, чтобы она касалась только части его, под действием попадающих на срез ростовых веществ начинается растяжение клеток именно с этой стороны, и весь колеоптиль изогнется в противоположном направлении. Вместо свежесрезанной верхушки колеоптиля можно использовать кусочек желатина или агара с вытяжкой из ткани, содержащей ростовое вещество.
Создание простого и очень чувствительного теста позволило начать поиск соединения или соединений, выполняющих функцию ростового гормона растений. Пути этого поиска оказались довольно извилистыми. В 1931 году голландский исследователь Кёгль в тесте с колеоптилями обнаружил, что в человеческой моче содержатся фракции, обладающие высокой ростостимулирующей активностью. В 1933 году Кеглю с сотрудниками удалось выделить в кристаллическом виде ростовое вещество, названное ауксином (от греческого «ауксано» — расту); ими же была установлена структурная формула этого соединения, оказавшегося довольно сложной органической кислотой. Еще через год соединение близкой структуры было выделено Кеглем из проростков кукурузы и названо ауксином б (первое вещество впредь стали именовать ауксином а). При выделении ауксина а из мочи постоянно появлялась еще какая-то фракция, стимулирующая ростовые процессы. Кегль назвал это соединение гетероауксином (то есть «другим ауксином») и выяснил вскоре, что это не что иное, как β-индолилуксусная кислота. Он полагал при этом, что гетероауксин в растениях не образуется, а его действие на процессы роста сводится к активации истинных ростовых веществ — ауксинов.
Потребовалось около двадцати лет для того, чтобы убедиться, что дело обстоит как раз наоборот: никаких ауксинов в растениях нет, а гетероауксин, он же индолилуксусная кислота, является важнейшим природным гормоном растений.
Правда, замысловатые формулы несуществующих ауксинов а и б еще довольно долгое время блуждали по страницам учебников и справочников. Помнится, в начале шестидесятых годов аспиранты, готовившиеся сдавать кандидатский экзамен по биохимии, с омерзением их зазубривали. Беднягам-то хорошо было известно из специальной литературы, что никаких ауксинов а и б нет, но программа есть программа…
Помимо стимуляции растяжения клеток, гетероауксин влияет и на многие другие процессы в растениях. Под его действием интенсифицируется деление клеток (то есть в отсутствие некоторого количества гетероауксина деление попросту не происходит). Вообще же физиологическая роль гетероауксина в растениях настолько разнообразна, что и по сей день не выяснена во всех деталях.
Известно, что процесс опадения листьев контролируется гетероауксином: перед опадением его приток из листа в черешок сильно сокращается. Обработка черешка гетероауксином предотвращает опадение. Особенно сложными кажутся механизмы регуляции гетероауксином процессов цветения и плодоношения. Он влияет на пол образующегося цветка, на, рост и формирование пыльцевой трубки. Установлено также, что рост плодов стимулируется гетероауксином, образующимся в семенах и поступающим оттуда в ткань плода. Если семена удалить, рост плода прекращается, однако он опять возобновится после того, как плодовая ткань начнет получать гетероауксин искусственным путем.
Каким образом «запускается» выработка гетероауксина в тот или иной момент в определенной ткани, пока не очень ясно; вообще, наши представления о молекулярных механизмах его действия — скажем, об организации рецепторных систем гетероауксина, характере инициируемых его взаимодействием с этими рецепторами процессов в растительной клетке — довольно ограниченны. И, пожалуй, исследователям, занятым изучением этих вопросов, остается утешаться лишь тем, что механизмах действия других гормонов растений нам известно еще меньше.
Ибо существуют еще и другие растительные гормоны, помимо гетероауксина.
Сюжет каждого детективного романа должен строиться в строгом соответствии с некоторыми правилами, неписанными, должно быть, хотя и не исключено, что кто-то позаботился и о четкой их формулировке. Одно из главнейших правил: будущий преступник должен быть представлен читателю не позднее, чем на пятой, от силы — десятой странице книги. Не как преступник, конечно, а под невинной личиной добродушного пастора, очаровательной девушки, энергичной медсестры, отставного полицейского комиссара, глуховатой пенсионерки и т. д. Этот краеугольный принцип построения детективных сюжетов вспоминается при знакомстве с историей открытия всех почти известных растительных гормонов, включая и рассмотренный только что гетероауксин. К тому моменту, когда ценой титанических усилий удается наконец выделить из растительного материала в чистом виде действующее начало очередного фактора роста или развития растений, оказывается, что это уже известное соединение. Так, та же индолилуксусная кислота была получена еще в прошлом веке и синтетически и выделена из ряда биологических материалов.
История открытия важнейшей группы растительных гормонов, гиббереллинов, также весьма поучительна и тоже вполне соответствует обсуждаемому канону жанра.
Существование в растениях особых соединений, «ответственных» за процесс формообразования, предположил еще в прошлом веке Ю. Сакс — тот самый суровый критик Дарвина. Эту гипотезу Сакса уже в 20–30-х годах нашего века принялись проверять многие исследователи, в том числе уже упоминавшийся Ф. Вент и советский фитофизиолог, впоследствии академик М. X. Чайлахян. Их работы в конце концов навели на след двух новых классов растительных гормонов: в первом случае — цитокининов (о них чуть попозже), во втором именно гиббереллинов. Точнее, и в истории открытия гиббереллинов также нужно различать два аспекта — получение их как химического продукта и идентификацию в качестве природных биорегуляторов высших растений.
Если говорить о выделении, приоритет бесспорно принадлежит японским ученым, исследовавшим фитопатогенный грибок гибберелла, поражавший посевы риса; заболевание сопровождается ненормальным ускорением роста стеблей, от чего пошло и японское название болезни — «бешеный рис».
Еще в 1912 году профессор Савада высказал предположение о том, что гриб выделяет некое стимулирующее рост вещество; затем его ученик Куросава показал это экспериментально, а в 1938 году группа японских же биохимиков под руководством профессора Ябуты получила из выделений гиббереллы кристаллический препарат активного компонента и назвали его гиббереллином.
Все эти события происходили, однако, вне всякой связи с работами по обнаружению гипотетических гормонов формообразования. М. X. Чайлахян предпринял поиск «гормона цветения», названного им условно флоригеном; между тем были выполнены исследования, показавшие, что гиббереллин (точнее, гиббереллины, поскольку тем временем выяснилось, что выделенный из гриба препарат представляет собой смесь близких по структуре веществ) в определенных условиях может вызывать цветение, а также, что он содержится в некоторых растительных тканях.
Уже в 60-х годах М. X. Чайлахяном, П. Брайеном и другими исследователями были получены веские доводы в пользу того, что гиббереллины являются эндогенными биорегуляторами, вызывающими, в частности, начало цветения. Это «в частности» в предыдущей фразе в высшей степени уместно, поскольку физиологические эффекты гиббереллинов, как и гетероауксина, чрезвычайно разнообразны. Подобно гетероауксину, гиббереллины стимулируют деление и, в меньшей мере, растяжение клеток. Они вызывают увеличение размеров цветков и некоторых плодов. Показано, что именно гиббереллины являются фактором выхода растений из состояния покоя.
При таком разнообразии проявлений биологической активности, да еще с учетом того обстоятельства, что в растениях одновременно присутствует несколько различных гиббереллинов, разобраться в организации механизмов их действия чрезвычайно трудно. Трудности усугубляются еще и тем, что по крайней мере некоторые эффекты гиббереллинов опосредованы через стимуляцию ими образования гетероауксина. Это очень интересный аспект проблемы; можно предполагать, что каскадный принцип организации системы гуморальной регуляции в животном организме в какой-то мере является характерным и для гормональной системы растений.
Упомянутые выше работы Ф. Вента по проверке гипотезы Сакса о существовании органообразующих факторов к открытию таких факторов не привели, однако показали, что корнем растения вырабатывается некоторое вещество (или вещества), необходимое для роста отдельных тканей надземной части.
Опять повторилась почти та же история, что и с открытием гетероауксина и гиббереллинов: совершенно независимо от работы Вента велись исследования группы соединений — производных пурина. Это — гетероциклическое соединение, представляющее собой сочлененные пяти- и шестичленный циклы:
Такое органическое ядро встречается во многих природных соединениях, но, конечно же, наиболее важные его производные — аденин и гуанин, входящие в состав нуклеиновых кислот и играющие важную роль в процессах энергетических превращений в организме и во внутриклеточных регуляторных системах.
Сначала просто была выявлена сильная ростовая активность группы производных пурина, и лишь впоследствии, уже в 60-х годах, стало ясно, что сходные соединения синтезируются и в растениях, образуя еще одну группу фитогормонов (их назвали цитокининами). Фактор, обнаруженный Вентом, также оказался при ближайшем рассмотрении цитокинином.
По разнообразию физиологического действия цитокинины не уступают гетероауксину и гиббереллинам: ускоряют деление клеток, увеличивают их размеры, повышают устойчивость тканей к неблагоприятным факторам среды, стимулируют прорастание семян. Их синтез происходит (во всяком случае, преимущественно) в кончиках корней.
К фитогормонам иногда относят еще некоторые соединения. Из ряда растительных тканей были выделены фракции, ингибирующие рост. Вскоре две группы исследователей сообщили об обнаружении в этих фракциях двух новых гормонов растений, которым тут же придумали звучные названия — абсцизин (латинское «абсцизио» — опадать, соединение вызывало опадение листьев) и дормин (латинское «дормео» — покоится, под действием препарата наступало состояние покоя у семян).
Химики принялись за установление структуры обоих гормонов; когда это удалось сделать, оказалось, что речь идет об одном и том же соединении — органической кислоте довольно сложного строения с лаконичным названием 3-метил-5(1′-окси-4′-оксо-2′,6′,6′-триметил-2′-циклогексен-1′-ил) — цис, транс-2, 4-пентадиеновая кислота. Разумеется, пользоваться таким названием на практике совершенно невозможно, и за новым биорегулятором закрепилось название абсцизовая кислота.
Абсцизовая кислота ингибирует самые различные процессы жизнедеятельности, причем ингибирует обратимо — после ее удаления все физиологические отправления ткани, органа или целого растения восстанавливаются и протекают вполне нормально. Помимо упоминавшихся явлений покоя и опадения листьев, абсцизовая кислота играет важную регуляторную роль в процессе созревания плодов, прорастания семян, регуляции водного режима растения и многих других.
В развитии процессов созревания плодов и опадения листьев принимает участие еще одно соединение, образующееся в этих органах на соответствующих стадиях. Это, по-видимому, наиболее простое вещество, которому когда-либо биохимики пытались придать статус гормона — обычный этилен, СН2 = СН2. Почти все специалисты по фитогормонам безоговорочно относят этилен к их числу, хотя он очень уж не соответствует сложившимся интуитивным представлениям о гормоне. Дело, впрочем, не в терминах, а в том совершенно непреложном факте, что этилен действительно образуется в растениях и действительно выполняет важные регуляторные функции в упомянутых процессах.
В целом гормональная система растений исследована все еще довольно слабо; помимо перечисленных, предполагается существование еще нескольких гормонов, причем такие предположения, как правило, опираются на более или менее четкие косвенные экспериментальные свидетельства.
Однако и имеющиеся ныне, пусть фрагментарные, сведения о фитогормонах составили теоретическую основу поистине революционных преобразований в растениеводстве, которые произошли в течение последних десятилетий.
Разумеется, различные формы «химической прополки» посевов использовались и до открытия фитогормонов; выше уже упоминался пример такого гербицида — разбавленная серная кислота, капельки которой скатываются с листьев злаковых и растекаются по хорошо смачивающимся листьям некоторых сорняков. На том же принципе было основано и применение растворов медного купороса.
Развитие учения о фитогормонах позволило поставить разработку средств химической прополки на научную основу, резко повысить эффективность их действия и избирательность. Ясно, что в зависимости от культуры, видов преобладающих сорняков, почвенно-климатических условий должны применяться различные препараты. В настоящее время в мире разрешено к использованию около 300 гербицидов; примерно половина этого количества применяется в СССР.
Как отмечалось, все природные биорегуляторы в концентрациях, намного превышающих физиологические, действуют угнетающе. Не составляют исключения, очевидно, и фитогормоны. Тот же гетероауксин (индолилуксусная кислота, ИУК), в малых концентрациях стимулирующий рост, в больших оказывается его ингибитором. Правда, индолилуксусная кислота — соединение сравнительно нестойкое, обладает она кое-какими другими недостатками, нежелательными для гербицида, применяемого в широких масштабах. Однако химикам удалось синтезировать ряд аналогов этого соединения, нашедших почти немедленное применение в качестве эффективных гербицидов. Наибольшее распространение приобрел препарат 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) и некоторые другие соединения, по строению своих молекул имеющие определенные элементы сходства с индолилуксусной кислотой; их называют иногда ауксиноподобными гербицидами.
Разница в чувствительности к этим соединениям между однодольными и двудольными растениями весьма велика — у двудольных она значительно выше. На этом основано применение 2,4-Д для освобождения посевов злаковых культур от двудольных сорняков, однако избавиться с его помощью от злаковых же сорняков, например овсюга, нельзя. Более того, широкое применение на протяжении многих лет 2,4-Д и родственных препаратов привело к появлению адаптационных эффектов, совершенно аналогичных тем, которые связаны с распространением антибиотиков: появлению разновидностей сорняков, обладающих повышенной устойчивостью к ауксиноподобным гербицидам, да и ко многим другим.
Некоторые специалисты сельского хозяйства видели выход в получении методами селекции сортов культурных растений, обладающих повышенной устойчивостью к гербицидам, и такие работы действительно были кое-где начаты. Но тут в ход событий вмешалась стремительно прогрессирующая генетическая инженерия растений.
Селекционеры, работающие традиционными методами, над созданием нового сорта трудятся годами и десятилетиями; современные же биотехнологи в течение буквально месяцев берутся получить нужным образом модифицированное растение. Очень важно при этом, что они весьма часто представляют себе, что и зачем делают.
Ныне ими предложено два основных подхода к повышению устойчивости культурных растений к гербицидам. Первый предполагает введение в геном растения гена фермента, интенсивно разлагающего гербицид; для этого необходимо сначала подобрать такой фермент, скажем, в каком-нибудь микроорганизме. Можно, однако, пойти и по другому пути: модифицировать системы, поражаемые гербицидами, таким образом, чтобы они приобрели устойчивость к нему. Эти положения, в частности, сформулированы в программе, намеченной в 1986 году к исполнению бостонской фирмой «Биотехника интернэшнл». Они продемонстрировали принципиальную возможность переноса гена фермента-детоксиканта на примере растения канолы. Устойчивость растения к гербициду возросла в результате в десять раз. Ген нормально наследуется, более того, являясь доминантным, обеспечивает также гербицидоустойчивость гибридов. Аналогичные операции проводятся и на растениях сорго, сои, злаковых.
В свою очередь, известная швейцарская фирма Сиба-Гейги получила методами генетической инженерии разновидность табака, в геном которого был введен ген, сообщающий устойчивость к гербициду атразину; более того, сельскохозяйственный исследовательский центр фирмы получил разрешение министерства сельского хозяйства США на проведение полевых испытаний. А надо сказать, что разрешения на полевое испытание объектов, полученных методами генетической инженерии, выдаются крайне неохотно и с большой осторожностью, причем не только в США.
Преклоняясь перед столь блестящими достижениями современной биологической науки, я тем не менее не перестаю терзаться одним сомнением. Напоминает мне это соревнование конструкторов пушек и создателей брони. Одни делают непробиваемую броню — другие увеличивают мощность пушки, те находят и на нее управу, а эти выдумывают новый всепробивающий снаряд и т. д. Не так ли случится и здесь: будут созданы культурные растения, устойчивые к большим дозам гербицидов, затем появятся столь же устойчивые сорняки, наука найдет способ поднять гербицидоустойчивость возделываемых культур, а сорняки опять следом.
Результат этой схватки кажется приблизительно ничейным, но на самом деле проигравшая сторона есть — это мы с вами. Ведь такой курс на решение проблемы борьбы с сорняками означает увеличение применяемых доз гербицидов. Между тем, как уже говорилось, и ныне вносимые их количества кажутся небезопасными. В абсолютных цифрах существующие нормы расхода гербицидов довольно невелики; скажем, для обработки одного гектара обычно требуется около одного килограмма 2,4-Д, то есть на квадратный метр приходится всего 100 миллиграммов гербицида. Однако поиск новых гербицидов на основе синтетических аналогов цитокининов дал соединения еще более эффективные. Недавно синтезированный препарат глин, также применяемый для борьбы с сорняками в посевах злаковых, вносится в количестве 10 граммов на гектар. На квадратный метр приходится тем самым ровно 1 миллиграмм.
Синтетическое получение в промышленных масштабах гиббереллинов или их структурных аналогов невозможно из-за сложности их молекул; оказываются слишком дорогими и препараты, получаемые на основе микробиологического синтеза гиббереллинов. Однако, как выяснилось, многие соединения, не имеющие никакого структурного сходства с гиббереллинами и не взаимодействующие, по-видимому, с их рецепторами, способны блокировать регуляторные системы, управляемые гиббереллинами, по механизму неконкурентного антагонизма, поражая какие-то «нерецепторные» их элементы или подавляя синтез гиббереллинов в растении. Их эффект оказался эквивалентным гиббереллиновой недостаточности у растений и проявился, в частности, в замедлении процесса растяжения клеток стебля, контролируемого гиббереллинами. Это позволило их применить для предотвращения полегания хлебов, образования «усов» у земляники и т. д. Эта группа соединений получила название «ретарданты» («замедляющие рост»). Наиболее распространенный и самый простой по строению представитель этой группы — хлорхолинхлорид [Cl—СН2—СН2—N(CH3)3]Cl; его коммерческие препараты широко известны под сокращенными названиями ТУР или ССС. У древесных плодовых деревьев ретарданты вызывают замедление роста побегов и ускоряют начало плодоношения; тем же препаратом ТУР с этой целью опрыскивают яблони и груши вскоре после цветения.
При возделывании ряда сельскохозяйственных культур возникает необходимость удаления листьев с растения. В виноградарстве этот прием необходим для повышения эффективности обработки растений противогрибковыми препаратами, в хлопководстве является непременным условием для машинной уборки.
Процесс опадения листьев индуцируется, как мы знаем, этиленом и абсцизовой кислотой. К сожалению, получение препаратов — аналогов абсцизовой кислоты (как и в случае гиббереллинов) — задача весьма непростая из-за сложности структуры этого соединения.
Что же до использования этилена в качестве дефолианта (так называются соединения, применяемые для сбрасывания листьев) — сделать это весьма трудно, поскольку это газ, плохо растворимый в воде. Поэтому исследователи пошли по пути поиска соединений, которые, попадая в растение, подвергались бы разложению с образованием этилена или интенсифицировали бы синтез этилена самим растением. Именно на втором пути были получены препараты, стимулирующие опадение листьев, однако широкое практическое их использование не начато. Не получил пока должного распространения и синтетический аналог цитокининов дропп, оказавшийся эффективным дефолиантом. На практике же чаще всего применяются агрессивные соединения, вызывающие ожоги листьев — хлорат магния, трибутилфосфат (бутифос), хлорат-хлорид кальция и др. Эти препараты вносятся в сравнительно больших количествах, создавая угрозу окружающей среде.
Синтетические регуляторы роста растений — аналоги фитогормонов находят и другие применения в сельском хозяйстве. С помощью ауксиноподобных препаратов: индолилмасляной кислоты, альфа-нафтилуксусной кислоты можно укоренять черешки растений, обычно черенками не размножающихся; обработка соцветий бессемянных сортов винограда гиббереллином применяется для увеличения размера ягод. Правда, как упоминалось, препараты гиббереллина довольно дороги; с целью экономии их расхода крымские виноградари предложили обматывать цветоножку обычным пластырем, на липкую поверхность которого нанесен гиббереллинсодержащий состав. При опрыскивании соцветий винограда расход гиббереллина составляет 30–50 граммов на гектар; интересно все же сопоставить стоимость сэкономленного гиббереллина и обматывания каждой цветоножки пластырем.
Вопрос читателям повестей и романов из жизни научных работников: о чем разговаривают, собравшись вместе, семь-восемь ученых, работающих в одной области? Речь не идет при этом не о каком-то протоколируемом совещании, а о встрече в обстановке вполне неофициальной, где каждый волен говорить, что ему вздумается.
Если верить авторам романов-повестей, возможны два главных варианта. Первый — все спорят до хрипоты о самых фундаментальных проблемах своей отрасли знания (здесь авторы не боятся пугнуть читателя выражениями вроде «несохранение четности при слабых взаимодействиях» или «экспрессия генов с сайт-специфическими мутациями») либо мирно балагурят на темы сторонние и сильно приземленные — скажем, профессор — Нестор соответствующей… логии смачно повествует о сборе и засолке рыжиков. По личным моим наблюдениям, эти две крайние формы бесед в жизни наблюдаются исключительно редко. В большинстве же случаев в подобных компаниях говорят о делах профессиональных, но каких-то второстепенных.
Примером может служить такая вот любопытная дискуссия. Может быть, впрочем, не столь уж любопытная, а даже заурядная.
Нет, видимо, такой области знаний, искусства, производства или всякой другой деятельности, в которой временами не обсуждался бы вопрос об использовании терминов, заимствованных из иностранных языков. («Как вы считаете, следует писать — сэндвич или сандвич?» — «Да зачем нам вообще этот иноземный термин, если существует прекрасное русское слово — „бутерброд“?»)
К этой же серии относится и подслушанная мной дискуссия, только велась она в среде химиков и касалась термина «пестицид».
Часть присутствующих склонялась к мысли, что вполне можно обойтись и без него, ведь уже прижилось в среде специалистов и неспециалистов выражение «средства защиты урожая». Другие возражали, что понятие «пестицид» — более широкое, и один из сторонников такой точки зрения задал присутствующим контрольный вопрос: а кто знает, что такое «лэмприциды»?
Все начали напряженно вспоминать. Существует, видите ли, огромное множество классификаций этих самых пестицидов. Наряду с только что обсуждавшимися гербицидами (буквально, травобойцами) есть еще и инсектициды — препараты против насекомых, «инсекта» по-латыни; фунгициды — противогрибковые, «фунги» — по-латыни же «грибы»; нематоциды — против круглых червей нематод; «родента» — по-латыни «грызуны», и средства от них, естественно, называются родентициды; акарицидами называются препараты для борьбы с клещами, ну и так далее, список этот можно было бы значительно продолжить. Каждый из присутствующих, видимо, бегло перебрал все это в памяти, но лэмприцидов никто, увы…
И тогда вопрошавший объявил с триумфом, что это — средства для истребления… миног. В Великих-де озерах в Америке расплодились они сверх всякой меры и стали истреблять ценные породы рыб. (У нас миногу принято считать деликатесом, и противопоставление ее «ценным породам» кажется странным. Впрочем, может быть, у них там несколько не те миноги или не те вкусы.)
Пришлось придумать химические средства для их истребления. Поскольку же минога по-английски lamprey…, вот вам и пример пестицида, не являющегося средством защиты урожая, с триумфом объявил эрудит. Кто-то из оппонентов, правда, вспомнил популярный газетный заголовок «Урожай голубых нив», но этот аргумент не приняли.
В продолжение этой темы хочу сказать следующее. Буквально назавтра после того, как были написаны эти строки, мне попалась на глаза заметка о предпринимаемых в Бразилии мерах борьбы с пираньей — мелкой, но исключительно зловредной хищной рыбешкой. Пираньи держатся стаями, нападая на жертву, вырывают куски мяса. Забредет, например, по колено в реку могучий бык, и вдруг вода вокруг его ног вскипает, становится красной. И вот он уже беспомощно рухнул в воду: в мгновение ока пираньи обглодали ноги до кости. Нападают они и на людей, а лакомясь попавшей в сети рыбой, выкусывают куски мяса вместе с сетями. Словом, во все времена была пиранья бичом Амазонки и других южноамериканских рек; «три маленькие пираньи — это один большой крокодил» — гласит индейская пословица.
И вот по непонятным причинам в последнее время пираньи стали быстро размножаться, пришлось искать какие-то меры борьбы с ними. Перепробовав многие средства — от динамита до крокодилов, — пришли к выводу, что единственной управой на пиранью может быть ядохимикат, убивающий икру пираньи. Уже подсчитано, что понадобится его 200 тысяч тонн.
Много было уже написано о факторе времени, о его решающей роли в век научно-технического прогресса. Собственно, и читать-то ничего на эту тему не нужно, достаточно оглядеться вокруг. Конец XX века — время людей исключительно оперативных, умеющих на лету оценить конъюнктуру, безошибочно выбрать то направление деятельности, которое сулит наибольшие шансы выхода на передовые рубежи в технике, в коммерции, в науке. В науке как раз оказывается очень важным «застолбить», по выражению специалистов, новое многообещающее направление, зафиксировать неким образом свой приоритет. Захваченный всеобщими веяниями, попытаю и я счастья на этом поприще.
Именно настоящим я хочу ввести в научный лексикон термин «пиранициды», имея в виду те вещества, которые бразильцы собираются использовать для истребления пираньи. Что это за вещества, я, конечно, не знаю, к программе искоренения пираньи никакого отношения не имею, но меня это нисколько не тревожит. Ведь в борьбе за приоритет совершенно аналогичным образом поступают сотни моих коллег во всем мире. Вот что действительно по-настоящему важно: не обошли ли меня? Должны же как-то называть свои препараты бразильские борцы с пираньей, и вдруг им в голову пришел как раз этот термин?
Конечно, спор о терминах — в науке вещь нередкая, но наверняка не самая интересная. И если даже не правы в конце концов придерживающиеся той точки зрения, что «пестициды» и «средства защиты урожая» — одно и то же, то в очень незначительной мере. Абсолютно подавляющая часть пестицидов, производимых ныне в мире, — это именно средства защиты урожая, и доминируют здесь три основные группы: гербициды, инсектициды, фунгициды.
История земледелия — это и история борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. В доземледельческие времена, по предположению, конечно, дикие предки нынешней пшеницы или кукурузы не образовывали сомкнутых массивов, растянувшихся на многокилометровых пространствах; наши же с вами не менее дикие предки должны были порядком набегаться, прежде чем им удавалось собрать пригоршню-другую колосьев или несколько початков. Для сравнения можно вспомнить наши собственные многокилометровые марши по пригородным перелескам, результатом которых оказываются полтора десятка подозрительной свежести сыроежек.
Вот и пришла кому-то в голову идея высевать съедобные растения на отдельных площадках. Тысячелетия спустя эти площадки достигали очень внушительных размеров, сотни и тысячи гектаров каждая. Даже тем, кто никогда не бывал августовской благодатной порой на Кубани или в Кустанайской области, хорошо знаком роскошный ландшафт: обильно колосящееся пшеничное поле от горизонта до горизонта. Знаком по многочисленным красочным плакатам и по повторяющимся из года в год фотографиям на первых страницах газет. Сетует, бывает, читатель на этот порядком уже примелькавшийся газетный штамп, тем более что фотокорреспонденции на эту тему, скажем, с Алтая, или из Крыма, или с белорусских полей ничем почти друг от друга не отличаются. Налево, до самого горизонта — пшеничное поле, направо — тоже до горизонта — пшеничное поле; поближе к фотокорреспонденту комбайн, аккуратно подравнивающий край поля. И берет порой не то чтобы зло, но удивление: что же это, сговорилась, что ли, вся наша пресса от Балтийского моря до Охотского (тем более что и тексты подписей под фотографиями совпадают с точностью до географических названий).
Так же думал, признаться, и я, до тех пор, пока несколько лет назад не попался мне летом в руки номер английской «Таймс». На первой странице, вверху, во всю ее ширину, помещалась хорошо знакомая фотография, и слева и справа раздольное пшеничное поле упиралось в горизонт, посередине, вдоль безукоризненно ровно скошенного края, двигался комбайн. Довершала эффект подрисуночная подпись: «Славно потрудились в этом году хлеборобы Южного Нортхэмпшира (впрочем, может быть, это был Северный Саутйоркшир). На площади… гектаров выращен урожай… Теперь первоочередная задача — убрать его в срок и без потерь. Приняв повышенные обязательства в честь…» Или, кажется, об обязательствах там речи не было, но и без этого иллюзия полнейшая. Что, если хорошенько поразмыслить, совершенно неудивительно: жители любой страны, северной или тропической, развитой или не очень, большой или малой, все же очень озабочены тем, какой в нынешнем году будет урожай. А то, что фото- (и не только фото-) журналисты не грешат разнообразием корреспонденций, право, не так уж важно.
С точки же зрения нашего повествования весьма важно другое: искусственно возделывая на таких вот бескрайних полях пшеницу, кукурузу, картофель, человек создает идеальные условия для размножения вредителей — насекомых, паразитирующих на культурных растениях. Ведь не только нашим пращурам приходилось подолгу шнырять в поисках хилых злаков, но также жучкам, гусеницам и прочим падким до них козявкам. Тогда они еще не имели титула «вредителей сельскохозяйственных культур».
Далее, не только повреждением посевов досаждают насекомые человеку. Среди них и малярийный комар, и страшная муха цеце, на совести которых миллионы загубленных человеческих жизней. Да кровососущий гнус, да термиты, разрушающие постройки, всякая бытовая нечисть: клопы, тараканы, моль, пухоеды. С симпатией, правда, отзываемся о трудолюбивых пчелках, натуральный шелк предпочитаем искусственному, а муравьев уважительно называем «санитарами леса» (не всех, впрочем; обнаружив караван мелких рыжих мурашей, бог весть откуда взявшийся, на кухне, любая хозяйка придет в отчаяние). Есть, правда, еще одна группа положительных и симпатичных насекомых, всякие жужелицы и наездники, уничтожающие насекомых вредных. Но это уже случай особый: «враг моего врага — мой друг».
Исследованием морфологии, анатомии, физиологии, экологии и т. п. насекомых занимается наука энтомология; если, однако, взять наугад несколько учебников энтомологии, окажется, что чуть не половина текста каждого из них посвящена описанию причиняемого насекомыми вреда и методам борьбы с ними. Разработаны и классификации этих методов; различают, например, химические методы борьбы (всевозможные ядохимикаты), биологические — использование паразитов насекомых, хищников, болезнетворных микроорганизмов, селекционные — выведение сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к вредителям, физические — воздействие радиоактивным облучением, лучами Рентгена, высокими или низкими температурами, ультразвуком. Говорят еще и об агротехнических, и механических, и каких-то других методах.
Почти вся эта мудреная классификация нашла отражение в известном стихотворении С. Михалкова (не думаю, чтобы при его написании поэт руководствовался какими-то специальными справочниками, скорее это еще один пример так называемой поэтической интуиции).
Стихотворению этому лет, видимо, за пятьдесят (обратите внимание хотя бы на давно уже изъятые из обихода «шкапы»); герой его решил проблему, продав диван («Хитрый дядя был Иван!» — справедливо заключает поэт). Отметим, что здесь нашли отражение настроения совершенной безысходности, капитулянтские даже, которые в те времена неминуемо появлялись у каждого, кто имел несчастье делить свое жилище с окаянными насекомыми.
…В очереди в химчистку мирно беседуют две пожилые женщины:
— Поверьте, я уже смирилась. До конца дней, думала, жить мне с этими клопами под одной крышей. Чего только не пробовала — дусты всякие, ДДТ и гексахлоран, керосин, ромашка — уж самим никакой жизни, а они только больше плодятся. И вот, знаете, приходит какая-то барышня, сан, говорит, эпидстанция, не беспокоят ли, мол, бытовые насекомые. Я, правду сказать, и не сразу сообразила, о чем это она, а та и скажи — клопов, мол, нет ли. Есть, говорю, дорогая, есть. Сколько душеньке угодно. Ну что ж, говорит, обработку будем проводить. Не очень-то, по правде говоря, и хотелось — сколько уж мы сами обрабатывали, а все без толку. А вот представьте: побрызгала своим средством (вонючее, правда, очень, хлорофос называется), и уж который год горя не знаем, вывелись все до одного.
Наиболее эффективные приемы химической борьбы с сорняками были разработаны, как явствует из только что приведенных примеров, на основе результатов солидных фундаментальных исследований: выявления основных механизмов химической регуляции в организме растения. Гормональная система насекомых гораздо сложнее и в очень многих деталях толком не изучена по сей день. С другой стороны, организация целого ряда биохимических и физиологических процессов у насекомых и млекопитающих удивительно схожа, и очень трудно подобрать такой ядохимикат, который бы эффективно уничтожал насекомых, будучи в то же время безвредным для человека.
Очевидным кажется, что наилучший способ «отстройки» — использование препаратов, действующих именно на гормональную систему насекомых, очень все-таки непохожую на пути химической регуляции в организме прочих животных. «Путь к фундаментальному пониманию механизма действия гормонов был и остается неясным, и мы должны смотреть на наши современные представления скорее с большой долей трезвости, чем с экстравагантным энтузиазмом, — писали совсем недавно (1984 год) американские исследователи Дж. Ричардс и М. Эшбернер. — Гормоны насекомых в особенности удивительные, поскольку их эффект является столь сильным и сложным. Немногие в состоянии не удивляться метаморфозам бабочки. Эти чудесные события контролируются немногими гормонами, наиболее важные из которых, ювенильный гормон и экдистероидные гормоны, просты по химическому строению. Превращение гусеницы в крылатую бабочку и подобные явления в жизненном цикле многих насекомых требуют полной перестройки животного и всех его тканей. Полный метаморфоз бабочек, мух, жуков, муравьев, пчел позволяет этим видам насекомых находиться в существенно различном окружении в форме гусеницы и в форме взрослого насекомого. Это означает, что, кроме морфологических преобразований, столь заметных невооруженным глазом, метаморфоз вызывает полную перестройку физиологических процессов и поведения насекомого».
Действительно, развитие под действием гормона у курочки внешних признаков петушка — явление, что и говорить, удивительное, но посадите рядом бабочку-капустницу и ее гусеницу…
Самое интересное, что важнейшая группа гормонов, регулирующих процессы метаморфоза, так называемые ювенильные гормоны, своим действием не вызывает метаморфоз, а сдерживает его.
Японский исследователь Фукуда удалял у гусениц тутового шелкопряда секретирующие ювенильные гормоны железы — корпора аллата. При нормальном развитии гусеница проходит пять стадий, после чего окукливается. Если же удаление желез происходит, скажем, на третьей стадии, превращение в куколку наступает немедленно; более того, из маленькой гусеницы образуется маленькая же куколка, из которой потом разовьется взрослая особь, также в несколько раз меньше нормальной. Недаром эти гормоны назвали «гормонами, сохраняющими статус-кво личинки».
По своей химической структуре ювенильные гормоны сравнительно просты, это — метиловые эфиры эпоксидов органических кислот (воздержимся на этот раз от более подробного описания). Когда в 1967 году группа западногерманских химиков установила структуру первого из ювенильных гормонов, появилась надежда, что на их основе можно будет получить эффективные средства борьбы с насекомыми; сейчас, двадцать лет спустя, эта надежда все еще жива, но промышленного производства чудодейственных средств пока нет.
Применяемые ныне в сельскохозяйственной и всякой иной практике инсектициды не создавались, конечно, совсем уж эмпирически, без использования новейших достижений биохимии, физиологии, биофизики. Наоборот, процесс создания многих инсектицидов мог бы служить образцом современного подхода к истинно целенаправленному синтезу биологически активных соединений, обладающих требуемыми свойствами. Именно такого рода примеры представляют для нас наибольший интерес; некоторые из них я приведу в дальнейшем.
Только что шла речь об ужасающей сложности классификации пестицидов. «Внутренних» классификаций инсектицидов было предложено несколько, но они попроще. Скажем, так называемая физиологическая классификация, в соответствии с путями поступления инсектицида в организм насекомого, различает четыре основные группы препаратов. Кишечные яды, попадающие с пищей, образуют первую и, по-видимому, самую многочисленную группу. К группе контактных относятся соединения, проникающие через поверхность тела, к фумигантам — через органы дыхания. Выделяют еще и группу системных ядов, которые поглощаются растением и вместе с растительной пищей поступают в организм. Не очень ясно, зачем понадобилось выделять их в отдельную группу, ведь это те же, кишечные яды.
Такая классификация представляет, по-видимому, интерес для практики применения инсектицидов; с точки же зрения биохимических основ их действия важно не столько, каким путем токсикант проникает в организм, сколько те звенья обмена веществ, те химические реакции или регуляторные процессы, нормальное течение которых он блокирует.
Впрочем, некоторые дыхательные инсектициды прямо в эти процессы не вмешиваются. Например, в своей безуспешной борьбе с клопами упоминавшийся только что дядя Ваня применял также и керосин. По периферии тел клопа расположены дыхательные отверстия — дыхальца, через которые воздух поступает в организм. Если клопа хорошенько вывалять в керосине, дыхальца закупорятся и он в конце концов задохнется. Тот же керосин, различные минеральные масла применяют также в борьбе с вредителями плодовых деревьев. Есть даже группа инсектицидов, представляющих собой просто очень измельченную силикатную пыль, которая забивает дыхательные пути насекомого.
Среди контактных инсектицидов наибольшую известность приобрел, несомненно, ДДТ. Масштабами применения он, несомненно, превосходил любой другой, а уж написано о нем в несколько раз больше, чем обо всех остальных вместе взятых, и в специальной литературе, и в неспециальной в особенности. ДДТ — это рабочее сокращение благозвучного 4,4-дихлордифенилтрихлорметилметана. Два кольца фенильных, посередине — соединяющий их атом углерода. Добавим заместители, по атому хлора в каждом кольце, атом водорода и радикал — CCl3 к углероду, вот и весь ДДТ.
В 1873 году молодой австрийский химик Отмар Цейдлер написал диссертацию, в которой сообщил о синтезе нового хлорорганического соединения: 4,4-дихлордифенилтрихлорметилметана. В наши дни автор каждой диссертации должен в своем автореферате дать общую характеристику работы по определенной форме, с обязательными подзаголовками: «Актуальность проблемы», «Цель и задачи исследования», «Научная новизна работы», «Практическая значимость» и т. п.
Многие современные диссертанты имеют трудности именно с этой практической значимостью. Мне ни разу еще не попадалась вполне честная формулировка: «Практическая значимость работы — отсутствует». Как-то я предложил было ее одному из своих аспирантов, тот чуть не задохнулся от обиды. В конце концов в ход пошло что-то лицемерное, вроде того, что полученные результаты освещают некоторые детали механизма такого-то и такого эффекта, что может оказаться полезным для понимания функций группы ферментов, по-видимому, играющих важную роль в процессах жизнедеятельности ряда микроорганизмов, которые, возможно, могут быть использованы в каких-нибудь биотехнологических процессах. Я думаю, если какому-то математику удастся доказать великую теорему Ферма[1] (точнее, гипотезу): не существует целых а, в, с, для которых выполнялось бы условие аn + вn = сn (при целых n больше двух), за что он немедленно и единогласно будет провозглашен величайшим математиком нашего времени, в своей диссертации, написанной на этом материале, он не прибегнет к приведенной смелой формулировке: «Практическая ценность работы отсутствует» (что чистая правда, по мнению самих же математиков), а будет что-то стыдливо лепетать о пользе для воспитания юных умов.
Вряд ли подобные заботы тяготили Цейдлера — что ни говорите, развитие науки находилось в те годы на весьма низком уровне в сравнении с сегодняшним днем — но если бы ему пришлось все же оформлять автореферат своей диссертации в строгом соответствии с ныне действующими правилами Высшей аттестационной комиссии, он немало намаялся бы, выдумывая для своих результатов ну хоть какое-нибудь практическое значение, и уныло в конце концов стал бы мямлить о понимании отдельных стадий определенных органических реакций… что, возможно, окажется полезным при получении… каковые, в свою очередь, могут быть использованы как компонент подкрахмаливающих средств для манишек.
Между тем, после того как в 1937 году было установлено, что ДДТ обладает высокой токсичностью для насекомых, будучи безвредным в соответствующих концентрациях для теплокровных животных, этому соединению суждено было получить такое уж широкое практическое применение… Как выяснилось, впрочем, на нашу голову.
ДДТ поражает нервную систему насекомого. О степени его токсичности можно судить по тому, что личинки мух гибнут при попадании на поверхность их тела (напоминаю, ДДТ — яд контактного действия) менее одной миллионной миллиграмма. (Для вящей наглядности: если в одном кубометре растворителя содержится один грамм ДДТ, смертельная для личинки доза — один кубический миллиметр такого раствора.)
При обработке посевов на один квадратный метр вносили около ста миллиграммов ДДТ Здесь, разумеется, речь идет о действующем начале: том самом 4,4-дихлор… и т. д. Реально же применялись его препараты в виде дустов, эмульсий или растворов в органических растворителях. В воде ДДТ нерастворим. Дуст — это мелкая пыль наполнителя, чаще неорганического (английское dust — пыль), на котором сорбирован ДДТ и некоторые другие вещества, облегчающие прилипание частичек дуста к поверхности тела насекомого и процессы переноса токсиканта через его покровы.
Десятки и даже сотни миллионов гектаров посевов во всем мире обрабатывались ДДТ в 50-х — начале 60-х годов. Помимо этого, широко применялся он и против вредителей леса, и в кампании борьбы с малярией (здесь на гектар водоема вносилось всего около 100 граммов ДДТ, и этого было достаточно для того, чтобы уничтожить личинок малярийного комара), и в быту против мух, тараканов и тех же самых клопов (полки хозяйственных магазинов были завалены коробками с дустом ДДТ).
Словом, мир быстро приобретал опыт применения ДДТ в широких масштабах, но, как стало постепенно выясняться, опыт отнюдь не только положительный. Началось с того, что вместе с некоторыми вредителями погибали и полезные насекомые, например, хищники, уничтожающие других вредителей, менее чувствительных к ДДТ. Среди насекомых такими оказались различные виды тлей. Помимо этого, сравнительно легко переносили обработку ДДТ клещи, повреждающие посевы. Вездесущие карикатуристы не преминули откликнуться и на это явление. Колорадский жук, лицу которого художник придал крайне неприятное выражение, злобно говорит муравью:
— Обработка химикатами, конечно, будет по моему поводу, но тебе, муравьишка, от этого не легче!
Затем выяснилось, что после нескольких лет применения ДДТ появились расы вредителей, устойчивых к его действию; для их эффективного уничтожения нужно было увеличивать дозы порой даже в десять и более раз.
А тем временем и те количества ДДТ, которые вносились в окружающую среду на протяжении предыдущих лет, оказались не столь уж безвредными для человека, домашних и теплокровных диких животных.
Если сравнивать, сколько ДДТ требуется для того, чтобы погубить одну личинку мухи и одного человека, нужно, конечно, принимать во внимание их размеры. Обычно для этой цели осуществляется перерасчет на килограмм веса, у нас еще будет повод поговорить об этом подробнее. Итак, вообразим себе килограмм мушиных личинок (зрелище так себе). Чтобы расправиться с ними, нам понадобится (при справедливом распределении и отсутствии потерь препарата) не более одной десятитысячной миллиграмма чистого ДДТ. Для человека же смертельная доза — сотни миллиграммов на килограмм веса. То есть, человеку весом килограммов этак в восемьдесят, — десятки граммов чистого ДДТ. Поскольку же он выпускался в виде несколькопроцентного дуста — уже сотни граммов нужно съесть человеку, чтобы насмерть отравиться ДДТ, а такое количество, конечно, ни один даже завзятый токсикоман не осилит. И вот оказалось: самые нелепые, немыслимые просто случаи возможны, когда пестициды продаются и применяются повсюду свободно и бесконтрольно.
Как уж оно получилось, не знаю, но однажды, лет двадцать с лишним назад, газеты всего мира сообщили о страшном случае: в детском саду, где-то в Иране, при приготовлении каши в котел вместо порошкового молока засыпали соответствующее количество дуста ДДТ. И то, и другое было, видимо, в банках с иностранными этикетками, и то, и другое — белый порошок. Погибли, отравившись, несколько десятков ребятишек.
Этот трагический случай, конечно, безусловное исключение. Вред же, причиняемый применением ДДТ всюду и везде, ощутили на себе десятки или сотни миллионов человек, хотя и в менее ужасной форме.
ДДТ — вещество сравнительно стойкое, медленно разлагается в окружающей среде и в организме. Не страшны ему ни повышенные температуры, ни ферменты, занятые обезвреживанием чужеродных веществ, ни свет. В результате, попадая в трофическую (пищевую) цепь, ДДТ накапливается в значительных количествах сначала в растениях, затем в мясе и молочных продуктах, наконец, в человеческом организме. Один американский журналист ядовито заметил как-то (точнее, в 1970 году): «Американцев есть нельзя. Согласно закону нельзя есть мясо, содержащее свыше семи промилле (одна тысячная часть) ДДТ в жировой ткани. Американцы содержат 12 промилле».
Не могу поручиться за приведенные цифры, это — цитата как минимум вторичная, один журнал заимствовал из другого, а уж оттуда — я. Все же двенадцать промилле — это более процента, и если даже жировая ткань стройного, симпатичного, совершенно не обрюзгшего восьмидесятикилограммового американца составляет всего один процент от его веса, и то, оказывается, в нем содержится около десяти граммов ДДТ, доза, уже близкая к смертельной, согласно самым авторитетным справочникам, составлявшимся профессионалами. Те же справочники приводят и предельно допустимые (по нормативам 60-х годов) количества ДДТ, которые могут содержаться в пищевых продуктах. Обычно это несколько миллионных долей (принятая в англоязычных странах мера — ppm, parts pro million); я думаю, в приведенной цитате подразумевались именно миллионные доли, а не промилле.
Конечно, это только мой домысел: возможно, дело обстоит иначе. Но в любом, конечно, случае я полностью солидарен с приведенным предостережением — лучше воздержаться от поедания американцев.
Словом, с течением времени стало ясно, что ДДТ — препарат коварный, при широком применении отнюдь не безвредный для человека (в особенности для грудных детей — это было, кстати, установлено еще на ранних стадиях его использования), и постепенно в развитых странах его стали избегать. Несмотря на это, многие еще годы спустя остатки ДДТ обнаруживают то в океаническом планктоне, то в молоке, то в жировой ткани злосчастных американцев. А может, и не только американцев, кто проверял?
Итак, ДДТ плох главным образом тем, что он устойчив к деградации. Чем же его заменить? Очевидно, соединением, не менее эффективно истребляющим насекомых, но быстро разлагающимся до безвредных остатков. Наиболее подходящими претендентами оказались фосфорорганические инсектициды, удовлетворяющие обоим этим требованиям.
Приходится иногда встречать мнение, что эта группа инсектицидов является побочным продуктом усилий химиков, занятых созданием боевых отравляющих веществ. Трудно судить, сколько в этом утверждении правды, нельзя представить конкретный перечень фосфорорганических соединений, синтезированных с мыслью об их использовании как ОВ, но оказавшихся в конце концов эффективными инсектицидами. Что не подлежит сомнению, так это близость механизмов действия большинства фосфорорганических инсектицидов и упоминавшихся выше зарина, зомана, газов VX и т. п.
И те и другие взаимодействуют с активным центром ацетилхолинэстеразы, конкретно с гидроксилом бокового радикала серина в ее активном центре.
Этот фермент играет в организме насекомых ту же роль, что и у человека, являясь важнейшим участником процесса передачи нервного импульса. Однако устройство активного центра ацетилхолинэстеразы, в частности, его пространственная организация, по-видимому, в каких-то деталях различаются. Сейчас трудно сказать что-либо конкретное по этому поводу — рентгеноструктурный анализ молекулы ацетилхолинэстеразы до сих пор выполнить не удалось, однако это ясно хотя бы из того факта, что некоторые соединения, являющиеся сильными ингибиторами ацетилхолинэстеразы человека, почти не действуют на ацетилхолинэстеразу насекомых, и наоборот.
В молекулах многих фосфорорганических инсектицидов так же, как у зарина и зомана, одним из заместителей у атома фосфора является аллоксильная группа (С2Н5О—, СН3О— и т. д.); часто их две, как например, у популярного хлорофоса (СН3О)2Р(О)СН(ОН)CCl3.
В настоящее время используются в сельскохозяйственной (и не только) практике десятки различных соединений группы фосфорорганических инсектицидов; варьируя характер заместителей у атома фосфора, удается получить препараты, эффективные в отношении одних видов насекомых и сравнительно безвредные для других.
Естественно, все они в первую очередь должны быть достаточно безвредными для человека. Сходство с нервно-паралитическими газами, однако, дает о себе знать: большинство этих соединений примерно в десять раз более токсичны, чем ДДТ; смертельная доза у некоторых из них составляет около одного грамма или даже ста миллиграммов. Есть, впрочем, и вещества, токсичные в той же степени, что и ДДТ (тот же хлорофос) или еще менее (трихлорметафос).
Постоянно ищут новые фосфорорганические инсектициды, обладающие избирательным действием и предназначенные для выполнения некоторых узкоспециализированных задач; примечательно, что это не поиск вслепую, а вполне целенаправленные действия, руководимые глубоким пониманием молекулярных механизмов, лежащих в основе токсических эффектов соединений этой группы.
Можно привести в качестве курьеза и примеры иного рода — создание эффективных инсектицидов на основе идеи, подсмотренной у природы. Да даже и не идеи, а, скажем, технического решения.
Животный мир морского дна изобилует видами, кажущимися нам, непосвященным, прямо-таки фантастическими. Дело не только в причудливой форме некоторых его обитателей, но и в их образе жизни, очень сложных взаимоотношениях. Многие виды, живущие на дне, ядовиты. Среди них и кольчатые черви полихеты, мелкие хищники. В 60-х годах была установлена структура яда одного из видов полихет; им оказалось сравнительно простое циклическое соединение
названное нереистоксином. Изучение токсикологических свойств нереистоксина показало, что он сравнительно безвреден для млекопитающих, но очень ядовит для насекомых.
Поскольку нереистоксин относительно легко может быть получен синтетически, возникла идея использования его в качестве инсектицида. Оказалось, однако, что это соединение по ряду параметров непригодно для таких целей, в частности, очень уж быстро разлагается. Тогда был синтезирован ряд аналогов нереистоксина; один из них, лишенный недостатков природного токсина,
стал промышленно производиться в Японии под названием падана. Два других примера — выделенные из грибов циклопептиды аспрохацин и деструксин, циклодепсипептид бассанолид, у которых обнаружены выраженные инсектицидные свойства; неясно пока, правда, найдут ли они практическое применение.
Наибольшие надежды, однако, специалисты связывают с применением другого природного токсина — кристаллического белка из микроорганизма бациллус тюрингензис. Строго говоря, это четыре различных белка — альфа-, бета-, гамма-экзотоксины и дельта-эндотоксины; их структура в настоящее время еще не установлена.
Бациллус тюрингензис широко используется в настоящее время в качестве биологического средства защиты растений. Вообще предполагается, что биологические средства, прежде всего препараты энтомопатогенных микроорганизмов, производство которых в настоящее время составляет около 5 процентов мирового производства пестицидов, в ближайшее время сильно потеснят химические средства и уже к 2000 году их доля возрастет до 50 процентов.
Преимущества их применения видны на примере той же бациллус тюрингензис. Известны несколько вариантов этого микроорганизма. Белковый токсин, вырабатываемый большинством вариантов, действует только на представителей отряда чешуекрылых (бабочек), практически безвреден для остальных насекомых и совершенно уж безвреден для теплокровных животных и человека. В отличие от большинства используемых ныне инсектицидов применение препаратов бациллус тюрингензис не вызывает гибели полезных насекомых — опылителей, хищников, пчел. Весьма значительная доля вредителей сельскохозяйственных культур — это именно представители отряда чешуекрылых, в отношении которых такие препараты эффективны. Более того, обнаружена разновидность бациллус тюрингензис, вырабатывающая белковый токсин, действующий на другую обширную группу вредных насекомых — комаров.
Ныне применяемые препараты, содержащие так называемый спорокристаллический комплекс, готовятся путем культивирования соответствующего штамма бациллус тюрингензис в специально подготовленной питательной среде, содержащей глюкозу, крахмал, соевую муку и некоторые добавки. Однако наиболее интересные перспективы использования белковых токсинов этой бациллы связаны, пожалуй, с переносом соответствующих генов в другие организмы уже неоднократно упоминавшимися методами генетической инженерии.
В настоящее время реализовано два подхода подобного рода. В первом случае объектом для пересадки гена была избрана распространенная в почве бактерия псевдомонас флюоресценс; полагают, что внесение полученных микроорганизмов в почву позволит избавиться от обитающих там личинок вредителей.
Однако гораздо более эффективен прием, к которому прибегли исследователи бельгийской фирмы «Плэнт джинетикс системс». Трудно сказать, известно ли им изречение Нидхэма «Лучший способ не быть съеденным — это стать несъедобным», но действовали они в точности в его духе. Ген, кодирующий синтез кристаллического белкового токсина бациллус тюрингензис, они перенесли непосредственно в геном культурного растения — табака, получив таким образом сорт, абсолютно устойчивый к поражению многими видами вредителей. Удачен и выбор культуры — «реципиента»: хотя безвредность кристаллического белкового токсина для человека доказана многими исследователями, ведомства, осуществляющие контроль безопасности новых сельхозпродуктов, еще долгое время не давали бы хода применению нового сорта на практике, будь то растение, употребляемое в пищу. Они, эти ведомства, страдают болезненной прямо-таки подозрительностью, и, надо признать, кое-какие основания для этого у них имеются. Не раз бывало, что новый продукт, казавшийся совершенно безвредным с позиций так называемого здравого смысла, в конце концов после придирчивых испытаний браковался.
В случае же с табаком попадание токсина в организм курильщика полностью исключено: он и не летуч и полностью сгорает. Тем более что в табачном дыме и без того масса всяких токсичных соединений, и вообще не очень понятно, какие критерии применяются при оценке безвредности табачных изделий.
«Разумный человек приспосабливается к окружающему миру, неразумный пробует приспособить мир к себе. Поэтому всяческий прогресс зависит от людей неразумных». Это слова Бернарда Шоу; они вспоминаются всякий раз, когда приходится слышать или читать призывы типа «Жить в единстве с природой», «Не перестраивать природу, а приспосабливаться к ней» и тому подобные лозунги, пути реализации которых не очень ясны. В особенности популярны заклинания беречь все живое: и травинку, и былинку, и жучка, и козявку, о зайчиках и пичужках уж не говоря. Не исключено, что сторонники таких лозунгов даже составляют среди нас большинство. Между тем какие-то деловитые и очень озабоченные люди, настроенные в отношении всего этого шума не враждебно даже, а просто безразлично, ведут бескомпромиссную химическую войну против всяческой живности, угрожающей подчас самому нашему существованию.
Я, правда, что-то не припоминаю выступлений в защиту вирусов СПИДа, или даже гриппа, холерного вибриона (уже объявлявшегося было полностью истребленным; к сожалению, как выяснилось, преждевременно), да даже чесоточного клеща или постельного клопа. Впрочем, наверняка среди энтузиастов есть люди вполне последовательные, умеющие, сказав «а», сказать «б» и, как следствие, организующие демонстрацию протеста по поводу отправки в район эпидемии противочумной команды.
Требования милосердия в отношении к сорнякам и насекомым — вредителям полей и садов мне несколько раз попадались в зарубежных газетах, но полагаю, что и эти божьи создания большинством охотников жить в гармонии с природой в перечень подлежащих охране не включаются. Но если взять, к примеру, суслика, тут, пожалуй, гуманно мыслящие уже возьмут верх. Такой, понимаете, симпатичный, посвистывает, а вы со своими родентицидами, горсти зерна вам жалко. Ну и, конечно, никто не даст в обиду птиц, даже если их стаи опустошают посевы. Пугать, так и быть еще, пугайте, но… Действительно, не могу припомнить, чтобы хоть в одной книге или статье среди средств защиты урожая мне встретились «авициды» («авиа» — «птицы» по-латыни). Хотя химики поработали и в этом направлении, с учетом требований гуманности.
Приманки со всякими дурманящими средствами применялись еще в прошлом веке; правда, часто грубоватые владельцы огородов или полей для верности еще сворачивали шеи забалдевшим (как сказали бы ныне) визитерам. В наше время решением проблемы отпугивания птиц занялась большая наука, не только и не столько в связи с защитой от них урожая, сколько из-за создаваемой ими угрозы безопасности движению самолетов в окрестностях аэродромов. (Можно упомянуть и еще одну курьезную задачу: добиться того, чтобы птицы не садились на памятники великим людям; это, видите ли, создает комический эффект, да и загрязняются памятники неимоверно.)
И вот недавно было опубликовано сообщение об очередном успехе на этом фронте. В подкладываемую птицам приманку вводилась глюкохлоралоза — вещество, обладающее сильным снотворным действием; оно используется для быстрого усыпления диких животных при отлове. Склевав приманку с глюкохлоралозой, птица «дергается в конвульсиях, посылает крики бедствия, а затем засыпает на 15–20 часов». Это сильно отпугивает других птиц.
Как видим, метод в высшей степени гуманный, птичка остается в живых. Если, конечно, в течение этих 15–20 часов ее не обнаружит кошка.
Глава 7
Нет веществ биологически активных
Старинная восточная мудрость гласит «Деньги потерял — ничего не потерял. Здоровье потерял — многое потерял. Чувство юмора потерял — все потерял». Мне известен один надежный способ надолго потерять чувство юмора. Возьмите подшивки любого, даже очень хорошего юмористического журнала за несколько лет (скажем, я отношу к таким журналам польские «Шпильки» 1960–1970-х годов) и пролистайте их подряд, ничего не пропуская. После окончания этой работы у вас останется жутковатое впечатление, что за всю историю существования человечества выдумано всего-то несколько десятков сюжетов для анекдотов; у героев такого сюжета могут быть разные фамилии — Мак-Интош, Рабинович, Сидоров, пан Пшимановский, Оганесян, даже Ямамото-сан, но в этом и все отличие. Еще более однообразны сюжеты юмористических рисунков.
Вспомните, сколько раз остряки-художники являли нашему взору такую вот картинку: на горизонте уходит под воду корабль, в центре картинки барахтаются двое потерпевших крушение, вдали, у другой линии горизонта — необитаемый остров с пальмами. Подписи, правда, могут быть различными.
Вспомнилось мне это все потому, что как раз один из рисунков этой серии имеет самое прямое отношение к вопросу, которым нам предстоит заняться вплотную. Среди десятков различных подписей к рисункам с таким сюжетом я хочу выделить наиболее, на мой взгляд, удачную. Один из барахтающихся назидательно говорит другому, еле уже держащемуся на поверхности:
— Вот видишь, в больших количествах и вода вредна.
С одной стороны, этот рисунок подсказал название настоящей главы, а ведь действительно, нет соединений биологически неактивных. С другой — он должен послужить отправной точкой для разговора о дозах, о том, как их исчислять.
Словом, хороший, полезный, очень нам пригодившийся рисунок из серии «кораблекрушения». Кто-нибудь, правда, может возразить: несколько мрачный. Что ж, можно вспомнить и более оптимистический его вариант. Опять тонет корабль, опять двое плывут в направлении виднеющегося вдали необитаемого острова, а подрисуночная подпись гласит: «Это еще хорошо, что я женщина, а вы мужчина»!
Или, точнее, нельзя в больших количествах. Или, если угодно, наоборот: все можно, но в очень умеренных дозах. Еще Парацельс писал: «Во всем есть яд, без яда нет ничего. Только от дозы зависит, будет ли вещество ядовитым или безвредным».
Возникает вопрос: где же тот рубеж, за которым кончается безвредность и начинается токсичность? Не обстоит ли здесь дело опять таким же образом, как с определением понятия «толпа»: один человек это толпа? Два — толпа? Три? и т. д.
Часто в химических справочниках после подробнейшей характеристики физических и химических свойств некоего соединения значится: «Смертельная доза для мышей при внутрибрюшинном введении 0,1 миллиграмма на килограмм», или: «Смертельная доза для человека — 30 миллиграммов». Такие замечания сопутствуют, как правило, лишь описаниям веществ очень высокотоксичных, однако они в принципе могут быть приведены для абсолютно любого соединения. Величины доз, смертельных для человека, иногда получены обработкой данных о несчастных случаях, чаще — пересчетом результатов экспериментов на мышах же или других лабораторных животных.
Что же касается данных, относящихся к мышам, то указываемые цифры — смертельная доза, представляют собой LD50, то есть такое количество вещества, которое вызывает смерть 50 процентов подопытных животных. Иногда говорят не о смертельных дозах, а о смертельных концентрациях вещества в окружающей среде: воздухе или воде. Эта величина, определяемая таким же образом, обозначается LC50. Чаще всего значения LD50 приводятся в расчете на один килограмм веса животного.
Определение LD50 для нового вещества процедура довольно трудоемкая. Ясно, что при введении подопытным животным доз, меньших некоторой «минимальной безвредной», все особи останутся живыми; аналогично существует некая верхняя граница: все дозы, ее превосходящие, вызывают поголовную гибель животных. Дозы, находящиеся в интервале между этими значениями, вызывают гибель лишь части особей; в этом-то интервале и следует выявить величину соответствующей LD50.
Прежде чем эта цифра будет «нащупана», экспериментаторам приходится немало потрудиться, а славному мышиному, крысиному или кроличьему племени принести в жертву на алтарь науки несколько десятков или даже сотен своих сородичей.
Вот это-то последнее обстоятельство и вызывает резкие протесты разнообразных обществ и организаций защиты животных. На проходившем в 1986 году годичном собрании американской Федерации обществ экспериментальной биологии с озабоченностью говорилось о том, что ряд таких организаций выступил с требованием полного запрета тестов LD50 на животных. А уж в том, что эти организации умеют добиваться своего, сомневаться не приходится. В 10 штатах под их давлением запрещено поставлять лабораторных животных для исследовательских целей; в акт об условиях содержания животных, имеющий силу обязательного федерального закона, внесены изменения, предписывающие обеспечить в лабораториях «нормальные физиологические условия жизни собак и приматов».
Нельзя не признать гуманными и благородными намерения членов обществ защиты животных; нельзя не признать также, что в практике современных лабораторных исследований полно примеров бездушной и совершенно бессмысленной жестокости при проведении экспериментов, иногда неоправданно завышено количество взятых «в опыт» животных и т. п. Правда, чаще приходится слышать нарекания противоположного характера: опыт проведен на недостаточном количестве животных, полученные результаты статистически недостоверны, животные в конце концов загублены зря, опыт надо провести повторно.
Но каждому ясно (исключая разве что лишь махровых экстремистов из числа друзей животных), что полный отказ от экспериментов на животных нанесет огромный ущерб людям. Не зная загодя степени токсичности нового соединения, мы в конце концов установим ее опытным и очень жестоким путем: после нескольких несчастных случаев с людьми, которые с этими соединениями работали. «Правила техники безопасности написаны кровью людей», — любят говорить специалисты по технике безопасности. Так что если хотя бы несколько строк таких правил можно было бы написать вместо этого мышиной или кроличьей кровью, выбор, мне кажется, очевиден.
Величины LD50 установлены не только для веществ подозрительных или заведомо токсичных, но и для таких, которые мы в повседневном быту считаем совершенно безвредными: для обычного сахара, поваренной соли, крахмала и т. п., это — граммы на килограмм веса. Такие оценки получены на мышах, но вряд ли соответствующие цифры для человека отличаются от них значительно. Так что если говорить о человеке ни худом, ни толстом, килограммов этак на восемьдесят, — смертельные дозы перечисленных продуктов для него составят сотни граммов.
Трудно, правда, представить себе любителя, который бы добровольно поглощал такие количества, так что несчастные случаи от чрезмерного увлечения сахаром или солью, пожалуй, исключены, по крайней мере, если идет речь о так называемом остром отравлении, наступающем немедленно после принятия препарата. Что же касается печальных перспектив в более или менее отдаленном будущем, которые врачи предсказывают лицам, систематически употребляющим эти продукты в количествах намного меньших, чем LD50, но все же неумеренных, — вспомним многочисленные популярно-медицинские публикации, где соль и сахар именуются не иначе как «белые враги человечества».
Величины LD50 (или LC50) характеризуют, таким образом, лишь один аспект вредного действия соединения: так называемую острую токсичность, от которой следует отличать токсичность хроническую — вредные эффекты, развивающиеся при длительном приеме вещества или контакте с ним.
В этом случае многие специалисты предпочитают не использовать термин «токсичность», а говорят о вредности или безвредности того или иного вещества или продукта.
Всесторонняя оценка вредного действия химических соединений — дело чрезвычайно сложное, трудоемкое и дорогостоящее. В зависимости от того, с какой целью получается эта оценка, круг исследований может несколько различаться. Общие принципы и схемы таких испытаний определены специальными документами Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕП — Программы ООН по вопросам охраны окружающей среды, методическими указаниями Минздрава СССР. При их разработке принято во внимание множество обстоятельств. Например, токсикологам хорошо известно, что от присутствия в окружающей среде или пище посторонних химикатов в гораздо большей степени страдают молодые (неполовозрелые) животные. Поэтому для испытаний наряду со взрослыми белыми мышами, крысами, морскими свинками, кроликами и т. п. должны использоваться и совсем юные (верхняя граница возраста — окончание питания молоком матери).
Наблюдения ведутся за двумя группами животных — опытной и контрольной. Животные первой группы получают испытуемый препарат, второй — нет. При этом, если испытывается, например, новый — и поэтому подозрительный — пищевой продукт, животные контрольной группы получают вместо него состав в точности соответствующий проверяемому продукту по содержанию основных питательных веществ, но лишь в форме заведомо безвредных компонентов.
Состояние животных обеих групп обследуется возможно более подробно. Что значит возможно более? Не существует определенного ответа на этот вопрос, поскольку ясно, что, если вещество оказывает вредное влияние хотя бы на один орган, одну функцию организма или одно-единственное звено обмена веществ, нам следует об этом знать. С другой же стороны — необъятного никак объять нельзя, контролировать сотни или тысячи показателей сразу не под силу даже самой богатой и хорошо оснащенной лаборатории. Поэтому упомянутое «возможно более подробно» следует понимать в буквальном смысле: в соответствии с предельными возможностями данной конкретной лаборатории.
Конечно, при этом существует перечень показателей, регистрируемых совершенно обязательно; для этого, как правило, требуются лишь сравнительно простые экспериментальные процедуры (контроль веса тела, стандартные анализы крови, мочи и т. п.). Кроме того, всякий разумный исследователь формирует круг доступных ему наблюдений таким образом, чтобы охватить по возможности (опять по возможности) более широкий круг именно разнообразных жизненных функций.
Разумеется, при этом не исключены и какие-то пробелы, но дело в том, что в конечном счете все функции и органы связаны друг с другом, так что, если даже деятельность какого-то органа прямо не контролируется, всякие ее нарушения почти наверняка опосредованно отразятся на том или ином показателе из числа регистрируемых. Скажем, ряд нарушений функции почек сказывается на артериальном давлении, при поражениях печени наступают изменения многих характеристик крови и т. д. Так что даже при выборочном, по существу, обследовании почти все патологические изменения должны в конце концов как-то себя проявить.
Правда, некоторые химические вещества могут вызывать и такие эффекты, которые на большинство доступных непосредственному контролю функций организма никак не влияют, но тем не менее представляют собой серьезнейшую угрозу. В первую очередь это относится к повреждению наследственного материала (мутагенез), канцерогенному действию или поражению эмбрионов. Для выявления такого рода действия требуются, очевидно, уже наблюдения за несколькими поколениями подопытных животных. Выявить опасность такого рода в лабораторных экспериментах удается не всякий раз.
Что безвредно для мыши, необязательно безвредно для человека; этот немудреный принцип следует, очевидно, помнить всегда, но в особенности, если речь идет о процессах, связанных с размножением или делением клеток.
Читателю, по-видимому, известна кошмарная история с талидомидом — успокоительным средством, специально рекомендованным беременным женщинам. В результате выпуска этого препарата на рынок на свет появилось множество детей с деформированными или полностью отсутствующими конечностями. А в экспериментальных исследованиях на лабораторных животных талидомид показал себя совершенно безвредным.
Можно привести и ряд обратных примеров. Они касаются прежде всего традиционных, столетиями потребляемых продуктов. Так, недавно появились сообщения о сильном мутагенном действии сыра «Рокфор» (точнее, некоторых соединений, вырабатываемых растущим в нем плесневым грибком), обычного огородного укропа, пива, соевого соуса, чая. В нескольких работах сообщалось об обнаружении мутагенного и канцерогенного действия кофе; по счастью, в последующих публикациях эти утверждения опровергались. Не исключено, конечно, что из очередной серии статей мы узнаем, что наиновейшие опыты показали все же мутагенный эффект кофе; ну что же, заваривая очередную чашечку, утешим себя тем, что выполнялись эти опыты скорее всего на бактерии сальмонелла — излюбленном тест-объекте для обнаружения явлений мутагенеза.
Вернемся к процедуре испытания безопасности.
По истечении принятого срока наблюдения, он может быть различным, в зависимости от целей испытаний, животные забиваются и подвергаются тщательному анатомо-морфологическому, гистологическому и в особенности биохимическому исследованию; наиболее подробно изучаются изменения печени — главного органа, ответственного за обезвреживание попавших в организм посторонних веществ (специалисты используют еще звучный термин «ксенобиотики»).
Такой вот комплекс исследований нужно выполнить для проверки безвредности новых видов пищевых продуктов или их компонентов, косметических новинок, средств личной гигиены; почти столь же суровы требования и в отношении кормовых добавок, предназначенных для животноводства. Правда, и в этом последнем случае преследуется та же цель — избежать попадания в организм человека ксенобиотиков или вредных продуктов их распада с мясом, молоком, яйцами. Что же касается кормов для пушных зверей, комнатных и декоративных животных, здесь строгостей гораздо меньше.
Название этого раздела позаимствовано у профессора У. Д. Роу; это — заглавие его известной книги, вышедшей в 1977 году и содержащей изложение основных принципов так называемого «анализа риска». Этим термином определяется подход, позволяющий оценить количественно вероятность увеличения риска того или иного заболевания у людей (или групп населения), пребывающих в постоянном контакте с определенным токсикантом. Это очень сложная и трудоемкая процедура, а самое главное: получаемые с ее помощью оценки очень приблизительны; нередко результатом такого расчета оказывается интервал возможных значений, причем верхнее значение может отличаться от нижнего на несколько порядков.
К сожалению, выбора нет; кроме того, ясно, что даже самые ненадежные оценки могут быть полезными, если известна степень их ненадежности, а методы анализа риска, как правило, ее указывают.
Например, пусть получена оценка увеличения вероятности заболевания раком печени у людей, потребляющих в течение года водопроводную воду, в которой содержится такое-то вещество в такой-то концентрации. Эта оценка действительно не очень определенна: вероятность заболевания должна возрасти от тысячи до миллиона раз. Естественно, эта неточность никак не скажется на практических выводах: такое положение недопустимо, надо принимать меры к устранению рассматриваемого вещества. Соответственно, если прирост вероятности окажется исчезающе малым, можно существующую ситуацию признать удовлетворительной, хотя различия верхней и нижней оценок опять достигают порядков. Разумеется, возможны промежуточные результаты, когда нижняя граница оказывается еще приемлемой, верхняя — недопустимой. Что ж, и такие оценки небесполезны; вообще же случаи, когда исследователю приходится завершать проделанную работу выводом «я не знаю», вовсе не редкость в токсикологии. Нередки они, впрочем, и в других науках; возможно, токсикологи просто более осмотрительны.
Сложность процедуры получения оценок риска объясняется огромным количеством факторов, которые приходится учитывать в таких расчетах, и большим разнообразием условий. Скажем, чрезвычайно разнообразны по своему характеру могут быть уже источники загрязнения. Обычно различают точечные и рассеянные источники. Примером первых могут быть стоки какого-то предприятия, сбрасываемые в водоем в определенном месте, вторых — сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые гербицидами, остатки которых поступают в грунтовые воды на огромной поверхности. Помимо этого, источники загрязнения классифицируются по происхождению (промышленные, коммерческие, бытовые, природные и др.) или характеру временной активности — постоянные и периодические (например, количество выхлопных газов, выбрасываемых автомобилями в атмосферу, имеет суточную периодичность, поступление в грунтовые воды остатков пестицидов — сезонную и т. п.)
Очень сложной проблемой является анализ путей распространения загрязнителей в окружающую среду; приходится считаться с постоянным их перемещением между воздушным бассейном, грунтовыми и поверхностными водами, почвой. Особенно трудным, но и очень важным элементом оказывается изучение так называемых биотических трофических цепей: путей перемещения токсиканта в результате жизнедеятельности различных организмов. Например, пестицид из почвы поглощается травой, вместе с травой попадает в организм коровы, оттуда с молоком — к человеку. Рассматривается далее три основных пути воздействия токсиканта на человека: поступление с водой или пищей, вдыхание или поглощение через кожу. Наконец, чрезвычайно разнообразны могут быть проявления вредного воздействия химических соединений на человека, до смертельного исхода включительно.
В этих условиях успешное применение методов анализа риска в очень большой степени зависит от точной постановки задачи, с тем чтобы избежать необходимости рассмотрения хотя бы части факторов второстепенных. К услугам специалистов по анализу риска обращаются почти всегда в связи с решением сугубо практических проблем: разработкой планов мероприятий по охране окружающей среды, решением вопроса о приемлемости новой технологии с точки зрения экологических критериев, наконец, для оценки безопасности новых товаров или продуктов.
Как выглядит в самых общих чертах процедура оценки риска? Первый этап: исследуются процессы поступления токсиканта в среду, его перемещения и удаления. Результатом расчетов, почти всегда очень сложных, является оценка эффективной концентрации токсиканта в среде, непосредственно окружающей человека. Далее, зная количество ежедневно потребляемой им воды или вдыхаемого воздуха, можно рассчитать ежедневную дозу, получаемую в сутки.
На этих этапах могут применяться как экспериментальные, так и расчетные приемы; часто удается обойтись одним расчетом. Однако следующий этап: оценка степени риска на основании оценки суточной дозы, требует почти исключительно экспериментальной работы; на основании опытов на лабораторных животных устанавливается характер зависимости «доза — эффект». Это, пожалуй, самое ненадежное звено в процедуре анализа риска. Точнее, для лабораторных-то животных найти эти зависимости не так уж трудно, но возникает вопрос: каким образом они могут быть перенесены на человека? Простейший прием — пересчет дозы на массу тела (например, масса тела человека = 2800 массам тел мышей, эта цифра и используется как пересчетный коэффициент при перенесении «мышиной» зависимости «доза — эффект» на человека). Такой прием, однако, вызывает многие возражения.
Предложены и другие способы — скажем, при оценке риска заболевания раком предпочитают пользоваться отношением «внутренних поверхностей» (легких, кишечника, желудка). Отмечу, что в этом случае коэффициент пересчета мышиных доз к эквивалентным человеческим примерно на порядок меньше; вследствие этого оценки границ определенного уровня риска оказываются заниженными (на жаргоне специалистов, «более консервативными»), по сравнению с полученными пересчетами по массе.
В простейшем случае зависимость «доза — эффект» предполагается линейной, то есть увеличение степени риска считается пропорциональным дозе; тогда на основании данных лабораторных исследований следует просто оценить коэффициент такой пропорциональности («коэффициент единичного риска»).
Проиллюстрируем ход получения оценки степени риска примером, позаимствованным у американского исследователя Дж. Фикселя.
Предположим, в некотором помещении в воздух попадает формальдегид. Ситуация более чем правдоподобная, если учесть, что это соединение широко применяется и в промышленности, и в лабораторной практике, да и в быту. Зная количество поступающего ежечасно формальдегида, условия воздухообмена, вентиляции и т. д., можно рассчитать эффективную концентрацию его в зоне, где находятся люди. Можно, впрочем, измерить экспериментально. Итак, эффективная концентрация нам известна; пусть она составляет, к примеру, 10 микрограммов в одном кубическом метре воздуха. Человек в среднем вдыхает в течение суток около 20 кубометров воздуха; полагая, что весь формальдегид оседает у него в легких (что в высшей степени правдоподобно, поскольку это довольно агрессивное соединение), ежедневная доза формальдегида для индивидуума, пребывающего в рассматриваемом помещении, 0,2 миллиграмма. Лабораторные исследования позволили оценить коэффициент единичного риска для формальдегида: он составил 0,0003 на каждый ежедневно поглощаемый миллиграмм. Это следует понимать таким образом, что для человека, вдыхающего ежедневно один миллиграмм формальдегида, риск заболеть раком на протяжении оставшейся жизни на 0,03 процента выше, чем если бы формальдегида в окружающей его атмосфере не было вовсе.
В рассматриваемом же случае это повышение составит 0,2 × 0,03 = 0,0006 процента. Иными словами, если общая численность населения, подверженного действию указанной концентрации формальдегида, составит 2 миллиона, можно ожидать, что по этой причине дополнительно заболеют раком 120 человек. Или, полагая среднюю продолжительность жизни в этой группе равной 60 годам — 2 человека ежегодно.
Возникает опять вопрос: ну ладно, получили мы оценку риска, что же с ней делать дальше? Мало это или много: два человека в год в двухмиллионной группе населения?
Подходы к этой проблеме могут быть разные. Подход чисто академический требует сначала получения еще одной оценки: погрешности определения заболеваемости раком в контроле, в отсутствие формальдегида. Естественно, что из года в год эта цифра не воспроизводится с абсолютной точностью из-за различных случайных обстоятельств. Если такие колебания значительно превышают полученную оценку — 2 человека в год, — риск следует признать несущественным. Иными словами, представим себе, что некто проводит обработку многолетних данных о заболеваемости в двух группах: подверженной и не подверженной действию упомянутой концентрации формальдегида. Если среднемноголетние величины различаются на 2, а точность оценки каждой из них составила, скажем, 50 — полученное различие по всем канонам математической обработки данных следует признать недостоверным и приписать случайным обстоятельствам. Наоборот, при высокой точности оценок, например, погрешность составляет всего 0,1 (что, конечно, абсолютно нереально для рассмотрения численности групп 2 миллиона) различие в 2 человека в год следует признать достоверным.
Такой подход представился бы очевидным многим естествоиспытателям, очень привычный для них прием. Дело, однако, в том, что строго говоря, критерий статистической достоверности разности двух средних величин не позволяет сделать однозначное заключение «достоверна — недостоверна», а лишь получить оценку вероятности достоверности такой разницы. В различных группах исследователей принята негласная конвенция, согласно которой достоверной эта разница считается в том случае, если соответствующая вероятность окажется выше 0,99, или 0,95, или 0,9, то есть опять же величины, устанавливаемой произвольно. Иными словами, применение стандартных статистических критериев не освобождает нас от принятия волевого, по сути, решения о том, считать ли полученную оценку существенной или нет; при этом лишь сужаются границы рассматриваемого диапазона и исключается возможность грубых ошибок.
Подход другой, рафинированно-гуманитарный:
— Бесчеловечна и даже кощунственна сама постановка вопроса: два лишних раковых больных ежегодно — много это или мало? Да даже один дополнительный случай за сто лет — уже много, недопустимо много! Речь ведь идет о человеке, о чьей-то конкретной судьбе, чьем-то горе! Для нас приемлем лишь один критерий — всякий риск должен быть полностью исключен!
Сердцем любой из нас, бесспорно, согласится с этим утверждением. Увы, жизнь всегда сопряжена с риском (существует и более категорическое утверждение: «Жить вредно»). Любой плод цивилизации привносит в нашу жизнь дополнительный элемент риска; можно, например, сломать ногу, поскользнувшись в ванне. Но ведь отсутствие ванны в квартире представляет гораздо большую потенциальную опасность для здоровья. Бывали случаи, когда прохожему на голову падал с высоты пятого этажа кусок штукатурки, и никто в связи с этим не предлагал запретить многоэтажное строительство; ежедневно получают увечья и даже гибнут в автомобильных катастрофах десятки или сотни людей, но никто не предлагает запретить автомобили. Хотя это, несомненно, было бы единственным радикальным действием.
Так вот, еще один способ составить суждение о масштабах дополнительного риска, обусловленного присутствием в среде какого-либо токсиканта, — это сопоставить полученную оценку с цифрой, соответствующей какому-нибудь хорошо известному фактору риска. Чаще всего это именно автодорожные происшествия, иногда — курение или алкоголь. Полученные цифры приобретают некоторую наглядность, но и только. Помню, будучи еще в классе третьем или четвертом, я прочел в газете, что американцы потеряли в ходе второй мировой войны меньше людей, чем за тот же период в автомобильных катастрофах. Это говорилось с неодобрением, я только не сразу понял, что же осуждается — недостаточное участие США в войне или хаос на американских автодорогах?
Есть у автора этой книги приятель — большой любитель почитать газеты. Покупает он их помногу и на разных языках, благодаря чему, в частности, стал уважаемым человеком в пункте приема макулатуры. С его любезного разрешения (как принято писать в научных публикациях) я воспользовался несколькокилограммовой кипой газет, покоящихся у него на шкафу в ожидании обмена на талоны, для проведения простого эксперимента.
Опыт сам по себе был действительно крайне прост, а результаты его, откровенно говоря, легко предсказуемы. Полистал я все эти газеты, выявляя статьи, посвященные в той или иной мере проблемам охраны природы и окружающей среды. В редкой газете таковых не оказалось вовсе; авторы же их беспрепятственно давали выход раздражению и сарказму, словно соревнуясь в разящей силе заголовка: «Ядовитые штормы» («Труд»), «Соленая проблема Рейна» («Трибуна люду», Польша), «Средиземное море: угрожающее состояние, мрачные прогнозы» («Нойес Дойчланд», ГДР), «Посеребрили Днепр» («Правда»), «Загрязнение окружающей среды — опаснейшая угроза человечеству. Международная конференция в Мюнхене» («Жыце Варшавы», Польша), «Я бывшее дерево, меня отравили» («Фольксштимме», Австрия), «Биологическая смерть озера» («Морнинг стар», Англия), «Смерть, затаившаяся на свалках» («За рубежом», перепечатка из американского «Ньюсуик»). Не читает, правда, мой приятель, скажем, по-гречески, по-венгерски или по-японски; сомнений, однако, нет: окажись в экспериментальной кипе газеты из этих стран, было бы и в них предостаточно подобных публикаций.
Всем нам такие статьи попадались многократно, и, откровенно говоря, кое-кому из читателей даже примелькались. Что, мол, толку бить тревогу, пророчить чудовищные катастрофы, скорбеть по поводу вымирания сотен видов животных и растений? Меры надо принимать, а не причитать и кликушествовать!
Меры, конечно, принимаются, и немалые, но, как известно, угроза окружающей среде с годами не исчезает, а возрастает. Отчасти причиной тому наша собственная нераспорядительность, неоперативность, не в последнюю очередь — бедность (или, скажем мягче, отсутствие достаточных средств), но прежде всего дело в том, что никто не может четко сформулировать, какие же меры необходимы в глобальном масштабе, для того чтобы радикально изменить опасное развитие ситуации.
Великое множество различных веществ выбрасывает современная цивилизация в окружающую среду; по большей части это вещества, не образующиеся в природе естественным образом.
Объемы таких выбросов бывают весьма внушительными. Например, ежегодно в мире сжигается несколько миллиардов тонн различных энергоносителей; правда, основная часть образующихся при этом продуктов — это вода и углекислота. Вода, как отмечалось, бывает вредна лишь в исключительных ситуациях, углекислота в тех концентрациях, в которых она присутствует в воздухе, по-видимому, также не причиняет вреда биологическим объектам как химический агент. Другое дело, что с увеличением содержания углекислоты в атмосфере связывают всякие неприятные изменения климата планеты в будущем, главным образом за счет «парникового эффекта» и тому подобных явлений. Правда, специалисты до сих пор не могут даже договориться, какого рода будут эти изменения: одни предсказывают резкое потепление, другие — похолодание.
Но вот третий по массе газообразный отброс энергетики — сернистый ангидрид, попадая в атмосферу, взаимодействует с водными парами, образуя сернистую, а затем серную кислоты. В результате на обширных территориях выпадает печально теперь знаменитые «кислые дожди»: с серной кислотой ни один живой организм общаться не любит. В особенности страдает флора и фауна непроточных водоемов, где кислотность постоянно возрастает; в некоторых озерах Швеции, например, вымерли десятки видов гидробионтов (шведы утверждают, что выпадающая у них кислота — в основном импортная, приносимая ветром из индустриальных районов ФРГ и Польши).
Можно привести и еще один пример опасности, проистекающей от присутствия в нашем окружении вещества вполне заурядного, немудреного — селитры. В обыденном представлении это вполне безобидное соединение; кое-кто наверняка вспомнит даже, что селитра используется при приготовлении некоторых сортов ветчины и колбас — она добавляется для сохранения красного цвета продукта, в небольших, но отнюдь не микроскопических количествах. Безвредность ее проверена тем самым очень длительной практикой производства копченостей; ну, разумеется, как и любое другое соединение, она может повредить если, скажем, начать есть ее ложками. Хотя, казалось бы, трудно представить себе любителя такой закуски.
Оказалось, однако, что таких любителей существует великое множество. И речь идет вовсе не о каких-то извращенных токсикоманах, потребителем нескольких граммов селитры может стать всякий, позволивший себе основательно полакомиться арбузом или дыней, всякий, кому доведется съесть (как говорят, «в охотку») десяток картофельных оладьев или воздать должное какому-нибудь блюду из капусты… Словом, любой из нас.
Это — вовсе не антиарбузная, антикартофельная и т. п. агитация; наоборот, специалисты-диетологи считают, что овощей и бахчевых мы едим все еще недостаточно. Дело совсем в другом.
У представителей симпатичного в целом и трудолюбивого племени дачевладельцев (официально именующих себя членами садоводческих кооперативов) есть одна вполне простительная и даже, может быть, объективно полезная слабость. Не может, скажем, уснуть Анатолий Иосифович, вспоминая, как на соседнем участке Владимир Михайлович копал картошку: с каждого куста по ведру, да клубни-то все с кулак.
Еще горше при этом вспоминать жалкий урожай, собранный самим Анатолием Иосифовичем. И наутро, смирив гордыню, идет он за советом к соседу. А тот, человек благожелательный, ему и объясняет с несколько снисходительным великодушием метра:
— Картошка — она азотные удобрения любит. Я вот не пожалел под каждый куст дать по полстакана селитры…
Действительно, бедноваты азотом почвы средней полосы; при удобрении селитрой она вносится в количестве 60–100 килограммов на гектар. При таких нормах содержание селитры в том же картофеле оказывается менее ста миллиграммов на килограмм. Допустимая суточная доза селитры — около ста пятидесяти миллиграммов, так что такой картофель опасности не представляет. Однако зачастую желание получить урожай побольше приводит к полной утрате осторожности, причем это относится не только к дачникам-рекордсменам. Например, интенсификация процесса выращивания ранних овощей в теплицах привела к тому, что в некоторых случаях количество вносимой селитры составило — в пересчете на гектар — более тонны! В этих условиях содержание селитры в продуктах может достигать нескольких граммов на килограмм.
Чем же вредна селитра? Существует, как известно, несколько соединений с таким названием — калийная селитра KNO3, натриевая — NaNO3, аммонийная — NH4NO3. Какая именно из них была применена в качестве удобрения, с точки зрения токсикологии не имеет значения; все они диссоциируют в организме на безвредные катионы — К+, Na+ или NH4+ и нитрат-анион NO3–. Токсикологические нормы устанавливаются именно по содержанию нитрата.
Хотя, строго говоря, нитрат сам по себе для человеческого организма не так уж и вреден. Однако в желудке и кишечнике есть микроорганизмы, восстанавливающие нитрат NO3– до нитрита NO2–, и вот этот-то последний организму далеко не безвреден. Нитрит-ион действует по механизму точь-в-точь такому же, как и ион синильной кислоты, о котором уже шла речь: он связывается с железом гемоглобина, препятствуя выполнению им основной функции — переноса кислорода.
А автор рекордного урожая Владимир Михайлович потчует заглянувших к нему друзей аппетитными картофельными оладушками. На редкость удались они сегодня его жене, едят гости да нахваливают — один за другим, один за другим. С полкилограмма, поди, каждый умял. В пересчете на селитру это будет, возможно, грамма три-четыре. Не столовая ложка, правда, но чайная — с верхом.
Химик в наши дни — профессия уважаемая, крайне нужная. Часто даже дефицитная, несмотря на бесперебойную работу химических факультетов сотен университетов, технологических, политехнических и всяких прочих институтов. Миллионы химиков работают во всем мире в промышленности, науке, да и в сельском хозяйстве, и в медицине, на транспорте, некоторые носят военную форму — словом, трудно даже назвать отрасль, которой бы не требовались химики.
И вот представьте себе — по всему земному шару, у экватора и за Полярным кругом, в престижных университетах и в захудалых лабораториях провинциальных заводиков сидят химики и что-то синтезируют, синтезируют, синтезируют. В результате появляются ежегодно сотни тысяч новых, ранее не существовавших веществ. Более или менее точную цифру назвать трудно, существуют самые разные оценки. Только в США, по данным примерно десятилетней давности, синтезировалось 120 тысяч новых соединений в год, да в СССР — 40 тысяч. Уже 160 тысяч и еще примерно столько же в остальных странах мира. В среднем — около тысячи веществ в день. За время, которое вам понадобилось для прочтения одной страницы этой книги, уже кто-то где-то синтезировал еще одно неизвестное доселе соединение.
Ну хорошо, синтезировал. Но ведь сравнительно редко синтез новых веществ производится ради чистого, что ли, научно-спортивного интереса. Чаще все же преследуется какая-то конкретная прикладная цель. Вот и в результате очередного синтеза появилось соединение, резко повышающее… ну, скажем, прочность клея или термостойкость краски, а может быть, качество мыла. Возникает вопрос о промышленном получении нового соединения. Таких случаев, конечно, значительно уже поменьше: от одного до нескольких тысяч в год.
И вот тут-то на пути нашего удачливого химика-синтетика появляются какие-то зануды-чиновники, крючкотворы, которые вместо того, чтобы всячески ускорить широкое внедрение замечательной новинки, начинают безбожно его затягивать, цепляться ко всяким малозначительным деталям: проверялось ли новое вещество на токсичность? Какое его количество будет попадать в атмосферу при производстве по предлагаемой технологии? Следует ли считаться с его попаданием в пищевые продукты при пользовании готовыми изделиями? Иногда даже и несколько лет приходится бедному химику-новатору терпеть эти издевательства, прежде чем он получит разрешение на промышленное производство и применение нового вещества. Более того, вовсе нередки случаи, когда он в конце концов получает заключение, запрещающее производство.
Ну, что ж, бедного химика, конечно, жалко (столько трудов — и все впустую!), но, с другой стороны, жалко и нас с вами. Ведь не раз, к сожалению, оказывалось, что пластмасса с замечательными термическими и механическими свойствами выделяет какие-то летучие токсические соединения, и выяснилось это лишь после того, как у людей, постоянно имевших с ней дело, стали наблюдаться странные заболевания крови.
В этом случае, конечно, сами токсиканты (например, образующиеся в результате какой-то медленной реакции с участием нового вещества) могут быть соединениями давно известными. Но, с одной стороны, часто не удается предвидеть их появление, с другой — далеко не всегда мы располагаем сведениями о биологическом действии даже и очень давно известных соединений.
…В первой главе шла речь о механизмах действия сульфаниламидов.
Открытие этого класса лекарственных препаратов — важная веха в развитии медицины, благодаря им резко повысилась эффективность борьбы со многими инфекционными заболеваниями. Впрочем, не вполне точно в этом контексте говорить об открытии сульфаниламидов. Выдающийся швейцарский химик-органик польского происхождения Станислав Костанецкий прославился своими работами в области химии красителей, был избран президентом швейцарского химического общества. В 1910 году, будучи еще не старым человеком, он заболел. За месяц до смерти он писал в дневнике: «Врач предлагает мне операцию. У меня только 50 процентов гемоглобина в крови, мне нечего терять; а ведь у Бейльштейна наверняка описано лекарственное средство против моей болезни».
Здесь имелся в виду энциклопедический справочник по органической химии, составленный петербургским академиком Федором Федоровичем Бейльштейном; постоянно пополняемый, этот справочник переиздавался несколько раз и по сей день служит органикам верой-правдой — разумеется, в виде, очень сильно отличающемся от первоначального. Так вот, в том его издании, которое Костанецкий имел в своем распоряжении в 1910 году, уже были описаны некоторые сульфаниламиды, только вплоть до 1932 года никто не подозревал, что соединения этой группы являются столь эффективным средством для борьбы с болезнетворными бактериями, в частности, стафилококками. Костанецкий же умер от стафилококкового заражения после операции.
Они вовсе не редки, такие ситуации, когда давно и как будто хорошо известные соединения внезапно оказываются ценными лекарствами, эффективными гербицидами или мощными дезинфекционными средствами; история биохимии и фармакологии дает нам множество примеров. Так, когда в 1932 году знаменитый венгерский биохимик Альберт Сент-Дьердьи завершил работу по выделению и установлению структуры противоцинготного фактора — витамина С (впоследствии эта работа была отмечена Нобелевской премией), то оказалось, что это не что иное, как гексуроновая кислота, несколькими годами раньше выделенная из лимонного сока.
Или описанная в предыдущей главе история с индолилуксусной кислотой; более ста лет она была известна химикам, ее получили синтетическим путем и выделили из разнообразных материалов животного и микробиологического происхождения. И только в тридцатых годах нашего столетия выяснилось, что индолилуксусная кислота и важнейший гормон растительного организма гетероауксин — одно и то же соединение.
Без конца можно было бы приводить подобные примеры; мораль: коль уж скоро ты, химик, синтезировал или выделил новое вещество, всесторонне проверь его биологическое действие.
Впрочем, очень многие химики в таких поучениях не нуждаются. Скажем, синтезировал себе химик новое соединение; соединение не слишком мудреной структуры, так что даже и в лабораторных условиях его можно получать килограммами. Почему он синтезировал именно такое вещество, его, химика, тайна; иногда он говорит что-то об интуиции, иногда честно признается, что хотелось-то ему создать нечто совсем другое, но в отсутствие нужных реактивов и оборудования… Или, скажем, были надежды, что удастся получить таким образом новый отвердитель для лаков, да вот, к сожалению… Словом, не будем придавать значения его объяснениям, а посмотрим, как он этим веществом распорядился.
И окажется, что совсем нередко несостоявшийся отвердитель решают проверить — бог один опять же знает, почему, — в качестве стимулятора всхожести семян огурцов. Или средства борьбы с сердцевинной гнилью осины, или ингибитора прорастания клубней картофеля, или средства повышения яйценоскости кур и т. п. А чаще всего — во всех ролях сразу.
Мне известны многочисленные случаи, когда образцы нового препарата раздавались на испытания в десятки организаций: колхозов, исследовательских институтов, предприятий микробиологической промышленности, лесопитомников, заповедников и уж не знаю каких еще. За испытания чаще всего брались энтузиасты, люди неравнодушные ко всему новому, к всяческим проявлениям научно-технического прогресса, но, к сожалению, не всегда достаточно знакомые с техникой, организацией и основополагающими принципами биологических испытаний. В подавляющем большинстве опытов результаты оказывались положительными: привесы увеличивались, яйценоскость возрастала, сорняки гибли, культурные растения развивались быстрее, повышался выход кормовых дрожжей, отступали грибковые заболевания сеянцев и т. п.
— Пиво у нас особенное, — шутили когда-то посетители пивбара в Елгаве, что под Ригой, — хорошие люди от него веселеют, а у плохих живот растет.
Так вот почему-то неизменно оказывается, что хорошие, полезные микроорганизмы, кормовые дрожжи, под действием испытуемого препарата бурно идут в рост, а плохие, вредящие культурным растениям — погибают. Конечно, наука о биологически активных соединениях допускает в принципе и такое (всякое лекарство — яд и т. д., см. чуть выше), но если из сорока испытаний препарата в различном качестве в тридцати восьми получен положительный результат — это, мягко говоря, настораживает.
И не следует вовсе думать, что испытания проводили люди недобросовестные (хотя встречается, конечно, и такое). В большинстве случаев их субъективная честность не вызывает сомнений, однако почти во всех таких вот самодеятельных испытаниях допускаются грубейшие нарушения техники и технологии биологического тестирования.
Вот характерный пример. Самая крупномасштабная отрасль микробиологической промышленности — производство кормовых дрожжей; существует две основных его разновидности: дрожжи выращиваются либо на гидролизатах древесины, либо на парафинах нефти. В разное время было предложено несколько десятков так называемых биостимуляторов — препаратов, добавление которых в ферментер в незначительных количествах увеличивало скорость роста, повышало выход дрожжевой биомассы с единицы затраченного сырья или сказывалось иным благотворным образом. Как мне рассказывал директор, умудренный многолетним опытом работы в отрасли и принимавший участие во многих подобного рода испытаниях, результат всегда оказывался примерно одинаковым.
В назначенный день в опытный ферментер подается питательная смесь с добавлением биостимулятора. Эксперимент, естественно, вызывает интерес и у инженерно-технических работников, и у рабочих, сам директор несколько раз в день интересуется: как здесь у вас дела? К концу, скажем, третьей смены оказывается, что дела как нельзя лучше, выход увеличился почти на пятнадцать процентов.
Все довольны, автору чудодейственного препарата жмут руки, составляется акт испытаний, в котором официально удостоверяется эффективность нового биостимулятора; главный инженер прикидывает в уме размер предстоящего перевыполнения плана и даже — очень приблизительно — величину соответствующих премий. Да вот только незадача: на следующие сутки прирост составляет уже не пятнадцать, а только восемь процентов, затем — три, а к концу недели показатели ферментера, получающего биостимулятор, ничем решительно не отличаются от всех остальных. На мой вопрос, почему же такая картина воспроизводится почти всякий раз, многоопытный директор лишь снисходительно улыбнулся:
«Когда вокруг ферментера крутится половина инженеров и все руководство завода, естественно, четче работает персонал, более тщательно соблюдается технологическая дисциплина. Назавтра внимание к эксперименту уже ослабевает, нет той мобилизации, а еще пару дней спустя все опять работают по-прежнему».
В этой связи укажем на допущенное здесь основное нарушение правил биологических испытаний. В качестве контроля при определении эффективности биостимулятора использовались ферментеры, заведомо его не получившие; следовало же сравнивать результат, достигнутый на опытном ферментере, с производительностью ферментера, в который подавалась питательная среда с добавкой, внешне неотличимой от биостимулятора, но биологически инертной. При этом персонал, осуществляющий эксперимент, должен получать оба препарата под шифрами и не знать заранее, «что есть что».
Такой подход всегда используется при испытаниях новых лекарственных средств; контрольная группа добровольцев получает так называемое «плацебо» — таблетки или пилюли, внешне не отличающиеся от тех, которые содержат новое лекарство, но на самом деле состоящие из одного наполнителя. Благодаря этому удается, в частности, исключить эффекты самовнушения.
Впрочем, нет, по-видимому, нужды доказывать, что биологическими испытаниями новых химических соединений должны заниматься специализированные учреждения, тогда ошибки, подобные рассмотренной, были бы надежно исключены. Но вспомним, ежегодно синтезируются сотни тысяч новых соединений!
На что используются благие намерения? Известное дело — ими ад вымощен. Я оцениваю (пока лишь предположительно), что добрых несколько километров просторного проспекта с многорядным движением имеет покрытие из материалов совершенно особого рода.
Уже много лет идет разговор — и у нас, и за рубежом — о том, что должна существовать государственная система регистрации и биологических испытании химических соединений. Соответствующий национальный орган должен быть наделен драконовскими полномочиями: ни одно вещество, не зарегистрированное должным образом и им не испытанное, не может находить какого-либо применения, за исключением очень узкого круга лабораторных задач. Оно должно считаться, как настаивают носители наиболее радикальных взглядов, просто несуществующим. Никаких публикаций о нем, никакого упоминания в официальных документах.
К этой идее все относятся с полным одобрением, пониманием важности задач, решаемых подобным органом, многие — с энтузиазмом. Правда, до тех пор, пока не возьмут в руки карандаш. Приведем вслед за Г. М. Баренбоймом и А. Г. Маленковым несколько цифр, характеризующих масштабы трудностей, связанных с повальным и всесторонним испытанием новых соединений. Возьмем только те испытания, которые необходимо выполнить на лабораторных животных. Пусть проверяется 100 типов биологической активности (цифра вовсе не чрезмерная) В каждом случае нужно испытать как минимум три концентрации, причем каждую на группе хотя бы в 10 животных… Перемножая эти цифры, получаем: три тысячи животных на одно вещество! Примерно половину из этого количества должны составить мыши (вес одной мыши — около 25 граммов), треть — белые крысы весом уже 250 граммов каждая, остальные поровну морские свинки (350 граммов) и кролики (2500 граммов). Таким образом, на испытание одного соединения нужно более тонны лабораторных животных!
Можно только вообразить себе, какое негодование подобные расчеты вызывают у упоминавшихся организованных друзей животных; а ведь эту тонну еще предстоит умножить на несколько сот тысяч — количество ежегодно синтезируемых веществ.
Правда, непосредственных оснований для беспокойства у выше поименованных друзей пока нет, ни в одной стране мира подобная служба не существует. И вовсе не по одним только соображениям милосердия.
Дорого это все непомерно, чаще всего — намного дороже самой работы по созданию нового вещества. Даже если подумать только о стоимости этой тонны лабораторных животных: килограмм живого их веса — живого веса существ, часто изнеженных, прихотливых и переборчивых в еде, — стоит намного дороже, чем килограмм лучшей говядины или свинины. Вот уже многие тысячи или даже десятки тысяч рублей. Квалифицированный экспериментатор берет в опыт ежедневно от нескольких штук до нескольких десятков животных, значит, для реализации работы с одним веществом понадобится сотни человеко-дней. Да эксплуатация аппаратуры (часто очень недешевой), да реактивы…
Это с одной только стороны. С другой — чаще всего вновь синтезируемые вещества получаются в ничтожных количествах в результате очень сложных, времяемких и дорогостоящих экспериментальных процедур. Пусть наивысшая испытуемая доза — 10 миллиграммов на килограмм веса животного (эта цифра скорее занижена, при испытании большинства соединений приходится применять гораздо более высокие дозы). Тем самым для всей серии испытаний потребуется 10 граммов; большинство химиков — авторов новых синтезов — лишь в ужасе возденут руки, услышав эту цифру.
При этом надо иметь в виду, что положившее начало нашим рассуждениям предположение о необходимости испытания именно ста различных проявлений биологической активности — совершенно произвольно. Эта цифра наверняка занижена, даже если речь идет только о тестах на млекопитающих. А ведь еще необходимо проверить действие нового вещества на растения, на микроорганизмы, да и на животных других классов — рыб, насекомых, простейших и т. д.
Трудно даже представить себе, в какую сумму обойдется комплексное испытание биологического эффекта нового вещества по схеме, которую специалисты смогли бы признать вполне всесторонней и исчерпывающей.
Очень приблизительное суждение можно составить на основе данных о реальных затратах на установление величин предельно допустимых концентраций (ПДК) для отдельных веществ. Совокупность применяемых для этого тестов позволяет зафиксировать прямо или косвенно многие проявления биологической активности, но, конечно, даже не приближается к масштабам, которые видятся разработчикам системы государственных испытаний. Так вот, стоимость установления одной нормы ПДК согласно недавним американским данным составляет около одного миллиона долларов. (Советские авторы называют несколько меньшие оценочные суммы, хотя тоже далеко не шуточные — от 43 до 200 тысяч рублей.) Если даже ограничить аппетиты создателей системы госиспытаний до объемов, принятых при установлении ПДК на каждое вещество, нужно вести речь о затратах порядка сотен миллиардов долларов ежегодно. Для сравнения: стоимость ежегодного валового национального продукта США исчисляется величиной, большей всего лишь на порядок.
Словом, нелегкое это дело (а можно утверждать, и вовсе невозможное) — создать единую систему испытаний биологической активности химических соединений, которая позволяла бы выявлять все мыслимые проявления их биологической активности. Тем не менее теоретические основы структурной организации и принципов функционирования подобной системы, возможно, более широкообъемлющей, хотя и лимитированной современными экономическими реалиями, в настоящее время интенсивно разрабатываются во многих исследовательских центрах. Этим проблемам, в частности, посвящена уже несколько раз цитированная книга Г. М. Баренбойма и А. Г. Маленкова «Биологически активные вещества». Благодаря доступности языка и ясности рассуждений эта весьма специальная книга понятна также и неспециалистам.
Однако, даже относясь с симпатией к целям и движущим мотивам авторов подобных исследований, приходится признать, что путь от разработки общих теоретических принципов до, по существу, новой отрасли народного хозяйства (вспомните о затратах — сотни миллиардов долларов) очень неблизок. По-видимому, еще не раз будущие историки науки зафиксируют парадокс Костанецкого — эффект, демонстрирующий нашу очень далеко идущую, порой постыдную зависимость от игры случая.
Методом проб и ошибок в той или иной степени пользовались и продолжают пользоваться все естественные науки, однако для таких наук о биологически активных соединениях, как фармакология или токсикология, этот метод является прямо-таки доминирующим.
Правда, в наши дни он применяется не совсем уж вслепую; понимание важнейших молекулярных механизмов, лежащих в основе проявления того или иного вида биологической активности, позволяет резко ограничить сферу поиска интересующего нас препарата (например, используя подходы, подобные рассмотренным в главе 3); однако и сегодня еще химикам приходится синтезировать и испытывать сотни соединений некоторого ряда, прежде чем будет найден препарат, устраивающий их во всех отношениях: высокоактивный, не обладающий побочным действием, устойчивый к действию определенных групп ферментов (или, наоборот, быстро ими разлагающийся). Несмотря на значительный прогресс в понимании сути физико-химических процессов, определяющих ту или иную форму биологической активности, поиск нового препарата по-прежнему очень сильно напоминает ту самую схватку с призраком, а исследователи вынуждены предпринимать совершенно вслепую множество ходов.
Метод проб и ошибок вовсе не обязательно реализуется в форме сознательного поиска нужного биологически активного соединения. Многих из нас тянет порой пожевать какой-то листик или стебелек; иногда мы отмечаем про себя, что вот эта травка — на вкус сладкая, эта — кислая, а вон та — горьковатая, но тем не менее приятная. А более наблюдательные могут в некоторых случаях обратить внимание на более отдаленные последствия: головную боль, скажем, или — чем черт не шутит — неожиданное исцеление затяжного желудочного расстройства.
Именно на этом пути делались первые шаги к становлению фармакологии и токсикологии в доцивилизованные еще времена. Собирателями и хранителями таких сведений, копившихся столетиями или даже тысячелетиями, были различного рода шаманы, колдуны, жрецы. Часто шаманы при отправлении различных ритуалов приводили себя в состояние экстаза с помощью одурманивающих снадобий, преимущественно растительного происхождения.
Истоки современной науки о биологически активных соединениях следует, видимо, искать в первых попытках обобщения опыта этой, как бы сказали в наши дни, народной медицины. Тем более что такой опыт нуждается в тщательной очистке от всевозможных плевел, примеси мистики, порой примитивной, иногда рафинированной.
В очагах великих цивилизаций древности — Средиземноморье, Индия, Китай — появились энциклопедические труды, содержащие описания тысяч лекарственных снадобий, ядов, дурманящих средств, причем возникли почти независимо друг от друга, базируясь на совершенно различных традициях народной медицины.
Первая серьезная попытка их обобщения была предпринята лишь на рубеже нынешнего тысячелетия блестящим Авиценной. Впрочем, многие региональные ветви «традиционных медицин» продолжали развиваться в почти герметической изоляции до самого последнего времени; вспомним хотя бы тибетскую медицину, ассимиляция канонов которой современной наукой начата лишь недавно (и не без элемента подозрительной сенсационной шумихи, но это уже отдельный вопрос).
Современные историки медицины считают, что большинство лекарственных средств, известных древним, было обнаружено случайно; не исключено, конечно, что и тогда находились люди, которые занимались систематическим и сознательным поиском лекарств или ядов.
И в наше время многие ценные биологически активные соединения нередко открываются совершенно случайно. Лучший пример — история открытия пенициллина, открытия, знаменующего собой целую эпоху в современной фармакологии.
Александр Флеминг, английский микробиолог, был занят исследованием стафилококков, бактерий, вызывающих ряд популярных заболеваний: ангины, фурункулы, абсцессы, некоторые пищевые интоксикации.
Для выращивания стафилококков использовалась желеобразная масса, приготовленная на агар-агаре, полисахариде, получаемом из морских водорослей; это традиционная среда для проведения микробиологических экспериментов. Как-то Флеминг обнаружил в одной из чашек с культурой стафилококка зеленые пятнышки плесени — явный брак в работе, ведь культура должна быть стерильной.
Что сделал бы на его месте любой шеф любой лаборатории? Ясное дело, накричал бы на лаборантов, готовивших среду, проводящих посев, а заодно и на других, никакого отношения к этому делу не имевших. Впрочем, бог его знает, быть может, Флеминг именно так и поступил, но только он еще и обратил внимание на одно примечательное обстоятельство: стафилококки, находившиеся в непосредственной близости к пятнам плесени, погибли. Понимая, что плесень выделяет какое-то токсичное для них вещество, Флеминг подумал, что на этом пути можно получить новый лекарственный препарат; он исследовал влияние агар-агара из пограничных с плесенью зон на лимфоциты и не обнаружил какого-либо вредного действия. По каким-то причинам, однако, на этом он и остановился, а действующее начало плесневелого секрета, губительное для стафилококков, — пенициллин (латинское название плесени, испортившей достопамятный эксперимент Флеминга — пенициллюм нотатум), было выделено лишь одиннадцать лет спустя X. Флори и Е. Чейном, также английскими исследователями. Англичанином же оказался и первый вылеченный пенициллином пациент — полицейский из Оксфорда.
Это, по-видимому, самый значительный по своим последствиям случай непреднамеренного обнаружения биологически активного соединения; но далеко не единственный. В качестве более современного и несравненно более яркого примера приведу целиком заметку из одной зарубежной газеты — оговорившись, впрочем, что сам воспринимаю эту историю не без дозы скепсиса.
«Два-три раза в месяц шимпанзе, обитающие в национальном парке Танзании Гомбе, вели себя исключительно странным образом. Неожиданно отказывались от самых аппетитных плодов и толпой отправлялись в один из удаленных участков парка. Там они садились в кружок вокруг куста аспилии и начинали своеобразный ритуал. Каждая обезьяна срывала лист, тщательно разжевывала и держала во рту, а спустя одну-две минуты глотала.
Это заинтересовало зоологов. Химический анализ листьев кустарника, выполненный недавно канадскими и танзанийскими учеными, дал неожиданный ответ. Именно оказалось, что аспилия содержит неизвестный до сих пор антибиотик. Шимпанзе, разжевывая листья и задерживая их во рту, давали время антибиотику для проявления его действия. Этих одной-двух минут было достаточно, чтобы он ликвидировал находящиеся в полости рта бактерии и болезнетворные грибки, а попадая в желудок, продолжал оказывать бактерицидное действие. Фармакологи решили использовать листья этого кустарника для производства нового антибиотика, который, вероятно, получит название „аспиллин“. Таким образом, человек не только происходит от обезьяны, но и может еще от нее кое-чему научиться».
А поскольку такой ритуал, по-видимому, должен передаваться из поколения в поколение, можно было бы предположить, что история поиска биологически активных веществ гораздо более продолжительна, чем история человечества, и что наши предки — перволюди унаследовали от своих обезьяньих пращуров не только всякие анатомо-морфологические особенности, но и немалый интеллектуальный багаж, в частности, в области медицины. Ну что ж, такое вполне вероятно — независимо от степени достоверности приведенной заметки. Отмечу еще, что в предметных указателях ведущих отечественных и зарубежных реферативных журналах термин «аспиллин» пока не фигурирует.
А тем временем газеты приносят вести о случайных открытиях все новых и новых ценных биологически активных веществ. Вот, мол, некий Крэг Шепард, биолог из университета штата Джорджия, обратил внимание на следующий факт. Автомеханик, окончив работу, вытер руки тряпкой, смоченной особым растворителем, и бросил эту тряпку на муравейник. Вскоре Шепард обнаружил, что муравьи под тряпкой подохли.
Решительно ничего удивительного в этом нет: действительно, трудно выжить в атмосфере паров органического растворителя даже муравью. Однако ученый, как сообщает газета, обратил внимание на то обстоятельство, что «главной составной частью этого растворителя было вещество, выделяемое из кожуры апельсина». Не скрою, я прочел это место с недоверием, но — бог знает, там у них, в Америке, всякие странности бывают, может быть, и низкосортный растворитель из апельсинов — тоже.
«Дальнейшие исследования показали, что кожица другого плода из семейства цитрусовых через 15 минут поражала двигательные органы мух, а спустя 2 часа убивала их. Осы, сверчки, оводы — все эти насекомые оказались беззащитными против цитрусов. Это делает их идеальным — естественным (!) инсектицидом. В настоящее время химики работают над точным определением структуры вещества, которое оказалось убийственным для насекомых. Новый инсектицид на основе цитрусовых наверняка обрадует также производителей соков из этих плодов, которые не знают, что делать с тоннами отходов».
Именно этих самых производителей соков я и заподозрил бы в организации появления этой заметки — авось и впрямь найдется желающий организовать завод по получению инсектицида из апельсиновых корок, до сих пор пропадающих втуне (позвольте, позвольте, а из чего же изготавливается растворитель для мытья рук автомехаников, с которого началась вся эта история?). А с другой стороны — в книге по домоводству, принадлежавшей моей бабушке (год издания — 1863), встретился мне и такой полезный совет: апельсиновые корки не выбрасывайте, а, подсушив, кладите в платяные шкафы. Очень хорошо помогает от моли.
У некоторой части читателей, по-видимому, шевельнется сомнение: да полно, может ли эта самая наука о биологически активных веществах вообще называться наукой в современном понимании этого термина? Если единственный, по существу, способ обнаружить какое-то биологическое действие данного соединения — это его испытание на живых объектах, неважно, в конце концов, осуществленное случайно или в результате систематического перебора тестов.
Настоящая наука призвана выявлять общие закономерности; скажем, физик, лишь взглянув на формулу вновь синтезированного соединения, сможет что-то сказать — пусть в самых общих чертах — о его спектроскопических характеристиках, химик — о реакционной способности, растворимости и т. п. А если им дать возможность пообсчитать кое-что на ЭВМ, сообщат и заряды на атомах, и теплоту сгорания, и много чего еще. Потому что им известны фундаментальные законы, определяющие протекание реакций, взаимодействие вещества со светом, распределение электронной плотности в молекулах, причем чаще всего эти законы имеют вид четких математических формул.
А что же вы, уважаемые токсикологи, фармакологи и прочие? Где ваши фундаментальные законы?
Поиски всеобщих законов, связывающих структуру соединения с его биологической активностью, имеют почти столь же длительную историю, как и сама химическая наука. При желании попытки такого рода можно обнаружить и в трудах древних атомистов, и у средневековых алхимиков. Упомянуть последних здесь, пожалуй, особенно уместно. Не удалось им найти способ превращения неблагородных металлов в золото; как мы теперь знаем, это невозможно в принципе. (Опустим оговорки по поводу ядерных реакций.) Совершенно аналогично ныне есть все основания утверждать, что единые, универсальные законы, связывающие химическое строение вещества с его биологической активностью, вообще не существуют, так что дело здесь вовсе не в недостаточной настойчивости или умственной ограниченности алхимиков и всех последующих поколений адептов их тайного искусства, включая наших современников, священнодействующих в лабораториях, до отказа нашпигованных мудреной техникой, включая ЭВМ.
Впрочем, именно с приходом в лаборатории ЭВМ появились и кое-какие надежды. Не на отыскание, впрочем, тех универсальных законов, а на создание процедур, которые позволили бы сделать хотя бы предположительное суждение о проявлении того или иного вида биологической активности данным веществом на основании только его структурной формулы.
Такие машинные процедуры чрезвычайно громоздки, их разработка — дело весьма и весьма трудоемкое, надежность предсказания в среднем не очень высокая, а порой вообще не выдерживает никакой критики. Наконец, в них полностью отсутствует столь ценимая теоретиками красота, лаконичная элегантность, присущая, например, выражениям типа E = mc2 или «квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов».
Прежде всего перенос задачи на ЭВМ предполагает использование лишь вполне четких формулировок. Для этой цели разрабатываются специальные языковые средства. Чтобы иметь возможность принять вопрос: «Какими проявлениями биологической активности обладает данное соединение?» — машина должна располагать информацией о том, какие виды биологической активности бывают вообще, и иметь возможность однозначно определить, о каком именно соединении идет речь. Обе проблемы не кажутся на первый взгляд непреодолимыми; так оно, конечно, и есть. Их решение, однако, наталкивается на массу мелких, но досадных трудностей. Пролистаем бегло весьма специальное (тираж 220 экземпляров) издание «Тезаурус информационно-поисковый по биологически активным соединениям», составленный Е. М. Михайловским, В. В. Авидоном и Р. К. Казаряном. Это, как пишут сами авторы, «терминологический словарь-справочник, в котором систематизированы лексические единицы дескрипторного информационно-поискового языка по биологической активности химических соединений и важнейшие парадигматические связи между терминами».
Поясняя это определение более пространно и с помощью менее специальных «лексических единиц», можно сказать, что речь идет о перечне и систематизации терминов, принятых в данной автоматизированной системе обработки данных, четком установлении связей между ними. Система разрабатывается для нужд фармакологических исследований. Сами авторы подчеркивают, что тезаурус «не представляет собой какой-либо новой классификации лекарственных средств». Тем не менее одно из его назначений — закрепление некой принятой в дальнейшем систематики биологических свойств химических соединений.
Рассматриваются три аспекта их действия. Так, по фармакологическому эффекту все препараты можно подразделить на 217 групп; алфавитный их перечень возглавляют «Агрегации тромбоцитов активаторы», замыкают — «эритропоэза стимуляторы», а между ними находим «антидепрессанты», «жажды стимуляторы», «противобактериальные», «снотворные» и т. д. Некоторые группы подразделяются на более мелкие, например, «противокашлевые» на «противокашлевые наркотические» и «противокашлевые ненаркотические»; все три входят в число упомянутых 217.
Другой способ классификации — по механизмам биологического действия: «аденилатциклазы активаторы», «гормонов антагонисты»… «серотонинподобные»… и так далее, вплоть до трудночитаемого «UDP-N-ацетилглюкозамингликопротеид N-ацетилглюкозаминилтрансферазы ингибиторы»; всего 309 групп. Преобладают активаторы и ингибиторы различных ферментов.
Наконец, принята и классификация по месту действия (168 групп) «вестибулярный аппарат», «железы слюнные», «мозг спинной», «протопласт бактерий»… «ухо»… «яйца насекомых». С помощью такого словаря-систематики тем самым определено, какие виды биологической активности вообще существуют. Комбинируя термины, входящие в три описанных перечня, можно определять более узкие группы проявлений биологической активности. Например, сосудорасширяющие препараты — это те, которые принадлежат одновременно группе «спазмолитики» первого перечня и «гладкая мускулатура артерий» третьего перечня.
Очевидно, предполагается, что по мере накопления новых данных тезаурус будет систематически пополняться и видоизменяться.
При разработке языка для описания структуры химического соединения приходится сталкиваться с проблемами совсем иного рода.
Уж формулы как будто чуть ли не сами должны лезть в ЭВМ. Они-то, ЭВМ, в конце концов, и созданы для восприятия формул: один из наиболее популярных языков программирования — фортран образует свое название от английского FORmula TRANslation — «перевод формул».
К сожалению, речь идет вовсе не о структурных формулах, употребляемых в химии. То есть, конечно, можно в конце концов заставить ЭВМ работать и с такими формулами, но для этого понадобится создать соответствующий язык.
Таких языков было предложено несколько — в зависимости от особенностей задач, которые предстояло решать.
Какую информацию нужно ввести в машину для того, чтобы однозначно описать структуру какого-либо соединения? Пусть это будет, скажем, молекула этилового спирта.
Во-первых, должен быть дан перечень образующих ее атомов; пронумеруем их каким-нибудь образом. Например, номера (индексы) от 1 до 6 присвоим атомам водорода, 7 и 8 — углерода, 9 — кислорода:
Во-вторых, перечислим существующие в молекуле валентные связи; это можно сделать, указав пары индексов атомов, между которыми такие связи существуют: (1, 7), (2, 7), (3, 7), (4, 8), (5, 8), (6, 9), (7, 8), (8, 9). В рассмотренной молекуле этанола все связи одинарные; при необходимости можно, однако, привести отдельные наборы пар индексов, которые определяют положение одинарных, двойных, тройных связей.
Вот, казалось бы, и вся премудрость. Действительно, информация, представленная в такой форме, четко и однозначно описывает именно структуру молекулы этилового спирта. Беда, однако, в том, что такое описание может быть осуществлено очень многими способами. В самом деле, мы произвели нумерацию атомов в молекуле совершенно произвольным образом: сначала пронумеровали все атомы водорода, затем — углерода и кислорода. Но ведь ничто не мешает пронумеровать их в обратной последовательности, или по мере перемещения от одного конца молекулы к другому, или еще каким-нибудь образом. Каждый раз мы получим точное описание именно молекулы этанола; все такие описания будут совершенно эквивалентны.
Таким образом, каждая структурная формула может быть записана в ЭВМ многими, часто очень многими способами. Нетрудно даже было бы выписать пару формул с несколько устрашающим обилием факториалов, но не станем этого делать. Достаточно сказать, что для сравнительно немудреной и скромной по размерам молекулы этанола это число составит около четырех тысяч.
Если, таким образом, попытаться теперь составить словарь описанного нового языка — точнее, русско-«новоязычный» словарь, против русского термина «этанол» оказалось бы четыре тысячи синонимов, причем синонимов совершенно равнозначных, не различающихся никакими смысловыми оттенками в отличие от того, как это обычно бывает в «настоящих» языках.
Нечего и говорить о том, сколь неудобен в работе такой словарь; а ведь избранная нами в качестве примера молекула этанола — одна из простейших органических молекул; число же синонимов в принятом нами описании лавинообразно растет с увеличением размеров молекулы. Уже для знакомой нам пальмитиновой кислоты, тоже далеко не чемпиона по размерам и сложности строения среди интересующих нас соединений, выписать все синонимы просто нет технической возможности; для этого понадобилось бы гораздо больше бумаги, чем ее произведено за всю историю человечества.
По счастью, в составлении подобных словарей нет нужды, хотя отмеченная особенность рассмотренного языка описания химических структур создает немалые трудности при его использовании в процедурах прогнозирования биологической активности химических соединений по их формуле.
Их разработано очень много, этих процедур, и сами авторы обычно признают, что все они весьма, весьма далеки от совершенства. При этом имеются в виду два обстоятельства: сравнительно невысокая надежность получаемых предсказаний и чисто эмпирический характер, отсутствие в применяемых алгоритмах явных представлений о конкретных молекулярных механизмах, лежащих в основе того или иного вида биологической активности.
В третьей главе были, правда, вкратце рассмотрены подходы, базирующиеся именно на таких представлениях, изучающие требования, предъявляемые рецептором к пространственной структуре молекулы биологически активного соединения, взаимодействие отдельных функциональных групп рецептора и биорегулятора и т. п. Однако работы этого направления лишь самые, самые первые ласточки. Они касаются очень немногих, очень узких групп аналогов природных биорегуляторов, для которых в силу благоприятного стечения обстоятельств вообще оказалось возможным применение таких аналитических приемов (как говорят: «ищем не там, где потеряли, а там, где светло»). Да и надежность получаемых при этом оценок также далеко не стопроцентная.
Область применения эмпирических процедур анализа связи «структура — активность» (или, как часто говорят, структурно-функциональных отношений) — вещества сравнительно простые, состоящие из десятков атомов. Это и понятно, поскольку все такие процедуры — вероятностные, основанные на соотнесении каких-то характерных признаков молекулы, степени выраженности ее биологической активности в какой-то тестовой системе. Чем крупнее молекула, тем большим числом признаков она характеризуется. Значительная их часть окажется при этом несущественной с точки зрения наличия или отсутствия данного вида биологической активности, а для выявления в этой ситуации немногих существенных признаков нужны данные об активности очень большого числа сходных по структуре молекул. На самом деле все обстоит как раз наоборот: сведений, относящихся к более сложным молекулам, относительно мало, хотя бы потому просто, что их труднее синтезировать.
Впрочем, это уже начался разговор о сути методов анализа связи «структура — активность».
Для реализации подавляющего большинства таких методов необходимо, однако, решить еще одну техническую проблему: создать банки данных по биологическим активностям химических соединений. Это наиболее сложная часть подготовительного этапа, очень трудоемкая и дорогостоящая. Нужно «перевести» на принятые языки сведения о структуре вещества, его биологической активности, для многих процедур требуются еще и данные о физико-химических свойствах. Все эти данные вводятся в память ЭВМ; для организации их размещения и последующего извлечения для обработки создаются специальные пакеты программ.
Из-за огромного объема связанных с этим работ часто ограничиваются созданием узкоспециализированного банка данных, ориентированного на решение определенного класса частных задач; в последнее время, однако, предприняты успешные попытки создания более универсальных банков данных. Это очень сложно организованные службы (обычно международные), занятые обработкой существующей и сбором постоянно поступающей новой информации о биологической активности химических соединений.
Но, допустим, все эти, в сущности, технические трудности позади. Решены все языковые проблемы, создан банк данных, можно приступать наконец к анализу связи «структура — активность».
Наиболее универсальные подходы к решению задач подобного рода базируются на теории распознавания образов.
Предположим, идете вы по осеннему лесу, помахивая корзиной, в которой лежат две-три сыроежки, и жадно шарите взором по траве. Стоп — шляпка! Наклонившись, срезали. Осмотрели — типичная свинушка. Как вам удалось это установить? Все очень просто, ответит специалист по теории распознавания образов. Каждый гриб можно описать с помощью некоторого набора признаков: пластинчатый или губчатый, цвет шляпки, форма шляпки и ножки, глянцевитая или матовая поверхность, цвет «мяса» и т. п. Обучаясь различению грибов, вы рассматривали представителей различных их видов, причем знающий человек («учитель») вам говорил: вот это, мол, подберезовик, то — волнушка, а вон то — опенок. Иногда он специально указывал на какой-то отличительный признак скажем, характерным образом подогнутые края шляпки, иногда вы просто полагались на зрительную память. Таким образом, вы вырабатывали для себя решающее правило, с помощью которого теперь уже без помощи учителя сумеете определить вид вновь найденного гриба, то есть отнести его к соответствующему классу подлежащих распознаванию объектов.
Не всегда вы сможете это правило сформулировать вполне четко. Есть признаки, совершенно однозначно определяющие вид (скажем, белые бородавки на ярко-красной шляпке), присущие многим видам (выпуклая форма шляпки) или практически бесполезные при определении вида (размер). Некоторые комбинации признаков, характерных для данного вида, мы часто воспринимаем «на глаз», и если нас спросят, почему мы решили, что это именно опенок, а не шампионьон или (чур, чур!) бледная поганка, объяснить будет трудно, хотя, положив рядом опенок и шампиньон, мы в конце концов сможем указать вполне конкретные различия в отдельных признаках или их комбинациях. Это — так называемая задача обучения распознаванию образов. Если же вы, к примеру, попали на обитаемый остров, где произрастают разные виды грибов, то, будучи человеком наблюдательным, рано или поздно сами создали бы для себя определенную их классификацию (таксономию), необязательно, конечно, совпадающую с общепринятой научной. Это случай так называемого самообучения.
Если описание объекта можно легко формализовать — например, в качестве признаков используются числа, наличие или отсутствие какого-либо элемента и т. п. — почему бы не поручить задачу распознавания вычислительной машине?
Пусть, для простоты, признаков только два, и оба — числа. Например, имеются результаты обследования ребятишек в детском саду; выяснилось, до скольких ребенок умеет считать (признак а) и измерялся его рост (признак в). Представим графически данные, относящиеся к двум группам, старшей и младшей, откладывая по оси абсцисс признак а, а по оси ординат — признак в, так что каждому объекту (ребенку) будет соответствовать точка. Окончив эту работу, мы убедимся, что точки располагаются на графике двумя «роями» — один поближе к началу координат, другой — подальше от него; если же при построении мы наносили разными цветами точки, соответствующие объектам младшей (зеленые) и старшей (красные) групп, мы обнаружим, что совершенно очевидно первый рой образован почти исключительно зелеными точками, второй — красными.
Вычислим средние значения признаков а и в для двух групп и пометим соответствующие точки на графике (центры групп). Можно предложить следующее решающее правило: данный объект принадлежит той группе, ближе к центру которой расположена соответствующая ему точка. Это — пример так называемой геометрической интерпретации задачи распознавания образов. Если теперь нам предстоит определить на основании параметров а и в, к младшей или старшей группе принадлежит данный курносый объект, нам достаточно нанести на график соответствующую точку, измерить расстояния до центров первой и второй групп и сравнить их между собой. ЭВМ, разумеется, такую процедуру выполняет безо всяких графиков, расчетным путем. Обучение в данном случае заключалось в вычислении средних для двух групп.
Внимательно исследовав еще раз график, мы обнаружим, что принятое нами решающее правило срабатывает не всегда: пара зеленых точек расположена ближе к «красному» центру, чем к своему, «зеленому», и наоборот. Действительно, может иногда встретиться в младшей группе вундеркинд, считающий, скажем, до тысячи, а если он к тому же и ростом заметно обогнал сверстников — наша процедура неминуемо совершит ошибку и отнесет его к старшей группе. Причем такие случаи вовсе не являются следствием несовершенства решающего правила: полностью безошибочная классификация на основании только значений параметров а и в здесь невозможна в принципе, а полученное указание на принадлежность объекта именно этой группе следует трактовать таким образом, что он с большей вероятностью относится к ней, чем к другой. (Вспоминается консилиум у постели Буратино: «Пациент скорее жив, чем мертв».)
Существует много способов вычисления этой вероятности; ясно, что такого рода оценку можно сделать уже на основании величин расстояний от рассматриваемой точки до двух центров. На нашем графике нетрудно провести прямую, точки которой в равной степени удалены от каждого из них, и если точка, соответствующая некоторому объекту, расположится именно на ней, мы с помощью нашего решающего правила вообще ничего не сможем сказать о принадлежности объекта той или иной группе.
Очень, конечно же, большое значение имеет выбор параметров, на основании которых происходит распознавание. В рассмотренном примере этот выбор был удачным в том отношении, что параметры а и в независимы (рост и умственное развитие ребенка в данном возрасте необязательно взаимосвязаны). Кроме того, что еще важнее, оба параметра являются существенными, то есть действительно в среднем различны в двух группах, или, как еще говорят, несут информацию о принадлежности объекта одной из групп.
Что же случается, если избранные параметры не удовлетворяют этим требованиям? Проиллюстрируем это на примерах. Пусть мы вначале решаем нашу задачу, используя всего один параметр — рост. Соответствующие различным объектам точки и центры групп располагаются в этом случае на прямой. Мы убедимся, что качество классификации ухудшится. В самом деле, если какой-то мальчуган из старшей группы ростом не вышел, он будет отнесен неправильно (на прямой соответствующая точка расположится, не доходя середины отрезка между двумя центрами); при классификации же на основании двух параметров расстояние до «неправильного» центра окажется уже большим в силу сдвига соответствующей точки по второй оси, параметру а, поскольку по умственному развитию наш объект находится вполне на уровне своего возраста.
Что произойдет, если в качестве второго параметра мы возьмем не независимое от роста умение считать, а величину, связанную с ростом, — например, вес? Точки на нашем графике расположатся узкой восходящей полоской, причем у верхнего ее конца сосредоточатся красные, у нижнего — зеленые. Качество классификации почти не улучшится: второй параметр несет мало дополнительной информации, чаще всего у ребят большего роста окажется и больший вес.
Выбор для описания объекта взаимозависимых (коррелированных) параметров, однако, ошибка не самая страшная; это лишь затрудняет вычисления, но не оказывает отрицательного влияния на результат. В отличие от этого введение несущественных параметров, значения которых не зависят от того, какой группе принадлежит объект, очень сильно сказывается на качестве распознавания, часто делая процедуру вообще неработоспособной.
Действительно, предположим, что в качестве второго параметра мы избрали нечто, совершенно не содержащее малейшего намека на принадлежность ребенка той или иной группе — скажем, номер квартиры, в которой он проживает. В этом случае наш график будет выглядеть следующим образом: ближе к началу координат вертикальной полосой расположатся зеленые точки, к ней будет примыкать и частично пересекаться же полоса зеленых точек. Часто будет наблюдаться такая ситуация: точка близка «своему» центру по существенному параметру — росту, но сильно удалена по значению параметра несущественного — номеру квартиры. В результате различие в расстояниях от нее до каждого из центров станет незначительным, а из-за небольшой даже разницы средних значений второго параметра в двух группах возможны неправильные отнесения. Введение второго, несущественного параметра, таким образом, ухудшает качество предсказания «Под влиянием таких параметров может происходить разнесение объектов одного класса и сближение объектов разных классов. Это явление лежит в основе так называемой „теоремы о гадком утенке“… (Ее доказательство и название принадлежит японскому ученому Ватанабэ. — С. Г.). Своим названием теорема обязана одному из ее частных следствий, согласно которому в таком пространстве расстояние между гадким утенком и лебедем будет таким же, как между двумя лебедями». Это цитата из книги А. Б. Розенблита и В. Е. Голендера «Логико-комбинаторные методы в конструировании лекарств» — несомненно, одной из лучших на русском языке монографий по проблеме анализа связи структура — активность. Книга эта, написанная на самом современном научном уровне, доступна тем не менее во многих частях также и непрофессионалам. Кроме того, ее очень украшают встречающиеся там и сям симпатичные искорки юмора. Пример — прямо на второй странице: «Тираж 300 экземпляров»; естественно, было бы просто издевательством отсылать к ней читателя, желающего глубже ознакомиться с этими вопросами.
Не счесть всех постыдных поражений и глупейших конфузов, кошмарных провалов и опереточных таки ошибок, выпавших на долю тех мужественных и изобретательных людей, которые впервые взялись за внедрение методов теории распознавания образов в различных прикладных областях.
Социология, лингвистика, экономика, геология, ботаника — где только не пробовали они свои силы; как мы знаем, в фармакологии и токсикологии тоже. Их приход в каждую из этих областей встречался сначала с большим энтузиазмом, затем следовали первые результаты — и они решительно всех разочаровывали. ЭВМ, напичканная массой всяческой информации и снабженная программами, в которых реализовались мудреные алгоритмы, с трудом отличала, образно говоря, зайца от барашка (есть абхазская пословица: «Похож, как заяц на барашка») и уж полностью была бессильна в ситуациях менее очевидных, хотя все еще тривиальных с точки зрения специалистов. В шестидесятые годы, когда происходило становление теории распознавания образов, часто с эстрады звучала басня о некоем незадачливом руководящем Медведе, привыкшем подбирать кадры исключительно на основании анкеты:
При ближайшем рассмотрении обладатель анкеты оказался ослом. В этой истории, как в капле воды, отражены неприятности, подстерегающие авторов распознающих программ; в частности, сразу бросается в глаза использование малоинформативных признаков: «ноги четыре» и в особенности «уха два».
За прошедшие с тех пор два с лишним десятилетия теория распознавания образов значительно шагнула вперед, и во многих сферах использование ее методов для решения различных прикладных задач стало повседневной практикой. К сожалению, этого нельзя пока сказать о задачах выявления связи структура — активность, хотя и на этом пути достигнут определенный прогресс.
Один из важнейших уроков истории развития методов теории распознавания образов заключается, по-видимому, в выводе, что нет надежд на получение универсальных, пригодных в равной степени для всех задач методов; каждый узкий класс задач требует создания строго ориентированных процедур, учитывающих специфику задачи. Даже при исследовании проблемы связи структура — активность наметилось несколько направлений, требующих развития различных подходов в зависимости от поставленных целей и круга изучаемых соединений; при этом именно в силу специфики задачи некоторые из них выходят за традиционные рамки методов теории распознавания образов.
Рассмотрим подробнее в качестве примера так называемый логико-структурный подход к изучению связи структура — активность, развиваемый упоминавшимся А. Б. Розенблитом и В. Е. Голендером.
Сами авторы объясняют отличие своего подхода от традиционных методов теории распознавания образов следующими словами: «При исследовании проблемы связи структура — активность методы распознавания образов представляются нам недостаточными потому, что основная их цель — найти решающее правило классификации объектов. Для нас же не только важно найти решающее правило, с помощью которого можно было отнести данное соединение к определенному виду (или нескольким видам) активности, но не менее важно на основе обучающей последовательности выявить структурные признаки, руководствуясь которыми химик мог бы синтезировать новые соединения с наперед заданной активностью. Разумеется, важно иметь оценку достоверности признака».
Очевидно, при таком подходе сохраняется и необходимость создания специального языка для описания химической структуры соединений, и использование некоторой классификации типов их биологической активности с учетом того обстоятельства, что возможна принадлежность соединения двум или нескольким классам сразу, то есть допускается наличие у него нескольких типов биологической активности. Наконец, необходима разработка соответствующим образом организованных банков данных.
Для демонстрации сути приема, лежащего в основе алгоритма отбора признаков, характерных для определенного типа биологической активности, авторы рассматривают простейший пример группы соединений, принадлежащих одному ряду и различающихся лишь характером заместителей в четырех положениях. Можно для определенности взять некоторое циклическое ядро или фрагмент алифатической цепочки с заместителями R1, R2, R3, R4. Например,
Эти заместители могут быть радикалами —NH2, СН3, —С2Н5, —С6Н5, —Н, —F, —Br, —NO2 и др. в различных комбинациях.
Все соединения разделены на две группы, обладающие определенным видом биологической активности и лишенные ее. Будем попарно сопоставлять представителей каждой группы, отмечая всякий раз совпадения и несовпадения характера заместителей в отдельных положениях. В результате выяснится, что, скажем, комбинации R1 = —Н, R3 = —Br и R1 = —СН3, R2 = —NH2 наблюдаются только у активных соединений, комбинации R1 = —H1, R4 = —NO2 и R1 = —СН3, R2 = —С6Н5 — только у неактивных. Помимо этого, есть и признаки, встречающиеся у представителей обеих групп. Можно подсчитать и частоту наблюдения различных совокупностей заместителей в двух группах и на этой основе получить простое решающее правило, приняв некоторое ее пороговое значение, превышение которого указывает на активность.
Обнаружив у анализируемого соединения признаки, характерные для группы активных веществ, а это могут быть, в принципе, любые сочетания пар, троек и т. д. заместителей, мы вправе предположить, что и оно будет обладать соответствующей активностью. Аналогично может быть сделано заключение о его неактивности. Возможны, разумеется, случаи, когда выраженные признаки, характерные для соединений первой или второй группы, отсутствуют; здесь придется воздержаться от предсказания.
Все действительно логично («логико-структурный подход»!) и как будто очень просто. Просто, однако, только в случае рассмотренного игрушечного примера. Для реализации этого подхода применительно к задачам, представляющим реальный интерес, потребовалось создание весьма сложных систем. Одну из таких систем авторы ее нарекли ОРАКУЛ (Оптимизированный Распознающий Алгоритм Конструирования Усовершенствованных Лекарств). Главе, в которой содержится ее описание, они предпослали в качестве эпиграфа утверждение авторитетнейшей Британской энциклопедии: «Все, относящееся к оракулам, непосредственно связано с магией».
Очень уж сильно мы уклонились от цели наших первоначальных рассуждений. Оправдание кое-какое, конечно, есть: интересно все это. Но ведь начался весь разговор с того, что очень было бы нужно научиться, лишь взглянуть на формулу нового соединения, тут же и определять: «Вот это, видно, будет сильнейшим снотворным!» — или: «Как огня избегать попадания в питьевую воду! Почти наверняка — страшный ингибитор…» (неважно уж, чего).
Это — два основных класса задач, для которых, собственно, и разрабатывались столь пространно обсуждавшиеся выше методы анализа отношений структура — активность.
Гораздо чаще преследовалась цель создания средств целенаправленного конструирования биологически активных соединений, прежде всего лекарств. Появившийся за рубежом термин «драг-дизайн» (drug — лекарство, design — проектирование, конструирование) часть отечественных авторов пыталась перевести почти буквально («вычислительное конструирование лекарств»); другая же ввела в профессиональный обиход прямо в иноязычном звучании — и правда, чем драг-дизайн хуже, например, того же бутерброда!
Итак, предполагается, что химик-синтетик, занятый поиском новых, более эффективных биологически активных веществ определенного класса, перед тем как приступить к синтезу очередного соединения данного ряда (что делалось до сих пор на основе преимущественно эмпирической (мягко говоря), применялся тот самый метод проб и ошибок), итак, садится наш химик за дисплей или, что вероятнее, усаживает туда своего друга — специалиста по анализу отношений структура — активность, и говорит ему вальяжно:
— Понимаешь, подумал я: все дело в том, что в пятом положении слишком малообъемный радикал сидит — метил. Мне кажется, в том все и дело. Если ввести что-то помассивней, скажем, фенил…
Пока он пространно объясняет, почему, по его мнению, фенил лучше метила, друг его кончает поединок с клавиатурой, а высвободившиеся в результате пальцы использует для того, чтобы нервно барабанить по столу в ожидании появления результата на дисплее. Он и впрямь появляется довольно скоро, но химика, к сожалению, совершенно не удовлетворяет: активность выдуманного им соединения с вероятностью более 95 процентов будет практически нулевой.
— Э-э, постой, — тут же откликается химик. — Я понял, в чем дело! Надо пропорционально уменьшить объем другого заместителя, и тогда…
Прозабавлявшись таким образом часик-другой, друзья наконец нащупывают структуру, которая сулит нечто интересное, и синтетик, бережно неся в руке распечатку, удаляется в свою лабораторию, горестно рассуждая между тем, где же ему взять необходимый для такого синтеза реактив.
Далее события могут развиваться по-разному. Либо синтезированное «по наводке» ЭВМ вещество действительно окажется весьма активным (к обоюдной радости участников описанной истории); либо, что вероятнее, ничего из этой затеи не выйдет. Химик тогда, без особой, впрочем, убежденности, станет говорить, что все эти компьютерные штучки он, собственно, никогда всерьез не принимал, коллега же, оправдываясь в тоне несколько агрессивном, начнет доказывать, что, поскольку применяемые им процедуры вероятностные, то они гарантируют успех в среднем. Скажем, знаменитый Эрлих получил свой знаменитый же препарат сальварсан, синтезировав (и испытав) 606-е по счету соединение. Конечно, будь в распоряжении Эрлиха наши программы, он тоже не получил бы сальварсан первым же синтезом, но и уж никак не 606-м, мы бы нащупали его раньше, а может быть, как знать? — нашли бы и что-нибудь поэффективнее. Горестно только поворчит химик, припомнив, как он униженно клянчил у Аркадия Яковлевича этот несчастный карбобензокси… и т. д., и сядут они опять плечом к плечу у дисплея, натужно соображая: может быть, увеличить нуклеофильность заместителя в пятом положении? А ну-ка попробуем…
А вот второй способ использования машинных процедур прогнозирования биологической активности.
У дисплея (дисплей, кстати, выглядит немного покрасивее того, в предыдущей истории) сидит до невероятия тщедушный Боб Петтикот, по прозвищу Джамбо. Входящий в комнату крошка Джо — бывший баскетболист, ныне основательно растолстевший — направляется в сторону Джамбо.
— Вот взгляни. «Ваксер, Ваксер и Ваксер» хочет ввести эту штуку в состав средства для мытья окон.
И протягивает листок, на котором изображена какая-то формула.
Джамбо бросает взгляд на формулу, кивает и просит зайти через полчаса. Крошка Джо действительно спустя полчаса получает желаемый результат, читает первые строчки:
— Мутаген — вероятность 88 процентов, ганглиоблокатор — 82, ингибитор моноаминоксидазы — 80, и так далее и так далее. Что ж, не будет, видно, у трех Ваксеров нового средства…
В соответствии с результатами предсказания Джо отдает соединение на тестирование по первым, скажем, трем видам активности, и если хотя бы одна из них будет обнаружена экспериментально, этого уже достаточно для того, чтобы запретить его применение. Отказать фирме на основании только расчетных результатов, конечно, нельзя; польза от них только в том, что они позволяют более рационально организовать процедуру тестирования, причем лишь в тех случаях, когда вещество обладает каким-либо вредным действием. Соединения же, которые Джамбо охарактеризует как безвредные, все равно должны будут пройти полный цикл испытаний.
Разработчикам систем анализа связи структура — активность видятся и другие возможности их применения. Называются три основные стратегии поиска новых биологически активных соединений: наряду с рассмотренной только что — от структуры к активности, еще две — от активности к структуре и от активности к активности; особые надежды связываются со вторым подходом. С его помощью окажется возможным генерирование новых рядов биологически активных соединений, что «можно назвать смелым конструированием в противовес осторожному конструированию в пределах одного ряда… Принципы смелого конструирования базируются на использовании определенного знания о связи структура — активность, признаков активности. Дополнительный учет знаний о процессах транспорта и метаболизма соединений, их взаимодействия с рецептором и т. д. позволит создать универсальные экспертные системы для конструирования лекарств. Есть основания считать, что такие системы, базирующиеся на достижениях в области искусственного интеллекта и конструирования лекарств, получат в будущем такое же широкое распространение, как аналитические и биохимические методы сегодня».
Оценку роли и перспектив таких систем, содержащуюся в этих словах, завершающих книгу А. Б. Розенблита и В. Е. Голендера, следует признать довольно осторожной. Проистекает эта осторожность, надо признать, от существующей практики использования машинных «конструкторов» биологически активных соединений. В чем различие между двумя конструкторами, один из которых создает, например, новый тип мясорубки, другой — новый спазмолитик?
Первый обдумывает принципиальную схему устройства, выполняет необходимые расчеты, делает рабочие чертежи и передает их для изготовления опытного образца. Получив его, он убеждается, что мясорубка работает плохо, выясняет причины, для их устранения вносит необходимые изменения в конструкцию, в соответствии с которыми мясорубка переделывается. Иногда этот цикл повторяется несколько раз, прежде чем технические характеристики новой машины удовлетворят конструктора.
Внешне действия конструктора, занятого созданием спазмолитика, выглядят очень похожими. (Замечу, что речь идет еще не о лекарстве, а только о веществе, обладающем спазмолитическим действием. Путь от получения такого вещества до создания на его основе лекарственного препарата очень долог и сложен.)
Вот он, используя одну из систем, описанных выше, отобрал несколько наиболее потенциально активных соединений интересующего его ряда и, изучив их формулы, оценил другие характеристики, представляющие интерес, например, растворимость, сложность синтеза. Остановился на одном из соединений, формулу которого и отдал синтетикам, пусть работают. Синтезированное вещество передается на биологические испытания; выясняется, к примеру, что оно обладает сильнейшим спазмолитическим действием, но одновременно является и снотворным. Конструктор, поработав со своей системой, предлагает модифицированную структуру, уже, по предположению, лишенную этого побочного эффекта. Опять химик синтезирует, биолог испытывает, опять результат в чем-то не устраивает и т. д., пока наконец соединение, подходящее по всем параметрам, не будет получено.
Можно спросить теперь — позвольте, в чем же разница? Только в одном — в статусе конструктора в коллективе разработчиков. Если первый является бесспорным руководителем разработки и может сказать без обиняков: «Мясорубка моей конструкции», то полновластный хозяин второй разработки — химик, роль конструктора считается чисто подсобной. Если результаты будут опубликованы в научном журнале, для его фамилии еще найдется место где-то между лаборантом, осуществлявшим перекристаллизацию, и ветврачом вивария; более того, в самой статье читателю внушительно сообщат, что в работе применялись методы вычислительного конструирования, или машинный эксперимент, или пакеты программ для прогнозирования биологической активности — это, в сущности, единственный признак «научности» статьи, ни сам синтез, ни биологические испытания обычно элементов научной новизны не несут.
Но если новое вещество становится предметом заявки на получение авторского свидетельства, никакой нужды во включении конструктора в число ее авторов уже нет Патентному ведомству решительно безразлично, каким образом додумались до создания этого соединения. Новизна — бесспорна, синтез описан точно, активность продемонстрирована убедительно.
Проявлением осторожности со стороны авторов приведенной цитаты в оценке перспектив методов машинного конструирования биологически активных соединений является и замечание о необходимости привлечения для этого информации о молекулярных механизмах их действия, а также путей миграции и превращений в организме. Действительно, складывается впечатление, что возможности полностью эмпирических подходов к анализу связи структура — активность почти исчерпаны; с другой стороны, нам становятся все более ясны многие конкретные детали развития эффектов, вызываемых тем или иным биорегулятором, и они могут быть учтены в соответствующих экспертных системах. Эмпирические же приемы будут в них использованы для выявления закономерностей в тех звеньях связи структура — активность, в отношении которых всякое конкретное знание отсутствует или очень ограничено. По нынешнему состоянию дел таких звеньев (увы!) очень, очень много.
Еще маленькое замечание в завершение этой темы.
Происходящий на наших глазах постепенный перевод описания механизмов действия биологически активных соединений на язык точных наук — явление, конечно, в высшей степени отрадное, сулящее революционные преобразования во многих сферах человеческой деятельности. Не мешает, однако, указать на один побочный его эффект — не очень, может быть, существенный на фоне ожидаемых глобальных свершений, но несколько тем не менее досадный.
Вместе с пространными уравнениями, будничным использованием ЭВМ, современных средств анализа пришли к нам и кое-какие проявления так называемого физматчванства. Остановлюсь только на наиболее распространенном его примере.
Специалист, вооруженный должным образом средствами современной теории, глянув на результаты биологических испытаний какого-то нового препарата, категорически заявляет:
— Не может этого быть. Научитесь экспериментировать.
Чаще всего, конечно, он оказывается прав. Посрамленный экспериментатор, найдя ошибку в своем опыте, принесет ему новые, исправленные результаты (которые будут приняты вполне благосклонно — «Ну, вот, совсем другое дело!»), и спросит почтительно: как же это возможно, вот так, на глазок, сразу заметить, что здесь что-то не то?
— А я просто сравнил отношения произведений равновесных уровней и начальных наклонов на первом и втором графиках с отношением соответствующих концентраций. Оказалось — различие почти на порядок, это же немыслимо!
Но бывают, хоть и гораздо реже, истории иного рода. Смотрит премудрый наш теоретик на результаты эксперимента, произносит свое безапелляционное: «Не может этого быть». Эксперимент повторяют раз, другой, третий — результат все тот же. Теоретик же все твердит свое: не может быть. Потому что не может быть никогда. Законы сохранения (уравнение Клайперона, закон Ома и т. д.) никому нарушать не позволим. Когда же доведенные до отчаяния экспериментаторы, перепроверив все десятки раз, сами находят — пусть качественное, бесформульное объяснение своих результатов, теоретик снисходительно его примет, небрежно бросив:
— Ну, кто же знал, что у вас в инкубационной сфере четверть моля хлористого натрия?
А знать-то именно ему следовало, прежде чем произнести сакраментальное, излишне самоуверенное и категоричное: «Не может быть!»
— Осторожность никогда не бывает излишней, а излишество вредит, — говаривал вольноопределяющийся Марек, друг бравого солдата Швейка.
Многочисленные примеры такого рода конфузов представителей «большой науки» дает нам история применения целебных и других чудотворных вод.
Уверенность физика или химика в правильности своих выводов, в оценке их действия зиждется, по-видимому, на том, что это простое вещество (всего-то Н2O) очень всесторонне изучено.
Надо полагать, еще в совсем давние времена находились скептики, сомневавшиеся в лечебном действии некоторых минеральных вод: сам пробовал, вода как вода, что они там плетут, что исцеляет от болей в животе! И это так давно еще, когда не был столь велик авторитет точных наук. Впрочем, именно эти самые точные науки, конкретно — химия, вскоре и подвели фундамент под медицинское применение минеральных вод, выявив в их составе массу солей, иногда редкостных, полностью отсутствующих в обычной питьевой воде.
Установление этого факта имело важные последствия. Зачем же, резонно рассудили многие врачи и их пациенты, ездить «на воды» куда-то в Мариенбад или Кисловодск, когда любой средней руки аптекарь может здесь, на месте, приготовить соответствующую смесь солей — разводи и пей! Так и стали поступать, только вот опытные больные-хроники скоро убедились, что не дают все же искусственные карлсбадские воды того эффекта, что настоящие. Во второй половине прошлого века в медицинских кругах разразилась по этому поводу энергичная дискуссия. Передовые ученые, самые светлые медицинские умы, веско, аргументированно, безукоризненно логично доказывали, что если мы в точности воспроизводим солевой состав карлсбадских вод (что не составляет абсолютно никакого труда), то и действие их должно быть в точности тем же самым. Возражать против этого могут разве что отпетые ретрограды и обскуранты.
Ретрограды же и обскуранты могли сказать в свою защиту лишь то, что они многократно и очень тщательно сличали действие тех и других вод на своих больных — и, хоть убейте, натуральные были куда эффективнее!
Эту историю описывает В. Вересаев, бывший, разумеется, сторонником первой точки зрения, опиравшейся на солидный естественнонаучный фундамент. И лишь много лет спустя, с горечью добавляет он, стало известно, что в природных карлсбадских водах некоторые элементы представлены в виде радиоактивных изотопов, и целебный эффект связан в первую очередь с радиоактивностью. Очевидно, об этом ничего не могли знать участники дискуссии, проходившей еще до открытия Беккереля.
Стоит, видно, вспомнить здесь и историю с освященной водой. Давно обратили внимание на то, что такая вода долгое время не портится, не загнивает. Трезвые материалисты, естественно, только в усы посмеивались: да позвольте, как это от заклинаний батюшки может вода стерилизоваться? Но нашлись и среди материалистов люди с большим уважением к фактам, чем к научным догмам. Все оказалось крайне просто: в обряде освящения воды используется серебряная посуда. Ионы же серебра, это давно известно, обладают сильнейшим бактерицидным действием. Трудно пришлось лишь верящим последнему слову науки пропагандистам атеизма: вчера еще они объясняли слушателям, что все россказни об освященной воде — это чушь и вымысел, а завтра пришлось доказывать, что это совершенно очевидный, хорошо известный науке эффект. Современный мистик уже больше не хочет быть откровенным мистиком. Предлагая в качестве чудодейственного средства все ту же воду, обработанную особым образом, он имеет в виду уже не шепелявые причитания батюшки, а что-нибудь физическое, лучше из области электричества и магнетизма.
Омагниченная вода. Многие, видимо, помнят споры, возникшие вокруг нее. Самые авторитетные отечественные физики выступали в печати с возмущенными опровержениями: чушь все это, не обладает вода парамагнитными свойствами, не может «запоминать» факт омагничивания! Бурные же энтузиасты тем временем с восторгом сообщали, что с помощью омагниченной воды излечиваются все заболевания — от аппендицита до алкоголизма; кроме того, огурцы растут быстрее, сорняки — медленнее и т. п. А самое главное, если в котлы подавать именно омагниченную воду, перестает образовываться накипь, этот бич теплоэнергетики, обходящийся в масштабах страны расходом десятков миллионов тонн различных видов топлива.
Очень хорошо, что нашлись трезвые головы, которые, не ввязываясь в полемику в отношении болезней и огурцов, тщательно проверили влияние омагничивания воды на образование накипи в котлах. И убедились: накипи и правда образуется меньше. Установив же этот факт, начали выявлять его причины. Оказалось, что в воде, поступающей по железным трубам в котел, содержится известная примесь весьма мелких частичек ржавчины. Они являются центрами образования накипи, ее крупицы оседают затем на нагреваемой поверхности, образуя корку. Если же частицы ржавчины намагничены, этого не происходит; накипь становится рыхлой взвесью на дне котла, которую легко удалить.
Столь прозаическое объяснение, естественно, не удовлетворило энтузиастов омагниченной воды, успевших между тем и излечить кого-то, и урожаи поднять. Однако молва о биологических эффектах омагниченной воды начала как-то затухать сама собой.
Тем временем появились новые чудодейственные воды: «живая» и «мертвая». На этот раз фаза априорных опровержений с «подлинно научных» позиций была сравнительно недолгой. Специалисты по физической химии изучили вопрос и установили приблизительно следующее. Для получения «живой» и «мертвой» воды в ячейки, разделенные диализной мембраной (? — в оригинальном варианте это был, кажется, брезент), помещаются электроды, через которые пропускается ток. Один из электродов может быть серебряным (при изготовлении в домашних условиях это обычно чайная ложечка). В какой-то ячейке вода подщелачивается, в другой — подкисляется, поступают в воду ионы серебра, и происходят другие тому подобные, заурядные электрохимические процессы. Полоскания горла «живой» или «мертвой» водой дают как будто облегчение при ангине? Что ж, все может быть — есть микробы, болезненно реагирующие на кислую среду, есть — на щелочную, и все они, как уже писалось, терпеть не могут ионов серебра. Конечно, и водоисцелителям (гидропатам, как их раньше называли, в несколько ином, впрочем, смысле) нужно знать меру.
Несколько лет назад читал я интервью некоего чудотворца из Эстонии, который пропускал воду между быстро вращающимися (в противоположном направлении) дисками, и опять же получал совершенно исключительный препарат. Когда же у него спросили, почему так получается, он, обнаруживая некоторое знание квантовой механики, сказал, что в обычных условиях молекула воды представляет собой фигуру, изогнутую под почти прямым углом: в вершине кислород, по бокам — два водорода (это правда). Загнанная между упомянутыми дисками, она чисто механически распрямляется (что совершенно чудовищная чушь, вызывающая лишь зубовный скрежет у каждого специалиста). Ну и ясно, что обладала эта спрямленная вода совершенно феноменальными свойствами: люди исцелялись как мухи, растения росли быстрее, словом — как обычно в таких случаях.
Все методы неофициальной, «альтернативной» медицины, включая и всячески обработанные воды, очень быстро обретают массу не сторонников, не энтузиастов даже, а прямо-таки ослепленных фанатиков. И это вовсе не обязательно какие-то темные или малограмотные люди, встречаются среди них — и вовсе нередко — скажем, кандидаты биологических или медицинских наук. Причем именно эти последние наиболее болезненно реагируют на критические замечания коллег по поводу обожаемого снадобья, может быть, именно потому, что понимают, к примеру, полную бессмысленность утверждения их гуру о «спрямлении» молекулы воды.
Газета «Кёльнер штадтанцайгер» сообщала в номере от 20 июня 1888 года: «Опять вчера упала в обморок дама, которая чрезмерно туго зашнуровалась в свой корсет. Ее доставили в городскую больницу, где, после удаления сжимающего ее корсета, она постепенно пришла в себя. Мы сообщаем об этом не в порядке предупреждения модницам, поскольку отдаем себе отчет в том, что это не даст никакого результата, а лишь как инструкцию для тех, кому придется оказывать помощь находящимся в обмороке, близким смерти дамам в слишком туго затянутом корсете».
Ясно, что разъяснения специалистов по поводу «спрямленной» воды и других анекдотических снадобий не переубедят ни одного подлинного энтузиаста этих средств; что обидно, так это то, что в отличие от почтенной «Кёльнер штадтанцайгер», я даже не могу порекомендовать мер первой помощи лицам, пострадавшим от этакого водолечения.
Остается лишь еще раз процитировать вольноопределяющегося Марека: «Осторожность никогда не бывает излишней, а излишество вредит».
Заключение
«Популяризация науки — задача необходимая, благородная, но очень сложная. Датский философ Сёрен Кьеркегор писал: „Христиане говорят с Богом. Мещане говорят о Боге“. Это красивое мистическое утверждение поможет провести параллель. Существуют два вида популяризации. Первый — несущий легкий успех, простой, эффективный и наиболее часто встречающийся — разговоры по поводу науки, рассказ о ее практических применениях. И второй — о самой науке, доступный только настоящему мастеру».
Эта простая классификация научно-популярных произведений предложена А. Б. Мигдалом и Е. В. Нетесовой.
Читатель, осиливший настоящее сочинение до этого места, не будет иметь трудностей с отнесением его к одной из двух введенных ими категорий. Я готов смиренно признать, что эта книга типичный разговор «о Боге», и — уже гораздо менее смиренно — заявить, что именно таковы были намерения автора. Более того, выбор в значительной мере диктуется нынешним состоянием этой отрасли знаний.
Безусловно, наука о биологически активных веществах сегодня все еще остается дисциплиной в значительной степени описательной, сколь мы ни стараемся насытить ее математическими формулами, терминами из физики, химии и прочих точных дисциплин. В то же время базирующиеся на ней отрасли промышленности, медицины, сельского хозяйства принадлежат к числу наиболее динамично развивающихся, и зачастую ценнейшие прикладные разработки выполняются на эмпирической основе, без явного использования развитых к настоящему времени теорий. Выше приведено достаточно примеров.
Поэтому волей-неволей мне пришлось вести в этой книге «разговоры по поводу науки, рассказ о ее практических применениях», избрав путь «простой, эффектный и наиболее часто встречающийся» (а также — по мнению А. Б. Мигдала и Е. В. Нетесовой — «несущий легкий успех». Боюсь сказать, но…).
И все же: состоится ли окончательный перевод обсуждавшихся научных дисциплин в категорию «точных», и если да, то как скоро?
В принципе, в этом вопросе я скорее оптимист. Однако сказать скоро ли, не скоро — боязно; самые авторитетные прогнозы в подобного рода ситуациях очень часто оказываются компрометирующе несостоятельными. Кстати, это отнюдь не всегда случалось с прогнозами неумеренно оптимистическими. Многие проблемы, сроки решения которых весьма компетентными специалистами относились в двадцать первый век, оказывались решенными буквально несколько лет спустя. Хотя обратных примеров гораздо больше.
Мне кажется очень поучительным знакомство с перечнем прогнозов, касающихся использования биологически активных веществ для управления нормальными и патологическими процессами в организме человека, приведенным в упоминавшейся уже книге Г. М. Баренбойма и А. Г. Маленкова; я позволю себе привести здесь некоторые данные из него.
Существует несколько методик получения научно технических прогнозов, одна из распространенных — опрос ведущих специалистов с последующей статистической обработкой данных. Другие базируются на анализе тенденций, наблюдающихся в научно-технической литературе или патентной документации, используют те или иные приемы экстраполяции.
Эти прогнозы делались в разное время; в приводимом ниже перечне в скобках после каждого препарата указано две даты: предсказываемый год его появления (обычно имеется в виду уже достаточно широкое практическое применение) и год, в котором был сделан соответствующий прогноз.
В 1960–1970-х годах были оценены перспективы появления лекарств для профилактики и лечения отечной болезни (1982–1969), ожирения (1977–1973), тромбоза (1983–1969), психических болезней (1980–1973), аутоиммунных заболеваний (1988–1969), рака (1990–1970), астмы (1987–1969), кариеса (1993–1969), спазма скелетной мышцы (1988–1969) и др. Предсказывалось создание препаратов, регулирующих различные иммунные реакции: выработку иммунитета к бактериальным и вирусным заболеваниям (1980–1970), защитную реакцию при пересадках органов (без нарушения общих защитных функций организма, 2000–1976), выработку иммунитета к действию радиации (1986–1973).
Три различные группы авторов с удивительным единодушием в разное время (1967, 1976, 1986) назвали 2000 год сроком создания эффективных и безопасных средств регулирования рождаемости.
По мнению специалистов, в ближайшее время появятся новые возможности химической регуляции нервных и психических функций. Так, предвидится создание веществ, подавляющих волю к сопротивлению (1978–1964), регулирующих настроение (2000–1976), изменяющих характер людей (2000–1976), обостряющих или притупляющих чувство материнства (2000–1971), усугубляющих чувства понимания красоты и благоговения перед ней (те же даты), стимулирующих запоминание (2000–1967, есть и другие прогнозы — 1980–1970, 1982–1973), управляющих памятью для восстановления воспоминаний (2050–1966), повышающих умственное развитие (1985–1964, 2020–1970), улучшающих аналитические способности (1990–1986 — браво, оптимисты!), сокращающих потребность в сне (2000–1971), регулирующих состояние аффекта и агрессивного поведения (2000–1971).
Как видим, в качестве даты многих этих свершений называется 2000 год. Возможно, действует магия круглой даты; в этом же году предполагается создание средств индивидуальной оптимизации развития человека в интеллектуальной и духовной сферах (прогноз 1971 года), осуществляющих общее регулирование психобиологических состояний (1967), лекарств для снижения утомляемости, повышения восприимчивости, расширения способностей к запоминанию (1964), регулирующих вес тела и аппетит (1976), управляющих связью между питанием, метаболизмом и физическим ростом (1971), вызывающих кратковременный и длительный анабиоз (1971), осуществляющих вегетативное восстановление органов (1976), управление скоростью старения (1967).
По ознакомлении с этим перечнем встает перед глазами странный и несколько жутковатый собирательный образ разработчика новых биологически активных соединений. С одной стороны, это неуемный оптимист; почти все прогнозы, сроки которых уже вышли, не оправдались; с другой — подобие какого-то мрачного «властелина мира» из фантастических романов. Подай ему, видите ли, препараты, подавляющие волю к сопротивлению, регулирующие состояние аффекта и агрессивного поведения, управляющие скоростью старения и даже усугубляющие чувства понимания красоты и благоговения перед ней!
Есть симпатичный детский стишок «Вот мчится черепаха»; не помню, к сожалению, фамилии автора. Рассказывается в нем о черепахе, стремительно несущейся по дорогам, даже лучший автогонщик безнадежно от нее отстает… Теперь, говорит в заключение автор, вы знаете, какие бывают сны у черепах. Вот и вам теперь известно, о чем мечтают современные фармакологи; и это еще не самые смелые их мечты. Кроются ли за такими разработками какие-нибудь зловещие намерения? Мне кажется, этот вопрос следует все же адресовать политикам.
Да, и пора вспомнить, что изучение биологически активных веществ преследует вовсе не только прикладные цели, это — один из важнейших разделов современной фундаментальной биологической науки. На протяжении буквально двух-трех последних десятилетий наши представления об организации регуляторных процессов в живом организме подвергались прямо-таки революционным преобразованиям, главным образом, не премину повторить еще раз, за счет энергичного вторжения в эту область методов химии и физики. Впрочем, трудно сейчас сказать, было ли это только вторжением методов, или химики с физиками постепенно обучились работе с биологическими объектами, а биологи — физико-химическому мышлению.
Один из крупнейших физиологов современности, много работавший именно в области изучения организации регуляторных процессов в животном организме, создатель учения о стрессе Г. Селье, снисходительно заметил по этому поводу:
«Химик, синтезирующий гормон, физик, выясняющий кристаллическую структуру минералов кости, получают очень ценные для биологии данные. Однако они являются биологами не в большей степени, чем ружейный мастер солдатом, а конструктор телескопов астрономом».
Было бы с моей стороны грубейшей бестактностью пускаться здесь в спор с одним из наиболее чтимых ученых нашего века; да если подумать хорошенько — ради чего? Так ли уж хочется этому химику, синтезирующему гормон, называться биологом?
А уж для прогресса соответствующих отраслей биологической науки это тем более не имеет никакого значения.
Прощаясь с читателем, я отдаю себе отчет в том, что книжка вопреки заглавию получилась не о биологически активных веществах как таковых, а по преимуществу о механизмах их действия и роли в живых организмах. Сказались личные мотивы: о многих проблемах изучения этих механизмов мне известно не понаслышке. Отсюда же, по-видимому, и обильные нарекания на неудовлетворительное состояние наших знаний, беспомощность перед лицом важных научных и прикладных проблем, а следовательно, и несколько скептическая общая тональность — разновидность автоиронии. «Труды, которые следует рассматривать как издевку автора над собой, в противном случае они вообще не поддаются толкованию», — писал как-то Г. Гессе, вовсе, впрочем, не имея в виду эту книгу.
Специалисты различают (неизвестным мне образом) скепсис здоровый и болезненный; не исключено, что на эти страницы просочилась не только первая его разновидность. Мне остается надеяться… На что?
Предположим, книга будет иметь большой успех (это только мысленный эксперимент), так что через два года понадобится второе издание, затем вскорости третье и т. д. Каждое новое издание будет, естественно, перерабатываться с учетом последних достижений науки. Так вот, мне остается надеяться, что от издания к изданию этот самый скепсис будет все более вытесняться со страниц книги здоровым, бодрым оптимизмом, так что в каком-нибудь двадцать восьмом издании от него не останется и следа.
Причем это не явится следствием прогрессирующего конформизма автора.
Словарь терминов
Абсцизовая кислота — фитогормон, регулирующий процессы опадения листьев и плодов, а также перехода растения в состояние покоя.
Аденин — 6-аминопурин, азотистое основание. Входит в состав молекулы нуклеотида аденозина, некоторых коферментов.
Адреналин — гормон мозгового слоя надпочечников. Действие адреналина весьма разнообразно: стимулирование сердечной активности, регуляция кровяного давления, торможение пищеварительных процессов, повышение содержания сахара в крови и др. Относится к группе биогенных аминов.
Аминокислота — для биохимии наибольший интерес представляют аминокислоты вида R—CH(NH2)—COOH, используемые для построения белковых молекул. Важную роль в организме играют и некоторые аминокислоты иной структуры, например, гамма-аминомасляная кислота NH2—(CH2)3—СООН.
Анаболические стероиды — некоторые андрогены и их синтетические аналоги, стимулирующие рост скелетных мышц. Принимаются в ходе тренировочного процесса некоторыми спортсменами для увеличения мышечной массы.
Андрогены — мужские половые гормоны стероидной природы.
АТФ, аденозинтрифосфат — представляет собой нуклеотид аденозин, к остатку рибозы которого присоединена цепочка из трех остатков фосфорной кислоты, связанных друг с другом пирофосфатными связями. Играет важнейшую роль в процессах превращения энергии в организме.
Ауксины — ростовые вещества растений. Прежде ошибочно полагалось наличие в растениях двух собственно ауксинов, а и б, и гетероауксина — индолилуксусной кислоты. Впоследствии оказалось, что ауксины а и б на самом деле не существуют и ныне ауксином часто называют индолилуксусную кислоту.
Ацетилхолин — (CH3)3N+—СН2—СН2—О—СО—СН3 — важнейший нейромедиатор — вещество, участвующее в передаче возбуждения с нервной клетки на мышечную или на другую нервную клетку.
Ацетилхолинэстераза — фермент, расщепляющий ацетилхолин в синаптической щели на холин и уксусную кислоту.
Белки — цепные молекулы, образованные остатками аминокислот 20 типов, чередующимися определенным образом. Способ чередования определяет в конце концов функции отдельных белков в организме; чаще всего белки являются ферментами, но выполняют также роль сократительных структур мышц, переносчиков и т. п.
Вектор — циклическая хромосома клетки-хозяина (плазмида), в которую включен фрагмент нуклеотидной последовательности, соответствующий некоторому чужеродному белку, а также сигналы репликации и транскрипции.
Гаметы — половые клетки; в результате слияния мужской и женской клетки возникает зигота — первая клетка нового организма.
Гаплоиды — клетки (или организмы), в ядрах которых содержится одинарный набор хромосом. Гаплоидами являются нормальные гаметы высших организмов.
Гербициды — средства борьбы с сорной растительностью. Различают гербициды селективного действия (например, уничтожающие двудольные сорняки, но относительно безвредные для злаковых) и тотального действия, применяемые для уничтожения всякой растительности.
Гетерозиготный — развившийся из клетки, возникшей в результате слияния гамет, различающихся по одному или нескольким признакам.
Гиббереллины — группа гормонов растений (фитогормонов); вызывают сильный рост побегов в длину, участвуют в регуляции процессов плодоношения, прорастания семян, покоя.
Гипофиз — примыкающий к мозгу орган внутренней секреции. Передняя доля гипофиза (аденогипофиз) секретирует такие гормоны, как фолликулостимулирующий, гормон роста, пролактин, кортикотропин, тиреотропин; задняя доля (нейрогипофиз) — нейрогормоны вазопрессин и окситоцин.
Гликоген — полисахарид, образующийся в печени и мышцах, состоит из остатков глюкозы («животный крахмал»). Играет роль запасного вещества, его мобилизация (расщепление с образованием глюкозо-1-фосфата) контролируется инсулином и глюкагоном.
Глюкагон — полипептидный гормон (29 аминокислотных остатков), вырабатываемый поджелудочной железой, увеличивает содержание сахара в крови за счет гидролиза гликогена.
Глюкоза, или виноградный сахар — шестиатомный углевод (гексоза), широко распространенный в живой природе в свободном виде или в составе различных природных соединений. Играет важную роль во многих звеньях обмена веществ, прежде всего в дыхании.
Гуанин — азотистое основание, входит в состав молекул нуклеиновых кислот, встречается в свободном виде в молоке, желудочном соке, коже амфибий и др. Название происходит от гуано — чилийской селитры, из которой он был впервые выделен.
ДДТ, дихлордифенилтрихлорметилметан — один из наиболее до недавнего времени распространенных инсектицидов. Очень медленно разлагается в окружающей среде и в организме, накапливается многими животными и растениями, из-за чего в последние годы применение его резко сократилось.
Диплоиды — клетки (или организмы), в ядрах которых содержится два набора хромосом, характерных для данного вида. Диплоидия является результатом слияния двух гаплоидных гамет при оплодотворении.
ДНК-лигазы — ферменты, осуществляющие соединение фрагментов ДНК; используются в генетической инженерии для конструирования рекомбинатных ДНК.
Доминантный признак — унаследованный от одного из родителей признак, проявляющийся у индивида, гетерозиготного по данному признаку.
Инсектициды — средства борьбы с вредными насекомыми. Перечень инсектицидов весьма обширен, наряду с синтетическими веществами, составляющими подавляющее большинство применяемых ныне инсектицидов, используются препараты растительного происхождения (табак, ромашка), минеральные масла и др.
Инсулин — гормон поджелудочной железы, выделяемый ее β-клетками, сосредоточенными в так называемых островках Лангерганса (отсюда и название, латинское insula — остров). Белок, состоящий из двух цепей, 51 аминокислотного остатка. Вместе с адреналином играет важную роль в углеводном обмене организма.
Интроны — участки нуклеотидной последовательности, перемежающие фрагменты последовательностей, кодирующих некоторый белок. В процессе созревания информационной РНК эти участки вырезаются, а освободившиеся концы молекулы сращиваются, так что фрагменты, кодирующие аминокислотную последовательность, образуют непрерывную цепочку.
Каталаза — фермент, включающий, подобно гемоглобину, железосодержащую геминовую группу. Осуществляет разложение перекиси водорода на воду и кислород.
Колеоптиль — плотный чехлик, защищающий первые листья проростка при выходе из почвы; в дальнейшем листья пробивают его и выходят наружу. Наличие колеоптиля характерно для однодольных, в частности, злаковых.
Комплементарность — нуклеотидные последовательности двух молекул нуклеиновой кислоты являются комплементарными, если одна из них получается из другой заменами А↔Т, Г↔Ц (в случае двух молекул ДНК) или А↔У, Т↔А, Г↔Ц (если речь идет о комплементарных последовательностях ДНК и РНК).
Кооперативность — явление связывания рецептором нескольких молекул лиганда, причем в зависимости от наличия на рецепторе связавшихся лигандов сродство последующих молекул лиганда к рецептору увеличивается (положительная кооперативность) или уменьшается (отрицательная кооперативность).
Лиганд — молекула биорегулятора или его аналога, способного взаимодействовать с соответствующим специфическим рецептором.
Липиды — жирные вещества, нерастворимые в воде. Наиболее важные группы липидов — триацилглицеролы, играющие важную роль в энергетическом обмене, и полярные липиды (главным образом фосфолипиды), образующие биологические мембраны.
Мембраны биологические — тончайшие, молекулярных размеров пленки, изолирующие протопласт от окружения, ядро от цитоплазмы и т. п. Регулируют материальный баланс клетки или внутриклеточных образований.
Мутагенез — возникновение хромосомных мутаций под действием различных физических факторов (рентгеновские лучи, пучки электронов или нейронов, ультрафиолетовый свет) или химических соединений (нитриты, пероксиды, альдегиды и очень, к сожалению, многие другие).
Надпочечников кора — орган внутренней секреции, продуцирующий ряд стероичных гормонов, регулирующих прежде всего минеральный обмен организма (например, альдестерон) и углеводный обмен (кортизол, кортикостерон).
Нейрон — нервная клетка, основной элемент нервной системы. От тела клетки (сомы), содержащего ядро, отходят длинный, обычно неветвящийся аксон и сильно ветвящиеся дендриты.
Нуклеиновые кислоты — носитель наследственной информации, молекулы, образованные четырьмя типами мономерных единиц. Различают два вида нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота служит матрицей для синтеза рибонуклеиновой кислоты, являющейся, в свою очередь, матрицей для синтеза белка.
Нуклеозиды — азотистые основания (аденин, гуанин, цитозин, тимин, урацил), соединенные N-гликозидной связью с остатком рибозы или дезоксирибозы.
Нуклеотиды — нуклеозиды, фосфорилированные по остатку рибозы или дезоксирибозы. Полинуклеотидами являются ДНК и РНК. Свободные нуклеотиды и их фосфаты играют важную роль в энергетике организма и внутриклеточных регуляторных процессах.
Пальмитиновая кислота — в форме глицеридов является важнейшей составной частью животных жиров, некоторых растительных масел, в частности, пальмового.
Пенициллины — важнейшая группа антибиотиков, продуцируемых грибками родов пенициллиум и аспергиллус. Подавляют рост кокков и грамположительных бактерий, находят широкое применение в медицине.
Пестициды — средства защиты урожая от вредителей и болезней.
Пиримидин — гетероциклическое азотистое основание. Его производными являются ряд соединений, играющих важную роль в процессах жизнедеятельности, в том числе цитозин, тимин, урацил.
Плацебо — нейтральный препарат, внешне не отличимый от испытуемого лекарственного средства, который дается группе контрольных больных при клинических испытаниях новых лекарств, причем участникам эксперимента неизвестно, получают ли они плацебо или лекарство. Таким образом исключаются эффекты самовнушения.
Поджелудочная железа — расположенный между желудком и двенадцатиперстной кишкой орган. Через протоки, выходящие в двенадцатиперстную кишку, выделяет пищеварительные ферменты; секретирует в кровь гормоны инсулин и глюкагон, регулирующие содержание сахара в крови.
Прогестерон — стероидный гормон, выделяемый так называемым желтым телом и плацентой; контролирует, в частности, процесс имплантации оплодотворенной яйцеклетки и нормальное течение беременности.
Пурин — гетероциклическое азотистое основание, его производные, в частности, нуклеозиды аденин, гуанин и алкалоиды кофеин, теобромин, теофиллин.
Ревертаза (обратная транскриптаза) — фермент, катализирующий РНК — направляемый синтез ДНК, то есть синтез последовательности ДНК, комплементарной последовательности данной молекулы РНК. Один из важнейших ферментов, применяемых в генетической инженерии.
Репликация — синтез молекулы ДНК с нуклеотидной последовательностью, комплементарной последовательности ДНК, используемой в качестве матрицы.
Рестриктазы, эндонуклеазы — ферменты, избирательно расщепляющие молекулы ДНК в местах локализации определенных последовательностей нуклеотидов. Один из основных инструментов генетической инженерии.
Рецепторы — от латинского recipere — воспринимать; имеются в виду хеморецепторы — центры связывания, способные образовывать комплекс с молекулами биологически активных соединений, под действием чего развивается специфическая реакция клетки или органа.
Рецессивный признак — скрыто, без внешних проявлений присутствующий в геноме признак, полученный от одного из родителей.
Рибоза — моносахарид, альдопентоза; ее остатки входят в состав рибонуклеиновых кислот, алкалоидов, витаминов и других биологически активных соединений.
Синапс — элемент нервной системы, служащий для передачи потенциала действия с одной нервной клетки на другую (нейронейрональные синапсы) или с нервной клетки на мышечную (нейромускулярные синапсы).
Субстрат — вещество, в отношении которого активен фермент, вызывающий те или иные его химические изменения.
Тестостерон — важнейший из мужских половых гормонов. Обусловливает развитие вторичных половых признаков, контролирует ряд процессов, протекающих в половых органах. Относится к группе стероидных гормонов.
Тетраэтилсвинец — применяется в качестве антидетонационной добавки к бензину.
Тимин — азотистое основание, производное пиримидина, входит в состав молекул ДНК.
Транскрипция — синтез молекулы РНК с нуклеотидной последовательностью, комплементарной последовательности ДНК, используемой в качестве матрицы.
Триплет — тройка нуклеотидов в последовательности РНК, кодирующая определенный аминокислотный остаток в белковой последовательности.
Трипсин — пищеварительный фермент, выделяемый поджелудочной железой, осуществляет расщепление белковых молекул в местах включения основных остатков аргинина и лизина.
Урацил — азотистое основание, производное пиримидина, входит в состав молекул РНК.
Фермент — биологический катализатор белковой природы, «узко специализированный» в отношении лишь немногих типов реакций, — часто даже одной-единственной.
Фолликулостимулирующий гормон — гормон передней доли гипофиза, контролирующий, в частности, созревание яйцеклетки.
Формальдегид, альдегид муравьиной кислоты — применяется, в частности, при производстве многих пластмасс.
Фунгициды — средства борьбы с вредными грибами, прежде всего вызывающими заболевания растений или поражающими сельскохозяйственную продукцию. Распространено применение сравнительно простых неорганических ядов — хлорид или сульфат меди, препараты серы, ртути, существуют также многочисленные органические и элементоорганические фунгициды.
Химотрипсин — выделяемый поджелудочной железой пищеварительный фермент, осуществляет расщепление белков в местах включения гидрофобных остатков (триптофана, фенилаланина, лейцина и др.).
Хлорофос, трихлорофос, диптерекс — один из наиболее распространенных в настоящее время инсектицидов, обладает широким спектром действия.
Хромосомы — нитевидные образования внутриклеточного ядра, видимые в микроскоп после окраски специальными красителями. Играют важнейшую роль в процессах размножения, в хромосомах сосредоточена ДНК.
Цикло-АМФ, циклический аденозин-монофосфат — образуется в клетке из АТФ под действием аденилатциклазы, активирующейся в результате образования комплекса гормона с мембранным рецептором. Цикло-АМФ является внутриклеточным агентом, «запускающим» механизмы специфического ответа клетки на действие гормона.
Цитозин — азотистое основание, производное пиримидина, входит в состав молекул ДНК и РНК.
Цитокинины — группа фитогормонов, регулирующих процессы деления клеток, а также многие процессы развития, старения, почко- и плодообразования.
Цитохромы — присутствующие во всех живых клетках белки, важные компоненты дыхательных цепей. Способны обратимо окисляться, причем изменяется валентная форма атома железа в порфириновом ядре.
Эстрадиол — один из эстрогенов, гормон, вырабатываемый созревающей яйцеклеткой. Стероид, контролирующий ряд функций женских половых органов, а также развитие вторичных половых признаков.
Эстрогены — женские половые гормоны стероидной природы.
Глава 1. Часть нашей цивилизации
Более всего химия … 6
Протокол одного заседания … 9
«Каждый хочет жить долго, но никто не хочет быть старым» … 13
Почем «биоовощи»? … 18
Глава 2. Почему они биологически активные
Пауль Эрлих … 23
Будучи связанными … 29
Ужасающий конец несчастного Стэнли … 34
О белках … 39
Эмиль Фишер … 41
Белки, разрушающие белки … 46
Снова о молекулярной мимикрии … 48
Подобно унтер-офицерской вдове … 50
Глава 3. Химическая регуляция в организме
«В области эндо-крино-логии» … 56
Новые Мефистофели и новые Фаусты … 60
Инсулин … 66
Трудно ли синтезировать белок? … 71
Как белки образуются в клетке … 74
Из генетики … 77
Как они это делают? … 80
Глава 4. Весьма краткое введение в теорию рецепторов
Рецепторы … 86
Схватка с призраком … 90
Чрезмерная нагрузка на кончик пера … 95
На языке физической химии … 98
Кооперативность … 102
Реакция клетки-мишени … 109
Несколько цифр … 111
Глава 5. Столь же кратко о биомембранах
Мембраны … 121
Электрические явления в клетке … 124
Из песни слова не выкинешь … 129
Фриц Габер … 132
Действуя на нервы… … 138
«Честное сердце болельщика» … 145
Что такое шиконин? … 150
Разговор с нейрохимиком о любви … 154
Глава 6. Главная область применения
Чарлз Дарвин … 162
По канонам детективного жанра … 167
О практической пользе фитоэндокринологии — науки лишь формирующейся … 171
А вот еще и пиранициды … 176
По опыту дяди Вани … 179
«Гормоны, сохраняющие статус-кво личинки» … 183
Американцев есть нельзя … 185
По рецепту полихеты … 191
Снова генетическая инженерия … 193
Разумные против неразумных … 196
Глава 7. Нет веществ биологически неактивных
Все нельзя … 200
Анатомия риска … 206
Нечего сказать — хороши оладушки! … 212
Парадокс Костанецкого … 216
Благие намерения … 221
Тысячелетия проб ошибок … 225
Язык мой… … 230
Пример из детского сада … 235
Непосредственная связь с магией … 241
Несколько необычные конструкторы … 244
Похвала осторожности … 250
Заключение … 256
Словарь терминов … 261
Основная сфера научных интересов Станислава Геннадиевича Галактионова — молекулярные механизмы действия биологически активных соединений. Он автор более ста научных работ и нескольких научно-популярных книг.
Одна из них — «Беседы о жизни», написанная совместно с Г. Никифоровичем, вышла в серии «Эврика» в 1977 году и была переведена на болгарский, латышский и японский языки.